Юрий Купер Сфумато
© Ю. Купер, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
* * *
Моей дочери Полине
Сфумато (итал. sfumato); букв. – исчезнувший как дым.
Глава 1
Я проснулся от неприятного звука, как будто скребли лопатой по замерзшему асфальту.
Казалось, что я уже слышал когда-то такой звук, возможно, давно, в детстве. Прислушался: словно отдаляясь, звук становился все тише и тише. Я попытался ощупать себя, но не смог, стал вспоминать вчерашний вечер, но тот не вспоминался, будто его не было вообще. Хотелось курить. Я сделал попытку найти в темноте сигареты, они всегда лежали на полу возле кровати, но руки не слушались. Попробовал приподняться, но тело было неподвижно. Тогда я стал пристально вглядываться в обступивший меня мрак, пытаясь понять, где нахожусь. Обычно я не выключал телевизор на ночь и засыпал, иногда даже не раздеваясь. Но теперь не было ни светящегося экрана, ни окон, ни стен.
«Может, я просто сплю? Надо немедленно проснуться». Тревога и испуг постепенно сковывали меня. Я лежал, не двигаясь, мучительно вспоминая вчерашний день, но ничего, кроме звука металла по замерзшему асфальту, вспомнить не мог. «Может, это и не асфальт, а мерзлая земля. Ну и какая разница? Разве это так важно?» – промелькнуло в голове.
Звук скребущей лопаты становился все громче, будто желал предупредить меня о своем приближении. Сквозь металлический скрежет я услышал человеческий голос, напевающий песню на неизвестном языке. Мелодия была протяжной и довольно грустной. Внезапно звуки прекратились, и где-то совсем рядом раздались шаги, было даже слышно, как поскрипывает снег.
– Ну и как Она, ничего? – неожиданно произнес мужской голос.
Теперь я уже мог разглядеть во мраке силуэт. Фигура мужчины была темной, но вокруг нее мерцало какое-то свечение, и благодаря этому стало хоть что-то видно. Вначале я разглядел в руках человека большую лопату. Низ деревянного совка был обит металлом. Позади человека угадывался деревянный короб-кузов, доверху наполненный снегом.
– Ну и как Она, ничего? – хриплым простуженным голосом произнес неизвестный еще раз и прислонил лопату к стене.
– Она – это кто? – пробормотал я, с трудом шевеля губами.
– Смерть, – с легким раздражением ответил запорошенный снегом человек и стал дуть на озябшие руки. – Метет, сука…
– Кто ты?
– А ты че, не узнаешь? Забываете друзей детства? Луку Арсенича, дворника, забыл, небось? А я вот тебя помню. – Мужчина сел на пол и, кряхтя, стал стягивать с себя валенки.
– Где мы? – спросил я.
– Где-где… В… Везде. Понял? На небе, вот где, – подняв вверх палец, произнес он.
– Ты шутишь, что ли?
– А че шутить-то? Тут, брат, не до шуток. Жизнь, она везде есть. И здесь, и на Марсе. Ты, главное, не трухай. Тута не так уж и плохо.
– А почему так темно?
– Ну, это потому, что ты еще не привык к темноте. Здесь, сука, все наоборот: день и ночь – все перепутано. Тут свои времена года. Вот сейчас, например, по календарю июль, понял? А холод, скажу тебе, собачий. Вишь, в валенках хожу.
– А люди-то хоть здесь есть?
– А то… и мужики, и бабы, и дети. Только увидишь их позже, когда оклемаешься. А пока меня только видишь. Понял?.. Мне поручено встретить тебя, как друга детства. И опекать в период реабилитации, так, кажется, это называется. Поживешь в темноте, привыкнешь. А там, глядишь, и начнется настоящая жизнь… ну, то есть смерть. Понял?..
– Лука, у тебя случайно закурить не найдется? – перебил его я.
– Может, и выпить попросишь? Я с этим делом давно завязал. Да и тебе советую. – Лука, кряхтя, поднялся с пола, подхватил одной рукой валенки, другой лопату и двинулся к выходу. – Я позже зайду, а ты пока оклемывайся, понял? Привыкай к смерти-то, – сказал он и высыпал из кузова снег прямо на пол.
Я остался в кромешной темноте, с трудом пытаясь понять, что происходит. В памяти всплыл заснеженный двор с огромным сугробом в центре – с этой горы катались на санках, – вспомнил и дворника Луку, который, обычно впрягшись в сани, таскал кузов со снегом через весь двор. Он переворачивал кузов и лопатой забрасывал снег на сугроб, делая его еще выше.
Снова послышался скрип шагов, и в слабом светящемся ореоле возник парень в ушанке и валенках. Лицо его было в копоти, как после пожара.
– Лука ушел? – поинтересовался он.
Оглянувшись по сторонам и не дождавшись ответа, озябшими пальцами расстегнул ширинку и начал двигать бедрами, как будто вращал хулахуп. На снегу появилась первая буква «А», потом «Л». А потом и все имя – АЛИК.
– Я сын дяди Миши-парикмахера, – стряхнув последнюю каплю, сказал он. – Ну, мое имя ты теперь знаешь… А моя сестра Сонька подойдет позже. Никому не говори, что видел меня, усек?
И он исчез так же, как и Лука, растворившись в зыбком мерцающем свете.
Постепенно я начал различать очертания предметов. С потолка свисала веревка или шнур с лампочкой на конце. Иногда она мигала, как будто собиралась перегореть. На стенах висели корыта, тазы. С трудом можно было различить двери. Они были покрыты пыльным инеем, некоторые обиты рваной тканью – не то дерматином, не то дерюгой. На дверях виднелись номера. Они были выбиты на маленьких бляшках, эмалевых овалах. У одной из стен стоял сундук.
В какой-то момент показалось, что я вижу сидящего на сундуке старика. Он курил. Я даже разглядел кольца дыма, которые висели в воздухе, а затем лениво и медленно расплывались, превращаясь из колец в кривые эллипсы, а затем, потеряв форму, исчезали где-то под потолком. Там, где свисал шнур, на потолке угадывалась розетка с изображением пыльных ангелов, покрытых копотью. Весь потолок был усеян прилипшими к нему обгоревшими спичками. Вокруг каждой спички чернел темный закопченный круг. Сидящий на сундуке старик, словно не видя меня, монотонно бубнил одну и ту же фразу:
– Ну что, хулиганье, халястые мошенники…
Что значила эта фраза, я не знал. Скорее всего что-то похожее на приветствие. Казалось, я это уже когда-то слышал. При чем здесь смерть и иной мир, понять было трудно. Я продолжал разглядывать деда на сундуке, фигура которого становилась все четче.
Вдруг рядом с ним появился мальчик. Он устроился с дедом на сундуке. Дед поздоровался с мальчиком той же фразой и замолчал, сосредоточенно вглядываясь в мерцающий пепел на кончике папиросы, желтым ногтем выстраивая из пепла идеальный конус. Мальчик, не отрываясь, наблюдал за движением дедова пальца, как будто в нем была заключена непостижимая тайна его детского мироздания.
Тогда, в детстве, дед казался мне волшебником. Когда он умер, соседи поручили мне нести венок на кладбище. Я шел впереди процессии обитателей коммуналки и плакал. Мне не верилось, что я больше не увижу серебристый пепельный конус.
Я понял, что передо мной мир, от которого мне уже не уйти: надо созерцать, то есть смотреть долго-долго, всматриваясь в почти невидимое.
…За окном светало, и окружающие меня предметы приобретали более ясные очертания. Место, где я находился, было похоже на мою московскую квартиру. Мне стало страшно, что скоро наступит утро и все исчезнет. Я вдруг увидел знакомый коридор на Мещанской, заваленный хламом, заставленный сундуками, ящиками и шкафами, увидел стены с жестяными корытами, серебристую взвесь пыли, которая висела в воздухе, как дождливый утренний туман за окном. Казалось, я даже услышал за стеной знакомую мелодию. Женский голос нежно выводил: «Давай закурим…»
Может, это имеет отношение к теории антимиров, подумал я с какой-то необъяснимой тоской, но скоро мне надоело думать об этом, хотя подробно разглядывать давно пережитое в детстве довольно любопытно. Во рту было невыносимо сухо. Меня стало клонить ко сну.
Сквозь сон показалось, что звонит телефон.
«Но я ведь все равно не могу встать и ответить, – вяло шевельнулось в голове. Не хотелось отвечать, звонили, наверное, чтобы пригласить куда-нибудь… Москва – это город, где вся светская жизнь состоит из дней рождений и похорон. «Сегодня не могу, иду на похороны», или «на сорок дней», или «на девять». «Хочешь, пойдем вместе?» – «Нет, спасибо…» Я вспомнил недавний день рождения, кажется, в ресторане «Остерия», что напротив ЦДЛ, где много пили, потом поехали домой к новорожденной, на Садовую, там было много пудры, бесконечные дороги и дорожки на белой фарфоровой тарелке…
«Может, это и есть причина моего состояния?» – подумал я, почувствовав некоторое облегчение. Это многое объясняло. Я попытался вспомнить лица гостей, но ничего, кроме кредитной карточки, лежащей в белом порошке, вспомнить не мог…
* * *
Вновь раздался знакомый звук скребущей по асфальту лопаты. На этот раз он уже не вызывал тревогу, скорее наоборот, успокаивал.
Я проваливался все глубже и глубже в какую-то ватную мякоть безразличия и комфорта чужого и, тем не менее, уже знакомого мне мира.
Сколько времени я спал, сказать трудно. Меня вновь разбудил Лука. Я открыл глаза. Босой Лука сидел на полу около кровати. Валенки стояли рядом, с них стекала вода. Тулуп и шапка тоже были мокрыми. А где-то за невидимым окном слышалась монотонная дробь дождя.
И на полу, и на стенах проступали серые подтеки. На стенах появились тусклые зеркала в старых облупленных рамах. Амальгама на зеркалах была сильно разрушена, поэтому в них почти ничего не отражалось.
Лука протянул мне папиросу:
– Это тебе от деда Мячина. Помнишь его?
– Прикури мне, – попросил я.
Лука достал откуда-то из глубины овчинного тулупа коробок спичек с надписью «Гигант», ловко смял бумажный мундштук, чиркнул спичкой. Спичка погасла, вторая, третья…
– Сырые, сука, – недовольно буркнул Лука.
Наконец, одна зажглась. Лука вставил папиросу мне в губы и поднес дрожащий огонек.
Я глубоко вдохнул, почувствовал приятный кисловатый вкус «Беломора» и запах дыма.
– Ну и как Она, ничего? – уже с доброй улыбкой поинтересовался Лука.
– Теперь уже ничего, – затянувшись, ответил я.
В углу у стены, где раньше стоял сундук, теперь находились стойка бара и круглые столики с чугунными витыми ножками и мраморными столешницами.
– Где я? – спросил я Луку, обводя взглядом призрачное помещение.
– Ты что, не видишь? В кафе…
Дождь монотонно барабанил по запотевшим окнам, которые я только теперь заметил в проемах между зеркалами. Окна были завешены тюлем. Узор на тюле был тот же, что и на потолочной розетке: ангелы с почерневшими от копоти крыльями и лицами. Сквозь тюль можно было разглядеть даже силуэты домов и улицу… На стекле была надпись на французском, которая зеркально читалась как «La Palette». Часть столиков была сдвинута к стене и сложена пирамидой – один на другом. Откуда-то со стороны бара тихо наплывала французская мелодия. За одним столиком спиной ко мне сидел, вернее, полулежал, мужчина в светлом промокшем плаще. Судя по всему, он спал.
Что-то знакомое было и в интерьере кафе, и в спине спящего мужчины. Да и в самой мелодии.
– Смерть, брат, нужна, чтобы прожитое вспомнить, – объяснил Лука – Ты понял? Вспомнить и очистить душу. А уж тогда она освободится от тела и сможет свободно отлететь. А не вспомнишь, так душа и будет маяться. Да и ты вместе с ней. Уяснил?..
– Лука, ты не дашь мне пепельницу, – не слушая его бормотанье, попросил я.
– Не дам, бросай на пол.
– Да возьми с соседнего столика, трудно, что ли?
– Да, щас, возьми! Это же все у тебя в воображении, в памяти. Понял? Ты на самом деле думаешь, что это кафе? Ни фига. Это, брат, все – эфемер. Дыхни посильнее – как и не бывало. Ну ладно, мне пора, – прохрипел Лука, тяжело вставая. – А валенки я у тебя пока оставлю, на батарею положу, пусть, суки, посушатся.
– Так ты же говоришь, что все это эфемер. А батарея тоже эфемер? – спросил я.
– Что, батарея? Тепло оно и есть тепло, раз нам кажется, что топят, значит, и валенки подсушатся. И нечего умничать, понял? Тут сам черт не разберет, где та реальность, а где эфемер!
Лука вышел из комнаты босиком, оставляя за собой мокрые следы на пыльном полу.
Дождь лил, не переставая. Оставшись один, я снова стал рассматривать знакомые предметы, вслушиваясь в тихо звучащую французскую мелодию. Мужчина за столом не шевелился.
Мне показалось, что я слышу звуки-всхлипы, напоминающие женские стоны в постели. Я стал всматриваться в пространство, стараясь понять, откуда они доносятся. Где-то в глубине, у стойки бара я различил женскую фигуру. Женщина полусидела, прислонившись спиной к зеркалу. Юбка и фартук были приподняты, и чуть ниже перед ней, на коленях, спиной ко мне стоял мужик в кожаной куртке. Мне была видна его бритая голова, зажатая между ее колен.
– N'arrête pas… N'arrête pas. Je viens je viens… – стонала она.
Вскоре все стихло, и только хлопала от ветра входная дверь. Силуэты мужчины и женщины за стойкой бара исчезли, будто растворились в запотевших стеклах или дожде. Только негромкая мелодия продолжала звучать уже по второму кругу.
Вдруг дверь кафе распахнулась, как от порыва сильного ветра. Спящий мужчина вздрогнул, с трудом поднялся со стула и, чуть покачиваясь, направился к двери, чтобы закрыть ее на ключ. Он вернулся на свое место, жадно выпил что-то из стакана и снова принял ту же позу, развалившись за столиком. Откуда-то сверху, с закопченного потолка, донесся женский шепот:
– Это только ветер…
Возможно, шепот шел из окон, на которых висел тюль с изображением ангелов с почерневшими крыльями. Вслед за шепотом появилась женская фигура, легко и бесшумно, будто спустилась с потолка на стойку бара. Женщина была босиком, в телогрейке и короткой юбке, голова повязана теплым оренбургским платком. В руках она держала резиновые сапоги. Двигаясь по стойке, незнакомка как бы продолжала начатый танец. Она так свободно передвигалась в пространстве кафе, будто обитала здесь вечно. Один ангел на тюле исчез и вместо него образовалась дыра с обожженными краями.
Я не из тех, кто легко верит в мистику, но не мог не обратить на это внимания.
Спрыгнув со стойки и продолжая, словно во сне, двигаться в медленном ритме, женщина приоткрыла дверцу холодильника и достала бутылку шампанского, два бокала и поставила их на стойку. Открутив привычным движением проволоку на горлышке, она с шумом выстрелила пробкой в сторону развалившегося за столиком мужчины. Тот испуганно приподнял голову и чуть слышно с легким удивлением тихо произнес:
– Кто вы?
– Я? – переспросила женщина. – Да никто. Душа в пальто… То есть в телогрейке, – ухмыльнулась она. – Может, выпьем?
Женщина наполнила бокалы и поманила его пальцем, приглашая к стойке бара.
– Как вы здесь оказались? – спросил он, не трогаясь с места.
– Да просто пролетала над городом.
– Ну и летели бы себе дальше.
– Знаешь, устала я, да и погода нелетная, – усмехнулась она. – Не стесняйся, садись поближе, а хочешь, потанцуем? Или как там в песне поется: «Я совсем танцевать разучился и прошу вас меня извинить…»
– Да я вам в отцы гожусь, – ответил мужчина.
– Ну, это мы еще посмотрим, на что ты годишься. – С двумя бокалами она подошла к его столику и поставила один перед ним. – Ну что, маэстро? Не хотел бы ты написать мой портрет?
– Портрет незнакомки? Его уже написал Крамской. Правда, есть портреты и получше… хотя сама идея привлекательна. В «Незнакомке» заключена тайна, ее хочется разгадать или хотя бы прикоснуться к ней. Хочется остановить мгновение, удержать, чтобы незнакомка не исчезла… из экипажа, или в чем она там сидит. Не помню… Но тогда, правда, нарушается фактор времени. А время – это самое важное. Я бы обозначил его мгновением. Ну, например, ночь… одна ночь…
Она залпом выпила свой бокал и отошла к стойке, чтобы вновь наполнить его. Потом, помедлив, взяла бутылку и вернулась за столик.
– Кстати, по поводу одной ночи, ты не против провести ее со мной? Тебе не хотелось бы узнать меня поближе?.. Как говорят, изнутри?
– Я не понимаю, почему вы иронизируете по поводу одной ночи? – пожал плечами незнакомец. – Поверьте, за одну ночь иногда можно узнать больше, чем за вашу недолгую жизнь. Представьте себе – отсутствие привычных знакомых стен, бессмысленных телефонных звонков… Вам не хочется быть ни сдержанной, ни умной, вы знаете, что у вас всего несколько часов, которые вы отпустили себе на стриптиз… Потом, позже, утром, как только забрезжит рассвет, вы натянете на себя свое барахло, зная, что никогда… никогда не встретите больше человека, перед которым разделись догола. Разве вам не хочется выплеснуть, опрокинуть на него все, что накопилось у вас в душе за долгие годы? Исповеди, как правило, происходят не в церквях и не на ухо родственникам, матерям, женам, а в дороге, поездах, дилижансах, барах, посторонним, незнакомым, чужим людям, которым вы сами и ваши откровения, как говорят, до лампочки, до фонаря… Да и слушают они вас полузакрыв глаза, позевывая в ладонь. Но никого это еще не останавливало…
– Что же останавливает тебя? – спросила она.
– У меня странное чувство, что мы знакомы, – ответил мужчина. – Я уже слышал когда-то ваш голос. Но где? Вы знакомо отводите взгляд, как будто боитесь посмотреть на меня. Я прекрасно знаю, почему сижу здесь, с вами. А вы? Мне просто не хочется идти домой.
К тому же завтра мне нужно уезжать, а я не люблю спать перед дорогой.
Они говорили довольно тихо, и барабанная дробь проливного дождя заглушала их голоса…
У меня опять стали закрываться глаза, я немного устал слушать этот слегка фальшивый дуэт, хотя было видно, что эти двое не лишены какого-то трогательного желания понравиться друг другу. Но мне почему-то было тяжело их слушать. Лежа в полутьме и уже засыпая, я вновь пытался отыскать в памяти хотя бы пару последних дней, которые привели меня сюда, к дворнику Луке и остальным обитателям этого странно-таинственного мира…
Глава 2
Долго звонил телефон. Я с трудом нашел его и ответил. В трубке послышался пьяный женский голос:
– Ты не можешь забрать меня отсюда?
– А где ты?
– У подруги, – ответила она. – Давай, забери меня.
– Я что, твой водитель, что ли?
– Умоляю, забери!
Что со мной происходит, как я живу? Что за люди, которыми я сам себя окружил?
– Вызови такси и приезжай! – с раздражением бросил я.
Через полчаса она уже звонила в дверь. Единственная странная деталь, которая бросилась в глаза, – ее джинсы. Их передняя часть была обычной, джинсовой, а другая, задняя, почему-то из красной ткани. Что у баб в голове, когда они напяливают на себя такие вещи?
Я вспомнил, что приглашен на день рождения, но идти туда не хотелось. Главной причиной был Харитонов. Он знал, что я буду там. Харитонов принадлежал к категории людей, с которыми всегда возникают проблемы. Ну, во-первых, ему было противопоказано пить. После двух стаканов виски он становился агрессивным и подозрительным. Любой выход с ним на люди непременно кончался или скандалом, или примитивной дракой. Он был переполнен своей значимостью и своим доморощенным представлением о справедливости. Набив очередной раз кому-то морду, без конца лез ко мне со стандартным вопросом: «Скажи честно, я прав?» Выходил в свет он всегда один, без спутницы. На вопрос «почему?» отвечал, не моргнув глазом: «Что я, идиот что ли, приводить с собой женщину для других?» Себя он почему-то представлял записным Казановой, хотя объективных данных для этого было маловато.
Короче, если мне и приходилось иногда видеться с Харитоновым, то я предпочитал делать это тет-а-тет, в основном чтобы не подвергать своих друзей или знакомых опасности.
Например, однажды, встретив Петрова, Харитонов долго и нудно рассказывал ему о своей любимой женщине, которую кто-то случайно застукал в ресторане с другим мужчиной. Закончив рассказ, он вдруг неожиданно спросил:
– Ну, и что, вы думаете, я с ней сделал?
– Не могу себе даже представить, – с улыбкой ответил Петров.
– Ну вот, а я… – Тут глаза Харитонова налились кровью, а губы задрожали.
– Что… вы? – насторожился Петров.
– Я ее побрил, а потом обоссал.
Разумеется, после такого признания Петров позвонил мне и недовольно поинтересовался:
– Как ты можешь общаться с такими людьми?
Ну что я тогда мог ему ответить?
Как бы там ни было, я решил, что все-таки поеду на день рождения и возьму с собой это существо в немыслимых двухцветных джинсах.
На улице я поймал машину, и мы поехали в ресторан.
Первая фраза, с которой она обратилась к Харитонову, как только мы вошли в зал, была:
– Почему ты со мной не поздоровался, когда мы встретились в караоке?
Я знал, что ее вопрос означал приглашение перейти к выяснению отношений не только с Харитоновым, но и с окружающим миром, включая официантов, гостей… со всем, что двигалось.
Харитонов был явно удивлен:
– А с кем я был?
– С каким-то мужиком.
– Я тебя не видел. А ты с кем была?
– С подругой.
Мои просьбы оставить разборки на другой день были пропущены мимо ушей. Поэтому, несмотря на долгие теплые тосты в адрес новорожденного, атмосфера за столом продолжала оставаться напряженной.
– Отвези меня домой, – наконец попросила она.
Мы вышли из ресторана, и я снова поймал машину.
– Я никуда без тебя не поеду! – громко заявила она, едва держась на ногах. – Кроме того, мне некуда ехать, у меня нет дома, купи мне дом…
Я понял, что спорить сейчас бессмысленно, и с трудом усадил ее в машину. Приехав к себе, расплатился с водителем и поблагодарил бога, что все закончилось. Но оказалось, что я поторопился. Она ворвалась следом за мной в подъезд, и мне ничего не оставалось, как подняться вместе с ней в квартиру. Там я указал ей на диван, ушел в свою комнату и, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Прошло, может, минут пять – десять, как она влетела ко мне.
– Что я такого сделала?
– Ничего… Просто давай спать, а завтра разберемся.
– Нет, мы разберемся сегодня, – с железным упрямством настаивала она. – Скажи, кто я для тебя?
Я молчал.
– Я тебя еще раз спрашиваю, кто я для тебя?
– Животное… – уже совсем потеряв терпение, сказал я.
– Я животное?! – с удивлением и ужасом воскликнула она и выскочила в коридор.
Я услышал грохот в кухне, как будто обрушились стены, но тупо продолжал пялиться в экран телевизора. Внезапно раздался истошный крик:
– Помоги мне!..
Я поднялся и пошел в кухню.
Она сидела на полу. Все вокруг было в крови. Кухонный ящик, в котором лежали вилки, ложки и ножи, валялся на полу и тоже был забрызган кровью. Ничего, кроме пустоты и жалости к самому себе, я не почувствовал. Единственный человеческий жест, на который в тот момент я был способен, это снять с брюк ремень и перетянуть ей порезанные руки. Потом, чтобы не видеть весь этот кошмар, я вышел из кухни и набрал телефон «скорой помощи». Когда вернулся, она пыталась мыть пол и стены, повторяя, как заезженная пластинка:
– Прости меня, прости меня…
«Скорая» приехала довольно быстро. Два высоких мужика, не задавая вопросов, перевязали ее и собрались везти в Институт Склифосовского.
Я отдал им двенадцать рублей, и мужики ушли, уведя с собой существо с белоснежными бинтами на руках.
Наконец, я остался один. Вся кухня была в крови, на кухонном столе разбросаны бинты, тампоны, в раковину свалены ножи, вилки и ложки. Притрагиваться ни к чему не хотелось, я вернулся в свою комнату и стал досматривать какой-то фильм. Очень скоро меня охватила вязкая дремота. О чем я думал, трудно сказать. Я только знал, что испытываю чувство облегчения, чувство свободы, что остался один. Какое счастье не слышать: «Кто я для тебя?» Зачем задавать мне такой вопрос, когда я не знаю, кто я для самого себя?
* * *
Кто-то постоянно стучал в мою дверь. Барабанили в дверь и когда я жил на Кировской улице, и на Пятницкой, напротив Пятницкого рынка. Это были совершенно незнакомые люди, которые независимо от времени суток соображали на троих, поэтому стакан являлся для них важнейшим житейским атрибутом.
Я оставлял его в почтовом ящике, чтобы не нужно было утром вставать с кровати. Алкаши привыкли к этому, как животные, которые приучаются к месту, где их кормят. Теперь в дверь стучали только те, кто еще не знал, где можно найти стакан.
Каждый вечер мы с Норой ужинали в «Национале». Вернее, я просто наблюдал, как она ест. Я не был голоден и только пил, пытаясь согреться. Я страшно замерзал, шатаясь по книжным магазинам весь день.
Красть книги я начал совершенно случайно. Однажды, гуляя по Сретенке со своим другом, я заглянул в книжный магазин и был поражен атласом рыб и животных с акварельными иллюстрациями. Его размеры и переплет с потертыми углами обещали интересное содержание. Помимо эстетики, книга притягивала к себе своей очевидной ценностью.
Короче, я украл ее и спустя пятнадцать минут продал в другом книжном магазине.
Конечно, эта преступная выходка не имела ничего общего с моей профессиональной карьерой.
Я проводил дни, передвигаясь из одного магазина в другой, будучи уверен, что все продавцы уже хорошо меня знают. Я не крал все подряд, а выбирал только те книги, которые можно было легко перепродать.
С приобретением опыта постепенно пришел и страх, и, как следствие этого, скверное настроение по утрам. Просыпаясь в своей грязной комнате в доме напротив Пятницкого рынка, я открывал дверь на улицу, где над воротами висели круглые электрические часы. Холодный запах снега, просыпающейся улицы, а с ним и тревожное предчувствие наступающего рабочего дня пробиралось в меня, я чувствовал его кожей. Нора приходила ко мне обычно по утрам, когда заканчивалось ее ночное дежурство в Радиокомитете. Впрочем, она появлялась и ночью во время перерыва на работе. Я как сейчас помню запах ее пушистой черной норковой шубки и темные круги под глазами от бессонных ночей. Мы лежали в тишине, слушая храп соседей за стеной и шорох падающего снега за окном. Затем, уже почти засыпая, я чувствовал быстрый поцелуй в щеку и щекочущее прикосновение мехового воротника. Она убегала на работу в студию, где читала низким голосом утренние новости и делала обзор газетных статей для полупроснувшихся москвичей.
Утром Нора снова забегала, мы отправлялись по заснеженной Новослободской пить кофе, а потом расставались до вечера. Она уходила спать к себе, а я шел по книжным магазинам. Эта женщина была всем для меня: любовницей, подругой, матерью. Вечерами, когда я сидел с ней в теплом и уютном «Национале», мне было приятно сознавать, что я могу угостить ее шампанским и цыпленком табака, которого она так любила. Еще она любила поэзию Цветаевой, музыку и «делать это».
Причиной постоянной тревоги было мое опасное занятие. Сам метод, ритм и техника воровства были достаточно просты. Ты идешь в большой книжный магазин к прилавку, у которого толкается наибольшее число покупателей, берешь нужную тебе книгу и начинаешь перелистывать ее с безразличным и рассеянным видом. Очень важно не смотреть в это время на продавца или на толпящихся покупателей, но нужно почувствовать, смотрит ли на тебя в это время кто-нибудь. Люди напирают на прилавок, ты вежливо даешь им пройти вперед, постепенно отодвигаясь от того места, где взял книгу.
И, наконец, если твой взгляд не встретил улыбающихся глаз продавца или внимательных и жадных глаз покупателя по соседству, ты медленно поворачиваешься и выходишь из магазина. Книга уже лежит в твоем кармане или под полой пальто.
На улице идет снег. Слегка усталый, ты вдыхаешь дым сигареты и чувствуешь, как запах улицы мешается с табачным дымом у тебя в легких.
Обычно первая украденная книга не приносит ни облегчения, ни счастья. И, конечно, совершенно другое чувство ты испытываешь после последней книги. Ты спешишь продать книгу в соседнем магазине, в котором сегодня еще не был, добавляя рубль-полтора к своей дневной выручке в шесть – десять рублей.
Москва уже освещена неярким светом уличных фонарей. Ты плетешься на Пятницкую, к почтовому ящику, в котором нет писем, а лежит только граненый стакан.
Теплый домашний уют был незнаком моей комнате. Даже лежа в постели, мы с Норой чувствовали сыроватый холод простыней и подушек. У нас всегда было ощущение, будто мы улеглись в прихожей или на ступеньках. Тревожило постоянное беспокойство, что кто-то сейчас постучит в дверь или просто войдет в комнату. Может, поэтому Нора не раздевалась полностью, а оставалась в чулках и шубе. Она, подсознательно готовилась, что если кто-то вломится без стука, быстро принять непринужденную позу женщины, которая только что зашла в гости.
Это было так давно, что память моя о ней почти стерлась, уплыла в небытие, как рынок на Пятницкой или как воспоминание о стакане, оставленном в почтовом ящике.
Глава 3
Сквозь сон я почувствовал какое-то движение и открыл глаза. За окнами было светло. Мне показалось, что я все еще у себя в московской квартире и только задремал ненадолго – вот и телевизор, в котором по-прежнему что-то мелькает без звука. Но передо мной опять Лука, а это означало, что я все еще нахожусь в том, другом… сонном мире. А может, я из него и не выходил и эта московская квартира тоже сон? Хотя не все ли мне равно, как это называется?
Лука был явно чем-то встревожен.
– Что случилось? – спросил я, пытаясь подняться с постели. «Хорошо, что, по крайней мере, я могу встать, раньше было хуже», – отметил я про себя.
– Ничего… Так, небольшие проблемы с твоим состоянием. Ну, с диагнозом. В общем, есть подозрения, что ты еще жив, – снимая валенки с батареи, ответил Лука.
– Это же хорошо? – неуверенно спросил я.
– Смотря для кого, – пробубнил Лука. – Они живых здесь не держат.
– Кто «они»?
– Высший Антимирской Совет.
– Ну, и что теперь будет?
– Да кто их знает… Будут решать, – глядя в пол, процедил Лука и медленно побрел к выходу.
– Ну как, высохли? – поинтересовался я у его спины.
– Высохли, – грустно произнес Лука и, перед тем как исчезнуть, спросил: – Там к тебе посетитель просится. Дмитрием зовут. Примешь?
Я кивнул, а сам мучительно попытался вспомнить, кто бы это мог быть? Через какое-то время на пороге появился седой мужчина, лицо которого было мне смутно знакомо. В одной руке он держал футбольный мяч.
– Здоро́во, – сказал он. – Пришел проверить, не пропал ли у тебя удар.
Всмотревшись, я узнал Митяя. Тот бросил мяч мне под ноги, и я привычным движением поймал его, прижав ногой к полу. «Было бы странно начать сейчас гонять мяч прямо тут, в квартире», – подумал я.
– Ты знаешь, я до сих пор вспоминаю вкус вишневого варенья, – неожиданно произнес Митя и, заметив мое недоумение, добавил, виновато улыбаясь: – Ну, того самого, что мы ели в сквере на Зубовской. Помнишь, прямо из банки? Ты даже ложку приволок из дома.
– Какое варенье, о чем ты?
– Ну то, что прислала Норкина мать из Волгограда.
Я попытался вспомнить, о каком варенье идет речь. Но Митя уже с воодушевлением продолжал:
– Главное, в нем не было косточек. Это феноменально! При моей скорости меня раздражает лишнее и ненужное движение, связанное с выплевыванием косточек. Кроме того, состояние моих нескольких оставшихся во рту зубов также осложняет процесс. Неосторожность движений влечет за собой опасность потерять зуб. Ты понимаешь меня?
– Да, да, – подтвердил я.
Митя будто и не слышал:
– Кроме того, я недавно вспоминал Толстого, где он описывает процесс варки варенья. Кажется, Китти учила свою кухарку, не помню, как ее звали, варить варенье без воды. Только на сиропе или соке, который отдает сама ягода. – Митяй вдруг остановился и, виновато улыбнувшись, тихо спросил: – Не понимаю, зачем я все это говорю? Видимо, я просто разволновался. Я уже и не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Кстати, выглядишь ты совсем неплохо для… – Тут Митя сделал паузу.
– Для кого? – поинтересовался я.
– Ну, да это неважно, – отмахнулся Митя, – тем более, я только теперь вспомнил, зачем пришел. Видишь ли, завтра состоится собрание, ну, своего рода консилиум Антимирского Совета. Между прочим, я являюсь его председателем. Дело в том, что Совет будет составлен из близких тебе людей, тех, которые что-то значили в твоей жизни. Я надеюсь, ты не будешь отрицать моего значения? – И не дождавшись подтверждения от меня, продолжил: – Кроме того, меня включили в этот Совет скорее за внешние данные: за мои длинные седые волосы, бороду… Ты не находишь, что я чем-то смахиваю на Моисея? А также за другие качества, которые делают мою кандидатуру неоспоримой. Ну, ты же знаешь, что я вырос на Монтене. Многие слышали это имя, но никто из членов Совета его не читал. Поэтому я являюсь, пожалуй, единственным интеллектуалом в их понимании, так как большинство из членов Совета люди довольно простые, но с большим жизненным опытом. Причем это не всегда связано с их возрастом. В Совете есть и молодежь. Некоторые даже отбывали срок… за разное.
Митя достал из кармана кусочек сахара, положил его в рот и начал сосать, причмокивая. Его лицо озарилось довольной улыбкой:
– Да… Так о чем мы говорили?
– О тебе.
– Да. Обо мне… Ну, что я могу тебе рассказать, чего ты не помнишь?.. Ты ведь знаешь историю моей смерти?
– Семен рассказывал мне, правда, довольно сбивчиво… – ответил я.
– Ну, так слушай. В тот злополучный день я спровоцировал ссору с Катей. Ты помнишь Катю, мою ученицу? Ну, это неважно… Я взял ключ от мастерской Умнова. У меня были отношения с другой женщиной, тоже ученицей. У нее довольно странная фамилия – Хрякова. Это, пожалуй, единственный момент в ней, который снижал мое либидо, но, тем не менее, это не помешало мне назначить ей свидание в мастерской. Ты не можешь себе представить, какое это существо… необычайные тонкость и женственность. Я никогда не испытывал ничего подобного ни с кем… Короче, я приехал чуть раньше нее. В мастерской было холодно и неуютно, я стал рассматривать комнату, чтобы убить время. На стенах висели жестяные листы, на которых каллиграфическим почерком были написаны какие-то глубокомысленные изречения. Одно я запомнил, так как это был афоризм Монтеня: «Только самые умные и тонкие люди могут позволить себе роскошь делать глупости».
– Ну, с этим нельзя не согласиться, – кивнул я.
– Да, еще забыл тебе сказать, что на стене висел календарь. Я вообще с подозрением отношусь к людям, которые вешают на стену календари и любую типографскую продукцию – чушь вроде репродукций… Так вот, на календаре было шестое сентября. Я обратил внимание на цифру шесть. На двери мастерской тоже был номер – шестой. И подъезд, который я, кстати, нашел с большим трудом, тоже был шестым. Ты понимаешь? Ну ладно… Короче, я блуждал по мастерской. На всех предметах лежал слой пыли. Кровати как таковой не было. В углу, справа от грязного окна, стоял диван, накрытый серым пледом. Я прилег, пытаясь почувствовать спиной упругость поверхности. Как сейчас помню, она мне показалась удовлетворительной. Лежа на диване, я попытался понять, есть ли связь между всеми этими шестерками. Хотя в тот день было не шестое сентября, а двадцать шестое. Я заметил в дверном проеме, который вел на маленькую кухню, холодильник. Он оказался пустым, если не считать банки сгущенного молока и двух сморщенных помидоров, окоченевших от холода. В морозильнике, покрытая инеем, лежала полупустая бутылка водки. Я нашел два немытых стакана, сполоснул холодной водой, горячая почему-то не шла, или я не знал, где она включалась… Я тебя не утомляю? – спросил Митя и с виноватой улыбкой снова полез в карман за сахаром.
– Старая привычка. Осталась еще с того времени, когда я сосал валидол, теперь валидол мне уже не нужен. В общем, я отпил немного водки из стакана. Водка оказалась густой и почти безвкусной. Снова вернулся на диван и стал ждать. Должен признаться, я был возбужден. Видимо, от бодрящего холода и предвкушения близости с Хряковой. У нее была кожа необыкновенной белизны и прозрачности, как бывает только у рыжих и некоторых блондинок. Кроме того, только с ней я чувствовал себя мужчиной, которого любят. Хотя, может, в этой любви было больше преклонения перед мэтром, чем страсти, но для меня это не имело принципиального значения. Главное, она всегда отдавалась с каким-то неистовым восторгом. Иногда на глазах ее я даже видел слезы. Нет, она не рыдала, а просто тихо всхлипывала.
Не знаю, но мне казалось, что она плакала в момент оргазма. Во всяком случае, мне хотелось так думать.
Мои глаза снова стали слипаться. Отбросив мяч, я подошел к постели и лег.
– Скажи мне, если я тебя утомил, – попросил Митя, достав третий кусок сахара.
– Нисколько, продолжай, – ответил я. – Просто полежу с закрытыми глазами, пока слушаю тебя, а ты продолжай…
– Ты не поверишь, – сказал Митя, – но я загадал, что она должна прийти в шесть.
Я лежал на диване, разглядывая потолок, на котором висела то ли птица, то ли ангел, выпиленный неизвестным умельцем. Откуда этот шедевр у Умнова, я решил спросить при встрече, но, как ты понимаешь, встретиться нам не пришлось. Пока не пришлось. Я слышал, он еще жив. Правда, говорят, у него проблемы со зрением. Его жена Муська служит ему поводырем. Без нее он практически не выходит на улицу. Ты сам-то давно его видел? Ты извини, что я говорю, говорю… Тебе знакомо ощущение ожидания встречи? Испытывал когда-нибудь? Эту дрожь?.. В тот вечер я даже думал о ее нижнем белье. Скажу тебе между нами: эти мелочи всегда возбуждали мое и без того воспаленное воображение. Тем более, я не люблю, когда женщина раздета совсем. Мне всегда хочется, чтобы что-то на ней оставалось. Ради бога, не подумай, что я какой-нибудь фетишист. Просто, видимо, мое иудейское происхождение или, как сейчас принято называть, генетическая память, напоминает мне о религиозном законе полукасания тел. Ты в курсе, что у ортодоксальных евреев женщина всегда ложится в постель в ночной рубахе, которую в нужном месте можно просто расстегнуть. Не подумай, что я настолько религиозен. Мне достаточно комбинации или чулок… Я уже чувствовал ее шаги на лестнице, ведущей в подвал. Мастерская была в подвале. Звонила она настойчиво, будто боялась, что я не услышу. Я открыл дверь, Хрякова была в светлом, почти белом ратиновом пальто с воротником, отороченным таким же белым и пушистым мехом. На голове искрящийся от снежинок белый оренбургский платок. От нее как будто исходило сияние то ли морозного воздуха, которым пахнуло в затхлом умновском подвале, то ли от чистой искрящейся белизны одежды. Она протянула мне руки и, улыбнувшись, попросила их согреть. Я взял ее ладони и начал дышать на них. Она сказала, что принесла мне свою последнюю работу, но не смогла стащить ее вниз по лестнице. Пришлось выйти на лестничную клетку. Там стоял холст размером метр пятьдесят на метр двадцать. Стоило большого труда протиснуть его между спускающимся под углом потолком и ступенями…
Он опять прервал свой рассказ, чтобы сунуть в рот кусок сахара.
– Ты, наверное, интересуешься, почему я рассказываю так подробно? Видишь ли, это один из важнейших факторов для завтрашнего консилиума. Я говорю о Совете. Диагноз, который он, я имею в виду Совет, установит, будет зависеть от твоей способности детально вспомнить свою прожитую жизнь. Сейчас ты демонстрируешь почти полное отсутствие памяти. Например, ты не мог ничего вспомнить, когда я спросил тебя про вишневое варенье. Для Совета это симптом, означающий, что ты не умер. Если бы ты был мертв, то помнил бы все. Понимаешь, все до мельчайших деталей. Здесь все проживают свою жизнь как бы второй раз, только уже абсолютно осознанно вспоминают каждую, на первый взгляд, мелочь, всякие микроскопические события, которые мы пропускаем или просто-напросто забываем. Можешь называть мир, в котором ты теперь находишься, как угодно: антимиром или загробной жизнью. Это не меняет сути. Здесь все с утра до вечера вспоминают. Это похоже на обряд или, если хочешь, на молитву. Встаешь и с утра до вечера занимаешься тем, что снова и снова вспоминаешь по крупицам свою жизнь. Поначалу это занятие кажется утомительным и грустным, но со временем я научился получать удовольствие. Кстати, я часто вспоминаю и тебя, и твой фантастический удар «сухой лист». Ну ладно, об этом после. Слушай дальше. Я приволок картину Хряковой в мастерскую. Ты, наверное, хочешь знать, что на ней было изображено?
– Нет… Мне это не так важно, – ответил я с закрытыми глазами.
– Ну, в принципе, ты прав. В данном случае имел значение сюжет. На холсте было изображено кладбище – могила, ограда в искусственных цветах и группа людей в черном. В правом углу картины, чуть поодаль, в зимнем пальто и платке стоит Хрякова, прислонившись к стволу березы, и наблюдает за происходящим. Ты знаешь, я всегда был снисходителен к своим ученикам и тем более к ученицам. Поэтому я не стал ни критиковать, ни давать советы. В первую минуту я хотел воспользоваться твоим клише. Помнишь, я когда-то тебя спросил, что ты обычно говоришь художнику, который пригласил тебя в свою мастерскую посмотреть картины и которого тебе не хочется обидеть? Ты ответил не задумываясь: «Это у вас цикл». Мне здорово понравился этот прием, особенно слово «цикл». Употребляя его, ты как бы относишься серьезно к его так называемому творчеству. Но я не стал говорить про цикл. Я просто выдержал паузу, и Хрякова, видимо, чувствуя мою неловкость, объяснила, что это ее сон, который она видела, ну, может, месяц тому назад. Я спросил, кого хоронят? Она ответила, что не знает, покойника уже похоронили… Она запомнила только толпу людей на кладбище, и ей показалось интересным написать яркие искусственные цветы на фоне белого снега и темных решеток ограды. Ну, а себя она просто так нарисовала, вспомнив картину Гюстава Курбе «Мастерская художника». «Ты не хочешь раздеться?» – спросил я. Она сбросила пальто, сняла платок и стала меня целовать. Я предложил ей водки. Она секунду подумала, выпила залпом из стакана и шепотом, приказным тоном сказала: «Раздевайся». Я стал медленно стягивать с себя свитер и брюки. И, чтобы процесс раздевания не был молчаливым, поинтересовался, как же она дотащила сюда картину? Хрякова ответила, что просто наняла алкаша, который за бутылку принес ее к подъезду. Ну, я не буду тебя грузить интимными подробностями, но должен сказать, что в этот вечер Хрякова была в угаре, все, что она делала, казалось мне откровением. Будто я был с ней впервые. Все, даже запах, показалось мне новым. Или это новые духи? Они напоминали аромат сена. Белье, в котором Хрякова осталась, было также непривычным для меня. На ней были не просто трусы, нет, а что-то похожее на боксерки с вышивкой гладью. Они были из шелка, и, когда я прикоснулся к ним, ткань почти выскользнула из пальцев. Помню, я целовал ее шею, руки, волосы, даже уже не понимая, где нахожусь. Было чувство, что я заблудился в ней, как в лесу. Но страха не было. Скорее наоборот, мне хотелось забраться еще глубже в чащу, чтобы уже никогда не найти дороги назад. Потом я услышал ее шепот:
«Я кончаю, Митя» и запомнил солоноватый вкус слез, которые слизывал с ее глаз. Это, пожалуй, последнее ощущение – солоноватость на моих губах. А потом острая боль, где-то в спине, под лопаткой. Я еще помню, как мне вдруг захотелось вскочить, чтобы вдохнуть – стало нечем дышать… Ну, а потом я провалился в звенящую тишину. Последним видением был лес. Я подумал, что так тихо, видимо, потому, что я действительно забрался далеко. Ты спишь? – спросил он грустно.
– Нет, слушаю, – ответил я, открывая глаза. Спать мне не хотелось, но я чувствовал усталость.
– Ну вот, я практически закончил, – сказал Митя. – А что было потом, ты знаешь лучше меня… Кстати, никакой трубы или тоннеля я не помню… Соленый привкус ее слез и запах сена – вот и все, что осталось в памяти о моей смерти…
Он подошел к окну, снова машинально полез в карман за очередным кусочком сахара, пытаясь разглядеть что-то в потемневшем окне.
– Ты ведь был на моих похоронах? – спросил он.
– Конечно, был, – ответил я, опуская тяжелые веки.
Что я мог ему рассказать? Что хоронили его в субботу, в Кунцеве, был конец сентября… Шел дождь, кладбище было сырым и серым, как комья глины, которые глухо и лениво падали на крышку дубового гроба. В мятый белый платок тихо плакал Евгений Скрынников, маленький, как ежик, не хватало только яблока, наколотого на игольчатую спинку. Столпившиеся художники произносили бессвязные речи, хотя в паузах чувствовались теплое отношение и даже нежность. Семен, наклонившись, шептал мне на ухо о Гоголе, который, узнав о смерти Пушкина, произнес: «Для кого же я теперь писать буду?»
И правда… Точно Семен сказал… Сравнил Митяя с Пушкиным. Все здорово постарели. Многих я не узнавал, и меня не узнавали.
Семен сказал тогда: великий еврейский художник, а хоронят в субботу с крестом и свечами, но я знал, что Митяю было все равно. Он лежал как будто в дреме, слушая собравшихся около гроба людей отстраненно и безразлично… Он ведь и рисовал так, будто дремал, а потом, как бы проснувшись, отскакивал от рисунка. Легко, невзначай проведет линию, кляксу обронит, зачеркнет торопливо, чтобы не было таким явным, чтобы прочитывалось наполовину. Он сам называл это «шепотом присутствия», как будто художник, притаившийся где-то в углу рисунка, наблюдает за зрителем тихо-тихо, чтобы не спугнуть его… Не то что художник-самовыраженец… Тот, наоборот, развалится посреди рисунка в трусах и майке, требуя внимания к себе, к своим жалобам и политическим убеждениям, выплескивая на зрителя свое негодование по поводу прохудившейся крыши, своего личного сексуального дискомфорта и прочих проблем. Теперь это называется «диалог художника со зрителем», а предметами художественного выражения служат тампоны, презервативы, банки с анализами мочи…
Я вспомнил, как Митя приехал ко мне в Париж и привез свою ручку с пером, завернутую в мягкую тряпочку, чтобы, не дай бог, не повредить перо, которым он рисовал полжизни. Это было трогательно, такое бережное отношение к инструменту… как у мастерового. А вот авангардистам уже давно и инструментов не надо: ни кистей, ни перьев, ни холстов, ни красок. Они работают с новым материалом… Художники в роли народных просветителей идут навстречу темной полуграмотной толпе, а она с трудом, по слогам прочитав разъяснительный текст, в ажиотаже льнет к банкам, кучам, торопясь приобщиться к великой и новой, как ей кажется, религии – авангарду…
Как-то, вернувшись после посещения мастерских художников-концептуалистов, Митя, краснея от плохо скрываемого негодования, процедил: «Передай им всем… Пусть скинутся по трешнику, буду их учить рисовать… – И, помолчав, добавил: – И тебя в том числе…» Думаю, уже тогда он знал главное: надо быть подальше от толпы, тем более в стране, где менты работают писателями, поэты – сторожами, а сторожа – директорами заводов. Помню, он все спрашивал: «Художники! Где они?..»
Мы все хотели стать ими, не понимая, не отдавая себе отчета в том, что быть художником – это не свобода выражения, не писание манифестов или доморощенных текстов по поводу своих сомнительных идей. Быть художником – это быть собой, иметь свою кисть, свою ручку, перо, карандаш… бумагу, которые ты выбираешь из тысячи других карандашей и сортов бумаги. Это образ жизни… И пока мы думали, что это значит, он уже жил этим…
– Ты здесь рисуешь? – спросил я, открывая глаза.
Судя по всему, вопрос застал его врасплох.
– В каком смысле?
– Ну, работаешь ли ты? – объяснил я, слегка привстал и посмотрел на Митю.
– А-а… – протянул он и потом, причмокнув, ответил: – Ну, как тебе сказать… – Он подошел и сел ко мне на кровать. – Да, рисую… и даже начал заниматься живописью. Я вспоминаю свои старые рисунки или работаю над новыми, но не на бумаге и не пером и тушью, я как бы создаю их в воображении, хотя пользуюсь тем же жестом, и это всегда черное и белое. Я абсолютно точно воспроизвожу жест макания пера в бутылку с тушью, когда тушь на пере высыхает. Это почти то же самое, что и раньше, только мои рисунки не материальны, они у меня в моем воображении и памяти. Я помню каждый свой рисунок.
Ну конечно, я не могу устраивать выставки, но это мне и не нужно. Да, в живописи, даже в той жизни, я часто занимался этим, занятной игрой, смешивая краски, чтобы попасть в тон и цвет неба. И делал это без палитры и красок и даже без холста. Я уверен, и ты этим баловался, в каком-то смысле это даже чище и, если хочешь, элегантнее. Ты же понимаешь: что может быть прекраснее, чем отсутствие зрителя? Ты сам и творец и зритель! Высочайшее наслаждение одиночества, ни аплодисментов, ни медалей, ни вернисажей, на которых толпятся темные и непосвященные любители. Кстати, как ты думаешь, если, например, выставить картину Леонардо, ну ту, что висит в Эрмитаже, «Мадонна с младенцем», где-нибудь на Северном полюсе, где ее никто не сможет увидеть, будет ли она считаться шедевром живописи?
– Не знаю, – неуверенно ответил я.
– А я вот знаю… Не будет, так как там ее не видит человеческий глаз – значит, ее нет.
А для ее автора картина существует, как шедевр… – Он секунду помолчал. – Ладно, у нас еще будет время продолжить беседу, а ты теперь поспи, завтра у тебя тяжелый день… И старайся все вспомнить, иначе они найдут способ вернуть тебя на твою бренную землю. – Митя повернулся, собираясь уйти, но неожиданно остановился: – Да, и еще… Я забыл спросить, ты видел ее на моих похоронах?
– Да… кажется, видел, – ответил я.
Уже в конце похорон Юрка подошел ко мне и со свойственной ему загадочной улыбкой кивком головы указал на женщину в светлом пальто.
– Можешь подойти к ней поближе? – попросил он.
– Зачем? – поинтересовался я.
– Не задавай лишних вопросов. Завтра, когда увидимся за завтраком, мы с Семеном ответим на все твои вопросы.
Я побрел к березе по мокрому снегу, перемешанному с тяжелыми комьями глины.
Она стояла одна, прислонившись к дереву, и тихо всхлипывала.
– А потом? – спросил Митя.
– Потом все поехали на твои поминки. Ни к Хряковой, ни к твоей жене меня не пригласили, и я был вынужден поехать к Кате.
– Смотри, ты постепенно начинаешь что-то вспоминать, – сказал Митя. Он медлил в надежде, что я расскажу ему что-то еще.
– Ну, у Кати мне было душно и дико сидеть в компании незнакомых людей. Я чувствовал себя абсолютно брошенным, – продолжил я. – Даже не понял толком, почему меня не пригласили к твоей жене, тем более после моих мытарств с доставанием для тебя места на кладбище и всех этих дурацких перелетов.
Я ведь прилетел к тебе из Парижа. Единственная знакомая мне физиономия – Игорь Козлов, который увязался со мной на кладбище, даже не знаю, почему, возможно, он просто был вдребезги пьян. Козлов сидел рядом, и все время бубнил на ухо, показывая глазами на какую-то бабу, одну из приглашенных. Дыша мне в ухо, он повторял без конца: «Я хочу ее…» Я спросил, отдает ли он отчет, где находится? «Где?» – часто моргая, промычал он. «На поминках…» – сказал я и попросил очухаться, или я его выкину вон. По-моему, он обиделся и на какое-то время притих.
Митя попросил:
– Ну, а дальше?
– Я его выкинул, вернее, увел, и не спрашивай меня, что было дальше, так как я на самом деле не помню. Вспоминаю, что было одиноко, было жалко тебя, да и себя тоже. Утром Семен и Юрка открыли мне тайну, о которой ты мне рассказал сейчас. Причем Семен, в своей манере улыбнувшись, сказал: «Ай да Митяй, ну дает! – И, помолчав, обратился ко мне: – Ну, а ты мог бы так?» Я удивился и спросил:
«О чем ты? Неужели о нравственности?» – «Конечно, нет, – ответил Семен. – Так… вообще…» – «Если так, вообще, то, наверное, смог. Тем более на кладбище она произвела на меня неплохое впечатление». Ну а потом мы помянули тебя и разошлись. И заканчивай уже сосать свой сахар, не то у тебя разовьется диабет…
Митя тихо улыбнулся и поплелся к двери, а я, глядя ему в спину, вдруг снова увидел за ним интерьер кафе «La Palette». Казалось, это не Митя уходит, а интерьер надвигается на него и проходит насквозь, приближаясь ко мне.
Прошло много времени с тех пор, как я там был, но в кафе совсем ничего не изменилось: звучала все та же мелодия Axel Red и незнакомка продолжала двигаться в медленном танго, еле слышно повторяя слова песни. Грация ее движений завораживала. За окном лил дождь, и со стороны церкви, что на бульваре Сен-Жермен, доносился звон колокола. Я положил голову на руки и задремал…
Глава 4
Порой я думаю, что мои отношения с Митей не прекращались ни после моего отъезда из России, ни после его ухода в мир иной. Его приглашения на беседы и прогулки – это скорее мои фантазии и потребность говорить с ним. У меня в жизни было не так уж много собеседников. Не было кого-то, кому я мог, как говорят в народе, излить душу. Большинство из моего окружения были люди, не умеющие слушать других. Они скорее походили на пациентов, нуждающихся в докторе, который бы мог часами выслушивать их. Этим доктором, очевидно, был я. Почему я подходил к этой роли, сказать трудно. Возможно, со многими мне просто не хотелось вступать в диалог. И мое молчание они принимали за умение слушать. Сам же я почти никогда не испытывал потребности в психотерапии, а к людям, которые обращались к профессиональным психотерапевтам, относился с глубоким сожалением. Как относятся к убогим и обездоленным участникам ток-шоу, надеющимся найти в телестудии спутника жизни, или к тем, кто пытается отыскать «родную душу» на сайтах знакомств в Интернете.
Толпы страждущих хотят разобраться в потемках своей души, получить ответ или просто найти, пускай за деньги, близкого человека, того, кто с более-менее умным видом сможет выслушать. Все эти люди надеются на облегчение. Они верят, как верят неизлечимо больные во всевозможные знахарские мази, настои на коровьем помете или чему-нибудь в этом же роде. Они находятся в ожидании чуда, в ожидании перемен. Это связано с самым дорогим в жизни, что зовется надеждой, чувством, без которого невозможно существовать. Поэтому судить здесь никого не приходится – ни «доктора», ни пациента, ни исповедующегося, ни исповедника, отпускающего грехи. У них уже давным-давно, испокон веков, сложились свои отношения, и никто в мире не способен нарушить этот союз.
Но как же тяжело быть одновременно и тем и другим в одном лице. Исповедоваться самому себе дело довольно тяжелое. Срабатывает защитный механизм, который может позволить тебе дойти только до определенной пограничной точки, а далее – табу. Этот механизм не дает тебе возможности идти до самого конца. Он как бы путает твои мысли, размывая их исподволь, незаметно.
Ты пытаешься пробраться сквозь эту вязкость, но все твои усилия безуспешны. Немного легче это делать бессонными ночами, уставившись в темноту комнаты и слушая монотонное тиканье часов. И если повезет, то вдруг пойдет дождь, и ты услышишь его дробь по стеклу и жести подоконника. Я бы назвал это благоприятным условием для прорыва сквозь вязкое желе защитного механизма, но оно не особенно увеличивает коэффициент приближения к самому себе. Ты, так или иначе, остаешься где-то на полпути к истине. Приходится довольствоваться только догадками относительно степени вины. И никакие попытки поиска мотивов, поиска справедливости не решают основной проблемы твоей виновности, и неважно, в чем она заключается. Главное, она существует в твоем сознании, иначе ты бы не пытался так настойчиво прорываться сквозь эту топкую ложь. Или, говоря чуть мягче, полуправду.
Я часто занимаюсь этим, слушая за окном дождь и вглядываясь в почти невидимый потолок, надеясь разглядеть узор на розетке. В детстве я точно так же смотрел на оранжевый абажур с бахромой, еле различимый в полутьме комнаты. Думал о маме, бабушке, об отце, которого никогда не видел. Кроме жалости к самому себе я не испытывал ничего. Теперь мамы не стало.
Она умерла, видимо, во сне ночью. Об этом я узнал от сиделки Гали. Галя позвонила мне утром и без всякого смягчающего предисловия просто сообщила: «Вы знаете, а ваша мама умерла». В ее интонации не было ни грусти, ни сожаления. Интонация была абсолютно бесцветна, как прогноз погоды. Я положил трубку и вдруг с ужасом спросил себя: что ты чувствуешь? С ужасом, потому что я не чувствовал ничего. Абсолютно ничего. Почему я ничего не почувствовал? Я задаю этот вопрос и теперь.
Я осознаю, что это страшно, когда ты ничего не чувствуешь. Хотя в глубине души знаешь причину. И причина эта неожиданно проста. Ты ничего не чувствуешь потому, что ты мертв и умер гораздо раньше, чем твоя мать. Естественно, ты ничего не чувствуешь, как при анестезии не ощущаешь боль. О ней можно только догадываться. Наверное, это и есть идеальное состояние умершего. Отсутствие эмоций и только память о них и осознание их присутствия, но внутри – непривычный покой. И душа твоя совсем не мечется в поисках нового тела, а сидит себе где-то рядом в ожидании, когда ты успокоишься окончательно и она сможет стать ближе к тебе, чем была при твоей жизни.
Маму я помню в деревне Кудрявке, затерянной где-то в снегах Башкирии. Она в платке, повязанном по-деревенски, концы обернуты вокруг шеи. Мама сидит в телогрейке за столом с каким-то незнакомым мужчиной в солдатской шинели. На столе черный чугунок с картошкой, я даже помню пар, который медленно поднимался от нее. Я не помню ни их лиц, ни слов, которые они, очевидно, произносили. Мать только тихо плакала, это было похоже на сцену из немого кино. Потом они поднялись и исчезли за дверью, обитой серым войлоком.
Спустя много лет я понял, что это был мой отец. Он уходил на фронт, в ополчение. Его призвали из Башкирского оперного театра, где он работал в оркестре, был скрипачом. Уехав из Москвы за нами в эвакуацию, он потерял бронь. Отец ездил по фронтам со своим оркестром, я не помню точно, – то ли Кнушевицкого, то ли Цфасмана. Погиб он в 1943 году под Харьковом, но письма от него приходили гораздо позже. С войны письма шли долго.
Все мое детство прошло на Мещанской, в самом длинном коридоре коммунальной квартиры, который мне когда-либо приходилось видеть. Оставшись вдовой довольно рано, в двадцать четыре года, мама вместе со мной вернулась в Москву. Наша комната была занята посторонними людьми. Сначала нас приютила тетка, сестра бабушки Поли. Затем, я уже не помню благодаря каким ухищрениям, нам вернули нашу жилплощадь. И мы зажили нельзя сказать, что припеваючи, в незабываемом мире сказочной пыли фанерных тамбуров и карт, висящих на стенах. Мать пыталась устроить свою личную жизнь. Без профессии, с маленьким ребенком на руках – это была тяжелая задача.
Если годы эвакуации довольно смутно оживали в моем детском сознании, то День Победы стал для меня первым воспоминанием и началом московской жизни. Он начался с пряного запаха корицы, звуков духового оркестра, доносящихся из окна, свежевыглаженного белья. Окна распахнуты настежь, толпы людей на улице, звуки «уди-уди». Это был мой первый незабываемый праздник. То, что происходило за окном, напоминало сказочное шествие счастливых и пьяных от радости людей, совсем не похожих на обитателей нашей коммуналки с обшарпанными пыльными стенами и не совсем трезвыми соседями.
Семен, первый муж Рахили, маминой тети, был вдребезги пьян. Он стоял в расстегнутом кителе перед нашим окном, на кителе болтались ордена и медали. Семен покачивался и что-то заплетающимся языком вещал моей матери. Я же крутился рядом с ним на трехколесном велосипеде. Тюлевую штору на окне ветер терзал с такой силой, что ее то вдувало в комнату, то снова выдувало на улицу. Мама отмахивалась от тюля, как от чего-то живого, одушевленного. Из кухни вместе с тюлем тянуло корицей и еще чем-то праздничным.
Этим же вечером Семен по пьянке упал в лестничный пролет не то с третьего, не то со второго этажа в доме своего однополчанина, который жил где-то на Второй Мещанской. Он чудом не разбился, но попал в Склиф с сотрясением мозга. Правда, пролежав неделю на больничной койке, «уважать себя заставил», но не от сотрясения мозга, а от заворота кишок. И причиной этого диагноза, по словам Рахили, маминой тетки, был флирт или сильное увлечение медсестрой, которая ухаживала за ним. Она выносила утки, а может, оказывала и другие знаки внимания. Короче, об их интимных отношениях нам приходится только догадываться.
К несчастью, чувства Семена к медсестре, по-видимому, были столь глубоки, что он стеснялся при ней справлять свою нужду и терпел несколько суток, что и повлекло за собой осложнение с желудком. Его срочно положили на операционный стол. Рассказывая об этом, Рахиль не переставала повторять с театральным драматизмом: «Он умер под ножом».
Все мои родственники, независимо от их близости, никогда не вызывали у меня большого любопытства. Ни в детстве, ни в юности.
Я никогда не мог запомнить, кто кому кем приходится и кем они доводятся мне. Единственно, о ком хотелось бы знать, так это о моем отце и Вениамине, моем деде по материнской линии. Его имя в семье произносили с какой-то усталой брезгливостью. Я лишь знал про его измену жене, моей настоящей бабушке Анне, самой красивой из трех сестер, с ангельским лицом и бескомпромиссным характером.
Узнав об измене, она выгнала своего Веню из дома, слегла с тяжелой депрессией и уже больше не поднялась. Перед смертью бабушка Анна попросила свою сестру Полю быть для моей мамы, которой исполнилось тогда три года, матерью. И не просить помощи у Вени.
Таким образом я обрел в лице Поли бабушку. Я так и называл ее – бабушка Поля. Настоящей же причиной моего необузданного любопытства, касающегося деда, была извечная фраза моей матери, произносимая всегда с невыносимой грустью: «Вылитый Веня». Обычно она говорила так обо мне в моменты крайнего разочарования моим поведением – враньем, невниманием к родственникам или к ней. Она произносила эту фразу довольно часто, поэтому со временем мое любопытство становилось все более и более нестерпимым. «Кто же этот монстр?» – думал я часто, но в глубине души верил, что он не мог быть таким ужасным, каким рисовали его мои родственники.
Вопрос, чем же Вениамин занимался, я задал дяде Яне, единственному брату трех сестер. Яня, после длительного раздумья, ответил довольно расплывчато:
– Ты знаешь, трудно сказать, кем он был: немного аферистом, игроком в карты, немного художником, немного поэтом. Ну, в общем, богема.
– А в какой манере он писал? – спросил я.
– Ну, знаешь, чем-то похоже на импрессионистов.
Но мое любопытство не следует так уж преувеличивать. Я не делал попыток посетить Харьков, город, в котором они все выросли, не бросался разыскивать импрессионистские полотна деда. Только много лет спустя, будучи в Ростове-на-Дону, городе, по словам мамы, в котором он жил и умер, я зашел по дороге в Горсправку, назвал его фамилию, но вразумительного ответа не получил.
Короче, если верить справочному бюро, товарища Вениамина Бурштейна (девичья фамилия моей мамы) в реестре граждан города не существовало. На этом мои поиски закончились, а с ними угасло и любопытство.
Память о моем отце существует и по сей день в той степени, в которой я всегда отожествлял его с собой, вернее, себя с ним. Во-первых, мне всегда казалось, что если бы он был жив, то я обязательно стал бы музыкантом. А музыку я всегда ставил выше, чем любую форму творчества, уже не говоря о живописи. В музыке меня привлекали эфемерность, мгновенное исчезновение, отсутствие материального воплощения, звук, как нечто живущее только мгновенье, а через мгновенье только память о нем. Его нельзя повесить на стену какого-нибудь отстойного интерьера. Его нельзя слышать столетиями. И вся исключительность звука связана с нерукотворным талантом извлечения его из инструмента.
Глава 5
Наконец появился Женька с двумя бутылками водки в компании девушки с непривлекательным прыщавым лицом.
– Верочка, индийская девушка-каучук, – с легкой иронией представил ее Женька, – благосклонно согласилась встретиться с интересными людьми. Это – Валентин Иванович Ежов, кинодраматург, лауреат Ленинской премии. Володя Попов – поэт, а это художники. Очень интересные, многообещающие. Верочка, ты можешь снять пальто, а сюда положить сумку, здесь не воруют. Под какую музыку ты работаешь? – заглянул Женька в глаза девушке.
Нервный взгляд и неудачно подобранный наряд Верочки выдавали в ней девушку из Подмосковья. Женька суетился, очищая стол, а Верочку послал переодеваться в другую комнату. Ни я, ни остальные не понимали, что происходит.
Женька погасил свет, зажег свечи и, поставив пластинку Синатры, попросил всех занять места.
Комната наполнилась хриплыми звуками свинга. Существо, одетое в купальник с блестками, забралось на стол. Не берусь комментировать странную пластическую композицию, которую демонстрировала Верочка. Я потерял ощущение времени и не помню, сколько длилась эта фантасмагория. Женька дико аплодировал, выкрикивая «браво!».
Спектакль привлек всеобщее внимание, но в то же время в комнате возникло ощущение дискомфорта и напряжения.
В дверь снова постучали:
– Дитин, открой!
На этот раз в обшарпанном дверном проеме нарисовались Нора, за ней незнакомая, уже немолодая женщина и какой-то тип – судя по клетчатой одежде, то ли спекулянт, то ли иностранец.
Я пригласил их войти. Тип оказался французом.
Нора села рядом со мной, делая вид, что просто заглянула меня навестить. Мне показалось, что платье на ней было надето на голое тело, все ее белье – в рукаве шубы или, может быть, распихано по карманам.
Француз, быстро освоившись за столом, сравнивал ночную жизнь правого и левого берегов Сены в Париже. Сен-Жермен, «Кафе де Флор», кафе «Два Маго» – Париж для туристов. А также Пигаль, Арабский рынок. Левый берег – Монпарнас, кафе «Селект» – конечно, совершенно другое, там присутствует традиционный французский интеллект.
Кирилл, потеряв интерес к географии, повел Норину подругу Галю в ванную.
Француз продолжил свой рассказ под аккомпанемент льющейся воды, дающей слабую надежду, что, может быть, там принимают ванну.
Ежов и Женька потеряли интерес к правому и левому берегам Сены, их внимание было приковано к звукам в ванной. Только Фима продолжал слушать с неподдельным интересом о посетителях кафе «Селект». Володя пытался перекричать шум воды и бубнеж француза, привлекая внимание своих ленивых пьяниц-друзей и двух женщин, оставшихся за столом:
Но люблю тебя, родина кроткая! А за что – разгадать не могу. Весела твоя радость короткая С громкой песней весной на лугу.И, доведя свой голос до неожиданного визга, он, как провинциальный трагик, опрокинул в себя чей-то стакан с водкой и передернул плечами.
Возвратилась Галя. Умытая, она виновато улыбалась всем нам. Кирилл, помедлив из вежливости, вышел из ванны чуть позже.
– Я думал, мы тебя потеряли, – произнес Ежов. – Пойди, «причастись»… – добавил он и достал пять рублей из кармана. Это означало, что Кирилл должен был сходить в магазин за водкой. – А ты, Жень, не сиди в носках, надень боты. Ты знаешь, я очень чувствителен к запахам.
Думая, что убрал двух своих главных соперников, Ежов повернулся к Гале, чтобы начать свой дежурный рассказ о грандиозном сценарии.
Француз и Галя не могли поверить, что это сам Валентин Ежов, автор «Баллады о солдате», сидит перед ними. Когда Ежов попросил Женьку подтвердить, Женька засомневался, но сказал, что если дядя Валя на причастности к фильму настаивает, то, в таком случае, сказанное должно быть правдой. Все это делало реальность Ежова и его связь с кинематографом сомнительными. Единственное, чем Ежов мог подтвердить, что он – это он, – это показать свое удостоверение лауреата Ленинской премии.
Именно этого и добивался от него Женька.
– Валентин Иванович, а трудно написать такой сценарий? – неожиданно спросила девушка-каучук.
Верочка сидела с ногами на диване, обхватив колени руками и положив между ними подбородок так, что ее колени оказались почти на уровне ушей. Ее подбородок между коленями не давал ногам сомкнуться, образуя между ними темную щель.
Мне казалось, что поза Верочки мешает Ежову ответить. Его застывший взгляд был направлен теперь куда-то вниз, в попытке разглядеть, что там находится. Оставив ее вопрос без ответа, Ежов чувствовал себя неудобно из-за своей неспособности преодолеть возбуждение, которое начинало овладевать им. Я удивился, что причиной этого было существо с прыщавым лицом.
Женька поднял желтый от никотина палец и забормотал:
– Дядя Валя – великий человек. Хочешь, я вымою тебе ноги, а, дядя Валя?
Ежов был смущен Женькиной выходкой.
– Да пошли вы все! Пойду, позвоню Йоко, пусть придет.
– Только со скрипкой, – продолжал ерничать Женька.
– Конечно, со скрипкой, она всегда ее берет, когда идет ко мне. Вы, куча оборванцев, наконец увидите настоящего гения. Это вам не трепаться о Бердяеве или Солженицыне. – Ежов надел первое попавшееся пальто и вышел, хлопнув дверью.
После его ухода в комнате воцарилась тишина.
Обычно в компании, за столом, Женька играл роль тамады. Стиль его конферанса был всегда витиеватым. Женька хвалил хозяйские пироги, вина и все, что приходило ему в голову. Но сейчас долгое сидение на одном месте заставляло его еще глубже погружаться в свои проблемы: он довольно тяжело переживал недавний развод с женой.
Время летело незаметно, и скоро в мастерскую вернулся Ежов с Йоко и скрипкой. Вместе с ними с улицы ворвался морозный воздух. Ежов потребовал налить водки и зазвенел стаканами. Йоко порхала вокруг него. Быстро выпив, он объявил:
– Концерт Паганини!
С покорностью гейши Йоко начала расстегивать маленькими пальчиками футляр скрипки, который был такой же величины, как она сама.
Я привык к этим представлениям, только постоянство репертуара удручало меня. Ежов всегда требовал концерт Паганини в начале и Японскую сонату для скрипки и фортепиано Вячеслава Овчинникова, которую тот написал для Йоко, в конце. Может, Ежов действительно что-то чувствовал по отношению к этим произведениям, а может, просто не знал других, тем не менее его требование всегда было одно и то же.
Для Йоко игра на скрипке была актом самопожертвования. Когда она играла, ее глаза, наполненные слезами, не отрывались от Ежова. Он же продолжал жевать что-то. Иногда его мутный взгляд останавливался на Йоко, и тогда он подмигивал ей, выражая свое удовольствие, смешанное с гордостью.
По его словам, он добирал время, утерянное им во время войны и послевоенной студенческой жизни. Став известным сценаристом довольно поздно, Валя пытался схватить все, что, по его мнению, должно было принадлежать ему раньше. Он так торопился, что часто терял удовольствие от того, что имел. Действуя безо всяких эмоций, своим поведением он часто производил странное впечатление. Он мог перевоплощаться с гениальным актерским мастерством, будучи в одну минуту героем-любовником, а в другую – уставшим от жизни старым казановой, умоляющим Женьку сделать ему одолжение:
– Ну, Женя, сходи погуляй, не будь эгоистом, ты еще молодой и здоровый, ты еще найдешь себе бабу. С тебя хватит.
Однажды Женька спросил его:
– Дядя Валя, какого черта ты показываешь свои лауреатские книжки? Ты что, не понимаешь, что это пошло?
– Я же не тебе показываю, Женя, ты ведь знаешь, только бабам…
Его печаль была столь естественна, что мы с Женькой почувствовали себя неловко.
Иногда Ежов оставался на ночь в моей мастерской с какой-нибудь женщиной. Он не стеснялся моего присутствия и, невероятно скрипя пружинами кровати, басом требовал от своей партнерши:
– Скажи, что я сейчас делаю. Не молчи… Скажи, что…
Она молчала, видимо, ее смущало мое присутствие. Но Ежов был настойчив.
– Да скажи ты ему, наконец, не делай из этого тайну, иначе это никогда не кончится, – просил я из своего угла.
Ежов замолкал на минуту, только звук скрипящих пружин нарушал тишину. Она продолжала молчать. Под утро все стихало. Когда мы с ним просыпались, немая обычно уже исчезала.
– Моя студентка со сценарного факультета. Очень одаренная, – говорил он.
– Только немногословна, – замечал я.
Ежову надо было возвращаться домой, и я должен был сопровождать его, поскольку он нуждался в алиби. Дома Валентин Иванович надевал на лицо маску усталого творческого работника, искал в шкафу свежие рубашки и носки. Выпив коньяку и закусив, он отправлялся снова по своим сценарным делам.
Трудно было отделаться от него надолго. Вечером он опять появлялся у меня или у Женьки. Иногда он возникал у моего окна в три или четыре часа утра с кем-то, кого я едва знал, и стучал. Я не открывал, тогда Ежов начинал ныть своим старческим голосом:
– Дитин, ты же не хочешь, чтобы мы замерзли на улице? – И после паузы уже требовал: – Твою мать! Откроешь ты или нет? – Он приказывал спутнице: – Попроси ты его!
Он интеллигентный человек и не сможет отказать женщине.
Я вставал, но не для того, чтобы соответствовать мнению Ежова обо мне, а потому что знал – Ежов упрям и все равно не даст мне уснуть. Я засовывал ноги в резиновые сапоги, которые служили мне тапочками, и шел к двери. Мне было тошно от мысли о бессонном остатке ночи и свистящем шепоте Ежова.
К тому же я знал, что не смогу пойти спать сразу. Пока он стелил на диване, ему требовалось мое присутствие. Как только гас свет, я снова слышал одни и те же вопросы, на которые Ежов, не дождавшись ответа, иногда отвечал за партнершу сам.
Впрочем, с Йоко он делал это в полной тишине. Трудно было представить его большое тело рядом с этим японским ребенком.
Йоко приехала в Москву, чтобы совершенствовать свою технику владения скрипкой, но ее интерес к Ежову оказался сильнее страсти к музыке.
* * *
…Йоко закончила игру чистым пиццикато и попросила водки. Получив четверть стакана из рук Ежова, она опрокинула ее в себя. Продолжая демонстрировать свое знание русских традиций, японка отломила кусок черного хлеба и понюхала его.
– Ну, а теперь сонату! – попросил Ежов с интонацией, не терпящей возражения.
Йоко проверила струны и начала играть. Женька устроился на коленях у Верочки, индийской девушки-каучук. Володя Манекен сидел с закрытыми глазами.
Соната Овчинникова объединяла русские и японские мотивы, в ней звучали ноты ускользающей азиатской грусти и чисто русского страдания. Йоко играла в манере уличных музыкантов. В ее руках скрипка становилась маленьким живым существом. Прижавшись к ней щекой, Йоко смотрела на Ежова так, что становилось ясно: она играет только для него одного. Видно, почувствовав это, он перестал жевать.
Француз с левого берега Сены настойчиво пытался стереть носовым платком пятно со своего пиджака. Нора нежно взяла его руку и положила себе на колени.
Когда игра закончилась, в воздухе повисла тишина. Эта пауза разбудила Володю Манекена, и он решил ее заполнить:
Я и сам когда-то в праздник спозаранку Выходил к любимой, развернув тальянку. А теперь я милой ничего не значу. Под чужую песню и смеюсь и плачу…Глава 6
Не могу сказать точно, сколько я проспал в призрачном кафе «La Palette», но когда я открыл глаза, звуки мелодии продолжали раздаваться, тихо растворяясь в полумраке. Женщина, которую я для себя обозначил как пролетающую над городом душу, дремала, положив голову на стойку бара. Круглые часы без стрелок на стене исчезли, и на их месте появились другие, которые, как мне показалось, я уже где-то видел.
Я решил уйти из кафе, видимо, устав от состояния дремы. Мне захотелось просто увидеть своими глазами жизнь за его пределами. Я вышел на улицу в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, Митю или Луку.
Улица была тиха и безлюдна, она производила впечатление необитаемой: ни машин, ни света в окнах домов. Она не была похожа на знакомую мне Рю де Сен, в ней угадывалось что-то московское: полуподвальные окна, водосточные трубы, подернутые инеем, вывески магазинов на русском языке. Еще не дойдя до бульвара Сен-Жермен, вернее, до того места, где, как мне казалось, он должен быть, я вдруг издали заметил огромную стену из красного изъеденного кирпича. Вместо предполагаемой церкви я узнал очертания Новодевичьего монастыря. Уже не задавая себе лишних вопросов, я вошел в ворота. Охранник в штатском молча показал мне жестом, чтобы я выбросил сигарету, и добавил: «Здесь не курят, вы что, первый раз в монастыре?» Я ничего не ответил. «Вы на отпевание?» – спросил он уже чуть мягче. «Да», – не задумываясь, ответил я. «Это там, в храме», – указал движением головы охранник.
Я пошел по аллее к храму, откуда теперь слышались невнятные звуки то ли органа, а может, клавесина. Мелодия, как показалось мне, напоминала «Времена года» Вивальди. Не потому, что я был большим меломаном, а просто в последний раз, перед тем как попасть в этот новый для себя мир, я был в консерватории на сольном концерте Стадлера. Видимо, в моей памяти сохранились фрагменты музыкальных фраз.
На ступенях храма стояли люди. Войдя в церковь, я почувствовал приторный запах ладана и свежесрубленных еловых веток. Все пространство храма было подернуто дымкой, как на картинах Тернера, сквозь нее просвечивали восковые свечи, их было много. Я медленно продолжал вглядываться в эту тернеровскую глубину, постепенно различая фигуры и лица людей. Многие были мне знакомы, я даже мог, правда, с трудом, вспомнить их имена. Рядом со мной женщина без конца опускала свечу, переворачивая ее, чтобы не обжечься расплавленным воском. Капли со свечи падали и тут же застывали на каменном полу. Неподалеку от гроба стоял крупный человек в черном пальто с длинными темными волосами до плеч. Он был почти неподвижен, держал свечу обеими руками, будто боялся, что уронит ее. Я узнал К. Э. Еще ближе, почти у изголовья гроба, столпилась группа людей, среди которых я разглядел Ольгу, жену Ивана. Я скользил взглядом по лицам, освещенным мерцающими свечами, вспоминая и узнавая их: вот Игорь Абрамов, с добрым и по-детски розовым лицом, его двоюродный брат Вовка, которого все звали просто Семен, Гарбер. Мне показалось, там, в храме, я увидел Митю и Луку.
Я вдруг вспомнил театр «Одеон» в Париже, где труппа Театра на Таганке, под руководством Эфроса, показывала «Вишневый сад». Иван играл Епиходова, единственную сцену, в которой он солировал, засовывая без конца пистолет в рот, делая вид, что хочет застрелиться.
Демидова-Раневская гордо восседала на огромной бархатной подушке в центре сцены. Судя по тому усилию, с которым она пыталась усидеть, подушка была слишком мягкой, так что «кресло» при каждом неосторожном движении клонилось то влево, то вправо, то опрокидывалось назад. Я вглядывался в декорацию, пытаясь понять замысел режиссера и художника.
В глубине сцены висел большой фотопортрет мальчика. Он был, как и подобает быть мальчику чеховского времени, в матроске, а по бокам портрета колыхались белые занавески, видимо, условно обозначающие окна, в которые проникают порывы ветра.
Образ смерти Демидовой-Раневской, ее боль и трагедия должны были пронизывать весь спектакль, так, по крайней мере, хотелось режиссеру и художнику. В центре сцены лежала клумба-подушка, могильный холм, под которым был похоронен мальчик. Его фото было на заднике.
Меня всегда поражала неистовая любовь режиссеров-художников сцены к так называемой театральной образности, этакой дешевой символике.
– Ну, что вам приходит в голову, как символ… после прочтения либретто «Орестеи»? – спросил меня как-то известный кинорежиссер.
– Простите, Саша, но все, что может прийти в голову, это банальное клише – в первую очередь, кровь… Вся сцена в крови… окровавленные тушки, занавес из окровавленных тушек… смерть… – ответил я виновато.
– Ну и как же это изобразить в декорации? – нетерпеливо и с каким-то даже раздражением не отставал режиссер.
Я промолчал, вспоминая такого же рода разговор между ним и Ростроповичем несколько месяцев назад, это было в Милане. Тогда мы начинали работать над «Хованщиной» и сидели в ресторане рядом с театром Ла Скала. Ростропович рассказывал режиссеру, как он мечтает дирижировать в том месте, что в либретто обозначено как «рассвет над Москвой».
– Сашенька, – со слезами на глазах говорил дирижер, – я обожаю музыкальную версию Шостаковича. Я бы начал ее почти шепотом, а потом чуть громче… громче, вы слышите… шепотом.
Режиссер, видимо, думал о своем, настаивая на том, что было бы неплохо переписать либретто. Его почему-то не устраивала сцена с самосожжением, раздражали староверы, которые, как ему казалось, не верили ни во что. Дирижер терпеливо, без конца с нежностью называя режиссера Сашенькой, пытался объяснить ему, что либретто написано только как вспомогательный элемент для музыки и голоса.
– Сашенька, милый, не в словах дело! Вы слышите, музыка и голос. Это опера, а вы про либретто, да хрен с ним, с либретто. – Устав плакать и возражать, он залпом выпил рюмку водки и замолчал.
Мои мысли опять вернулись к Дыховичному. После того спектакля, в котором он играл, мы еще долго сидели с ним в каком-то кафе на улице Сен-Сюльпис. Иван раскуривал новую трубку, которую я ему подарил. В качестве трубок я не разбирался и поэтому, выбирая, исходил из эстетических соображений. Иван с удовольствием поглаживал ее и затем долго разогревал спичкой, причмокивая, втягивая воздух, и потом, выпустив клубы дыма, оценил, глядя на меня:
– Ништяк… Хорошая труба.
За столом было еще несколько человек – Боря Хмельницкий, а также неизвестная мне актриса, с чуть косящими глазами. Эта легкая косоглазость придавала ей какой-то необыкновенный шарм. Мне вдруг показалось, она с интересом поглядывает в мою сторону, но я из-за ее косоглазия не был уверен, что она смотрит именно на меня.
Иван долго рассказывал о своем замысле поставить фильм по рассказу Бунина «Солнечный удар».
– Но как, – спрашивал он себя и заодно остальных сидящих за столом, – как передать в кино эту последнюю, заключительную фразу?
– А что он сказал в конце? – потягивая коньяк, спросила косенькая.
Ваня удивленно посмотрел на нее, затем выпустил кольцо дыма и многозначительно процитировал:
– «Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет». Как это передать? Ну, что ж вы молчите? – Он посмотрел сначала на девушку, потом перевел взгляд на меня.
– Я бы просто произнес эту фразу, как от автора. Голос за кадром, – ответил я.
– Ты знаешь, это кино, это другой жанр. Здесь нельзя пользоваться закадровым голосом, – затянувшись, произнес Иван, пропадая в клубах дыма.
– Ну, извини, я не знал. Хотя у Хьюстона голос за кадром читает в течение пяти-десяти минут. Да и многие большие режиссеры не боялись этого. И Стэнли Кубрик в фильме «Барри Линдон». Правда, у него были просто титры с текстом.
Я еще какое-то время пытался вспомнить какой-нибудь пример, но ничего в голову не приходило.
– А как тебе понравилась моя находка с пистолетом? – спросил Иван неожиданно. – Это я сам придумал… Показал Эфросу… Он смеялся. «Очень хорошо, Иван. Тебе пора быть режиссером».
Когда кафе закрылось, вся группа переместилась в мою мастерскую. Это была совсем маленькая комната с непропорционально высоким потолком и большими окнами, там же на улице Сен-Сюльпис. Так как дом был старым, а фасад каким-то неровным, создавалось ощущение, что он вот-вот сползет вниз, поэтому окна стояли неровно. Мне было неловко приглашать гостей в убогую каморку, заставленную холстами и подрамниками, но им хотелось увидеть, как живут в Париже художники, и мне ничего не оставалось, как сыграть гостеприимного хозяина.
В то время я работал над трехмерными композициями – натюрмортами, используя оборотную сторону подрамника. Я затягивал ее тонким прозрачным нейлоном, за которым угадывались предметы. Чаще всего это были грязные кисти, стаканы, какие-то тряпки для вытирания кистей, короче, всевозможный мусор.
Разглядывать подобные композиции было довольно трудно, они только угадывались за тонкой и мелкой сеткой. Но сам эффект напряженного всматривания в дымчатое пространство возбуждал меня, казалось, предметы могут исчезнуть в любую секунду.
Я часами стоял перед этими коробками, испытывая чувство затаенного страха перед их исчезновением.
Гости продолжали лениво обсуждать вечерний спектакль, а я вполуха слушал отрывки фраз, имена героев…
За окнами уже неторопливо рассветало. Косоглазенькая актриса, уютно устроившись на кровати, дремала. Иван продолжал свою историю «Солнечного удара», которая постепенно переходила в тему случайных встреч, или one night standing, встречи на одну ночь. Каждый из сидевших за столом пытался вспомнить свою историю. Когда очередь дошла до меня, я попросил разрешения у слушателей рассказать чужую историю, а не свою. Мне благосклонно разрешили, и я тихим вкрадчивым голосом начал, предварительно затянувшись сигаретой:
– Эта история очень похожа на бунинскую, рассказал, вернее, пересказал мне ее Миша Богин, кинорежиссер. Автор истории – какой-то сценарист, фамилии его я не вспомню. Случилось это где-то на дорогах войны, в маленьком провинциальном городке совсем недалеко от линии фронта. Советский офицер, не спавший уже вторые сутки, направлялся с каким-то важным заданием в штаб. Разбитые дороги, пыльная полуторка, ночь. Единственное желание, которое преследует его уже сутки, – это упасть куда угодно и уснуть. Уснуть хоть ненадолго.
Глаза уже не видят дорогу. Неожиданно он замечает неподалеку освещенное луной полуразрушенное здание с колоннами, похожее на обветшалый особняк или провинциальный клуб. Короче, нечто, не похожее на обиталище людей. Он глушит мотор и подходит. Перед ним разбитые стекла окон, за которыми кромешная темнота.
– Ты нас пугаешь, – мягко, как в рупор, пробасил Хмельницкий.
– Не перебивай, – шепнула проснувшаяся косоглазенькая. – Ну, и…
Я сделал многозначительную паузу и продолжил:
– Офицер с трудом открыл тяжелую дверь, внутри – тоже тьма египетская, в слабом лунном свете, проникавшем в окна, угадывалось большое пустое пространство, нечто вроде спортивного зала. У него уже не было сил, и он решил просто приткнуться куда-нибудь и уснуть. Но, к своему удивлению, обнаружил, что споткнулся обо что-то, лежащее на полу. Офицер щелкнул зажигалкой. Весь пол был устлан спящими телами. Люди лежали вповалку, укрывшись шинелями. Доносился легкий храп. Пройдя несколько шагов, стараясь не наступать на лежащих солдат, он нашел свободное место и лег, не снимая шинели. Что ему снилось, я не знаю. Может – война, может – дом, жена. Внезапно он проснулся, как от удара. Его рука коснулась чего-то мягкого, это была женская грудь. Офицер испуганно провел рукой ниже, уже понимая, что рядом с ним женщина. Он в полусне нашел ее губы, они были приоткрыты и пахли молоком. Было трудно понять, спала она или просто делала вид. Офицер уже не думал о ее ответной реакции, придвинул к себе, поднял подол юбки, нащупал резинку байковых трусов. Только теперь она ответила ему. Она гладила его по волосам, из открытого влажного рта иногда вырывались слабые стоны. Офицер задрал ее гимнастерку, сжал руками хрупкое девичье тело. Они делали это в полной тишине, не произнося ни слова. Было темно, свет луны исчез из окон. Они, как слепые, продолжали ощупывать друг друга, словно пытаясь запомнить черты лица, кожу, волосы, представить себе любовника, которого ты никогда не видел, а может, и не увидишь. Эти касания были похожи на прощание. Кончив, он снова провалился в беспробудный сон. Проснулся от яркого солнца, которое светило ему прямо в глаза. Лучи проникали сквозь пыльные и разбитые стекла окон. Зал, в котором он спал, был абсолютно пуст. На мгновение ему показалось, что все, что было с ним, – просто странный сон. Откуда-то доносились женские голоса, смех, звон посуды. Медленно встав, он застегнул гимнастерку, надел ремень и, покачиваясь спросонок, направился в соседнюю комнату. Двери были распахнуты настежь. Женщины в шинелях, санитарный батальон. Увидев его, они доброжелательно заулыбались, посыпались шутки: «Как спалось, товарищ капитан?.. Откушайте с нами, не стесняйтесь… Садитесь, в ногах правды нет… Вы не женаты?» Реплики перемежались веселым задорным смехом. Слушая девушек, офицер искал глазами ту, с которой провел эту ночь. Он переводил взгляд с одной на другую, но догадаться не мог. Он попрощался, сказав: «Спасибо. В другой раз», вышел, сел в свою облепленную грязью пыльную полуторку и завел мотор. Уже отъезжая, он обернулся. У дверей стояли санитарки и махали ему. Их было много, целый батальон.
Я замолчал, молчали и остальные. И лишь косенькая шепотом спросила:
– Ну, а дальше? Что было дальше?..
* * *
Состояние, похожее на испуг, которое часто возникает во сне, видимо разбудило меня, я открыл глаза и обнаружил, что нахожусь по-прежнему в своей московской квартире, а на краешке моей кровати сидит Митя.
– Проснулся? – с непонятной грустью произнес он. – Ну и что тебе снилось? – спросил он без выражения. Похоже, его больше интересовало, помню ли я то, что видел во сне.
– Париж, моя мастерская, похороны Ивана, – сквозь неотступную дрему прошептал я непослушными губами.
– А-а, – протянул Митяй. – Ну и где это было? – спросил он, как будто проверяя меня. – Небось, отпевали, как и меня, в православной церкви? – И не дожидаясь ответа, сказал виновато и с сожалением: – Ты знаешь, меня, правда, в детстве крестила нянька…
– Тебе будет снисхождение, – сказал я.
В ответ послышалось монотонное посасывание и хруст, издаваемые Митей. Он, как обычно, грызя сахар и усмехаясь, удалялся в небытие, туда, куда ушел в прошлый раз.
Я лежал, вытянувшись на постели, а в голове у меня мелькали мысли: «Почему Митя и Лука без конца пытаются узнать, все ли я помню, как будто хотят напугать меня. Если я вспомню… а если не вспомню… И этот Совет, который будет решать… Что решать? Кто они? Если эти люди живут в антимире, это совсем не означает, что они святые. Да и вообще, чем Совет отличается от ЖЭКа? Ну, собрались люди, сели за стол… И что дальше?»
Я попытался представить стол заседаний, потертую скатерть… Но картинка вырисовывалась неясно. Перед глазами стояла «Тайная вечеря» Леонардо. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы именно так выглядел Совет, но я прекрасно понимал, что этой божественности и духовности не будет.
Кроме того, меня вдруг снова начали беспокоить слова Луки о моем диагнозе. В конце концов, надо понять, чего я хочу? Безропотно остаться здесь, если я мертв, или валить по-быстрому, если живой?
Снова и снова я перебирал варианты, но ничего путного мне в голову не приходило. Единственно, к чему я пришел, это к парадоксу народной мудрости о шиле и мыле. Что же касается предостережения Мити по поводу моей способности ничего не помнить, это вообще не проблема, я помнил практически все.
Ведь забывчивостью я не страдал никогда, в детстве однажды даже с закрытыми глазами нарисовал план избы, в которой жил с матерью и бабушкой в башкирской деревне под названием Кудрявка. И кто бы мне мог рассказать про тигровую зимнюю шапку, которая висела на стене у соседей, у двух братьев, которые сдавали нам комнату? Я запомнил их имена на всю жизнь – Халит и Хамит. Как сейчас я вижу мыльные пузыри, лопающиеся на морозном воздухе, когда они мылись голые по пояс у колонки во дворе, и фигурку девочки из избы напротив. Каждый день она выходила к покосившемуся забору и стояла у полуоткрытой калитки, молча глядя на меня. А я сидел на подоконнике и так же пристально смотрел на нее. Мне было тогда два, ну, может, три года. Но я точно помню состояние, которое, как я позже узнал, называется любовью.
Я смотрел на девочку, стоявшую у почти рухнувшего штакетника, на валенки, из которых торчали ее тонкие ножки. Я мог даже вспомнить морозный узор на покрытых инеем окнах. Чтобы увидеть девочку, мне приходилось дышать на стекло, а затем ногтем расчищать растаявшую полынью. Ночью, засыпая, я думал о ней и ее валенках. Я всматривался в ее глаза, и мне казалось, что в них затаилась непонятная грусть. Узкая заснеженная улица, которая представлялась мне огромным миром, почти космосом, была причиной нашей непреодолимой разлуки, а желание преодолеть это расстояние было почему-то невыполнимым, как будто пропасть между нами исчислялась световыми годами.
Я спал с матерью на большой металлической кровати. Кровать стояла у стены, отделяющей нашу комнату от комнаты башкирских братьев. Тигровая шапка, принадлежащая им, висела почему-то на нашей стене, и мне было страшно от близости этой шапки. Чтобы не думать о ней, я зарывался головой в подушку и мысленно переходил узкую улицу, чтобы поцеловать девочку, стоящую у калитки.
Иногда по ночам я тихо вставал и, боясь разбудить мать, на цыпочках подходил к окну. Я смотрел на темные окна ее дома, на закрытую калитку, на дощатый забор. Лунный свет окутывал все серебристо-зеленоватой вуалью. И белый снег казался зеленым.
Порой сзади я ощущал на себе дыхание бабушки Поли. Она брала меня на руки и поднимала к себе на «второй этаж», так она называла свое спальное место. Бабушка спала на листах фанеры, которые были ровно сложены у стены. Стеллаж из фанеры был довольно высоким, чтобы забраться на него, требовалась лестница-стремянка. Наверху я чувствовал себя в безопасности от тигровой шапки и засыпал с одной только мыслью, что завтра вернусь к волшебному окну и буду долго-долго смотреть на девочку, застывшую у калитки. Наверное, ее заколдовал злой волшебник, думал я, мечтая о том, как расколдую ее и заберу на «второй этаж». А бабушка будет спать с мамой. Лежа на стеллаже из фанеры, я мог видеть заветное окно и смотрел на него, пока глаза не закрывались и я засыпал.
* * *
Было понятно, что в призрачном сонном мире все появлялось воочию. Мне было трудно определить, где же я вообще находился. Причем иногда я видел себя словно со стороны, а иногда становился участником событий.
Специфический запах мочи, смешанный с запахом человеческого пота, стоял в парадном нашей коммуналки и продолжал преследовать в коридоре. Так пахнет в поездах и общественных туалетах. Тусклая лампочка на шнуре освещала закопченные стены и потолок. При таком мутном свете казалось, что на стенах были фрески, покрытые патиной времени, давно уже стершиеся или скрытые под слоем копоти.
В парадном было стерто практически все – и перила лестницы, ведущей на второй этаж, и двери, и даже мраморный подоконник, на котором почти каждую ночь происходили встречи бездомных любовников. Парадное пережило тысячи оргазмов, любовных шепотов и слез разлуки. Стены и пол, двери, перила, подоконник помнили и хранили тайну человеческих судеб, случайными свидетелями которых являлись. Не забыли они, наверное, и послевоенное, изголодавшееся по любви время, когда тротуары улиц и подъезды были усыпаны презервативами вперемешку с бычками. Нередко на полу в подъезде валялось забытое впопыхах женское белье. Это был мир, хранивший память о бомбардировках, фугасах, дежурствах на крыше, похоронках и возвращениях с фронта.
Входная дверь, ведущая в коммунальную квартиру, была обита рваным дерматином, увешана почтовыми ящиками, утыкана длинным рядом звонков, табличками с именами и фамилиями ее обитателей. Эта дверь напоминала ворота в иной мир, попадая туда, ты терялся и путался в лабиринте веревок, на которых сушилось белье – простыни, наволочки, мужские и женские трусы. В прихожей сытно пахло кухней. Сладковатый запах керосина и примусов погружал в состояние, близкое к анестезии. В неярком свете лампочки ты постепенно начинал различать силуэты предметов и мебели, ее накопилось так много, что не было видно стен. В основном это были фанерные шкафы с бесчисленными висячими замками, крючками и задвижками. Что хранили они, одному богу было известно, но само их присутствие указывало на густую заселенность этого обиталища.
Из-за каждой двери доносились звуки, говорящие о характере обитателей комнат: или музыка, или почти непрекращающаяся ругань. Центральная часть коридора была гораздо шире, чем в начале, именно там и происходили все общественные мероприятия. Здесь справляли все праздники, для чего из комнат выносились табуреты и стулья.
Кроме того в коридоре находились два здоровых сундука, на которых и сидели, и выпивали. Коммунальные сборища напоминали пьяный шабаш с танцами и хоровым песнопением, в котором принимали участие даже дети. Гулянки проходили с необычайным пьяным энтузиазмом и неистовостью. На следующий день после такого празднества квартира вымирала, и только тяжелая тишина стояла в коридоре, а пыль видимо оседала на пол, сундуки и шкафы.
Широкая часть коридора переходила в узкую, ведущую в кухню. Там, на двери, висело расписание со списком жильцов, из которого можно было узнать дни и часы пользования ванной. Выглядело это расписание, приблизительно так: лист из школьной тетрадки, приколотый кнопками к двери. На нем каллиграфическим почерком было написано:
Понедельник
Сыроегины с 10 до 12
Мячины с 12 до 14
Дорошевы с… до…
и так далее.
На кухне теснились многочисленные кухонные столы и газовые плиты. Каждая семья была приписана к одной из плит и столу. В этом порядке чувствовался какой-то нелепый абсурд. Но, как ни странно, жизнь обитателей квартиры и моя собственная казалась мне счастливой. С детства привыкший к определенному распорядку и впитавший в себя запахи и серебристую пыль коммунальной квартиры, я сам приобрел необходимые качества для этого странного животного сосуществования, которое стало моим миром и моей реальностью. Это был рефлекс самосохранения, что так развит у детей, живущих среди животных, синдром Маугли.
Приходя из школы, я проводил долгие унылые дни, сидя на сундуке рядом с дедом Мячиным, молча наблюдая за тем, как тот курит и согнутым пальцем осторожно выстраивает пепельный конус на конце папиросы. Видимо, эти медленные и осторожные движения пожелтевшего от никотина пальца гипнотизировали меня. Затаив дыхание, я ждал момента, когда пепел все-таки упадет, но дед был осторожен, и конус оставался непоколебимым. В коридоре было тихо, и только за какой-нибудь дверью тихо играло радио.
Иногда, устав от созерцания конуса, я разглядывал шкафы, потолок, лампочку, горящую вполнакала, и коридор при свете этой лампочки казался мне волшебным замком, где обитают загадочные существа, которых злой волшебник превратил в тазы и корыта.
Занятия в школе меня мало интересовали. Я ходил туда скорее для матери, чтобы не расстраивать ее. Она часто жаловалась, что я мешаю ей строить личную жизнь. Сквозь всхлипы я часто слышал: «Ты не понимаешь, как трудно тянуть тебя одной, без отца». Я пытался делать вид, что вхожу в ее положение, и легко раздавал всевозможные обещания, но мои мысли были далеко – на улице. Я терпеливо ждал, когда мать закончит привычную исповедь и пойдет устраивать свою личную жизнь, а я побегу во двор.
Наш двор походил на большой заснеженный город. У кирпичной стены штабелями были сложены дрова. Одной из главных достопримечательностей была конструкция, напоминающая огромный деревянный ящик. В центре этого замечательного сооружения зияла темная дыра помойки. Ее края обледенели и превратились в стеклянное отражение неба. Она была переполнена битыми банками, замерзшими использованными презервативами, обрывками газет – археологическими останками нашей коммунальной цивилизации.
Я часто замирал перед ящиком, с любопытством разглядывая следы бурной жизни обитателей нашего дома. Однажды я поднял присыпанный снегом обрывок газеты с фотографией и попытался прочитать подпись под ней, но смог разобрать только имя умершего: Иосиф и чуть мельче – год. На снимке был гроб, усыпанный цветущими ветками и снежной искрящейся пылью, и в нем – мужик, вернее, его профиль.
За окнами домов угадывались тюлевые занавески, в форточках висели авоськи с газетными свертками. Между рамами лежала вата, посыпанная разноцветными кружочками конфетти, елочные украшения – серебряные и золотые шары, из петелек которых торчали обрывки ниток. Во дворе было так тихо, что, казалось, я блуждаю по вымершему заснеженному полю, на котором случайно сохранились следы человеческого присутствия.
«Ни души», – думал я, разглядывая колоннаду из помятых водосточных труб. Краска на трубах облупилась и почти облезла, можно было увидеть бесконечное число ее слоев. Эти слои, как кольца на спиле векового дуба, указывали на возраст облезлых труб и говорили о древности усыпанной снегом цивилизации.
Во дворе за зиму вырастал высоченный сугроб, в нем были выкопаны проходы. Из одного такого прохода шел странный запах жженого карбида, и я решил исследовать его, ощупью пробрался по узкому лазу, где запах чувствовался еще сильнее. Снежный лабиринт неожиданно закончился пространством, похожим на пещеру. Там горел свет, исходящий из консервной банки. Я с трудом разглядел двух обитателей пещеры: парня в ушанке и девочку. Это были Алик и его сестра Сонька. Алик курил, а Сонька ровняла снежные стенки лопатой. Мое появление нисколько не нарушило их занятий. Они продолжали заниматься каждый своим делом, и мне на секунду показалось, что они меня не видят. Но через какое-то время Алик неожиданно спросил:
– Где ты был? Ходил прощаться, что ли?
– С кем? – удивился я.
– С кем, с кем… Со Сталиным… – сплюнул он под ноги. – Наши все пошли, всем двором, а мы с Сонькой остались. Отец сказал: с детьми опасно, затоптать могут.
Сонька прекратила свое занятие и посмотрела на меня. На ее грязном лице светилась улыбка. Она сняла варежку, полезла в карман и, достав окурок, молча протянула его мне:
– Это тебе… – произнесла она с нежностью, не обращая внимания на брата.
Тот насупился:
– А мне сказала, что нету… Сука же ты, Сонька… – Он резко поднялся с бревна, которое служило ему стулом, расстегнул озябшими пальцами пуговицы на ширинке и начал на снежной стене пещеры выписывать свое имя. На белой холодной поверхности буква за буквой появилось имя АЛИК. Стряхивая последнюю каплю, он вдруг застыл на секунду, как будто прислушиваясь к происходящему снаружи: откуда-то издалека доносились звуки, похожие на скреб лопаты.
– Лука! – коротко бросил он и, торопливо застегнув пуговицы, добавил: – Надо валить.
Мы вылезли наружу из сугроба. Темнело. Во дворе по-прежнему было пусто, только вдалеке, у ворот, был виден растворяющийся в морозном воздухе сгорбленный силуэт дворника Луки. Алик и Сонька уходили от меня, исчезая в сумерках…
– Вишь, пошли два сахара: говно и редька! – вдруг я услышал голос Закуренова. – Где это ты так загорел? – с иронией спросил он.
Я понял, что у меня остались следы пещерной карбидной копоти, и попытался рукавом вытереть лицо.
Закуренов жил в десяти минутах ходьбы от меня, в доме во дворе Института Склифосовского, который скорее можно назвать огромным пустырем. Через него проходила дорога между корпусами и моргом. Жизнь на этом пустыре никогда не затихала. Склифосовские ребята обычно гоняли там в футбол, и только когда появлялись угрюмые санитары, катившие накрытые простынями тележки из корпусов в морг, игра прерывалась, мат затихал, и возбужденные игроки молчаливыми взглядами провожали скорбные колесницы, терпеливо ожидая конца процессии. По вечерам все собирались в подворотне у Грохольского переулка. Эта подворотня находилась недалеко от морга, другая же, парадная, выходила на Садовое кольцо и была ближе к большим корпусам.
Мы с Закуреновым прошли по Мещанской. Ребята из Склифа стояли у подворотни, курили, сплевывая сквозь зубы. Плетнев тихо наигрывал на гитаре «На сопках Маньчжурии», а Щелчок, мастер степа, отбивал чечетку. Он медленно, с грацией Фреда Астера, двигался по заснеженному и усыпанному окурками асфальту.
Проезжая часть переулка была запружена полуторками, которые выстраивались в ожидании своей очереди, чтобы въехать на территорию Склифа. Кузовы до отказа были наполнены мертвыми телами, задавленными во время похорон Сталина. Люди лежали вповалку, как будто усталость свалила их после трудного и долгого похода. Теперь они не стеснялись близости и не обращали внимания на разницу полов. Одна из полуторок тронулась с места рывком, потом так же резко затормозила. У одного из спящих ушанка свалилась в снег.
Щелчок, не останавливаясь в танце, подпрыгнул и, подхватив шапку, надел ее на голову хозяина.
– Чтоб не замерз… – с улыбкой произнес он, потом, сделав еще несколько замысловатых па, присоединился к зрителям, встретившим его аплодисментами.
Все, кроме меня и Закуренова, не сговариваясь, стали расходиться по домам. Мягкий свет окон дома манил уютом и теплом, а двор уже казался темным, холодным и враждебным.
– Зайдешь? – спросил меня Закуренов.
Я кивнул.
В комнатушке было уютно и темно. Свет от фонаря проникал из единственного полуподвального окна, прикрытого тюлем. Как всегда, пахло жареной картошкой и перегаром. На столе, накрытом потертой клеенкой, стоял графин из розового мутного стекла с выдавленными на нем виноградными гроздьями. Графин всегда стоял на столе. Мы с Закуреновым выпили по стакану воды.
Пьяный дядя Вася, – отец Закуренова, маленький тщедушный слесарь-водопроводчик с огромным семитским носом, лежал на диване не то в обмороке, не то в белой горячке. Нос был настолько непропорционален по отношению к лицу, что создавалось впечатление, что дядя Вася и есть тот самый персонаж, о котором Гоголь написал свою повесть. На самом деле форма его носа не имела никакого отношения ни к великому писателю, ни к якобы семитским генам водопроводчика. Просто, возвращаясь в бессознательном состоянии домой, он довольно часто падал головой вниз с лестницы, ведущей в подвал. Поэтому его нос пережил такое количество пластических операций, что постепенно превратился в огромный нарост, напоминающий клюв почтового голубя.
Обычно, будучи сильно пьяным, он любил устраивать нам экзамен. Вот и сейчас он вдруг оживился и заорал, брызгая слюной:
– Ну что, двоечники! Кто сказал: «Мы не можем ждать милостей от природы»?
– А ты сам-то знаешь? – огрызнулся Закуренов.
– Знаю… – уже снова теряя сознание, еле ворочая языком, отвечал дядя Вася.
– Знаешь? Ну и кто же? – перебил его Закуренов.
Дядя Вася, собрав весь остаток своей пропитой памяти, попытался вспомнить автора строк, начал нервничать, размахивать руками, отметая ложную информацию, которую Закуренов обрушивал на него.
– Нет… нет, ты не путай меня, сука! – чуть не плача орал он.
Ему мучительно хотелось вспомнить имя, но Закуренов продолжал свой садистский сеанс до тех пор, пока дядя Вася не сдался и, моля о пощаде, униженно не начал просить:
– Толян, сынок, ну скажи, будь человеком…
– Будь человеком… – с презрением и брезгливостью передразнил его Закуренов. Протянув ладонь дяде Васе, коротко и жестко бросил: – Сколько дашь?
Дядя Вася полез в карман, руки его не слушались, с трудом он выудил оттуда смятые деньги, которые еще не успел пропить, и бросил их на пол.
– На, бери, сука! Родного отца грабишь, сволочь! Ну, кто, говори теперь, не тяни…
Закуренов медленно, не торопясь, собрал мятые бумажки и, разгладив, аккуратно сунул в карман школьного кителя и медленно по слогам произнес:
– Мичу-рин!
По лицу дяди Васи потекли пьяные слезы, он сжимал кулаки, вытягивая вперед подбородок, как перед уличной дракой.
Валька, сестра Закуренова, сидела на кровати и, затаив дыхание, наблюдала эту жуткую сцену.
Закуренов похлопал себя по карману и жестом пригласил меня к выходу.
Поднимаясь по лестнице и добродушно улыбаясь, он бормотал свою любимую поговорку:
– Вишь, тварь, два сахара… – и, чуть выдержав паузу, – говно и редька!
В данном случае он имел в виду дядю Васю и Вальку.
Мы столкнулись в подъезде с Марусей, матерью Закуренова.
– А уроки? – грустно посмотрев на сына, спросила она.
Но Закуренов, улыбнувшись, только гордо произнес:
– Я по ботанике пятерку получил. – И распахнул дверь подъезда.
– Что отец?! – не выдержав, крикнула мать ему вдогонку.
– Я скоро приду… – бросил ей Закуренов в ответ и, повернувшись ко мне, вдруг спросил: – Ты заметил синяки у матери на лице?
Я кивнул.
– Ты знаешь, так хочется быстрее подрасти. Тогда я смогу бить его, как собаку…
Мы вышли на улицу и постояли немного у подъезда молча, разглядывая темный двор и светящиеся окна.
– Ну, мне пора, – сказал Закуренов, и, повернувшись, исчез в темноте подъезда, а я поплелся домой.
Глава 7
– Как драгоценное? – с хитрой ухмылкой спросил Лука.
У меня этот вопрос вызвал грустную улыбку. Казалось нелепым, что он интересуется здоровьем мертвого. Я попытался подняться, но не смог – чувствовал я себя довольно неважно. Кружилась голова и подташнивало, как бывает при морской болезни. Словно я находился на корабле в штормовую погоду.
Вроде мы не так уж много выпили вчера с Жераром в ресторане мотеля. Лука куда-то исчез, а вокруг в гамаках-койках лежали незнакомые мне люди. Было похоже, что мы находимся на борту какого-то корабля. Многих рвало прямо на подушки.
Я обратил внимание на мужчину и женщину. Они почему-то лежали вдвоем в одной койке, похожей на огромную авоську. Лица мужчины я не видел: он лежал спиной ко мне. Женщина испуганно выглядывала из-за его плеча.
Казалось, что они были заняты «этим». Хотя я не могу утверждать, поскольку авоську раскачивало так сильно, что это могло только казаться. Даже ее сдавленные стоны могли просто быть реакцией на сильную качку.
– Где мы? – спросил я лицо, выглядывающее из-за плеча мужика.
Мужик неожиданно обернулся ко мне.
– Ты что, проснулся, что ли? – спросил он спокойно и с легкой досадой человека, которого оторвали от серьезного дела. – Мы посреди океана, между Южно-Сахалинском и Шикотаном. Или тебе на карте показать? – И, повернувшись спиной, продолжил раскачиваться в авоське-люльке со своей соседкой.
Мужик сильно смахивал на Кирилла. «Может, это он? – подумал я. – Но как он попал сюда? А ты сам-то как оказался здесь?» – спросил я себя, понимая, что тоже нахожусь в таком же гамаке.
– Люся приглашает нас в баню, – не поворачивая головы, произнес мужик. – Обещает подогнать сестру. Ты, надеюсь, не против?
– Давай не загадывать, – произнес я, не разжимая губ, изо всех сил сдерживая тошноту.
Качка постепенно стихала, я вылез из гамака-авоськи и поплелся на палубу. Повсюду валялись блюющие школьники. Казалось, весь корабль был покрыт морской пеной. Я с трудом дотащился до борта и, уже устав сдерживаться, отдал всего себя на милость ветра и соленой волны. В этот момент я готов был поверить в существование ада.
Стоя на мокрой палубе, я вдруг ясно и отчетливо вспомнил, что уже переживал подобное состояние. Я вспомнил и себя на холодной палубе, и Кирилла в гамаке-качалке в обнимку с Люсей, ее масляные глаза, не моргая смотревшие из-за плеча Кирилла…
Причалили мы в полной темноте. Кромешная мгла и всплески волн напоминали о кошмарной дороге.
Нас пересадили в катер, который должен был доставить на Большую землю. Его урчание успокаивало.
Люся, уверенно, по-хозяйски, расставив свой скарб, состоящий из пары облезлых чемоданов и мешка, с привязанными к нему авоськами, уселась на него, как на диван. Взяв за руку своего дорожного героя-любовника, усадила его рядом с собой. Они так и сидели рядом, держась за руки, всю дорогу. Люся, видимо, не хотела расставаться с Кириллом ни на минуту.
Я плохо помню момент швартовки, но потом мы долго в темноте брели по дощатым настилам острова Шикотан. Только луна освещала наш путь. Люся – впереди с мешком за плечами. За ней плелся Кирилл, нагруженный рюкзаком и двумя Люсиными чемоданами. Я замыкал шествие. На мои предложения помочь хотя бы с одним чемоданом Кирилл отрицательно качал головой, видно, хотел произвести на Люсю впечатление надежного и сильного мужика. Хотя это было лишним. Еще там, в корабельной койке, похожей на гамак, несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, у нее было достаточно времени, чтобы оценить его мужские достоинства.
Люся шла впереди уверенной кряжистой походкой, возможно, выстраивая схему моего знакомства с замужней сестрой. Она неоднократно, еще на корабле, зачем-то упоминала о необузданной ревности мужа сестры. Я невольно представлял его темнокожим мавром, а ее прозрачно-белой Дездемоной.
– Вот мы и пришли! – громко выдохнула Люся, опустив мешок на крыльцо дома барачного типа.
Не успели мы войти и щелкнуть выключателем, как она сказала:
– Вы пока располагайтесь. Будьте как дома, а я сбегаю за сестрой, – и скрылась в потемках. Но тут же неожиданно просунула голову в дверь: – Баня во дворе.
В комнате Люси господствовала высокая кровать с неимоверным количеством подушек и кружев. Казалось, что взобраться на нее можно, только приставив лестницу. Кровать стояла у маленького окна с узорчатым тюлем. На стене над кроватью – знакомый до слез сюжет на коврике: сосновый бор и медведи. Коврик был выполнен в довольно оригинальной манере – то ли из шелка, то ли из нейлона. Поверхность его отливала кичеватым блеском.
Кирилл по-хозяйски достал из Люсиной авоськи водку и пригласил меня жестом к выходу.
– Подождем их лучше в бане, – коротко и деловито сказал он.
Мы пересекли темный двор, освещенный светом из окошка, и вошли в баню, которая представляла собой просто тьму кромешную, пахнувшую сыростью и соленой рыбой. Кирилл зажег спичку в поисках выключателя, но, видимо, электричества здесь не было. Зато была печь, на которой стоял огарок свечи, и дрова, аккуратно сложенные возле топки. На полке мы обнаружили пару граненых стаканов, мыло «Красная Москва», спички и забытые женские трусы.
Сняв металлическую крышечку-бескозырку с бутылки, Кирилл разлил водку по стаканам.
– Ну что? За что пьем? – грустно и без энтузиазма произнес он.
Я молчал, будучи не в состоянии выбрать мотив.
Сюда мы добирались почти неделю, включая трое суток на морском вокзале Южно-Сахалинска в ожидании корабля, который был единственным транспортом, связывающим Южно-Сахалинск с Шикотаном. Я думал о нелепости самого факта прибытия на край света и невозможности увидеть загадочный остров, о котором целый год мне рассказывал Кирилл.
Я с нетерпением ждал рассвета. Мне безумно хотелось увидеть этот рай, затерянный в Тихом океане. Но пока я вынужден был сидеть в сырой, провонявшей рыбой бане в ожидании незнакомой мне Люськиной сестры, и придумывать, за что мы должны с Кириллом выпить.
Сестры появились неожиданно и ненадолго.
– Сидите тихо, – предупредила Люся и выбежала вслед за сестрой.
Со двора донесся мужской голос:
– Где вы, суки?! – орал он. – Я вам обоим ноги переломаю!
Звон разбитого стекла, топот пробегающих ног, звон ведра в предбаннике. Потом все стихло.
Мы продолжали сидеть на своих местах, боясь пошевелиться и прислушиваясь к звукам снаружи.
Очевидно, мое знакомство с сестрой Люськи было расстроено ревнивым мужем. Но делиться своими домыслами вслух, и даже шепотом, с Кириллом я не решался, так как тишина могла быть обманчивой. Я молча выпил стакан водки, который до сих пор держал в руках.
Эту ночь мы спали в комнате Люси. Она с Кириллом на высокой кровати. Мне постелили на полу.
Проснулся я от яркого августовского солнца, лучи которого легко пробивались сквозь тюль на окнах. Жужжали мухи, не успевшие прилипнуть к гирляндам коричневых бумажных лент, свисающих с абажура.
Я быстро оделся и, стараясь не разбудить «молодых», вышел на крыльцо. Пейзаж, который открылся перед моими глазами, был фантастичен и в то же время знаком. Он напоминал, скорее всего, кадры фильмов Антониони или картины Тернера. Плотная завеса молочного тумана обволакивала все вокруг: и сопки, и низкие барачные постройки, и, совсем далеко, побережье Тихого океана. Сквозь пелену местами прорывалось солнце. Крабозаводск, так назывался поселок, будто плыл в этом мареве. Он еще не проснулся и от этого казался необитаемым.
Я, не задумываясь, как под гипнозом, пошел по тропинке, ведущей куда-то вниз по направлению к океану. Мне хотелось новой, незнакомой жизни, в которой только я и побережье океана, которого я, кстати, никогда не видел.
Океан показался мне другим, потусторонним миром, похожим на подобие рая. Что сразу потрясло мое воображение, так это эффект коэффициента видимости. Он, этот эффект, заключался в размытости знакомых очертаний, что придавало всему пейзажу налет загадочности и божественности, как при эффекте сфумато. Чем ближе я спускался к побережью, тем больше и больше эффект усиливался.
Я шел по деревянному настилу. Хотелось как можно быстрее ступить на песок. Я не мог объяснить себе тогда возникшее чувство тайного восторга. Думаю, это чувство испытывает ученый перед открытием. Ученый, который годами мучительно пытается найти решение научной проблемы.
В моем случае это была воздушно-туманная пелена, полупрозрачный занавес. Своей светопрозрачностью он будто приглашал меня всматриваться в этот неземной пейзаж.
И вот, наконец, я добрался до побережья и увидел там песок пепельного цвета. Он был усыпан мокрыми водорослями, жестяными ржавыми банками, старыми досками и ящиками, казалось, они пролежали здесь целую вечность. Тут же громоздились остовы ржавых рыбацких шхун. Берег был похож на бесконечное кладбище, тянувшееся далеко-далеко, до линии горизонта.
Сняв кеды и бросив их на песок, я пошел босиком. Иногда останавливаясь, разглядывал причудливые натюрморты, возникающие на песчаном берегу. Казалось, их создала вечность. В их статике была какая-то необъяснимая ясность, естественность и простота. Человек не в состоянии с такой легкой грацией скомпоновать натюрморт. Здесь чувствовалось прикосновение чего-то неземного. Возможно, это было то, что мы называем рукой бога.
Я шел по кладбищенскому побережью, уходя все дальше и дальше от Люськиного дома.
Впереди на сложенных горкой деревянных ящиках сидела группа девушек. Все они были в больших резиновых сапогах, фартуках и чистили рыбу, напевая знакомую песню:
А я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза…Когда я подошел близко к ним, песня умолкла. Девушки почему-то стали задорно смеяться. Я поздоровался, как это принято в деревне, и продолжил свой путь. И уже в спину они вдруг запели частушку:
Художник, художник, художник молодой Нарисуй мне девушку…И я снова услышал смех.
Лицо одной мне показалось очень знакомым. Конечно, это была та, которая там, на Антимирском Совете, спросила меня: «А ты стал художником?»
Может, это мне просто показалось. Откуда они могли знать, что я художник? Может быть, издали они заметили, что я, остановившись, сделал набросок карандашом дохлой рыбы, запутавшейся в водорослях? А может, мои длинные волосы? Впрочем, какая разница.
Я уходил все дальше и дальше по песчаному пляжу, ощущая под ногами упругость песка. Иногда я замечал следы зубчатых покрышек от машин. Видимо, пляж служил и дорогой. Но, пройдя еще час, а то и два, я не встретил ни души. В ушах звучал только шепот незнакомки: «А ты стал художником?»
Глава 8
– Знаешь, в наши дни огромный дефицит на театральных художников, – произнес неожиданно К. на кухне питерской квартиры, которую я снимал на время работы над «Орестеей».
В те дни, когда К. наезжал в Питер, он ночевал у меня. Мы сидели на кухне, К. жарил картошку.
– И, тем не менее, после «Бориса Годунова» к тебе почему-то не выстраивается очередь, – сказал он, перевернув картошку и подливая масла. – Ты знаешь почему?
– Нет, – тихо ответил я, испытывая чувство вины и отвращения к шипящему звуку горящего масла.
– Я, я знаю, – сказал К. и, подтянув резинку на сползающих сатиновых трусах, как ни в чем не бывало пояснил: – Мрачновато. Ты любишь хрустящую или мягонькую, как кашу? – спросил он.
– А для чего ты мне все это говоришь?
– Да ни для чего, просто так, к слову.
А вообще, ты знаешь, меня всего изнутри крутит, когда я долго не трахаюсь. Я становлюсь нервным и злобным. Наверное, это и есть истинная причина. Я ничего не могу с собой поделать.
– Откуда у тебя эта наглость и хамоватость? – спросил я с раздражением. – И почему ты считаешь возможным решать свою проблему за чужой счет? Может, ты хочешь, чтобы я у тебя отсосал? – Я уже совсем терял контроль над собой.
– Что это с тобой? – испуганно и растерянно пробормотал К.
– Ничего… Так, к слову… – уже вычеркивая его из своей жизни, закончил я и ушел в другую комнату.
Какое же количество безумных людей окружает меня, думал я. И все они часть моей жизни. Что это, мой выбор? Или я сам не в состоянии жить среди людей нормальных? А может, нормальные люди просто избегают меня и для них я не представляю никакого интереса? Куда ни плюнь, везде натыкаюсь на особей с явными признаками шизофрении. И чаще всего это люди, которые зациклены на себе. Их эгоизм и амбиции настолько гипертрофированы, что им ничего не стоит жестоко вторгаться в мою жизнь.
Скорее всего, проблема во мне. Я сам, видимо, позволяю им эту роскошь наглости и свободы – лезть ко мне с предложениями и советами, от которых мне, как им кажется, неловко отказаться. И только в редких случаях, когда наглая интервенция уже кажется мне невыносимой, я отвечаю тем же. Мой отпор повергает этих людей в состояние крайнего удивления, почти шока.
Я вспомнил этот случай, лежа в номере отеля и перебирая в памяти персонажей, которые собирались в образ монстра. Хотя все они были разными людьми, тем не менее их объединяло одно и то же качество. Они все считали себя близкими друзьями – и Жерар, и К., и Деза, который был моим другом.
Деза работал в одном из научных центров CNRS, был математиком, занимался проблемой размещения чисел в пространстве. В детстве, если верить его словам, его считали вундеркиндом. Но даже в зрелом возрасте он снабжал академию статьями по поводу размещения этих самых чисел. В просьбе объяснить эту теорию простыми словами он мне отказал:
– Это невозможно, так как ты неподготовлен.
Встречались мы практически каждый вечер в «Клозери де Лила». Из России он уехал довольно давно, женившись на француженке.
Кажется, даже взял ее фамилию, которая звучала как музыкальная нота. И весь его облик романтического героя с вьющимися черными как смоль волосами, спадающими на плечи, напоминал образ поэта или, в крайнем случае, музыканта. Но никак не математика.
Обычно он приходил в «Клозери» довольно рано, чтобы занять столик. Это позволяло ему в часы «пик» подсаживать к себе приглянувшихся девушек, которые по очереди с надеждой обращались к нему в поисках свободного места. Дав согласие, Деза продолжал какое-то время писать в блокноте свою теорию размещения чисел, будто не замечая их присутствия. Иногда он встряхивал головой, убирая черный локон, падающий на глаза, и снова погружался в свою писанину. Деза был необычайно терпелив в своем театральном номере, изображая полное отсутствие интереса к соседке за столиком. Он был настолько убедителен, что девушки первыми шли на контакт, не выдержав такого невнимания.
– Простите за назойливость, но мне очень любопытно, что вы такое пишете?
– C’est personnel, это личное, – не поднимая головы, отвечал он с довольно тяжелым русским акцентом, как бы желая холодной интонацией отрезать все возможные попытки сближения.
В какой момент Деза сменял гнев на милость, сказать было трудно, но это обязательно происходило, когда девушки теряли всякую надежду на успех.
Обычно он одевался в так называемом демократичном стиле: майка, джинсы, иногда какая-нибудь растянутая кофта. Рубашки он не носил принципиально, считая, что они закрывают его довольно длинную шею с четко выраженным кадыком. Пожалуй, тембр его голоса несколько смазывал первое впечатление. У Деза был высокий дискант, как детский голос или тембр кастрата, поэтому, как только он открывал рот, интерес девушек к его романтическому образу мачо несколько ослабевал, а иногда пропадал окончательно и бесповоротно.
Когда соседки по столу просили счет, найдя другую, более дружелюбную компанию, он вдруг отрывался от своей рукописи и довольно агрессивно пищал:
– Вы надеетесь, что я, как мужчина, заплачу за ваш кофе? Не надейтесь! Я такая же женщина, как и вы. Слышите? Я не хочу быть мужчиной. Пусть им будет мой приятель, – он кивал в мою сторону. – Это он любит изображать галантного кавалера!
Девушки второпях испуганно ретировались, многозначительно переглядываясь и повторяя скороговоркой: «Он сумасшедший… Он сумасшедший…»
Оставшись в одиночестве, Деза нервно кусал ногти, возбужденно упрекая меня во всех грехах.
– Да, – говорил он, – ты, Дитин, застрял где-то между Москвой и Парижем. И тебе еще пилить и пилить до Парижа. Ты ярчайший пример провинциального мачо. Посмотри на себя в зеркало, и ты увидишь член, который растет у тебя на лбу. И все это видят, и эти бабы тоже.
– При чем здесь эти бабы? А если ты прав, они бы остались. Ты же сам видишь, с какой скоростью они свалили.
Сверкнув еврейскими круглыми глазами, он вдруг снова пищал:
– Как часто я тебя предупреждал: никогда не ходи со мной. Я же бешеная собака, а с бешеной собакой выходить опасно. Я обязательно кого-нибудь укушу.
Иногда мне казалось, что Деза в самом деле натуральный шизофреник со всеми вытекающими. Но в то же время было видно, что он контролирует все свои номера. И, как часто бывает, я надолго остаюсь с человеком только лишь из соображений любопытства. То есть я пытался все-таки найти объективные доводы в пользу его сумасшествия или, наоборот, склонялся к диагнозу подлеца и хама, решающего свои проблемы за чужой счет.
Он был омерзителен почти во всех своих проявлениях, но я интересовался им как особью, как мухой, как насекомым, ползающим в стеклянной банке. Я, как любопытный ребенок, наблюдал за этим насекомым, которое в какой-то момент перестает быть интересным. Этот интерес гаснет, как только ты начинаешь догадываться о мотивах его поведения.
И ты ставишь окончательный диагноз. Но с Деза было не так просто. Выбор собеседника в среде эмигрантов весьма ограничен, среда же довольно своеобразна и в большинстве провинциальна. Деза с его нервозностью вундеркинда, русского еврея, пытающегося быть французом больше, чем сами французы, ученого-теоретика, существующего наедине только с числами, человека, культивирующего свободу и хамство с таким размахом и безнаказанностью, что оно обезоруживало нормальных людей, не так просто было разгадать. При первой встрече с такими людьми остается только рот открыть от удивления, или ответить им ударом в голову, или, как это делают в той среде, где живут «по понятиям», просто поставить на колени и обоссать. Обычно предлагается вариант «быть выше этого». Мне он всегда давался с трудом. Что же касается Деза, он морочил мне голову своим снобизмом, свободой слова и поведением.
Приветствуя меня и мою случайную спутницу, которую он видел впервые, Деза сразу после обмена приветствиями и знакомства переходил к своему уже порядком надоевшему интервью:
– Простите, – говорил он вежливо, – могу ли я вас спросить, уважаемая? Вы в рот берете?
Женщины, как правило, терялись и вопросительно смотрели на меня, не понимая, как себя вести в подобной ситуации. Возможно, они ждали от меня мужского вмешательства или защиты, но я, чтобы не показаться провинциалом, делал вид, что ничего страшного в этом вопросе нет. Это почти то же самое, как спросить «как вы себя чувствуете» или что-то в этом роде. Поэтому, чтобы хоть как-то лишить его возможности эпатировать, я с улыбкой предлагал ей ответить. Получив от меня поощрительный жест и улыбку, дама отвечала: «Да, а что?» Те, что поразвязней, задавали ему встречный вопрос: «А вы?»
В этом случае он терялся и начинал дергаться в нервных конвульсиях. Ответив утвердительно на его вопрос, одна из моих спутниц даже спросила его участливо:
– А в чем твоя проблема, как тебя, Миша?
– Да нет, ничего, это я просто так.
– А-а, – протянула Лали, так звали русскую даму в широкополой шляпе, усыпанной бумажными цветами.
Вокруг нее крутились две болонки, украшенные бантами и браслетами.
– А то поехали и займемся любовью. Или боишься?
– А как же Дитин? – спросил растерянно Деза.
– А что Дитин? Он с удовольствием посмотрит. Не правда ли, моя рыбка? – Она так называла всех мужчин, включая участников групповухи, все у нее были рыбками, которые хором имели ее по пятницам на партузе «Клеопатра», что был на Порт д’Итали.
– Где ты живешь, как тебя, Мишель? – И, не дождавшись его ответа, спросила, с трудом сдерживая болонок: – Ну, поедешь?
Деза, оторопев от такого напора, вдруг снова спасовал.
– Нет, я уверен, вы доминатриса.
– Ну что ты мелешь? Доминатриса… Ну, допустим, я буду доминировать, – сказала она с доброй улыбкой, – а ты будешь меня иметь. Ну что ты теряешь, Мишенька?
– Нет-нет, я не поеду! – в каком-то исступлении завизжал он. – Не поеду, ты доминатриса!
Она брезгливо посмотрела на него и процедила сквозь зубы:
– Шел бы ты, как тебя, сам знаешь куда. Ну, а ты, моя рыбка, когда мы будем жить вместе?
Я хочу купить для тебя мастерскую. Еще никогда не жила с художником, – почему-то глядя на Деза, мурлыкала она. – Ты думаешь, он согласится?
– Ты грубая провинциальная доминатриса, – продолжал пищать Деза.
Лали молча пошла к «Мерседесу» с открытой крышей, за рулем которого сидел ее муж, толстый ливанец, и укатила в сверкающий огнями город.
Меня всегда занимал вопрос, зачем Деза устраивает такие нелепые интервью? Что это – грубость или вялотекущая шизофрения? Однажды я плюнул на предрассудки и задал ему этот вопрос.
– Мишель, тебе какая разница, что она делает со своим партнером? Зачем ты задаешь такие вопросы практически незнакомым женщинам? Это эпатаж или просто хамство?
И чтобы понять истинный мотив, который тобой двигает, я буду как-нибудь вынужден проделать с тобой один эксперимент. Если ты утверждаешь, что твои вопросы всего лишь тест на интеллектуальную близость, как любишь говорить, «к нам», то, я надеюсь, не обидишься, если я проделаю то же самое, когда ты будешь с женщиной, которой дорожишь. С женщиной, которую любишь, к которой ты привязан. Мне хочется посмотреть, как ты будешь выкручиваться, когда я начну задавать ей подобные вопросы.
– Да ради бога, Дитин. Мы с тобой такие сильные животные, что нас не запугаешь.
– Ну и хорошо, – ответил я. – Тогда тебе нечего бояться. Но, клянусь, я это обязательно с тобой проделаю в момент, когда ты забудешь о своем обещании.
Глава 9
Я стоял у подъезда своего московского дома. Нащупав в кармане бычок, подаренный мне когда-то Сонькой, чиркнул спичкой и закурил. Сонька не интересовала меня – я был влюблен в Нинку, ее подругу. Нинка была чуть старше меня. Наш детский роман начался в день моего рождения, тогда мне исполнилось семь лет. Это случилось летом, и теперь я вспоминаю свой двор, изнывающий от жары и пыли, и себя – мальчика, гоняющего по двору старый и плохо надутый футбольный мяч.
Игра в одиночку всегда вызывала во мне непонятные ощущения ярости, поэтому в своем воображении я представлял себе огромный стадион, трибуны, болельщиков. Я – звезда. Возможно даже Жюст Фонтен, знаменитый французский футболист, наблюдает за моей игрой. Мои дриблинг и скорость позволяют обойти любого, я обладаю такой техникой удара, что ни один вратарь не в состоянии угадать направление полета моего мяча. Особенно я любил «сухой лист» – резаный удар, когда мяч летит по дуге. Это было вершиной моего мастерства.
На ногах у меня стоптанные ботинки, а вместо гетр обычные детские спущенные чулки. Боковыми линиями импровизированного поля служили палисадники, густо заросшие золотыми шарами. Я бегал как угорелый по пыльному двору, изредка нанося свои любимые резаные удары в сторону воображаемых футбольных ворот. И хотя воротами служила зловонная помойка, я старался не думать о таких мелочах.
Я был полностью поглощен игрой, хотя краем глаза уже заметил болельщиков: Нинку, которая появилась в сопровождении Соньки. Девочки сели на длинную лавочку, на которой обычно отдыхали обитатели двора. Появление Нинки еще больше возбудило мое и без того воспаленное воображение. Я сознательно прибавил скорости и, как казалось, артистизма, пытаясь краем глаза наблюдать за ними. Меня интересовало только одно: смотрит ли Нинка на меня? Но девочки занимались совсем другим, они кусочком мела увлеченно рисовали на ногах чулки.
Пробегая мимо них, я бросал быстрый взгляд на Нинку. Она сидела, подняв колени к подбородку, и мне показалось, что на ней даже не было трусиков. Это наблюдение озадачило меня, и я стал на бегу обдумывать наиболее удобный угол зрения, при котором можно разглядеть ту часть тела, которая меня в данный момент интересовала. Поэтому я решил меньше бегать, а уделять больше времени дриблингу. Я останавливался напротив Нинки и отрабатывал всевозможные финты, пристально вглядываясь в ее поднятые и чуть раздвинутые колени.
На улице появилась бабушка Поля.
– Давай, кончай свой футбол, – ласково сказала она мне. – Пойдем-ка домой, ты должен умыться и переодеться. И не забудь пригласить девочек, – добавила она.
Я подошел к Нинке и Соньке, остановился перед ними, засунув руки в карманы и, одной ногой прижав мяч к земле, стал небрежно катать его. Мне казалось, что я выгляжу очень мужественно. Я даже повернул кепку козырьком назад, отметив про себя с сожалением, что не догадался сделать это раньше. Затем сильным ударом я отправил мяч в сторону помойки.
– У меня сегодня день рождения, и я вас приглашаю! – сказал я, провожая взглядом мяч.
Нинка, не меняя позы, подняла на меня глаза и с кокетством взрослой женщины спросила:
– А можно прийти в чулках?
– Конечно! – сказал я, хотя в глубине души не был уверен в адекватной реакции бабушки Поли.
– А губы можно накрасить? – спросила Сонька и засмеялась.
– Я вас жду! – несмело посмотрев на Нинку, бросил я и поплелся за мячом, который одиноко лежал в глубине двора.
В моем детском сознании возникли всевозможные яркие картинки будущего вечера.
Я представил, что танцую с Нинкой, угощаю ее любимыми конфетами «Коровка», и если повезет, то она разрешит мне поцеловать ее в накрашенные губы. Но в тот момент я даже не мог предположить, что Нинка разрешит мне гораздо больше. Она разрешила мне то, о чем я не мог даже и мечтать.
Праздничный стол был накрыт крахмально-белой скатертью. На столе горели свечи. Бабушка Поля в необыкновенном светлом платье из крепдешина. Ей тогда было всего сорок семь. Гладко зачесанные назад волосы, на груди любимая камея с тонко вырезанным профилем красивой женщины. Бабушка Поля надевала ее только в редких торжественных случаях.
Ее образ я запомнил на всю жизнь. Она осталась в моей памяти именно такой, как выглядела в тот вечер.
Окна квартиры распахнуты настежь. Тюлевые занавески от легкого дуновения ветерка вбрасывает в комнату. С улицы слышатся голоса прохожих, гудки троллейбусов и машин. Мы жили на первом этаже, и вся Мещанская, казалось, была участницей моего торжества: родственники, мама – все были непривычно нарядными и праздничными. Я не помнил, чтобы когда-нибудь мы так собирались все вместе.
Я сижу в торце стола рядом бабушкой Полей. На мне выходной импортный костюм американского летчика. Такие вещи получали после войны жены и дети погибших на фронте. Рядом со мной соседские дети: Алик – сын дяди Миши парикмахера, Юрка Решетько, который украл у меня марки, Валерка с тройной фамилией: Барков-Сандуца-Бритов. Это фамилии трех мужей Верки Барковой, его матери. Не было только Нинки и Соньки. Я ждал их появления, нервно поглядывая на дверь. Взрослые сидели на другом конце стола.
Наконец девочки вошли. Я не верил своим глазам. На голове у Нинки была широкополая материнская шляпа с бумажными цветами и черной вуалью с мушками, короткое ситцевое платье в белый горошек. Она пришла босиком, но якобы в белых чулках, которые нарисовала во дворе на пару с Сонькой, маячившей у нее за спиной. Губы у них были ярко накрашены.
– Просим к столу! – мягко улыбаясь, сказала бабушка и усадила девочек по обе стороны от меня. Наклонившись к Нинке, она спросила:
– Ниночка, ты не хочешь снять шляпу?
На что Нинка ответила:
– Бабушка Поля, а можно я так немного посижу?
– Сиди, – вздохнула бабушка Поля.
Я вспоминал этот день всю свою жизнь. Будто кроме этого дня не было других счастливых дней. А может, и в самом деле их не было? Был и торт со свечками, произносились тосты, чуть позже начались танцы. Гости и родственники из комнаты переместились в коридор, правда, часть приглашенных осталась у бабушки. На сундук поставили патефон, и Нинка пригласила меня на танец.
– У меня есть для тебя подарок, – шепнула она мне на ухо, взяла мою руку и вложила в ладонь маленькую плотную бумажку.
Я, продолжая танцевать, раскрыл потную ладонь и увидел фотографию: большие кукольные глаза с огромными, словно наклеенными, ресницами, две торчащие косички с белыми бантами. Нинка была в школьной форме.
– Переверни – попросила она тихо.
Я перевернул карточку, на обороте было написано: «Сегодня твой день рождения и я хочу тебя поцеловать. Нина». Чуть ниже приписка: «Приходи ко мне, когда все лягут спать. Мама на работе».
«Утомленное солнце тихо с морем прощалось…» – пел мужской голос. Мы танцевали танго…
Я смутно различал лица родственников, которые расположились отдельной группой и наблюдали за происходящим. В пыльной и скудной пелене коридорного света они казались мне привидениями. Музыка играла, в памяти всплывали грустные эпизоды, связанные с некоторыми из них.
«Это Яков. Не обращайте внимания на его своеобразные манеры, просто в детстве его сильно били головой о школьную парту, и неоднократно» – так Рахиль представляла Яню, своего брата, новым людям.
Я приходился ему внучатым племянником. Яня был кардиологом, он уверял всех, что изобрел переносной аппарат для измерения давления. Весь день он проводил в беготне от одного пациента к другому, таская с собой небольшой чемоданчик, в котором хранилось его гениальное изобретение. В перерывах между визитами он иногда забегал проведать меня. Тяжело дыша, Яня вбегал в тесную маленькую кухню, отгороженную от комнаты фанерным щитом, и, приподняв крышку кастрюли, нюхал содержимое, затем, брезгливо поморщившись, коротко бросал:
– Поехали в «Прагу», буду тебя кормить.
Эти поездки в ресторан были для меня изнуряющими и мучительными экзекуциями, которые Яня проводил со свойственным ему шизофреническим садизмом. Не успев войти в троллейбус, он прямо от входа начинал рассказывать пассажирам о тяжелом детстве своего племянника.
«Отец погиб на фронте! – громогласно объявлял он. – Мать весь день на работе!» – Яня говорил быстро, захлебываясь собственным негодованием по поводу моего беспризорного детства. «Ребенок предоставлен самому себе. И если бы не я!..» – уже просто орал он. Весь троллейбус с сочувствием смотрел на меня, а Яня продолжал свою зажигательную обличительную речь о тяжелом детстве маленького беспризорника. Протиснувшись к передней двери, он приоткрывал дверцу кабины водителя и, не стесняясь, повторял мою биографию уже ему. Тот в свою очередь испуганно посматривал то на Яню, то на меня в зеркало заднего вида.
– Метро «Арбатская», – объявлял водитель. – Ваша остановка, – с раздражением сообщал он Яне.
Видно, водитель уже много раз слышал эту историю и помнил рассказчика. Но экзекуция еще не была окончена. Уже в «Праге», сдавая пальто, Яня умудрялся проинформировать и гардеробщика о моей печальной жизни без отца.
Во время этих поездок я испытывал страшное чувство стыда за Яню, за себя, за свою мать, – и в то же время у меня появлялось уже знакомое чувство ярости, как при одиночной игре в футбол. Нечто похожее на возмездие или отмщение. Кому надо мстить, я толком не знал. Внутри меня это чувство объединялось в одно понятие – «ОНИ». Еще в своем детском сознании я четко провел границу между «Я» и «ОНИ».
Сидя в ресторане, сквозь слезы я наблюдал, как Яня заглатывал горячую манную кашу. Он обжигал губы, по которым эта каша размазывалась. Мне было жалко его, и я почему-то вспоминал теткину историю, как дядю в школе били головой о парту.
Вся эта картина промелькнула передо мной в долю секунды и снова расплылась в пыльном дыму уставшего от празднества коридора.
Нинка танцевала, прижимаясь ко мне, ее руки лежали на моих плечах, а затем, будто ослабев, падали мне на спину. Она двигалась, привстав на цыпочки, как на пуантах, волосы касались моей щеки, я даже чувствовал ее теплое дыхание. Иногда она тихонько подпевала мелодии танго. Я осторожно вел ее в танце, боясь нарушить состояние покоя и нежности.
Я чувствовал странное и приятное ощущение где-то внизу, там, где касался бедром ее живота, и сквозь тусклый свет лампочки продолжал блуждать отсутствующим взглядом по лицам гостей.
Тетка Рахиль с белым напудренным лицом танцевала со своим новым мужем со странной фамилией Шило. Он был огромным и толстым по сравнению с малюсенькой теткой. Его качало, как на палубе корабля во время шторма.
Он был вдребезги пьян.
Когда мать уезжала, я нередко ночевал у них. Они жили в коммуналке на Маросейке в маленькой комнате. Мне приходилось ездить в свою школу от тетки. Рахиль заворачивала в газету несколько бутербродов и аккуратно засовывала в мой школьный портфель. С чем они были, я не знал, да и не хотел знать. Перед школой я забегал домой и оставлял сверток на столе. Мне было неловко есть бутерброды в школе в присутствии друзей, а тайно жевать их где-нибудь под лестницей и вовсе стыдно.
Моя жизнь у тетки и ее мужа Шило была однообразна и нелепа. Шило возвращался каждый вечер, нагруженный какими-то авоськами и сумками с помидорами, огурцами, арбузами, апельсинами – в зависимости от сезона. Он был ревизором не то овощных баз, не то овощных магазинов.
Тетка накрывала ему стол, он ел отдельно от нас, и его трапеза начиналась с переодевания. Шило снимал свой рабочий костюм, галстук, рубашку – все, что мешало свободе движений, и оставался обычно в исподнем белье. Летом это были длинные черные сатиновые трусы, зимой голубые кальсоны с вытянутыми коленями и носки. Сверху он натягивал ночную байковую рубашку с белыми бельевыми пуговицами. Носки он носил и зимой, и летом.
Тетка говорила, что у него не хватает на ноге пальцев, отмороженных во время Финской войны где-то в окопах линии Маннергейма.
Говоря «Маннергейма», она делала сильное ударение на первое «а», так что слушатели нередко вздрагивали и начинали смотреть на Шило уже как на героя Финской войны, а не на алкаша с овощной базы.
Являлся домой он довольно поздно. Я уже лежал на диване, укрытый одеялом, и повторял про себя строчки стиха, который мне нужно было выучить к завтрашнему дню. «Я из лесу вышел, был сильный мороз…» – повторял я про себя, шевеля губами и с ужасом наблюдая трапезу Шило. Тот имел странную привычку все, что подавалось на стол, смешивать с водкой.
Первый стакан он опрокидывал в тарелку с борщом. Затем, тщательно размешав содержимое тарелки, медленно хлебал, продолжая помешивать.
Второй наполненный стакан он выливал в картофельное пюре с котлетами и тщательно разминал уже вилкой, превращая котлеты в кашеобразную массу, и с видимым наслаждением заглатывал и ее. Оплывшее лицо Шило становилось потным и приобретало свекольный оттенок.
Закончив с котлетами, он переходил к компоту из сухофруктов. Отпив несколько глотков из стакана, чтобы освободить емкость, он уже не совсем уверенной рукой выливал в него оставшуюся водку. Покончив с жидкостью, задрав голову и открыв широко рот, вытрясал из стакана оставшиеся на дне сухофрукты.
Дойти до кровати ему обычно помогала Рахиль, маленькая, почти карлица, с белым от пудры лицом, похожим на маску. Кровать была огромной, она занимала почти половину комнаты. С большим трудом Шило взбирался на нее, а за ним и тетка, предварительно потушив свет.
На какой-то момент в комнате воцарялась гробовая тишина. Но ненадолго. Спустя какое-то время уже сквозь дремоту я слышал скрип пружин, шепот, переходящий в теткины сдавленные стоны, будто ее рот был прикрыт подушкой. Пружины скрипели все громче и яростней. Затем вдруг все затихало.
Я лежал на своем диване и смотрел в окно, освещенное уличным фонарем, в котором мигала вывеска магазина «Мясо». Я думал о Нинке, о матери, уехавшей устраивать свою личную жизнь, о странном чувстве, которому тогда не мог найти название. Скорее всего, это было чувство одиночества. Зарывшись носом в подушку, я иногда плакал, стараясь не слышать надрывного храпа ревизора овощных баз, который разрывал тишину маленькой теткиной комнаты…
Но и эта картина исчезла, мысли мои снова вернулись в коридор к теплому дыханию Нинки, а танец все продолжался, и казалось, что «Утомленное солнце» будет длиться вечно и наш с Нинкой танец не кончится никогда.
Но вдруг она остановилась.
– Я пойду провожу маму, – тихо произнесла она, снимая руки с моих плеч, а затем легко, на цыпочках, как на пуантах убегают со сцены балерины, исчезла в глубине коридора, прошептав: – Я жду тебя!
Спустя какое-то время, пока взрослые были заняты выпивкой и общением между собой, я ускользнул к Нинке. Она ждала меня в белом докторском халате, который принадлежал ее матери, в руках Нинка держала стетоскоп.
– Ложитесь, – серьезно сказала она, указывая мне на диван.
Я покорно лег.
– Я вам помогу раздеться.
Она неторопливо стала снимать с меня летную курточку, расстегивать пуговицы на шортах.
– На что вы жалуетесь? – участливо спросила Нинка, когда я остался совсем голым. – Скажи мне честно, – вдруг перешла она на «ты», – что у тебя болит? – И, не ожидая ответа, стала прослушивать меня стетоскопом.
Мне было приятно и чуть щекотно от прикосновения холодного металла. Она склонилась надо мной. Халат был расстегнут.
Я уставился на ее обнаженное тельце. Теперь я хорошо видел место, которое безуспешно пытался разглядеть во время игры в футбол. Заметив мой взгляд, Нинка тихо сказала:
– Если хочешь, можешь потрогать там.
«Там» я уже не слышал, а прочел по ее губам. И, как во сне, трогал ее, всматриваясь, открывая для себя мир незнакомого мне обнаженного тела.
Нинка, в свою очередь, отложив в сторону стетоскоп, с такой же истовой нежностью и вниманием трогала «там» у меня… с удивлением наблюдая за происходящей метаморфозой.
– Смотри, какой он стал твердый, – трогая «там» детскими пальчиками, с улыбкой проговорила она.
Потом мы, уже отбросив все правила игры в доктора, просто прижались друг к другу и целовались, как взрослые. Я прикусывал кончик ее языка, который она без конца просовывала в мои губы. Я не помнил, сколько времени продолжалась эта игра. Но запомнил спазм, после которого мы заснули обнявшись. Тогда мне казалось, что эта близость между нами на всю жизнь. Но, видимо, и детство, и детские сны проходят.
Уже будучи подростком, возвращаясь довольно поздно домой, я частенько замечал на подоконнике лестничной клетки Нинкину тень, растворяющуюся в тусклом свете парадного при моем приближении. К ней всегда прижималась другая тень. Тени были так близки, что у меня не оставалось сомнений в том, что происходило на подоконнике. Я не видел да и не хотел видеть лиц ее новых «пациентов». Нинка, заметив меня, всегда отстранялась от своего спутника, видимо, испытывая чувство вины перед своим «первым больным». А может, просто жалела меня.
Что чувствовал я сам в эти моменты? Возможно, это была грусть, может, боль или ревность к уходящему от меня детству, которое я бы хотел помнить только при дневном свете, а ночи я бы хотел забыть…
Глава 10
Память – довольно прихотлива и непредсказуема. Она вдруг заставляет вспомнить события давно минувших лет, увидеть прошлое так ясно, как будто все это было только вчера.
Литературная карьера Женьки была серией нескончаемых провалов. Он напоминал упрямого, бесталанного атлета, который изнуряет себя тренировками для взятия тяжелого веса с первого подхода, тогда как его соперники готовятся к этому постепенно.
Он пытался писать роман на производственную тему. В его романе было все: и бригадир, и рабочие, и директор завода, и жена бригадира, и его теща. Прототипом бригадира был Ежов, а мы – бригадой. Володя Манекен выступал в роли ленивого рабочего, не выполнявшего план. Женька дал ему татарскую фамилию Хайрулин. Присутствие татарина в бригаде должно было подчеркивать равенство и братство всех национальностей в СССР. Кирилл был слесарем-сборщиком. И даже для меня нашлось место в бригаде.
Когда Женька читал нам страницы своего эпоса, мы не могли слушать его без улыбки, настолько все это было абсурдно и нелепо. К сожалению, в издательстве не смеялись. Однажды редактор даже швырнул в Женьку его же рукописью со словами: «Как вы смеете давать мне такое читать?» Но Женька не терял надежду. Успех Ежова, Аксенова и Солженицына не давал ему покоя.
Солженицын был его кумиром. Женька нередко с пафосом произносил: «Он страдал, не ел ничего, кроме черного хлеба и молока. Он действительно должен быть гением, чтобы так глубоко понять русскую душу. Россия любит страдальцев, это связано с великой христианской идеей. Жалко, что он не пьет, тогда бы даже простые работяги принимали его за своего. Все эти Евтушенки и Вознесенские – просто малые дети, которые продались слишком рано и слишком дешево. Солженицын значительно более опытный».
Кирилл пытался объяснить ему, что было ошибкой застревать на Солженицыне и что существует другая литература, свободная от за и против, от схематических характеров тех, кто сидит в тюрьме, с одной стороны, и тех, кто их посадил, с другой.
– Ты бы помолчал, Кирилл, ты ничего не понимаешь в этом спорте, – обрезал его Женька.
– Зачем ты пишешь о заводских проблемах, когда даже близко не подходил ни к одному заводу? – провоцировал Женьку Кирилл. – Почему не пишешь о личном: например, о бабах, в душах которых ты разбираешься значительно лучше, чем Александр Исаевич? Твои собственные проблемы не менее важны, чем история русского язычества или христианства.
– Дитин, послушай этого кретина. Я говорю ему о страданиях народа, а он мне о бабах, – возмущался Женька.
Женька жил в своих собственных представлениях, пытаясь взломать сложный механизм советской литературы фомкой и топором. Кирилл был прав насчет баб: с Женькой в этой сфере могли сравниться далеко не все московские писатели. Он был истинным профессионалом. Руководствуясь лишь интуицией, Женька создавал короткие, но невероятные по разнообразию драматические ситуации. Это была единственная возможность занять себя – что-то вроде компенсации за ту естественность, которой не хватало его литературным творениям.
Все Женькины любовные приключения имели в основе сюжеты сказок Гофмана, соединяя в себе парадокс и абсурдность с каким-то диким реализмом. Избыток странных, трогательных деталей и в то же время легкое безразличие героя делали его истории очень убедительными. Как правило, они начинались со встречи прямо на улице. Женька всегда тщательно, до последней детали, описывал, что носили героини его историй: зимой это была обычно каракулевая шубка, бриллиантовые сережки и дорогие кольца на длинных тонких пальцах.
Он подходил к даме, участливо спрашивал, почему она печальна, и намекал на свое одиночество. Женька всегда говорил довольно банальные слова и клялся, что они лучше всего действуют на женщин. Не щадя себя, он представлялся профессиональным сутенером, умоляя, чтобы она не слушала его, никчемного человека, благодарил ее за великодушие и изъявлял готовность целовать ноги за мгновенное счастье, которое она ему подарила, выслушав его.
– Я смотрю в ваши глаза, в них так много доброты! Я знаю, вы не должны испытывать ко мне никаких чувств. Я умоляю вас, уйдите.
Поверьте мне, я конченый человек, а вы – богиня. Не делайте меня еще более жалким, уходите! – умолял Женька.
Когда дама пыталась уйти, он останавливал ее:
– Подождите! Это невыносимо, это против божьей воли! Оставьте мне хоть каплю надежды, скажите, что мы еще встретимся. Возможно, это произойдет в другой жизни. Это не обязывает вас ни к чему. Я прошу вас, просто оставьте мне надежду вновь увидеть вас.
Я солгал, я не сутенер. Я сразу понял, что вы ангел, но побоялся подойти к вам.
Не давая незнакомке опомниться и не обращая внимания на прохожих, он, как правило, падал на колени. Женька исполнял свой номер на одном дыхании. Женщина умоляла его встать, говорила, что люди вокруг смотрят.
– Нет-нет, вы просто обязаны дать мне надежду, иначе я не сдвинусь с места! Те, кто смотрит на нас, – пусть смотрят. Все равно они не поймут, что бог дал им счастливое мгновение видеть вас.
Согласитесь, что такой персонаж не мог не рождать самые неожиданные мысли. Ей трудно было представить, что перед ней на коленях пройдоха и мерзавец. Она ведь видела бродяг в метро, на улицах: грязно одетых, с бессмысленными тупыми лицами, а Женька даже отдаленно не походил на бродягу. Высокий, в пальто из ратина цвета горчицы, открытое интеллигентное лицо, длинные, аккуратно расчесанные на пробор волосы, и легкая седина лишь добавляла благородства его образу. Эксцентричная манера общения только подчеркивала его незаурядность. Возможно, он имел отношение к искусству. Вероятнее всего, у него были проблемы личного характера. Короче, он мог быть кем угодно, только не бродягой. Получив телефонный номер, Женька обещал не докучать ей звонками:
– Я позвоню вам только в крайнем случае, когда мне будет невыносимо плохо без вас, – добавлял он после короткой паузы.
Возбужденный, Женька потом приходил ко мне в мастерскую:
– Надо же, как я обработал ее! Но это только начало истории, ни она, ни я еще не знаем, что будет дальше. Знаешь, Дитин, я подожду немного. Пусть она думает, что я позвоню ей завтра. Но я не смогу встретиться с ней ни сегодня, ни завтра, потому что у Леночки, моей жены, выходной. Посмотрим, что будет. Кроме того, у меня нет денег, а для начала нужно хотя бы рублей пять. – И он пускался в скучные размышления о том, как и где добыть денег.
Через неделю я узнавал последние новости.
Выяснялось, что незнакомка оказалась женой известного поэта. Женька встретил ее у метро «Кировская» и пригласил к себе. Он рассказал ей о своих голубях, которые были как люди, и каждый имел человеческое имя. Одну голубку он назвал Региной по имени женщины, в которую был безумно влюблен давным-давно.
– Старичок, я сходил с ума от беспокойства по нескольким причинам. Папильотка (так он называл свою жену) почувствовала, что что-то происходит, и спрятала все мое чистое белье. Я не мог себе представить, что буду делать, если дело дойдет до… Я нагрузил незнакомку таким количеством загадочного в нашу первую встречу, что, по правде говоря, не ожидал, что она согласится пойти ко мне. Я поцеловал ей руку и почувствовал запах французских духов на губах. Старик, можно сойти с ума от этого запаха. Это было что-то вне человеческого понимания, метафизика. Меня так терзало желание, что я не мог смотреть ей в глаза. «Ты говоришь, у тебя есть голуби, это интересно. Я хочу посмотреть, как ты живешь!» – сказала она.
И тогда я почувствовал всю сложность ситуации, связанную с моими трусами. Пока мы шли по Кировской, я продумывал все возможные варианты. Я вешал ей лапшу на уши о своем одиночестве, нес какое-то дерьмо из Монтеня, а сам думал, как быть с трусами. Когда мы поднимались по лестнице, я уже знал, что делать. Озарение возникло неожиданно… Войдя в комнату, она начала осматриваться и разглядывать вещи с каким-то неестественным интересом. Потом пошла к голубям. Я проскользнул в другую комнату, снял трусы и забросил их под кровать. Я сидел на койке и ждал, страх мурашками бегал по моему телу: только не дать ей убежать сразу… Затем все случилось так, будто было не со мной. Она говорила мне что-то, но я, не слушая, целовал ее волосы, глаза, шубу, и, полностью окруженный тьмой, с головой зарылся в ее задравшуюся юбку…
Женька рассказывал медленно, вытаскивая подробности из памяти. Детали делали рассказ более правдоподобным:
– У нее феноменальная кожа, Дитин! В ней было безупречно все…
* * *
Московские дворы похожи на низкие колодцы. Когда-то эти дворы по вечерам были освещены всего лишь одним фонарем. Тусклый свет окон только добавлял ночной тьме густоты. Осыпавшаяся листва, мусор, рваные газеты перемешивались ветром. У входа в подворотню вы могли бы встретить подростков в нагуталиненных сапогах в гармошку, черных бушлатах с воротниками в стиле Марии Стюарт, белых шелковых кашне и, непременно, с тлеющими сигаретами в зубах. Их воротники всегда были высоко подняты, как бы защищая от морских штормов и ветра. Асфальт вокруг ребят был заплеван. Иногда гитары тихо сопровождали их надрывные песни о тяжелой лагерной жизни. Исполнителям было лет по шестнадцать, но они пели так, будто каждый имел за плечами двадцать лет одиночного заключения.
Куда они делись, эти дворы? Появились песочницы и качели, и только наполненные доверху мусорные баки остались стоять у кирпичных стен, на которых начертано мелом: «Здесь бывал Ленин в 1916 году».
Во дворе можно было встретить старика, согнувшегося под тяжестью сумок, висящих на нем. Лямки грязных сумок перекрещивались на его спине, как пулеметные ленты. Сумки были полны пустыми стеклянными бутылками, тряпками, коробками, куклами с оторванными руками и застывшими улыбками.
Лицо старика, расплывшееся в тонкой всеведущей улыбке, покоилось на огромной длинной тряпке, намотанной на шее и доходящей почти до земли. Медленно исследуя при помощи палки мусорный бак, старик вылавливал из вонючей глубины драгоценности: драные чулки, кружки, пустые флакончики из-под духов. Он вытирал свои находки концом шарфа и осторожно находил им место в одной из сумок. Его ноги на роликовых коньках тоже были обвязаны тряпками. Старик медленно нарезал круги по Кировской и улице Мархлевского, исследуя мусорные баки посохом. Они с Женькой тепло, как старые друзья, приветствовали друг друга, когда бы ни встретились: Женька, демонстрируя элегантность и восхищение окружающим миром, старик более сдержанно, приподнимая край шляпы посохом.
– Vos hert sikh, Моисей? Что нового, Моисей? – приветствовал его Женька.
– Me golt zikh, me shert zikh. Стрижем и бреем, – отвечал Моисей шелковистым усталым баритоном.
В ответ на Женькино предложение прокатиться Моисей протягивал ему руку с короткими, похожими на крючки пальцами в перчатках с отрезанными кончиками. Женька в расстегнутом пальто набирал скорость и бежал вниз по Кировской, таща Моисея за руку. Тот скользил позади него.
Ветер гнал обрывки газет, брошенных в сточную канаву. Улица была пуста, как проселочная дорога ночью. Только Женька и Моисей рука об руку в своем полете были вне времени. Разогнавшись, Женька резко толкал вперед по улице сгорбленную фигуру Моисея, который выглядел как большой тряпичный сверток. Женька останавливался, вглядываясь в исчезающую тень старика. Моисей с раскинутыми для равновесия руками гладко катился вниз по Кировской, тарахтя по асфальту колесами роликов.
Глава 11
Коридор опустел и вдруг погрузился в еще более сгустившуюся темноту. И патефон, и пластинка, которую заело на слове «прощалось». Будто стены шкафов и сундуки покрылись инеем. На сундуке остался сидеть только дед Мячин. Он молча курил «Беломор», тихо бормоча свое сакраментальное приветствие:
– Ну что, хулиганье, холястые мошенники…
Снова послышался знакомый звук скребущей лопаты, ясно свидетельствующий о моем пребывании в сонном мире. Я подумал – это хорошо, что теперь я уже не лежу обессиленный в постели и начинаю потихоньку осваиваться в новом для себя мире.
В узкой части коридора Лука соскребал снег с пола. За его спиной виднелась группа людей, похожая на процессию, впереди которой двигался он, как бы расчищая дорогу. В этой группе я сразу увидел Митю. Он был без шапки, его седые волосы присыпал снег. Рядом с ним я приметил свою мать, бабушку Полю, Яню, Рахиль, которая поддерживала покачивающегося пьяного Шило. Сзади них маячила фигура Закуренова. Толян почему-то был в школьном сером кителе с позолоченными пуговицами.
Людей было так много, что мне стало непонятно, как они собираются разместиться в нашем относительно небольшом коридоре. Некоторых я не мог вспомнить. Входя в широкую часть коридора, они рассаживались на сундуках, кто-то нес с собой стулья и, войдя в пространство коридора, садился на них. Казалось странным, что люди это делали молча, не произнося ни единого звука. Отстраненные лица собравшихся не выражали абсолютно никаких эмоций. Больше всего меня удивило появление девушки, которую я недавно видел в парижском кафе «La Palette», ту, что назвала себя «душой, пролетавшей над городом». Рядом с ней я заметил молодую женщину. Они были чем-то похожи друг на друга, как могут быть похожи только сестры или мать и дочь. Женщины были даже одеты одинаково.
Люди все прибывали и прибывали. Блуждая взглядом по лицам, я вспоминал уже давно выпавших из памяти персонажей. Тут были мои школьные друзья, а иногда парижские знакомые, с которыми я работал на протяжении многих лет, галерейщики из Нью-Йорка. Меня охватила паника, неужели они – это моя жизнь?
На сундуке рядом с дедом Мячиным притулилась Нинка в том же одеянии – без ботинок, с нарисованными белыми чулками и в материнской шляпе с бумажными цветами. Рядом с ней стояла Сонька с окурком в руке.
– А вы что тут делаете? – спросил я Нинку, но та не ответила, как будто не видела меня. Она достала из кармана юбки в белый горошек маленькое зеркальце и начала подкрашивать губы.
А Сонька молча протянула мне окурок. В поисках ответа я перевел взгляд на Митю. Митя тоже сидел на сундуке, прислонившись спиной к дверце шкафа, и сосал сахар.
– Что это значит? – спросил я.
– Совет, – улыбаясь, прошептал Митя. – Я же тебя предупреждал!
– Но почему их так много?
– Зрители… – с легкой иронией пояснил Митя. И добавил уже серьезно, причмокнув: – Без права голоса.
Он полез в карман пиджака, похожего на балахон, и долго в нем копался. Я подумал, что он ищет очередной кусок сахара, но ошибся.
У Мити в руках появился колокольчик. Он поднял руку с колокольчиком высоко над головой и начал звенеть им. Звука почему-то не было.
– Начнем! – обводя взглядом собравшуюся толпу, произнес он.
Все молча опустили головы в знак согласия и захлопали, но хлопки тоже были беззвучны. «Как в немом кино», – мелькнуло у меня в голове.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил Митя и через длинную паузу добавил: – Здесь, с нами?
Я стоял в центре коридора, блуждая взглядом по знакомым и полузабытым лицам, пытаясь подобрать слова. Мне хотелось найти естественную интонацию. И совсем не потому, что я хотел произвести на собравшихся впечатление, совсем нет. Я вдруг почувствовал необыкновенно щемящую грусть и нежность к близким и изгладившимся из памяти людям. Вернее, к их душам. Было ясно, что вся моя жизнь так или иначе была связана с ними, да и я сам в этот момент состоял из мельчайших частиц собравшихся здесь душ-людей. Кому-то я, может, что-то не досказал, кого-то не долюбил, мимо кого-то прошел, не заметив их боли. В душе неожиданно всколыхнулось незнакомое до этого чувство глубокой изнуряющей скорби-вины по отношению к ним.
Конечно, я и раньше чувствовал себя виноватым. Но то была совсем другая вина, мимолетная, быстропроходящая. Она не терзала меня так сильно, и я всегда находил себе оправдание. Но теперь, здесь, она будто пронзила мое тело и разум. Я с нервной торопливостью попытался понять, почему я чувствую ее так сильно, стараясь вернуться к спасительному Я и ОНИ. Но почему-то сейчас это не помогало.
– Как ты себя чувствуешь здесь? – услышал я снова прозвучавший как далекое эхо голос Мити.
Я обвел глазами собравшихся и, превозмогая неловкость и страх, которые обычно испытывал в моменты откровения, тихо сказал:
– Я чувствую себя как дома. Вы все для меня близкие и родные души. Конечно, я не совсем еще понимаю, где это «здесь», но где бы то ни было, я хочу быть с вами. Безусловно, хотелось бы знать, кто я для вас? Но по большому счету, мне гораздо важнее понять, кто вы для меня? И теперь, стоя в коридоре, где прошло все мое детство, я вдруг это ясно и отчетливо понял. Вы… – это Я, и я не хочу другого Я…
Я видел, как собравшиеся захлопали, но аплодисментов не услышал. Митя снова достал свой колокольчик и беззвучно прозвенел им.
– Мне, как председателю, необходимо собрать мнения членов Совета по поводу диагноза нашего выступившего друга, – произнес Митя.
Я увидел, как ему начали передавать листочки бумаги. Собрав записки, Митя довольно долго их изучал, затем, попросив у деда Мячина коробок спичек, начал медленно, одну за другой сжигать бумажки. Поднявшись с сундука, он обвел взглядом собравшихся и произнес:
– Дело в том, что мнения членов Совета разделились пополам. Одни считают его мертвым, другие живым. Поэтому я, как председатель, беру на себя право окончательного решения. В связи с этим предлагаю вам не торопиться с выводами, а оставить его у нас на какое-то время для установления окончательного диагноза…
Снова раздались беззвучные аплодисменты. Закончив свою речь, Митя сел на сундук и, подмигнув мне, достал новый кусочек сахара, сунул его в рот и добавил:
– Если у кого-то из членов Совета есть вопросы к прибывшему, прошу не стесняться!
В коридоре возникла идеальная тишина, было ощущение, что я нахожусь в вакууме, будто из помещения был выкачан воздух.
Я с любопытством и даже нетерпением ждал вопросов. Я пытался рассмотреть лица людей и снова остановился на Незнакомке или, как я называл ее про себя, «летающей душе». Впрочем, меня даже больше заинтересовала та, что стояла рядом с ней. Наши взгляды встретились, обе, не отрываясь, смотрели на меня, а я мучительно пытался вспомнить, где… где же я их видел?..
Вдруг та, что постарше, встала и, шагнув вперед, тихо, почти шепотом спросила, не отрывая глаз от меня:
– Ты стал художником?
И тут я заметил, что все столпившиеся в коридоре, медленно, как при съемке рапидом, потянулись к выходу. Лука с лопатой, Закуренов, Сонька с окурком и Нинка, которая, спрыгнув с сундука, помахала мне рукой.
– Я тебя жду? – сказала-спросила она, уходя, и скрылась за дверью, на которой висел список жильцов.
Закуренов вдруг вернулся.
– Я на минуту. Скажи, ты не встречал Вальку, мою сестру? Как она там?
Я вспомнил, что видел Вальку один раз, случайно, в магазине «Армения» на Тверской, когда покупал сыр.
«Дитин, ты не узнаешь меня? – услышал я голос из-за прилавка. – Я Валька, сестра Толяна, помнишь? Работаю здесь продавщицей в отделе сыров…» Как я мог помнить ее, когда прошло, может, лет двадцать? Последний раз я видел Вальку маленькой девочкой. «Как Толян?» – сказал я, не зная, что спросить. – «Спился, женился, снова спился», – тяжело вздохнув, ответила она. – «А отец, ну, дядя Вася?» – «А-а… – с грустью протянула Валька. – Дядя Вася, слава богу, умер, царство ему небесное. Ты помнишь, как он нас бил, и меня и Толяна? Ты бы зашел еще, пошли бы куда-нибудь, выпили, вспомнили старое. Ты ведь, небось, не знаешь, я была влюблена в тебя, об этом никто не знал: ни Толян, ни мама, ни отец… Зайдешь?» – «Зайду», – пообещал я, но больше никогда ее не видел.
– Так ты встречал Вальку или нет? – снова спросил Закуренов.
– Толян, это было так давно, что я уж не помню, – ответил я. – А ты сам-то как?
– Ништяк, как видишь, – отмахнулся Закуренов. И увидев проходивших мимо двух галерейщиков из Нью-Йорка, произнес свою любимую поговорку: – Вишь, пошли два сахара: говно и редька! – достал из кармана школьного кителя круглое зеркальце и, поправив прическу, начал проталкиваться к выходу. – Увидимся! – бросил он мне на прощанье.
Я посмотрел ему вслед. Между вопросом: «Ты стал художником?» и беседой с Закуреновым, казалось, прошла вечность, и я решил, что женщина, задавшая вопрос, уже устала ждать моего ответа и ушла. Но это было не так. Она как будто застыла, ожидая меня, зябко пряча руки в карманы телогрейки, прозрачная, как тень.
* * *
Я стоял на лестничной площадке перед огромной обшарпанной дверью и сжимал в руках конверт с деньгами. В ушах все еще звучали слова матери:
– Я тебя очень прошу, передай это Вере Яковлевне. Семен Абрамович Шицгал заверил меня, что она лучший педагог в городе. Ты знаешь, как тяжело достаются мне деньги.
Семен Абрамович жил в нашем доме на втором этаже. Он был не то любовником, не то мужем приятельницы матери. Кроме того, ходили слухи, что он один из выдающихся создателей шрифтов в истории полиграфии. Мать обратилась к нему за помощью, так как никого другого она не знала.
Я пытался поступить в Строгановку, но даже не был допущен к экзамену. Мать расценила это как несправедливость и была уверена, что здесь не обошлось без происков антисемитов. На самом деле я не мог представить экзаменационной комиссии ни рисунков, ни акварелей, которые были необходимы как доказательство моей увлеченности изобразительным искусством. Но так как увлеченности не было, то не было и доказательств.
Правда, за неделю до экзаменов я попытался скопировать пейзаж, висевший на стене нашей комнаты. Это была картинка из художественного салона с изображением проселочной дороги и какого-то дерева. Я даже сделал попытку нарисовать натюрморт, изобразив жгуче-синюю чашку с золотым орнаментом. И пейзаж, и натюрморт произвели на мать огромное впечатление, но, судя по всему, экзаменационная комиссия не разделяла материнского восторга.
И вот теперь я стоял перед дверью Веры Яковлевны. Дверь открыла женщина в платье, похожем на школьную форму с засаленным фартуком. Из глубины квартиры доносилась музыка, явно не советская. Пели на каком-то иностранном языке.
Я торопливо избавился от конверта, который жег мне руки, и почувствовал себя немного свободней.
Вера Яковлевна пригласила меня войти. Пройдя по коридору, я увидел две малюсенькие комнаты, уставленные мольбертами, за которыми сидели ученики. Их было так много, что я удивился, как они помещались в таком маленьком пространстве.
На белых листах бумаги, приколотых кнопками, я разглядел угольно-пыльные изображения каких-то монстров, исчерченных прямыми линиями, за которыми угадывались глаза, губы, уши. Вера Яковлевна с трудом нашла свободное место для меня, втиснув между мольбертами, и представила своим ученикам. Все с любопытством уставились на меня. Я, в свою очередь, поразился их внешнему виду – все были одеты как-то непривычно опрятно. Видимо, решил я, ученики Веры Яковлевны из так называемых «приличных» семей.
Ученики перебрасывались между собой фразами, половину слов из которых я просто не понимал. Иногда речь шла о каких-то абонементах в консерваторию, изредка проскакивали иностранные имена: Ив Монтан, Шарль Трене, Азнавур.
– Что вы хотите послушать? – спрашивала Вера Яковлевна.
– Азнавура, – требовали они.
Я сидел за мольбертом. На мне был потертый пиджак, белый шелковый шарф, переделанный из материнского платка. Он как бы подчеркивал мою принадлежность к миру блатных. Золотую фиксу я снял и спрятал в карман, чтобы уж совсем не шокировать незнакомых людей. Но, к сожалению, белые носки спрятать не смог и чувствовал себя не в своей тарелке.
Вера Яковлевна поставила коробку с палочками угля на полку мольберта и приколола кнопками белый лист ватмана. От нее слегка тянуло потом. Чуть отойдя в сторону, она указала мне на объект, который я должен был рисовать, – гипсовую маску Лаокоона.
Тогда впервые я услышал от Веры Яковлевны о линиях построения, о том, что подбородок – это перевернутый таз, нос – трапеция. Я с трудом врубался в ее теорию основ рисования, думая о нелепости угольно-черных, похожих на измазанные гуталином рисунков.
Мне казалось, что все вокруг меня слепые. Неужели они не видят серебристо-серых и прозрачных теней на белоснежном гипсе? У меня созрел четкий план, следуя которому я в следующий раз принесу жесткие карандаши и попытаюсь воспроизвести серебристые тени на рисунке.
В какой-то момент мне стало настолько невыносимо находиться в этом питомнике незнакомых чужих людей, что захотелось убежать. Я вдруг решил, что никогда не пойму ни значения, ни смысла линий построения, «перевернутых тазов» вместо человеческих подбородков.
Я украдкой пытался подглядывать за уверенными движениями угольных палочек и черных карандашей в руках учеников, желая запомнить жест, не вдумываясь ни в смысл, ни в его логику. Возможно, если соблюдать эту манеру академического рисования, рисунок, в конце концов, получается сам собой. Не случайно же они, как роботы, чертят линии построения, которые уже невозможно вытравить кислотой. Навязчивое присутствие линий как раз подчеркивает тот факт, что мы имеем дело с профессионалами, прошедшими серьезную школу.
Размышляя на тему мимикрии, я механически продолжал тушевать и растирать тень. Та никак не становилась воздушной, но я упрямо тер ее ластиком, покрывая снова и снова слоем графита, надеясь преодолеть сопротивление материала.
Уже гораздо позже, в сознательном возрасте, приобретя некоторый опыт, я назову это переводом одной субстанции, в данном случае графита, в другую – глубокую прозрачную тень на белоснежном гипсе.
Мой творческий экстаз был прерван появлением возле моего мольберта Веры Яковлевны. Отколов кнопки, она взяла мой рисунок и подняла высоко над головой.
– Прошу вашего внимания! – произнесла она громко. – Вот перед вами наглядный пример того, как не надо рисовать. Как вас зовут? Встаньте.
Я поднялся. На меня смотрели глаза, много глаз. В одних читалось сожаление, в других – ирония, в каких-то – праздное любопытство.
– Обратите внимание, он не успел даже провести линий построения. Ни осевой, ни линий, определяющих ракурс, а уже занялся тушевкой теней… – И приколов снова рисунок, Вера Яковлевна взяла уголь и начала неистово чертить.
Я видел ее толстые пальцы, испачканные углем, ощущал запах ее пота, затылком чувствовал мякоть ее живота. Мне стало душно, к горлу подступила тошнота, и снова пришла мысль о побеге. Но, вспомнив конверт и мамину фразу: «Ты знаешь, как тяжело достаются мне деньги», я взял себя в руки.
Моя соседка, дождавшись ухода Веры Яковлевны, неожиданно наклонилась ко мне:
– Меня зовут Ира Колтунова. А тебя?
У нее были красивые серые с поволокой глаза и пухлые крупные губы. Я хотел ответить, но она тут же, не дожидаясь, спросила:
– А почему ты вдруг решил стать художником?
В ее интонации я почувствовал то ли грустную иронию, то ли сожаление по поводу моего явно неудачного выбора.
– Не знаю, – сдерживая слезы, ответил я.
В тот момент я вдруг решил стать художником, чего бы мне это ни стоило.
Я механически продолжал водить карандашом по бумаге, рисуя в голове картину своего великого будущего. Я видел себя в ореоле славы и успеха в огромной мастерской, заставленной мольбертами и картинами, а она, Ира Колтунова, словно восторженная и влюбленная просительница, стоит на пороге, робко желая прикоснуться к своей мечте, к своему кумиру. Дрожащим голосом она произносит:
– Для вас я готова на все, и простите меня за те слова, что я по глупости произнесла тогда у Веры Яковлевны.
Я делаю вид, что не понимаю, о чем она говорит.
– Какие еще слова? Я что-то не припомню.
– Как вы великодушны, что не помните зла! Что вы хотите, чтобы я сделала для вас? – спрашивает Колтунова.
– Раздевайся, – говорю я ей, небрежно переходя на «ты». – Ложись и жди, – указываю на дверь спальни. – А я закончу с лессировкой и приду, а то краска сохнет.
– Как, совсем? – спросит Колтунова.
– Совсем, – отвечу я, уже не глядя на нее, продолжая лессировать холст серебряной краской.
– Дитин, вы в состоянии воспринимать то, что вам говорит педагог? – Голос Веры Яковлевны прервал мои фантазии. – И не просто какой-то педагог. Вы знаете, что я ученица Павла Чистякова? Вернее, Дмитрия Кардовского, но так как Кардовский учился у Чистякова, то я вправе считать себя ученицей Чистякова. Вы знаете, что Чистяков мог нарисовать фигуру человека, начиная с большого пальца ноги?
– Нет, – растерянно промямлил я.
– Так вот, знайте. И у меня большая просьба: отнеситесь к моим словам серьезно. Мне не надо вашего доморощенного творчества. Думайте, сравнивайте. Масштаб, расстояние между надбровными дугами, ракурс. Я имею в виду поворот и наклон головы. А вы то ли рисуете, то ли спите… – И, обдав меня облаком пота, исчезла в глубине комнаты за мольбертами, гипсовыми головами и масками греческих богов.
– Ты пойдешь со мной на Гилельса в среду? – шепотом спросила Колтунова.
– Пойду, – ответил я автоматически, хотя кто такой Гилельс, я тогда не знал.
– Билет я тебе достану.
– А себе?
– А у меня абонемент, – ответила она не без гордости.
В конце занятий Вера Яковлевна, сняв с проигрывателя пластинку Ива Монтана, попросила тишины. Она решила рассказать еще одну историю о своем легендарном учителе. История показалась мне почти нереальной, как будто из области мифов. Якобы почти все, желающие поступить в академию художеств, хотели учиться только в классе Чистякова. Но попасть к нему было очень трудно. Обычно все готовились к экзамену, рисуя обнаженную натуру или гипс, но, придя к нему, обнаруживали, что в классе нет ни натурщицы, ни голов, ни масок. Чистяков на глазах изумленных абитуриентов брал лист белой бумаги, или просто промокашку, мял в кулаке, и потом небрежно бросал на стол. «Рисуйте! А я посмотрю, на что вы способны».
Рассказывая это, Вера Яковлевна почему-то посматривала на меня. Я чувствовал в ее голосе мстительные нотки. Я чем-то раздражал ее. Будто она вызывала меня на дуэль.
После занятий я решил пойти домой пешком по заснеженной Москве. Вспомнив про золотую фиксу, достал ее из кармана, надел на зуб и снова почувствовал себя спокойно и уверенно. Видимо, улица была чем-то более реальным и знакомым. Мятые водосточные трубы, которые встречались на моем пути, действительно были интереснее как художественный объект, чем маски греческих богов. Теперь, разглядывая их неровности, я начинал верить в правдоподобность истории, рассказанной Верой Яковлевной. Я даже представлял себе линии построения, которые должны были проходить в местах помятостей. Всматриваясь в грязный, посыпанный солью снег, я пытался представить, как нарисовать его.
Но моя увлеченность изобразительным искусством по пути к дому продлилась недолго. Чем ближе я подходил к Мещанской, тем быстрее мои мысли возвращались к завтрашней игре в футбол.
В футбол мы играли во дворе Склифа каждую субботу, даже зимой. У нас проходили футбольные сражения на деньги. Играли на небольшом пустыре между обитыми железом гаражами. Соревнования проходили по олимпийской системе – на вылет.
Команды состояли из трех человек. С каждого члена команды причитался рубль, поэтому каждая команда при условии выигрыша получала от проигравшей три рубля, а затем продолжала свой победный путь до тех пор, пока другая более сильная команда не вышибет ее из игры.
Никаких возрастных или социальных ограничений не существовало. В команде были и взрослые мужики, и подростки, и блатные, просто работяги, даже глухонемые. Не было только слепых и инвалидов. Наш микростадион собирал довольно большое количество зрителей. Они в свою очередь могли заключать пари на ту или иную команду.
Короче, деньги делали это мероприятие довольно популярным.
Для меня, Закуренова и Петракова два дня игры в футбол почти всегда давали возможность заработать карманные деньги.
Это был бой без правил. За рубль тебя могли просто убить. Били по ногам и брали на бедро, как в хоккее, бросая противника на железную обивку гаражей. Особо свирепыми считались глухонемые. С чем это было связано, понять невозможно. Может, у них было что-то с психикой, а может, значение имели деньги. Но, как бы то ни было, пройти их было труднее, чем таксистов или блатных.
Наша команда играла по схеме 1+2. Другими словами, Петраков брал на себя функции либеро, оттягиваясь чуть назад, ближе к воротам. Роль ворот исполняли два мусорных бака. Расстояние между ними было не больше трех метров.
Каждый из членов нашей команды обладал виртуозной техникой, скоростью и бесстрашием на грани безумия. Тщательнее всех к побоищу готовился Закуренов. Он без конца экспериментировал с подошвами ботинок, наклеивая на них всевозможные материалы: то наждачную бумагу, то металлическую терку. Он все время старался преуменьшить эффект скольжения. Но, видимо, наука сопромата давалась ему с большим трудом. Все, что он прибивал и клеил, отскакивало в первые пять минут игры, и он продолжал бегать, прихрамывая на одну ногу, если наклейка слетала с одной подошвы. Он даже пробовал обматывать ботинки вымазанной в гудроне веревкой. От этого его спортивная обувь приобретала вид водолазных башмаков. Короче, инженерная мысль Закуренова не умирала. Он придумал щитки из валенок, отрезав сапожным ножом нужную часть, просовывал в оставшуюся ноги и заматывал всю эту хитрую конструкцию ремнями. Но обязательно что-то не срабатывало. Развязывались ремни, или он просто не мог легко и свободно бегать, путаясь в самодельных щитках-валенках. Единственный положительный эффект всех изобретений заключался в устрашающем виде этих бутсов-вездеходов. Поначалу его даже побаивались, но, привыкнув к виду его обуви, били так же, как и меня с Петраковым.
Петраков, помимо технических данных, обладал другими редкими качествами – терпением и спокойствием.
Кстати, именно они использовались в классе на всех уроках, независимо от предмета.
Как только выяснялось, что практически никто не подготовил домашнее задание, все хором умоляли Петрака спасти ситуацию, то есть добровольно вызваться к доске. Петрак упорно тянул руку на фоне угрюмых и прячущих глаза одноклассников. Педагогу ничего не оставалось, как вызвать к доске именно его, поскольку это был единственный доброволец.
Выйдя к доске, Петраков произносил медленно и с выражением, почти в экстазе, первую фразу:
– Все мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин был, да и теперь является, великим русским поэтом. Родился он в семье… – Он вдруг останавливался на полуслове, будто что-то забыл и пытается вспомнить.
– Ну, Петраков, продолжайте.
– Щас. Я немного волнуюсь, – как бы извиняясь, говорил он.
Весь класс, затаив дыхание, отсчитывал минуты молчания и с нетерпением ждал спасительного звонка…
– У него был еще брат Борис Сергеевич.
– И… – теряла терпение Мария Николаевна. – Петраков, что вы тянете? Дальше!
– У них были хорошие отношения, – продолжал Петраков, – можно сказать, дружеские.
Затем длинная пауза.
– Петраков, я поставлю вам двойку… Что вы тянете? Дальше.
– Мария Николаевна, простите, но я очень волнуюсь. Щас. Сейчас просто не знаю, как перейти к его поэзии. Хотя с уверенностью могу сказать, что Александр Сергеевич был увлечен исторической драмой. Ну, например, он написал «Борис Годунов».
Опять длинная пауза.
– Ну, и кем был Борис Годунов, вы знаете? – опять с нетерпением спрашивала Мария Николаевна.
– Конечно. – Снова пауза.
– Петрак, тяни время, – слышался шепот откуда-то с задней парты.
– Ну кто, Петраков?
– По-моему, он убил какого-то младенца.
– Правильно, но, тем не менее, кем он был, Петраков?
Наконец раздавался звонок.
– Садитесь, я ставлю вам двойку.
* * *
Хотелось курить. Я присел на ящик, прислоненный к ржавому борту рыбацкой шхуны, и закурил, мысленно перебирая в памяти случайные и короткие встречи с женщинами. Так мучительно вспоминают номера телефонов, записанных, а потом потерянных безвозвратно. Ты хочешь увидеть незнакомку или услышать ее. Ты точно знаешь: то, что произошло между вами, не закончено, вы расстались глупо, недосказав, недолюбив и не узнав друг друга.
Конечно, я находил необъяснимую прелесть во встречах двух посторонних людей, которые не в состоянии за одну ночь рассказать друг другу, кто они. Только их тела и руки пережили близость. А души? Души, видимо, со стороны наблюдают друг за другом, боясь приблизиться из опасения быть ранеными или просто из соображения такта. Эта боязнь лезть в душу. Или как у Цветаевой: «Хотеть – это дело тел, а мы друг для друга – души». И тут, вдруг, я вспомнил пролетающую над ночным Парижем душу, там, в кафе «La Palette». И тут же подумал об абсурдности этого эпизода. Как это могло быть? Я же на Шикотане. И какой Париж, я ведь жил в нем только лет десять спустя…
Я вспомнил, о чем говорил мне Митя: все, что происходит со мной, происходит в пространстве памяти, а она живет совсем по другим законам. Там нет хронологии реального мира. Она существует независимо от нас, отбирая и складывая разбросанные осколки, фрагменты нашего прошлого, сохранившиеся только чудом. И нам остается только закрыть глаза и, затаив дыханье, разглядывать этот чудный калейдоскоп.
Порой трудно поверить, что это все было с нами. Я сам довольно часто ловлю себя на недоверии к памяти. «Где я? – иногда спрашиваю себя. – Кто я?» Всплывают, как из тумана, какие-то полустанки, деревни, большие города, где мне когда-то приходилось ночевать. И неважно, была ли это просто одна ночь или годы.
Все это начинает казаться длинным и волшебным кругосветным путешествием внутри самих себя. Это как путешествие на корабле, где иллюминаторы затянуты шторами, и вы плывете, не выходя на берег.
И страны, и города – внутри нас. И, где бы мы ни жили, в Париже, Нью-Йорке или Москве, нас как магнитом тянет в наш любимый город, в наше детство.
Стершиеся в памяти лица людей, фрагменты пейзажей, интерьеров, пыльные коридоры коммуналок с лампочкой, горящей в полнакала, тазы и корыта на стенах, парадные с обгоревшими спичками на потолке, дворы, завешенные бельем, сохнущим на веревках.
Память – как ангел-хранитель, который хранит для нас самое дорогое, то, что мы называем нашей прожитой жизнью.
А жизнь у всех одна. Да и детство тоже.
И не так важно, кем мы стали, – важно, кем мы были. И память поможет нам это не забыть.
Глава 12
Коридор моей бывшей коммуналки не отпускал меня. Видимо, здесь отсутствовало понятие времени. Я вдруг вспомнил, что видел часы в кафе «La Palette» и брегет на цепочке у деда Мячина, но ни у тех, ни у других не было стрелок. Это наблюдение поразило меня. Я пытался смутно представить себе устройство этого незнакомого мне мира, в котором и время, и память находятся в каком-то свободном хаосе.
Может, если бы я смог найти закономерности и связи, все выглядело не таким уж странным, но пока надо было просто принять условия этой нелепой игры. Тем не менее мне мучительно хотелось сложить кусочки и осколки пазла незнакомой реальности, чтобы узнать: как они здесь живут? Там, на Антимирском Совете, их было так много… Откуда они явились? Куда ушли?
Правда, Митя упоминал, что большую часть времени они вспоминают прошлое. Что же касается рисования по памяти, в этом не было ничего необычного для меня, я и сам это делал часто. Тогда в чем смысл этого существования? Может, у них есть другие, более совершенные чувства, которые незнакомы человеку, живущему на земле. Все разговоры на тему загробной жизни, которые я до этого слышал неоднократно, всегда наводили на меня тоску.
Конечно, всем знакомо чувство ожидания чуда, страх и любопытство перед чем-то незнакомым, неизведанным, как у язычников при виде молнии. Но бесконечный праздный треп по поводу летающих тарелок и инопланетян, замеченных где-нибудь в районе села Кукуева, не представлял для меня никакого интереса. Ад, рай, вся эта мякина для «простых ребят» напоминала мне дешевую тюремную пропаганду, где отбывающим срок обещают за хорошее поведение что-то вроде «год за два». Поэтому ни мистика Мессинга, ни номера Ури Геллера со сгибаниями вилок и ложек, рассчитанными на впечатлительных домохозяек, были мне неинтересны.
Однажды простой провинциальный иллюзионист Володя Фокусник за рюмкой водки рассказал и показал мне, как все это делается. Мы сидели с ним в дешевом кафе на Садовом кольце.
– Вилки – это для темных людей, – сказал он мне. – Любой физик знает о том, что металл обладает памятью. И если ты заготовишь перед выступлением несколько вилок, то при температуре тела они вернутся легко в первоначальное согнутое состояние. Движение предметов, спрашиваешь ты? Элементарно, для этого не надо быть ни Геллером, ни Кашпировским. Пару сильных магнитов на колени под брюки, и все. Садишься за стол, колени под столешницей, и двигай себе…
Отпив полстакана, он достал из кармана слепок большого пальца. Внутри тот был полым. Иллюзионист надел его на палец.
– Видишь, теперь я закладываю туда все, что ты хочешь, – салфетку, кольцо, любой предмет, который может поместиться внутри. Все исчезновения и появления предметов я могу продемонстрировать хоть сейчас, это элементарно.
И официантки, и две бабы за соседним столом, открыв рты, наблюдали за трюками. Уже изрядно выпив, Володя Фокусник вдруг произнес:
– Ты знаешь, о чем я мечтаю? Найти спонсора, который организует мой концерт, и я расскажу всю правду обо всей этой мистической чертовне экстрасенсов и гипнотизеров. Думаешь, неплохая идея, а?
– Что касается меня лично, то мне было бы интересно, – ответил я. – Но за публику я не ручаюсь… Ты ведь отнимаешь у людей самое главное в жизни – веру в существование чуда.
– Может, ты и прав, – подумав, ответил Володя Фокусник, мой случайный собеседник. – Ну, ладно, я, пожалуй, пойду! – Он поднялся из-за стола и положил рядом с тарелкой свою визитную карточку, на которой было так и написано: «Володя Фокусник».
– Если появится возможность, ну, корпоратив или что еще… звони!
* * *
Коридор опустел. Длинное пространство стало погружаться в темноту, постепенно теряя очертания вещей, наполнявших его. Находясь в этом мире, я начал привыкать к таким неожиданным метаморфозам. Каменный пол уже походил на размытую дождем проселочную дорогу. Там, где стоял сундук, я увидел большую дождевую лужу, в которой отражался ломкий силуэт уличного фонаря, чуть дальше, вместо двери со списком жильцов и расписанием пользования ванной, появилась вывеска, на которой кистью было выведено «Буфет». В окнах буфета горел тусклый свет…
– Так ты стал художником? – тихо спросила тень женщины и, не дождавшись моего ответа, исчезла.
Неожиданно хлынул проливной дождь.
Я смотрел на лопающиеся в луже пузыри, мне захотелось курить. Нащупав коробок спичек в кармане плаща, я попытался зажечь одну, другую, но спички не зажигались, видимо, отсырели. Я решил зайти в буфет и, подходя ближе, заметил недостроенный кирпичный фундамент. Видимо, буфет находился рядом со стройкой.
Я поймал себя на мысли, что эту вывеску, буфет и эту стройку я уже когда-то видел.
Неподалеку от кирпичного фундамента лежали сложенные штабелями доски, по которым стучали капли дождя. Тут же валялся строительный хлам – куски фанеры, бочки с цементом, лопаты, лестницы и ящики. Я подобрал лист грязной, запачканной известью и цементом фанеры. При свете уличного фонаря его поверхность выглядела идеальным пейзажем. В нем угадывалась линия горизонта, темное ночное небо и земля, скупо освещенная лунным светом. Самой луны на небе не было, но свет, исходивший от нее, шел откуда-то изнутри. Я долго всматривался в пейзаж, пытаясь понять, откуда этот свет: от уличного фонаря или, возможно, изнутри картины? Я вертел эту фанеру в руках, но так и не находил ответа. Потом решил, что оставлю пейзаж у двери буфета, а на обратном пути заберу его.
В буфете было немноголюдно. За стойкой – женщина лет сорока, в фартуке и с прической, которую в свое время называли «вшивым домиком». Губы ее были ярко накрашены. Бросив взгляд в мою сторону и отвернувшись к зеркальцу, которое висело на стене, она стала их подкрашивать. Рядом у стойки развалившись сидел мужик в зимней шапке, в телогрейке и тяжелых кирзовых сапогах. В зубах его торчала, будто приклеенная к губе, сигарета. Он с нескрываемым интересом уставился на меня.
Буфет представлял собой небольшую комнату, неряшливо обклеенную сморщенными обоями. Стена за стойкой бара, облепленная вырезками из журналов и газет с портретами мужчин и женщин, напоминала иконостас. На полке стояли ряды бутылок перцовки. Из черной тарелки радио, висевшей на гвозде, доносилось чье-то хриплое пение. Разобрать половую принадлежность солиста было невозможно.
Я выбрал столик подальше от стойки бара. Подкрасив губы, буфетчица спросила:
– Что будете?
Мужик в зимней шапке посмотрел в мою сторону с любопытством.
– А что у вас есть? – спросил я.
Бросив взгляд на полку, буфетчица перечислила:
– Перцовка и пирожки с повидлом, винегрет… Могу разогреть котлеты…
Я попросил стакан перцовки и винегрет.
– В разлив мы не продаем… – улыбаясь, с интригой в голосе протянула буфетчица.
– Ну, давай бутылку, – понимающе отозвался я.
Мужик в зимней шапке явно оживился, на его лице появилась улыбка, он даже несколько раз попытался подмигнуть мне. Встретившись со мной глазами, он помахал рукой, изображая что-то вроде доброжелательного приветствия. Выждав какое-то время и решив про себя, что первое знакомство уже состоялось, он полюбопытствовал:
– Откуда будем? – И, обращаясь к буфетчице, по-хозяйски скомандовал: – Клав! Ну, чо ты телишься? Обслужи гостя, чо ты резину тянешь?
Клавдия, пересекая в туфлях на высоком каблуке пространство буфета, уже несла в одной руке бутылку со стаканом на горлышке, а в другой тарелку с винегретом.
– А ты помалкивай, Федор, ишь, начальник нашелся. Ты бы лучше ширинку застегнул…
А вам хлебушка или пирожков? – уже обращаясь ко мне, спросила она.
Федор застегнул пуговицы на ширинке и снова повернулся в мою сторону:
– Откуда будем-то? – И не скрывая своего навязчивого любопытства, подошел к моему столу, качаясь: – Шофер первого класса Федор Алексеевич Махеев… – Он протянул руку и присел боком на табурет напротив меня.
Я молча ответил на его рукопожатие.
– Не угостишь? – глядя на бутылку, спросил он, улыбаясь.
Я кивнул.
– Ну ты… враг народа, тащи стакан, – обращаясь к Клавдии, скомандовал Федор Алексеевич и добавил уже мягче: – Вишь, Клав, как оно бывает-то, гора с горой не сходятся, а человек с человеком…
Клава принесла стакан и со стуком поставила на стол.
– Человек с человеком… Ты, Федор, каждый божий день с человеками сходишься, а потом ищи тебя по канавам. Стыда в тебе нет, Федор!
– Клав, сука, ну что ты такое городишь, и не стыдно тебе порочить честь бывшего воина Красной армии?..
– Во́ина… Да ты пилотки-то, небось, не видел настоящей, окромя как у баб между ног…
Я разлил перцовку по стаканам.
– Будем, – коротко, по-деловому, бросил Федор и вылил в себя содержимое стакана, запрокинув голову. – Хорошо пошла… – выдохнул он и, откусив от пирожка с повидлом, стал хлопать себя по карманам в поисках спичек. Найдя коробок, Федор раскурил свою погасшую сигарету. – Надолго? – не оставляя надежды все-таки завязать разговор, опять начал он.
– Нет, завтра уезжаю, – медленно цедя перцовку из стакана, объяснил я.
– Куда, если, так сказать, не секрет? – продолжал Федор светскую беседу.
– В Москву…
– А-а-а… – протянул он, глядя на бутылку. – А в наши края какими судьбами, так сказать, по долгу службы или?..
Мне совсем не хотелось отвечать ему. Пьянея, я с каким-то ленивым удовольствием осознавал, что это моя последняя ночь…
* * *
Я испытывал какую-то патологическую, непонятную мне самому лень, работая в Заочном народном университете искусств имени Крупской. Через год от этого странного учебного заведения меня отправили читать лекции в городок, которого даже не было на географической карте. Я толком не запомнил его названия.
Было неприятно вдыхать запах огромных конвертов, которые приходили каждый день со всех концов Советского Союза. Забрав их из почтовой ячейки, я ехал к своей машинистке, Берте Абрамовне, от которой несло «Красной Москвой» так, что мне приходилось просить ее открыть окно даже в зимнее время.
Она готовилась к моему приходу тщательнее, чем бы мне хотелось. Диктуя ей очередное письмо-консультацию, я видел, как у нее потел лоб. Берта без конца бегала в туалет. Я пересаживался поближе к открытому окну и слушал звук спускаемой воды.
– Вы находите меня интересной? – однажды, покраснев, спросила она. – Или вы согласны с моей мамой? Вы знаете, мама считает, что я на любителя… – Берта перестала печатать и с надеждой взглянула на меня…
Я не знал, что ей сказать, вскрыл очередной конверт и начал диктовать:
– Уважаемый Виктор Сергеевич, посмотрел ваши работы…
Берта пару секунд помолчала, а потом с легким кокетством произнесла:
– Дитин, вы мне не ответили.
Я упрямо продолжал диктовать, отмечая ошибки Виктора Сергеевича в рисунке углем, рассказывая что-то о необходимости линий построения, но стука клавиш не было слышно…
– Почему вы не печатаете? – спросил я.
– Мне плохо, – сказала она. – Я могу вас попросить закрыть глаза?
– Зачем? – настороженно поинтересовался я.
– Я вас очень прошу…
Я закрыл глаза. Прошло около минуты, слышались какие-то странные звуки, затем щелчок выключателя, и наступила тишина…
– Можете открыть! – услышал я полный драматизма шепот Берты.
Я открыл глаза. В комнате было темно, она стояла рядом со столом, на котором находилась ее пишущая машинка. На полу у ног Берты валялось платье, руками она прикрывала обнаженную грудь…
– Возьмите меня, Дитин, я не могу больше…
После этого я уже не возвращался ни к Берте, ни к конвертам. Виктор Сергеевич и остальные, безнадежно ожидающие советов, так и не получили консультацию педагога. Ученики мои были из разных слоев общества: одинокие скучающие домохозяйки, школьники, ушедшие в отставку военнослужащие, даже отбывающие срок. И все они так и не узнали, как выглядит их педагог. Возможно, я казался им умудренным опытом маститым художником, даже академиком. Им и в голову не приходило, что я был всего-навсего двадцатитрехлетним потерянным фантазером, мечтающим стать когда-нибудь художником.
Я месяцами таскал у себя в кармане конверты с уже напечатанными ответами, но так и не отправлял их. Эта была какая-то неизведанная, но приятная болезнь безответственности. Свой исход от Берты я тоже не мог объяснить ничем другим, кроме как спертым запахом «Красной Москвы» и, в какой-то степени, уважением к ее возрасту, она была лет на двадцать старше меня.
После этого меня вызвал к себе заведующий учебной частью Алексей Гаврин и предложил компромисс.
– Дитин, ты совсем оборзел… – сказал он дружеским тоном. – У тебя было около ста учеников. А теперь?.. Ну что ты молчишь? Что, по-твоему, я должен делать?
– Увольняй… – спокойно сказал я.
Но после серьезного разговора, в течение которого мы раздавили на двоих бутылку «Столичной», я стал главным специалистом по лекциям.
– Бабок будешь зарабатывать больше. Ты же знаешь, что очная консультация стоит в четыре раза дороже, – разливая по стаканам водку, убеждал меня Гаврин.
– Ты думаешь? – спросил я.
– А ты пошевели мозгами. Не догадываешься? – загадочно и пьяно смотрел на меня Гаврин. – Ну? Эх ты, удар, вижу, совсем не держишь… Короче, я с тобой ездить буду, ты только читай себе свои лекции и не думай ни о чем, а я займусь бухгалтерией, понял?
Мне понравилось предложение Гаврина, да и сам он был приятным малым, таким же потерянным и живущим в каком-то детском мире авантюры и бесконечных побегов от надоевшей ему жены.
– Ну что, за дорогу! – подняв стакан, с пафосом произнес он.
– За проселочную дорогу, – уточнил я.
Дождь шел не переставая всю неделю, пока я проводил свои лекции. Студентов было немного – две молодые женщины из Перми, одна из них заметно беременная, заводской художник, мастер сухой кисти. В основном он писал портреты вождей. Почти каждый вечер художник предлагал мне распить бутылочку, но я под разными предлогами избегал этого, так как тот хотел поговорить «за искусство». Был еще уголовник, которого приводили на занятия двое ментов. Еще приходили человек шесть или семь. Не помню ни их имен, ни их биографий. Они слились в моей памяти в некую рыхлую, размытую дождем массу…
* * *
– А кто нас повезет на станцию?! Можно поинтересоваться?! – уже чувствуя себя свободным от всех условностей, орал Федор. – Кто? Молчишь… А вот я так тебе скажу: повезу тебя я – Федор, шофер первого класса. Хочешь, тебе и ксиву покажу? – Он сделал движение, будто лезет в карман, но затем, как бы забыв на полпути, уронил руку. – Ты, небось, с московским, в семь сорок?
Я кивнул.
– Буду как штык! Слышь, пароль: «Рубикон»!
Федор продолжал выкрикивать какие-то обрывки фраз, как будто разговаривал с самим собой. Понять, что он бормотал, было невозможно. Судя по бессвязным словам, речь шла о его строгом начальнике, которого он возил во время войны.
– Слышь! Бывало, засну за рулем, всяко бывает, он, гад, как стебанет по голове, да еще знаешь, таким голосом, прямо как Левитан: «Московское время семь часов тридцать минут». Понял! Справедлив, паскуда, ох и справедлив… С тех пор зимнюю шапку ношу, удар смягчает, понял!
– Давай… закругляемся мужики, – строго сказала Клавдия. – Федор, кончай трындеть, сил никаких нет тебя слушать.
– Не хочешь – не слушай, я не с тобой говорю, Клавдия, а вот ему, поняла?..
У меня начала кружиться голова, возможно, от выпитого, а, может, просто от усталости. Весь день я читал лекции, рассказывая студентам о секретах тонального рисунка и о значении композиции. Гаврин ходил между мольбертами и, не переставая, делал странные движения руками. Согнув руки в локтях, он имитировал крылья. Поднимая и опуская их, он как бы говорил студентам: работайте энергичнее! Те, в свою очередь, испуганно поглядывали то на него, то на меня.
В конце концов он ушел с занятий раньше, видимо, устав от махания крыльями, да и от выпитого накануне. Теперь, наверное, уже спал на железной кровати в Доме колхозника. Я с ужасом думал о возвращении туда и поэтому все еще сидел в буфете, слушая пьяный бред Федора и их парный конферанс с Клавдией.
Неожиданно дверь распахнулась и на пороге появился мужик в огромном не по росту промокшем плаще. Из карманов плаща торчали кирпичи, по кирпичу было и в руках. Поставив их на стойку, он произнес:
– Клав, не откажи, налей чего-нибудь…
Федор, видимо, услышал посторонний голос и поднял тяжелую голову.
– А… Прохор… Все государственное имущество шушаришь… – промямлил он вяло.
– Да ладно, тоже законник нашелся, печь дымит, вот я и… – оправдывался Прохор.
– Все, мужики, я закрываюсь! – щелкнув три раза выключателем, громко предупредила Клавдия. – Совсем совести нет, один кирпичи таскает, ты бы еще печь притащил с собой, Прохор. Другой весь день глушит на халяву, глаза б мои на вас не глядели…
«Радио „Маяк“! Дорогие радиослушатели, по вашим заявкам передаем „Утомленное солнце“», – объявил голос диктора.
Мне страшно хотелось спать, сквозь дремоту я слушал радио… Постепенно мелодия становилась все тише и тише, будто певица уходила вдаль по дороге, и мне хотелось пойти за ней… Я закрыл глаза.
Первое, что я увидел, когда открыл их, было лицо Федора.
– Шесть утра, понял? – серьезно сказал он. И, сняв зимнюю шапку, помахал ею, а затем, снова приблизив губы к моему уху, доверительно прошептал: – Клавдию пойду шворить… – и, сделав короткую паузу, добавил: – Как врага народа, понял?
Я не помнил, как оказался на улице. Струи дождя текли по моему лицу, капли отбивали монотонную дробь по штабелю досок. В каком направлении мне следует пойти, чтобы добраться до Дома колхозника, я не знал.
Взгляд упал на лист фанеры, освещенный уличным фонарем. Теперь он казался мне более темным. Видимо, дождь, проникая в поры закапанной известью и цементом фанеры, сделал изображение ночного пейзажа еще более правдоподобным и убедительным. Я мог даже разглядеть нечто похожее на дорогу, а свет фонаря, отражаясь в сыром от дождя небе, создавал абсолютное ощущение лунного света.
Я, как под гипнозом, продолжал всматриваться в лист фанеры, сознавая, что нахожусь перед лицом какого-то важного открытия. Для меня вдруг стало очевидно, что невозможно создать иллюзию реальности человеческой рукой, даже если ты обладаешь незаурядным мастерством. Только природа и время, прикасаясь к поверхности, могут воспроизвести пространство, воздух и состояние атмосферы. Нет ни сантиметра фальши. Ты не чувствуешь присутствие художника. Ты не видишь ни доли манерности или стиля. Перед тобой безукоризненная иллюзия реальности, нерукотворная, созданная кем-то свыше одним волшебным жестом, на одном дыхании. «Эта промокшая глубокая темнота может исчезнуть, как только лист фанеры высохнет», – подумал я. Но тут же успокоил себя тем, что попытаюсь найти способ сохранить эфемерное состояние. Возможно, в своем воспаленном воображении я и преувеличивал значимость этого открытия, но оно настолько поразило меня, что я стал перебирать в уме все уже виденные мной раньше поверхности: старые стены во дворах Питера, ржавые листы железа, которыми была обита голубятня в нашем дворе… Они поражали своим живописным совершенством, но не были покрыты вуалью атмосферного состояния, им не хватало воздушного покрывала. В них отсутствовала картинность, законченность, они оставались в состоянии просто красивой поверхности.
Мне было даже не с кем поделиться своим открытием. Все мое окружение московского нонконформизма занималось совсем другими проблемами. Если и был один человек, с которым я мог откровенно говорить об этом, так это Митя. Но даже он слушал меня с выражением легкого менторского снобизма. Однажды придя ко мне в мастерскую и осмотрев бегло работы, он произнес, посасывая сахарок:
– Ну и говно же ты делаешь, и самое интересное, что всем нравится. – И, загадочно улыбнувшись, добавил: – Я знаю один секрет, как, изменив всего один нюанс, сделать из них гениальные вещи.
– Ну и что это за секрет? – с грустью спросил я.
– Вот этого я тебе сейчас не скажу, – ответил он и добавил: – Как-нибудь позже…
Он подошел к одной из акварелей, на которой был изображен берег моря, а на песке прописаны крестики и нолики.
– Неплохо. Но тебе придется подписать: украл у Мити.
– Почему?
– Ты спрашиваешь «почему»? – Ты разве не помнишь портрет Сталина с татуировкой Ленина?
– Да, помню, и что?
– А что было на фоне слева? – раздраженно спросил Митя.
– Что было на фоне, я не помню… – виновато оправдывался я.
– Крестики и нолики. Вспомнил?..
Глава 13
Дождь лил, я продолжал держать в руках «шедевр» на фанере, переворачивая и пристально его рассматривая.
– А ну, положь на место. Не твое. Так и положь, где взял! – услышал я голос.
В темноте с трудом я разглядел женщину. Она стояла на недостроенной кирпичной стене фундамента. Свет фонаря слегка подсвечивал ее тщедушную фигурку.
– Слышь, я тебе говорю! – повторила она уже с интонацией жесткого и непреклонного раздражения. – Положь на место, а то пристрелю!
Я только теперь заметил, что в руках она держала ружье.
– Считаю до трех!.. – Спустившись по приставной лестнице, она начала считать: – Раз… – и, целясь в меня, сделала шаг вперед.
Лица ее я не видел. Голову женщины покрывал большой платок, туго обмотанный вокруг шеи. Она была в телогрейке и тяжелых больших резиновых сапогах.
– Два! Слышь, дядька!
Все это казалось каким-то диким абсурдом. Но я, как завороженный, продолжал стоять на месте, не выпуская из рук лист фанеры.
– Два с половиной…
Она была уже довольно близко, настолько, что я смог увидеть ее лицо. Большие испуганные детские глаза смотрели на меня с какой-то почти театральной злобой и решимостью.
– Два с четвертью, – пытаясь иронизировать, произнес я и увидел, как она взвела курок.
Я осторожно поставил шедевр на землю, а сам сел на доски.
– Сядь, отдохни, – пригласил я ее, хлопнув ладонью по мокрой доске рядом с собой.
– Подними руки, – строго приказала она.
Я поднял руки.
– Теперь ты довольна?
Она начала раздражать меня упертостью и глупостью. Мне не было страшно. Напротив, я чувствовал какое-то любопытство к этому потерянному, промокшему и одинокому существу. Меня даже возбуждал факт, что наша встреча происходит в незнакомом чужом мире, мы были вдвоем на затерянной в дожде и ночи проселочной дороге. И только штабели досок и строительный хлам напоминали о присутствии людей на этом необитаемом острове. Мне нравилось наше молчание. Мне было лень объяснять ей, кто я и почему нахожусь здесь. Я не мог поделиться с ней своим открытием. «Идеальная незнакомка», – промелькнуло у меня в голове. И с этой мыслью я вдруг неожиданно для самого себя лег на доски и, распахнув промокший плащ, тихо произнес:
– Ну, хватит считать, стреляй!
– Чо ты разлегся, дядька, а ну вали отсюда, – приблизив ствол ружья к моему лицу, прошептала она: – Два с четвертью!
Услышав в очередной раз «дядька», я потерял контроль. В следующую минуту коротким и сильным ударом ноги я выбил ружье у нее из рук и резко приподнявшись, потянул ее на себя. Она не ожидала нападения. Ружье еще летело в воздухе, а я уже крепко держал ее за лацканы телогрейки. Лицо сторожихи было так близко, что я ощущал на себе ее частое дыхание.
– Отпусти меня. Богом прошу, отпусти…
Я смотрел в испуганные глаза женщины. По ее щекам потекли слезы. Во мне вдруг проснулись знакомые с детства ощущения ярости и реванша, и снова вернулось – Я и ОНИ. Но теперь ОНИ – это была она, женщина, а у меня были с ними незаконченные счеты, годами таившиеся обида и боль, которые ОНИ причинили мне. За это короткое мгновение, пока я смотрел ей в глаза, я вспомнил их всех: и Нинку, с которой испытал свой первый детский оргазм, и стоны тетки Рахили, и шепоты и вздохи матери на соседней кровати с очередным кандидатом на роль отчима. Их было много, я даже не помнил лиц, но помнил их голоса, их шепот. Зарываясь в подушку, я не хотел видеть, как происходит у взрослых устройство личной жизни. Вставая утром, чтобы идти в школу, я находил на стуле рядом с кроватью конфеты и пирожные эклер, на обеденном столе остатки вечерней трапезы – пустые бутылки, тарелки с недоеденным салатом, в комнате витал запах майонеза, женских духов, мужского пота и табака.
Конечно, женщина с ружьем даже и не думала стрелять в меня, просто хотела напугать постороннего незнакомого мужчину. Но она не могла даже предположить, что, держа ее за телогрейку, я мысленно сводил счеты со своим детством. Она видела, как из спокойного и почти безучастного к происходящему человека я вдруг превратился в разъяренного зверя. К тому же от меня сильно пахло водкой и табаком. Ей стало страшно:
– Дядь, отпусти меня, ну, пожалуйста… – пробуя освободиться, шепотом просила она.
Но я не отпускал ее, и чем сильнее становился ее испуг, тем увереннее и спокойнее чувствовал себя.
– Во-первых, перестань называть меня дядькой! Слышишь, ты!
– Хорошо, отпусти меня, ну, правда, богом тебя прошу.
Я продолжал наслаждаться ее испуганной беспомощностью и зависимостью от моей воли и физического превосходства. Злость и ярость постепенно стихали, как зубная боль после наркоза. Мне нравился запах ее теплого дыхания, пахло молоком, как от детей, с горьковатым привкусом полыни. Мне были приятны сипловатые ноты в ее шепоте, как у подростков, когда у них меняется голос. Я освободил одну руку и распустил узел платка, расстегнул пуговицы телогрейки. На ее шее поблескивали стеклянные, совсем прозрачные, как кусочки льда, бусы. Все это я проделал медленно и молча, не обращая внимания на ее всхлипы, сквозь которые еле угадывались отрывки слов:
– Умоляю тебя, отпусти…
Теперь она уже не звала меня дядькой, и мне это нравилось. Я даже почувствовал какую-то теплоту и близость между нами. Во всяком случае, мне хотелось так думать. Как бы там ни было, самое страшное позади: и моя ярость, и желание реванша, и ее панический страх перед чужим незнакомым человеком.
– Дай мне твои губы. – Я взял ее за подбородок и повернул лицо к себе. Ее глаза были так близко, что я видел в них отражение уличного фонаря и слезы, которые, не переставая, текли по щекам.
– Дай, я прошу тебя…
– Не дам, слышишь, не дам…
Я ее поцеловал. Она не ответила, но и не сопротивлялась. Я не знал, да и не мог знать, что возникло между нами. Видимо, ее неожиданная пассивность и безразличие задели меня. Мне не хотелось оставаться одному, но как удержать ее, я тоже не знал. Для того чтобы хоть как-то продлить это странное и неловкое начало с обоюдным насилием, я почти бессознательно продолжал целовать ее сжатые и мокрые от дождя губы. Я почти отпустил ее совсем и теперь свободной рукой поднял подол юбки. На ней оказались мягкие байковые трусы. В ее глазах исчез страх, появилась абсолютная безучастность обессиленного от борьбы за жизнь человека. Она была как в трансе.
Я положил женщину на доски, и машинально, уже не думая ни о чем, стал раздевать.
Старался не смотреть ей в глаза, чтобы, не дай бог, не увидеть в них то, что мне не хотелось видеть. Потом почувствовал покой, какой испытывал только в детстве, когда бабушка Поля, почти шепотом, пела мне колыбельную: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, к тебе девочки придут, поцелуют и уйдут…»
Я хотел, чтобы это длилось как можно дольше.
Она вдруг, тихо выдыхая воздух, прошептала:
– Только не в меня, слышь?
Мне на какой-то момент показалось, что ее тело отвечает, сдержанно стесняясь своей бессознательной слабости, а ладонь, которая лежала напряженно на моей груди, теперь стала теплее. И она уже не останавливала меня, а нежно касалась моей кожи. Ее дыхание стало прерывистым и быстрым, будто ей не хватало воздуха. Я решился взглянуть на нее, ее глаза были закрыты. С полуоткрытых губ медленно стекали капли дождя. Я уже не мог больше сдерживать себя. Поцеловал ее в губы, сознавая с легкой грустью, что не смог исполнить ее просьбу.
– Прости! – Это была первая фраза, которую я произнес после того, что произошло.
Она молчала, неподвижно лежа на досках. Сброшенный платок валялся в грязи, дождь хлестал по ее лицу, волосам и обнаженному телу.
Я виновато и неловко попытался прикрыть ее своим плащом, но он был таким же промокшим, как и все вокруг. Она тихо всхлипывала. Я видел это по ее вздрагивавшему телу и мучительно искал слова, но все они казались фальшивыми и глупыми. Молчаливая дистанция между нами пугала меня. Казалось, что еще совсем немного, и она уйдет, и я больше никогда ее не увижу.
Заметив ружье, которое лежало в грязи в нескольких шагах от штабеля досок, я поднялся, чтобы принести его. Мне хотелось хоть как-то выиграть время. Я положил ружье рядом с ней, виновато заглядывая в глаза.
– А теперь вали отсюда, получил свое и вали, слышь? – произнесла она, всхлипывая.
– А как же ты?
– Это не твоя забота. Иди! А мне сторожить надо.
– А что тут сторожить-то? – недоумевал я.
– Стройку… вот что! – Она поднялась с досок и, стесняясь моего присутствия, стала натягивать байковые трусы. – Отвернись! Чего уставился? – Потом взяла ружье и медленно пошла по размытой дождем дороге к сельскому буфету.
Я молча поплелся за ней, и вдруг отчетливо понял, что не могу бросить ее в таком состоянии. Кроме того, мне хотелось чего-то человеческого, может, просто нежности и теплоты, как это бывает между любовниками. Но как это получить, я пока не знал.
Я вспоминал запах ее податливого тела, и мне хотелось верить, что еще не все потеряно, надо только терпеливо ждать, стараясь не спугнуть ее каким-нибудь неосторожным движением или словом. Но просто идти молча было тоже неестественно. Это только нагнетало драматизм и провоцировало неприятные воспоминания о произошедшем. Надо было каким-то способом отвлечь ее.
– Дай я понесу ружье? – предложил я.
– Это зачем еще?
– Ну, оно же тяжелое.
– Ты бы раньше заботу-то проявлял, теперь уж поздно, – с укором сказала она и, после короткой паузы, неожиданно добавила: – Ну, тащи, если хочешь, оно все равно не заряжено…
Я взял из ее рук ружье и почувствовал облегчение. Это прозвучало как снисхождение к преступнику, почти прощение. Теперь мы шли рядом, хлюпая и утопая в проливном дожде, который не переставал поливать затерянный в ночи пейзаж с черным сырым небом и раскисшей проселочной дорогой. Казалось, что мы одни на всем свете, остальная часть человечества погибла на дне этого всемирного потопа, а на нас лежит важная миссия сохранения жизни на земле. Теперь только остается убедить ее в этом, с улыбкой подумал я. Где-то далеко-далеко послышался протяжный гудок паровоза, который делал конец мира не совсем убедительным.
– Пермский прошел, без остановки, – произнесла она тихо, как будто про себя.
– А что, есть с остановкой?
– Бывает утром.
– Я с ним уезжаю.
– А… – протянула она. – И куда же, в Москву? Я не была там, небось, там много людей, не протолкнешься. А кто ж тебя повезет до станции, здесь такси нет.
– Да я был в буфете, встретил там мужика одного, Федором зовут. Он обещал отвезти. Хотя как он встанет, я не очень представляю. Пил много. Думаю, не проснется.
– Проснется, – с какой-то грустной иронией произнесла она.
Почувствовав саркастические нотки в ее интонации, я спросил:
– Ты что, знаешь его?
Она не ответила. Остановившись возле куска фанеры с лунным пейзажем, вдруг спросила:
– А на кой тебе сдалась эта фанера?
– Ну, как тебе объяснить… – Начал я неуверенно, но потом решил, что даже если она примет меня за сумасшедшего, все равно терять мне уже нечего. – Дело в том, что в мире существуют поверхности, представляющие собой законченные картины, хотя они созданы не художниками, а самой природой. Вернее, случайностями, которые каким-то образом воздействовали на поверхности. Ну, например, в нашем случае, – я подвинул фанеру к свету, который падал от уличного фонаря, – случайное белое пятно, пролитое кем-то, напоминает луну, вернее, оно кажется луной оттого, что краска расплылась вокруг этого пятна. Нижняя часть фона несколько темнее по тону, она похожа на землю, а верхняя – светлее, поэтому выглядит лунным небом. И делятся они, опять же благодаря случайности, прямой линией, которая как бы и является линией горизонта. Короче, теперь ты видишь, что это – лунный пейзаж.
Несколько секунд она продолжала всматриваться в несуществующий пейзаж, а потом тихо произнесла:
– Вроде и вправду похоже. А ты что, художник?
– Вроде того, – ответил я.
– Но не ты же это нарисовал.
– Не я, но я это увидел, значит, она стала моей картиной.
– Ну, тогда бери ее себе, а я думала, ты воровать пришел, – сказала она, потом достала из кармана телогрейки горсть семечек и начала аккуратно закладывать их по одной в рот.
Я протянул ладонь, давая понять, что тоже хочу попробовать. Она отсыпала мне горсть:
– Ты грызть-то, небось, не умеешь.
– Научимся, – глядя на ее виртуозные плевки, сказал я.
Я пытался встретиться с ней взглядом, но она каждый раз отводила глаза. Что-то странное было в ее поведении: и какая-то детская непосредственность, и в то же время усталость женщины, прожившей нелегкую жизнь. Ее грустные глаза скрывали необъяснимую тайну и одиночество человека, затерянного в мире Федоров и Клавдий. Теперь этот мир утонул в проливном дожде, она была наедине с незнакомым мужиком, который практически изнасиловал ее и теперь пытался найти с ней хоть какое-то подобие человеческой близости. Не уверен, что такая близость была ей необходима. Что же могло удержать нас вместе? Ведь мы были как два инопланетянина, говорящих на разных языках, не имеющих понятия о нравах и обычаях наших разных планет. Наверное, только любопытство, а может, страх опять оказаться в одиночестве, возможно, еще физическая близость, случившаяся неожиданно для обоих.
– А Клавдию ты видел? Небось, все губы красила, – с трудом услышал я сквозь шум дождя.
– Видел, а что?
– Так, ничего… Ну, и на чем вы закончили ваш сабантуй с Федором?
– Ничем. Он пошел к ней спать. А я – вот к тебе. – Я немного испугался своей фамильярности.
– Может, ты и правильно сделал, – вдруг изменилась она в лице. И после недолгой паузы: – Что-то холодно стало, пойдем-ка, погреемся, совсем озябла я что-то.
Она долго шарила под крыльцом, затем, наконец, нашла ключ и открыла дверь. В буфете было немного теплее, чем на улице. На столе еще остались неубранные остатки вчерашнего ужина, тарелка с недоеденным винегретом, пустая бутылка водки и два стакана. Убрав со стола, она зажгла все четыре газовых конфорки. Затем, сняв телогрейку, платок, не глядя на меня, сказала:
– Раздевайся. Сушиться будем.
Только теперь я смог разглядеть ее. Она была совсем не похожа на ту деревенскую бабу с ружьем, какой я увидел ее на стройке. Она вдруг преобразилась, все ее движения были полны естественной грации.
– Раздевайся, чо уставился? – Сняла со стены сухую телогрейку и ватные штаны, видимо, принадлежавшие строителям, и бросила их мне: – Лови, я не смотрю. – И, подойдя к холодильнику, стала копаться в нем. – Ну, и что там у нас есть? Пельмени сибирские, котлеты от Клавдии, не будем, может отравить, винегрет… Это мы уже пробовали. Давай начнем с пельменей. Будешь?
Я покорно согласился.
У плиты она возилась недолго. Накрыла на стол, открыла бутылку перцовки.
– Ну, вроде все, – присаживаясь напротив меня, сказала она, но потом снова вскочила и, покопавшись в ящике буфета, принесла свечу. Поставив ее в граненый стакан, зажгла, сказав: – Теперь все, наливай.
Подняв свой стакан, пожалуй, впервые за весь вечер встретилась со мной глазами и произнесла:
– За что пьем? Как тебя кличут?
– Дядька, – сказал я с улыбкой.
– За дорогу, – пропустив мою иронию, сказала она и, не чокаясь, выпила до дна.
Казалось, время остановилось. Я посмотрел на часы с кукушкой, было два часа ночи. Она пила довольно быстро. К пельменям почти не притрагивалась, а мне было неловко есть одному.
– Ты умеешь читать сны? – вдруг спросила она. – Ну, как некоторые? Ты расскажешь сон, а они тебе объяснение.
– Попробую, – сказал я, чтобы хоть как-то заинтересовать ее.
– Ну, тогда слушай. Уже который раз я вижу один и тот же сон про отца и мачеху. Мама у меня давно умерла. Ну, короче, иду я по улице, зима, снегу намело, и слышу, за окном моего дома, оно почему-то открыто, хотя на улице холод собачий, как будто для меня, чтобы я слышала, отец разговаривает с какой-то женщиной. Та ему и говорит: «От ребенка надо избавиться, это, говорит, твой выродок». Я притаилась и слушаю. Но ничего не слышно, кроме слов отца: «Ты, сука, перед богом за это ответишь». А сама трогаю свой живот, а он большой-большой, будто я беременна. Потом дальше – больше. Я сижу уже дома, отец приезжает из командировки, смотрит на мой живот и говорит: «Надо избавиться, вынь, говорит его, не позорься». А я возьми и скажи: «Да это твой ребенок». Он посмотрел на меня. «Ты, что, – говорит, – с ума сошла! – И начал считать дни да недели: – понедельник, вторник, среда…» – Ну, вроде не могла я зачать от него. Не было его в деревне два месяца. И пока он считал, я вышла в сени и зарядила ружье, и только помню, когда он произнес «воскресенье», выстрелила. Попала в пуговицу на гимнастерке. Он в такой гимнастерке с открытым воротом был.
Закончив, она налила себе водки и выпила залпом. Потом положила голову на стол и застыла. Я видел, как вздрагивали ее плечи и слышались тихие всхлипы:
– Ты обещал мне объяснить? Что ты молчишь?
Мы спали на полу в одежде. Ее рука лежала на моей шее. И я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Я не мог уснуть, слушал тиканье часов, похожее на камертон, дождь за окном и ловил себя на ощущении, что когда-то со мной уже это было. Это было в моем детстве, когда я спал у моей тетки Рахили в маленькой комнате на Маросейке.
«Для чего она рассказала мне свой сон? – думал я. – Его не сложно было растолковать. Для этого не нужно было быть ни толкователем снов, ни провидцем. Я думаю, ей просто хотелось исповедоваться. Представился прекрасный случай исповедоваться незнакомому человеку, который так или иначе исчезнет из ее жизни навсегда. Но что я мог ей сказать, чем утешить. Видимо, отец спал с ней, возможно, спал годами. Не случайно же, когда я спросил, почему она работает ночным сторожем, помолчав, она ответила: ”Чтобы не ночевать дома”».
Странные мысли копошились в моей голове, сменяя и путаясь между собой. «Может, уехать с ней в Москву, – думал я, – вспоминая свою комнату напротив Пятницкого рынка, часы над воротами, трамвайные звонки, Нору, с которой уже все кончилось. Но потом на смену романтике приходили другие мысли. – Мне надо стать художником, а не заниматься спасением душ. Подумать о своей».
За окном уже брезжил рассвет. Я подумал о невозможности написать интерьер при таком почти уже несуществующем мерцающем свете, когда все в нем только угадывалось: стены, потолок. Как передать это состояние и какими красками? Тут нужны сотни серых, серебристых оттенков. Только они, как мозаика, могут воссоздать этот мир. Мир полусна и дремы. Тогда я увидел и почувствовал впервые эту магическую прелесть полувидимого мира. Мира, скрытого от глаз ленивых наблюдателей. И тогда впервые задумался о разнице между глаголом «созерцать» и глаголом «видеть». Не просто «увидеть», а «разглядывать». И я начал разглядывать ее плечо, еле видимое под телогрейкой, поблескивающие в предрассветной мгле стеклянные бусинки на ее шее. За окном светало, и все становилось более ясным и очерченным. Было страшно, что скоро наступит утро. Я закрыл глаза и лежал, прислушиваясь к ее тихому и ровному дыханию и мысленно выстраивая возможные варианты утреннего расставания.
Кукушка, прокуковав шесть раз, затихла. По радио запели гимн. Она вдруг открыла глаза и стала торопливо одеваться.
– Мне надо уходить, – испуганно сказала она.
Мне не хотелось ни ехать, ни плыть, ни идти. Казалось, так бы и лежал здесь всю жизнь.
Немного помолчав, она вдруг спросила:
– Что ты слышишь там, дома, в городе, когда просыпаешься утром.
– Что я слышу? – Честно говоря, я был несколько удивлен вопросом, в нем была какая-то неуловимая тонкость, никак не ожидаемая от простой деревенской девушки, никогда не бывавшей в большом городе. – Что я слышу? Трамвайные звонки за окном, шум воды из крана, шаги соседей в коридоре. Почему ты спрашиваешь? – поинтересовался я.
– Не знаю, так… представить хочется. А видишь что, ну, когда встаешь?
– Окно. За ним вывеску продуктового магазина. Уличный фонарь. Окна соседнего дома с авоськами, висящими на них. Еще водосточную трубу с наклеенными на нее объявлениями.
– И все? – удивленно спросила она.
– Тебе этого мало? Ну, вижу стену мастерской. На ней картины.
– А у тебя есть любимая?
Я сразу не понял, что она имеет в виду картину.
– Я думаю, теперь будет.
– Ну, и что на ней изображено? – спросила она.
– Ночной пейзаж, который ты хотела у меня забрать.
– Ты таких фанер наберешь еще сколько угодно.
– Может, поедешь со мной? Ну что тебе здесь, – сказал я неожиданного для самого себя. Эта фраза как будто сама выскользнула из моих губ.
– Нет, не теперь. Может, когда и свидимся. Дай последний раз на твои руки посмотрю. – Она, присев на корточки, взяла мою ладонь. – Мягкие руки у тебя, как женские. Вижу дорогу… Длинную дорогу. Далеко уедешь, видать. Дальше Москвы гораздо. Может, в страну какую неизвестную. Хотя и возвращение вижу. И не одно. Жить далеко будешь. Успех видно – во, видишь, звезд несколько. Один будешь путешествовать, без самовара. Без жены, значит. Девочку вижу… Может, дочь. Но не скоро. В дождь увидишь и не узнаешь сразу, что это твоя дочь.
– А себя-то ты видишь? – спросил я.
– Вижу, я за вами смотреть буду, через окно. Долго смотреть, пока снег не пойдет.
– Почему снег? – спросил я с любопытством.
– А вот потому, что душам холодно. Когда снег, надо уходить.
– Ну что ты бормочешь про какие-то души. Ты мне сама нужна.
– Нет, миленький. Есть у меня здесь дела. И не могу я жить свободно, пока их не закончу. И знать тебе о них не надо, мал еще. – Она поцеловала меня и ушла к двери, перекрестив в воздухе и как бы шепча про себя: «Некрещеный небось».
– Как зовут-то тебя? – вдруг, спохватившись, спросил я.
– А какое твое любимое имя?
– Полина. Бабушка была у меня, Поля.
– Ну, так и назови Полиной.
Я помню ее фигуру в проеме двери на фоне утопающей в дожде деревни. Она ее не закрыла, возможно, случайно или просто хотела, чтобы я подольше мог видеть ее, уходящую в глубину завесы дождя и тумана, стелющегося над грязной, размытой дождем дорогой. Она на секунду остановилась у фундамента стройки, посмотрела на кусок фанеры, прошла еще несколько шагов и, не обернувшись, исчезла.
Сидя на крыльце в ожидании Федора, я смотрел на деревню, свинцовое небо и продолжал думать о моей незнакомке, о ее сне. Какие у нее здесь могут быть дела? Не хотелось верить, что все кончено. Потом, видимо, устав от всего, стал лениво размышлять по поводу того, что было бы правильней подмешать в белила и жженую кость, охру или сиену, чтобы попасть в цвет серого и сырого утреннего неба. «Белила, охра, слоновая кость, чуть-чуть ультрамарина», – бубнил я про себя.
Из тумана медленно выползла полуторка. Заглушив мотор, из машины выпрыгнул Федор все в той же зимней шапке.
– Московское время… Ну что, вдарим по бездорожью. А то, может, останешься. Вишь, простор такой, попьем чего-нибудь, можно сказать. С невестой познакомлю, с дочкой моей… Она уже и смену, небось, закончила. На стройке ночным сторожем работает.
Я промолчал.
«Что останется у меня от этой ночи? – спрашивал я себя. – Возможно, она исчезнет из памяти, подернувшись патиной времени, как дымкой сфумато…»
Глава 14
Открыв дверь в мастерскую, я услышал раздраженный голос Митяя:
– Мы росли в дерьме. Теперь решили вдруг стать интеллектуалами…
Я вошел в прокуренную кухню. Митя сидел за столом, посасывая сахар. Женька и Кирилл – на диване слушали его в полудреме.
– А-а, садись, это тебя тоже касается, – сказал он мне вместо приветствия.
Митя постарел за тот долгий период, пока мы не виделись. Женский свитер, заношенная теннисная рубашка с выцветшим воротником, обвисшие на коленях брюки. Он говорил, почти не открывая рта, стесняясь отсутствия передних зубов. Теперь он редко покидал свою комнату в Покровском-Стрешневе, где жил со своей старой матерью Рахилью Абрамовной, женой Валькой и ее маленькой дочкой от первого брака. Комната была так мала, что могла вместить только две небольшие койки и квадратный стол, который служил и обеденным, и рабочим для рисования.
Жена Валька, известная как Бонасье, была привезена Митей из Харькова, что явилось следствием безумной страсти, охватившей его во время отдыха на Черноморском побережье. Теперь он говорил о Вальке с горечью, как об обычной харьковчанке, чью психологию он никак не мог понять.
– Ты знаешь, Бонасье оказалась дурой, – сказал он, не окрашивая фразу эмоциями, с каким-то безразличием. – Я привез ее в Москву, официально зарегистрировал с ней брак, нашел ей работу в почтовой ящике. Вчера она торжественно заявила: «Ты знаешь, я получила первую зарплату». – «Поздравляю», – ответил я. С какой-то странной улыбкой она вдруг произнесла: «А денежки мои, Митя, ты фиг получишь». Ну что ты можешь сказать на это? – Он причмокивал, посасывая кусок сахара, и, не дожидаясь моего ответа, добавил: – Надеюсь, ты не считаешь, как все остальные, меня мудаком?
– Нет, – коротко ответил я.
– Достойный ответ. Не ожидал. Ты должен понимать, что только умные люди могут позволить себе роскошь делать глупости.
– Как Муська? – сменил я предмет разговора, вспомнив о его первой жене.
– Муська? Что Муська? Успокоилась. Я ее навещаю иногда. Она живет с матерью. Та подслушивает под дверью, пока мы выполняем супружеские обязанности. Ты знаешь, мы ощущаем сейчас что-то запретное в наших сексуальных отношениях и подслушивании тещи. Я потерял чувство, что сплю со своей пусть и бывшей, но женой, и это приносит мне намного больше удовольствия, чем раньше. Теперь она не задает идиотских вопросов, которые полностью убивали мое либидо: «Митя, почему ты не носишь дома тапочки? Я не могу вечно стирать твои носки! Ты купил масло? У нас не хватит на завтрак». После таких разговоров я впадал в ярость и не мог кончить. В настоящее время я думал про обложку последней книги Матвея Грубияна, которую делал для «Совписа». Знаешь такого еврейского лирика?.. Я изобразил его с авоськой, в которой лежит огромный кусок масла, тапочки, а под мышкой куча книг, подписанных именем Матвей Грубиян.
Я вспомнил, как когда-то мы шли с Митей по дорожкам Покровско-Стрешневского парка.
Снежная крупа припорошила черные ветви лип. Он поддел ногой пустую консервную банку, и она покатилась, гремя и переваливаясь своими смятыми боками.
– Я благодарен, что ты меня навещаешь, – сказал Митя тихо. – Когда тебя долго нет, я начинаю беспокоиться, думать, что там, далеко в городе, где меня нет, происходит какая-то реальная жизнь. Но когда я вижу и слушаю тебя, я успокаиваюсь, понимая, что там ничего не происходит. Все то же самое. Я ничего не пропустил и получаю удовольствие от созерцания своей собственной инерции. Ты где-то бегаешь, а я сижу в кресле-качалке, тихо качаюсь туда-сюда, хожу в магазин за продуктами, играю в шахматы с ветеранами этой тихой, как болото, жизни.
– Ты хочешь, чтобы я расплакался? Лучше расскажи, что ты наваял, – произнес я, пытаясь прервать его монолог.
– Глупый вопрос! Вчера, например, я сделал две очень неплохих акварели для своей серии «Великие мыслители»: Пушкин, ссущий на Гоголя, и портрет Сталина, татуированный портретами Ленина. Ты смеешься? Но мне нужно отдохнуть от евреев. Иначе мне скоро перестанут давать работу в издательстве. Буров сказал: «Дмитрий Борисович, все ваши советские люди выглядят евреями». Что, разве нет никаких других национальностей в Советском Союзе?
– С ним нельзя не согласиться.
– В мире есть люди, чьи бутерброды всегда падают маслом вниз, – сказал задумчиво Митя. Почти уверен, что я один из таких людей. Как только я начинаю делать что-то, это заканчивается глупо и постыдно. Сейчас, когда мне уже больше сорока, я, наконец, начинаю понимать смысл происходящего. Жизнь проста и не требует усилий. Если чего-то невозможно избежать, лучше расслабиться и получать от этого удовольствие.
Митя все еще говорил что-то, сосредоточенно посасывая кусок сахара, но я уже не слушал его. Я рассматривал пуговицы его женского свитера.
– Как ты можешь носить это?
– А что, тебе не нравится?
Митины белоснежные рисунки с готической архитектоникой и неясные рукописные эссе, покрытые кляксами и вставками, имели эстетику, схожую с пушкинскими рукописями, украшенными профилями. Витиеватые заглавные буквы, бегущие по белому полю страницы, создавали тонкие связи между несвязанными идеями, исчезающими и вновь возникающими в белой пустоте. Его мир был населен трогательными характерами из потусторонней жизни. Еврейские лица, сгорбленные библейские старцы, двигающиеся сквозь пустоту, держащиеся за буквы и слова, болтающиеся в безвременье и вне связи с реальностью. Как сон, который невозможно вспомнить утром.
Он обращался со мной, как учитель с нерадивым, но любимым учеником. «Дитин, ты должен понять простую истину, о которой говорит Монтень: гениальные работы не должны нравиться никому. Если хотя бы несколько зрителей писают от них кипятком, ты можешь быть уверен, что работа посредственная. Если же работа нравится тебе и больше никому, то есть надежда. А если тебе и самому не нравится, значит, в ней что-то есть».
Я любил вслушиваться в Митины ленивые интонации, хриплый голос, цитаты из Монтеня. Я знал, что он читал не только Монтеня, но, когда я пытался всучить ему что-то еще, он говорил: «Перестань пудрить мне мозги». Он вернул Жионо, полистав его: «Это слишком ярко для меня, и там слишком много названий. Я никогда с этим не справлюсь».
Когда он заставал у меня гостей, редко присоединялся к разговору. Сидел молча, с выражением безразличия.
– Думаешь, он еврей? – спросил он меня о молодом человеке, что сидел напротив него и энергично жестикулировал.
– Я ничего не думаю. Спроси его.
– Молодой человек, назовите мне имена двух ваших любимых поэтов? – повернулся Митя к тому, кем интересовался.
– Рождественский и Вознесенский, – ответил гость серьезно, как школьник на экзамене.
– Нет, он не еврей! – сообщил мне Митя на ухо.
– Может, он и не еврей, но ты мудак, – устало произнес я. – Что за идиотский тест. Он ни о чем не говорит.
– Хорошо, ну, а ты бы кого назвал? – с нескрываемым любопытством спросил он меня.
– Я бы, не задумываясь, послал тебя.
– Вот видишь, большая разница, – с улыбкой резюмировал Митя.
Понятие «еврей» значило для него больше, чем просто национальность. Оно означало наличие грустной, нежной иронии и особого способа мышления.
* * *
В памяти всплыли слова Мити: «Тебе надо все вспомнить. Это твой единственный шанс умереть. Ну, или хотя бы прикинуться мертвым». Я сидел на скамейке в большом пустом коридоре, похожем на больничный, и думал о Митиных словах.
Если отнестись к ним серьезно, то придется согласиться с его моделью устройства незнакомого мира, в котором мне теперь придется существовать. Впрочем, размышляя о памяти, я постепенно пришел к заключению, что она, память, живет по своим, не зависящим от нас законам. Она, как живой организм, существует внутри нас, беря на себя право самой выбирать и складывать фрагменты, а иногда просто осколки прошлого.
Наверное, это чем-то напоминает археологические раскопки, когда ученый, не имея перед собой плана, начинает снимать землю – слой за слоем. И в этой пыли мы находим иногда предметы, иногда лица людей, которых когда-то встречали, порой даже пейзажи. Наиболее интересные находки лежат в самых глубоких слоях, которые условно можно назвать детством, а то, что происходило совсем недавно, память почему-то игнорирует. Отчего это происходит, понять трудно. Может быть, недавние события еще не успели покрыться слоем пыли и исчезнуть из памяти. А если это так, то сам процесс вспоминания кажется нелепым.
К тому же со временем коэффициент удивления и восприимчивости значительно падает, снижается и коэффициент любопытства к происходящему, к людям. С возрастом почти все кажется уже давно виденным и забытым. Дежавю, как говорят французы, вкладывая в это выражение горький привкус разочарования.
Копаясь в прошлом, я пытался добраться до момента моего исчезновения: кажется, я с кем-то беседовал о своей смерти, вспомнил о друге Жераре и его брате враче, который специализировался на кожных заболеваниях и сидел на эфедрине. Это в свою очередь напомнило о моем опыте с этим необыкновенным лекарством, благодаря которому я провел около двух месяцев в непрекращающейся эйфории. В то время идея «косьбы» от армии захватила умы многочисленной армии дезертиров. Для одних проблемой был призывной возраст, другие, не имея в вузе военной кафедры, также попадали в категорию призывников. Среди них оказался и я. Способы «косьбы» обсуждались постоянно.
Самыми популярными в простонародье считались язва желудка и недержание мочи. При симуляции язвы (как рассказывали очевидцы) требовалось почти каждый день глотать резиновый шланг. Симуляция недержания мочи требовала от призывника еженощного обоссывания. Третий способ – симуляция повышенного давления – мне нравился больше других.
С этим диагнозом в армию тоже не брали, а добивались его с помощью ежедневного приема таблеток эфедрина. Правда, среди моих сокурсников, таких, кто как бы прошел это испытание, не нашлось. Было похоже, что, решившись на подобное, я стану первопроходцем, своего рода пионером в «косьбе» этим способом.
День прохождения медицинской комиссии был уже назначен, поэтому мне предстояло провести несколько тренировочных «прыжков».
В аптеке я купил пачку таблеток эфедрина, тогда он продавался без рецепта, потому что считался невинным лекарством от кашля.
Я проглотил их с трудом, запил водой и, затаив дыхание, стал ждать результата. Ждать долго не пришлось. Уже минут через десять начали появляться симптомы. Зуд в корнях волос, приятное покалывание на коже головы, легкое головокружение, переходящее в тошноту, а чуть позже и рвоту. Видимо, я принял сразу слишком много таблеток.
Короче, мне было так плохо, что я уже решил, что от эфедрина придется отказаться. Поскольку других подходящих для меня способов косить от армии не было, я решил сдаться и пойти служить.
В назначенный военкомом час я явился для прохождения медкомиссии. Это было на следующий день после моего неудачного эксперимента. Помещение военкомата, где проходила комиссия, напоминало ЖЭК или «красный уголок». На столах были разбросаны журналы с военной тематикой, на стенах плакаты, агитировавшие призывников приобретать профессии строителей и шоферов. Я с затаенным любопытством рассматривал лица будущих защитников родины, которые ждали своей очереди, и, кроме ужаса и жалости к самому себе, ничего не чувствовал. И тут я осознал, что должен получить белый билет во что бы то ни стало. Неужели опоздал? Хотелось убежать и снова наглотаться эфедрина, но было поздно: я услышал свою фамилию и послушно пошел по врачам: рентген, окулист, проверка на плоскостопие, которое у меня было с детства, ухо-горло-нос и так далее. По мере продвижения по кабинетам я старался как можно глубже дышать и долго задерживать воздух в легких. «Эксперты» утверждали, что это усиливает сердцебиение. Хотя я понимал, что теперь это уже не поможет. И вот, наконец, момент истины – кабинет кардиолога.
– Дитин, как вы себя чувствуете? – услышал я словно в тумане.
– Неплохо, – ответил я незнакомым мне голосом.
– Что вы так тяжело дышите?
– Не знаю. Волнуюсь, наверное…
– Садитесь и дайте мне руку. – Плотно обмотав мою руку черной манжетой, врач тихо и коротко приказал: – Сидите спокойно.
Я притих, чувствуя, как нарастает давление манжеты.
– Та-а-ак, – протянул доктор, выражая своей протяжностью что-то вроде удовлетворения. И скомандовал: – Встаньте.
Я послушно встал.
– Снимите рубашку.
Он долго блуждал стетоскопом по моей спине и груди, внимательно вслушиваясь. Я не видел его лица, только редкие волосы, на которых осела пыль перхоти.
– Одевайтесь, – бросил он коротко, сел за стол и начал что-то писать. – К следующему разу принесите мне копию вашей истории болезни из районной поликлиники. И вот вам направление на электрокардиограмму. К следующей среде, понятно?
– А что, доктор, что-то не так? – спросил я, стараясь не выдать свое радостное волнение.
Значит, у меня будет еще одна возможность! Ну, держитесь, до среды я так наглотаюсь эфедрина, что уж точно будет «что-то не так».
Я вышел из кабинета, как бесстрашный дезертир, решившийся во что бы то ни стало победить Советскую армию. В коридоре замедлил шаг, чтобы еще раз окинуть взглядом будущих сержантов и старшин, и в который раз подумал: вот Я и вот ОНИ.
На стене висел плакат, предостерегающий меня от задуманного плана. Его текст информировал о трехлетнем сроке лишения свободы за попытку симуляции болезни. Подобные действия попадали под статью Уголовного кодекса «Дезертирство». Считать, что текст на плакате меня испугал, я не мог, скорее, только добавил спортивного азарта. Теперь дело за техникой и мастерством. С этой мыслью я решительно направился в аптеку.
Всю отпущенную мне неделю я экспериментировал, постепенно то увеличивая, то уменьшая дозу. Папка с копией истории болезни и результатами кардиограммы покоилась на моем письменном столе. Иногда, проглотив очередную порцию эфедрина, я поглядывал на них и испытывал какое-то незнакомое мне до сих пор приятное чувство торжественного и спокойного наслаждения. Ни тошноты, ни рвоты не было и в помине.
Как я мог жить без эфедрина раньше? Препарат стал мне настолько родным, что я чувствовал каждое его движение в кровеносных сосудах, знакомое и приятное щекотание в корнях волос, наступающее в течение двадцати – тридцати минут после приема. Правда, действие лекарства, к сожалению, было не таким уж долгим, оно продолжалось где-то в течение трех – четырех часов, потом я приходил в свое обычное состояние.
В один из таких моментов я решил получить консультацию у моего дядьки Якова, опытного кардиолога. Консультация закончилась разрывом отношений.
Дело в том, что, если члены семьи или родственники знали о попытках симулирования заболевания, при котором не брали в армию, и не донесли в соответствующие органы, – они тоже попадали под статью. Об этом, кстати, тоже черным по белому было написано на плакате, который я видел на стене в военкомате. Яков даже не захотел слушать о моих экспериментах, а его жена Роза Борисовна Певзнер, одна из светил советской психиатрии, за спиной которой были десятки трудов, посвященных проблемам человеческого несовершенства, поставила мне диагноз «шизофрения» и подтвердила его, покрутив пальцем у виска.
– Он шизофреник, – переходя на шепот, доверительно сообщила она Якову.
Тот нервно размешивал сахар в стакане с чаем и молчал.
– Бедная Юдифь, – добавила она шепотом. – Что с ней будет, если она узнает…
Они не знали, что я вижу и слышу их. В это время, стоя в коридоре, я пытался дозвониться до своего друга и сокурсника Красильникова.
Короче, чаепитие закончилось семейной драмой. Яков вышел проводить меня и виновато попросил на время забыть его телефон и адрес.
Игорь Красильников, или Красило, как его все звали в институте, всю жизнь страдал гипертонией и тоже был у меня в списке экспертов. Он относился к категории «лишних людей», или просто «людей не от мира сего». Он был инопланетянин. Впервые я увидел его у Веры Яковлевны. Уже тогда он был непревзойденным виртуозом акварельной живописи. Помню, что я, как завороженный, наблюдал за легкими и быстрыми движениями его кисти. Это было похоже на ритуальный обряд. Красило с нервной и преувеличенной быстротой обмакивал кисть в банку с водой, потом так же быстро размешивал акварель, затем снова в банку и, слизнув губами с кисти краску, касался листа бумаги. Он был похож на пианиста, который едва касаясь клавиш смотрит куда-то вдаль. На листе из почти абстрактных водяных подтеков начинали возникать фрагменты натюрмортов, поставленных Верой Яковлевной, ученицей великого академика Чистякова: чучела петухов с яркими шелковистыми перьями, куриные яйца, небрежно сложенные в корзину, драпировки. Разливаясь, они образовывали акварельные подтеки на белоснежном ватмане. Красило, как маг и волшебник, цеплял эти ручьи акварели всего несколькими касаниями кисти и превращал их в прутья корзины.
Я уже теперь и не помню, каким образом мы сблизились. Игорь нередко приглашал меня к себе домой. Жил он с родителями в районе Сретенки, в просторной уютной отдельной квартире. Отец его довольно долго был то ли торговым, то ли культурным атташе во Франции. Мягкие, гостеприимные люди с каким-то непривычным для меня налетом интеллигентности и в то же время необычайно простые.
Вместе с ними жила Марина, двоюродная сестра Красилы, в которую, как мне казалось, он был тайно и безнадежно влюблен. Мне и самому она нравилась, но я старался скрывать это и от нее, и от Игоря и его родителей, чтобы, не дай бог, не дать им повод для беспокойства. Не знаю, насколько я был убедителен, но, судя по тому, что меня продолжали приглашать, моя конспирация оказалась успешной. Я действительно дорожил их отношением и боялся хоть как-то нарушить его. Традиция семейных ужинов была мне практически незнакома, а у них в доме я словно обретал семью. Помню, я ждал этих приглашений, так как они давали мне покой и уют, которых я не знал в нашей с мамой коммуналке на Мещанской. Для меня эти семейные ужины были праздником.
Красило был приглашен на медкомиссию почти одновременно со мной. Он с детства страдал гипертонией, но по закону подлости как раз в этот момент его давление было в норме. И, несмотря на то, что в отличие от меня он был счастливым обладателем объемной истории болезни, военврачи ему тоже предписали пройти серьезное обследование.
Эфедрин стал нашей общей надеждой. Главная проблема заключалась в его доставке к месту обследования, которое еще не было известно. Надо было дожить до среды, чтобы понять, будет ли обследование вообще. А пока я лежал на диване и наслаждался результатами своих опытов, мысленно готовя себя к долгожданному дню.
По моим подсчетам в среду рано утром я должен буду проглотить таблеток пять. Так уж наверняка, успокаивал я себя. Мать, видимо, получив информацию от Якова и Розы Борисовны, уехала с моим отчимом отдыхать в какой-то санаторий, наверное, чтобы создать себе алиби. В ночь со вторника на среду я не спал, без конца читая и перечитывая в медицинском справочнике главу, посвященную моему диагнозу. Там подробно описывались симптомы и особенности заболевания. Из статьи я узнал, что гипертония бывает скачущей, устойчивой или наследственной, может быть связана с нарушениями функций отдельных органов. Сердца, почек…
Выпив кофе и проглотив свою дозу, я отправился по адресу, где меня ждал приговор. «Быть или не быть?» – повторял я про себя в ожидании знакомого и приятного покалывания в корнях волос и легкого головокружения. Доктор встретил меня дружелюбно, принялся изучать историю болезни, но, видимо, не найдя там ничего интересного, впился глазами в результат кардиограммы. Потом, отложив ее в сторону, снова потребовал руку:
– Сидите спокойно, Дитин.
Он несколько раз сдувал и снова надувал грушу тонометра, из чего я заключил, что результат оказался для врача неожиданным.
– Как вы себя чувствуете? – спросил врач вкрадчиво.
– Неважно, – сдержанно, без лишнего пафоса ответил я.
– Та-а-ак, – протянул доктор. – Видите ли, как вас… молодой человек. В прошлый раз, когда вы были на медкомиссии, я обнаружил у вас аритмию, хотя давление было в норме. Сегодня, спустя всего неделю, ваша кардиограмма идеальна, а вот давление сильно превышает норму. – Он смотрел на меня с нескрываемым удивлением, как на особь, которую ему еще не приходилось встречать, потом встал, прошелся по кабинету, раздумывая над тем, что ему со мной делать. Затем сел за стол и начал что-то нервно писать. Не глядя на меня, протянул лист бумаги, сказав при этом:
– Ваше направление в Боткинскую больницу. Там вас положат на обследование. Не откладывайте, отправляйтесь как можно раньше, – и, сделав короткую паузу, добавил: – Ну, в пятницу, например. Захватите с собой все необходимое.
– Что «все»? – спросил я.
– В направлении указано. Прощайте.
Я пулей вылетел из кабинета. Голова кружилась то ли от дозы, то ли от ощущения приближающейся победы. Я решил разбить прием таблеток на две равные порции. Первая – на случай, если будут мерить давление сразу, как только я явлюсь в больницу. Если же нет, то вторую половину я аккуратно засунул в пачку «Дуката». Весь оставшийся запас, хотя бы на первое время, я надеялся спрятать где-нибудь в больничном дворе, которого я, кстати, еще не видел и поэтому решил приехать чуть раньше. Позвонил Красиле, он был крайне взволнован.
– Все будет замечательно, солнышко. – Так Красило называл меня в моменты крайнего возбуждения, почти экстаза. – Пр-р-ревосходно, – сказал он, прокатывая букву «р» на французский манер. – Мар-р-риночка будет тебя навещать и пр-р-риносить подарки. Я, по всей вероятности, увижу тебя в понедельник.
В приемном покое сновали люди в белых халатах. Дежурный врач, миловидная брюнетка с сильно накрашенными губами висела на телефоне.
– Не любительской, а отдельной. Слышишь?
Отдельной, четыреста, да, че-ты-ре-ста граммов. – Заметив, что я стою и с нетерпением жду конца разговора, она на секунду оторвалась от телефонной трубки. – Можете пока пойти погулять или покурить. Вы курите?
Я кивнул.
– Ну так вот… – указав мне кивком головы на дверь, она вернулась к разговору. Заметив листок с направлением, добавила: – Оставьте направление.
Я вышел во двор. Несмотря на моросящий дождь, по двору прогуливалось несколько человек в халатах грязновато-синего цвета, из-под которых виднелись полосатые пижамные брюки. Какое-то время я вяло следил за их передвижением или скорее ползанием по дорожкам, пока не заметил огромный штабель дров у кирпичной стены, точно такой же, как в моем дворе на Мещанской. Дрова сразу показались мне подходящим местом для тайника. Изучив штабель вблизи, я нашел его идеальным.
Единственная проблема – как обозначить то отверстие, куда я спрячу таблетки? В голову не пришло ничего путного, кроме как написать на торце бревна авторучкой «дрова», а у основания положить булыжник для обозначения вертикальной оси. Спрятав запас эфедрина в тайник, я принял дополнительную дозу и вернулся в приемный покой.
Дежурный врач продолжала висеть на телефоне, теперь болтая уже, видимо, с кем-то другим. Тон был еще выше и раздраженнее:
– Тебе что, жалко банок для Князевского?! – кричала она в трубку. – Дай ему сколько хочет, пусть хоть обоссытся! – Тут она заметила меня и сказала: – Извините. Дурдом какой-то. – Она бросила трубку и обратилась к молоденькой медсестре: – Дуся, оформи больного в шестую.
– Пойдемте со мной, – сказала Дуся, пряча улыбку. Она тоже, видимо, слышала этот телефонный разговор.
Открыв дверь больничной палаты, мы невольно стали свидетелями прекрасной картины: свесившись с кровати, молодой парень с остервенением блевал в больничный таз, который был наполнен уже почти до краев. Просто не верилось, что в этом организме могло помещаться столько жидкости. При этом парень издавал какие-то гортанные звуки, похожие на обрывки песенной мелодии: аава… га… мар…
– Что здесь происходит? – строго спросила Дуся.
– Гурам неважно себя чувствует, – ответил завернутый в одеяло мужик, с аппетитом поедавший яблоко. – Совсем неважно.
– Пить надо меньше, – бросила Дуся и стала рыскать по тумбочкам, хлопая дверцами с такой силой, что все обитатели палаты испуганно притихли.
Даже Гурам на время затих. Опираясь обеими руками о пол, как при отжимании, Дуся заглядывала под кровати:
– Князевский, поднимитесь, пожалуйста, – строго обратилась она к худосочному мужчине преклонного возраста, сидящему на кровати.
Рядом с его кроватью стояла банка с какой-то жидкостью, похожей на мочу, а поверх одеяла, на постели расположилась шахматная доска с расставленными фигурами.
– Только осторожнее с фигурами. Преинтереснейшая задачка. Мат в три хода, – не глядя на Дусю, сосредоточенно проговорил Князевский.
Дуся полезла под кровать и достала оттуда две пустые водочные бутылки:
– И не стыдно вам, Князевский! С виду интеллигентный человек.
– Дуся, вы не правы. Это всего лишь емкости для моих анализов. Вы играете в шахматы? – вдруг, чтобы сменить тему, обратился он ко мне.
Я продолжал стоять на пороге палаты.
– Играю, – ответил я, постепенно приходя в себя от увиденной картины.
– Разряд? – бросил коротко Князевский.
– Ну что вы, какой разряд. Так… – ответил я скромно.
– Без ферзя. Согласны?
Тогда я был согласен на все, лишь бы стать полноправным пациентом, быть принятым и обласканным врачами, медсестрами, даже блюющим Гурамом. Мне нужно было во что бы то ни стало выстоять, а для этого понадобятся они все, даже мухи, присохшие к липкой бумаге, свисающей с лампочек. Мне предстояло жить здесь месяц, а может, и два. Один только бог знает, как долго. Я поймал на себе улыбчивый и добрый взгляд Дуси, в этой девушке было что-то детское. Как она попала сюда, в этот зверинец?
Мой день в Боткинской начинался рано, поскольку надо было успеть до обхода врача принять нужную дозу эфедрина. К тому времени я научился глотать таблетки, даже не запивая водой. Их количество с каждым днем приходилось увеличивать. Теперь для получения эффекта шевеления волос требовалось заглатывать целую пачку. Дело в том, что, когда дежурная докторша мерила мне давление, аппарат она держала таким образом, что я не мог видеть циферблата, так что приходилось полагаться на собственные ощущения.
На вопрос: «Как вы себя чувствуете сегодня?» я всегда отвечал, ориентируясь на количество кайфа, который ощущал: «неважно» или «получше». Один раз даже пришлось ответить «просто замечательно». Это было в то утро, когда я проспал и меня разбудил врач, а значит, я не успел проглотить таблетки. К счастью, это произошло только один раз. Обычно после обхода я шел в парк и, сидя на скамейке, наслаждался легким головокружением и ощущением блаженства, которое разливалось по всему телу.
Наконец в больницу положили и Красило, для меня это стало приятной новостью. Он появился в коридоре, когда я заканчивал партию с Князевским. Тот довольно ревниво отнесся к моему другу, хотя не преминул сухо спросить его:
– А вы играете?
– Нет, и никогда не играл, – ответил Игорь.
– Давайте отложим партию, – предложил я Князевскому.
Тот с сожалением принял мое предложение и, взяв банку с мочой двумя пальцами, поплелся в лабораторию.
Мы сидели с Игорем на подоконнике и обменивались новостями, вернее, это походило больше на интервью, поскольку Игорь задавал кучу вопросов. Его интересовало все, что касалось уклада и порядков в этом заведении.
Я как мог подробно излагал ему детали и нюансы больничного существования. Мимо нас сновали знакомые и незнакомые мне персонажи, среди которых большинство были косарями. Их количество значительно сократилось с момента моего поступления, хотя прошло чуть меньше недели. В основном, выписывались претенденты на язву желудка. Симуляция этого диагноза была настолько рискованна и изнурительна, что у них сдавали нервы. Ежедневное заглатывание шланга приводило бедолаг в депрессивное состояние, и многие добровольно капитулировали на милость врачей и закона.
Я предложил Игорю выйти в парк, так как увидел возвращавшегося Князевского.
– Вы куда? – растерянно, с налетом грусти спросил тот. – А как же партия?
– Я ненадолго, Князевский, нам надо поговорить.
– Даю вам двадцать минут! – скомандовал он.
Во дворе я показал Игорю свой тайник и сказал, что он может пользоваться им как своим.
– Ты ангел! C’est généreux!
Игорь частенько вставлял в речь французские выражения. Он чем-то напоминал мне барона де Шарлю, и даже отсутствие некоторых зубов не мешало этому образу.
– Мaр-риночка обещала появиться завтра, так что все будет комильфо.
Мы молча сели на лавочку. Он вертел головой по сторонам, видимо, пытаясь понять топографию пространства и запомнить расположение тайника в дровах. Я же просто наслаждался его присутствием, оно каким-то образом успокаивало меня. И его фраза «Мариночка обещала» тоже вселяла надежду.
Наше молчание напоминало мне обряд, который исполняла моя мать перед дорогой.
– Присядем и помолчим, – всегда говорила она и после короткой паузы поднималась, брала чемодан. – Теперь пошли, – со вздохом добавляла она.
– Ну, а теперь пошли, – взяв за руку Игоря, сказал я.
И мы направились в корпус, где меня ждал Князевский с банкой, наполненной мочой, и отложенной шахматной партией.
Играл Князевский довольно средне. Поэтому его заявление в день нашего знакомства, смогу ли я сыграть «без ферзя», было, по меньшей мере, претенциозным. Теперь мы играли на равных. Он больше не дарил мне фигур, долго обдумывал ходы, играл осторожно, так как не любил проигрывать. Порой, когда его положение было безвыходным, он набирался наглости и предлагал ничью.
Кем Князевский был вне больницы, я уже не помню. Он был неплохо образован и вполне тянул на интеллигента. Возможно, манера его обращения ко мне на «вы» создавала у меня это впечатление. Но Князевский не относился к категории симулянтов, он лежал здесь с диабетом или с чем-то еще в этом роде.
Вернувшись в коридор, я нашел его на том же месте. Он сидел на подоконнике, зажав между коленями пустую литровую банку. Увидев меня, убрал банку в сторону.
– За время вашего отсутствия, – произнес он загадочно, – я досконально изучил прерванную партию и пришел к выводу, что ваша позиция довольно слаба. У меня есть несколько вариантов, но они рискованны, поэтому, считая вас здравомыслящим человеком, предлагаю ничью.
Я посмотрел на доску. Ничего критичного в своей позиции я не заметил.
– Вы принимаете мое предложение? – хитровато улыбнулся Князевский.
– Чей ход? – спросил я.
– Разумеется, мой.
– Ходите.
– Вы камикадзе. – И он двинул вперед свою пешку. – Слышите, вы камикадзе.
Я вдруг почувствовал, что кто-то из-за моего плеча тоже смотрит на доску. Оглянувшись, увидел Митяя.
– Как ты сюда попал? – недоуменно спросил я.
– А я, собственно, никуда и не уходил, все время был здесь, – довольно просто, без каких-либо эмоций ответил Митя. – Наблюдал за игрой и должен сказать, что ты играешь не так уж плохо, как я думал. Теперь и я мог бы сыграть с тобой. Что касается твоего спарринг-партнера Князевского, то я играл с ним еще давно в Покровском-Стрешневе. Помнишь, в том парке, куда ты приезжал ко мне? Правда, с ним я играл блиц и выиграл довольно много денег. Но впервые я обратил на этого человека внимание еще в мой первый приезд к тебе в Париж. Я еще спросил тебя, где тут играют в шахматы? И ты повел меня в Люксембургский сад. И если помнишь, я еще сказал тебе: «У этого мужика, а это был Князевский, я мог бы выиграть много денег». Ты еще удивился, почему я так в этом уверен? А я просто обратил внимание на то, как он нажимает на кнопку часов. Видишь ли, опытный игрок делает это не глядя, все его внимание направлено на доску. Этот же без конца искал глазами кнопку, из чего я решил, что у него мало опыта. И оказался прав.
– Подожди, но при чем тут Покровское-Стрешнево и Люксембургский сад, мы же в Боткинской?
Митяй секунду помолчал, посасывая кусочек сахара.
– Я затрудняюсь тебе это объяснить. Ты сейчас не в Боткинской, а в воспоминании о ней. Ты в состоянии уловить разницу? – с легкой усталостью и даже с каким-то раздражением произнес Митя. – Не думал, что придется разжевывать тебе элементарные вещи. Ты, наверное, помнишь, в какое дурацкое положение попал Семен, когда спросил Таля, помнит ли он свою партию на чемпионате шестьдесят четвертого года? Тот с удивлением посмотрел на Семена: «Семен, ты что, дурак? Что значит, помню ли я? К твоему невежественному сведению, я помню все свои партии, которые когда-либо сыграл. А если не веришь, возьми справочник, открой любую страницу и спрашивай меня». Семен растерялся, но, придя в себя, спросил: «Пари на ящик водки?» – «Хоть на десять», – спокойно ответил Миша. Должен тебе сказать, что Семен потом долго расплачивался с ним, и не без удовольствия. Мы ездили за Мишей по разным городам и весям, где он играл, и пили, пили… Он в самом деле помнил все свои партии. И я помню все свои рисунки, даже теперь, хотя сделал их тысячи. А ты помнишь все свои работы?
– Думаю, что да, – не очень уверенно ответил я.
– Так ты думаешь или уверен?
– Ну, уверен, – ответил я, не понимая, к чему он клонит.
Митяй снова забросил в рот кусочек сахара.
– Я хочу, чтобы ты уяснил одну простую вещь. Перестань задумываться об устройстве потустороннего мира, куда тебя занесло непонятно каким образом. Ты же не так прост и наивен, чтобы думать, что он представляет собой ад или рай, как воображают себе пэтэушники и домохозяйки. Будешь ты молиться в церквях, синагогах или не будешь, ты не станешь от этого ближе к Богу. Беседовать с ним – это удел беспомощных и блаженных. Только одна молитва должна быть у тебя в душе – твоя работа. Работа помнить! Она и есть твой бог, твой ангел-спаситель. Она же и твой загробный мир. Ты и теперь живешь в нем.
Я слушал его бред и старался понять, где я, что с ним? Митяй все больше и больше входил в какой-то шаманский экстаз.
– Мить, ты можешь остановиться? – попросил я.
– Могу, – вдруг ответил он тихо. – Прости. Я сам не знаю, что на меня нашло. Ты знаешь, я, пожалуй, пойду! – вдруг сказал он и так же неожиданно, как появился, исчез в глубине больничного коридора.
Князевский тоже, видимо, ушел спать, так и не дождавшись окончания партии. Я сидел в пустом коридоре и думал, что теперь нахожусь в новом для меня мире, в таинственном пространстве, где уже нет медкомиссии при военкомате, а вместо нее Антимирской Совет, возглавляемый моим другом Митяем. Я снова должен вступить в борьбу или игру, называйте как хотите. Теперь мне предстоит доказать, что я мертв. И для этого я, как последний идиот, должен без конца вспоминать свое прошлое, снова и снова проживая свою жизнь. Задача, которую поставили передо мной, казалась практически невыполнимой. Нет, совсем не потому, что мне трудно все вспомнить, а просто все чаще, по мере разгребания пыльных слоев, я путался в них.
Жизнь, которую я прожил до своей смерти, начинала казаться загробной, а эта, здесь, в Антимире, становилась реальной. И Луку, и самого Митю я воспринимал как живых нормальных людей, в венах которых течет кровь. Их сердца бьются с такой же частотой, как и мое. Как провести границу между этими двумя мирами? И почему первый мир не может быть загробным, а этот настоящим? Когда я играл с Князевским, который через каждые полчаса бегал сдавать новый анализ мочи, мне казалось, что я нахожусь в другом, незнакомом мне мире, который легко обозначить как потусторонний. Взять хотя бы танцы на вытоптанном пустыре, где пациенты в больничных халатах двигались, прижавшись друг к другу, под шипящие звуки патефона. Это происходило почти каждый вечер, когда обход врачей заканчивался, а больница и больничный парк погружались в состояние между волком и собакой.
Всю свою жизнь я испытывал какое-то странное чувство, похожее на гипноз, когда смотрел на танцующих людей. И совсем неважно, где это происходило: в детстве во дворе под аккордеон голубятника Птичкина, в коридоре нашей коммуналки по большим праздникам или в деревенском клубе Золотицы на берегу Белого моря, куда меня занесло в студенческие годы.
* * *
Я вспомнил морской песчаный берег, усыпанный белыми, выгоревшими на солнце бревнами, ветхие покосившиеся деревенские избы, присыпанные песком. Я ездил туда на летние этюды. Это было время, когда каждый из нас пытался стать художником. Я где-то слышал выражение «процесс становления». Что это значило, я до сих пор не могу понять, но как сейчас помню фразу моего друга Марышева: «Не знаю, как тебе, а мне пора писать картину». Что он хотел этим сказать? Скорее всего, что хватит быть студентом и валять дурака, исписывая картонки 50×70. Пора натянуть холст на полутораметровый подрамник, загрунтовать его и изобразить нечто, что расскажет зрителю о твоем внутреннем мире. Очевидно, когда он произносил эту сакраментальную фразу, ему казалось, что свой мир он нашел, а в наличии моего он сомневался. И думаю, он был недалек от истины.
В самом деле, я целыми днями слонялся по Золотице, пытаясь понять, что меня возбуждает при взгляде на окружающую реальность. Иногда казалось, что это берег, бревна и избы. Но избы писали все – и Марышев, и Самарин. Правда, Марышев их писал с высоты птичьего полета. Для этого он каждое утро взбирался на горы и оттуда рисовал панораму деревни. Самарин тоже начал большую картину.
Это был своего рода жанр, которым увлекались передвижники, то есть жизнь простого народа. Самарин работал над групповым портретом рыбаков, сидевших за большим, грубо сбитым столом, положив тяжелые красные обветренные руки на столешницу. Перед ними жестяные миски, деревянные ложки, ломти хлеба, бутылка водки, а то и две. Из-под стола торчали огромные красные ноги, своей несоразмерностью напоминающие ласты, они упруго и тяжело упирались в пол.
Я тогда не мог понять, нравится или не нравится мне этот мир, но точно знал, что он не мой. Мне он казался иллюстрацией. В нем отсутствовало главное – атмосферное состояние. Будто из картины был выкачан воздух, свет… почти все, что мы называем настроением. Присутствие краски из тюбика нарушало гармонию и правдоподобность происходящего в картине. Она была смастырена, возможно даже мастерски, но с неуклюжей интервенцией автора-режиссера, который для большей выразительности перевел все в карикатуру.
И так каждый день я бродил по деревне в поисках своего мира, но кроме рыбацких сетей, сушеной рыбы на веревках и побережья Белого моря так ничего и не нашел. Однажды, возвращаясь к себе в избу, которую мы снимали у местной старухи уже второй год подряд, я набрел на деревянную церковь. Изнутри доносились звуки баяна. То, что я увидел, войдя в церковь, поразило меня. Казалось, что я вдруг попал в свою коммунальную квартиру. Тот же пыльный свет от лампочки на шнуре, обшарпанные стены с портретами вождей вместо икон.
Портретов было много, видимо, новые вешали, не снимая изображения, давно ушедшие в небытие.
В центре на стуле, прямо под лампочкой, сидел мужик в кепке, с баяном, и грустно наигрывал «Утомленное солнце». Несколько пар топтались вокруг него. Интерьер был почти невидимым, он только угадывался сквозь пелену дыма и полумрака, окутывающего все пространство. Даже мелодия, казалось, была завернута в этот полумрак. В основном пары были мужские – солдаты, танцующие друг с другом.
В зубах у всех дымились сигареты.
Разглядывая эту картину, я заметил двух женщин. Они танцевали, прижавшись друг к другу. У одной из-под платья торчал краешек комбинации. На какой-то момент мне показалось, что они застыли в необычайно медленном движении. Я почувствовал, что вхожу в состояние волшебного гипноза.
Увиденное почему-то напомнило новеллу Натали Саррот, которую я когда-то давно прочел в журнале «Иностранная литература». Это была история маленького мальчика, в пургу сбившегося с дороги. К счастью, он заметил за пеленой метели чуть мерцающий огонек. Он пошел на него, преодолевая снежные сугробы, проваливаясь в них и снова вставая. Была ночь, и только к утру он, наконец, добрел до этого огонька, который горел в окне дома – в деревенском пабе. Мальчик с трудом открыл тяжелую дверь и вошел.
Интерьер был освещен тускло догорающими свечами. В этом свете он увидел бармена за стойкой, за столом двух спящих. На стене висела большая гравюра в раме, и на ней был изображен этот же паб, бармен за стойкой, спящие и мальчик, стоящий в дверях.
В свое время эта история поразила меня своей необычайно пронзительной, почти необъяснимой драмой, секрет которой, как мне казалось, был заключен в остановившемся времени. Видимо, картина деревенского паба обладала той же магией остановившегося времени: и фигуры, и тусклый свет создавали тот же самый эффект.
Пока мы жили в Золотице, я каждый вечер наблюдал за танцами, делал наброски, а затем, придя домой, пытался передать на картоне 50×70 магию остановившегося времени. Я даже старался писать при свечах, вспоминая Жоржа де Латура.
Каждый год в институте проходила выставка студенческих этюдов, сделанных во время летних каникул. Нафталий Давидович Герман, мой педагог, польский еврей, с трудом говорящий по-русски, после просмотра отозвал меня в сторонку и почему-то шепотом произнес:
– Запомните, Дитин, это ваша первая работа художника. Никогда не расставайтесь с ней! Вы поняли? Вы стали художником.
Глава 15
Спать не хотелось. Я слонялся по больничному коридору. Желания возвращаться в палату не было. Там, скорее всего, меня ждал разговор с Гурамом. Он был близок к капитуляции, несмотря на ежевечерние танцы, где пользовался популярностью у девушек из соседнего травматологического отделения. Видимо, упакованные в гипс ноги и костыли возбуждали его воображение, а ограниченная мобильность пациенток устраивала его южный темперамент. Основной его задачей было склонить их к оральному сексу. По вечерам Гурам изучал уже довольно замусоленный трактат под названием «Камасутра», скорее всего, пытаясь открыть для себя новые позиции, возможные при ограниченной подвижности партнерши. И если перед сном он обычно возбужденно делился со мной своими успехами, то по утрам впадал в депрессию.
– Послушай, ара, не могу, слышишь, не могу. Хочу сдаться, слышишь. Не могу больше. Сколько желудочного соку им нужно?
Я, как мог, пытался успокоить его. Основным моим аргументом было время, которое он уже убил на это издевательство над организмом.
– Надо держаться до конца, Гурам. Ты же мужчина.
Но в ответ только:
– Ты правильно говоришь, ара, правильно. Но, слышишь, не могу больше, не могу…
Кончалось все тем, что мы шли с ним в туалет, где я глотал свою дозу, а он в кабинке, плотно закрыв за собой дверь, бормотал что-то похожее на молитву.
В тот день дежурила Дуся. Она сидела в коридоре и писала что-то в большом толстом журнале, в который, видимо, заносились результаты обхода врача и еще какие-нибудь предписания. Я должен был пить дибазол – коричневую полупрозрачную жидкость – три раза в день. Разумеется, я к нему не притрагивался, а выливал в горшок с геранью в палате.
В коридоре было тихо, только откуда-то издалека слышались звонки трамвая.
– А вы что не спите? – прошептала Дуся, не оборачиваясь, видимо, чувствуя спиной мое присутствие.
Я промолчал, только подошел ближе и положил руку ей на плечо. Она молча продолжала скрипеть пером, как бы не замечая моего прикосновения.
– Вы пили сегодня дибазол? – спросила она, не меняя позы.
– Конечно, все, что из твоих рук, Дуся, я пью не задумываясь. Я уверен, что ты меня не собираешься отравить.
– Не говорите глупостей, Дитин. Вы должны понимать, все, что прописывают врачи, это для вашей пользы.
– Да, конечно, я это понимаю. Но я хотел пригласить тебя покурить, – сказал я тихо и добавил: – на лестницу.
– А что мне за это будет? – с каким-то не то детским, не то с чуть провинциальным кокетством спросила Дуся. – Вы идите первым, я приду попозже.
У нас с Дусей постепенно сложились так называемые близкие отношения, какие бывают между медсестрой и пациентом. В те ночи, когда она дежурила, мы шли на лестницу, стояли, тесно прижавшись друг к другу, целовались. Но каждый раз, когда переходили границы целомудрия, она брала себя в руки и отстранялась со словами: «Нет, не надо. Я на работе», и затем гладила меня по волосам. Иногда она позволяла расстегнуть ее белый халат. Тогда я мог какое-то время блуждать рукой по ее почти детскому телу.
– Я прошу вас, вы что, не слышите? Я же сказала… А еще…
– Что еще?
– Вы обещали нарисовать мой портрет. Ну, и когда вы это сделаете?
– Да хоть сейчас, Дуся.
– Нет, сейчас я на работе и у нас нет времени. – Прижавшись к моему расстегнутому халату, она гладила потной ладонью мою грудь.
…За окном уже светало. На лестничной клетке по стеклам окна медленно стекали струйки дождя, и была слышна тихая дробь капель по ржавой жести подоконника.
– Все, пора спать, – шептала Дуся. – Вы поспите, а мне еще работать. – Застегнув халат, она пошла по коридору, оставив меня одного. Не знаю, догадывалась ли она о моей симуляции, и, видимо, никогда так и не узнаю.
Я в каком-то блаженном изнеможении поплелся, шаркая больничными тапочками, в свою палату № 6, лег на кровать, закрыл глаза и под прерывистый храп Гурама стал медленно погружаться в сон. Что может быть приятнее, чем прислушиваться к ночным звукам? Днем мы их не слышим. Но ночью и звонки последнего трамвая, и стук дождя по стеклу, и гудки машин – все они как наркотик, который обволакивает тело и сознание сладкой дремотой. Порой ты даже на какое-то время забываешь, где находишься. И только собрав остатки памяти, постепенно осознаешь географию своего местонахождения, начинаешь медленно перебирать в голове события прошедшего дня, а они, как в броуновском движении, снуют, не соблюдая очередности. Ты усилием воли стараешься как-то организовать этот хаос, но, осознав безнадежность, да и ненужность этого порядка, медленно отдаешься сну.
Утром я вдруг обнаружил, что не могу найти свой больничный халат. До обхода врача оставалось всего двадцать минут. Меня охватила паника. В кармане халата лежала пачка сигарет, где хранились таблетки эфедрина. Не бежать же для приема дозы во двор к моему тайнику! И тут вдруг я вспомнил про Красилу. Сунув ноги в тапки, я помчался к нему.
– Что случилось, солнышко? – пробурчал он сонно.
– У тебя нет лишней пачки? – спросил я шепотом, чтобы не разбудить больных на соседних койках.
Он полез в тумбочку, долго копался и, наконец, подняв свою кудрявую голову, грустно объявил:
– Солнышко, у меня только пять таблеток – на сегодняшнее утро.
Я снова бросился в свою палату. Где же может быть этот проклятый халат?! Вбежав в палату, я увидел Дусю. Она сидела на моей прибранной ее руками кровати, а рядом покоился аккуратно сложенный халат.
– Простите ради бога, но ночью было так холодно, что я взяла ваш халат, чтобы накрыться. Видите… Вы меня согревали, и я как будто спала с вами. Ну, а теперь пойду, – сказала она грустно, – пора сдавать смену.
Как только она исчезла за дверью, я сунул руку в карман халата, достал дрожащими руками пачку «Дуката». Таблетки были на месте. Видела ли их Дуся? Скорее всего, да, но узнать мне этого так и не довелось. Не знаю почему, но в больницу она больше не приходила. То ли что-то произошло в ее жизни, то ли она уехала, заболела… Может, испугалась отношений с дезертиром, не желая попасть под статью Уголовного кодекса. Все это были мои домыслы, а что было на самом деле, одному только богу известно.
Жизнь в больнице шла своим чередом. Лениво и монотонно текли дни и ночи. Пошел второй месяц моей Боткинской осени. Красилу выписали пару недель назад с удачным диагнозом «скачущая гипертония», и теперь я видел его уже в роли визитера. Они с Мариночкой навещали меня, исправно доставляя эфедрин, так как потребность в нем увеличивалась в геометрической прогрессии. Оба выглядели как счастливая пара. Гурама выписали по его собственной просьбе. Он все-таки не выдержал и сдался. Мы с ним тепло попрощались. Последней его фразой было: «Прости, ара, не могу больше, а!» Он оставил мне свой адрес и номер телефона, а также совсем истрепанную «Камасутру».
Даже Князевский был выписан с подтвержденным диагнозом «диабет», который позволял ему получать пенсию по инвалидности какой-то там группы. Я же с нетерпением продолжал ждать приговора, все больше и больше впадая в зависимость от зелья, которое с жадностью заглатывал каждое утро в туалете. Принимая таблетки, я заметил, что почему-то упорно смотрю на себя в грязное, забрызганное сортирное зеркало, пытаясь, видимо, запечатлеть все моменты своей героической эпопеи. Пожалуй, в тот момент я в самом деле ощущал себя героем, вступившим в борьбу с Голиафом.
Правда, я еще не знал, чем кончится этот поединок. Но сам факт, что я добровольно сражался с противником, который во много раз превосходил меня по силе, сознание отчаянной смелости вызывали уважение к самому себе. Видимо, поэтому хотелось увидеть хотя бы в зеркале физиономию небритого героя, в котором я с трудом узнавал себя.
В один из дождливых осенних дней медсестра объявила о приближении к моей палате № 6 комиссии. Причем нет, это не был обход дежурного врача, это был консилиум. Я стал просчитывать возможное артериальное давление по количеству и интенсивности щекотания в коже головы, но процесс был внезапно прерван распахнутой дверью. В палату вошли люди в белых халатах.
Группу возглавляла женщина, которую я никогда прежде не видел. Она была уже немолода. Гладко зачесанные назад волосы. Красивая седина с легким голубоватым оттенком. В женщине было что-то царственно доброе, все излучало в ней благородство. Она не вписывалась в интерьер нашей затхлой палаты с липкой лентой для ловли мух, свисающей с лампочек. Группа в белых халатах двигалась от кровати к кровати, ненадолго задерживаясь у каждого больного.
Наконец врачи подошли ко мне. Докторша с сияющими семитскими глазами довольно пристально и, я бы сказал, с нежностью разглядывала меня. Неожиданно она просунула руку под одеяло и взяла меня за щиколотку. Подержав с секунду, осторожно отпустила и сказала:
– Какие холодные ножки. Бедняга.
Мне показалось, что она видит меня насквозь и просто подыгрывает мне. Но и этого я никогда не узнаю.
На следующий день меня выписали, направив результат обследования прямо в военкомат и через неделю вызвали оттуда для получения белого билета.
Помню, когда я вышел из Боткинской, меня стошнило прямо на улице, на мокрый от дождя асфальт. Я не знал, куда мне идти. В отличие от Красило у меня не было своего дома, и я не помню, был ли тогда счастлив в своем «гордом» одиночестве, но я шел вперед, размазывая по щекам слезы, изредка останавливаясь, чтобы сблевать.
* * *
Само понятие «дом» было всю жизнь для меня до такой степени размыто, что сводилось к единственному определению: место, где я спал и где находились мои вещи. Но с годами даже это понятие стерлось. Я так часто менял адреса, города и страны, что мысленно заменил его «местом работы». Хотя вещи с годами накапливались. Я был завален какими-то марокканскими дверями, старыми зеркалами, белой фаянсовой посудой, гравюрами.
Мой дом всегда был там, где приходилось работать: в Москве на бывшей Кировской, напротив Почтамта, какое-то время в мастерской в Нормандии, которую я увлеченно и с каким-то остервенелым энтузиазмом строил с помощью местного прораба Жак Марка, затем я перекочевал в Нью-Йорк. Можно без конца перечислять адреса моих обиталищ. Сколько могло быть мемориальных досок, если бы я не умер так рано и оставил после себя шлейф интернациональной славы? Впрочем, теперь это меня не так беспокоило, как раньше. Глядя с высоты потустороннего мира, я сожалел, что не имел дома где-нибудь на океане, на каком-нибудь пустынном побережье Кейптауна или Новой Зеландии. Меня всегда тянуло в города, где я никогда не был или бывал проездом, как турист, где жить мне не довелось. Некоторые города, как и люди, с возрастом стареют и меняют свой облик почти до неузнаваемости. Это зависит не столько от внешнего вида и архитектуры, сколько от твоего внутреннего состояния и от живущих там людей. Они постепенно исчезают по какой-то причине, или ты теряешь к ним интерес.
Возможно, это похоже на совместную жизнь с женщиной, которая однажды перестает возбуждать твое любопытство. Да и ты становишься ей неинтересен. Сталкиваясь с подобным, близкие люди начинают искать выход, отползая друг от друга на приличную дистанцию, чтобы совсем исчезнуть. Одни это делают постепенно, стараясь не обидеть партнера, другие просто бегут, как дезертиры с поля боя. Так мы поступаем и с городами-легендами, оставляя их для других, еще полных энтузиазма людей. Бесполезно объяснять, что жить там годами – не туризм, не посещение Лувра или Красной площади, не экскурсия на катере к статуе Свободы. Это совсем другое. Это, скорее, каждодневная борьба за выживание, за признание или просто за приятие факта, что ты существуешь в этом городе, что у тебя есть друзья и, главное, работа, которая тебе интересна.
Очевидно, такое же «отползание» произошло у меня и с Москвой 60–70-х годов. То время теперь вспоминается как дурной сон.
Зимой Москва была особенно убога. Темные улицы, заваленные почерневшим снегом. Дома с облупившимися стенами. Мятые, с ржавыми подтеками водосточные трубы, заклеенные объявлениями об обмене квартир. В тусклых окнах коммунальных полуподвалов, за тюлевыми занавесками, можно было разглядеть обшарпанный зеркальный шкаф и бессменный оранжевый абажур с бахромой, свисающий с низкого потолка. Пивные палатки, окруженные плотным кольцом возбужденных мужиков с трясущимися не то от холода, не то от беспробудной пьянки руками. Они толпились около ларьков независимо от погоды и времени года. И в жару, и в холод, и в дождь. Это были годы очередей. Очередь занимали еще до открытия. Стояли за всем.
Иногда за стеклянной витриной представала гора шоколадного масла или составленные пирамидкой консервные банки. Над «Килькой в томатном соусе» или «Печенью трески» висел портрет какого-нибудь вождя. Чаще всего это был Ленин. Столовые с запахом несвежей еды и общественного туалета предлагали обычный джентльменский набор: рассольник, котлеты и компот из сухофруктов.
Город был похож на огромную опустошенную продовольственную базу. Ее обитатели дни и ночи проводили в поисках чего-нибудь, что еще не украли. От песка и соли, которыми в изобилии посыпали заснеженный асфальт, тротуары и проезжая часть покрывались слякотной грязной кашей.
Во всем этом, безусловно, была своя прелесть, как и в коридорах коммунальных квартир и пахнущих мочой подъездах – симфония бедности и ветхого элеганса.
По улице Горького фланировали пары в модных «американских костюмах», пошитых своими руками. Джинсы, рубашки «батон даун», жвачка были фетишами западного мира, протестом против убожества советской жизни.
Ночная жизнь проходила только в закрытых клубах – ЦДЛ, Доме кино, ЦДРИ, ВТО, Домжуре. Перемещались из одного заведения в другое. Публика целовалась при встрече, целовалась при расставании, мужчины, крепко обнимаясь и похлопывая друг друга по плечам, чуть позже, напившись, так же остервенело ругались и дрались до первой кровянки. Это была столичная жизнь.
В то время в Москве уже стала появляться творческая молодежь из провинциальных городов. Она рвалась туда, мечтая завоевать столицу во что бы то ни стало. Провинциалам стало тесно в своих городах. Они ходили по Москве в меховых шубах, самострочных брюках, читали стихи. Завоевание столицы шло через советско-артистические салоны. Пути и способы были разные. В данном случае все было дозволено, даже спать с чужими женами. На таких посиделках бывали Окуджава, Галич, Высоцкий.
Публика попроще довольствовалась пригородными поездами и туристическими палатками. Многие жили с родителями в коммунальных квартирах, поэтому за любовными утехами ехали в подмосковные леса. Там, у костра, пели тех же Окуджаву, Визбора, Галича, Камбурову. А потом, раздавив несколько бутылок, влюблялись, теряли девственность, а под утро, налюбившись до отвала, взвалив рюкзаки на плечи, искусанные комарами, снова плелись куда-нибудь до станции Сходня или Малаховка, чтобы вернуться в свои коммуналки. На улице не было ни одного прохожего, который не носил бы плащ-болонью. Казалось, времен года не существовало: и зимой, и летом – плащ-болонья. Он стал символом роскоши и успеха. Даже милицию переодели в болонью. Следом появился другой символ – пыжиковая шапка. Успешные – в пыжиковых шапках, менее успешные – в тряпичных, подбитых волчьим мехом. Тогда в темном переулке могли убить только за пыжиковую шапку. Короче, это был город, из которого хотелось бежать как можно дальше, не выясняя отношений ни с ним, ни с его обитателями.
Какое это имеет отношение к внутреннему миру художника, который к тому же почти мертв? Затрудняюсь ответить. Но, видимо, мы все взрослеем и стареем на фоне каких-то событий, в окружении тех или иных людей. Мы живем не в вакууме, и наш так называемый внутренний мир складывается из образа жизни всего, что нас окружает. Видимо, одним важно отодвинуть себя от большинства, постараться выделиться из толпы. Другим, наоборот, хочется как можно ближе быть к толпе, а если повезет, стать ее знаменем, лидером. Я с детства презирал большинство и всегда хотел быть меньшинством, пусть даже национальным.
Глава 16
Мы сидели на кухне за столом: Фима, Кирилл, Женька, Валентин Ежов и я. Я не помню, когда мы начали – сегодня или вчера, а может быть, это было два дня назад. Мы всегда сидели так, и всегда на кухне. Как у Сартра в комнате с зеркалами.
Раздался громкий стук в окно.
– Дитин, открой, это я, твой Володя!
Володя Манекен всегда находился в состоянии легкой эйфории. Его первобытное русофильство было данью поклонения поэту Есенину – его идолу. Он старался одеваться в стиле элегантного бомжа: черное до пола пальто, старый замусоленный белый шелковый шарф, бордовая «бабочка» на шее. С ним вошла собака невероятных размеров.
– Черт бы вас побрал! Я скучал по вам, мои милые маленькие друзья – Дитин, Кирилл, Женька и дядя Валя. – Поцеловав Ежова в лоб, он обошел вокруг стола, жалуясь на тяжелую долю забытого всеми бедного Володи. – Я только из деревни. Навещал мачеху. Как же она меня, сука, любит. Яблоками кормила да и в дорогу дала. Вот, угощайтесь, – высыпая на стол яблоки, причитал он. Заметив незнакомое лицо Фимы: – А это кто? Вижу, человек достойный! – и, протянув Фиме руку, представился: – Володя Попов, поэт.
– Володя, сделай одолжение, убери куда-нибудь свою собаку, – попросил Женька.
Не обратив внимания на Женькину просьбу, Володя повернулся к Ежову и заголосил:
«В синюю высь звонко глядела она, скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в полях…» Дядя Валя, ты единственный, кто меня здесь понимает. Может, еще почитать?
– Володя, ты можешь немного помолчать. Посиди, расслабься и убери, наконец, своего пса, – уставшим голосом произнес Ежов. – А ты, Женька, сбегай еще за водкой и пивом.
Володя ушел в глубину мастерской, но его не меняющийся в тоне голос продолжал звучать на кухне.
– Дорогая Люся, сядь рядом со мной и посмотри в мои глаза. Если бы ты знала, как я хочу почувствовать эмоциональную бурю, скрытую в твоем грустном взоре, и ощутить страсть, которая прячется в твоем хрупком теле… – обращался он к проститутке Люсе, которую привел с собой Ежов.
Новогодние праздные дни всегда сопровождались визитами как друзей, так и совершенно неизвестных людей. Даже поздно ночью, после закрытия Дома кино, Дома журналистов и других подобных заведениий все хотели продолжения праздника. А так как наши с Кириллом мастерские находились в центре, гости, не стесняясь, без предупредительных звонков тащились к нам. Сунувшись в мастерскую Кирилла и не найдя его там, они шли ко мне, а иногда и оставались у меня до утра. Бывало, я даже не знал людей, которые сидели у меня и, болтая, обращались ко мне как к старому знакомому.
Пожалуй, худшим гостем был рыжий Кольмер, дантист, друг Женьки и Володи Манекена.
Кольмер всегда прошмыгивал в дверь с одной из заблудившихся в городе туристок. Он находил их везде: в автобусах, парках или просто на улице. В его необычайном напоре была какая-то неотразимая сила магнетизма. Кольмер тащил жертву в одну из комнат, торопливо говоря что-то о живописи, о гениальности обитателей мастерской, и в считаные минуты он уже лежал на безвольном теле растерявшейся от его напора иногородней. «Главное – не давать им опомниться!» – часто повторял Кольмер. Невероятная крепость его нервов и идиотизм потрясали даже Женьку, Кольмер же со своей стороны довольно презрительно относился к литературно-драматическому стилю ухаживаний последнего.
Никто из нас не знал о профессиональных способностях Кольмера как дантиста. Большинство его пациентов были жителями провинциальных индийских городков, куда его посылали работать по программе дружеской помощи. Он никогда не прикасался к нашим зубам, боясь, что после лечения потеряет единственное место, куда водит своих жертв.
За окном все время шел снег. Пельмени в тарелках превратились в кашу. Стол выглядел как асфальт, замусоренный окурками и огрызками яблок.
– Сегодня настоящий снегопад, – сказала Нора, не обращаясь ни к кому конкретно.
Фраза повисла в воздухе, но Кирилл подхватил:
– А какова видимость?
– Кирилл беспокоится о Женьке, который может потеряться с двумя бутылками, – объяснил всем Ежов.
В этот момент на кухне возник Володя Манекен и опять прочитал что-то из Есенина.
– Володя, сядь, отдохни немного… – попросил Кирилл.
– Кирилл, я отдыхал два месяца в санатории. Теперь могу с гордостью сообщить, что я инвалид третьей группы. У меня есть справка, что я сумасшедший. Я – поэт, человек с больной душой, как у Есенина, как у Пушкина. Не правда ли, дядя Валя?
Манекен был настоящим юродивым, какие нередко встречаются в России. Его слабоумие коренилось в частичной импотенции и поэтической вере в единство душ, в данном случае его души с душой Есенина. Он не любил вспоминать свое детство, мать, работающую в баре. Бывшая жена Володи, чья мать тоже была барменшей, хотела, чтобы Володя стал инженером. Но Володя работал моделью. И на советском показе мод в Париже, стесняясь простой фамилии Попов, раздавая автографы, подписывался месье Вальдемар. Сейчас же он представлялся Володей Поповым, поэтом, чтобы подчеркнуть разницу с Володей Манекеном.
Последние несколько лет он болтался по Москве с разными сумками и пакетами, иногда с собакой, а иногда со всем этим барахлом вместе да еще с велосипедом.
Карьера Рихарда Зорге, что так привлекала его в первых поездках за границу, не состоялась по причине Володиного слабоумия. Он пытался соединять работу манекенщика со «шпионской работой» стукача. Теперь Володя относился к своей юношеской мечте с иронией и рассказывал мне, что иногда автоматически набирал телефонный номер, который застрял в его памяти, как строки любимого поэта, в надежде передать какую-то важную информацию. На другом конце провода снисходительно слушали его донесение, а потом обрывали на полуслове насмешливым замечанием:
– Попов, ложитесь в больницу!
Володя ложился в больницу и часто делал это вовсе не по своей инициативе. Его забирали насильно из-за жалоб приемной матери, иногда после жалоб соседей. Лечебницу он с иронией называл санаторием. Пребывание в этом месте казалось идеальным решением всех его проблем, а жалкие тридцать рублей пенсии по инвалидности – той самой суммой, которой недоставало для полного счастья. Иногда, чтобы попасть в «санаторий», он тщательно готовил общественное мнение соседей и участкового по фамилии Чурбанов. По долгу службы Чурбанов должен был навещать закоренелого тунеядца.
Володя Манекен декорировал две свои комнаты таким образом, что участковый, приходя к нему, страдал, словно от физической боли. Через всю комнату была протянута леска. Старые ботинки, вырезки из газет, сломанные игрушки, а также весь Володин гардероб висели на ней новогодней гирляндой. Стол для пинг-понга с натянутой сеткой стоял посреди комнаты. К вырезанным из фанеры ракеткам были любовно приклеены резиновые подошвы. Но это было еще не все.
В другой комнате Володя соорудил себе место для сна, подобно скульптору, работающему в стиле сюрреалистического абсурда. Только хромированная передняя спинка с шишечками в стиле арт-нуво говорила о том, что это кровать.
Козлы, на которых каким-то необъяснимым образом ему удалось установить деревянную коробку от трофейного радио «Грюндик», играли роль основания этой кровати. Радио без коробки было не чем иным, как страшным клубком проводов и ламп. Огромных размеров фотография Уиллиса Коновера, вставленная в оклад от иконы, завершала шедевр дизайнерского идиотизма. Матраца не существовало вовсе, его функцию исполнял лист фанеры, положенный на кирпичи. Вместо простыни – тряпки, которые когда-то были простынями. Пес по кличке Джек, привязанный к хромированной спинке, охранял эту странную конструкцию.
В комнате не было стульев, так что Чурбанову, пока Володя Манекен читал ему лекцию, приходилось стоять. Иногда участковый присаживался на старый чемодан, который Володя вежливо предлагал ему вместо кресла.
Чурбанов сломался довольно быстро. В один из дней он зашел, чтобы с грустью сообщить Володе о том, что вынужден бросить работу с ним из-за недостатка образования.
– Я окончил только четыре класса, – печально признался он Попову, – поэтому передаю тебя другому участковому.
Новый участковый оказался тоже недостаточно образованным. У него было всего восемь классов вечерней школы. Уже через короткое время в докладной записке он отметил: «Мой подопечный безответствен, со странностями, постоянно декламирует с трудом поддающуюся расшифровке поэзию».
После этого Володя загремел в «Матросскую Тишину», где честно заработал пенсию в тридцать рублей и углубил свои знания в области психиатрии, которые были ему необходимы для дальнейшего сражения с советскими законами. Он боролся в гордом одиночестве, собирая справки, которые давали ему возможность не работать и не платить за квартиру. Без справок его могли в любое время лишить жилплощади. Так что он на всякий случай выдумывал разнообразные схемы, то предлагая деньги, то фиктивный брак. Но дальше разговоров дело не шло. Он продолжал существовать все в том же подвешенном состоянии, пока, наконец, его симуляция не превратилась в прогрессирующую шизофрению.
Женщины не сильно интересовали его и были необходимы только как слушатели. Это помогало ему чувствовать себя востребованным. Он производил впечатление невероятно занятого человека. Его коллекция сумок, пакетов и велосипед с привязанным к нему псом предназначались для создания атмосферы неотложности и важности его беготни по городу.
Он появлялся в мастерской, чтобы покормить и вымыть свою собаку, а заодно выстирать рубашку. Если спешил, надевал ее мокрой.
У Володи был странный приятель по имени Джонсон. Он носил цилиндр, работал дантистом и страдал от еще более продвинутого слабоумия, чем Володя, так что тот относился к нему снисходительно. Джонсон представлял собой мужскую версию Эллочки Людоедки: его словарь состоял из слов breakfast, bacon and beer.
* * *
Мы задумали наше с Кириллом путешествие на Шикотан еще зимой. Москва уже не приносила нам ничего нового: только концерты Йоко, вальпургиевы ночи Вальки Ежова и Володю Манекена, декламирующего стихи Есенина. Хотелось куда-нибудь сбежать, но найти место, где можно было бы спрятаться от всего этого, казалось невозможным. Ни юг, ни Ленинград, ни Прибалтика не могли стать убежищем. Кирилл выбрал Шикотан, потому что это было так далеко, что даже Ежов не стал бы раскошеливаться на билет.
Союз художников оплачивал билеты туда и обратно. Чтобы заработать денег на поездку, мы взяли заказ на оформление музея Циолковского. Нам заказали две большие гравюры: Кирилл должен был изобразить Якова Захарова, совершившего первый полет на воздушном шаре, а я – китайского изобретателя XIII века по имени Ван Фу. Его полет не состоялся, но он собирался лететь на бамбуковом воздушном змее. Моя задача была значительно сложнее.
Я должен был нарисовать что-то смутно напоминающее развалившийся шалаш из бамбуковых палок, внутри которого должен был находиться растерянный китаец в халате. Я скопировал рисунок этого халата с какой-то китайской почтовой открытки. С того момента, как мы сдали заказанные нам «полеты», я больше не видел их, но друзья утверждали, что они все еще украшают стены архитектурного шедевра, посвященного отцу русской космонавтики.
* * *
Наш корабль причалил в Малокурильске, чтобы переждать шторм. Нашими спутниками были школьники – пионерский отряд, направлявшийся к вулкану Менделеева, расположенному на Курильских островах. Пионеры высыпали на палубу и грели свои позеленевшие от морской болезни лица на солнце. Вся команда, что не была на вахте, столпилась на одной стороне палубы.
– Иван, тащи винтовку скорее! – крикнул седой моряк.
Иван вернулся и, перегнувшись через борт, выстрелил.
– Пальни еще разок, чтобы не болтался, сука, – заорал угрюмый моряк, стоявший рядом с седым.
Что-то огромное, белое висело на конце лески. Вода покраснела, когда Иван выстрелил еще раз. Седой вытаскивал леску медленно. Это был огромный палтус. Седой и его помощник Иван повесили рыбу на палубе на крючок для сетей. Медленно и безнадежно палтус поворачивался, показывая свои белоснежные бока утреннему солнцу.
Пионеры подошли близко и потрогали его.
– Сукины дети, загадили всю палубу, – ворчал угрюмый моряк, – теперь чистить за ними!
Мы с Кириллом сидели на ящиках из-под рыбы и безмолвно наблюдали. Пионервожатая пристроилась рядом с нами. Она была, вероятно, единственным человеком на борту, выдержавшим шторм. Накануне вечером, когда все были полумертвыми от дикой качки, она, уютно примостившись на краю койки Кирилла, рассказывала романтические истории ночного Шикотана. В ее историях непременно присутствовали пушистый белый снег и воющие волки.
– Ты читал Юрия Казакова? – спросила она Кирилла.
Он сделал неопределенное движение губами. Было неясно, пытается ли он ответить ей или сдерживает позыв тошноты. Пионервожатая продолжала:
– На мой взгляд, в них есть суровая поэзия. Ты согласен? Ой, ты чувствуешь себя плохо, а я все говорю и говорю… Знаешь, я совсем забыла городскую жизнь. Мне так хочется поговорить с человеком, который мог бы меня понять. Я училась в Ленинграде, но с тех пор больше там не была. Постоянно работа, а летом дети…
Как мне показалось, ночью качка прекратилась, и я, засыпая, слышал шепот пионервожатой:
– Подожди, он еще не спит.
По неровному дыханию Кирилла я понял, что это предостережение его не остановило.
Я только поражался таланту друга приспосабливаться к любым метеорологическим условиям.
Моторный баркас, подходивший к кораблю, чтобы забрать пионеров, тарахтел рядом. Пионервожатая взглянула на Кирилла и торопливо спросила:
– Ты мне напишешь?
Он машинально посмотрел на меня, но ответил ей сразу:
– Конечно.
Удовлетворенная, она побежала собирать своих пионеров и, обернувшись, крикнула:
– И обязательно прочти Казакова!
– И Евтушенко, – добавил я с улыбкой.
– Хорошо, – ответил Кирилл.
Когда пионеры сошли в Менделееве, мы остались единственными пассажирами, не считая старухи с двумя сумками и ведром, завязанным сверху тряпкой.
После пионеров пришел еще один баркас, и с причалившей по соседству с нами «Родины» на него стали входить девушки, приехавшие наниматься на работу. Это было так близко, что мы могли видеть их серые изнуренные лица.
Погода резко изменилась. Солнце, что так много обещало утром, безнадежно исчезло. Моросило, и дул холодный ветер. Девушки стояли на ржавой палубе металлического понтона, приплясывая на месте от холода. На многих были нейлоновые чулочки и лодочки – прощальные атрибуты городской жизни.
Их пускали на борт строго по списку. Мужик в теплой зимней фуфайке сидел за столом на понтоне. Его розовые уши торчали из-под кепки.
– З. А. Прохорова – Копейск! – кричал он.
– Здесь, – отвечал голос из толпы девушек.
– М. Н. Пузанова – Тула! – хрипел он, поднимая и опуская уши.
– Здесь!
Их было так много, что казалось, перекличка не закончится никогда. Количество городов, о которых я никогда не слыхал и не встречал на карте, добавляло какую-то жуткую нереальность бесконечной перекличке.
Штурман нашей старой посудины крикнул из кабины прямо нам в уши:
– Эй, девочки, вам же холодно, идите сюда! Мы вас согреем! Что вы ждете? Не стесняйся, кудрявая. Я не трону тебя.
Кудрявая, взяв подругу себе в помощь, пошла в кабину греться.
Мужик с розовыми ушами хрипел:
– А. С. Фетисова – Нальчик!
– Здесь, – откликнулось слабое эхо.
– Эй, папаша, следи за руками, – донеслось из кабины.
– Ну, давай. Если ты не дашь мне согреть твою задницу, совсем замерзнешь! – послышалось из кабины.
Мы стояли, опираясь на мокрые деревянные поручни качающегося судна.
– Ты был на похоронах Сталина? – неожиданно спросил Кирилл.
– Нет, а почему ты спрашиваешь?
Я не мог оторвать взгляда от розовых ушей под кепкой.
– Я жил на улице Чехова, – начал Кирилл. – Ты знаешь, рядом с Пушкинской. Это было начало марта, на улице дикий холод. По нашей улице прямо напротив моего дома шел людской поток. Мы с ребятами сидели на заборе и предлагали замерзшим, уставшим женщинам из очереди пройти задними дворами прямо к гробу Сталина. Большинство из них знали, что на улицах – кордоны, и не верили нам. Но некоторые соглашались. Это были те, кто отчаялся стоять в очереди. Толпа, которую только безумное воображение могло назвать очередью, еле двигалась. Многие так никогда и не вернулись с похорон, погибли в давке. Мы только помогали доверчивым женщинам перелезть через забор и спуститься во двор, сопровождая к обещанному секретному проходу – заброшенному бомбоубежищу, оставшемуся после войны. Там не было ничего, кроме грязного пола и непроглядной тьмы.
Мы подготовили убежище для дня похорон, положили лист металла на пол и притащили туда старую кровать. Старшие члены нашей банды, Гаредкин, Крантц и Одноглазый, ожидали внутри. Там мы набрасывались на жертву, как животные. Бросали на кровать, срывали одежду и хватали за все, что могли. Нужно было слышать, как они кричали – сначала от страха, а потом от отчаяния. Иногда старшим удавалось изнасиловать женщину, мы же довольствовались только возможностью лапать ее, а потом отпускали на улицу. Я не знаю, шли они потом домой или прощаться с Иосифом. Выждав некоторое время, мы снова занимали нашу позицию на заборе.
Крики мужика с розовыми ушами растворились в монологе Кирилла и в шуме дождя, который барабанил по доскам нашего корабля и по ржавой палубе баркаса. Заявляя о себе бесконечному океану тремя долгими гудками, понтон, скрипя и плеская, развернулся, забирая с собой неведомые судьбы женщин из неизвестных мне русских городов.
Глава 17
Всю неделю постоянно шел дождь. Мы жили в небольшом отдельном бараке, куда нас поместили местные власти и где мы восстанавливались после утомительного путешествия через всю Россию. Меня тошнило от одной только мысли о корабле.
Кирилл лежал в постели, занятый своим любимым делом. Уныло уставившись в бесконечную синеву стены, он ковырял в носу. Вчера ему пришлось столкнуться с ужасами той туманно-поэтической части мира, где встает солнце. Клещ впился ему в мошонку. Кирилл был в депрессии, так как не был уверен, что вытащил его целиком. Периодически он приоткрывал одеяло и тщательно исследовал себя, затем возвращался к изучению стены напротив.
Невозможность выйти наружу принудила меня к работе. Сидя у окна, которое напоминало окно веранды старой загородной дачи, я пытался нарисовать вид залитой дождем улицы, просвечивающий сквозь узор тюля. На самом деле улицы почти не было видно, о ней можно было только догадываться. Глядя на белый, еще не тронутый лист бумаги, я думал о невозможности изобразить струи дождя, запутавшиеся в тюле.
По местному радио объявили, что вечером в бараках выключат свет.
Не двигаясь, Кирилл пытался иронизировать:
– Это что? Локальные новости? Думаешь, у них здесь есть кинотеатр?
Он был в таком унынии, что я решил сыграть в оптимиста.
– Конечно, есть. Может, пойдем? Какой смысл лежать тут?
Я полез под кровать за резиновыми сапогами. Кирилл в последний раз тщательно обследовал свою мошонку и, тяжело вздохнув, начал собираться.
Огромный корабль смотрел на нас с афиши кинотеатра. Под ним на волнах была надпись: «„Тобаго“ меняет курс».
– Должно быть, шпионская история, – разглядев на афише человека с пистолетом, резюмировал Кирилл, вытаскивая деньги из кармана мокрой куртки.
Перед показом крутили «Новости». Кинокамера ознакомила зрителей с успешным началом рыболовецкого сезона на Дальнем Востоке. Голос диктора проинформировал нас, что десятки тысяч девушек посланы комсомолом на Дальний Восток, где они эффективно трудятся на рыбозаводах Шикотана. Затем начался «Тобаго». Я очень скоро потерял надежду понять сюжет. Кирилл почувствовал это и периодически объяснял мне, что происходит на экране.
– Он за немцев, – говорил Кирилл, – а вот этот, я думаю, шпион.
Монотонное жужжание проектора и духота усыпляли меня. Я, вероятно, проспал бы весь фильм, если бы Кирилл не будил меня своими комментариями. По крайне мере, бессвязность и идиотизм действия на экране развлекали его. Но я был уверен, что, как только фильм закончится и мы вернемся в барак, он сразу вернется к своей мошонке.
После сеанса мы оказались в толпе, которая вывалилась из кинотеатра. Это были рабочие рыбозавода. Грызя семечки, они горячо обсуждали фильм. Их сапоги громыхали по деревянным доскам тротуара.
Далеко впереди звучала теперь уже хорошо знакомая песня про Сахалин:
Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода…Заканчивалась она словами:
Где я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза.Этот музыкально-поэтический шедевр следовал за нами повсюду, и даже потом, когда я не слышал его, мелодия звучала у меня в ушах.
Через некоторое время мы с Кириллом собрались в клуб «Океан». Ряды танцующих женских батальонов встретили нас. С трудом можно было отыскать хоть одного мужчину. Большой бильярдный стол стоял в центре зала и служил скамейкой. В глубине зала сиял свежевыкрашенный бюст Ленина. Мы нашли место у стены и стали наблюдать. Характер танца был необычным. Пары сначала двигались в одну сторону, а затем, будто по сигналу, шли назад в том же темпе. Это было похоже на коллективный марш.
– Вы – те самые художники из Москвы? – спросил парень в черном костюме и в ярком серебряном галстуке. – Я из Владика. Хотите выпить? – предложил он дружелюбно.
Парень повел нас сквозь плотные ряды танцующих в дальний конец зала. Там, открыв дверь, он пригласил в комнату, поразившую меня количеством красного цвета. Казалось, только потолок и бюст Ленина оставались белыми. Парень подошел к бюсту, с трудом поднял его и, повернувшись к Кириллу, произнес:
– Бери бутылку, чего ждешь? Я вообще-то механик, но здесь работаю освобожденным секретарем комсомола. Обязанности, членство, товарищеские суды и все прочее дерьмо. Это нормально, я не жалуюсь. – Он разлил водку по стаканам. – Огромное количество паскуд, одно бабье, и больше ничего. Рыболовецкий сезон начался, так что водки в магазине не будет, только по специальному разрешению.
Андестенд? А кто его дает? Ваш покорный слуга. – Он полез в ящик и протянул нам лист бумаги. – Вы мне сразу приглянулись. Это ваше разрешение на водку. Может, хотите рыбки?
От рыбки мы отказались.
– Может, потанцуем? – заторопился он неожиданно.
Народу все прибывало. Мы не могли уже подойти к стене, нас оттеснили к бильярдному столу, на котором сидели девушки.
– Эй, Шурка, городские пижоны приехали посмотреть, что у тебя между ног. Покажи им.
Шурка задрала пальто и юбку и показала голубые трикотажные трусы, такие же толстые, как байковое одеяло.
От водки у меня закружилась голова. Много женских лиц, блестящих от пота, и запах дешевых духов напоминали женскую баню.
Девушка с прямыми длинными волосами сидела рядом с нами на бильярдном столе. На ней было грязно-оранжевое крепдешиновое платье, из которого она уже выросла. Кружева на воротничке делали платье старомодным, похожим на новогоднюю елку. Девушка медленно поворачивала красивую голову, следя взглядом за танцующими, и непрерывно курила. Ее круглые голые коленки торчали из-под короткого платья. Худобу коленей подчеркивали грубые резиновые сапоги.
– Твой размер, – сказал Кирилл, перехватив мой взгляд.
Заметив, что мы говорим о ней, девушка улыбнулась нам и продолжила наблюдать за танцующими. В своем крепдешиновом наряде она выглядела трогательно в этой женской бане. Заметив мою нерешительность, Кирилл забрал у меня сигарету, которую я только что закурил.
– Я докурю.
Я подождал начала нового танца и подошел к ней.
– Ты танцуешь?
Она соскочила со стола и встала напротив меня.
– Да, я люблю танцевать. Вера, – сказала она, глядя вниз на свои сапоги. – Я из Свердловска.
Ее лобковая косточка под крепдешином, качавшаяся в ритме танго, дотрагивалась до моего бедра. Вера в основном смотрела куда-то в потолок, изредка поглядывая на меня. Танго сменила народная песня, но мы продолжали двигаться, как и раньше, в медленном ритме.
Виновата ли я, виновата ли я, Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал… –неслось из репродуктора.
Поселок погрузился в темноту. Мы возвращались из клуба по дощатым настилам. Вера рядом со мной напевала: «Виновата ли я? Виновата ли я…» Кирилл шел сзади с ее подружкой Розой. Роза была как с провинциальной почтовой открытки с надписью: «Люби меня, как я тебя». Она тоже приехала из Владика, как и комсомольский секретарь.
– Дай мне в зубы, чтоб дым пошел! – неожиданно сказала мне Верка.
Она увидела мое замешательство и объяснила:
– Дай сигарету, понял? Так все здесь говорят.
Я предложил ей мою пачку, а затем обратился к Кириллу:
– Хочешь в зубы, чтобы дым пошел?
Он взглянул на меня, как на идиота.
Голубизна стен нашей комнаты перекрывалась цветом золотистой охры, исходящим от свечей, догорающих на тарелке.
– Ребята, как насчет беленькой с черной головкой? – снова задала нам загадку Роза.
Верка поднесла свои губы близко к моему уху и доверчиво объяснила:
– Это она о водке.
Я ответил:
– У нас есть только с белой головкой!
Мы выпили и разошлись по постелям. Комната наполнилась запахом потухших свечей и стуком дождя по окнам, крыше и стенам барака. Я чувствовал теплое дыхание Верки у себя на щеке.
– Ты любишь у стеночки или с краю? – спросила она.
– На полу, – ответил за меня Кирилл с соседней кровати, чертя зажженной сигаретой светящийся иероглиф в темноте.
Вера скользнула под одеяло, и легла, неудобно согнувшись, касаясь меня только коленками. В клубе близость ее лобка, покорно упиравшегося в мою ногу во время танца, казалось, делала ее более доступной, чем сейчас.
Я лежал неподвижно, различая участившееся дыхание моих соседей и скрип пружин.
– Ты хочешь, чтобы я сняла лифчик и трусы? – спросила Верка, вытягивая ноги и прижимаясь ко мне всем телом.
– Все, что ты хочешь!
Раздевшись, Верка очевидно почувствовала, что на этом ее инициатива должна закончиться. Я уже не мог дальше сдерживаться и мягко подвинул ее к себе.
– Ты будешь ходить со мной?
– В каком смысле? – спросил я, не понимая, о чем она говорит.
– Ну, в кино или на танцы, как будто ты мой парень?
Я вспомнил пионервожатую, как она спрашивала Кирилла: «Ты мне напишешь?», а также состояние своих ботинок, вряд ли годных, чтобы куда-то «ходить», и улыбнулся про себя.
– Посмотрим!
Проснувшись, я не мог сообразить, было это утро или день. Тот же монотонный шум дождя, не прекращающегося ни на минуту, та же сеть тюля. Никого из девушек уже не было в комнате. Они, должно быть, ушли на работу.
Кирилл еще спал. Пол был покрыт окурками, ошметками грязи, отвалившейся от наших сапог, горелыми спичками. Я не хотел вставать, но мой мочевой пузырь не мог ждать ни минуты. Я сунул ноги в сапоги, накинул плащ на голое тело и направился в маленький домик с двумя черными нолями на двери, что был метрах в пятидесяти от нашего барака. Запах внутри, смешанный с хлоркой, заставил меня прослезиться.
Я быстро расстегнул плащ. Терпеть я больше не мог.
– В рот ее… – услышал я грубый голос из темного угла.
Я взглянул туда. Толстыми неуклюжими пальцами мужик пытался привязать веревку к палке. Наконец он примастырил веревку и начал делать петлю на другом конце.
– Что ты там делаешь? – поинтересовался я.
– Да… что, что… Бутылку уронил, вот что, – мужик указал на одно из отверстий. – Вон там, видишь!
Я посмотрел вниз. На дне наполненной дерьмом ямы торчала часть горлышка и черная головка.
– Посмотрел? А теперь отвали!
Я отодвинулся в сторону. А мужик плюнул на петлю, как делают рыбаки, и, опять заглянул в дыру. Как я понял, его задача заключалась в том, чтобы накинуть петлю на горлышко бутылки, затянуть ее и вытащить бутылку. Но петля не хотела затягиваться и соскальзывала.
– Вот сука! В рот ее! – недовольно бубнил он после каждой неудачной попытки.
– Как ты уронил ее?
Он прервал свое занятие и продемонстрировал позу, в которой сидел. Слегка свистнув, он сымитировал звук вылетающей из его заднего кармана бутылки.
– Я, пожалуй, пойду, – сказал я слегка виновато. Мое любопытство было удовлетворено, а глаза слезились от едкого запаха хлорки.
Вернувшись в барак, я нашел Кирилла, лежащего поверх смятого одеяла и изучающего свою мошонку.
* * *
Постепенно мы стали хорошо знакомы всем в дрожащем на ветру и под дождем поселке Крабозаводск.
– Эй, художники! Куда хиляете? – добродушно приветствовали нас девушки на улице.
Это был риторический вопрос, потому что в поселке было не так много мест, куда можно пойти: столовая, кинотеатр, клуб были единственными остановками на нашем пути.
Чаще всего Кирилл поднимался на холмы, где пытался запечатлеть сложный узор гигантских папоротников, а я спускался к океану. Берег, покрытый тонкой дымкой тумана, старые ржавые каркасы рыболовных лодок, серебряно-ржавые кучи гниющей камбалы с желтоватым оттенком, пластиковые шары, разорванные ботинки, разноцветные тряпки, выброшенные океаном, встречались мне на пути во время моих прогулок вдоль берега. В редких случаях пограничники на грузовике прерывали тишину этого кладбища:
Где я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза…На миг появившись, грузовик исчезал в молочной белизне низко стелющегося тумана. Иногда я натыкался на рыбаков в ярко-оранжевых робах. Низко пригнувшись к земле, они двигались вдоль берега, раскинув руки. Сеть, которую тянули рыбаки, издали была не видна.
Возвращаясь по берегу, я шел по полоске земли, принадлежащей консервному заводу. Во дворе завода всегда сидели девушки на ящиках. Их взгляды и частушки следовали за мной. «Художник, художник, художник молодой, нарисуй мне девушку…» – декламировали они и заразительно смеялись.
В бараке я начинал делать зарисовки, с трудом вытаскивая из памяти ощущения от увиденного: от мертвой камбалы с желтоватым оттенком по краям, темного серебристого песка с разбросанными по нему ржавыми остовами старых рыбацких шхун.
Как ни странно, берег был очень близок по освещению к пыльному коридору моей коммуналки. Только свет от тусклой лампы заменял плотный туман.
Наконец вернулся Кирилл. В грязных сапогах, с букетом мокрого папоротника. Он поставил его на подоконник в банку из-под консервированного болгарского перца.
– Ты не забыл, что мы сегодня приглашены к Розе на день рождения? – объявил он.
Я убрал со стола тушь, перья, лист акварельной бумаги с начатым рисунком камбалы. Мы почистили сапоги и, взяв две бутылки водки, отправились в гости.
Коридор огромного женского общежития встретил нас выцветшим плакатом: «Современное поколение советских людей будет жить при коммунизме. Хрущев». «Ж» в слове «жить» было изменено рукой неизвестного редактора на «п». Девушки в халатах и бигуди сновали по коридору. Одна выскочила из дверей в расстегнутой рубашке, увидев нас, произнесла шепотом: «Ёклмн!» и скрылась в комнате, откуда донесся легкий смех. Несколько любопытных лиц выглянули из той же двери:
– К Розке, небось, пошли!
Мы постучали в дверь и вошли в комнату, где ожидали увидеть уже начавшееся застолье. Роза лежала на кровати у окна и шептала что-то склонившемуся над ней мужчине.
– Ты придешь еще ко мне? – спрашивала она с нежностью.
– Я что – дура? Болтаешься, сука, со столичными фраерами.
Они даже не повернулись в нашу сторону.
Роза продолжала умолять, поглаживая волосы своего парня. Только тут я заметил, что это была девушка с короткой мужской стрижкой, в мужском пиджаке и в штанах, заправленных в сапоги. Роза, казалось, не замечала ничего вокруг.
– Ну, Вить! – умоляла она, поглаживая руку подруги. – Пожалуйста.
Витя бросила на нас презрительный взгляд из-под челки.
– Все кончено, говорю! – Она резко встала и вышла, захлопнув за собой дверь.
Роза проводила своего любовника грустным взглядом и зарыдала, не стесняясь нашего присутствия. Она глотала воздух искривленным истерикой ртом. Кирилл подсел к ней, пытаясь ее успокоить.
– Это все ты виноват, сука! – всхлипывала Роза сквозь слезы.
Через некоторое время она несколько овладела собой и встала.
– Что, Витя – хороший любовник? – пошутил Кирилл.
– Лучше, чем ты, – сказала она, крася помадой губы. – Хорошо, идем.
Выяснилось, что праздник будет проходить в другой комнате, где уже накрыт стол. На зеленой скатерти стояли бутылки с водкой и красным вином. Консервные банки и тарелки заполняли пространство между бутылками. Гости сидели на кроватях.
Цветные и черно-белые фотографии Стриженова, Ланового, Бондарчука, короче, всей мужской элиты современного советского кинематографа, смотрели на нас со стен.
– Здоро́во! – сказали девушки хором.
Я поискал глазами Веру. Она притулилась на кровати в том же грязно-оранжевом платье.
Над ее кроватью висел портрет серьезного еще не совсем облысевшего Миши Козакова того периода, когда он играл Гамлета.
Я вспомнил его, только что женившегося, рука об руку со своей женой. Миша, в новом клубном пиджаке с гравированными металлическими пуговицами, обнимал ее, хвастаясь: «Она действительно умница, говорит по-английски».
– Хорошо, чего ждем? Давайте начинать! – потребовала Роза.
В конце концов все расселись.
– Верка, чего ты не наливаешь своим ребятам? Если ты не будешь о них заботиться, они не будут с тобой спать. – Черноволосая женщина заботливо улыбнулась. Металлические коронки у нее во рту злобно поблескивали.
Компания рассмеялась.
– Хорошо, Роза, посмотрим, будем ли мы жить при коммунизме! – Брюнетка, кажется, взяла на себя роль тамады. – Будем! – и опрокинула в себя полстакана водки.
Мы все последовали ее примеру.
Верка положила шпроты на кусок черного хлеба и передала мне бутерброд, сочащийся маслом.
– Ешь, не стесняйся.
Роза грустно жевала бутерброд, видимо, все еще думая о Витьке и переживая серьезность разрыва. Причина ее печали сидела напротив, приканчивая второй бутерброд. После нескольких стаканов они решили покурить.
– Давайте возьмем в зубы, – предложила веснушчатая.
Мы с Кириллом достали московские сигареты. Девушки, как саранча, накинулись на них. Комната наполнилась дымом и пьяной болтовней.
– Варь, может, споешь? – попросила Роза сильно напудренную женщину с темно-красным ртом.
Ту не нужно было долго упрашивать. Она взяла гитару и начала петь странным скрипучим голосом:
Мама, я летчика люблю…Один куплет следовал за другим. Очередной был о преимуществах брака с доктором.
Мама, я доктора люблю…Песня казалась бесконечной. Перечислив все перспективные профессии, Варя оборвала песню простым аккордом. Отдышавшись, она ждала следующей просьбы.
– Как насчет «Чуйского тракта»? – спросила брюнетка.
Красногубая запела:
Есть по Чуйскому тракту дорога, Много ездит по ней шоферов. Был один там отчаянный шофер, Колька звали его, Снегирев. Он машину трехтонную АМО Как сестренку родную любил. Чуйский тракт до монгольской границы Он на АМО своей изучил. А на «Форде» работала Рая, И частенько над Чуей-рекой «Форд» зеленый и Колькина АМО Проносились куда-то стрелой… «Слушай, Коля, скажу тебе вот что: Ты, наверное, любишь меня. Когда АМО мой „Форд“ перегонит, Тогда Раечка будет твоя…»Песня заканчивалась трагически. Коля умудрился обогнать Раю, но, заглядевшись на нее, сорвался с обрыва, оставив Раю рыдать над своими жалкими останками.
Водка, сопровождающаяся вином, совсем развязала женские языки. Горечь, которую они носили в душе день за днем, выливалась наружу. Они то ли забыли, что мы здесь, то ли совсем не беспокоились об этом.
– Ты ни черта не можешь заработать на этом заводе, просто стоишь на ногах целый день, привязанная, как коза. И еще счастлива, если заработаешь на бутылку…
– Ты глупая, Райка, ты должна быть в школе, а вместо этого приехала сюда, захотела комсомольской рыбки, наверное… Лучше пошли матери и братику тридцать рублей, штаны и ботинки, пусть они будут счастливы, а ты будешь ходить босая… Завтра опять идти потрошить эту сраную рыбу! Глаза б мои на нее не глядели! Сдохнешь здесь с этим проклятым планом… Когда у твоего кончается срок? У моего первого мая, обещали амнистию…
Брюнетка, немного перебрав, отшатнулась к своей кровати, упала вниз лицом и принялась рыдать. Край юбки задрался, выглянула комбинация и тонкие ноги в рваных чулках, делая плоскую фигуру еще более жалкой. Никто ее не успокаивал.
– Пусть поревет, может, полегчает, – сказала певица, вешая гитару над кроватью.
Варвара вернулась к столу и сообщила:
– Она страдает, потому что ее парня убили.
– Как? – спросил Кирилл в замешательстве.
– Как, как! Бежал из лагеря. Вот так и убили. Теперь не будет больше бегать.
Женщина на постели зарыдала еще громче.
– Давайте помянем! – предложила певица, наливая водку. – Клавдия, мы пьем за его память! – сказала она, повернувшись к ее кровати.
Клавдия продолжала рыдать.
Я был пьян. В комнате воняло шпротами в масле.
– Вера, пойду пройдусь, что-то я себя неважно чувствую.
Мы вышли из комнаты, побрели по опустевшему коридору. Должно быть, уже поздно, и все ушли на танцы. В коридоре мы натолкнулись на мужчину и женщину. Он, держась за ее смятый плащ, закинутый на спину, ритмично двигался взад – вперед.
– Эй, мужик, закурить не найдется? – спросил он, не поворачивая головы и не меняя позы.
Я передал ему сигарету, которую он положил в карман пиджака, даже не взглянув.
На улице было темно. Фонарь освещал слова, написанные на стене барака: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». И над ними, растворяясь во тьме, улыбалось ленинское лицо.
– Может, мы пойдем к тебе? – спросила Вера, прижимаясь.
– Давай, но нужно подождать Кирилла, он должен выйти с минуты на минуту.
Мы втроем шли по пустому поселку мимо окон бесконечных бараков, в которых еще тускло горели голые электрические лампочки. Моросило. Неожиданно одна форточка распахнулась, и голос, подобный голосу Наташи Ростовой, донесся из глубины комнаты: «Эх, девчонки, ни одной звездочки на небе!»
Поселок снова погрузился в тишину, и было слышно только буханье наших сапог по деревянным доскам настила.
Глава 18
В зале для собраний клуба «Океан» три члена товарищеского суда заседали за столом с красной скатертью. Это был секретарь комсомола из Владика, все еще в своем серебряном галстуке, инженер по безопасности, молодой парень с неприветливым лицом, и крабозаводский милиционер в форме лейтенанта. Обвиняемая тоже была нам знакома – черноволосая тамада Клавдия, потерявшая мужа. Она сидела на стуле, опустив голову, и тихо всхлипывала. Зал был заполнен до отказа в основном представительницами женских бараков. Милиционер вслух прочел товарищескому суду свидетельские показания:
– «Вчера восемнадцатого августа в восемь часов утра на территории туалета, который принадлежит бараку номер девять, была найдена гражданка Сухова Клавдия Васильевна, лежащая на полу в бессознательном состоянии. Рядом с ней были найдены мужской портсигар, зеленые женские трусы и сумочка. Гражданка Сухова утверждает, что находилась в компании семи моряков рыболовецкого траулера, с которыми выпивала, а затем имела связь с одним из них по согласию, а с остальными без такового. На вопрос, как она оказалась в туалете, гражданка не смогла ответить, потому что была пьяна и ничего не может вспомнить. Свидетельница Мишакова нашла ее в восемь утра на территории туалета, куда пришла по своей нужде. Она рассказала об этом старосте барака, которая и сообщила секретарю».
Шепот прошелестел по залу, затем все стихло. Милиционер сложил бумаги и вернулся к своему стулу.
– Итак, Сухова, что ты можешь сказать в свое оправдание? – спросил комсомольский секретарь, не вставая.
– Я сказала вам, что была выпивши и ничего не помню.
– Что ты заладила: «выпивши, выпивши»? Тот факт, что ты была в опьянении, только усугубляет твое положение, – жестко осадил ее инженер по безопасности. – Знаешь ли ты, что тебя могут сослать на материк за нарушение правил?
Клавдия угрюмо молчала.
– Отвечай, когда с тобой разговаривают!
Клавдия опустила глаза.
– Давайте перейдем к свидетельским показаниям, – вмешался лейтенант. – Свидетельница Мишакова, что ты можешь добавить к своим показаниям?
– Что я могу добавить? Я больше ничего не знаю. Я пошла в туалет утром. Там Клавдия на полу и ее трусы тоже. Она грязная, будто по ней ходил кто. Ну, я побежала сказать старосте Ритке Глушко.
– Хорошо, это ясно. Подожди, Мишакова, не садись. Что ты можешь сказать о характере Клавдии Суховой?
– Что я могу сказать о ее характере? Характер такой же, как и у всех. Пьет она только много. Но у нее горе, вот поэтому, я думаю. Ну, она любит компанию и все такое… Тут действительно скучно, вы же знаете. И водка не ведет ни к чему хорошему. Я помню, однажды у нас в деревне…
– Ну, ты расскажешь об этом как-нибудь после, садись, – сказал лейтенант. – Глушко, ты же староста, объясни, как могло случиться, что женщина из твоего барака дошла до такой жизни.
– Я уверена, что это наша общая ответственность, девочки. Мы не проследили за ней, вовремя не сделали Клавке замечание, упустили ее в нашей общественной работе. Может, тогда бы она забыла о своем горе и не пыталась топить его в водке? А теперь она опозорила всех нас и мы должны ее осудить. Вот что я думаю.
– Кто-нибудь имеет что-нибудь добавить? – спросил инженер.
Поднялись несколько рук.
– Давай, Фокина.
– Я согласна с Риткой – пей водку, но не теряй голову. Не давай обесчестить себя. Откуда мы знаем, что это было по взаимному согласию с первым и не по согласию со всеми другими? Может, это было по согласию со всеми? Давайте узнаем об этом. Кто знает? Ты виновата, Клавдия. Мы не хотим жить с тобой в одной комнате, потому что ты обесчещена. Правильно, девочки? – Она обернулась к женщинам, которые жили с Клавдией в одной комнате.
Те молча хмурились, за исключением веснушчатой, которая попыталась вступиться за Клавдию.
– Может, хватит про честь! Надо же, все тут вдруг целками заделались. Такое может случиться с каждой…
Голос комсомольского секретаря загремел из президиума, не давая ей закончить:
– Ты, Зырянова, прекрати свою агитацию. Сухова должна быть наказана, чтобы другим неповадно было. А ты, вместо того чтобы помочь комсомолу в воспитательной работе, разводишь тут демагогию. Мы спросим с тебя тоже, – угрожающе добавил он.
– Испугал ежа голой жопой, – ответила веснушчатая и замолчала.
Клавдия сидела неподвижно, не поднимая головы, и беззвучно плакала.
– Суд удаляется на совещание.
Лейтенант собрал бумаги, разбросанные по столу, и все трое важно вышли. Долго ждать не пришлось, они вернулись через три минуты.
Лейтенант прочел приговор:
– Сухова Клавдия, нарушившая распорядок на территории рыбозавода, приговаривается к высылке на материк. Но, ввиду ее трудной денежной ситуации, ее неспособности растить двух детей, что находятся в детдоме, и смерти мужа, суд находит возможным смягчить это наказание и приговорить к штрафу. Также Сухова лишается премии за выполнение плана в течение трех месяцев. Мы выносим ей общее порицание и выговор с занесением в личное дело. Повторение подобного приведет к высылке на материк без суда.
Прозвучали редкие аплодисменты, затем все женщины вывалились в коридор и пошли на вторую смену.
* * *
Я уже начинал думать, что мы останемся на Шикотане вечно, будем жить на краю мира, глотать дождь и плавать в молоке плотного тумана, покрывающего липкую илистую грязь. Мы ничего не делали целыми днями, просто валялись на кроватях в нашей прокуренной комнате и даже не разговаривали.
Единственным видом транспорта, курсирующим между островом и материком, был маленький пассажирский баркас, управляемый механиком по имени Рваный. Баркас приходил раз в неделю. Но, к сожалению, отчаливал он в пять утра, делая наш отъезд практически невозможным. Нельзя было заставить Кирилла проснуться в это время. Мы откладывали наш отъезд неделя за неделей. Время от времени он хватал очередную жертву из аборигенок и трахал ее медленно и грустно. Каждое утро начиналось с его обещаний, высказанных виноватым тоном:
– Ну, хорошо, мы уедем на следующем баркасе.
Но неделя проходила, а мы все еще лежали в бараке, внимательно изучая мокрые окна и слушая монотонный стук дождя. Однажды перед ужином я сложил вещи, упаковал все рисунки и, не считаясь с апатией Кирилла, начал собирать его барахло, разбросанное по комнате: носки, засохшие от грязи, тряпки, смутно напоминавшие рубашки и свитера. Когда я спрятал весь его хлам и стал упаковывать его резиновые сапоги, Кирилл бросил сигарету на пол и прокомментировал лениво:
– Спасибо, но, убирая мои сапоги, ты лишаешь меня возможности передвижения. – И отвернулся к стене.
Я сидел посередине комнаты, не раздеваясь и не ложась, чтобы быть уверенным, что не просплю. «Если не сегодня, то уже, наверное, никогда». Эта мысль давила на меня с такой силой, что я испугался ее реальности. Только фальшивое чувство дружбы и стыд перед собственным малодушием останавливали меня, чтобы не вскочить и не побежать на причал. Комната медленно растворялась, объекты теряли знакомые очертания, а я терпеливо сидел и тер веки, уставившись на будильник.
Где-то около трех часов ночи мне удалось заставить Кирилла встать. Я выпихнул его на улицу, даже не дав умыться. Было не больше километра до причала, но в утреннем тумане наш путь казался бесконечным. Мы были похожи на процессию слепых с картины Брейгеля-старшего. Я тащил Кирилла без капли жалости. Кирилл раздражал меня тем, что шел медленно, лениво философствуя на тему моей идиотской любви к переменам, которая ясно указывала ему на склонность к вульгарному романтизму. Я пытался не слушать его и шел вперед, волоча свои и его вещи, в то время как он развивал свою теорию и жевал мокрую сигарету, которая постоянно гасла.
Мы могли бы, наверное, кого-нибудь с собой прихватить, но убежали, не сказав «прощай» Розам и Верам, всем, кто ожидал от нас адресов, писем или, по крайней мере, прощального жеста с деревянного причала. Когда я увидел механика пассажирского баркаса Рваного на причале, его физиономия уже не показалась мне такой отталкивающей, как обычно. Я даже пытался шутить с ним.
– Вы, ребята, сумасшедшие! Какого лешего вы здесь делаете так рано? Мы отходим только через полтора часа.
Но мы уже уселись на жесткие деревянные скамейки.
Сквозь открытую дверь радиобудки доносилась совсем невпопад звучащая в этот час лирическая песня о Сахалине:
Где я бросаю камешки с крутого бережка Далекого пролива Лаперуза…– Пушкин тоже любил кидаться камнями… – пробормотал Кирилл, вспомнив в полусне литературный анекдот, приписываемый Хармсу.
Напряжение и злоба постепенно покидали меня, я засыпал, теряясь в укачивающем покое усталости…
* * *
Я знаю Кирилла, как мне кажется, всю жизнь. Когда-то он был женат на дочке художника из «Бубнового валета» Осмеркина. Она принадлежала к толпе женщин-интеллектуалок, вращающихся в артистических кругах. Теща Кирилла часто заходила к нам в мастерскую, чтобы пожаловаться на свою тяжелую жизнь, а заодно попытаться вытащить из зятя алименты, которые он платил крайне нерегулярно.
Иногда появлялась сама дочь художника в невероятно экстравагантных одеждах собственного дизайна. Она работала художником-модельером в Доме моды. Вместе с ней приходил пожилой человек, писатель-фантаст. Он не был ее официальным мужем, но исполнял все обязанности, связанные с этой ролью, с относительной изобретательностью.
– Она любила только деньги, – жаловался Кирилл. – Я, как дурак, резал линолеум, контуры кремлевских башен или бассейн на Кропоткинской из куска резины. Я не знаю, кто их покупал, туристы, наверное. Анька родилась, нужны были деньги. Каждый день – деньги, деньги, деньги. После секса она отворачивалась и немедленно засыпала, а я продолжал считать башни и зубцы на кремлевских стенах. Это было давно, но даже сейчас я стараюсь не ходить на Красную площадь, от одного ее вида меня до сих пор бросает в дрожь. Осмеркина была большим авторитетом в Доме моды, все тетки шли к ней за советом. Она была у них как раввин, но давала такие советы, что те, кто слушался ее, в конце концов остались без мужей.
Кирилл просто и без всяких хитростей относился к сексу. Представляясь токарем или слесарем, он, например, мог иметь дело с простой уборщицей, потому что она являлась представительницей того социального слоя, который Кирилл знал недостаточно. Уборщица называла его разными именами: Витька, Лешка. Он безропотно откликался.
Устав от уборщицы и не зная, как избавиться от представительницы народа, он выпроваживал ее, говоря, что ему необходимо идти на завод в утреннюю смену. Она собиралась, бормоча и вздыхая, обещая устроить Кирилла на лучшую работу, например упаковщиком на почтамт, чтобы он мог зарабатывать больше денег, чем на заводе, и не вставать в такую рань.
Ежов часто бранил Кирилла за подобные связи, потому что предпочитал иметь дело с женщинами своего круга. Однако Кирилл все равно находил более привлекательным быть ближе к народу.
Единственным, кто мог сравниться с ним в стремлении слиться с народом, был Женька. Например, он мог затеять диалог на улице с каким-нибудь проходящим мимо пьяницей, как со старым другом.
– Здоро́во, Вась! – говорил Женька. – Хорошо вчера выпили?
– Да, нормально, – отвечал недоуменно пьяница, не понимая, что от него, собственно, хотят.
– А мы вот, я и Серега, – указывая на меня, сообщал Женька, – выпили по бутылке, заполировали пивком. Ну, да ладно, Вась, мы пошли, а то магазин закроется. Да, вот о чем я хотел спросить. Это вы с Прохором сперли гвозди со стройки?
– О чем ты, мужик? Какие гвозди? Не брал я никаких гвоздей.
– Не брал, не брал… Ну ладно, верни их, и все. А то Федор Матвеич сказал, что заявит в милицию.
– Какой Федор Матвеич? Мужик, ты, небось, путаешь меня с кем-то. Никакой я тебе не Вася…
– Ну извини, мужик, а как тебя зовут?
– Иван, – отвечал пьяница.
– Ну, все равно, верни их, Иван… – И Женька уходил, шлепнув того по мозолистой ладони.
Глава 19
Меня всегда удивляла свойственная искусствоведам любовь к хронологическим классификациям истории искусств. Возможно, гораздо легче изучать групповое направление, чем появление провидца – ученого, открывшего новый взгляд на визуальный мир.
В любую эпоху существовали многочисленные группы художников, работающие в определенной манере. Но интерес, на мой взгляд, представляют не группировки, а первооткрыватели. Измы, которыми снабдили нас искусствоведы, это всего-навсего обозначение манерных отличий, дающих возможность классифицировать отдельные группы маньеристов.
У каждого направления существует пионер – ученый, открывший незнакомый и непривычный взгляд на реальность. Ну, как, например, Босх, погружающий нас в сны ужасов и кошмаров. Намного позже это открытие увлекло большую армию художников, обозначенных в истории искусств под именем сюрреалистов.
Или Тернер, открывший атмосферное состояние в пейзаже, не считал себя импрессионистом. Он был ученым-одиночкой, работающим над проблемой передачи быстро проходящего атмосферного состояния: вечера, утра, тумана, дождя. И тут же после него появляются толпы импрессионистов – узнаваемых, в популярной форме доносящих до публики его, Тернера, опыты с атмосферной живописью.
Сезанн, открывший или, скажем, переоткрывший воздушную перспективу, используя лессировки, широкие флейцы, оставляющие на поверхности квадратные следы от прикосновения широких жестких кистей. Позже художники, создающие свои полотна в манере квадратов и прямоугольников, за которыми угадывается некая предметность в виде портрета или натюрморта, образовали свой клуб-группу под названием «кубисты». И направление искусствоведы обозначили как кубизм.
Понятие «актуальность» не может существовать без группы, где ее член обязан придерживаться определенной узнаваемой манеры. И каждая новая манера автоматически вправе причислить себя к авангарду. Авангардисты – разрушители старого скучного мира, мира забытого прошлого, которое, на их взгляд, неактуально. Коэффициент актуальности сегодня определяется своего рода экспертами – кураторами современного искусства. Да и само пространство, то есть территория изобразительного искусства, расширило свои границы настолько, что уже не довольствуется только живописью, скульптурой или графикой. Иллюстрирование идей или рассказ о них или рекламный ролик, видео, даже акция, вызывающая скандал среди возмущенной толпы, теперь имеет полное право быть приравненной к изобразительному искусству.
Про «художников-шестидесятников» теперь говорят с легким придыханием… Причем почему-то имеются в виду не все художники, которые жили и работали в эти годы, а лишь так называемые нонконформисты. Если попытаться понять, чем же они отличались от огромной армии официальных художников, первое, что приходит в голову, это размеры картин и отсутствие советской тематики в сфере их интересов. Среди официальных художников самой распространенной была живописная манера Сезанна. Как правило, ее эксплуатировало левое крыло МОСХа. Эти художники довольно мастерски совмещали рабочих, едущих в кузове грузовика, с энергичными мазистыми следами квадратных флейцев, которые, как им казалось, только прибавляли персонажам энергии и драмы. То же самое относилось и к нефтяникам Каспия, и к строителям БАМа, да даже просто к скромной доярке, позирующей в пиджаке с приколотым к лацкану орденом. Этих художников так и называли – сезаннистами. А отличительными признаками были мужественность персонажей, обветренность их лиц плюс монохромная гамма.
То, что не являлось отражением советской действительности, называлось нонконформизмом. Его последователи сознательно погружались в мир сюрреализма в их понимании.
У каждого из них был свой авторский стиль – кто пользовался советской символикой, кто религиозной, кто увлекался метафизической.
Нонконформисты стремились заявить о себе путем эпатажа и диссидентства, потому что понимали: конформизм уже изжил себя. Этот способ был хорошо испробован интеллигенцией в переписке с Кобой: «Простите, уважаемый Иосиф Виссарионович. Мне неловко, что я отнял у Вас столько времени…» и далее, в том же духе, писал Илья Эренбург – знамя советской интеллигенции.
Даже Неизвестный, надеясь, что это ему поможет, задирал рубаху и показывал шрамы от ранений, полученных во время войны, пытаясь произвести впечатление на Хрущева, который в то время играл роль Хозяина. «Пидорасы!» – кричал Хрущев на толкавшихся вокруг него нонконформистов. А те, сгрудившись вокруг него, стояли опустив головы…
Их чувства и мысли были заняты обидами и жалобами на Хозяина, который не замечает и не понимает исторической важности нонконформистов. Им хотелось во что бы то ни стало доказать свое право на место в истории искусств, право на признание.
Авторитетом в те времена был Георгий Костаки. Он тогда определял значимость того или иного художника, поэтому к нему стояла очередь из желающих получить благословение. Он действительно был неплохим мужиком, рубахой-парнем, играл на гитаре, недурно пел, писал небольшого размера картинки в стиле наив, которые мечтал пристроить в какую-нибудь французскую галерею. Еще в голодные военные годы он начал приобретать русский авангард, обменивая картины на масло и хлеб, и с гордостью утверждал, что был более щедрым, чем все остальные скупщики или коллекционеры.
Иногда упоминались фамилии других коллекционеров – Маркевича, Рихтера и нескольких журналистов, аккредитованных в Москве. Художественный мир раскололся на два рынка. Одни торговали на государственном, официальном, с договорами и домами творчества. Другие – на подпольном, в основном с иностранцами, живущими в Москве. Одни бегали в Москве по заседаниям, другие – по коктейлям в посольствах. Был, правда, третий, немного более чистый рынок: работа в театре или издательстве.
В шестидесятых художник, не состоящий в Союзе, считался тунеядцем. Продажа картин иностранцам приравнивалась к фарцовке. Торговать можно было только с государственными организациями: с МОСХом, с издательством в случае с иллюстрациями и с театром, если речь шла о декорациях. Но получить такую работу удавалось не каждому нонконформисту. Среди них и в самом деле было много профнепригодных. Им ничего не оставалось, как выставлять свои работы в Измайлове. Как же повезло участникам той выставки, что тогда появился бульдозер! Говоря языком современных терминов, получился неожиданный перфоманс, благодаря которому его участники добились признания. Сегодня с таким примитивным эпатажем вас не примут даже на выставку начинающих концептуалистов. Хэппенинг и концепт шагнули далеко вперед.
Порой мне кажется, что если наука переживает довольно сильный и быстрый прогресс, то изобразительное искусство с каждым годом с небывалой скоростью регрессирует. Оно стало до такой степени массовым, что любой амбициозный пэтэушник при определенном упорстве может не мытьем, так катаньем добиться признания и известности.
* * *
В 60-е я жил в доме напротив Главпочтамта, на бывшей Кировской. Теперь она называется Мясницкой. Соседство с Почтамтом было удобно, там, в одном из помещений, стояли телефоны-автоматы. Каждое утро мы с Кириллом бегали звонить.
Наши мастерские находились в полуподвальном помещении большого кирпичного дома. Из пыльных окон были видны только ноги прохожих и грязный асфальт. Здесь жили и другие художники. Самым легендарным был Древин. Мы редко встречали его во дворе, возможно, он был самым трудолюбивым.
Жил здесь и Александр Злотник. Он был сыном еврейского портного, специализирующегося на шитье модных в то время кепок. Это был процветающий бизнес шестидесятых: кепки-восьмиклинки огромных размеров для грузин, кепки с разрезом для блатных, кепки для номенклатуры.
Мастерская Злотника была заставлена скульптурами великого вождя Ленина – во весь рост, по пояс, с кепкой и без кепки. Лепил их Саша при помощи доски. Он беспощадно, с остервенением хлопал ею по голове, плечам и спине вождя, вкладывая весь запас творческого экстаза в комья сырой глины. Две уже слепленные кепки лежали чуть поодаль. Одна кепка была смята, ее он примерял к руке оратора. Другую – в идеальном порядке, – на голову.
Он пользовался услугами Володи Манекена, когда испытывал приступ творческих мук, создавая из глиняной болванки очередной страстный портрет лидера революции. Володя часами стоял в исторической позе вождя, пока Злотник вертел подставку в попытках родить еще одного Ленина.
«Революция, о которой так долго говорили большевики, свершилась!» – кричал Володя Манекен, тараща глаза и имитируя картавое ленинское «р-р-р». Он думал, что таким образом помогает скульптору лучше передать характер его героя, или просто ему было скучно и хотелось как-то развлечься.
Когда Злотник сдавал законченную работу Московской секции Союза советских художников, Володя вертелся рядом, беспокоясь о судьбе произведения искусства, которому он помог родиться. После того как работа была сдана, Володя имел короткую передышку перед созданием следующего Ленина.
Злотник безнадежно пытался совместить соцзаказ с работой, как он говорил, для души. Для души Злотник работал без модели. Подражая манере Эрнста Неизвестного и Генри Мура, он пытался делать что-то свое. Мур был его героем, поэтому Злотник ваял композиции, похожие не то на монстров, не то на привидения с огромными дырами, характерными для садовых скульптур Мура.
Злотник часто приходил к нам в надежде выиграть пару рублей в шахматы. Это ему удавалось крайне редко. Кирилл вовлекал Злотника в отчаянную игру простым способом, давая ему выиграть первый раз. Но в конце концов тот обычно проигрывал, хотя желание выиграть никогда не покидало его. Потому что, как говорят, ничто человеческое было ему не чуждо.
Злотник любил ездить на «Жигулях», которые купил на скудные средства, заработанные за Лениных, в поисках московских проституток, затерянных в ночи. Но это были бесполезные экспедиции, поскольку он боялся венерических заболеваний. Поэтому вечера заканчивались игрой в шахматы в мастерской Кирилла, где он проигрывал два-три рубля. Затем он шел домой, к себе в постель, согретую теплым дыханием его верной Гали.
Плюнув на благосостояние отца и незаконченные скульптуры, Саша эмигрировал на свою, злотниковскую, историческую родину. Бросил на произвол судьбы не только свои бессмертные творения, но и убитую сожительницу Галю. Галю, которой он запрещал открывать дверь, когда его не было в мастерской. Видимо, он был настолько эгоистичен, что ни в коем случае не хотел подвергать риску свое семейно-похотливое счастье, а возможно, Сашу преследовал комплекс Отелло. Так или иначе, в какой-то момент Злотник из обычного сына кепочника вдруг превратился в моих глазах в еврейского героя, шепнув мне однажды на ухо: «Я подал документы на выезд». С этого момента моя жизнь вдруг перевернулась. «Если даже Злотник не побоялся, то как же я буду жить здесь дальше?» – спрашивал я себя.
Психоз исхода захватывал город постепенно. Каждый день приносил новые слухи.
– Ты знаешь, я слышал, Красный едет и Збарский. А Миша Калик? – Что, Миша тоже едет?
Москва постепенно разделилась на тех, кто едет, и кто не едет или пока не едет. Вечерами собирались у кого-нибудь в мастерской или на квартире. Время проводили за чтением вслух писем от тех, кому посчастливилось уехать. Это было похоже на эксклюзивные клубы подавших документы и пока еще ждущих приглашения фиктивных родственников.
Даже Митя вдруг затеял со мной игру в исход. Вместо приветствия он деловито спрашивал:
– Ты собрал вещи?
Я должен был ответить:
– Нет еще.
Его реплика звучала приблизительно так: «Ну что же ты, а я собрал. Сколько я буду тебя ждать…»
– Скоро, скоро, – отвечал я.
* * *
– Вы, как шакалы, знаете о жизни все, – беззлобно атаковал Митя Кирилла и меня. – Посмотрите, вы живете, как голодные животные, будто жизнь завтра закончится. С кем вы проводите свое время? С такими же охламонами, как вы. Единственная человеческая черта, которая у вас осталась, – это отсутствие благородных идей, направленных на сохранение человечества. Сейчас трудно найти в Москве место, где бы вы не превратились в Верховенских.
– Митя, почему ты предъявляешь такие высокие требования людям, которые выросли в дерьме? – начал было Кирилл. – Ты просто стареешь, и у тебя очевидные симптомы климакса.
– Просуществует ли советская власть до тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года? – продолжал рассуждать Митя, не обращая внимания на Кирилла. – Просуществует в том или ином виде, и еще как. Она будет существовать тысячу лет потому, что живет в дегенеративных мозгах провинциальных философов. Она останется даже тогда, когда они получат свою революцию и соберут чемоданы, полные благородных идей о спасении человечества, против частной эксплуатации человека, дискриминации негров и еще не знаю чего, и пойдут по России, размахивая красными флагами и распевая «Интернационал». Лишь бы не работать.
– Ты читал их декреты? – встрял Кирилл. – Это все одно и то же старое дерьмо: «Землю крестьянам, чего-то там для рабочих, чего-то для интеллигенции». Вот поэтому я не могу понять, что ты хочешь от них и о чем ты беспокоишься? Ты знаешь, что появление пепси-колы на прилавках Москвы отложит революцию на десятилетия? Аборигены будут стоять в очереди день и ночь, чтобы приобщиться к цивилизации. Они начнут устраивать вечеринки, на которых смогут угостить друзей бутылкой пепси и пачкой «Мальборо». А на Западе тем временем будут трепаться о либерализме советского режима и захлебываться от восторга, что здесь не расстреливают, как это было при Сталине. О какой духовной свободе ты говоришь? Мы окружены дикарями с марксистской идеологией – это единственная правда, которую они знают, но продадут ее в одно мгновение за бутылку пепси-колы, так велика их тяга к цивилизованности. Ты сам начал с того, что все мы вышли из дерьма, – где же твоя логика? Почему же ты так нетерпим к этим рабам социализма? Бог с ними, пусть они делают, как им хочется, лишь бы оставили меня одного и дали бы лежать на койке с простой провинциальной девушкой с Каланчевки, чья природа содержит больше смысла, чем все демократические идеи истинных борцов за мировую справедливость.
Володя Манекен вышел из ванной, неся свежевыстиранную нейлоновую рубашку. Он повесил ее над газовой плитой.
– Ах, Митя, миленький, о чем ты с ними говоришь! Хочешь, я тебе чаю сделаю? Вот я думаю о том, чтобы переехать к теще в деревню и жить там тихо, купить лошадь и ружье. Как ты думаешь? Свежий воздух, парное молоко. – Придерживая спадающие брюки, он исчез в глубине мастерской.
– Манекен, конечно, дурак, но умный, – сказал Женька, обнаруживая свое присутствие. Он относился с мистической подозрительностью к Манекену, видя изобретательный ум «деревенского» философа, святой мудростью напоминающего старого Луку из Горького.
Я помню, как-то Володя пришел ко мне со своим старым велосипедом и глазурованным куличом под мышкой. «Я ходил в Елоховский собор, чтобы освятить его», – он вручил мне освященный кулич и стал отвязывать авоську с крашеными яйцами, висящую на руле велосипеда. – Христос воскресе!» – сказал он, целуя нас. – «Откуда ты все это спер, ”Христос воскресе”? У какой-нибудь бедной, богобоязненной женщины?» – спросил его тогда Женька, указывая на добычу. – «Ты ублюдок, Женька», – сказал Манекен обиженно, и я понял, что Женька был недалек от истины.
Володя вернулся на кухню, пощупал влажную рубашку и надел ее.
– Я тут похожу вокруг, – сказал он, – и возьму с собой собаку на прогулку, а то она всю ванную обоссала. Да, еще я обещал зайти к Злотнику, попозировать. Он сам мне сказал, что никто не может воссоздать позу Ленина лучше, чем я.
Глава 20
В поисках бутылки водки мы ехали в такси в сторону Комсомольской площади.
– Не думаю, мужики, что вы найдете там что-нибудь. Все боятся продавать, – сказал нам водитель. – Я пробовал этим заниматься когда-то давно, но по новому закону менты отбирают права на пять лет, и это помимо штрафа. Вам лучше попробовать в «Арарате». Там есть дядя Гриша, дадите ему пятерку и получите водку.
Вокзал был городом внутри города, живущим своей жизнью. Чемоданы, сумки, пассажиры, вытянувшиеся на скамейках и скрючившиеся на полу, лица, искаженные сном и жесткостью неонового света.
Над людьми, погруженными в усталый сон, царила фигура Александра Невского, строго вперившегося взглядом в противоположную стену. Он застыл с занесенным мозаичным мечом над полем битвы. Меч казался сделанным из хлебных катышков. Толпа, развалившаяся на лавках и на полу, выглядела поверженной его грозным мечом. Трудно было пробиться сквозь эту кучу похожих на тюфяки людей, чьи чемоданы были привязаны к их запястьям, чтобы не украли.
Вездесущие воры и проститутки оживляли спящий вокзал.
– Посмотри, нам повезло. – Женька дернул меня за рукав. – Пошли, я познакомлю тебя. Это знаменитый Боря, а это Ольга.
Боря улыбнулся чарующей улыбкой и протянул руку. Ольга, голубоглазая блондинка, тихо опустила глаза и прошептала: «Привет». Углы ее накрашенных губ опустились, придавая лицу вид страдания, смешанного с романтикой декаданса.
Женька объяснил Боре цель нашего приезда.
– Старик, я позабочусь, – ответил Боря. – Сделаем в одну секунду. Давай деньги.
Он выхватил мятую десятку из Женькиных пальцев и отдал ее калеке с лицом, похожим на мозоль. Тот куда-то заковылял на своих алюминиевых костылях.
– Как дела вообще? – спросил Боря и, не дожидаясь ответа, добавил, потирая обветренные руки и обращаясь к Женьке: – У меня все в порядке. Неделю назад я снял комнатенку. Работаю с одной шлюхой… – он взглянул в сторону женщины в шляпе сложной конструкции. Та опиралась на стойку буфета и пила кефир прямо из пачки, почесывая одной ногой другую. – Можно пойти туда прямо сейчас, а?
– Мы не можем сейчас, мы ждем водку.
И, кроме того, я не очень здоров, – промямлил Женька.
– Ну, как хочешь. В любом случае запиши номер телефона. – Как имя, молодой человек? Дитин? Ну, хорошо, Дитин, может, ты мне позвонишь?
– Может, позвоню. – Я согласился быстро потому, что калека на костылях вернулся и дал Женьке две бутылки.
– Дайте ему полтинник за скорость, – скомандовал Боря.
Мы смогли наскрести мелочь и после теплого прощания с Борей и Ольгой пустились в обратный путь. Осторожно ступая через разбросанные руки и ноги, узлы и чемоданы, улыбающиеся во сне лица, мы в конце концов выбрались на улицу.
– Возьмем этих с собой? – Женька кивнул на двух девиц.
Мы не смогли разглядеть их лица под низко надвинутыми на лоб платками.
– Пошли, – позвал их Женька.
– Погоди, – сказала одна. – Куда?
– Недалеко, на Кировскую.
– Сколько заплатите?
– А сколько хотите?
– По пятерке каждой.
Женька начал размахивать руками:
– Каждой по пятерке?! По трояку плюс выпивка, все! Или оставайтесь здесь мерзнуть.
Я прав? Ну, хорошо, думайте быстро. Раз, два, три!
– Пошли, – сказала вторая, – я не хочу себе здесь задницу отморозить.
Когда мы платили водителю, он попросил:
– Не обижайте их, ребята! Они хорошие шлюхи, новые здесь.
* * *
В мастерской играла музыка. Танцевали под мелодию полузабытого военного вальса. «Ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука…» – пел голос Утесова.
Фима со своего дивана восторженными глазами следил за ритмичным покачиванием бедер танцующих.
– Фима, где ты? – спросил я его.
Фима грустно улыбнулся:
– Я здесь.
Мой вопрос и его ответ, который звучал как пароль, были частью текста из серии его графических работ под названием «Вопросы и Ответы». Он работал над ними в последнее время. В разговорах друг с другом мы пользовались готовыми клише. Это была своего рода разновидность поп-арта на тему русских фраз, доведенных до минимализма.
Фима настолько сжился с лексикой своих коммунальных квартир, что в разговорах использовал предложения из этих рисунков. Он мог спросить меня: «Кто забил этот гвоздь?»
Я должен был догадаться, что он имел в виду. Ответ был в его рисунках: «Роза Моисеевна Кац забила этот гвоздь».
Он всегда был в состоянии грустного покоя, исходящего от его гипсокартонных панелей, что с легкой иронией отображали жизнь среднего советского люмпена, населяющего тысячи коммунальных квартир. Конечно, его поп-арт не имел ничего общего с поп-артом Роя Лихтенштейна или Энди Уорхолла, отличался он и от поп-арта Ольденбурга. Это был другой, совковый поп-арт, полный мягкой иронии в традициях Хармса, Гоголя и Зощенко. От его работ исходил горьковатый привкус моей старой коммунальной квартиры, поэтому, наверное, я испытывал к нему слабость. Фима напоминал мне старика Мячина и других жильцов моей коммуналки.
Фима всегда носил старое поношенное пальто, и его всклокоченные волосы лежали шапкой на голове. Тепло, исходящее от его раскосых глаз, как будто грело окружающий мир. По его мнению, весь мир организован совершенно правильно. Он мог находить удовольствие как в дерьме, так и в красоте, как в радости, так и в грусти. Порой мне казалось, что он исполнял роль духовного пастыря, а мы были его овцами. Он любил лечить душевные раны тех, кто стонал, и тех, кто страдал молча.
– Кирилл, тебе нужна баба, – мог сказать Фима. – Ты не можешь продолжать по-прежнему, я вижу это. Ты нуждаешься в заботливой, теплой бабе.
Он возвращался к своим рисункам. Муха и под ней название: «Знай о мухах». Иногда он нуждался в том же лечении, которое прописывал Кириллу. Тогда он выбирался со своего чердака и терпеливо ждал момента, чтобы притащить какое-нибудь беззащитное теплое существо под свою крышу. Для того чтобы начать новый опус под названием: «Мухи улетели», он должен был выпроводить теплое существо за дверь, на улицу, что находится вне его мира летающих мух и гвоздей, забитых Розой Моисеевной Кац.
Расстаться с мухами и гвоздями ему было трудно. Он даже брал с собой своих «мух» и «гвозди» в ежегодную летнюю поездку к своей старой маме в Бердянск. Цель этой поездки была в том, чтобы подготовить одинокое, лишенное мужчины хозяйство матери к зиме. Пока Фима доставал ей уголь и дрова, он умудрялся создавать новую панель под названием: «Мухи вернулись».
Время от времени его маленькая мама брала Фиму к кому-нибудь в гости в попытках устроить его личную жизнь: должна же была существовать где-то в Бердянске еврейская девушка, которая может подойти Фиме. Он понимал тщетность ее стараний, но не хотел обижать маму, поэтому покорно шел с ней. Сидя за чьим-то столом, он часто думал о теплых московских бабах, которых оставил на милость судьбы. И чем выше становилась поленница в сарае матери, чем меньше сломанного штакетника оставалось в ее деревянном заборе, тем больше он думал о своем чердаке. Когда все было, наконец, сделано, он складывал своих «мух» в самодельный деревянный ящик, конструкция которого была такой же изощренной, такой же сложной, как и его концепции, и отправлялся на станцию.
* * *
Женька сидел между двумя проститутками с Каланчевки. Было видно, что им не особенно комфортно среди собравшихся в мастерской. Но Женька говорил, что спешить им никуда не надо. Кирилл тоже подсел к одной из них:
– Чувствуйте себя как дома.
Володя Манекен спал в кресле с выражением глубокого горя на лице. Незнакомые мне люди ходили туда-сюда из комнаты в комнату, наливая водку.
Ежова я нашел в спальне. Первое, что я увидел, когда вошел, была голая спина индийской девушки-каучук. Я промямлил что-то, стоя в дверях. Он помог мне:
– Старик, я извиняюсь: забыл дверь закрыть.
Я вышел.
Привязанная собака рычала в ванной. Люди танцевали в комнате. Актер из «Современника», чье имя я всегда забывал, двигал ногами в такт музыки. Как во сне я смотрел на лица и пытался вспомнить, кто из них кто.
Наблюдая за танцующими, Фима разговаривал с Евгением Бачуриным о свободе и героизме, революции и интеллигенции.
– Не верю, что можно просто так стать героем. Не стоит ожидать ничего хорошего от людей, которые наслаждаются яростной борьбой.
– Не понимаю слов, которыми ты жонглируешь, Фима: герои, свобода, борьба. Когда речь идет о внутреннем мире, это еще в пределах моего понимания, но когда об общем идеале, – тогда оставьте мне мою привилегию и счастье быть несчастливым.
– Ты хочешь сказать, что русская интеллигенция и те, кто борется за демократию, хуже, чем…
– Я ничего не пытаюсь сказать, кроме того, что уже сказал. Я их не знаю. Пусть они будут героями, пусть они будут святыми. Но не я, можешь ты понять это? Я не верю в святых и фанатов. Я верю бродягам и проституткам.
Я знаю, что они не могут одурачить меня так, как те, которым веришь ты…
– Ты хочешь правды и совести, – сказал Бачурин и повернулся к проституткам, которые доедали пельмени. – Спроси этих девочек, кого они считают честным? Они тебе скажут, что это те, кто платит вперед и потом не отбирает у них деньги. Это их понятие честности. Я чувствую, ты хочешь большего, ты хочешь услышать сон Веры Павловны. Не рассчитывай на это, ты этого не услышишь. У них нет времени спать, им нужно зарабатывать.
Девочки с вокзала рассмеялись.
– Видишь, Бачурин, вся вокзальная площадь смеется над тобой! – злорадствовал Женька.
Нора ушла со своим французским спутником. Только Володя Манекен, которому не сиделось на одном месте, предлагал всем чай.
Индийская девушка-каучук не сводила глаз с Женьки, но тот, не обращая внимания на ее взгляды, громко пил чай. Только Галя после ухода Норы чувствовала себя одинокой, покинутой, пыталась поговорить с Кириллом, но он избегал ее, отделываясь ничего не значащими восклицаниями.
Кирилл обычно старался быть естественным. Но временами Женьке все же удавалось навязать ему свою манеру диалога. Например, когда они шли рядом со своей общей избранницей, Женька мог повернуться к Кириллу и спросить с беспокойством:
– Ну как, старичок, твой желудок сегодня? Все еще понос?
– Не говори, это так меня утомило, – отвечал Кирилл и спрашивал в свою очередь: – Слушай, Женька, давай зайдем к тебе. Я заберу у тебя свои ботинки. Я их тебе на день рождения одолжил, а ты их уже неделю носишь.
Их избранница оказывалась в трудном положении, потому что не могла понять, насколько правдивыми были эти издевательства. Через десять минут она уже знала об их страшных болезнях, об ужасающей бедности и начинала думать, что связалась с нищими. И тут Женька, обращаясь к растерянной девушке, опять смешивал карты:
– У меня будет сегодня небольшое сборище. Евтушенко обещал зайти, может, будет Вознесенский.
В этот момент Кирилл добавлял крупицу правды, объясняя, что Андрей вряд ли придет, потому что вчера перебрал и чувствует себя плохо.
Окончательно запутав женщину выбором между Кириллом, истощенным поносом, и нищетой Женьки, они оставляли ей свои адреса и исчезали.
* * *
Мастерская была похожа на декорацию, наполненную характерами, подчиняющимися странным командам невидимого и сумасшедшего режиссера. Они ходили, сидели, участвовали в сценах. Короткие и долгие обрывки их диалогов мешались с музыкой и шумом. Это выглядело как хаос, организованный идиотом с искаженным представлением о времени.
Я больше не мог находиться в этом аквариуме и попросил у Фимы ключи от его мастерской. Она было в пяти минутах ходьбы от моей. Его чердак располагался в здании старого русского акционерного общества, на Кировском бульваре.
Лежа на диване в мастерской у Фимы, я рассматривал его последнюю работу «Иван Трофимович едет за дровами». Она была огромной и представляла собой деревенскую дорогу, по которой должен был проехать Иван Трофимович. Восемьдесят метров его пути. На картине были названия всех деревьев, и черными силуэтами показаны следы Ивана Трофимовича. Сам он был величиной с муху.
В нижнем правом углу картины Фима изобразил масштабную сетку, так что зритель мог вычислить дистанцию, которую проехал Иван Трофимович. Пейзаж мягко вписывался в поверхность грязно-коричневого цвета.
При долгом и внимательном рассматривании обнаруживалась пустота деревенской дороги, тянущейся бесконечно. Названия мест были изображены в виде маленьких кружочков, разбросанных, как горошины, вдоль линии знакомых дачных мест: Красногорск, Павшино, Томилино.
На Фиминой картине был изображен набитый мебелью интерьер комнаты типичного гражданина: телевизор, шкаф, наверху которого располагался ряд банок с вареньем, полосатые половики, стол, ваза с цветами и какие-то странные плоские формы. На диване сидел парень с очень большой головой и читал газету. Собака лежала на подстилке. Муха, такая же большая, как собака, билась о стекло. Под картиной был текст, объясняющий, что мухой была жена Оля, а банки с вареньем – друзья семьи. Были даже обозначены денежные долги. Собакой на подстилке был Петр Андреевич Заворыкин, хозяин дома. Я лениво читал текст на картине. Голос Фимы вывел меня из полусонного состояния.
– Почему ты не спишь? – мягко спросил он. – Ты не сможешь спать у себя сегодня, у тебя там не протолкнешься.
Чердак был залит предутренним рассветом. Скоро остался звук легкого шуршания кровли на крыше от ветра и тихое дыхание Фимы на соседней постели.
Морозное утро пробиралось в комнату, оставляя ультрамариновые полосы на белых стенах. Они упирались в край пейзажа, на котором Иван Трофимович ехал за дровами, и тихо соскальзывали на пол. Приятное ощущение пустоты разливалось по телу и, проваливаясь, исчезало где-то между Павшино и Томилино.
Я засыпал.
Глава 21
Мастерская постепенно просыпалась и превращалась в коммуналку. Звук бегущей воды доносился из туалета и ванной.
Актер театра «Современник» вырвался откуда-то, бормоча: «Увидимся вечером, я опаздываю на репетицию», – и убежал, даже не умывшись.
Небритая, мятая физиономия Ежова выглянула из-за двери:
– Женьк, как насчет того, чтобы сбегать? Купи что обычно: бутылку, пару пачек пельменей, пива и масла.
Появились две вчерашние проститутки. Женька достал аккуратно сложенные три рубля и отдал одной из них.
– Теперь твоя очередь! – сказал он Кириллу с улыбкой.
Кирилл начал рыться в карманах, достал из одного рубль, из другого мелочь. Сложил деньги вместе и, стыдясь, заплатил другой:
– Только два рубля восемьдесят копеек, это ничего? – Он неожиданно повернулся ко мне: – У тебя есть двадцать копеек?
– Тоска с вами! – сказала девица и брезгливо отдернула руку.
Обе заторопились к двери.
– Я тоже, пожалуй, пойду, я должен позвонить в «Совпис», – сказал Митя.
– Ты разве не сдал туда своего последнего еврея? – пошутил Кирилл.
– Я хотел бы узнать, нет ли у них какой-нибудь работы. Деньги кончились.
– Для чего тебе деньги, Митя? – спросил Женька, натягивая войлочные ботинки на босые ноги.
– Не знаю. Наверное, чтобы быть человеком. У меня семья, куча долгов, не считая поездок жены в Харьков и обратно. – Он натянул свое старое пальто цвета вылинявшей гусеницы и вышел за Женькой на улицу, сияющую скучной зимней белизной.
* * *
Тогда светская Москва была настолько мала, что все знали друг друга. Стоило только появиться в ресторане ВТО, ЦДРИ или Доме литераторов, как сразу можно было узнать последние новости друг о друге. Эти дома славились необычайно домашней уютной атмосферой.
Они представляли собой театральные подмостки, на которых актеры, актрисы, режиссеры и писатели играли сцены до боли знакомого спектакля. Посетители могли провести весь вечер, бегая от стола к столу, целуя друг друга, будто не виделись целую вечность. Неважно, что полчаса назад они расстались в ЦДЛ. При встрече громко говорили, задыхаясь от счастья и обнимаясь прямо посреди сцены, куда они вышли, чтобы зрители их получше разглядели. Надо сказать, эта игра была довольно однообразной, но большое количество действующих лиц создавало эффект развития. Снующие между столиками официанты были, в основном, служащими КГБ.
– Валентин Иванович, прямо из холодильника, – объявлял официант Дима, ставя заледеневший графин с водкой на стол. Наклонившись ближе, он спрашивал: – Хотите свежий анекдот? – И стыдливо бормотал анекдот, имитируя стыд пациента и грубость занятого доктора.
– Привет, старичок, – бросил мне, пробегая мимо, Аникст. – Ты бы заглянул завтра в театр? Там шум из-за твоих ночных рубашек. Иванова не хочет в ней играть. Она говорит, что рубашка не соответствует характеру, слишком похожа на платье. По пьесе она должна работать в ней в прачечной.
– А что она хочет носить – грязный фартук? Действие происходит в Венгрии, а не в русской деревне, – возразил я.
Неожиданно включили музыку, соло на трубе Герба Алперта донеслось из динамика. Мелодия наполнила зал и как-то невпопад зазвучала в этой изменчивой и сумасшедшей атмосфере. Как только я об этом подумал, нестройный хор за соседним столиком затянул:
Когда мне невмочь пересилить беду, Когда подступает отчаянье, Я в синий троллейбус сажусь на ходу, В последний, случайный…Дима принес еще один графин с водкой.
Ежов, лениво выпив рюмку, хрипло произнес:
– Слушай, Женька, что ты там собираешься делать с твоим образом мыслей? Я там был и знаю: пока ты временный и желанный гость, это приятно. Они хотят поговорить с тобой, выпить, показать тебе свой город. Но только скажи им, что ты планируешь остаться, они тут же заскучают. У тебя начнутся сложности с трудоустройством. Незнание языка превратит тебя в беспокойного глухонемого.
Женька смотрел на Ежова. Трудно было сказать, всерьез ли он думал об отъезде. Но Ежов не унимался:
– Тут мы варимся в собственном соку. Согласно законам этого закрытого общества, ты принадлежишь к его привилегированному классу только потому, что имеешь время думать. Тебе не нужно ходить на работу, зарабатывать деньги, ты не публикуешься, не живешь невероятно активной жизнью. Заметь, тут ты все это можешь себе позволить, не имея денег. Там тебе будут нужны деньги на такую роскошь.
– А что, если я найду там богатую женщину, – мечтательно протянул Женька, – что тогда, дядя Валя?
– Ты? – Ежов увидел, что Женька дурачится, и стал терять интерес. – Попробуй! Помни только, что я тебе сказал. Тебе нужна будет какая-нибудь приманка. Ты даже здесь не можешь себе никого найти, а там это будет значительно сложнее. За что она будет тебе платить?
– Ну, хорошо, хорошо, ты меня уговорил, я остаюсь. – Женька улыбнулся, снял пиджак и повесил его на спинку стула.
– Я думаю, что могу понять провинциальных евреев, – продолжал Ежов, – но что собирается там делать вся эта армия голодающих по свободе творчества? У них нет ничего, кроме какой-то абстрактной идеи самовыражения. Идеи, которые они вынашивают, были забыты на Западе двадцать лет назад.
– Ежов, ты всегда смотришь на вещи с точки зрения самой простейшей схемы реальности, – вмешался в спор Кирилл. – Но люди плывут по реке нереальных надежд, и ее поток сильнее, чем самые убедительные реалии человеческого опыта. Они бросаются в эту реку, мечтая, что она вынесет их на счастливые берега. Западничество всегда было религией русской интеллигенции, включая даже тех, кто играл в славянофильство. Предпочитая жить за границей, они не скупились на разговоры о величии России, о прелести русских берез. Они тащили себя назад в Россию умирать, желая, чтобы их останки удобрили святую русскую землю.
– Я не понимаю твоей злой иронии, Кирилл, – ожил Ежов. – Для них было действительно трудно писать и находить читателей за границей. Многие из них просто перестали писать, теряя свой язык и не приобретая другого. Это была трагедия интеллигенции.
– Может быть… Не знаю, – отвечал Кирилл, – но я не вижу большой трагедии в смерти какого-нибудь местного артиста, писателя, например от того, что он потерял чувствительную, восхищающуюся им публику в лице русской интеллигенции, а люди на Западе не хотят есть приторно-сладкую литературную кашу, сдобренную ностальгическими слезами повара…
Я сидел, прислушиваясь к ним. Их голоса то появлялись, то исчезали в гаме птичьего рынка, каким казался мне ресторан Дома кино. Потные лица, шеи, руки, вытянутые в разнообразных жестах, несущих на себе отпечаток веры в собственную важность: «Нам хорошо, но мы сдерживаем себя, как и подобает интеллигентным людям».
Хор грянул новую песню Окуджавы:
Когда ласкать уже невмочь, и отказаться трудно…
И потому всю ночь, всю ночь не наступало утро.
Мы возвращались из Дома кино. Улица Горького была залита неверным светом фонарей. Монумент Пушкина, покрытый снегом, замерзал в печальном одиночестве.
«Давайте заглянем в ВТО. Может, зацепим кого-нибудь там!» – предложил Женька. Все с готовностью согласились.
Было трудно попасть в ресторан ВТО поздно ночью, но, к счастью, швейцаром в этот день работал дядя Петя. Это был странный старик в сияющем черном костюме и бабочке, размером сходной с той, что носил известный конферансье Смирнов-Сокольский. У дяди Пети была своя система вытягивания денег у посетителей. Он стоял внутри у стеклянной двери, совершенно индифферентный в отношении стуков и криков снаружи. Ты мог колотить в дверь хоть целый час. Он даже не глядел в твою сторону. Но стоило Ежову достать мятый рубль из кармана и прижать его ладонью к стеклу двери, дядя Петя немедленно открывал ее и ловкими пальцами быстро ловил бумажку.
Дядя Петя славился тем, что, неожиданно выйдя на середину зала ресторана, поворачиваясь во все стороны, объявлял громким голосом: «”Динамо” победило армейцев со счетом пять – четыре. Горьковское ”Торпедо” проиграло ”Химику”!», затем кланялся и возвращался на свое место у двери. Он получал информацию из пищавшего в его руках транзистора.
Мы нашли единственный свободный стол, да и он был грязный с пепельницами полными окурков. Почти все лица вокруг были нам известны: в основном, актеры МХАТа, «Современника» и несколько знакомых девиц.
Пришло время рассказывать анекдоты, чтобы убить время. В оцепенении я прислушивался к их потоку, рассказчики сменяли один другого.
– Товарищи, пора расходиться по домам! – прокричал дядя Петя.
Вечер подходил к концу. Быстрым профессиональным взглядом Женька окинул прокуренное пространство ресторана и остановился на столике с тремя женщинами, сидящими без мужчин.
– Как насчет тех? – спросил он Ежова.
– Не сработает, они выглядят слишком прилично!
Это задело Женьку, он встал и направился к заинтересовавшему его столику. Склонившись над женщинами, Женька заговорил о чем-то, глупо улыбаясь. Он работал в традициях классического французского театра, используя для комплиментов затертые фразы. Женщины то пугались, то смотрели на него как на сумасшедшего, но, в конце концов, сдались.
Помогая в гардеробе ВТО своим новым подружкам надеть пальто, он уже называл их по именам.
Было невозможно поймать сразу два такси, и мы пошли пешком по спящей Москве. Три незнакомки семенили по бокам от Женьки. Тот размахивал руками, рассказывая им какие-то истории. Мы шли за ними, время от времени отвечая на адресованные нам шутки.
Кирилл был занят интерпретацией теории о сексуальных преимуществах маленьких женщин. Он основывал свои аргументы на опыте старого уважаемого артиста, который утверждал, что ни одна женщина не может сравниться в постели с лилипуткой. Это утверждение нравилось Кириллу, и он в последнее время искал низеньких женщин, что, впрочем, не удерживало его от связей и с высокими.
Мы подходили к Сретенскому бульвару.
Я часто замечал, что присутствие людей разрушает внутреннее напряжение пейзажа или интерьера. Когда ты один в комнате, ты можешь часами смотреть на странную складку одежды, отразившуюся в зеркале. То же самое происходит, когда ты смотришь на пустую улицу: трещины на стенах домов оживают, глубокая чернота окон скрывает трепещущую загадку неизвестной жизни.
Это состояние можно почувствовать только ночью или ранним утром, когда все спят. На карнизах стоят покрытые снегом кастрюли, из форточек свисают авоськи, полные продуктов, жалкие авоськи с человеческой надеждой в них.
Снег громко скрипел под нашими замерзающими ногами. Когда мы были уже у подъезда, до нас донесся голос Володи Манекена, читающего Есенина:
Снежная равнина, белая луна, Саваном покрыта наша сторона. И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?Мы увидели его на ступенях, прислонившегося к перилам у входа в мастерскую. Большая собака на поводке лежала у ног Володи.
Дверь в мастерскую не хотела открываться. Мои замерзшие пальцы никак не могли засунуть ключ в замок. Все сгрудились вокруг и ждали. Володя Манекен продолжал читать Есенина:
В Хоросане есть такие двери, Где обсыпан розами порог. Там живет задумчивая пери. В Хоросане есть такие двери, Но открыть те двери я не мог.В холодной мастерской стоял густой запах табака и выпивки. Не раздеваясь, я прошел на кухню и включил все четыре конфорки, чтобы согреть мастерскую.
– Это похоже на пещеру со сталактитами, – сказала высокая женщина, глядя на стены. – Люди, которые живут здесь, должно быть, имеют ледяное сердце, как у Кая.
– Может, я буду сегодня твоим оленем, Герда? – сказал Женька, помогая ей снять пальто, шепотом, но так, чтобы мы слышали.
– Если ты не будешь слишком навязчив.
Я люблю оленей твоего типа, но несколько более сдержанных.
Ежов сидел смирно на диване, оттаивая, и потягивал водку. Кирилл тихонько рассказывал «игрушечной женщине» о ее преимуществах перед другими, развивая свою теорию. Судя по выражению ее глаз, он был достаточно убедителен.
Синенький, скромный платочек, Падал с опущенных плеч… –шипела старая, поцарапанная пластинка. Мелодия напомнила мне мое далекое детство, когда я слушал песни времен войны.
Стало очень тихо в моей кухне, залитой подслеповатым светом, идущим от пыльного абажура. Была только музыка. Время от времени кто-нибудь говорил что-то, сказанное оставалось висеть в воздухе.
Ежов в это время рассказывал блондинке о том, как он отдал своему другу-сценаристу любимый эпизод о человеке, у которого вырос тридцать третий зуб. Наступило время, когда нужно было вставать и расходиться, но никто и не собирался двигаться с места.
Кирилл сделал решительный шаг первым. Он поблагодарил компанию за необычайно интересный вечер и исчез.
В моей спальне было холодно и неуютно.
Я не хотел зажигать лампу, ощупал свои карманы, нашел спички и зажег свечу. Огонь свечи начал мерцать в стеклах моих картин на стенах. Они напоминали темные окна спящего дома.
Я лежал на своей помятой постели и смотрел на шторы песочного цвета, отделявшие меня от холодной белизны заснеженного двора, и думал о живописи, которую я никогда не смогу создать. Она бы не вместилась в холст размером с картину, изображающую явление Христа народу, или другую, под названием «Русь уходящая», которую я однажды видел в студии у Павла Корина. Корин, старый и сгорбленный, сидел в своей громадной мастерской перед пустым холстом, занимавшим все пространство. Холст был совершенно чист. Художник сидел перед ним часами, не в состоянии начать, зная, что у него не хватит времени закончить…
Глава 22
Вопрос, как же я попал в этот сонный мир, не оставлял меня. Я вновь и вновь перебирал в памяти возможные и невозможные варианты того, что могло со мной произойти, но все они казались абсурдными. Я даже решил применить метод, которым пользуются детективы, пытаясь раскрыть мотивы преступления. Обычно они начинают с поиска лиц, заинтересованных в чьем-либо исчезновении или смерти. Размышляя таким образом, я сумел исключить из списка подозреваемых довольно большую группу близких мне людей. Версия с несчастным случаем казалась мне нелепой. Самоубийство? Я мучительно пытался вспомнить хоть какие-нибудь разговоры с близкими и знакомыми людьми по поводу сведения счетов с жизнью, усталостью от нее, освобождением, но увы…
Зато словно издалека всплывали события моего отъезда в Израиль.
Что было в письмах домой уже уехавших в Израиль, не имело значения. Каждый, кто ждал разрешение на выезд, по-своему представлял тот мир, о котором почти ничего не знал. Но желание покинуть этот было настолько велико, что другой казался заманчивым своей неизвестностью. Неизвестность давала огромную свободу для фантазий. И тогда представлялось, что жизнь там – это и есть реальная жизнь.
А сегодняшняя зимняя Москва, засыпанная грязным снегом и солью, с тротуарами, покрытыми размякшей скользкой ледяной коркой, с унылой слякотью и темными подворотнями, была настолько знакома, настолько близка, что потеряла какую бы то ни было привлекательность. Она стала казаться просто омерзительной. Бесконечные сборища в мастерских вдруг тоже потеряли свою прелесть.
В конце концов, я получил вызов и через неделю подал заявление. И когда в очередной раз встретил Митю возле синагоги, то на его вопрос: «Ты собрал вещи?», я вдруг вместо: «Нет еще» тихо произнес: «Собрал».
Он побледнел.
– А ты? – спокойно спросил я, с нескрываемым удовольствием наблюдая за его растерянностью.
– Видишь ли, я устроил Бонасье в почтовый ящик. Ну, в общем, ты меня понимаешь…
– Конечно, понимаю. Я буду тебя ждать там, – сказал я уже более мягко.
Мне хотелось посмотреть на Средиземное море, искупаться в нем, полежать на песке, глядя на незнакомое израильское небо.
Некоторые выезжающие даже начали изучать иврит. Исход превратился в образ жизни. Неожиданно для самого себя я постепенно превратился в активного участника этой массовой эйфории. Причем это произошло даже не по моей воле.
Однажды, уезжая, я оставил ключ от мастерской Галанину, и тот, не спросив моего разрешения, организовал там печатное бюро. На пишущей машинке печатались листовки с основной темой «let My people go» – «отпусти мой народ».
Когда я вернулся, мне было неловко просить Галанина убрать машинку из моей мастерской. Таким образом, диссидент и «отказник» Владимир Слепак, а также лидер сионистского движения в СССР Виктор Польский просиживали там дни и ночи за составлением текстов и манифестов.
Моя личная жизнь перестала существовать.
Юрка Красный выпросил у моего отчима машину, на которой мы перевозили вещи отъезжающих. Сам отчим уезжать не собирался, так как моя мать была категорически против отъезда. Но его вполне можно было отнести к сочувствующим. Дав свою машину, он понимал, что она обречена, но отказать не мог, так как в глубине души чувствовал себя сионистом. Поэтому, отдав на растерзание свои «Жигули», успокаивал себя мыслью, что расстался с машиной ради благородного дела.
Спустя несколько месяцев Красный, получив разрешение на выезд в Израиль, бросил эти самые «Жигули» где-то посреди дороги, не доехав несколько километров до Шереметьева. Отказал мотор, и он пересел в такси или на попутку. Отчим с трудом нашел машину, оставленную на обочине, и не мог Юрке Красному этот поступок простить.
Я с Левой Подольским встречал Юрку в аэропорту, так как уехал за два месяца до него. Нашли Красного с трудом среди вновь прибывших, так как на нем была кипа – еврейский головной убор и талос – молитвенное покрывало.
– Ты что, спятил? – спросил я его. – Тебя же невозможно узнать!
Он с безразличием и свойственным ему цинизмом ответил:
– Слышал, что религиозным здесь легче устроиться.
Мы умоляли, чтобы он снял свой маскарадный костюм, но Красный наотрез отказался. И нам с Левой ничего не оставалось, как усадить Юрку в такси и отвезти его в Мевасерет Цион – живописный поселок, расположенный на вершине горы, рядом с Иерусалимом, где мы жили уже месяц. Ульпан был небольшой. Дома стояли довольно близко друг от друга.
В переводе на русский Мевасерет Цион означает – «ворота Циона».
Вечером в доме кинорежиссера Миши Калика праздновали его приезд.
Что я чувствовал? Все происходящее со мной и вокруг было как будто не в реальной жизни, а в странном, дурном сне. Изнурительная дневная жара повергала меня в постоянную депрессию, правда, по вечерам становилось немного легче. После захода солнца обитатели поселка выползали на улицу. Дантист, живший по соседству, играл на аккордеоне «Я могла бы побежать за поворот…» и другие песни советских композиторов. От этих мелодий жизнь казалась еще более нелепой.
Чаще всего вечерние посиделки проходили в доме Калика, который готовился к съемкам своего первого израильского фильма. Беседы, как правило, сводились к материальным проблемам и бытовому обустройству, например, где лучше купить квартиру: в Тель-Авиве или в Иерусалиме? Обсуждались цены на машины, холодильники, телевизионные бренды. Главным экспертом был Сашка Кольцатый.
К его советам прислушивались все, даже моя жена, которая посвящала все свободное время перелистыванию каталогов, изучению цен и сроков гарантии, а вечером демонстрировала всем свою осведомленность.
Я практически не участвовал в дебатах, сидя тихо где-нибудь в углу, изнывая от духоты. Мнение у меня было, но озвучить его я не осмеливался, так как один раз на вопрос: «А где бы ты купил квартиру?» ответил собранию не очень корректно: «Нигде, я бы просто свалил отсюда как можно быстрее». С тех пор моего мнения демонстративно не спрашивали.
Чтобы как-то скрасить свое существование в этом поселке, я почти каждый день под предлогом поиска галереи садился в такси, ехал в Тель-Авив, сидел в кафе или шел на море. Устроившись где-нибудь в тени, я размышлял о жизни, пытаясь определить размер бедствия. Что я чувствовал, уже точно не помню, скорее всего, это был страх. Ведь все, что я видел в местных галереях, наводило меня на грустные мысли о моей профессиональной непригодности. Я не находил себе места среди всех этих полотен и картинок, уместных больше в аэропорту или в вестибюлях отелей. Ближе к вечеру я ловил такси и возвращался. «Теперь это твой дом», – говорил я себе печально.
Грусть и желание плакать, видимо, рождались от воспоминаний о том времени, когда я безуспешно ходил по московским издательствам в поисках работы. И вот теперь, спустя десять лет, я вынужден заниматься тем же самым.
На вопрос жены: «Ну, как сегодня?» я отвечал что-нибудь неопределенное: «Завтра будет ясно» или «Еще не все галереи обошел», оставляя за собой возможность на следующий день снова уехать в Тель-Авив…
* * *
Когда пытаешься вспомнить прошлое, временной фактор почти не имеет значения, время выглядит каким-то размытым. Годы сливаются в единую цепь событий и встреч, поэтому легко можно запутаться в хронологии происходящего. Было ли это вчера или двадцать лет назад? И у каждого существует свой способ ориентироваться во времени.
У Мити, например, все истории, которые он вспоминал, связаны с физическими увечьями, полученными в тот или иной период жизни.
«А это было, когда я сломал ногу… – И тогда он легко устанавливал даты. – Тысяча девятьсот шестьдесят девятый год, – уверенно говорил он. – А это – когда получил сотрясение мозга, май шестьдесят третьего».
История с сотрясением мозга произошла у него в кровати. Он просто резко повернулся, видимо, выясняя отношения со своей первой женой Муськой, и ударился головой о стену. Насколько эта история правдоподобна, не имеет значения, она привлекает своей абсурдностью, как, впрочем, и весь хаос его потока сознания.
Забавно, что моя встреча с Митей там, в потустороннем мире, ничем не отличалась от встреч здесь: та же манера говорить, тот же тембр голоса, те же седая борода и белая кепка. И даже его продвижение к руководящей роли в Антимирском Совете ни в коей мере не изменило его земных привычек. Он также продолжал сосать сахар, часто возвращался мыслями к Хряковой, которую ждал здесь с нетерпением.
Митя еще и еще раз повторял мне историю своего последнего с ней свидания. История обрастала все большими подробностями.
В основном они касались ее последней картины, на которой были изображены его похороны. Затем шел подробный анализ особенностей ее живописи. Но так как мне пришлось однажды побывать на выставке Хряковой, специфика ее таланта была мне не очень интересна. Иногда я думаю, что он и сам понимал, что там не о чем говорить, но все, что было связано с ним и его жизнью, носило исключительный характер. Все, к чему Митя прикасался, не могло быть другим, кроме как неземным или божественным, как любил он говорить.
Пребывание в потустороннем мире делало существование Мити более естественным. Он нередко приглашал меня на прогулки или, как он называл, на беседу. «Пройдемся и побеседуем», – загадочно улыбаясь, говорил он. Я послушно и с нескрываемым удовольствием следовал за ним. Как правило, Митя начинал с вопросов, касающихся моих работ, сделанных после его смерти.
Описывая словами свою живопись, я старался убирать эмоции и пафос, останавливаясь только на технике, размере и жанре. Пейзажи с травой, например.
– Не забывай о размере! Они должны быть обязательно большими, даже грандиозными, – тоном ментора вещал Митя. – Какая пропорция неба по отношению к траве? – спрашивал он озабоченно.
– Ну, пятьдесят на пятьдесят, – говорил я, волнуясь за правильность ответа.
– Маловато, Дитин, маловато. Неба должно быть больше, ну хотя бы процентов на пятнадцать. Небо светлее или темнее травы?
– Когда как, – неуверенно отвечал я.
– Ты меня удивляешь, – терял он терпение. – Оно должно быть только темнее. – И после недолгой паузы: – Надеюсь, трава не зеленая?
– Митя, ну о чем ты? Конечно, нет. Чуть золотисто-серебряная.
– Неплохо, молодец, – как бы вглядываясь в мой несуществующий пейзаж, произносил задумчиво он, хрустя сахаром. – Перейдем к размеру. Сколько?
– Ну, метра три по горизонтали.
– Архимало, – с раздражением отмечал он.
В какой-то момент мне показалось, что он позаимствовал ленинскую манеру речи, с бесконечными «архи» и легкой картавостью из-за сахара, который он практически не вынимал изо рта…
– А сколько должно быть?
– Ну, метров семь минимум, иначе это девятнадцатый век. Ты ведь современный художник, хочешь того или нет, – поэтому размер и еще раз размер.
По пути нам встречались какие-то малознакомые или совсем незнакомые прохожие. С некоторыми он здоровался легким кивком головы, иногда приветственно снимал белую кепку. На мой вопрос, кто это, отвечал: «Да никто, просто жлоб какой-то, я с ним иногда поигрываю в шахматы… А с этим я служил в Уссурийске. Фамилию не помню…» Под руку с упомянутым последним персонажем шла женщина. Она обворожительно улыбнулась, помахала, назвав Митю по имени: «Здравствуй, Митяй!»
– А это – кто?
Митя как-то виновато улыбнулся:
– Ну, как тебе сказать? Это долгая и давнишняя история, относящаяся к тем временам, когда я еще служил в Уссурийске. В общем, моя юношеская любовь. Она вышла замуж за майора. Увидел ее на танцах и влюбился с первого взгляда. Набрался храбрости, пригласил на волейбол, я играл тогда за сборную полка. Был солнечный субботний день. Она пришла, села в первом ряду, так же мне помахала, как сейчас, только без фамильярности. Короче, по закону подлости, это было мое первое, но не последнее фиаско.
– Вы что, проиграли?
– Нет, дело не в спортивном результате. Просто где-то в третьем периоде, когда я выходил к сетке в высоком прыжке, случилось нечто ужасное. – Он сделал длинную паузу, испуганно глядя на меня, очевидно, ожидая вопроса, но, не выдержав, почти шепотом признался: – Я громко перднул. И не просто громко, мне показалось, что вся волейбольная площадка вздрогнула от этого звука. Ты понимаешь, бывает же такое! Со мной всегда случается что-нибудь нелепое в самые важные, можно сказать, моменты жизни. Что тут смешного? – слегка обиделся он.
– Ничего. Я просто поражаюсь выборочности твоей памяти.
– Почему? Я могу продолжить, тем более, героиней истории опять будет она, девушка моей мечты. Когда матч закончился, я поискал ее глазами, но она исчезла. Спустя какое-то время я встретил ее на танцах. Хотя, знаешь, я передумал исповедоваться. Давай в другой раз? А то неизвестно, что ты обо мне подумаешь.
– Митя, поверь, я не изменю своего мнения о тебе.
– В другой раз, – уже твердо ответил он. – Могу я узнать, как ты спишь? – Митя, видимо, решил сменить тему.
Спал я пунктиром, просыпался и снова засыпал. Это началось с тех пор, как я понял, что теперь испытываю трудности в определении своего местонахождения: то ли я в Москве, то ли на Шикотане, то ли у Митяя, там, в потустороннем мире. Не могу назвать свое состояние паникой, скорее, это спокойное, терпеливое перебирание фактов, деталей, просто знакомых лиц, улиц, городов. Порой мне кажется, что все это внутри меня – и лица, и города, и улицы, хотя, возможно, они и не существуют, или если и существуют, то в виде некоего миража. Люди, с которыми я был близок, куда-то исчезли, но остались их голоса, силуэты, и порой я вижу их и чувствую даже больше, чем когда-то в далеком прошлом. Можно сказать, что просто скучаю по ним, по тем далеким временам. Если бы встретил их сегодня, то испытал бы чувство неловкости, стеснения и язык не повернулся бы сказать: «Сколько лет, сколько зим» или «Как дела?». Почему? Но ведь на самом деле их уже давно нет, осталась только моя память о них.
Глава 23
Попав в Париж, я поселился в свободной комнате над галереей Эрве Одерматта. Эрве делал попытки сдать ее под салон красоты или парикмахерскую, но безуспешно, поэтому пока он предоставил ее мне. Комната была просторной, с большими окнами, выходящими на Фобур Сент-Оноре, в ней не было ни душа, ни горячей воды, но я мог там работать и даже спать. На полу лежал какой-то ужасный ковролин цвета малины. Ворс был настолько вытерт, что местами проглядывали нитки. Прямо на ковролине – матрац, который Эрве заботливо притащил из дома. Так называемая мастерская была уставлена холстами и подрамниками.
Иногда в течение рабочего дня Эрве по несколько раз поднимался ко мне из галереи. Обычно это были визиты с клиентами – буржуазными дамами, их спутниками или мужьями. Он с удовольствием и с присущим ему энтузиазмом рассказывал посетителям историю о том, как он открыл меня, молодого художника, которого, несомненно, ждет великое будущее.
Я обычно стоял молча, разглядывая пришедших, пытаясь угадать по выражению их лиц, насколько правдоподобным и убедительным им представляется такой прогноз. Чаще всего они уходили, вежливо и смущенно улыбаясь, бормоча что-то про себя. Единственную фразу, которую удавалось разобрать, я заучил наизусть: três fort. Это был дежурный комплимент, при помощи которого французский зритель как бы не в силах передать все аспекты переполняющих его эмоций, поэтому, собрав все воедино, резюмирует их таким образом: três fort.
Оставаясь один, я в ужасе и каком-то творческом угаре начинал грунтовать холст, испытывая жалость к самому себе и испуг по поводу своей профнепригодности. Странно, что в Москве такие мысли никогда не приходили в голову. Как я уже говорил, в этом городе в шестидесятые годы дилетантизм назывался нонконформизмом, а провинциальный маньеризм выдавался за самобытность и исключительность его автора. В Париже не было ни подпольных выставок в подвалах и кабинетах зубных врачей, ни так называемых меценатов. Не было и легенд, окутывающих тайной творческие биографии художников. Здесь не было ни Костаки, ни Маркевичей. Не было ни слепых художников, ни паспортов с графой «Национальность». Здесь был только страх. Страх перед пустым холстом и малиновым ковролином, заляпанным красками. Был еще терпкий запах бензина, который мне приходилось ночью покупать на бензоколонке, так как терпентина иногда не хватало. Гораздо позже я прочел в предисловии к каталогу американского художника Джаспера Джонса, что на вопрос журналиста: «Как вы могли бы объяснить свой творческий прогресс? В чем ваша творческая задача?», – художник ответил: «Я пытаюсь научиться делать картину». Тогда, в душной комнате с истертым ковролином, я, охваченный паникой, бессознательно пытался делать именно это.
Поздним вечером я выходил в драгстор на углу улицы Мотиньон и Елисейских Полей, съедал салат «Нисуаз» с бокалом вина или виски и смотрел в окно на Елисейские Поля, запруженные толпой неведомых мне людей, говоривших на незнакомом языке. «Какое количество незнакомцев, – думал я, – и как они все нарядны и красивы». Потом плелся назад в свою обитель, по дороге заходил на бензоколонку и покупал бутылку бензина. Поднимаясь по лестнице, я думал о том, что «завтра надо отправить деньги в Лондон», становился у мольберта и начинал тупо с остервенением лить краску на сверкающий белизной холст.
Я снова, как когда-то в Золотице, на берегу Белого моря, столкнулся с проблемой выбора моего мира. Что писать и как?
Эта мысль, как головная боль, мучила меня. Я продолжал поливать бензином свои холсты, на которых были фигуры каких-то странных женщин. Они как будто застыли в беге, на них были странные одежды, чем-то напоминающие наряд персонажей комедии дель арте.
Мой новый знакомый, английский фотограф Джон Стюарт, впервые увидев мои работы, был в легком недоумении. «Слушай, – удивленно сказал он, – ты производишь впечатление интеллигентного человека с хорошим вкусом. Но то, чем ты занят, просто наивно и глупо. Что значат эти макаронные бабы?» Он так и назвал их «макаронными», видимо, удлиненный торс, ноги, непропорционально маленькие головы вызывали у него ассоциации с макаронами. «Плюнь на этот провинциальный сюр и работай с реальностью, как все нормальные и умные художники».
Его аргументы были настолько просты и убедительны, что я вдруг почувствовал, как во мне зашевелилось что-то до боли знакомое. Свет коммунального коридора на Мещанской. Ветхость поверхности старых стен, шкафов, простых предметов, растворившихся в серебряном мареве пыли.
Я вдруг ясно осознал, что это всегда было моим миром, и совсем непонятно, почему я бежал от него. И если я нахожусь в Париже, это совсем не значит, что мой мир должен измениться. Я медленно, в каком-то радостном экстазе, стал вспоминать свои старые работы. Стулья с гвоздями, написанные на старой фанере. Грязные оранжевые абажуры. Наконец, деревенский клуб в Золотице. Пустынный берег Шикотана, похожий на помойку, со старыми ржавыми баркасами, бутылками из пластика, гниющими водорослями с запутавшейся в них дохлой рыбой. Мир не то умерших, не то притворившихся мертвыми предметов.
По вечерам, сидя в одиночестве в драгсторе Матиньон, я мучительно вспоминал и складывал по кусочкам почему-то заброшенный и потерянный мир моего детства. Вспоминал и деда Мячина. Недаром же я часами сидел на сундуке, всматриваясь в конус пепла на конце папиросы и в еле-еле угадываемые контуры предметов – корыт и тазов на стенах.
Созерцание – вот твой мир. А оно предопределяет дистанцию, с которой ты смотришь на поверхность. Близко, очень близко. Словно муха, ползущая по поверхности стола. Решил начать с натюрморта.
Я стал вдруг обращать внимание на живописную прелесть грязных, стертых и засохших в краске кистей, замызганной столешницы, служившей мне палитрой, тряпок, которыми я вытирал кисти. На все то, где отчетливо лежала печаль и печать бедности и старения.
В то время Париж для меня был представлен всего двумя улицами – Фобур-Сент-Оноре и улицей Матиньон. Единственными собеседниками были Стюарт и Миша Бурджелян, художник-эмигрант, попавший в Париж благодаря каким-то родственным связям. Писал он картины, похожие на шоколадные и конфетные коробки с яркими этикетками-репродукциями, ну, например, с картины Лиотара «Шоколадница». Делал он это добротно, я не думаю, что его мучили проблемы вроде моих. Он был достаточно уверен в выборе своего направления, которое, по его собственному определению, относилось к гиперу или поп-арту.
Миша снимал небольшую мастерскую где-то в районе Монпарнаса. В нем счастливо сочетались мягкая улыбчивая доброта, трезвая дистанция по отношению к окружающему незнакомому миру и армяно-еврейское отношение к жизни.
Он, сын армянина, кстати, тоже художника, и еврейской мамы, будучи потомком двух национальных меньшинств, унаследовал двойной коэффициент выживания. Я любил сидеть с ним в драгсторе или у него дома, который он делил со своей милой маленькой Идой. Ида тоже писала скромные и многодельные работы. Писала долго и не без удовольствия. У них я ел русский борщ, селедку с подсолнечным маслом, приготовленные руками Иды. За ужином я слушал Мишины несколько доморощенные монологи по поводу авангарда, концепта и тому подобную ерунду. Он довольно серьезно исследовал биографии художников актуального искусства и с удовольствием занимался моим образованием.
Ида не без гордости поглядывала на супруга, который блистал эрудицией. А я слушал его тихий вкрадчивый голос, смотрел на Иду, пытаясь представить, как их приятель Толстый трогает ее влагалище большим пальцем ноги. Впрочем, я не настолько верил рассказам Толстого, но, тем не менее, было любопытно. А вдруг правда? В конце концов, я смирился с мыслью «почему нет?». Это меня успокоило окончательно, и я постепенно перестал ходить к ним, и не из соображений морали – просто мне стало скучно. Кроме того, когда живешь в эмиграции, ностальгия исчезает довольно быстро, поэтому борща и селедки не так уж хочется. Ты начинаешь предпочитать местную кухню.
* * *
Когда-то, не помню в какой из книг, я прочел довольно ироничные замечания по поводу русской эмиграции, проживающей в Париже. Перемена места жительства и география делала с русскими эмигрантами нечто, из-за чего они теряли контроль. Им зачастую хотелось быть или выглядеть французами больше, чем сами коренные жители. Они, не стесняясь, кричали в ресторанах «гарсон» или «месье» вместо привычного «сильвупле», привлекая внимание официанта. Это делало их смешными провинциалами.
Во всем чувствовалось желание эмигрантов обратить на себя внимание. Русские модницы в эпоху широких плеч одевались в пиджаки, которые с большим трудом пролезали в дверные проемы. Вилли Бруй слонялся по Парижу в наряде в клетку, от которой рябило в глазах. Каждый по-своему старался найти свой неповторимый образ русского художника.
Даже Злотник, которого я встретил в Париже спустя много лет после моего отъезда из России, щеголял в наряде, отдаленно напоминающем костюм мушкетера: высоких сапогах-ботфортах и обтягивающих его довольно полную фигуру курточке и джинсах, заправленных внутрь сапог.
Он уже успел получить мастерскую где-то на окраине Парижа и проживал там со своей новой пассией английского происхождения. Телосложением и преданным выражением глаз она чем-то напоминала Галю, которую он оставил в Москве.
Злотник стал заезжать ко мне в мастерскую на улице генерала Шольшера со своей шахматной доской. В перерывах между партиями он подходил к холсту, стоящему на мольберте, долго рассматривал поверхность или трогал, будто изучал. Иногда задавал разного рода вопросы, связанные с технологическими тонкостями: название грунта, количество лессировок…
– Как думаешь, что мне надо писать? – Или: – А что ты, собственно, называешь настоящей живописью?
– Ну как я могу тебе это объяснить, – теряя терпение, отвечал я. – Пойди в Лувр и зайди в зал, где висят полотна испанцев. Постой перед ними, ну, хотя бы час, и ты наверняка поймешь, ну, а если нет, то так и останешься в неведении до конца жизни.
– Кого ты имеешь в виду?
– Их всего двое, Веласкес и Гойя. Я думаю, ты слышал о них?
Закончив изучение моих холстов, он снова усаживался за стол и начинал молча расставлять фигуры. Видимо, мои объяснения и советы не так уж сильно его трогали. Он был уверен в своих собственных силах и таланте. И ни Веласкес, ни Гойя не были для него такими уж авторитетами.
Однажды наши игры в шахматы мне пришлось прекратить. Произошло это после приглашения Злотника посетить его мастерскую, где я увидел знакомые до слез, изможденные временем и красками свои кисти, мольберт, загвазданный краской, обшарпанные двери, мастихины, короче, неодушевленные предметы моей мастерской.
Трудно сказать, с какой целью он устроил эту демонстрацию, но я настолько оторопел от его глупости или наглости, что, не произнеся ни слова, попрощался и уехал.
Через неделю раздался звонок. Это был Злотник.
– Как насчет партии, я в твоем районе, – как ни в чем не бывало спросил он.
Я мучительно попытался придумать предлог отказаться от встречи, но, не выдержав, сказал ему горькую правду.
– Для твоей же пользы, – добавил я.
Он бросил трубку. Но буквально на следующий день позвонил опять. На этот раз в его голосе слышались ноты решительности и нетерпения, может, даже самоуверенной наглости.
– Надо встретиться и обсудить кое-что, – произнес он тоном, не оставляющим места для возражений.
– Что это кое-что? – спросил я.
– Надо разделить между собой сюжетику. Что пишешь ты, а что – я. Это в твоих же интересах. У меня скоро выходит каталог, и я буду считаться первым, кто открыл этот мир.
– Слушай меня внимательно, – сказал я, вкладывая в слова всю горечь, накопившуюся у меня на душе. – Я всегда думал о тебе, что ты недалек, но никогда не мог предположить, что до такой степени. Неужели ты думаешь, что я буду делить с тобой что-нибудь? Можешь писать или рисовать все, что тебе заблагорассудится. Считай себя свободным. – И повесил трубку.
С тех пор я не встречал его ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Израиле. Я слышал, что он ударился в религию, окончил школу ешибот.
Однажды в музее Зураба Церетели я увидел зеленую дверь, которая красовалась на одной из стен. Ее автором был Злотник. За время отсутствия в моей жизни он сделал пусть небольшие, но заметные успехи.
* * *
Джона Стюарта я видел редко. Он был необычайно светским и востребованным человеком. Его довольно часто приглашали на ужины в различные парижские дома. Меня он с собой не брал по причине моего французского, которого практически не существовало. В те редкие вечера, когда Джон был свободен от светских обязательств, мы ужинали вдвоем. Чаще всего это были заведения с китайской или вьетнамской кухней, которую он предпочитал за легкость и умеренные цены. Но даже там он тщательно изучал меню, прежде чем войти в ресторан.
Джон был настолько болезненно жаден, что я всегда испытывал напряжение, когда приносили счет. Он вдруг менялся в лице, становился нервным, торопливо прощался, и мы расходились по домам практически чужими друг другу людьми. Что же касается его отношения к профессии, здесь он был перфекционистом. О фотографии он знал практически все. Кроме этого, обладал безукоризненным вкусом и эрудицией.
Жизнь, к сожалению, развела нас, думаю, мы оба в этом виноваты. Но я часто вспоминаю его уроки. Однажды у него в доме я обратил внимание на пепельницу дурного вкуса. Перехватив мой взгляд, он с улыбкой сказал: «Только люди с безукоризненным вкусом могут позволить себе роскошь иметь в доме кич».
Мне кажется, я краем глаза видел его там, в Антимирском Совете – Джон шел под руку с худощавым старцем, похожим то ли на испанца, то ли на дагестанца. Они разговаривали на английском, испанец говорил с дурным русским акцентом. Краем уха я услышал про Обаму и подумал: «Странно – находятся в этом мире, а говорят о земном».
Джон здорово пополнел и от этого стал еще меньше ростом. «Надо будет его найти, – подумал я. – Все-таки, несмотря ни на что, он относился к касте моих учителей, и я никогда не забывал об этом».
География моего Парижа потихоньку увеличивалась: улица Сен-Сюльпис, где я встречал Ивана Дыховичного, чуть позже улица Шольшера. Париж становился все больше и одновременно меньше.
Обычно, когда начинаются разговоры о красоте городов, я быстро теряю интерес к рассказчикам или ценителям городских красот. Мне кажется, что город, в котором ты живешь, остается за пределами твоего обозрения, поскольку ограничен двумя-тремя улицами, по которым проходит твой ежедневный маршрут. Так и мой Париж периода комнаты с малиновым истертым ковролином на протяжении года, а то и двух, был ограничен дорогами в драг-стор и на бензоколонку. Это не значит, что мне не приходилось бывать в других районах, но вылазки на периферию были весьма редкими, я не запоминал ни пейзажа, ни архитектуры их кварталов.
Туристы воспринимают город совсем по-другому. Они второпях пытаются посетить все достопримечательности, без конца изучают список ресторанов, который им составил такой же знаток, как и они сами.
Ты же, будучи многолетним обитателем города, годами не видишь ни Красной площади, ни статуи Свободы, ни Триумфальной арки. Ты ощущаешь себя чуть ли не деревенским жителем. И там, в твоей деревне, есть всего один продмаг, один буфет. Ты знаешь в лицо всех соседей, встречаешь их каждый день, приветствуя кивком, или снимаешь шляпу, если она есть.
Твой мир, особенно если ты добровольно посвятил себя созерцанию, становится ограниченным. Ты разглядываешь вещи с близкого расстояния. Этот способ познания исключает панораму, и ты довольствуешься стенами домов или закопченными стенами кафе, в котором просиживаешь годами. Ты знаешь всех официантов по именам, они, в свою очередь, не предлагают тебе меню. Они знают что ты будешь пить, что есть, что курить. И поменять свою знакомую до слез деревню трудно. Это все равно что уехать в другую страну. Тем не менее я делал это столько раз, что уже перестал ощущать границы и географию. Да и сама дорога перестала пугать меня, как это было раньше.
То же самое происходило и с людьми, близкими и далекими. Я уходил, иногда не прощаясь, порой испытывая чувство вины. Расставаясь с ними, я старался не думать о причинах, а просто ощущал себя животным, покидающим стадо, чтобы умереть или, наоборот, выжить. Отчего это происходило, не знаю. Скорее всего, это что-то из области мимикрии или просто инстинкт выживания. Кто-то называет это переоценкой ценностей, кто-то просто предательством. Впрочем, какая разница?
Засыпая в комнате мотеля, я размышлял об этом. И мое появление в мире мертвых душ теперь не казалось таким уж страшным. Скорее наоборот, оно только приблизило меня к возможности созерцать. И, может быть, давало возможность еще четче осознать и ощутить дистанцию между Я и ОНИ. Хотя чем дольше я нахожусь здесь, тем меньше я чувствую разницу между жизнью на земле и миром, где обитают души. Да и желание во что бы то ни стало быть принятым за своего не так уж беспокоило меня. Как будет, так и будет, рассуждал я. Конечно, мне предстояло еще найти ответ на вопрос, как я попал сюда. Но при этом мне все больше и больше хотелось узнать о здешнем каждодневном укладе. Я уже понял, что все, кого здесь встречаю, так или иначе мне знакомы, надо только напрячься и вспомнить, где и каким образом я сталкивался с ними в жизни.
* * *
Я все чаще путешествую внутри себя, блуждаю по лабиринту темных переулков, вспоминая калейдоскоп забытых и незабытых обид, слова и фразы, сказанные людьми, которых уже нет в живых или еще живущими, но где-то далеко, совсем не на твоей планете.
Обычно эти путешествия происходят рано утром или во время бессонных ночей. Цели моих путешествий заключены, скорее всего, в капризном желании угасающей памяти обрести окончательный покой.
Я никогда заранее не знаю маршрута следующего путешествия. Память сама отправляет меня в дорогу, которая, как правило, приводит к сказочной развязке, куда бы я ни пошел: налево, направо или прямо. В любом выборе прячется классическая безысходность. Но внутри меня всегда теплится надежда, что, может, в этот раз повезет и каким-то образом выход найдется. Это своего рода испытание на упрямую истовость, на веру в себя, в свою непоколебимость. Когда количество попыток многочисленно, мысль об их обреченности вводит в состояние апатии, вера становится все слабее.
Но страх капитуляции заставляет мою память вновь и вновь отправлять меня в дорогу. Там нет попутчиков, кому можно излить душу, нет случайных встречных – эта дорога пустынна.
* * *
Ты в роли детектива, занимающегося сбором фактов и улик, начинаешь расследование, чтобы подтвердить свою собственную вину. Причем вину не за совершенное однажды преступление. Нет, это нескончаемая цепь преступлений на протяжении всей твоей жизни.
Ты мучительно пытаешься найти смягчающие обстоятельства, выискиваешь случаи, когда преступления были непреднамеренными или совершенными в состоянии аффекта. Но все бесполезно, ты безусловно виновен, и вина в основном доказана и подтверждена показаниями свидетелей. Большинство свидетелей – женщины. Почти все они обвиняют тебя в том, что ты недодал внимания, денег, участия – другими словами, в небрежном и неряшливом отношении к своим обязанностям настоящего мужчины, который должен исполнять роль добытчика, давателя, избавителя, наконец, героя, а не лузера, неудачника, каким ты являешься в их глазах. Именно такой мужчина, по их мнению, и является настоящим. Отсутствие таких качеств должно рано или поздно привести их к поиску новых кандидатов на роль настоящего мужчины, «сменщика», как называл Фима мужа своей бывшей жены.
– Единственный человек, с кем я стараюсь быть внимательным и теплым, когда посещаю дом жены, чтобы увидеться с дочкой, – это мой сменщик. Я безумно благодарен ему за ту тяжелую работу, которую ему приходится выполнять вместо меня.
Пусть в его словах есть доля цинизма, он по-своему прав, настаивая на неистребимом желании стать художником.
Желание освободиться от ответственности, от мирских нелепых обязанностей на протяжении всей жизни преследовало меня с самого раннего детства. Я часто представлял себя живущим без матери, перед которой я испытывал постоянное чувство вины буквально за все: за плохие отметки в школе, невымытую посуду, за поздние приходы домой, за потерянные вещи в пионерском лагере…
Позже поменялись только причины. Следствие оставалось прежним. Постоянная непрекращающаяся вина преследовала меня всю жизнь.
Я довольно редко прилетал из Парижа в Лондон, пытаясь хоть как-то выполнять свой семейный долг. Моя жена, как бы извиняясь за свое отсутствие в аэропорту, объясняла его так:
– Ты же знаешь, как дорого стоит бензин!
Честно говоря, я не знал и до сих пор не знаю.
– Выключи немедленно телевизор, ты не даешь мне спать.
Я тихонько на цыпочках перевозил телевизор в гостиную, украдкой брал подушку и устраивался на диване, убавляя звук. Но через несколько минут она врывалась ко мне и молча решительно выключала телевизор.
– Мне завтра рано вставать, – произносила она со злостью.
Что ты испытываешь в такие моменты? Вину, страх, обиду, жалость к себе, одиночество. Ты лежишь в темной гостиной на диване, как когда-то в детстве у тетки Рахили, и теперь хотя бы знаешь, как называется чувство, которое испытываешь, – одиночество. Ты с грустью понимаешь, что это конец. Ты уже мертв, и она уже находится в поисках «сменщика».
Что ты чувствуешь, когда женщина, переспав с другим, на вопрос «зачем?» отвечает тебе, потупив глаза: «Мне хотелось внимания!» – «И это вся причина?» – спрашиваешь ты с чувством неловкости, имитируя неподдельный интерес. «Да», – не моргнув глазом отвечает она, имитируя абсолютную горечь правды. В такие моменты ты начинаешь сознавать, что ей нужен другой, все тот же пресловутый «сменщик», способный дать ей то, чего она не дождалась от тебя.
У Толстого в «Крейцеровой сонате» Позднышев говорит: «Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее.
И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она».
Это удивительно точное наблюдение Льва Николаевича. Когда диалог невозможен, всего только несколько слов, сказанных визави, рождают холод и раздражение, и предмет спора вторичен, он не имеет большого значения. Остаются только холод и отчужденность. Отношения в прошлом близких и любящих друг друга людей перерастают в стадию почти брезгливой ненависти.
Темой разногласий может быть любой сюжет – прочтенная книга, деньги. Кстати, тема денег возникает все чаще.
– А ты подумал, на какие деньги я еду отдыхать в Эмираты? А ты спросил у меня, чем закончилась история с бухгалтером?
– При чем здесь бухгалтер? – спрашивал я, недоумевая.
– При том! Не делай вид, что ты не понимаешь, о чем я говорю.
Я испытывал чувство стыда за нас обоих, за тон, с которым она информировала меня о своем негодовании.
Каждая встреча, если вы живете отдельно, начинается с выяснения отношений.
– Кто тебе звонил? Почему ты не мог говорить? У тебя был странный голос.
– Почему ты не могла говорить, когда я тебе звонил?
– Я была на ланче с детьми и их родителями.
– И что? – спрашиваю я. – Тебе что, трудно выйти из-за стола, или это бизнес ланч?
– Да, трудно.
В голову приходят разные мысли. Одна из них – успокаивающая: она просто тупа и бестактна. Другая – более неприятна: видимо, кто-то из родителей представляется ей потенциальным сменщиком. Но и в том и в другом случае ты чувствуешь тольо безразличие, а иногда – злобу и раздражение.
Это своего рода пинг-понг, где ответные резкие крученые удары почти не оставляют возможности принять их. Ты пытаешься приноровиться к их кручености, не желая проигрывать, хотя понимаешь, что разумнее бросить игру и сдаться.
Но ты выбрал ее из сотен других кандидатов в спутницы жизни. А она на эту роль выбрала тебя, не самого «легкого пассажира».
И в ее выборе заключается естественное право требовать от тебя и внимания, и денег, и верности, и заботы – всего того, что ты не в состоянии дать в полной мере.
Как можно требовать от близкого человека любви и внимания? Как? Как требовать верности?
«Я никому ничего не должна!» – нередко говорила она. И была права.
Но я-то сознавал, что должен кругом, должен армии людей, иначе они не в состоянии выжить. И мне остается только или отдавать долги, или исчезнуть, как исчезают люди, меняя внешность, документы, континенты.
Я уже давно смирился с мыслью, что я мертв, хотя многие не знают об этом. Я решил умереть тайно. Именно поэтому возникло много проблем и с Антимирским Советом, возглавляемым Митяем, да и с самим собой. Смерть – это мое новое состояние души. А что касается тела, оно здесь совсем ни при чем. Оно существует независимой от души жизнью в салонах массажа, банях, спортивных залах, в могилах, устеленных еловыми ветками, или в вазах для пепла, хранящихся в нишах-шкафах крематориев.
Теперь я просто знаю, что смерть не появляется в образе мужика или бабы в балахоне и с косой, как ее часто изображают на античных гравюрах. Смерть невидима и бесплотна. Это скорее эфемерное состояние, похожее на сфумато, и появляется оно не один раз в течение жизни. Ты проживаешь его в моменты безвыходности и отчаяния. Поэтому при последнем появлении смерти ты не испытаешь испуга, а встретишь ее с равнодушной усталостью, как старую знакомую. И тебе будет страшно только оттого, что она исчезнет, как дым, медленно рассеется на твоих глазах, и тебе в который раз придется ждать следующего ее прихода.
«Ждать» – это глагол, в котором копошится чувство нетерпения. Оно похоже на зуд или чесотку. Когда невозможно думать ни о чем, кроме как «когда же?».
Мы все постоянно ждем звонков, свиданий, разрывов или примирений, признаний в любви, рождений и смертей. Мы ждем всего этого молчаливо, порой боясь признаться себе в загадочном чувстве зудящей нетерпеливости. Мы ждем чего-то, что, как нам кажется, изменит нашу жизнь. И она станет другой. И мы обретем, наконец, покой. «Когда же?» – повторяем мы про себя.
Сам процесс ожидания чаще бывает гораздо увлекательней и приятней, чем его свершение. Свершение как бы крадет у вас самый важный элемент ожидания – трепет неизвестности.
Не случайно в приемных у экстрасенсов толпы людей желают узнать что-нибудь о своем будущем, снять порчу или решить свои проблемы с мужем или с любовником. Парадокс заключается в том, что они с нетерпением ждут не только счастливых перемен, но и драмы.
С замиранием сердца они подсознательно торопят их появление, так как ждать становится невыносимо. И повторяя «чему быть, того не миновать», безысходно предчувствуют драму. Вместо того чтобы каким-то образом гнать от себя мысли о приближении драмы, они торопят ее приход.
Но для того, чтобы считывать перемены в близких вам людях, не нужно быть экстрасенсом. Перемены могут быть скрыты для людей, торчащих на себе, но для многих, находящихся в постоянном состоянии разглядывания, они очевидны.
Она вдруг зачастила к новому экстрасенсу.
– Попросил меня принести флакон с духами, которыми я теперь не пользуюсь, и надеть бейсбольную кепку, – без капли иронии поведала она.
На другом конце провода был абсолютно незнакомый мне чужой человек. Я был слегка удивлен.
– И это все?
– Ну, в общем, все, правда, перед уходом попросил разбить флакон, но оказалось, это не так просто, – здесь в ее голосе появилась хоть малая доля иронии.
Слушая бред, рассказанный на полном серьезе, мне стало не по себе. Я просто потерял дар речи. Надо ждать появления «сменщика», думал я с грустью. Случившаяся метаморфоза была грандиозна, осталось только предчувствие конца. Возникла легкая тошнота, знакомое состояние, когда «сосет под ложечкой», еще один симптом ожидания конца отношений. Пытаешься не думать об этом, занять себя чем-то, но бесполезно. «Чего ты ждешь? – спрашивал я себя. – Заключительного приговора. И чем быстрее он будет озвучен, тем лучше».
Начало конца я чувствовал в ее прикосновениях к моему телу, во взгляде чуть в сторону, в интонации голоса, наконец, даже в манере одеваться. Она вдруг стала молодежной: кеды, спортивные шаровары. Стиль молодящейся женщины.
Мне не раз приходилось встречать и старцев с висящими животами, в кедах или в длинных шортах, рядом с молодыми девицами. Это почти бесконтрольная мимикрия. Им хочется выглядеть как matching couples, то есть создать впечатление, что они подходят друг другу.
Когда я думаю о том, что называется близостью, духовной и физической, то прихожу к заключению, что они не всегда бывают вместе. Чаще мы сталкиваемся с наличием только одной. Вторая по каким-то причинам слабее или отсутствует полностью. Как измерить коэффициент близости с человеком, с которым проживаешь годы? Количеством телефонных звонков, встреч, писем, написанных друг другу, признаний в постели? Испытывать близость возможно и в тайне, не озвучивая ее, боясь или просто стесняясь пафоса признаний. Гораздо легче это делать в письменной форме.
Пытаюсь вспомнить, кому я писал письма, когда еще был жив, и от кого получал их. Оказалось, не трудно. Из эмиграции я писал только моему близкому другу Юрке Ващенко. Здесь, уже умирая, только ей. Но это не было перепиской. Писем в ответ я не получал. Видимо, у двух моих корреспондентов не было сильной потребности в исповеди или они проживали свою близость со мной по-другому, молча. Думая о двух моих корреспондентах, я понимаю, что первому я писал, так как мы не виделись годами. Второму – по причине невозможности устного диалога, который заканчивался на обмене первыми фразами, быстро переходящими в обоюдные упреки, повышенный голос, своего рода базар.
Поэтому близость вряд ли измеряется желанием писать друг другу письма. Да и письмо, как форма, практически умерло. Тогда чем? Количеством молчаливых монологов, сказанных про себя бессонными ночами?
Это похоже на игру в шахматы с самим собой, когда ты делаешь свой ход и в ответ – ход за своего партнера. Ты мысленно представляешь его ответы, аргументы. Это довольно изнурительная, а порой бессмысленная игра, так как часто ты заранее знаешь все его ходы. И ваши силы неравны по причине слабой подготовки партнера, или он просто отказывается соблюдать правила. Он слишком эмоционален, и нередко партия заканчивается смахиванием фигур с шахматной доски.
* * *
Мой Париж я бы еще назвал альдовским.
На протяжении десяти лет я регулярно, раза три или четыре в неделю, ходил к Альдо в офортное ателье на улицу Гринель.
Однажды у меня в мастерской на улице Бозар зазвонил телефон. Я снял трубку. На другом конце услышал приятный мужской голос:
– Меня зовут Альдо Кроммелинк.
Он произнес свое имя с какой-то неуловимой интонацией уверенности, что я наверняка должен был знать это имя. Я, к своему стыду, слышал его впервые, но решил сделать вид, что, конечно, оно мне знакомо. Не сделав даже короткой паузы, он спросил:
– Вы когда-нибудь занимались офортом? Да, давно, еще в Москве? Вам знакома техника акватинты?
Я честно сказал, что мне знаком только мягкий лак и травленый штрих.
– А почему вы спрашиваете меня об этом?
Альдо сделал короткую паузу.
– Видите ли, я был вчера на выставке в Гран Пале и там видел вашу живопись. Я бы хотел предложить вам работать со мной. Ну, а что касается акватинты и других офортных премудростей, я вас научу. И если вы согласны, то запишите мой адрес: сто семьдесят два, улица Гринель. Начинать можем со следующей недели. Ну, скажем, вторник вам подойдет, в десять?
Я поблагодарил Альдо и повесил трубку.
Работать не хотелось. Хотелось ленивого пьяного дня, и я решил пойти в «La Palette». По дороге я зашел в галерею спросить у Клода, кто же этот Альдо? Клод знал в Париже всех, а если не знал лично, то, так или иначе, был в курсе.
На мой вопрос он удивленно и с недоумением посмотрел на меня, словно желал взглядом выразить укор и сожаление по поводу моей неосведомленности.
– Это роллс-ройс офортной печати. Он еще юношей печатал для Пикассо. Их два брата – Альдо и Пьеро. А что он хочет от тебя? – спросил Клод с хитрой улыбкой.
Я пересказал содержание разговора. По лицу Клода я заметил, что он был не в восторге. Он довольно ревниво относился ко всем моим экспериментам, не относящимся к живописи, и всегда с легким недовольством смотрел на мои увлечения то фотографией, то скульптурой. Ему хотелось полного контроля над тем, что производит его художник, и появление новых людей, издателей, вызывало в нем объяснимое беспокойство.
– Ну и что ты решил? – спросил он индифферентно.
– Я встречаюсь с ним во вторник и тогда смогу тебе дать ответ. А пока не беспокойся.
Я обещаю, что без тебя не буду принимать никаких решений.
– C’est bien, c’est bien. C’est très intelligent, очень хорошо, очень разумно, – произнес Клод, успокоившись.
Попрощавшись с Клодом, я поплелся в «La Palette». Там, как обычно в полдень, собирались на ланч обитатели нашего района: маршаны, мастеровые, туристы, хотя незнакомое лицо можно было увидеть довольно редко.
Еще издали я заметил Жерара. Он стоял среди столиков, размахивая в воздухе своей самокруткой, запах которой наполнял улицу Сены.
Подойдя ближе, я увидел Боба Валуа, он занимал со своими друзьями несколько столов. Они играли в карты. Почти все столы были заняты. Я нашел место у бара, заказал пива и тарелку ветчины.
Звонок и предложение Альдо каким-то образом рождало во мне ощущение надежды на новую жизнь. Я настолько устал от рутины этого местечкового междусобойчика, уже надоевшей мне мышиной возни вокруг галерей, изготовления картин, вернисажей, похожих один на другой. Это стало напоминать скучнейшую семейную жизнь.
Альдо – это что-то другое, более важное, не принадлежащее к опостылевшему кругу торговцев картинами. Альдо – мастер. И я, который всегда испытывал почти религиозное уважение к мастерству ремесленника, смогу чему-то научиться. И не просто у какого-то там Пупкина. Нет, я буду учиться у настоящего мастера, который постиг все секреты офортного мастерства. Моя эйфория не покидала меня еще довольно долго. Я заказал виски, еще пива, попросил Жерара скрутить мне джойнт, самокрутку с марихуаной. И продолжал сидеть в гордом одиночестве, пуская кольца и разглядывая с чувством собственного превосходства толпу галерейщиков, которые еще вчера были частью моей жизни. Конечно, я понимал, что это теперь и моя жизнь, но, тем не менее, я имел возможность изменить ее.
«Хватит играть в художника. Теперь я хочу стать ремесленником. Я хочу постичь тайны ремесла. Это есть высшее удовлетворение – быть мастером. Художников как собак нерезанных, а вот мастеров…»
Видимо, пиво, виски и джойнт Жерара привели меня в состояние, похожее на детскую эйфорию, когда дети, высунув язык, пилотируют самолет или гоняют гоночную машину, держа в руках маленькую игрушку. Но сколько раз мы испытываем во взрослой жизни такие моменты? Я думаю, не так часто. И мне хотелось как можно дольше продлить это состояние.
Я продолжал сидеть, наслаждаясь солнечным полуднем с привкусом виски, смешанным с запахом марихуаны.
Во вторник я встал, как обычно, рано, зашел в «La Palette», выпил порцию бурбона и эспрессо и, не торопясь, пошел по бульвару в сторону Площади Инвалидов. Мне не хотелось ни брать такси, ни ехать на машине. Хотелось просто продлить это состояние пасмурного утра с мелко моросящим, почти неосязаемым дождем. Разгула эйфории как не бывало. Скорее, наоборот, где-то в глубине души я немного нервничал, как это бывает перед экзаменом.
Зачем-то я вспоминал свои московские офорты. Это были доски на тему библейских сюжетов и несколько иллюстраций к Шолом-Алейхему. Ничем подобным я не собирался заниматься. Хотел чего-то, что не имеет отношения к иллюстрации. Вчера ночью листал репродукции рембрандтовских офортов и поражался, насколько глубоко и виртуозно он владел этой техникой. У Рембрандта она практически стерла границу между графикой и живописью. Он касался медной доски, будто во сне, с легкостью виртуоза-фокусника. И каждый новый этап или состояние приоткрывало все новые и новые тональные переходы от светлых полупрозрачных линий до темных, почти бархатного тона.
Как у Пастернака: «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Рембрандт сумел проникнуть так глубоко в тайну этой техники, что вряд ли можно найти другого одержимого ученого, который посвятил этому жизнь, царапая и травя уникальные касания иглой, экспериментируя со слабой и концентрированной кислотой, с офортной тушью, которая вдруг становится живописной патиной, проникающей в белый лист бумаги.
И бумага начинает излучать свет. И в момент разглядывания ты забываешь, что это бумага. Ты видишь свет неба, если это пейзаж, кожу, если это портрет.
Ты можешь всматриваться часами в его офорты, пытаясь понять, как и каким образом ему удается создать это чудо? Чудо, похожее на сотворение мира. Мира, в котором черное и белое существуют как дуэт музыкальных инструментов, где один из исполнителей – художник, а другой – Бог.
Я медленно брел по улице Гринель, размышляя на тему тайны мастерства и невозможности постичь или разгадать ее, как незаметно обнаружил себя на Площади Инвалидов. Улица Гринель закончилась на 132-м номере.
Меня вдруг охватила паника: где же номер 172?
Решил пересечь площадь в надежде, что, возможно, улица Гринель продолжается дальше. И я оказался прав. Остановившись у заветного номера, я был поражен видом особняка, который являл собой отель «Particulier» с огромным, на весь фасад окном, в котором отражалась ограда решетки, а чуть выше – фасады домов на противоположной стороне. Отражался даже небольшой кусочек неба над крышами домов.
Я нажал звонок на калитке ограды, но она не открывалась. И опять состояние паники.
Я забыл номер кода, который Альдо продиктовал мне по телефону. На мое счастье, я заметил женщину, которая двигалась в мою сторону. Мягко щелкнул замок, и я увидел перед собой доброе улыбающееся лицо.
– Вы, случайно, не к Альдо? – просто спросила она. И ее голос, и вся она излучали какой-то рембрандтовский свет.
– Да, я просто забыл код.
– Меня зовут Пэп, я жена Альдо, – продолжая улыбаться, произнесла она и жестом пригласила меня войти во двор. – Это там, – указала она мне на дверь. – Звоните в нижний звонок: «Мастерская». А мы увидимся позже. – Затем она скрылась, захлопнув калитку.
Мне даже не пришлось нажимать кнопку звонка. На пороге стоял необычайно худой высокий человек. Он был так сухощав, что походил на призрак. На нем были очки с толстыми линзами, сквозь которые светились серые умные глаза аскета. В длинных тонких пальцах была зажата недокуренная сигарета. Он курил «Голуаз», поэтому, войдя в гостиную, я сразу почувствовал запах табака, смешанный с запахом лака, соляной кислоты и офортной туши.
– Я Альдо, – коротко представился он и жестом пригласил меня в мастерскую.
Это была огромная, с высоким потолком комната с громадным окном, на которое я обратил внимание еще с улицы. Все свободное пространство было заставлено большими столами, на которых лежали штабеля офортной бумаги, офортные медные доски, бесконечные листы пробных оттисков.
Больше всего поразило меня то, что хаос на самом деле был настолько организован, что в пространстве ничто не выглядело лишним. Даже застекленный принт одного из создателей поп-арта Джима Дайна, представлявший собой изображение халата, казалось, был небрежно прислонен к стене. Ни один предмет в комнате не выглядел декоративным украшением, скорее просто функциональным, и поэтому пространство казалось естественным и непретенциозным.
Уже сама высота потолка и грандиозность окна делали мастерскую безукоризненно элегантной. В какой-то момент я подумал, что интерьер и его хозяин чем-то похожи. В том и другом присутствовали сдержанная уверенность в себе, простота и имперский аскетизм.
– Кофе, чай? – спросил Альдо, глубоко затянувшись сигаретой.
Я обратил внимание на его желтые прокуренные пальцы. Они слегка подрагивали, удерживая сигарету.
– Вы курите? – спросил он меня с небольшой долей любопытства, скорее из вежливости.
Я утвердительно кивнул.
– Это хорошо! А то некоторые не переносят дыма и запаха табака, – произнес он, улыбаясь.
Кофе мы пили не в мастерской, а в кафе за углом. Это было типичное парижское кафе в двух шагах от его студии. Он часто здоровался с сидящими за соседними столиками. Видимо, был завсегдатаем этого заведения.
Я взял виски и эспрессо, он пил портвейн.
– Ну, и как вы думаете, с чего мы начнем? – спросил он, сделав глоток из рюмки.
– А вы, – спросил я, – что вы хотели бы увидеть?
– Я думаю, правильнее начать с мягкого лака, тогда мы ничем не рискуем. И вы не будете скованны. Возьмите простой карандаш и попробуйте нарисовать.
На вопрос, что нарисовать, Альдо посмотрел на меня с легкой дружелюбной иронией.
– Да какая разница? Ну, что-нибудь привычное, то, что вы часто изображаете. Коробку, например. Вы знаете, чем проще предмет, тем легче художнику продемонстрировать свое владение материалом. Я думаю, вы лучше меня знаете: важно не что, а как. А в натюрморте с простой металлической ржавой коробкой мы можем попробовать и мягкий лак, и акватинту, и сахар, и травленый штрих. Мы же только учимся, не правда ли?
Я кивнул.
– А теперь за дело! – Он бросил на стол деньги, краем глаза взглянув на чек, и мы пошли назад в студию.
В манере говорить, в его жестах чувствовалась какая-то застенчивая теплота, даже, можно сказать, неуклюжесть, которая вызывала у меня рефлекс необъяснимого уважения и симпатии к этому долговязому человеку. В нем скрывалась уверенная сила мастера, сконцентрированного только на одном – своей работе. Работе, в которой он не знал себе равных. Или, по крайней мере, он так думал. И, видимо, эта уверенность передавалась другим. И они так же, как я, невольно поддавались этому гипнозу превосходства маэстро над учениками.
Как будто читая мои мысли, Альдо вдруг сказал:
– Ради бога, не подумайте, что только вы будете учиться. Я с удовольствием буду учиться у вас. И поверьте, я знаю чему.
Я не стал имитировать ложную скромность, задавая вопросы вроде: «Чему же можно у меня научиться?» и тому подобное. Тем более, мы уже стояли у калитки его особняка.
Наш рабочий день длился довольно долго. Альдо готовил доски. Медленно закатывал их тонким валиком. Затем, не спеша, с аккуратностью педанта, приклеивал скотчем папиросную бумагу, которая оказалась не просто папиросной, но – рисовой. Он специально ее выписывал не то из Гонконга, не то из Шанхая. Короче, все, к чему он прикасался, казалось мне необыкновенным. Все: и твердый кусочек лака, который он растапливал на спиртовке, и сама спиртовка с маленьким огнем. Альдо все делал медленно, колдуя и шаманя над инструментами, долго выбирая твердость валика, которым он собирался раскатывать мягкий лак.
Глядя на него, я вспоминал деда Мячина и его желтый палец, создающий из пепла идеальный конус, и себя, завороженно наблюдающего за его движением…
Тихий стук в дверь прервал мое путешествие в детство.
– Кушать подано!
Это была Пэп. Она, чуть просунув голову в дверь, приглашала нас к столу.
– Mon dieu, о боже, Альдо, открой окно! Как же вы накурили! – произнесла она дружелюбно.
Мне, пожалуй, трудно объяснить даже самому себе, не говоря уже о посторонних, чувство восторга по отношению к этому удивительному утру, проведенному в доме с Альдо.
Каждодневное существование среди дилетантов приучает нас к дипломатичной скуке.
Я слушаю их бесконечные оценки вполуха. Все их ужины, обеды состоят из заявлений по поводу того, что им нравится, что не нравится. Вино, рестораны, художники, писатели, актеры… Этот список можно продолжать без конца. Нет ни одного аспекта, предмета обсуждения, по поводу которого они не имели бы собственного мнения. Совсем неважно, что они не могут отличить репродукцию от картины, офорта от литографии. Они будут часами разглагольствовать на темы искусства. И тебе остается только вежливо улыбаться и тихо спрашивать:
– А вы уверены в том, что вы говорите?
– А вы что думаете, только вы имеете право на свое мнение? Да о чем речь! Подумаешь, Леонардо! Во-первых, он давно умер. Давайте поговорим о живущих. Например… Ну Зверев, что он, не гений? Яковлев. Вы знаете, он был слепой. А какая живопись! Что вы молчите? – И нападают агрессивно, с напором: – Ну, скажите, чем они хуже?
– Хуже кого? – спрашиваешь ты миролюбиво.
– Да вашего, как его…
Устав от дилетантов, Чацкий в свое время с болью и безысходностью заявил: «Сюда я больше не ездок… Карету мне, карету!» Пушкин, прочтя «Горе от ума», никак не мог понять Софью. Он где-то с юмором отметил: «Не то б…, не то московская кузина». Пафос Чацкого трудно понять и сегодня. Тот факт, что он поездил по миру и долго не был дома, не дает ему права так жестко реагировать на дилетантов, надо научиться жить среди них. Слушать вполуха их доморощенные сентенции и вовремя сваливать с этих вечеров, банкетов и прочих посиделок, оставляя их наедине с такими же, как они сами. А еще лучше – просто не ходить на их сборища, но тогда вы практически обречены на одиночество. Поэтому, когда мне приходилось встречать таких людей, как Альдо, я просто радовался своему открытию, которое поможет мне скрасить существование среди жлобостана. Я сам в нем рос и впитал в себя всю его «прелесть», на которую у меня до сих пор аллергия.
И не думайте, что жлобостан существует только на территории России. Это страна необъятных размеров, у нее нет границ. Где бы вы ни находились, почти на каждом шагу встречаются ее граждане. Вы легко узнаете их по энтузиазму, любви спорить о вещах, в которых они не секут, по апломбу, которому только диву даешься.
Глава 24
Она вошла в студию на Сен-Сюльпис, как будто вместе с прозрачной шторой на окне, которую легкий ветер забросил в мою комнату с покосившимися стенами. Две короткие косички с бантами на концах, как у школьницы. «Фарфоровая кукла. Что-то совсем не от мира сего», – подумал я, сознавая, что никогда в жизни не встречал такой неземной, почти нереальной красоты. Ее привела с собой жена Лимонова по прозвищу Козлик. Рядом с этим ангелом, с двумя косичками вместо крыльев, Козлик выглядела женщиной преклонного возраста.
– Крис, – представилась она, протянув мягкую шелковистую ладонь. – Вечером пойдешь с нами танцевать, – не с вопросительной интонацией, а просто констатируя факт, сказала она.
Я так растерялся, что не мог произнести ни слова. Только молча кивнул.
– На улице Сент-Анн, возле проспекта Opera. Там только геи, – почти шепотом добавила она.
Никакого интереса к моим ящикам на полу за прозрачной тканью, ни вопросов, которые обычно задают художникам, вроде: «А вы работаете только по вдохновению? А что вы хотели этим сказать?» Абсолютное отсутствие какого бы то ни было любопытства к моему роду занятий. Единственное, что ее интересовало, пойду ли я вечером в клуб-диско. Услышав это, Козлик тоже пообещала там быть. Прощаясь, Крис помахала, улыбнулась открыто, по-детски и прошептала: «Faki, faki, faki». Мой английский в то время, можно сказать, не существовал, но это выражение я, конечно, знал. После того, как они с Козликом скрылись за обшарпанной дверью, я долго сидел в каком-то оцепенении от бантов, ее улыбки и «faki». Не приглашение ли это к началу отношений? А может, это просто обычный стиль поведения эмансипированной американской девушки, которая только вернулась из турне по Европе, где они с Козликом работали моделями в агентстве «Ford Models», снимаясь для журнала «Vogue». Ощущение какого-то непонятного страха перед предстоящей встречей сковывало меня. Работать не хотелось, но, тем не менее, я решил грунтовать обратную сторону холста, лишь бы занять себя чем-нибудь. «Надо бы поменять простыни и наволочки, – промелькнуло у меня в голове. – Вдруг после танцев она останется. Откуда такая самонадеянность? Или ты поверил прощальному ”faki, faki”?»
Короче, я продолжил с каким-то остервенением грунтовать, смешивая все краски, какие оказались у меня под рукой. Холст становился все более упругим, казалось, он вот-вот лопнет от толщины слоя.
За окном хлынул проливной дождь. Он стучал по стеклам, заливал подоконник. Окна я не закрывал, наблюдал, как намокают шторы, и продолжал тупо грунтовать, стараясь не думать о вечернем свидании.
В эпоху Возрождения грунт являлся, пожалуй, самым главным элементом, который в большой степени обеспечивал качество живописи. К процессу грунтовки художники относились с особым вниманием, например, занимаясь этим только зимой. Отсутствие влажности делало грунт более качественным и плотным, поэтому нанесение краски на него становилось управляемым, приятно ровным. Коэффициент свечения увеличивался, белизна грунтового слоя как бы просвечивала сквозь тонкие лессировочные слои мелко протертых красок. Это не то что сегодня, когда ты пользуешься покупным холстом, в который краска проваливается и жухнет. И сколько бы ты ни старался попасть в нужный цвет и тон, ты сталкиваешься с невозможностью преодолеть эту бесконечную жухлость.
Клуб «Семерка» на улице Сент-Анн с великолепной лестницей арт-деко, ведущей в подвал.
Стены танцзала представляли собой нескончаемую вереницу зеркал. Танцзал был не таким уж и большим, просто огромное количество зеркал создавало обманчивое впечатление расширенного пространства. Мужики в майках, обтягивающих бицепсы, и узких джинсах, в высоких сапогах, с браслетами и цепями, танцуя, пристально вглядывались в свои зеркальные отражения. Запах потных тел в танцзале смешался с автошейвом. Я с любопытством наблюдал за толпой мужественных гладиаторов-геев, топающих тяжелыми сапогами, и среди танцующих пытался отыскать Крис.
Она появилась незаметно. Дотронулась до моего запястья и молча, только легким поворотом головы, пригласила меня танцевать. Двигались мы медленно, через такт, а то и два, ее рука лежала у меня на плече. «…И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука». Я слышал, что в первом варианте песни было «…и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука», но Сталин предложил поэту убрать «погон», так как посчитал недостойным поведение офицера и женщины, у которой, возможно, муж на фронте, а она танцует с другим.
Мимо нас скользили пары и одиночки, с бешеной скоростью двигая в такт руками и бедрами. Моргали прожектора, гремела музыка.
«Может, выпьем чего-нибудь? – прошептала она и, не дожидаясь ответа, повела меня в бар. Там тоже толпились вспотевшие пары. Немногочисленная женская группа выглядела, словно сошедшая с подиума, хотя одеты они были более демократично, чем мужики. «”Манхэттен”, – бросила Крис бармену. – А ты?» – «Джек», – попросил я.
Крис достала из кармана джинсовой куртки какие-то таблетки и, проглотив, запила коктейлем. «Ты что, плохо себя чувствуешь?» – спросил я. «Нет, это просто амфетамин ups. You now ups and down? Вниз или вверх?»
Я сделал вид, что понимаю, о чем она говорит, хотя не имел ни малейшего представления. Уже не помню, сколько времени мы проторчали в клубе. Думаю, часов до двух или трех.
Я порядком устал от духоты и громкой музыки. После «Манхэттена» и таблеток Крис выглядела какой-то отстраненной, безучастной. Допив третий «Манхэттен», предложила уйти. Дождь не прекращался. Мы поймали такси. «Your place or mine?» – «Ко мне?» – предложил я. «Тогда заедем ко мне и возьмем Спанки. А то он уже два дня совсем один». – «Спанки?» – «Это моя собачка, она совсем маленькая», – как будто извиняясь, сказала Крис…
* * *
Пожалуй, самое любопытное и неожиданное, что я обнаружил в том потустороннем мире, – это встречи. Встречи с людьми, которые появляются, не изменив своего облика и возраста, в котором ты знал их в той, прошлой жизни. Если это дети, то они появляются, какими ты запомнил их с детства. Нинка, например. Или Крис.
Однажды Крис спросила меня:
– Мы будем встречать Новый год вместе?
Я знал, что на Новый год мне надо будет лететь в Лондон к моей жене. Я был в легком замешательстве, не зная, что ответить. До Нового года оставалось еще несколько месяцев, но Крис упрямо настаивала на ответе, и я сказал ей правду.
– Ты же говорил, что не любишь ее. – Мне показалось, что на ее глазах выступили слезы.
Все это время мы жили вместе на Saint-Sulpise. Жили, как живут пары, не способные говорить на одном языке. Возможно, в этом есть своя прелесть. Так, даже при совместной жизни, остается гораздо больше пространства для одиночества. Она работала с известным французским фотографом Жаком Лартигом. Он, в основном, занимался натурами не статичными, а в движении. И Крис была его музой. Во всяком случае, он снимал ее без конца. Было заметно, что и она получала удовольствие от работы с ним, возможно, такое же, как и от амфетаминов, которые пила постоянно. От этого ее настроение было непредсказуемым.
Услышав мое бормотание по поводу встречи Нового года, она собрала свои вещи, которых у нее было немного, положила Спанки в свою сумку и, не сказав «чао», скрылась в дверях.
Я несколько раз делал попытки к примирению. Каким-то образом я нашел Крис на квартире ее подруги. Она была будто в состоянии летаргии, говорила с кем-то по телефону, еле ворочая языком. Судя по интонации, это был мужчина. На меня она смотрела абсолютно отсутствующим взглядом, как будто меня не было в комнате. Закончив говорить, она накрылась одеялом с головой и снова уснула.
– Go fuck yourself! – хриплым голосом успела произнести она уже из-под одеяла.
Крис с ее зависимостью от экстази и чего-то еще, я уже не помню, что она там пила, находилась в состоянии легкой полусознательной дремы, которая позволяла ей летать где-то в другом, незнакомом мне мире. Ее исчезновение под одеялом показалось мне прощанием навечно.
* * *
Странно, каким образом привязываешься к женщине, с которой ты не в состоянии ни вести диалог, ни чувствовать родной интонации в голосе. Видимо, это объясняется бессознательной потребностью идеального одиночества.
Я довольно часто думал о Крис, пытаясь вычислить, где она может быть. Вернулась в США или живет у своей подруги? Я фантазировал и представлял себе возможные варианты случайной встречи с Крис, перебирал варианты сценария, где и как эта случайная встреча могла произойти. Я даже мысленно придумывал текст, который я собрался произнести, надеясь, что к тому времени мой английский будет существовать. Желания вернуться в клуб «Семерка» почему-то у меня не было. Я полностью смирился с фактом, а может, еще жил надеждой, что это лишь стечение обстоятельств, что мы еще встретимся и я смогу вернуть ее. Она услышит мою «заключительную речь», а я расскажу ей о том, что чувствую и кто она для меня.
Все это, наверно, возможно, когда ты хоть чуть-чуть уверен в необходимости своего присутствия в ее жизни. Но когда уверенности нет, ты просто вынужден уйти, потому что ты для нее всего лишь незначительный эпизод.
Шли годы, уже не помню сколько, но я все чаще думал о Крис. Возможно, потому, что часто ездил в США, так как работал с Робертом Альтманом над оперой «Мак Тиг». Он должен был ставить ее в Lyric Opera of Chicago, а я работал над декорациями и костюмами к ней.
Однажды за ужином я поведал Бобу историю ностальгирующего художника. Он слушал с удивлением и доброй улыбкой, а потом с какой-то легкой грустью произнес:
– Если я тебя правильно понимаю, ты хотел бы ее найти?
– Может быть, – ответил я неуверенно, хотя на самом деле я хотел этого.
Боб иронизировал по поводу моей ностальгии, но неожиданно предложил мне простой вариант:
– Я познакомлю тебя с одним детективом, правда, теперь он на пенсии, но когда-то оказывал мне услуги – в эпоху, когда я частенько выступал в суде. Кстати, он прямой родственник Джейн Кегней, если тебе что-то говорит это имя. За небольшую сумму, я думаю, он поможет тебе. Если хочешь, я поищу его телефон.
Мне эта идея показалась нереальной, но я согласился. Уже на следующий вечер я сидел в баре отеля «Four Seasons» с небольшого роста рыжеволосым мистером Кегнеем.
Ирландец тщетно пытался добиться от меня хоть какой-то информации по поводу Крис.
В самом деле, ничего, кроме того, что она работала в модельном агентстве «Ford Models», и фамилии Морей, я не знал.
– Но как же вы хотите, чтобы я ее нашел?
– Не знаю, – ответил я, чувствуя неловкость за то, что отнимаю время у профессионального детектива.
Несмотря на туманность перспектив, я все-таки сунул ему конверт с деньгами. Мистер Кегней принял конверт, сказав при этом: «I'll try…» и почему-то предложил выпить еще по одной. Его предложение вселило в меня надежду. Мне показалось, что он был из тех азартных профессионалов, которые любят преодолевать трудности.
– Могу я спросить тебя, откуда это желание найти человека, которого не видел столько лет, к тому же ничего о нем не зная? – раскуривая сигару, произнес Кегней. – В чем необыкновенность этой женщины? Ты же понимаешь, прошло столько лет с тех пор, как вы расстались. Сколько лет? Пятнадцать – двадцать? Вполне возможно, что у нее семья, дети, муж. Зачем тебе это? Не понимаю. Я жду вразумительного ответа.
Кегней, выпустив облако дыма, долго смотрел мне в глаза взглядом опытного детектива.
– Не знаю, Джеймс, не знаю, – ответил я виновато, – видимо, просто хочу понять, что я по глупости потерял. Мне до сих пор кажется, что это была моя женщина.
Позже, уже проводив его, я пытался понять, зачем мне все это надо. Что это? Эго? Я в самом деле хотел убедиться, что по глупости потерял женщину моей жизни? А может, это было праздное любопытство: я просто хотел понять, кем я был тогда для нее. Во всей этой истории была какая-то пропущенная фаза, которая не давала мне покоя. Думаю, это что-то близкое к необъяснимому желанию после долгих лет странствий вернуться в свою коммунальную квартиру и встретить Нинку, которая будет показывать мне фотографии своих внуков.
* * *
Прошло, наверное, лет десять, как я уехал из Москвы. Я уже довольно редко вспоминал о ее существовании. Да и о моих друзьях-собутыльниках, оставленных где-то далеко-далеко на Кировской. Только иногда в памяти вдруг промелькнет и тут же исчезнет, как эхо, чей-нибудь голос или фраза, брошенная кем-то из них. Порой я вспоминал двор со статуей Ленина, присыпанной снегом. Но все эти мелькающие, как в окне электрички, фрагменты исчезали так быстро, что я не успевал толком разглядеть или расслышать их.
В Париже я в самом деле все реже вспоминал город, где родился и вырос. И все, что каким-то образом доносилось оттуда в виде слухов или рассказов редких гостей, говоря честно, не вызывало у меня острого любопытства.
В один из обычных дней, если не считать, что это был день моего вернисажа в галерее Клода Бернара, зазвонил телефон.
– Дитин, это тебя беспокоит давно забытый тобой Валька Ежов. Хотел бы повидаться.
– А где ты? – спросил я, растерявшись от неожиданности.
– Где, где, в пи… В Париже, – споткнувшись на полуслове, произнес он, сопровождая информацию раскатистым смехом. – Ну, так когда?
– Сегодня вечером, – испытывая какую-то необъяснимую радость, сказал я и продиктовал ему адрес.
– Мы обязательно будем. Я здесь с делегацией кинематографистов и с женой, новой, – добавил он не без гордости.
– Поздравляю, надеюсь, вас будет двое. Делегацию не бери с собой: потом пойдем ужинать.
– Понял. Ты помнишь, что я люблю баранину?
– Помню, – соврал я.
Я сразу заметил их в галерее. Они стояли в застывших позах. На нем темно-синий костюм, белая рубашка с накрахмаленным воротником и ярко-желтый галстук с преувеличенным узлом. Такие я видел на старых дагерротипах. Новая жена была довольно миловидной женщиной с доброжелательным и открытым лицом.
– Я много о вас слышала, – сказала она, протянув руку, – Лена, мы однажды виделись у Аникстов, я тогда была с моим первым мужем.
У первой же картины Ежов вдруг остановился. Долго смотрел, его взгляд выражал не то грусть, не то сожаление. На его глазах вдруг появились слезы.
– Что с тобой? – спросил я, не понимая, что происходит.
– Так, ничего, – смахнув слезу и переходя на шепот, будто стесняясь своей сентиментальности, произнес он. – Они вряд ли поймут, – повторял он без конца, продолжая смотреть на картину.
– Кто они, о чем ты, Валя? – участливо, даже с какой-то нежностью, с помощью которой обычно успокаивают детей, спросила его жена.
Ежов продолжал молча плакать. На картине была изображена ржавая пила, написанная на большом ржавом куске железа.
– Как они могут понять этот до боли ностальгический предмет, который у русского человека может легко вызвать слезы. Ты посмотри на эту ржавчину, сколько в ней глубины. Это и есть живопись, – обращаясь скорее к жене, чем ко мне, произнес Ежов. – Ты сам-то понимаешь, что сделал? Ты сумел меня, старика, повидавшего и поездившего по миру, заставить посмотреть на пилу совсем другими глазами.
Я всегда считал его выдающимся актером. Было невозможно понять, где игра, а где нет. Но такой гипертрофированный и возведенный в квадрат пафос всегда обезоруживал меня.
Я терялся, не понимая, как себя вести с ним в таких случаях. Подыграть и начать охать или, наоборот, остановить этот мелодраматический фонтан, сказав что-нибудь вроде: «Кончай, Валь, отдохни. Пойдем лучше пожуем баранину». Что, собственно, я и сделал.
В «Куполе», куда мы отправились после вернисажа, было полно народа. «Куполь» восьмидесятых был туристическим местом: огромный зал, шум, бегающие официанты, толпы туристов в ожидании свободного стола.
Ежов был возбужден. Глушил «Каберне Совиньон» в ожидании бараньих косточек.
Я подумал, что теперь подходящий момент задать ему вопрос по поводу картины, которую я подарил ему перед отъездом в Израиль. В свое время мой педагог Нафталий Давидович, увидев картину, написанную мной на Белом море, сказал: «Вы стали художником!» Валькины ежедневные визиты в мастерскую почти всегда начинались с долгого ее созерцания. Перед тем как пойти в кухню, где вся компания уже сидела за столом, он заходил ко мне в комнату, брал стул, садился напротив картины и подолгу, молча, смотрел на нее.
Наблюдая этот акт тихого созерцания человеком, которого мало что интересовало вообще, уже не говоря о живописи, мне хотелось спросить: «Что ты там пытаешься увидеть?» Но каждый раз что-то мешало: то он вдруг быстро убегал в кухню, то был уже пьян. Моя последняя попытка также закончилась неудачей.
Перед отъездом в Израиль я был приглашен на его пятидесятилетие. Я решил, что «Танцы в Золотице» будут ему подарком и своего рода наградой за то внимание, которое он оказывал ей годами. Таща картину к нему домой, я придумывал слова, с которыми вручу подарок. Они приблизительно были такими: «Дорогой Валя, все эти годы мне хотелось спросить тебя: что особенного в этих танцах? Что ты там видишь? Или, может быть, ищешь кого-то? Теперь она твоя, но взамен – колись!»
Но, войдя в квартиру, где праздновали день рождения, я понял, что и на этот раз узнать правду мне не суждено. Толпы пьяных друзей, шум, гам, веселье обрушились на меня, как только открылась дверь.
Юбиляр стоял, слегка покачиваясь, рядом с незнакомой блондинкой, про которую только и смог произнести: «Гениальная женщина, сценарист, познакомься». Затем, увидев у меня в руках картину (она не была завернута): «Неужели «Танцы»? Ну ты даешь!»
– Танцы, – ответил я, с грустью вспоминая слова Нафталия: «Никогда не расставайтесь с ней».
И вот теперь, сидя в «Куполе», я, побаиваясь момента, когда он будет в состоянии говорить, решил начать:
– Валь, я могу, наконец, задать тебе всего один вопрос, мучивший меня все эти долгие годы?
Он удивленно посмотрел на меня, видимо, не ожидая такой многозначительности. Он даже перестал пить и, поставив бокал на стол, театрально произнес:
– Можешь.
По мере того как я излагал историю моего любопытства, его лицо преображалось, а в глазах снова появилась сентиментальная поволока. Казалось, еще немного, и появятся слезы.
– Освежи, – пододвинув бокал, сказал он с интонацией воинского приказа. – Ты когда-нибудь служил в армии?
– Нет, – ответил я.
– Ну, а я всю свою жизнь. Воевал с восемнадцати, потом писал сценарии про войну. Армия – это моя жизнь. Я в этой, сука, теме и по сей день. Ты спрашиваешь, почему я смотрел на твои гребаные танцы. Отвечу. Освежи мне снова, – опять скомандовал он. Затем, выпив до дна, продолжил: – Да потому что нигде, слышишь, нигде я не испытывал такой тоски, солдатской тоски. И когда смотрел на эти танцы, я искал себя среди танцующих солдат в этом гребаном клубе. Теперь ты понял? Вот почему! – На глазах его блестели слезы, руки дрожали.
– Валечка, успокойся, – держа его за руку, шептала новая жена. – Успокойся, умоляю тебя, тебе нельзя нервничать.
– Можно, – вдруг спокойным голосом произнес он, снял пиджак и, развязав галстук, как ни в чем не бывало сказал, обращаясь ко мне: – Слушай, ты не откажешь мне в просьбе?
– Нет, не откажу.
– Ну и хорошо. Видишь ли, мне надо привезти подарок одному важному штымпу на «Мосфильме». Надо зайти в секс-шоп и купить электрический член. Ну, знаешь, вроде вибратора. Поможешь? А то я ж не смогу объяснить.
* * *
Следующим после Злотника в моей мастерской на улице генерала Шольшера стал появляться Борис Заборов, белорусская знаменитость в эпоху 60-х. Он эмигрировал довольно поздно. Приехав по приглашению Целкова, решил остаться со своей семьей в Париже. Целков был его ментором, и Заборов в 60 – 70-е годы находился под его довольно сильным влиянием. Что произошло между ними в Париже, я толком не знаю, но знаю точно, что-то или кто-то пробежал между ними.
– Я хочу начать писать сюрреалистический цветок, – упрямо повторял он, пытаясь объяснить мне, а может, и себе, как тот выглядит.
– Стоит подумать о чем-нибудь более реальном, потому что время сюрреализма закончилось где-то в 70-х годах, – внушал я ему довольно мягко, – тем более, что двое детей и жена полностью зависят от тебя.
Обсуждать с Заборовым проблемы техники и мастерства было гораздо легче, чем со Злотником. Он схватывал на лету. Он даже имел понятие о том, что такое настоящая добротная живопись.
Что касается его внешнего вида, то и здесь он был более сдержан, чем остальные. Только широкополая шляпа и густая борода делали его похожим на художника эпохи передвижников.
Я нередко был зван к ним в гости, в их квартиру, где в одной из комнат была его мастерская. Там я хлебал борщ или кислые щи, которыми когда-то в изобилии меня кормили у Бурджеляна. Как бы то ни было, я нередко проводил свои свободные вечера, мешая мастер-класс с борщами или щами, испытывая смешанное чувство тоски и некоторого удовлетворения от своего миссионерства. Нередко удивляясь, как я, при своем гипертрофированном эгоизме, трачу свое время на все это.
Наша дружба казалась настолько естественной, что у меня даже не возникало мысли, что она когда-нибудь исчезнет, как дым.
Я учил его правильно грунтовать холст, добавляя в гессо всевозможные краски, не думая, не контролируя спонтанные мазки мастихином.
Когда технические проблемы были решены, оставалось только выбрать сюжет и подыскать ему галерею.
К тому времени Клод Бернар решил открыть вторую галерею для молодых художников. И даже спросил меня, есть ли у меня какой-нибудь русский художник на примете, которого я смог бы рекомендовать. Естественно, я сразу подумал о Заборове. Но показывать старые, привезенные им с собой работы было бессмысленно. Сюрреалистический цветок тоже отпадал.
За ужином я сделал ему предложение. Написать пару-тройку картин по мотивам старых фотографий, которые я в то время собирал. Все они со временем выцвели и стали напоминать живопись в технике сфумато, которая всегда привлекала меня своей благородной исчезаемостью.
Я отдал Заборову три фотографии, сказав, что, если мне понравится результат, я обещаю отвести его в галерею. Должен сказать, что результат превзошел мои ожидания. Он сделал работы почти безукоризненно.
Все были счастливы – и Заборов, и его семья.
Наши сюжетные линии не пересекались. Он писал фотографические портреты детей, женщин, каких-то старцев. Пользуясь только географией поверхности, которуя я добровольно как бы подарил, не думая о последствиях. Но однажды, придя к нему домой, я увидел на мольберте портрет девушки, с ног до головы забрызганной краской, черными кляксами. Обычно это была часть географии моих полотен.
Я миролюбиво попросил его:
– Ну что ж ты делаешь, оставь мне хотя бы мои кляксы, зачем тебе забрызгивать людей, это довольно неестественно.
Он, глядя на меня, произнес:
– Но я же брызгаю по-другому.
– То есть, что ты имеешь в виду? – слегка оторопев, спросил я.
– Ты брызгаешь кистью, а я из бутылочки.
Я потерял к нему всякий интерес, попрощался и исчез.
Иногда мне попадались на глаза его интервью, где он рассказывал о своем мире людей, смотрящих со старых фотографий, который он открыл в Минске.
Люди не любят, когда про них знают, кто они на самом деле, и не могут простить посвященности в их тайну.
Что я ждал от него? Что он будет ходить по Парижу и рассказывать, как я его научил писать картины? Или каждое утро молиться за своего учителя?
Находясь далеко, совсем в другом мире, где я беседую с Митей, я смотрю на все эти казусы борьбы за выживание и понимаю нелепость моих тогдашних переживаний.
Истории между художниками происходили вечно. Брак и Пикассо. Ван Гог и Гоген. Эти истории можно вспоминать бесконечно. Но если попытаться вникнуть в суть этой проблемы, она сводится к взаимоотношениям ученого и популяризатора. У них совершенно противоположные миссии. Первый в одиночку работает, открывает, изобретает, второй, обладая талантом формалиста, облекает открытие в более привычную для обывателя форму и с легкостью талантливого оратора доносит ее до толпы.
Маньеризм – вот что является доступным языком, на котором легко разговаривать с публикой. Да и не только с публикой, даже с искусствоведами и кураторами. Их больше интересует групповое движение, чем ученые-одиночки. Им и писать легче о направлении, чем о его отсутствии. Вернее, даже не об отсутствии, а о незаметном присутствии его, скрытом, не лежащем на поверхности.
Проживая эпоху «искусства для народа», легко пудрить мозги тем, кто был никем, а станет всем. Но когда-нибудь они перестанут впадать в экстаз от таких слов, как авангард, концепция, инсталляция, акция, проект, а просто посмотрят и назовут все это своими словами – живопись, рисунок, скульптура.
Я уверен, что моя модель в какой-то степени покажется многим слишком простой.
И главным аргументом наверняка будет то, что изобразительное искусство состоит не только из перечисленных мной жанров.
Как в музыке, любые шумы, гудки машин, вода, льющаяся из крана, звуки полета шмеля, так и в изобразительном искусстве любой визуальный раздражитель разве не является предметом для использования в визуальной науке, науке видеть свет неоновых ламп?
Вы продолжаете жить в прошлых веках.
А мы занимаемся актуальным искусством, в котором вы, видимо, не очень сечете. Хотя в чем была его новизна? В оформительском творчестве трибун. В написанных лозунгах, в идеях разрушения устаревших эстетических буржуазных принципов и создании новых революционных форм, в отрицании истории и памяти, создаваемой веками.
Надо быть зомбированным каким-то неизвестным наркотиком, чтобы поверить в возможность создания абсолютно нового, революционного в любой области путем уничтожения старого. Только авантюристы были способны громогласно заявлять об этом. Но в то время толпой руководил страх, штыки революции, залп «Авроры», ревтрибуналы. А сегодня чего вы боитесь? Прослыть невеждами? Вас будут воспринимать как людей, не понимающих в актуальном искусстве. Вам будет неудобно повесить на стену Айвазовского или Шишкина.
* * *
Вечера в «Клозери» начали мне порядком надоедать. Да и Деза, видно, почувствовав мое охлаждение, стал замыкаться в себе. Наши вечерние встречи были уже не такими частыми, хотя видимость дружеских отношений оставалась.
Иногдя, придя в «Клозери», я видел его с какой-то блондинкой и даже обратил внимание на его несколько преувеличенную сдержанность. Заметив меня, он почти не глядел в мою сторону, бросал коротко «Привет!», продолжая оживленно беседовать со своей спутницей. Когда же он бывал один, то, как и прежде, приглашал меня за свой стол.
– Ты знаешь, Дитин, мне кажется, я влюблен, – чуть виноватым тоном произнес он. – Ее зовут Натали. Правда, она не свободна. Она живет с одноруким функционером французской компартии. Но я надеюсь ее увести.
– И тебе не жалко инвалида? – спросил я с улыбкой.
– Оставь свой сарказм. Я действительно люблю ее. Кстати, если ты свободен в это воскресенье, я бы хотел пригласить вас, тебя и Милу, на ланч. Я хочу тебя познакомить с ней.
У Деза были довольно хорошие отношения с моей женой. Он нередко останавливался у нас во время своих командировок в Лондон. И, видимо, зная, что в выходные она приезжает ко мне в Париж, решил сделать благородный жест.
Я, честно говоря, был слегка удивлен. Я даже спросил его:
– Ты уверен, что это хорошая идея?
– Думаю, да. Мила же говорит по-английски, Натали тоже.
Это был какой-то небольшой ресторан с открытой верандой недалеко от Бобура.
Площадь перед Бобуром, запруженная толпой зевак, наблюдающих за мужиком, замотанным в цепи с огромным амбарным замком. Тот, в свою очередь, с лицом, искаженным мучительной гримасой, пытался высвободить из оков свое довольно жирное тело.
Познакомившись, все, кроме меня, принялись за изучение меню. Мои мысли были заняты совсем другим. Я думал о своей фразе, с которой начну наш дружеский ланч, вернее, даже не о самой фразе, а о ее последствиях. Мысленно я пытался себя остановить, но любопытство подавляло здравый смысл.
– Натали, – произнес я медленно. – Могу я задать вам вопрос, который мучает меня с момента нашего знакомства?
– Конечно, – она удивленно посмотрела на меня.
Я бросил взгляд на Деза. Мне показалось, что он все понял. Его лицо стало бледным.
– Вы в рот берете? – спокойно, без выражения, произнес я.
Не берусь описывать все, что произошло потом, так как теперь уже плохо помню. Детали стерлись из моей угасающей памяти. Помню только, что Деза выскочил из-за стола, таща за собой испуганную Натали.
Он не разговаривал со мной, наверное, лет пять. А Мила решила, что я сошел с ума, и не приезжала в Париж в течение месяца.
Глава 25
За ужином мы обсуждали наши с Бобом проблемы, связанные с постановкой оперы «Мак Тиг». Места действия в опере были довольно неудобны для сценографии: кабинет дантиста или пустыня, где, собственно, герой должен был умереть, но каким-то образом выжил, и, вернувшись в город, задушил свою жену.
Я работал в мастерской, недалеко от Баффало, выливая из баллонов на занавесь тонну краски. Вся команда была крайне недовольна. По их мнению, я напрасно переводил такое количество краски, обычно они просто дули из пистолета синий кобальт.
«Так принято «дуть» небо», – объясняли мне. Убедить их в том, что такое небо мне не подходит, было трудно. Они начинали считать стоимость золотой и серебряной красок, стоимость рабочих часов и тому подобное. Короче, мне пришлось покупать краску и дуть самому. Во время моих показательных выступлений их артель или цех, называйте как хотите, демонстративно уходила на улицу, жалуясь на вредность ацетона, где сидела, пока я не закончу. Даже на улице люди продолжали находиться в масках, давая мне понять, что запах проникает и туда.
Боб с удовольствием выслушал рассказ о моих злоключениях и, не выказывая ни малейшего сожаления, иронично улыбнулся.
– Ты просто еще не привык работать в коллективе. Со временем приобретешь некоторые навыки и поймешь, что такое американские профсоюзы. Хорошо еще, что они не бастуют.
* * *
Я сидел в машине с Жераром Рамбером и смотрел в окно, разглядывая проносящиеся мимо альпийские пейзажи, которые видел когда-то на открытках. Жерар был за рулем. Мы возвращались из Турина, где я печатал каталог для выставки в Музее изобразительных искусств.
Въезжая в туннель, я попытался представить себе концепцию Хокнея по поводу обратной перспективы. Он, Хокней, якобы открыл ее именно в туннеле. Он утверждал, что, когда ты выезжаешь из темной глубины на открытое пространство, пейзаж вдруг начинает жить по закону обратной перспективы. На эту тему он писал всевозможные эссе, какие-то постулаты, изображал стулья с сиденьями в обратной перспективе, архитектуру, в общем, весь его изобразительный джентльменский набор стал обратно-перспективным.
Сквозь блуждающие мысли по поводу перспективы я иногда вдруг слышал голос Жерара. Он, как на исповеди, жаловался на свою несчастную и скучную жизнь, в которой ничего не осталось, кроме травы, которую он, кстати, курил в таких дозах, что, находясь с ним рядом, я чувствовал себя словно под наркозом.
– Еще, – говорил он, затянувшись, – мне нравится лизать между ног. Ты даже не представляешь, какой эксперт я в этом деле. Мало кто понимает, что, приоткрыв губы, ты погружаешься в необыкновенный, неизведанный мир запахов и вкусов. Я люблю долго смотреть, как бы вслушиваясь, в эту загадочную влажную раковину и затем, ни в коем случае не торопясь, легко прикасаться к ней то подушечками пальцев, то языком. Здесь очень важно не торопиться. Нежность и ласка делают женщину похожей на котенка или щенка, которого ласкает хозяин. Она отвечает тебе мурлыканьем и тихим повизгиванием. А ты, как бы испытывая ее терпение, медленно-медленно продвигаешься глубже и глубже.
Жерар все чаще поворачивал голову в мою сторону. Самокрутка с гашишем как будто приклеилась к его губе.
– Жерар, ты можешь смотреть на дорогу? – попросил я. – Мне хочется дослушать историю до конца.
– А-а, да, извини… – Жерар резко нажал на тормоз, чтобы не врезаться в огромный фургон-цистерну с надписью «Огнеопасно». – Да, о чем я? – словно проснувшись, спросил он. – Ты знаешь, большинство мужиков настолько примитивны и тривиальны, что истово верят в необыкновенную власть, которой обладают их члены, похожие на шайбу или карандаш. Все эротические фантазии, в основном, сводятся к одному и тому же: «как я всунул, и она по стенке пошла». Или начинают считать количество оргазмов. «Ты знаешь, она кончила раз…» и, после паузы назвав какое-то умопомрачительное число, замолкают, видимо, ожидая реакции слушателя. Это характерно для примитивов, простых ребят, к которым мы с тобой не относимся. – Он снова зажег самокрутку и выпустил клубы дыма. – Тем не менее я действительно в ужасном состоянии, просто не могу найти себе места! Я живу в квартире, за которую платит мой отец. У меня нет денег. Да, конечно, когда отец умрет, я буду богат, но теперь я влачу жалкое существование. Но главное даже не это. Мне скучно, и все мои мысли только об одном – как заработать деньги?
Я встаю с этой мыслью и засыпаю с ней. Ну, что ты молчишь, скажи что-нибудь. – Он грациозно двумя пальцами протянул мне самокрутку.
Я сделал две глубокие затяжки и произнес с серьезным видом:
– Ты можешь подумать, что я шучу, но на твоем месте я бы начал писать книгу. О твоей любви, о твоем необычайном опыте в лизании. Я бы даже назвал ее, как Монтень: «Опыты».
– Ты шутишь? Кому это интересно? – с какой-то стыдливостью школьника вдруг спросил Жерар.
– Да всем. И я буду твоим первым читателем. Уверяю, книга станет бестселлером, как практически все кулинарные книги, как полезные советы. Например, в России была отстойная передача, где давались советы идиотам, как лечить себя всякой хренью: мочой, кашей из желудей или арбузными корками. У нее был необычайно высокий рейтинг. Ты знаешь, народ обожает такие рецепты, как самому из настоя чеснока приготовить жидкость для мытья окон, как сделать вешалку из проволоки, как разлить поровну бутылку на три стакана. Ну а уж что касается грамотного пособия по тому, как правильно и с удовольствием лизать, уверяю тебя, оно станет бестселлером. – Я еще раз затянулся самокруткой Жерара и замолчал.
Жерар какое-то время ехал молча, видно, обдумывая мои слова. Уже темнело, дорога извивалась между горными ущельями. Начал моросить дождь. Окна машины запотели то ли от дождя, то ли от дыма марихуаны.
– Как ты можешь вести машину в таком тумане? – прервал я молчание.
– Сам не знаю. Давай лучше остановимся в отеле. Поужинаем. У меня к тебе есть деловое предложение, – произнес он многозначительно. Глаза его вдруг начали излучать какую-то почти еврейскую грусть.
– Предложение, от которого нельзя отказаться? – спросил я с иронией.
– Ну, вроде того, – не глядя на меня, промычал Жерар и заглушил мотор.
– Заранее предупреждаю, каким бы странным и неправдоподобным ни показалось тебе мое предложение, старайся не перебивать и не задавать вопросов. После того как я закончу, можешь спрашивать и делать все что хочешь. Ты можешь даже плюнуть мне в лицо, – с пафосом произнес Жерар, лишь только мы оказались в баре отеля. Он выпил из бокала несколько глотков «Каберне» и начал нервно крутить в пальцах сигарету. – Ты готов? – спросил он.
– Да, я весь внимание, – лениво, с долей сарказма ответил я.
– Послушай, – начал Жерар, – я безумно тебе признателен за то, что ты скрашиваешь мою жизнь, а мой отец воспринимает меня как твоего будущего импресарио. Контракт, который ты заключил с ним, после его смерти автоматически переходит ко мне. Конечно, сумма, которую он выплачивает тебе ежемесячно, может быть увеличена, но сейчас я не об этом. Это все процесс медленный, скучный, он тебя не устраивает, поскольку этих денег все равно не хватает. Да и мне эта эволюция, маркетинги, пиары, ужины и ланчи с клиентами настолько надоели, что я пытаюсь, как всякий разумный человек, найти новые пути к осуществлению главной идеи. Ты, наверное, хочешь спросить, в чем она заключается?
Я кивнул.
– Идея состоит из двух компонентов. Первый – это минимализация твоей продукции и второй – это поднятие цен на твою живопись. Другими словами, если ты будешь продолжать работать, создавая все новые и новые работы, то широкий рынок не позволит мне повысить цены. Кроме того, ты своей продуктивностью пугаешь некоторых клиентов. Их это настораживает: «Сколько по времени он делает картину? День, месяц, неделю, год?» Они не понимают, как может стоить картина так дорого, если ты работал над ней всего две недели. К сожалению, мы имеем дело не только со светлыми головами. В основном, это мужики с тем или иным коэффициентом продвинутости. Они уверены, что стоимость картины зависит от времени, которое затратил на нее художник. Давай выпьем за нас, – произнес он, чокаясь и, видимо, вспомнив свое румыно-еврейское происхождение.
Я сделал глоток, с трудом соображая, зачем он все это мне рассказывает. Но Жерар продолжал с каким-то театральным пафосом:
– Бог с ними. Но ты, я думаю, довольно часто продаешь работы прямо из мастерской. Тебе все время нужны деньги. Если бы ты продавал по ценам галереи – еще куда ни шло, но ты продаешь их дешевле. Ты понимаешь, что тем самым сбиваешь наши с отцом цены? Ты это понимаешь?
Я кивнул.
– Ну, вот и прекрасно. Такая ситуация продолжаться больше не может. И мое предложение секретно. О нем никто не должен знать, кроме тебя и меня, даже мой отец, твой непосредственный маршан. Он слишком старомоден, к тому же у него принципов выше крыши. А такие нам не нужны.
«Нам» он произнес с такой теплотой и нежностью, что мне стало даже чуть неловко от такой близости.
– В нашем деле необходимо рисковать, – сказал он, смачивая обрывок газеты, куда он трамбовал сухую траву марихуаны. – Пожалуйста, еще немного терпения, я приближаюсь к главному. Ты помнишь, первое – это цены, второе – остановить производство картин. Свести его практически к нулю. Представь себе, что ты умер, тебя нет.
– Ну, допустим, я представил, но я жив, – с некоторым раздражением, несколько подустав от Жерара, сказал я.
– Да как раз в этом и заключается мое предложение. Мы сделаем тебя мертвым.
– Как? – почти не веря бреду, который несет Жерар, спросил я. – Ты что, накурился травы?..
– Не парься, я в полном сознании и знаю, о чем говорю. Короче, если ты согласишься на какое-то неопределенное время умереть… Извини, я оговорился: как бы умереть, то ты получаешь от меня гонорар в размере двадцати миллионов франков. – Называя сумму, он зашелся в кашле, как будто подавился костью. – Теперь можешь задавать вопросы, Жерар тебе ответит на любой.
Я знал о его неуравновешенности и странности, о некоторой шизофреничности мышления, поэтому не видел большого смысла задавать ему хоть какие-нибудь вопросы. Но, тем не менее, я поймал себя на доле любопытства после его пафосной тирады.
Их галерея существовала давно. Я довольно долго работал с Абелем – отцом Жерара. Он был румынским евреем, который во время войны торговал сигаретами и еще чем-то, уже не помню, и не мог вызывать у людей ничего кроме симпатии и теплоты. Мудрый старый еврей, словно сошедший с гравюры Агады. Именно он содержал сорокалетнего сына, а также брата Жерара, дерматолога, который тоже уже несколько лет сидел на эфедрине.
– Где ты возьмешь такие деньги? – спросил я Жерара.
– Это все, что ты хочешь знать? – выпустив очередную порцию дыма, произнес Жерар.
– Да, – ответил я.
– А почему ты не интересуешься, как ты станешь мертвым?
– Не знаю. Видимо, я устал и хочу спать.
Я встал и ушел в свой номер.
Уснуть я не мог. Возможно, я был возбужден мыслями о несправедливом устройстве мира.
Я ворочался на кровати, снова возвращаясь к теме Я и ОНИ. ОНИ – это все, кто меня окружает, и Я, человек-невидимка, роль которого заключается только в тайном созерцании этой почти абсурдной и нелепой реальности, с которой мне так или иначе необходимо найти какой-то компромисс. Бороться с ОНИ невозможно. Это я понял еще там, в далеком и пыльном коридоре на Мещанской. Остается только научиться выживать, приспосабливаться.
Вторая модель, о которой разглагольствовал Жерар, заключалась в моем полном исчезновении. Чем больше я думал об этом, тем менее нелепым и глупым казалось его предложение. Причем ни в коем случае речь не шла о самоубийстве. Сам акт сведения счетов с жизнью представлялся мне довольно пошлым. Мне не нравились ни его сложность, ни многозначительность, ни излишний драматизм. Кроме того, даже размышления о тех или иных способах самоубийства вызывали неприятные озноб и тошноту. Все способы казались мне омерзительными. Удушье, хлебание морской соленой воды, глотание таблеток, кровопускание – это все не для меня.
«Давай тогда рассмотрим способы выживания, – говорил я себе. – В конце концов, не так уж все плохо. Ты занимаешься своим, как говорят, любимым делом, за это тебе еще платят деньги. Ты живешь в городе, который многие считают Меккой искусства. В городе, от которого тащатся художники и туристы. Чего тебе не хватает? Аплодисментов, денег, наград?»
* * *
Кегней звонил мне в Париж редко. С каждым звонком его голос звучал все более и более пессимистично. Недостаток информации о Крис делал все его усилия тщетными.
Париж стал терять для меня свою привлекательность и постепенно превратился практически в одну улицу Rue de Seine. Как будто других улиц не существовало. Я начал уставать и от кафе «La Palette». С утра я сидел там, потом ехал к Альдо и до вечера торчал у него.
По субботам я посещал блошиный рынок. Это было приятным занятием и как-то отвлекало меня от повседневной рутины. Мир старых вещей, давно потерявших свою функцию, почему-то напоминал мне ушедших из жизни или находившихся при смерти. Меня возбуждало, что при желании и правильном выборе я мог бы оживить их, вернее, реинкарнировать эти неодушевленные предметы. Когда я говорю о правильном выборе, я имею в виду характер изможденной поверхности этих предметов. Это мог быть ржавый металл или постаревший под дождями и ветрами какой-нибудь деревянный ящик. Меня интересовала только простая ветхость, напоминающая собой хлам моей коммуналки, а не то, что теперь принято называть антиком.
Я мог часами бродить по лабиринтам рынка, заставленным металлическими коробками, старыми фотографиями, дагерротипами. Снова и снова возвращаясь, как бы примериваясь и предполагая, что я могу сделать с ними. Продавцы уже были в курсе моих привязанностей. Поэтому тащили мне что-нибудь совсем дошедшее до состояния рухляди: ржавые коробки, старые, покрытые слоем пыли холсты, на которых почти не осталось следов живописи. Такие походы были гораздо привлекательней и полезней для меня, чем посещения музеев. На рынке я постигал секреты живописных поверхностей, на которые время наложило бессчетное количество слоев всевозможной патины.
Не знаю, за кого меня принимали торговцы рухлядью, когда я подробно рассматривал ржавый лист железа или почти истлевший лист фанеры с остатками обоев, наклеенных на нее, когда я изучал уже потрескавшиеся стекла дагерротипов, старые гравюры с подтеками, будто бы облитые чаем. И когда я просил снять с них рамы, продавцы недоумевали, так как для них ценность заключалась именно в рамах.
Придя в мастерскую, я вываливал мои приобретения на пол, мысленно пытаясь организовать процесс реанимации. Что-то отправлялось в мои ящики за тюлем, на которых я писал. Что-то ставил под стекло в простые рамы, а по внешней стороне стекла проходился полупрозрачными белилами, снижая тем самым коэффициент видимости. Этот процесс увлекал меня, делая мою жизнь в тот период не такой скучной.
Я начал забывать о мистере Кегнее, тем более, прошел уже год с момента нашего свидания в баре «Four Seasons».
Жерар в тот период находился в своем обычном обкуренном состоянии и довольно часто забегал ко мне в мастерскую перехватить денег или просто покурить. Его галерея находилась в двух шагах от моей мастерской. По мере количества дыма, которым наполнялось ее пространство, он возвращался к предложению, от которого «нельзя отказаться». Он вновь и вновь начинал нести свой бред по поводу моего исчезновения:
– Мы должны сделать тебя мертвым.
– Как?
– Это я беру на себя. Я обязательно придумаю. Но перед твоей смертью надо сделать твою выставку именно вот из этого хлама. Ты сам не понимаешь, насколько это актуально. Все уже устали от твоей живописи. А это, бэби, – инсталляция, это, бэби, настоящий концепт. Толпа сегодня хочет концепта. Живопись – это прошлогодний снег.
– А что скажет Абель? – спросил я, чтобы как-то опустить его на землю.
– Абель? Что Абель? Он едет в Дувиль на целый месяц играть в гольф. А пока его не будет, мы все организуем. Деньги на каталог я достану. За тобой только шедевры.
– Так это будет моя посмертная выставка? – улыбнулся я.
– Нет, бэби, назовем ее предсмертной, – сказал он и неуверенным шагом пошел к выходу.
Я открыл окно и, подождав, чтобы рассеялся дым, возвратился к своим неодушевленным предметам.
Зазвонил телефон, но мне не хотелось отрываться от моего любимого занятия. Он звонил долго и настойчиво. Неоднократно делал паузу и снова начинал звонить, пока не начал меня раздражать. Я снял трубку. Это был Кегней.
– Я нашел ее. Ты слышишь, я нашел ее, и это – хорошие новости. А теперь – плохие: она замужем, четверо детей, двое своих и двое приемных. Будешь звонить? Вот ее номер, но я бы на твоем месте подумал. – Он продиктовал номер, сказав при этом: – Муж довольно известный человек. Старше ее лет на тридцать. Зовут Роберт. Тебе нужно знать имена детей? Не надо? – И, попрощавшись, повесил трубку.
Я еще долго смотрел на номер, который записал на стене рядом с телефоном.
На самом деле я не собирался звонить Крис. Я не собирался строить с ней свою жизнь. Скорее всего, мне просто хотелось посмотреть на нее, причем оставаясь инкогнито. И устроить это, как мне казалось, мог только Боб. Ну, например, пригласив ее на какой-нибудь кастинг или что-то в этом роде. Я старался придумать для Боба естественный повод позвонить Крис. Я был уверен, что позвонить должен был именно он.
И вдруг меня осенило. Ну, конечно же! Боб Альтман готовился к съемкам документально-художественного фильма о знаменитом фотографе Лартиге и собирал материал для фильма. Его интересовали люди, которые работали с фотографом или просто знали его.
Крис – любимая модель Лартига, которая проработала с ним несколько лет, была прекрасной кандидатурой для интервью.
Я мог бы находиться в студии среди членов съемочной группы, инкогнито для Крис. Когда я придумал, как мне казалось, гениальный план, оставалось только уговорить Боба участвовать в этом. Зная его морально-этические принципы, я сильно сомневался, что он согласится.
Кегней продолжал настойчиво звонить каждые два-три дня.
– Ну, ты позвонил? – было его первой фразой.
– Нет еще, Джеймс, нет.
– Кстати, запиши ее адрес. Ну, и когда же ты собираешься позвонить?
* * *
Декорации к «Мак Тиг» я писал в мастерских в двух часах от Нью-Йорка. Для этого довольно часто прилетал из Парижа, а иногда оставался в Нью-Йорке на несколько дней.
Каждое утро пешком я шел по адресу, который оставил мне Кегней. По утрам 3-я улица была немноголюдна. Мне казалось, так легче разглядывать выходящих из многоэтажного дома Крис. Я испытывал необъяснимый страх оттого, что тайно подсматриваю за незнакомыми мне людьми, которые даже не подозревают о моем существовании. Сидя в кафе на другой стороне улицы, я просто довольствовался созерцанием дома, завешанного аэрокондиционерными ящиками, пытаясь вычислить этаж и окна, за которыми существует Крис в окружении четырех детей и Роберта Стаба.
Конечно, про свои утренние походы я никому не говорил, потому что испытывал неловкость за свой детский нелепый романтизм, но поделать с собой ничего не мог. В то же время я понимал, что не могу остаток жизни проводить за этим занятием.
Однажды мне позвонил Боб.
– Может, поужинаем? Заходи ко мне после работы, часов в семь, адрес ты знаешь, – сказал он и повесил трубку.
В это время Боб работал над фильмом «Black and Blue» по мотивам известного бродвейского шоу.
«Это твой первый и последний шанс», – сказал я себе, спускаясь в бар. До встречи было еще часа три. Все это время я придумывал текст, который должен был произнести при встрече с Бобом. Медленно потягивая виски, я еще и еще раз мысленно старался найти нужную интонацию, чтобы убедить Боба согласиться с моим планом. Время тянулось медленно, а я все прокручивал в голове возможные варианты сценария. Ни один из них не казался мне убедительным. Главной трудностью, конечно же, было то, что Боб не мог и не любил врать. А я вынуждал его к этому, пользуясь дружбой и добрым ко мне отношением.
Я поменял билет на самолет до Парижа и в семь был в студии у Боба. Он сидел за столом перед экраном. Мимо сновали высокорослые негритянки в нарядных танцевальных костюмах, усыпанных сверкающими блестками. Несколько камер двигалось, сопровождая закулисную беготню танцовщиц. Было понятно, что Боб снимал не только действие на сцене, но и закулисную жизнь, что делало фильм более живым. Он жестом пригласил меня присесть рядом, и я на какое-то время погрузился в карнавальное праздничное зрелище, наблюдая за степ-дансом этих почти нереально темнокожих солисток «Black and Blue». Наконец, в какой-то момент Боб взял микрофон:
– Спасибо всем, на сегодня закончили.
Съемочная площадка постепенно опустела. Мы остались одни.
– Ну как ты? – спросил он, и, не дожидаясь ответа: – Где мы ужинаем?
Я предложил «Грамарси Таверн».
– Ну, тогда пошли.
– Боб, у меня к тебе предложение, вернее, просьба, – начал я, слегка нервничая, и, не дав ему возможности что-то сказать, продолжал озвучивать свой план по поводу кастинга для несуществующей съемки фильма о Лартиге.
Где-то в середине моего рассказа Боб начал улыбаться. Его улыбка заставила меня остановиться.
– Знаешь, – сказал он доброжелательно, – дело в том, что я в самом деле лет пять назад хотел сделать фильм о нем. Но то, что ты предлагаешь мне теперь, я делать не буду. Я просто не могу врать даже при всем уважении к тебе и к чувству, которое ты испытываешь к незнакомой мне таинственной даме. Тем не менее, если ты даешь мне зеленый свет и не задашь вопросов по поводу того, как я это сделаю, я готов тебе помочь. Подумай, но не долго, потому что я страшно голоден.
«Все равно у тебя нет других вариантов», – промелькнуло у меня в голове. Я достал из кармана смятую бумажку с номером телефона и бросил ее на стол.
Боб надел очки и начал набирать номер, предварительно включив звук. Ответил мужской голос.
– Могу я говорить с Кристин, меня зовут Роберт Альтман.
Мужчина на том конце провода после короткой паузы, будто раздумывая, ответил:
– Я узнаю, дома ли она.
Через минуту к телефону подошла Крис.
– Как вы знаете, я кинорежиссер, а не детектив, но я нашел ваш номер по просьбе моего близкого друга, русского художника. Он об этом еще не знает, и звоню я для того, чтобы спросить вашего разрешения, дать ему номер или нет? Если нет, то он его не получит. Если вы согласны, то я ему его передам.
Крис, помедлив какое-то время, коротко и довольно тихо, почти шепотом, произнесла:
– Можете дать.
– Спасибо, – почти без интонации произнес Боб и повесил трубку. Затем небрежным жестом бросил бумажку с номером телефона на стол. – Ты доволен?
Я был счастлив.
– Но не звонить же ей сейчас? – спросил я растерянно.
– Если бы я был на твоем месте, я бы не звонил ей не только сейчас, но и через месяц и через два. Пусть теперь думает и ждет. Пошли ужинать. – Боб был доволен успешным завершением своей миссии.
Глава 26
В конце ужина мы попрощались, и я отправился к себе в отель.
По дороге я нащупал в кармане смятую бумажку с телефоном Крис. Я знал, что, придя в отель, первым делом наберу ее номер.
Было около десяти. Она сняла трубку. Тот же глуховатый, будто простуженный голос.
Те же слегка ироничные интонации.
– Да, я слушаю тебя, – сказала она тихо.
Мне показалось, что мистер Стаб маячит за ее спиной.
– Я, к сожалению, завтра улетаю в Париж, – волнуясь, произнес я. – В четыре часа. Если хочешь, мы могли бы увидеться за ланчем.
– Где?
– Да где пожелаешь, можно у меня, в баре отеля.
– О'кей, это недалеко от меня. В двенадцать. А ты уверен, что узнаешь меня? – пошутила она.
Всю ночь я провел у телевизора, выключив звук и переключая пультом программы. Но в десять уже сидел за столиком в баре. В это утро работала Сьюзан.
– Что-то ты сегодня рано начал пить.
– Видишь ли, Сьюзан, у меня свидание с женщиной, которую я не видел, наверное, лет пятнадцать. Естественно, что я нервничаю. Так что выпить мне необходимо. Для храбрости.
– А-а, – протянула Сьюзан. – Теперь понимаю. Надеюсь, к тебе придет толстая, сильно постаревшая баба. Не думай, что во мне говорит ревность, просто я не хочу потерять любимого клиента. А то все может быть! Не дай бог снова влюбишься, начнешь семейную жизнь и перестанешь останавливаться у нас. Может, съешь что-нибудь? – добавила она безразличным тоном.
Я отказался.
Крис появилась ровно в двенадцать. Вошла так же внезапно, как когда-то в мою студию на Сен-Сюльпис. На ней был строгий темно-синий пиджак с какими-то золотыми лацканами, напоминающий морскую офицерскую форму. Лицо ее светилось, она была рада встрече. Все слова, которые я приготовил заранее, куда-то запропастились. Я молча смотрел на нее, ловя себя на мысли, что она мало изменилась, может, чуть пополнела.
– Ты совсем не изменилась, – сказал я и поцеловал ее куда-то между ухом и виском.
– Ты врешь, но, тем не менее, мне приятно, – улыбнулась она. – «Мартини оранж», – бросила она Сьюзан, которая, делая отсутствующее лицо, тем не менее таращилась на нее.
Крис, пригубив из бокала, достала вдруг из сумки альбом и принялась перелистывать страницы, словно пытаясь наскоро ввести меня в курс другой своей жизни – жизни без меня.
– Это Адам.
С фотографии смотрел рыжеволосый мальчик.
– А это Магали, когда была маленькой.
На следующей странице на фото был мужчина, но Крис перевернула лист без комментариев. Я отметил этот жест и испытал чувство благодарности.
Альбом был довольно толстый. Он был битком набит снимками своих и приемных детей, родителей и родственников. Между ее пояснениями, кто есть кто, я успел объяснить Крис, что появился не для того, чтобы вновь занять какое-то особое место в ее новой жизни.
– Правда, я часто думал о тебе, – сказал я, и голос выдал мое волнение. Видимо, виски, которое я пил, не успокоило меня, а наоборот, только усилило волнение.
– Ты знаешь, в те далекие времена я был не в состоянии объяснить тебе, что чувствовал. Но сегодня могу уверенно сказать, что я тебя любил, как бы нелепо и пошло это сейчас ни звучало.
– Как ты нашел мой телефон? – спросила она и серьезно посмотрела мне в глаза.
– Ну… Это целая история, позволь мне рассказать тебе об этом позже. Если у нас будет это «позже», – добавил я с грустью.
– Тебе пора ехать в аэропорт, – в самый неподходящий момент голос Сьюзан из-за стойки бара прервал наш разговор.
– Да-да, тебе пора, – участливо спохватилась Крис. – Только проводи меня немного.
Мы вышли на улицу. Крис взяла меня под руку. И вдруг я почувствовал, что она погладила мое запястье, едва касаясь. В ее прикосновении было что-то необыкновенно нежное.
– Дальше я пойду одна, – сказала она, остановившись на углу. – Да и тебе надо возвращаться. Звони иногда.
Она отпустила мою руку.
Я смотрел ей вслед и не мог понять, зачем мне нужна эта встреча? Хотя нет, я все-таки осуществил свою нелепую, на первый взгляд, миссию. Миссию возвращения в прошлое…
В Париж я вернулся в возбужденном состоянии. Несколько раз я звонил ей. Но ощущение от наших телефонных разговоров было по меньшей мере странным. Она часто делала долгие паузы, в голосе чувствовалось какое-то напряжение, будто она испытывала неловкость. Порой фоном я слышал реплики мистера Стаба. Видимо, он часто бывал дома, или я попадал в эти моменты. Сама она мне не звонила. Короче, после нескольких неудачных звонков я решил остановиться.
«В конце концов, что тебе надо? – сказал я себе. – Ты хотел просто увидеть ее. Встретился с ней. А теперь ты что хочешь? Возобновить отношения? Остановись. Лучше займись ремонтом мастерской с такой же одержимостью». И я решил завязать с Крис, как с навязчивой идеей.
Мишель предложил мне бригаду из пяти-шести человек с каждодневной оплатой. И я по глупости согласился. Работала бригада медленно. Мишель, как и обещал, продавал холсты, приносил наличные, которые бригада с необыкновенной быстротой растаскивала.
Однажды утром я застал работяг в раздумье перед вмонтированным в стену зеркалом. Надо сказать, что хозяин, у которого я приобрел мастерскую, любил зеркала. Они были повсюду – и в гостиной, и в спальне, и в санузлах. Первое, что я хотел сделать, это избавиться от них.
– Не знаем, как его вынуть, не отклеивается… – растерянно протянул Жан, который был кем-то вроде бригадира.
Понаблюдав минут десять за безуспешными попытками извлечь зеркало, я решил уйти в кафе, чтобы не стоять у них над душой. Вид этой компании выводил меня из себя. Вернулся я где-то в полдень и застал их перед зеркалом в тех же позах.
– И долго вы собираетесь разглядывать себя в зеркале? Я вернусь к шести и, если найду вас за тем же занятием… – И, не закончив фразу, теряя терпение, спросил: – У вас молоток найдется?
– Найдется, – удивился Жан и протянул мне молоток.
– Можете отойти от зеркала? – попросил я.
Рабочие послушно отступили на несколько шагов.
С силой размахнувшись, я швырнул молоток в стекло. Осколки брызнули по комнате. Рабочие испуганно шарахнулись от меня.
– Ты же разбил его! – наконец вымолвил обалдевший Жан. – Я думал продать, – Жан был явно огорчен.
– Серьезно? Ну и за сколько? – Теперь уже я не скрывал своего раздражения.
– Ну, тысячи за две, – не очень уверенно промычал бригадир.
– Ты болен, Жан. Посчитай, сколько мне стоит ваш рабочий день. Со мной согласится любой здравомыслящий человек, не говоря уж о докторе. – С этими словами я покинул место разрухи, бросив в дверях: – То же самое проделайте и с остальными зеркалами!
* * *
Прошел месяц, может, чуть больше, после моего последнего звонка Крис. Если честно, потребность в этих звонках у меня почти исчезла. Не выглядит ли мое молчание демонстрацией обиды, иногда думал я, надо позвонить хотя бы из приличия. Вдруг совершенно неожиданно она позвонила сама.
– Как дела? – спросила Крис как ни в чем не бывало. – Ты пропал, совсем перестал звонить.
Я постарался, как мог, объяснить причину.
– Я понимаю, ты прав, он постоянно торчит у меня за спиной. Теперь я не дома, а в Вермонте. Подыскиваю дом, который мы собираемся купить.
Она замолчала. Я тоже молчал. Возникла пауза.
– Сейчас я одна.
И снова пауза. В этих паузах читалась какая-то неловкость.
– Почему ты молчишь? – спросил я.
– Не знаю… Мне просто грустно, – сказала она и снова замолчала.
– Ты хочешь, чтобы я прилетел? – неожиданно для самого себя произнес я, как будто был уверен, что она ждала именно эти слова.
И снова долгая томительная пауза. Я уже подумал, что нас разъединили.
– Да, – прошептала, словно выдохнула, она.
– Сколько ты еще пробудешь в Вермонте?
– Еще дня два, в пятницу я должна вернуться в Нью-Йорк.
У меня был всего один день.
– Ты знаешь, Крис, – сказал я, с уверенностью, которую от себя не ожидал, – если бы это было лет пятнадцать назад, клянусь, я бы полетел не задумываясь, но теперь это абсурд. Нью-Йорк, затем Вермонт, я доберусь только к завтрашнему дню. Прошу тебя, придумай что-нибудь пореальнее, и я прилечу.
После короткой паузы она уже твердо произнесла:
– Коламбус Дэй. Четвертое июля. Мои уедут в Майами к его матери.
Она так и сказала: «к его», не назвала даже имени, а потом тихонько добавила:
– Я буду одна.
Я нередко представляю себе пейзаж, в котором нет ни кустов, ни деревьев, практически ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Есть только уходящее в бесконечность пространство, подернутое легким туманом. Оно тянет к себе волнующей таинственностью, хочется пойти туда, в мягкую глубину пустого пространства, но в то же время липкий страх сковывает движения, как это бывает во сне. Так было на протяжении всей моей жизни. Если надо принять решение, я не даю себе возможности продумать до конца последствия моего выбора. Другими словами, логика прячется от меня где-то глубоко, и добраться до нее довольно трудно…
Глава 27
Место встречи изменить нельзя. Нью-Йорк. «Русский самовар». За роялем громкий Журбан или Леня, тапер с добрыми еврейскими глазами, мягкой и тихой манерой исполнения. Он исполнял на слух все совковые мелодии. Сгрудившиеся вокруг рояля подвыпившие дамы с декольте… Капельки пота на лицах… Самозабвенное хоровое пение напоминающее шабаш ведьм на Лысой горе. Дикие танцы. Казалось, это последний день перед концом света.
«Русский самовар» восьмидесятых – Нью-Йорк для русского эмигранта. Там встречались, прощались, ругались и мирились. Своего рода клуб, некая достопримечательность русско-еврейской нью-йоркской диаспоры. Памятник великого исхода из совка. Заморские гости – Пугачевы, Киркоровы, Хворостовские – по пьянке иногда удостаивали собравшихся своими сольными номерами. Даже тогда они казались заграничными птицами, а мы обычными совковыми эмигрантами, застрявшими в «Самоваре» надолго, а может быть, навсегда.
Между столиками, попыхивая трубкой, медленно блуждал, еле держась на ногах, Рома Каплан. Он почти никогда не выпускал трубку изо рта, пожалуй, кроме того момента, когда заглатывал очередную рюмку или читал наизусть что-нибудь из Бродского. Каплан помнил из Бродского практически все и мог читать даже в полубессознательном состоянии. Я думаю, что, кроме Бродского, он вообще ничего не читал. Иосиф был для него тем же, кем был Монтень для Мити.
На стенах, в клубах табачного дыма, висели на гвоздях полотна и принты местных художников-эмигрантов. Красные плюшевые диваны с потертыми спинками. Довольно просторный бар, за стойкой которого хозяйничал Яша, зять Каплана. Он был женат на Ларисе, дочери жены Каплана.
Это был своего рода семейный бизнес со всеми вытекающими отсюда последствиями: натянутостью в отношениях между членами семьи и так далее. На посетителях это не сказывалось. Качество обслуживания и вкусовые особенности «самоварной» кухни не обсуждались. Кухню «Русского самовара» было принято называть русской, она обладала специфическими запахами жареной картошки, щей или борща. Но сюда ходили не для этого. Белые скатерти были не органичны для этого заведения, вытертые клеенки коммунальных кухонь подошли бы больше. Здесь побывали все, только ленивый не посетил эту Мекку нью-йоркской эмиграции. Там даже была Книга памятных отзывов, в которой мне не раз, по просьбе Каплана, приходилось рисовать что-нибудь вроде вишни или яблока. Текста от меня он не требовал.
В «Самовар» я обычно приходил со Збарским и Лялей. Наша группа представляла собой классический треугольник, в котором не было никакой сексуальной заинтересованности. Ляля работала у меня помощницей, я знал ее еще в эпоху, когда она была замужем за Семеном Левкиным, моим приятелем по институту.
У нас установились редкие абсолютно дружеские отношения. Збарский же вносил в них, да и в атмосферу «Самовара», своего рода интеллектуальную провокацию.
– Ты Библию читал? – спрашивал он строго, отламывая кусок черного хлеба, лежащий на тарелке.
– Ну, читал, и что? – лениво отвечал собеседник, которого он порой приглашал из-за соседнего стола.
Нам с Лялей его каверзные вопросы уже давно были неинтересны. Он жаждал свежей крови.
– Ты хоть помнишь историю о тридцати серебрениках?
– Ну, помню, – отвечал в предчувствии неладного приглашенный на экзекуцию. – А в чем твоя проблема? – спрашивал он с опаской Леву.
– А в том, что ты хоть раз задумывался над тем, что это за число? Почему тридцать, а не сорок, например? Да и вообще, это много или мало? Какой эквивалент был в то время, что можно было купить на эти деньги?! – орал он на весь «Самовар».
Пришелец с другого стола тупо молчал.
– Ну, телись, – повелительно требовал Лева.
– Надо подумать, это, наверное, какой-нибудь символ, – виновато мычал ответчик.
Сильно кашляя и отхаркиваясь, Лева орал:
– Иди за свой стол и подумай. Когда придумаешь убедительный ответ, возвращайся! Какие же кругом темные люди!
Нечастный виновато шел к своему столу, а Лева начинал хлебать уже остывший борщ. Ляля кротко с обожанием смотрела на него.
Я думаю, что бо́льшая часть посетителей «Самовара» на протяжении недель думала над его вопросами. Задавая их, он постепенно входил в состояние агрессивной эйфории, все больше и больше распалялся. Его взгляд становился безумным. Видимо, он и вправду испытывал презрение и ненависть к темным и необразованным людям. Лева тешил свое неизмеримое превосходство над толпой, которую он презирал за тупость и медлительность. Его довольно наглая самоуверенность и хриплый прокуренный голос повергали людей непривычных в какой-то ступор, своего рода гипноз.
Обморочное состояние, которое испытывает толпа перед брызгающим слюной опытным оратором, который сам находится в психическом, как у шаманов, трансе, искренне веря в свою значительность и превосходство перед язычниками.
– Быть интеллигентом – это талант или способность, если хотите, «полагать конечности», – продолжая хлебать, вещал Лева. – А ты можешь предложить свое определение интеллигента? – Орал он, вытряхивая из стакана оставшиеся от компота сухофрукты.
Ляля с улыбкой, которая не сходила с ее лица, переводила свой взгляд то на просветителя, то на меня, язычника. А я уже давно был далеко-далеко, совсем не в «Самоваре», а там, где не пахнет селедкой и пожарскими котлетами. Там, где тишина и покой. Но Лева настойчиво требовал моего возвращения своим громким хриплым ором:
– Я спрашиваю твой дефинишн! Я настаиваю! Ты что, не согласен с моим?
Я лениво возвращался, чувствуя неловкость. Ляле казалось, что на нас с Левой неодобрительно смотрели язычники с других столов, думая, что назревает скандал, и, скорее всего, сейчас будет драка. Хотя на самом деле это была дружеская беседа, обмен мнениями.
– Только не говори мне, что ты должен подумать.
– Почему? – устало спрашивал я.
– Потому что я не поверю, что ты такой козел и никогда в жизни не задумывался над этим. Ну, рожай же свой. Мой, видимо, тебя не устраивает.
Он, в самом деле, меня не устраивал, но не по смыслу, а, скорее, по нерусскому построению фразы. Она звучала как-то по-татарски. Что это, «полагать конечности»? Твоя моя не понимай.
– Смотри, сука, лингвист нашелся, – снова орал он.
– Хорошо, – сказал я, отпив глоток водки из граненого вспотевшего стакана. – Ну, скорее, я думаю, это способность адаптироваться в любых ситуациях и в любой среде и говорить, не повышая голоса.
– Приспособленец! Ты видишь, наш приятель типичный приспособленец! – обращаясь к Ляле, заорал он.
Она молча улыбалась и смотрела на него, то ли с обожанием, то ли с испугом.
Так шли годы… Лева шаманил, Ляля улыбалась, Роман курил трубку. А я все ждал чего-то. Теперь даже не могу вспомнить, чего. Скорее всего, перемен. И опять я, в который раз, как когда-то в детстве, произносил про себя успокоительную фразу: «Я и ОНИ», или натыкался на извечный вопрос: «Кто я? Где я?» Неужели я так и закончу свою жизнь в «Русском самоваре», среди всего этого кошмара.
Мой лофт находился на 20-й между Парком и Бродвеем. Весь день я старался не вылезать из него, это было светлое огромное пространство с большими окнами, выходящими на 20-ю улицу. Окна спальни смотрели в стену из коричневого кирпича соседнего дома. Стена была так близко, что, казалось, можно достать ее рукой. Я не знаю, что находилось на остальных этажах, но напротив моего, шестого, судя по танцующим фигурам в трико, разместилась балетная школа.
Лофт был приобретен по тем временам не за большие деньги. Да и времена были другие, назовем их легкими. У меня в жизни никогда не было такого огромного пространства, и от этого переполняло чувство какого-то незнакомого спокойствия. Казалось, что лофт – это вознаграждение за мои долгие годы скитаний, смены адресов, съемные тесные квартиры и студии. Деньги свалились почти сами. Ёши, мой японский маршан, решил приобрести большую группу работ для своего фандосьен где-то недалеко от Токио. Это были и картины, и театральные макеты, и скульптуры. Короче, все сложилось, как бывает только во сне. В жизни такие случайности встречаются довольно редко.
Еще не начав ремонта, я отправился исследовать 20-ю улицу и улицы по соседству. Обилие ресторанов и кафе, кинотеатр прямо за углом, багетная мастерская, – что еще нужно для полного счастья? Так начиналась моя нью-йоркская жизнь, обещавшая мне что-то до сих пор незнакомое. Париж, казалось мне, был пройденным этапом. Да что Париж, по сравнению с Нью-Йорком, маленький провинциальный город! Нью-Йорк производил впечатление чего-то грандиозно-космического. И я, выбравшись из коммунальной квартиры на Мещанской, из какого-то израильского ульпана, затерянного в горах Мевасерет-Циона, попадаю в эту Мекку современного искусства. В голове огромное количество фантазий, планов, связанных с поисками галереи.
Я заметил, что любая перемена в жизни, каждый поступок или шаг, который мы совершаем, почти всегда состоит из нескольких этапов. Пролог – эйфория, спазм, фантазия. Кульминация – проживание или приживание. Третий этап: реальность жизни, где все, что нам «казалось», переходит в стадию «оказалось». И четвертый, последний – эпилог, он, скорее, связан как раз с памятью. Он, пожалуй, самый щемящий и в чем-то приятный, уже не вызывающий лишних эмоций, когда ты видишь себя и то, что с тобой было, через какую-то тонкую полупрозрачную пелену времени. Все, что с тобой происходило, ты видишь с дистанции, которая обладает каким-то правильным фокусом бесконечности. Там не присутствуют ни оценки, ни превосходные степени, ни страх, ни восторг, ни драма.
Нью-Йорк был для меня начальной стадией, эйфорией, как когда-то Париж, где я даже наслаждался скромной мастерской с покосившимися стенами на улице Сен-Сюльпис. В той мастерской, где я принимал приезжих из Москвы – Ивана Дыховичного и Борю Хмельницкого, – стесняясь ее бедности. Там, где ютился, производя на свет свои ящики, затянутые нейлоновой шелкографической тканью. По ночам, в одиночестве, я, вглядываясь в них, ощущал себя ученым на пороге важнейшего оптического открытия. Улыбаясь про себя, я думал, что если бы Тернер увидел мои ящики, думаю, он, так же, как и я, сидел бы часами, вглядываясь в это магическое пространство. Во всяком случае, мне хотелось в это верить, но, к сожалению, он не дожил до этого времени…
* * *
Наступил жаркий июль. Я взял билеты на самолет через Лондон, так как должен был закончить книгу Бориса Пастернака «Сестра моя – жизнь». Макет делал Аникст. Нам необходимо было увидеться перед сдачей книги в производство.
Я решил, что проведу у него пару дней, а потом вылечу в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Крис.
Первой, кого я встретил в баре отеля Нью-Йорка, была Сьюзан. Увидев меня, она спросила с улыбкой:
– Как твоя пассия? Не женился еще?
Я решил не сообщать ей причины своего визита в Нью-Йорк. Вообще, это свидание было тайным, я не хотел говорить об этом даже Бобу.
Наша встреча с Крис была назначена на вечер, поэтому весь день я был предоставлен самому себе. Позвонил своему издателю, мистеру Чифу. Договорились встретиться на ланче.
Я привез ему законченный Аникстом макет книги и мои иллюстрации. Они представляли собой черно-белые многодельные офорты. По совету Альдо я смешал в них почти все возможные техники: и травленый штрих, и мягкий лак, и бесконечные слои акватинты разного размера – от крупных до почти пудры. Оттиски получились легкими и прозрачными, почти акварельными.
Альдо учил меня травить кистью на офортных досках, не опуская их в ванну с кислотой. Он поставил передо мной маленькую банку, затем, налив в нее кислоту, попробовал на язык, определяя ее крепость.
– Ну, с богом, только не бойся и не торопись, – сказал он, протянув мне небольшую колонковую кисть.
– Альдо, я же не вижу ничего под черным лаком, – растерянно сказал я.
– Это неважно, ты должен почувствовать, угадать изображение. Выбери одну зону и начинай.
И я вслепую, осторожно стал блуждать по поверхности кистью, предварительно обмакнув ее в кислоту. Иногда Альдо просил меня остановиться, нагибался низко над доской и, приставляя к глазу специальную лупу, проверял глубину травления.
– Здесь больше не трогай, переходи в другую зону, – тоном ментора произносил он.
Где-то на третьей доске я и в самом деле начал видеть, вернее, догадываться об очертаниях изображения, спрятанного за слоем черного лака.
После разговора с Чифом я нетерпеливо ждал встречи с Крис. Во время ланча я думал о ней, но присутствие Чифа отвлекало меня. Теперь же, когда я остался один, ощущение страха холодной ящеркой бегало по всему телу. Я решил успокоиться и направился в бар.
Встретились мы около шести в ресторане, недалеко от ее дома. Улицы были забиты людьми. Играла музыка. Мы сидели за столиком, она пила белое вино и курила.
– Я начала снова курить, – словно оправдываясь, пояснила Крис, поймав мой удивленный взгляд.
Говорили о какой-то ерунде. Я рассказывал ей о своей работе с Бобом, а она про детей.
– Что ты собираешься делать после ужина? – поинтересовалась Крис.
– А ты? – спросил я.
– Я хочу пойти к тебе, – сказала она просто, как будто мы никогда не расставались.
И мы пошли сквозь плотную толпу веселящихся подвыпивших людей, не замечая никого вокруг. Она снова, как когда-то, держала меня за запястье, едва касаясь его.
В баре мы выпили еще, она шампанского, я виски, и поднялись в номер.
Где-то около двенадцати Крис сказала, что ей надо бежать домой.
– Менендос наверняка будет звонить. Нет, не провожай, увидимся завтра… – И она скрылась за дверью.
«Надо бы позвонить Бобу», – проваливаясь в сон, подумал я. И по мере погружения в мягкую дремоту всполохом возникла мысль: «Ну и что ты собираешься делать теперь?» Ответа на этот вопрос не было. Последнее, что мне пришло в голову перед тем как заснуть, что наступило пятое число, мой день рождения. Как будто это что-то меняло…
Крис приехала около десяти утра. Она была в светлом льняном платье, которое сняла, как только мы поднялись в номер. Сейчас, за давностью лет, трудно вспомнить детали, но я не забыл свое ощущение необыкновенного праздника, что-то подобное было лишь в мой день рождения, еще при жизни бабушки Поли.
И Крис, мне казалось, была той самой исчезнувшей из моей жизни Нинкой – девочкой, которую добрая фея вдруг превратила в женщину. Даже детская игра «в доктора» теперь вдруг казалась мне естественной, я как бы старался вспомнить очертания ее тела, прикосновения кожи, чего не смог в полной мере ощутить вчера.
Вчера все было настолько торопливо, как будто мы боялись: вдруг по какой-то причине это не произойдет. Вероятно, нам мешала длительная разлука, какое-то необъяснимое чувство неловкости делало нашу близость застенчивой и торопливой. Мы снова привыкали друг к другу. Сегодня же мы были в роли полноправных любовников, во всяком случае, у меня появилась какая-то уверенность, а вчерашний озноб, который я чувствовал каждую секунду, прошел.
Наступило тихое спокойствие. Казалось, моя жизнь обрела смысл, а Крис – награда за долгие годы борьбы за признание. Художник-эмигрант, не знающий ни одного слова ни на одном языке, кроме русского, потерянный в чужом городе и не уверенный в себе, выбрал Крис еще в те далекие времена. Познакомившись с ней в малюсенькой мастерской с покосившимися стенами на Сен-Сюльпис, я, видимо, полюбил ее за ту бесшабашность и быстроту, с которой она вселилась в мою жизнь, принеся на руках щенка Спанки. В ту дождливую ночь я вдруг почувствовал в себе силы для борьбы за выживание.
Теперь, когда мы лежали, запутавшись в простынях, и строили планы на будущее, я вспоминал о прошлом.
– О чем ты думаешь? – видимо, заметив мой отсутствующий взгляд, спросила Крис. – Как ты представляешь себе наше дальнейшее существование?
– Я как раз и думаю об этом, – соврал я.
На самом деле я был далек от этих мыслей, а просто наслаждался ее близостью и теплым дыханием. Мои мысли, если они и возникали, никак не были связаны с нашим будущим, скорее, они блуждали где-то поблизости с моим прошлым, порой прикасаясь к настоящему.
– Если ты думаешь, что я буду тайно встречаться с тобой во время твоих редких появлений в Нью-Йорке, то ошибаешься. Это невозможно, я не смогу так долго выдержать. Ты должен снять мастерскую в Нью-Йорке и работать здесь, тогда мы могли бы видеться чаще.
Я не могу говорить с тобой только по телефону, ты понимаешь это? Дай мне прикурить.
Она курила одну сигарету за другой, затягиваясь глубоко, как будто ей не хватало воздуха. Мистера Стаба она называла Менендос.
В то время в Нью-Йорке проходил довольно громкий процесс над братьями Менендос. Глава семейства и его жена были застрелены своими сыновьями. Не было сомнения, что преступление было подготовлено заранее. Убиты несчастные были зверски. Защита, желая найти хоть какие-то смягчающие обстоятельства для преступников, выдвинула версию, что папаша Менендос был монстром, насильником и психопатом.
– Почему ты его так называешь? – спросил я.
– Не будем об этом, – ушла Крис от ответа. – Ты знаешь, Менендос очень опасен, у него связи, он знает чуть ли не всех в Нью-Йорке. Если ему кто-то даже просто намекнет про нас, он отберет у меня детей. Подумай об этом. Может, лучше закончить все здесь, не начиная? Почему ты молчишь?
Что я мог ответить? «Не думай об этом, все будет хорошо». Когда тебе необходимо почувствовать и разделить чужую боль, всегда возникает проблема поиска успокаивающих слов. Ты думаешь в этот момент о своей боли, сознавая, что не в состоянии взамен поделиться ею. Остается только умолять страдающего набраться терпения или отложить разговор на потом. Но и этими соображениями в такие моменты не стоит делиться, так как они будут восприниматься как своего рода трусость или безответственность.
– Послушай, Крис, – сказал я, – давай не будем сегодня решать глобальные проблемы, а начнем делать это поступательно. Я обещаю тебе, что мастерскую в Нью-Йорке я сниму в ближайшее время. Что же касается остального, мы поговорим и обсудим это за ужином.
А теперь постарайся не думать об этом, если сможешь.
– Постараюсь, – сказала она покорно.
Мы лежали, прижавшись друг к другу, и молчали. Каждый думал о своем. Она, видимо, выстраивала свою модель наших отношений, я же думал о завтрашнем возвращении в Париж. О будущей вроде как предсмертной выставке, которую мне неоднократно обещал Жерар, и о каком-то нереальном, как мне казалось, моем исчезновении. Крис не знала о далеко идущих планах Жерара.
Спустя какое-то время она решила уйти из дома.
Я снял ей квартиру, где-то в районе 60-х улиц. Она могла брать детей к себе три раза в неделю, в остальные дни мы виделись у меня. Но даже в эти свободные от детей дни она часами сидела у телефона, решая их школьные и бытовые проблемы. Крис была хорошей матерью, полностью растворенной в своих детях. Я не могу сказать, что испытывал чувство ревности к ним, просто сама ситуация делала наше существование, мягко выражаясь, абсурдным.
Менендос хорошо понимал невозможность быстрого развода. Будучи опытным в бракоразводных делах (первая жена тоже ушла от него), он создавал бесконечные препоны – тома документов, справок, переписки адвокатов. И все оставалось по-прежнему.
Глава 28
Когда задают вопрос, как прошла выставка, я на секунду теряюсь. Ну что можно ответить? Хорошо, ничего, так себе… Обычно его задают из элементарного любопытства или из вежливости.
Для меня выставка – это довольно важный момент прожитого времени. А он, в свою очередь, состоит из более мелких сегментов, в которые входят и утренние пробуждения, и длинные вечера, и бессонные ночи. Бесконечные монологи Жерара, обрывки фраз, как будто с трудом пробивающиеся сквозь завесу дыма от его самокруток, подготовка стен, которые необходимо загваздать, чтобы мой хлам растворялся в них. Камертоном натуральности и естественности, безусловно, были стены моей коммунальной квартиры. Я старался как можно точнее изобразить их поверхность, полагаясь на свою память.
Даже когда экспозиция готова, всегда возникает необходимость понять, как экспонировать работы. Вешать на стены? Ставить на что-то? Короче, весь процесс подготовки напоминает детскую игру, в которую взялся играть взрослый, и, увлекшись, поверил, что это не иллюзия, а реальность. Как осветить иллюзию, чтобы она стала реальностью. Или что делать с реальностью, чтобы она превратилась в иллюзию?
Это та же театральная сцена, только вместо актеров неодушевленные предметы, одетые режиссером в странные, не совсем театральные костюмы. Актеры не произносят слов и, разумеется, не двигаются. Они просто застыли под тусклым светом, напоминающим свет все той же коммуналки. Парадокс заключается в том, что для зрителя это нечто странное, а для меня – реальность или хотя бы приблизительная иллюзия моего прошлого, моего детства.
Ну и как я могу ответить на вопрос, как прошла выставка? Да я ее толком и не видел. На вернисаже не присутствовал.
Жерар деликатно попросил меня дать ему возможность самому работать с клиентом. Присутствие художника мешало ему. Видимо, ему хотелось чувствовать себя в роли куратора или своего рода просветителя. Толпа всегда возбуждала его. В эти моменты, предварительно накурившись, он находился в состоянии эйфории. Одевшись как денди, благоухая автошейвом, держа между пальцев дымящуюся сигарету, он фланировал среди собравшейся толпы, раздавая налево и направо приветственные поцелуи. На вопрос: «Где же художник?» – с легкой улыбкой, словно оправдываясь, объяснял: «Художник стесняется вернисажей, но вы можете найти его в кафе «La Palette», где он с удовольствием примет ваши поздравления».
Я действительно пережидал открытие выставки именно там, выпивая с работягами, которые развешивали работы и ставили свет, а также с теми, кто просто заходил поздравить. Как бы то ни было, это было счастливое время, время коллективного энтузиазма. Все, как ненормальные, становились любителями изящных искусств – и хозяева кафе «La Palette», и бармены, и даже плотник Мишель, специализирующийся на развеске работ в галереях, расположенных на рю де Сен.
Он не раз предлагал организовать ремонт моей мастерской за наличные.
– Где же я возьму столько? – с недоумением спрашивал я.
– Это не твоя забота. Будешь давать мне холсты, у меня своя клиентура, – загадочно произносил он, потирая руки.
Он всегда потирал руки. Что означал этот жест? Скорее, некое самодовольство. Он потирал их, и когда информировал меня, что идет встречаться с Эвелин – барменшей из соседнего кафе, с которой он «делал это», и довольно часто.
Наконец появился Жерар, по его лицу было видно, что он доволен. В зубах он уже держал джойнт.
– Я счастлив, бэби, – произносил он, давая понять, что его миссия увенчалась успехом. – Остальное доделает Абель. Я оставил его за любимым занятием – собирать чеки. Теперь он простит нам разруху в галерее.
Абель на самом деле пришел в ужас, когда вернулся из Довиля и увидел, во что мы превратили его галерею.
– За тобой ремонт, – обращаясь к Мишелю, сказал Жерар: – И всем шампанского.
– Мне пива, – скромно попросил Мишель.
* * *
Я купил лофт на 20-й улице, потому что обещал Крис чаще бывать в Нью-Йорке.
Крис познакомила меня с детьми, Адамом и Магали. Не могу сказать, что они испытывали ко мне хоть какие-то дружеские чувства, скорее, в их поведении и взглядах чувствовалась нескрываемая недоброжелательность. Они даже не пытались быть вежливыми. Молчаливо разглядывали меня с насупленным выражением лица. Попытки завязать с ними разговор терпели фиско.
В какой-то момент Крис решила переехать ко мне, что делало нашу совместную жизнь проще. Но в то же время, если я прилетал из Парижа в те дни, когда дети находились у меня в лофте, мне приходилось жить в отеле. По американским законам дети не могут находиться под одной крышей с посторонним мужчиной.
В «родительские» дни я пытался увлечься строительством Сигарной комнаты на втором этаже «Русского самовара». У себя в Нормандии, на блошином рынке в Париже, я покупал мебель и посылал ее в Нью-Йорк. Предварительно отреставрировав стулья и кресла, там я патинировал их каркасы, а также панели из дубового шпона для стен. Лева Збарский тоже, казалось, вкладывал все свое неистраченное за долгие годы творческое вдохновение в изготовление бронзовых пепельниц. Он ваял их в огромном количестве где-то на Брайтон Бич в токарной мастерской. Каждая пепельница весила не меньше двух килограммов.
Крис решила подать на развод. До такой степени она ненавидела Менендоса, хотя ставила ему в заслугу, что в начале их отношений он помог ей избавиться от наркотической зависимости.
Пару раз возле моего подъезда я видел человека, как мне казалось, похожего на Менендоса. Несколько раз он звонил. Откуда он добыл мой телефон, я не знал. Может, просто прослушивал ее телефон. Как бы то ни было, моя жизнь в Нью-Йорке стала напоминать мыльную оперу. Я не испытывал страха перед грозным и ревнивым Менендесом, но в глубине души чувствовал свою вину перед ним, перед его детьми.
Все эти неудобства никак не содействовали нашей романтической близости с Крис, а скорее погружали нас в бесконечный калейдоскоп житейского или, как говорят, в прозу жизни.
Я никогда вслух не выражал недовольства. Крис пошла на все эти невзгоды из-за меня. Любая попытка хоть как-то изменить ситуацию была бы с моей стороны равносильна предательству. Поэтому я молча мирился с тем, что происходило. Оставалось надеяться, что Менендос добровольно согласится на развод. Но он был непреклонен, видимо, чувствуя свою силу – и финансовую, и моральную, и правовую. Дети явно были на его стороне.
* * *
В ожидании визы я торчал в Париже. Ее обещали выдать в пятницу, а сегодня четверг. Вчера, наконец, на Мадагаскар улетел Жерар… Туда он отправился вместе с Дарьей, полной тайны и мистики русской девушкой с татуировками по всему телу. Каждый день он часами говорил со мной об этой долгожданной поездке. Иногда уходил за покупками: очками для подводного плавания (Дарья никак не могла выбрать нужный цвет), килограммами медикаментов (они с трудом уместились в один чемодан), плавками, рубашками, шортами, таблетками сеалекса…
Каждый раз Жерар возвращался в «La Palette», где мы сидели с утра, и торопливо информировал меня о том, что сделает в первую ночь. В основном, это, скорее, касалось ее любимой позиции сверху. Читал последнюю SMS от Дарьи (их у него около четырехсот): «Kisses. Kisses. Дарья», и на его лице блуждала счастливая улыбка. «Ты видел? Два раза kiss!» Эта переписка наполняла его жизнь содержанием и ощущением счастья. Я понимающе кивал. Потом он снова вскакивал с места: «Забыл купить что-нибудь от отита. Буду через десять минут». Снова прибегал с кучей полиэтиленовых пакетов, среди которых обозначилась коробка с электробритвой. «А это зачем?» – удивился я. «Это затем, – чуть стесняясь, произнес он, – что хочу побрить задницу, видишь ли, моя Даша любит лизать».
«Тебя ждут счастливые две недели», – улыбался я.
Его сборы были настолько скрупулезны и педантичны, будто он собирался в экспедицию в Антарктику или Патагонию по крайней мере на год. Единственное, что Жерар не брал с собой, – это траву. «Не хочу проблем на таможне». Тем более Ив (его приятель, который, собственно, и пригласил Жерара посетить этот далекий загадочный остров) пообещал, что легко достанет качественную траву там, на месте. Ив отправлялся на Мадагаскар не один, а с женой Матильдой. С ней у Жерара была однажды случайная близость. Правда, Жерар уверял, что об этом незначительном эпизоде можно не вспоминать. «Все произошло так быстро и так неожиданно. Однажды она зашла ко мне в галерею. Устроившись в кресле, она раздвинула ноги, и я понял, что она ждет. Кроме того, это было так давно, что можно сказать, ничего не было. Слушай, я забыл купить крем для бритья. Жди меня, через десять минут я вернусь. И закажи мне антрекот и кружку пива!»
Я смотрел вслед стремительно удаляющейся спине Жерара и поймал себя на мысли, что меня всегда почему-то занимали истории, связанные с людьми, которых я почти не знал.
Я пытался представить Ива и Матильду. Подумал, что, когда Жерар вернется, попрошу рассказать мне о них подробнее. Спрашивается, зачем?
Лет пятнадцать назад, когда Иван Дыховичный был еще жив, он работал в Париже для какого-то французского продюсера над документальным фильмом о серийном убийце Чикатило. В Нормандии, у меня в мастерской, за стаканом водки, он читал мне протокол допроса Чикатило, где следователь подробно описывал место преступления, найденные вещественные доказательства и улики. Описывались найденные тела изнасилованных и задушенных женщин, перечень предметов, обнаруженных рядом с телами убитых.
Сухой язык протокола поражал меня своей краткостью и минимализмом. Отсутствие эмоций, эпитетов, глаголов и прилагательных делало текст протокола настолько драматичным и убедительным, что порой казалось, что ты прикоснулся к высокой литературе.
Я не знаю, что испытывал Иван, читая такие строчки: «Сухова Мария Сергеевна, год рождения 1948, город Сумы. На месте преступления найдена авоська. Содержимое: 200 грамм сосисок, 100 грамм масла, батон, пачка вермишели. Видимо, Сухова возвращалась к себе домой на электричке после скромной продовольственной экспедиции, а Чикатило подстерег свою жертву где-то по дороге от станции, когда она лесной тропинкой шла по направлению к дому».
Мне почему-то хотелось посмотреть на фото Суховой и остальных несчастных, но Иван считал, что это не имеет смысла, ему хватало и перечня содержимого в сумках и авоськах.
Возможно, он прав. Фильма я так и не увидел, он, видимо, застрял где-то на полках у продюсера, или еще что-нибудь произошло, но начало творческого процесса я застал. А любое начало, на мой взгляд, – это наиболее эмоциональный и честный этап творчества, если сравнивать с серединой или финалом. Начало – эйфория, пусть даже она имеет небольшое отношение к объективной реальности, это сумбур полуфантазии, который живет внутри является вашей и только вашей реальностью. Этот сумбур вы не можете разделить ни с друзьями, ни с женами, ни с родственниками. Это ваш, только ваш «secret garden», куда посторонним вход воспрещен и куда вам самому зайти удается не так часто.
* * *
Еще с утра я назначил свидание с фотографом. Я решил сделать снимки фрагментов стен на улицах Висконти и Бо-Арт. Много лет я вынашивал эту идею, хотя не могу сказать, что она была так уж нова. Но, тем не менее, я хотел попробовать. Печатать решил у Бордаса на бумаге или холсте размером полтора на два метра. Я всегда считал старые стены абсолютом нерукотворной живописи. В их поверхности есть необъяснимая магия монохрома и огромное количество информации. При желании ты можешь увидеть на них все, что только пожелаешь. Для этого надо обязательно долго-долго смотреть, вглядываясь в поверхность. Это похоже на вслушивание в стук колес в поезде: когда ты начинаешь различать в этом монотонном ритме ту или иную мелодию.
Вчера ночью получил SMS от Жерара: «Мы в девяноста минутах от лодки, которая доставит нас до места назначения. Все идет по плану, мягко и легко. Дарья как кошка. Я спокоен и доволен. Надеюсь, ты получишь свою визу завтра и вылетишь в Москву. Я уже скучаю по тебе, kisses».
Глава 29
Теперь, когда я пытаюсь вернуться в то время и хоть как-то воспроизвести свое состояние, мне это дается с большим трудом.
Тогда со мной это произошло впервые.
У меня даже не возникло мысли, что что-то можно изменить. Я впал в состояние своего рода гипноза. И только ночью, лежа в номере гостиницы, почти втайне от самого себя, я реально понял размер бедствия и безысходности.
Несколько раз мне удалось слетать с Крис во Францию. Это были дни праздника и тлеющей надежды. Целыми днями Крис, как всегда, висела на телефоне с Нью-Йорком, разговаривая без конца то с Адамом, то с Магали.
Я в мастерской грунтовал холсты, пытаясь не слышать и не воспринимать ее неприсутствие или непреодолимую связь Крис с другим миром, в котором я если и занимал какое-то место, то, по всей видимости, крайнее. В самом себе меня поражало мое смирение. Хотя где-то в глубине души я понимал, что долго мы так не протянем. Что-то должно произойти. И пусть это будет не по моей воле, возможно, и не по воле Крис. В эти моменты я полагался на волю Всевышнего. Я был почти уверен, что Он подождет какое-то время, а потом примет решение и за нее и за меня.
Состояние бездомности и неприкаянности не покидало меня. Впрочем, оно осталось и по сей день. Только раньше оно мучило, а теперь я отношусь к этому спокойно, принимая как своего рода рок. «Wandering Jew», – нередко повторял я мысленно.
Вся моя жизнь в Нью-Йорке вертелась вокруг «Самовара» и моих постоянных спутников – Левы и Ляли. Они довольно ревниво относились к моим частым отъездам во Францию.
– Тебе что, больше всех надо? – спрашивал Лева с раздражением.
– Кого это «всех»? – спрашивал я с ощущением какой-то вины.
– Ну мне, например! – с еще большим раздражением орал он.
– Да, на самом деле мне надо больше, чем тебе, – отвечал ему я уже более спокойно.
На несколько дней наступало охлаждение, потом снова мы возвращались к нашему, назовем его так, мирному сосуществованию.
Кроме «Самовара» я коротал свое время в компании Боба Альтмана. Он был моим островком спокойствия в среде русской эмиграционной коммуны. С ним я ходил на концерты и в театр, что позволяло мне хоть на короткое время отвлечься от моих личных проблем.
С ним я мог поделиться наболевшим, не стесняясь и не опасаясь, что он будет иронизировать. Он был намного терпеливее и тактичнее моих спутников. Но спутники располагали свободным временем, поэтому мне приходилось видеть их чаще, чем Боба.
Большая часть моей нью-йоркской жизни была связана с галереей, с которой я работал, но основное мое время съедала все-таки сигарная комната. Любая стройка связана с бесконечными скандалами и примирениями. Роман нередко ложился в больницу с припадками: то у него болело сердце, то просто расстраивались нервы. Виновником этого часто бывал Лева со своей несдержанностью, которая выражалась в постоянном повышении голоса, а иногда просто в хамстве. Но, как бы то ни было, все свободное время я был вынужден торчать в «Самоваре», закрывая глаза на все.
Как-то утром перепуганная Крис вышла из ванной, держа на ладони свою грудь.
– Посмотри, – глухо сказала она.
Грудь была похожа на опухшую винтообразную гору, которую кто-то пытался выкрутить, но так и не докрутил до конца.
– Ты видишь? – спросила Крис.
Еле сдерживая озноб при виде этого зрелища, я ответил:
– Срочно поезжай к доктору.
Я знал, что Крис несколько раз в году проверяется в клинике, так как у нее находили предрасположенность к онкологии.
– И позвони мне, когда освободишься, – добавил я. – Я буду весь день в «Самоваре».
Работать я не мог и, в ожидании звонка Крис, пытался что-то красить. Шли часы, но она не звонила, минуты тянулись бесконечно. Чем дольше она не звонила, тем сильнее меня била нервная дрожь. Нервное напряжение возрастало, переходя в ощущение наступающей беды. Я несколько раз звонил домой. Никто не снимал трубку. Только шли длинные гудки, которые казались мне гораздо длиннее обычных.
Уже начинало темнеть, но звонка все не было. Только когда я собрался уходить, телефон зазвонил.
– Это я, – упавшим голосом произнесла она в трубку. – Я сейчас заеду за тобой.
Казалось, прошла целая вечность, пока она приехала. Я сел к ней в машину.
– У меня нашли рак, – просто, без пафоса, произнесла Крис.
Мы приехали в лофт.
– Сядь, – сказала она, войдя в комнату.
– Можно я выйду погулять с собакой, она была весь день одна? – попросил я.
Мне надо было побыть одному, чтобы понять, что делать.
Я зашел в «Сильвер Сван» – немецкий ресторан напротив моего лофта. В голову ничего не приходило. Когда я вернулся, Крис продолжала сидеть на том же самом месте у барной стойки в кухне.
– Что-то твоя прогулка затянулась, – сказала она раздраженно. – И после недолгой паузы добавила: – Я возвращаюсь к Роберту и детям.
Первый раз за долгое время она произнесла его имя.
– Он знает об этом? – спросил я, не веря в происходящее.
– Да. Я была дома, и мы обо всем договорились. Я приняла это решение, поскольку не знаю, сколько мне осталось, и поэтому хочу видеть детей чаще. – Снова пауза. – Прости, но я не могу поступить иначе. Она помолчала. – Вещи я заберу позже.
Ни прощальных поцелуев, ни видимых слез. Крис взяла на руки щенка и вошла в лифт.
– Ты можешь звонить, Роберт будет не против. – И захлопнула дверь лифта.
Что было потом, я помню смутно. Кажется, я снова спустился в «Сильвер Сван», но понял, что сегодня суббота. В этот день недели там проходили сборища трансвеститов. Среднего возраста мужики, переодетые в женские платья, снимали ресторан на вечер и проводили время за танцами и пьянкой. Иногда мне нравилось наблюдать за этим необычным зрелищем.
И хотя вечеринки были закрытыми, меня пускали в ресторан и даже сажали за стол. Видимо, привыкли к моему присутствию за долгие годы.
Сидя среди них, я думал о странностях человеческой натуры. Видимо, сегодня наступил тот самый Судный день, Его терпение иссякло, и Он нашел способ закончить нашу историю, которая, казалось, зашла в тупик. Видимо, Он устал наблюдать за нашей обреченной нерешительностью и взял на себя всю вину, чтобы ни Крис, ни я не испытывали это чувство.
Конечно, я еще долго буду переживать за свое мужское эго. Но что такое потеря веры в себя по сравнению с главной драмой жизни и смерти?
* * *
Планета мертвых. Бесконечно уходящий вдаль пляж. Серо-серебристый песок и море. И прогуливающиеся по нему люди. Женщины в нарядных черных или белых платьях, их головы украшены венками из искусственных цветов. Мужчины в нарядных рубашках. Похоже на променад на набережных приморских городов.
Когда я был жив, я часто пытался представить себе потусторонний мир. Он всегда казался мне похожим на пустыню, где редко можно встретить живую душу. Он всегда представлялся мне чем-то воздушно-ватным, царством тишины и покоя. Но я даже не мог себе представить, насколько плотно заселен этот мир. Толпы блуждают по мертвой планете…
Вглядываюсь в эту бесконечную вереницу людей, лювлю себя на необъяснимом чувстве любопытства и нетерпения. Видимо, хочется увидеть кого-нибудь из знакомых. Хотя понимаю, как глупо при встрече, если она произойдет, произнести что-нибудь вроде «рад нашей встрече!», или «как жизнь?», или «ну как дела?».
* * *
В «La Pallette» я обычно прихожу утром гораздо раньше других. Общение с официантами происходит молча. Они, не спрашивая, ставят на стол двойную порцию «Jack», стакан со льдом, бутылку минеральной воды с газом и двойной экспрессо.
Мимо молча проходят персонажи, катя за собой чемоданы на колесах. За их спинами – рюкзаки, куда они идут – одному богу известно. Некоторые, с наушниками на голове, полностью отрешенные от окружающей среды, добровольно погружены в мир звуков и независимое одиночество.
Появился Педро. Поцеловал меня в лоб, как мертвого, сопровождая поцелуй словами «ты очень ранний», и скрылся за углом, видимо, спешил то ли на рынок, то ли в галерею Валуа.
Молча провожаю его глазами, и вспоминаю выставку Фимы «Монумента» в «Гран Пале». Впечатлило его неумирающее желание эпатажа. Самым сложным для Фимы и его супруги было установить свою инсталляцию в интерьере «Гран Пале», который представляет собой законченный шедевр. Как внедриться в него и не дать возможности зрителю сравнивать художественные ценности с привнесенным. От исторического шедевра Фима решил отгородиться высокими стенами гипсокартона, грубо отфактуренными под стены, типичные для Прованса. Километры этих стен погружают зрителя в состояние растерянности, он забывает про «Гран Пале», про Париж – и бродит по «нигде». Белый, вызывающий тошноту лабиринт из белого навоза окружает со всех сторон. Выбраться оттуда помогает план-карта, на которой обозначены входы и выходы, разбросанные по лабиринту. Выходя, приходится нагнуть голову, чтобы не удариться о дверной косяк. В этих деталях весь Фима, скрупулезно, с истовостью ученого-алхимика, безудержно выдумывающий формулу неудобства, формулу идеального эпатажа. Я навсегда запомнил его фразу после одной из моих выставок:
– Ну, показал ты им «кузькину мать»?
– Не думаю, – ответил я.
– Это плохо, очень плохо!
Желание послать всех историков и любителей искусств – заветная мечта любого мало-мальски зрелого художника. Но редко кому удается это осуществить, а Фима в этом преуспел. И преуспел не случайно Он выбирал в жизни рискованную дорогу, используя довольно жесткую, почти тоталитарную манеру взаимоотношения с толпой. Зрители, как под гипнозом, перемещались от одного объекта к другому, пытаясь понять и осознать, что же это, что же хотел сказать этот инопланетянин. Но Фима не так прост, он недоступен, он не из тех, кто заигрывает с толпой. «Кто вам сказал, что я хочу вам что-то сказать?» Фима уже давно гордо молчит. И предлагает только тишину. Тишину перед монументом, который вызывает у толпы только желание пасть на колени и молиться, как у язычников перед смастыренным из глины богом.
Здесь вы блуждаете по своего рода кладбищу среди могил великих магов-творцов, исследователей космоса, творцов будущего Родченко, Малевича… Фимы. И совсем неважно, откуда мы: из Витебска или Днепропетровска, Харькова или Бердянска.
– А как вы относитесь к «Черному квадрату» Малевича?
В эпоху революции они были строителями революционных трибун, художниками-оформителями праздников, шествий, истовыми популяризаторами революции. Их основная концепция заключалась в разрушении старого буржуазного искусства и создании нового искусства революционно-народного.
Подумайте, зачем? Чтобы не было даже малейшей возможности сравнить «Черный квадрат» с «Мадонной» или башню Родченко с Пизанской башней.
* * *
К восьми должен подойти Жерар. В последнее время его мир настолько замкнут на бесконечной эйфории по поводу самого себя и своих внутренних переживаний, что его собеседнику остается только слушать. Свои короткие фантазии, связанные с физиологическими функциями или эротическими фантазиями, рано или поздно он старается осуществить. Это меня не раздражает, его открытость и беззащитность вызывают у меня снисходительную улыбку.
Возможно, от жары или просто оттого, что я мертв, все вокруг выглядит таким ничтожным. Тогда почему я ощущаю какую-то причастность к тому, что происходит, когда я уже давно в потустороннем мире? Может, они правы, что не считают меня умершим.
Мой Париж постепенно исчезает. А вместо него – чужой, незнакомый мне город. Его населяют совсем другие люди. А тех, которых я знал давно, переселились в мир иной. Теперь там живет Альдо, его ангельская жена Пеп, Шура и Нина Шик, Кружье и много-много других. Их нет, из-за этого и город мне кажется другим.
Вглядываясь в воспоминания о городах, странах и бесконечную вереницу людей, я, как дезертир, отсиживаюсь в кафе. Ловлю себя на необъяснимом чувстве любопытства и нетерпения.
В мастерской Майкла меня ждут два больших литографских камня. Получаю удовольствие от поливания их тушью. Наблюдаю, как плохо смешивающиеся жидкости – вода и ацетон – образуют неконтролируемую рябь на поверхности камня, давая эффект естественной непредсказуемой случайности. Эти случайности гораздо ближе к живописи и правдоподобности. Эффект нерукотворности всегда ближе к правде.
В живописи вообще нет ничего материально-реального. Живопись – иллюзия. Именно иллюзия и является реальностью. Весь фокус заключается в создании ее. И главная трудность кроется в переводе трехмерного пространства, где есть и вода, и земля, в плоскость.
Мастерская Майкла завешана подошвами, принтами размером в метр, а то и два, на которых одна, максимум две линии или стоит несколько точек.
– А это кто? – спрашиваю я Майкла.
– Important корейский минималист! – загадочно улыбается Майкл. «Тебе, наверное, этого не понять», или, может, «вот до чего мы дожили», – кроется в его улыбке.
В атмосфере мастерской Майкла есть что-то от кружков «Умелые руки» в Доме пионеров, где так называемые арт-объекты обязательно развешивают по стенам. И все они вызывают чувство стыда.
Я вылил еще одну последнюю тарелку туши на литографский камень, и пока она медленно разливалась, оставляя замысловатые узоры на его поверхности, закурил.
Мастерская Майкла полна народа. Это молодые ассистенты-печатники. Все они заняты чем-то. Художников только двое – ирландец преклонного возраста, и я.
Ирландец передвигается медленно, как в рапиде, сильно прихрамывая. На лице – доброжелательная улыбка. Видно, доволен результатом работы. Ему ассистирует девушка, которая, напротив, двигается с какой-то необыкновенной скоростью. Они оба охвачены понятной только им двоим эйфорией, печатая монотипии. Их сотни с изображением двух абстрактных форм, напоминающих то ли подошвы мужского ботинка, то ли стельки для него. Розовые, зеленые, фиолетовые. Меняется только цвет стелек и фона. После каждого прогона она поднимает принт высоко над головой в ожидании реакции мастера. И каждый раз он с готовностью благодарного зрителя одобрительно кивает головой. Она тут же прикрепляет принт прищепками на веревку у стены.
Что-то странное есть во всей этой игре в «высокое искусство».
Глава 30
«В настоящий момент абонент недоступен…»
Когда я слышу голос оператора, не живого оператора, а запись его голоса, меня охватывает паника. Особенно если ты звонишь безостановочно, в течение всей ночи. К тому же если человек, которому ты позвонил, обещал перезвонить тебе в течение пяти минут. Ты понимаешь, что в этом есть элемент преднамеренности. Если же нет, то начинаешь искать другие причины, например несчастный случай, у него или у нее кончились деньги, он или она не хочет говорить с тобой. Первое, что приходит в голову, – это измена. Она или он в постели с ним или с ней. Особенно если знаешь, что недоступность телефона – следствие нескольких часов, проведенных на дискотеке или в ночном баре. А может быть, кончились на телефоне деньги?
Ты звонишь в 8.20, желая проверить, что с телефоном. Да, не хватает средств после проверки, отвечает оператор. Ты пополняешь счет и, наконец, слышишь ее или его голос, который говорит, что безумно хочет спать, так устал. Голос звучит довольно фальшиво. Измена… Ревность… Как это рождается? Как мы переживаем это? Все напоминает ожидание собственной смерти, да и смерти, твоего уже бывшего любимого или любимой. Наиболее ярко это пережил Арбенин в «Маскараде». Он почти потерял рассудок, и ничто не могло его остановить от жажды возмездия. Арбенин убивает Нину, которая была его ангелом, ради которой он практически существовал на этом свете. Ее смерть была его самоубийством. Ведь Нина для него не просто жена, с которой живут в силу привычки, погружаясь в рутинное семейное сосуществование, а нечто возвышенное, бесконечно любимое. Нина его все – и исповедник, и дитя, и нечто святое и чистое. Будучи человеком уставшим, потерявшим интерес к людям, только в Нине видел Арбенин олицетворение самого редчайшего качества – отсутствия даже малейшего намека на порок или неверность. Только такой циник, как он, мог по-настоящему оценить ее исключительную чистоту.
Когда мы наделяем любимых людей исключительными качествами, мы тем самым в какой-то степени, почти бессознательно, сдаемся им в плен. Мы добровольно хотим на них молиться и становимся их рабами. Однажды я написал стих – как бы мне хотелось сдаться в плен любимой женщине, преклонив перед ней колени, найти в ней и женщину, и друга.
Парадокс заключается в самой простой и банальной истине: когда все говорят о желании быть свободными, я предлагаю абсолютное счастье быть пленником и находить наслаждение в рабстве. Когда у тебя нет выбора, ведь ты уже выбрал, и выбрал добровольно. И что бы ни произошло с тобой позже, это не имеет никакого значения. Во всем этом есть довольно большая доля фатализма. Но в то же время добровольное рабство подразумевает и выбор хозяина. И роль хозяина становится настолько безвыходной, что он сам, в свою очередь, становится еще большим рабом. На нем лежит тяжелейшая ответственность за своего пленника. Они повязаны или связаны на всю оставшуюся жизнь. И тот, и другой лишены возможности нарушить эту связь. Пожалуй, это случится только в случае смерти одного из них или смерти обоих. Поэтому Нина, в данной ситуации, практически обречена. Да и Арбенин тоже. Тем более что мы рассматриваем не жизнь на необитаемом острове, а жизнь среди так называемого трайба, то есть группы людей, что раньше условно обозначалось как общество.
Как выжить в обществе, которое кишит пороками? Зависть, неравенство, обман, борьба за первенство, месть, ревность, подлость – список можно продолжать бесконечно. Как суметь не нарушить клятву верности? Часто под любым предлогом приходится отказываться от роли хозяина, боясь ответственности за желающих сдаться в плен. Эта длинная очередь из страждущих, которые потеряли надежду на роль хозяев. В наше время характер и специфика чувств остались прежними, но формат и форма возмездия за измену чуть видоизменились. Во всяком случае, среди арбенинского круга.
Я имею в виду так называемых людей более-менее цивилизованных, а не ребят простых, которые бьют в «табло» без предупреждения и долгих выяснений обстоятельств. А противоположный пол строгает доносы-письма в полицию или на место работы гражданина Отелло.
Ну, а что делать нам? Как выжить, попав в подобную ситуацию? Быть выше этого. Закрыть глаза, приподняться над своим собственным эго и произнести с грустной интонацией: «Если это случилось, то мы оба виноваты». Что, в принципе, недалеко от истины. Но затем следует обряд своего рода прощения грехов.
Что же это за чувство ревности? Какова его природа? И почему оно рождает смятение и ужас в наших душах? И почему мы испытываем бессилие перед ним? И только одно лекарство способно ослабить нашу боль – время и, в какой-то степени, память. Вернее, когда остается только память о боли. Боль только мерцает где-то далеко-далеко. Ты стараешься приблизиться, чтобы рассмотреть ее, но она только тает вдалеке и вскоре становится совсем неосязаемой. На смену приходят мысли об одиночестве, а за ними пустота или совсем другой мир, в который я безуспешно пытаюсь проникнуть.
Он, этот мир, не впускает в себя так легко каждого. Чтобы попасть в него, необходимо испытать все – и любовь, и ревность, и одиночество. Бедность и богатство, скитание и покой. И когда ты слышишь в трубке «абонент недоступен», у тебя не возникает внутренней паники, ты решаешь, что все хорошо, и стараешься насладиться магическим чувством одиночества. У тебя нет ни обязательств перед кем-то, ни прав на кого-либо, а у них – на тебя. Практически ты не существуешь. Тебя просто нет. Но это внутри, снаружи у тебя совсем другое обличие, своего рода образ. Образ живого человека. Но внутри иное «Я», скрытое от глаз посторонних и даже близких людей. Эти двое – внутренний и внешний – живут вдвоем, как сиамские близнецы, беспрестанно беседуя друг с другом. Это совсем не значит, что их диалог кому-то интересен, кроме них самих.
У них свои личные проблемы и счеты.
И чем дольше они живут на этом свете, тем их диалог тише. Потом наступает полное молчание, хотите – назовите это смертью. Во всяком случае, лично я возражать не буду, хотя и утверждать тоже не могу. Это только одна из возможных моделей, а их тысячи – моделей устройства нашего мира.
* * *
Позвонил Жерар, он вернулся с Мадагаскара.
– Абель в коме, – сказал он хриплым голосом, – врачи дают ему не больше двух дней… Это не сердце, отказал мозг. Видеть его в таком состоянии не могу. – Вот и все, что успел сообщить он, прерывая рассказ бесконечными паузами, когда затягивался травой.
Связь была плохая, поэтому я слышал только фрагменты его монолога. Как Жерар сможет существовать без отца, я себе плохо представлял.
Ловлю себя на грустной мысли, что наступил период жизни, когда у меня практически не осталось никого, с кем бы я мог говорить по телефону. Все куда-то подевались, только Жерар и Юрка Ващенко, мой спутник, пожалуй, начиная с далеких и полузабытых юношеских лет, еще со времен Веры Яковлевны и института. Он выделялся среди остальных, в нем была легкая загадочная мягкость и тихий голос.
Я вообще заметил, что всегда питал симпатию к говорящим тихо. Мне казалось, это говорит о наличии такта, тонкости и ранимости. Впрочем, Юрка таким и был. Мы жили каждый своей жизнью, у каждого из нас были свои друзья, которые никак не пересекались между собой, но при этом мы испытывали обоюдное любопытство друг к другу. Юрка играл в моей жизни, в какой-то степени, роль духовника. И в самом деле, он никогда не участвовал в моих пьянках, да и вообще избегал светских тусовок, предпочитая видеться со мной тет-а-тет, что меня вполне устраивало. В те далекие годы мы встречались у него дома или в ближайшем кафе, позже – у меня в мастерской или в ресторане. Юрка всегда наслаждался видом белых скатертей.
Где-то глубоко в душе он всегда был склонен к консервативной семейной жизни с ее укладом и традициями – сборищем родственников, свадьбами сына, дочери, посещением кладбищ, строительных и продуктовых рынков. Да и сам он, видимо, не подозревая, выглядел этаким идеальным семьянином. Он женился еще во времена учебы в институте. С тех пор, если верить Юркиным рассказам, вся организация жизни его многочисленной семьи лежала и лежит только на нем. Как у всех семейных пар, с годами разница полов постепенно стирается, исчезают эмоциональные и интеллектуальные разногласия. На смену им приходит плюрализм как самая удобная форма сожительства. Без него семейные пары уже давно бы перегрызли друг другу глотки.
У Юрки, на первый взгляд, все эти типичные для совместной коллективной жизни трудности как-то были решены или решались на ходу. В самые критические моменты он уходил в духовную эмиграцию, к себе в мастерскую, расположенную в трех минутах ходьбы от его староарбатской квартиры.
Я бы отнес его к наиболее редкой категории художников – честных, верных и преданных своему миру. Его рисунки поражают своей многодельностью. В них столько касаний пера, что, разглядывая эту поверхность, незаметно впадаешь в состояние легкого гипноза. Он как бы исподволь заставляет любоваться самим процессом, своего рода путешествием черной туши по белому листу. Это и есть, пожалуй, основной отличительный признак мастера – способность увлечь зрителя, погрузить его в свой мир иллюзий и чудес, превратить черную тушь во что-то, что заворожит зрителя.
Что касается его супруги, то она для меня так и осталась симпатичной улыбчивой девочкой с косой и челкой. Правда, теперь она выглядит отстраненно-чужой. После посещения спектаклей, концертов или кино она повторяет одно и то же заготовленное резюме: «Немного затянуто», чуть-чуть нараспев, имитируя некое раздумье или затруднение в поиске слов для того, чтобы дать оценку только что увиденному. Я давно заметил, что Юрку это совсем не напрягает, более того, он этого не замечает. Что касается меня, я практически не пересекаюсь с ней, только когда говорю по телефону. «Как дела?» – обычно спрашивает она меня с пионерским энтузиазмом. «Ничего» или «нормально», отвечаю я, в ожидании информации о моем приятеле. «Почему у тебя всегда все нормально?» – «Это некая условность, – объясняю я. – А ты что хочешь? Чтобы я грузил тебя своими проблемами?» – «Твоего приятеля нет дома. Поехал на рынок покупать линолеум для кухни. Будет не скоро. Звони», – и кладет трубку.
На мой вопрос: «Почему ты должен ездить на рынок покупать хозяйственные принадлежности, тебе что, делать нечего?» – Юрка недоуменно отвечает:
– А кто кроме меня?
– Твой сын, жена или дочь.
– Нет, нет, дорогой. Жена все перепутает. Ты знаешь, она совсем не приспособлена к жизни. Арсений занят подготовкой к свадьбе. А Ирка вообще погрязла в детях и в храме.
У нее нет свободной минуты.
На меня у Юрки тоже не хватает времени, поэтому наши встречи стали довольно редкими. Но как бы там ни было, я всегда с нетерпением жду их, так же, как и наших утренних разговоров по телефону. Юрка в какой-то мере заменяет мне Митю.
Я слышу, и довольно часто, вопросы о зрителе. «Когда вы работаете, думаете о зрителе или абсолютно для себя?» или «Имеет ли для вас значение мнение публики?» Такие вопросы мне кажутся неточными и несколько наивными. Художник не может иметь в виду абстрактного зрителя или абстрактную толпу. Невозможно думать о мнении большинства, это не телевизионный формат. В лучшем случае ты выбираешь в зрители всего несколько людей, близких тебе по группе крови и по профессиональным признакам. Это небольшая группа людей, их можно пересчитать по пальцам. Юрка Ващенко, безусловно, является моим главным зрителем, надеюсь, как и я для него.
Я всегда остаюсь верным и Митяю, независимо от его местонахождения, в этом или ином мире, для меня это не представляет принципиальной разницы. Часто во время работы я думаю: «А что бы сказал Митяй?» – и мысленно улыбаюсь, догадываясь о его реакции. Еще я вспоминаю Яна Кружье. Безусловно, его экспертиза была не настолько конструктивна и точна, как Юркина или Митяя, но среди маршанов он был, пожалуй, самым продвинутым.
Если говорить о Юрке, наши беседы о живописи не главная причина нашего общения.
Юрка представляется мне религиозным аскетом-мечтателем, он – глубоко верующий человек. Его православие настолько личное, оно спрятано очень-очень глубоко, и эту тему я стараюсь с ним не обсуждать, так же, как и его интимную жизнь, которую он мягко приучил меня не трогать. Хотя мою мы обсуждаем довольно свободно, выстраивая всевозможные модели отношений с участницами моего воспаленного воображения.
Я назвал это воображением, потому что в основном, это не столько связано с реальностью, сколько с тем, что мы бы хотели принять за реальность. Поэтому все эти разговоры похожи на философские дискуссии ученых-схоластов, заканчивающиеся обычно выводом «поживем – увидим». Но даже это не приближает нас к истине. Я думаю, мы с Юркой научились получать удовольствие от обмена моделями, которые нам кажутся возможными, хотя…
Впрочем, главным фактором является наша близость, которая насчитывает годы и порой кажется вечностью.
Глава 31
Я не могу вспомнить точно, сколько времени после своего исчезновения Крис мне не звонила. Может месяц, может, больше. Но как-то в один из пасмурных нью-йоркских вечеров я снова услышал ее голос. Она звонила из госпиталя, где ей сделали операцию.
– Как ты? – спросила она мягким бархатным шепотом.
– Что я могу тебе сказать?.. – ответил я, растерявшись от неожиданности.
Крис подробно проинформировала меня о своей реабилитации, перечисляя имена врачей – специалистов в области онкологии.
– Ты даже можешь меня навестить, если у тебя будет время, – сказала она.
– Когда? – спросил я.
– В любой день, только предупреди меня заранее. Я не хочу, чтобы ты столкнулся с Робертом.
«Какая трогательная забота», – отметил я про себя, но промолчал.
Этот месяц после ее ухода от меня я прожил в каком-то странном состоянии молчаливой депрессии. Пытался найти убедительное оправдание и для себя, и для нее. Но постепенно устав от этого, просто заставил себя не думать и не вспоминать. Не могу сказать, что мне это удавалось, но я чувствовал, что на смену ознобу наступило тупое безразличие ко всему происходящему. Меня больше беспокоило то, как она борется за жизнь.
И теперь, когда я услышал, что операция прошла удачно, что мистер Сандельсон – лучший специалист в Нью-Йорке, а Роберт сделал все возможное, чтобы заполучить его, что третья стадия онкологии груди не смертельна, – я как будто возвратился в жизнь.
– Я думаю о том, что когда выйду из клиники, ты пригласишь меня на ланч, – вдруг произнесла Крис.
– И что? – спросил я.
– Хочу знать, заметишь ли ты, что у меня нет груди. Имплант будут делать чуть позже, – добавила она.
– Ты хочешь отложить ланч до лучших времен или что?
– Не иронизируй, – снова мягко произнесла Крис.
Но, положив трубку, я снова возвращался к раскопкам памяти, хронологии событий, предшествующих драме, анализируя мелочи вплоть до интонации ее голоса.
Я не знаю, что это было: попытка как-то загладить вину или просто оставить мне что-то наподобие надежды на будущее. Впрочем, это было не так уж важно. Я только знаю, что ее шепот по телефону каким-то непонятным образом погрузил меня в состояние относительного покоя. И если двери лифта, закрывшиеся за ней, как бы символизировали своего рода конец наших отношений, то ее звонки из клиники давали надежду, что это еще не все, что это не конец, а, скорее, переход к чему-то другому, хотя к чему, было совсем не ясно. И тем не менее эта неясность действовала на меня болеутоляюще. Драма превращалась в мелодраму, в возвращение к жизни с ее компромиссами и борьбой за выживание, где каждый из участников исполняет свою роль по сценарию, написанному рукой неизвестного автора, который не смог или по какой-то причине не успел дописать финал.
Поведение Крис, назовем его слегка застенчивым приглашением к продолжению отношений, – давали мне возможность звонить ей домой.
Когда Роберт снимал трубку, в его голосе не чувствовалось ни малейшей доли недовольства, скорее, наоборот, он был очень приветлив. Казалось, что он даже рад слышать мой голос.
– А, Дитин… How are you? Сейчас, одну минуту.
Затем я слышал:
– Крис, возьми трубку.
Видимо, он был рад, что все разрешилось таким мирным способом и ему не надо никого убивать и тратить деньги на бракоразводный процесс. Да и у детей опять была нормальная семья.
Однажды Крис позвонила и сказала, что у нее ко мне просьба.
– О чем ты просишь? – с любопытством спросил я.
– Нет, ты сначала пообещай, что не откажешь.
– Обещаю.
– Дело в том, что Роберт подозревает, что мы якобы продолжаем находиться в близких отношениях. Поэтому он хотел бы, чтобы ты пригласил нас на ужин в его любимый ресторан «Veritas».
В то время этот ресторан был очень модным и находился напротив моего лофта.
Мы договорились встретиться на следующий день. Сказать честно, я не был в восторге от такого предложения, но отказать не мог.
В этом была какая-то неловкость, или, можно сказать, дурной тон, а может, просто трусость.
Они пришли точно в назначенное время.
Крис была в темном вечернем платье, да и Роберт выглядел безукоризненно в черном элегантном костюме, белоснежной рубашке и шелковом красном галстуке. Было видно, что они тщательно готовились. Я старался, как мог, играть роль гостеприимного хозяина. Даже позволил Роберту выбрать вино, сказав при этом, что полностью полагаюсь на его вкус.
Крис без конца улыбалась, правда, больше Роберту, чем мне, но я относился к этому с пониманием: ситуация была для Крис сложной.
Я просто отметил для себя этот факт, но меня он совсем не напрягал. Скорее, наоборот, я видел в ней в какой-то степени соучастницу в спектакле, на который Роберт так хотел попасть. Но по ходу нашего довольно длинного вечера Крис явно стала слегка переигрывать. Она даже произнесла тост за своего героя, называя так Роберта. Тост заключался в признании его прекрасных человеческих качеств, его силы и надежности в трудные минуты жизни.
Роберт, в свою очередь, пил за мужество Крис, за ее, несмотря на испытание, не исчезнувшую красоту.
После второй бутылки он начал все больше и больше говорить о себе, о своем влиянии в артистическом мире.
– Ты можешь обратиться ко мне с любой просьбой. И будь уверен, что я помогу тебе. Не стесняйся! – довольно громко вещал он.
Крис в свою очередь кивала, как бы в подтверждение его слов.
Я чувствовал, что участвую в неком спектакле, где актеры произносят одну фальшивую реплику за другой. Невольно вспомнились Станиславский и брат Чехова. Мне стало неловко и за себя, и за Крис, и даже за Роберта-Менендоса…
* * *
В одну из наших редких прогулок мы с Митей «беседовали», это его слово, о Монтене.
Он говорил о добровольном желании человека отказаться от какого-либо сопротивления, не думая и не сожалея о последствиях своего поступка. Сдаться на милость судьбы.
Причина, из-за которой он, собственно, начал свой монолог, была моя история с Крис. Митя никогда не видел ее и даже не подозревал о ее существовании. Поэтому, когда я попытался в сжатой телеграфной форме посвятить его в свою драму, которую мне пришлось пережить и которой я, возможно, живу до сих пор, он, со свойственной ему вкрадчивой мягкостью, прервал мой монолог.
– Все, что ты чувствуешь, находясь в состоянии смертельной боли и страдания, происходит оттого, что тебе кажется, что такое могло случиться только с тобой. Глубина твоей боли усиливается потому, что она кажется тебе исключительной. И ты единственный ее избранник, – сказал Митя. – Но это только в силу твоей темноты, а вот если бы ты читал Монтеня, то открыл бы для себя неожиданный факт, и факт этот заключается как раз в том, что, испытывая боль, ты не являешься исключением. Эту боль пережили тысячи людей. То, что происходит с тобой, как тебе кажется, единственным, настолько банально, что мне ничего не остается, как только рассказать одну историю из произведений моего любимого философа.
В некотором царстве, в некотором государстве, – начал он, предварительно раскусив кусочек сахара, – жил да был человек. Он был единственным государственным преступником, за голову которого было обещано огромное количество денег. Я не помню, что это было: гульдены или фунты, возможно, франки, в конце концов, это не имеет большого значения. Важно, что преступником он был с самого детства и дожил до глубокой старости, не будучи пойманным. Последние годы жизни он скрывался в старом шато вдалеке от Парижа. Ты меня слушаешь?
Это был его обычный прием, которым Митя пользовался, чтобы слушатель не потерял интерес к его монотонному и ленивому повествованию, изредка прерывающемуся хрустом или чмоканием.
– Так на чем я остановился? Короче, наш герой имел привычку каждое утро совершать конную прогулку по проселочным и лесным дорожкам недалеко от своего старинного шато. В одну из таких прогулок он рысцой объезжал окрестности, как вдруг услышал вдалеке стук копыт. Обернувшись, преступник увидел кавалькаду, скачущую галопом. Он понял, что это за ним, и тоже послал свою лошадь в галоп. Но погоня приближалась с каждой минутой. Еще чуть-чуть, и его схватят. Он сознавал, что это конец. Но продолжал скакать по лесной тропе вдоль непроходимых кустов и высоких деревьев, безжалостно нахлестывая лошадь. Вдруг за резким поворотом увидел незаметный проем в плотном кустарнике и, не раздумывая, юркнул в него. Спрыгнув с лошади и положив ее на землю, он затих в высокой траве, понимая, что это его последний шанс на свободу. Затаив дыхание, он слышал, как кавалькада, не заметив его, проскакала мимо. И в ту же секунду вместо радости почувствовал необъяснимую панику. Преступника обуял страх, что и на этот раз он останется не пойманным. Не раздумывая и не отдавая отчета в своих действиях, он выскочил на тропинку с криками: «Я здесь! Я здесь!» Услышав истошные вопли, преследователи вернулись, надели на несчастного наручники и отвезли в город, где вскоре казнили. Мораль заключается в простой истине. Мы все хотим быть пойманными – одни раньше, другие позже. И твоя, как ее, Крис? – твой единственный выбор, та, кому бы ты хотел сдаться. Но, увы, она проскакала мимо, видимо, не услышав твоего призыва: «Я здесь! Я здесь!» Теперь тебе придется поискать для этой же цели другую.
* * *
Было такое чувство, что я проглотил битое стекло. Я даже помню, что это было не обычное стекло. Нет, это были куски толстого стекла, похожего на хрусталь или баккару. Как осколки бокала для абсента. И во сне я пытался выплюнуть их, но они, как гирлянда, которую вытягивают фокусники изо рта, появлялись и появлялись. Это была бесконечная вереница осколков.
Даже уже проснувшись, я продолжал чувствовать их во рту. И только подойдя к умывальнику, чтобы выплюнуть остатки хрустальных осколков, я понял, что это был сон. Я еще долго стоял перед зеркалом, глядя на свое отражение. На меня смотрело небритое испуганное лицо почти незнакомого мне человека. Я отпил холодной воды из-под крана. В глубине мастерской разрывался телефон. Звонил долго. Кто-то упрямо и терпеливо настаивал на ответе.
Я снял трубку.
– Прости, что так рано. Сколько у вас? – Это была Коринн, падчерица Альдо.
– Не знаю, – ответил я растерянно. – Что-то случилось? – Я не помнил, когда она звонила мне последний раз. Может, год, может, полгода назад.
– Умер Альдо. – Она произнесла это коротко, без драматизма и вообще какой бы то ни было эмоции. Сухим тоном телеграммы. Помолчав, добавила: – Ты прилетишь?
– Конечно, – не задумываясь ответил я.
Потом я долго сидел на диване, тупо разглядывая эскизы к сцене самосожжения в «Хованщине», над которыми работал уже почти год. Режиссер мягко требовал все новых и новых вариантов. Все мои творческие проблемы показались вдруг такими нелепыми и мелкими. И образы староверов с крестами, которые они жгли, и образ Марфы.
Даже проблемы с Шурой, которая спала в соседней комнате. Последнее время она стала уделять большое внимание новым тряпкам, которые скупала в невероятном количестве. Это было похоже на манию. Целыми днями Шура сидела за компьютером, писала письма. По вечерам стояла подолгу перед зеркалом. Она собиралась в поездку на театральный фестиваль. Просила меня помочь с французской визой.
Шура здорово изменилась. И я чувствовал, что в ее жизни что-то произошло. Но мне почему-то не хотелось ни задавать вопросов, ни выяснять отношений. Как-то было до фонаря. Поэтому я легко и не без удовольствия решил плюнуть на все это и полететь в Париж, чтобы проститься с Альдо.
И это показалось гораздо важнее, чем мелкая возня с чужими проблемами. «Улечу сегодня вечером», – подумал я. И стал звонить, чтобы заказать билеты.
Глава 32
То, что я сейчас чувствую, похоже на состояние ребенка, наблюдающего, как рушится карточный домик, который он терпеливо складывал уже несколько дней. Хотя в моем случае это не дни, а годы. И если раньше рушилась часть конструкции, то теперь я с тихим ужасом осознаю, что валится все. Причем странно, но я не пытаюсь остановить это падение. Когда-то я испытывал приятное чувство, создавая эту грандиозную конструкцию, теперь, с неестественным безразличием, наблюдаю за ее падением. Как вуайер, который подсматривает в замочную скважину за тем, что происходит за дверью.
Окно, из которого я смотрел на траву, покрытую ковром осенних пожухших листьев, белый дощатый забор, белую беседку и такую же белую скамейку – на то, что осталось от мира реального в моей памяти, – это и есть мир, потусторонний и незнакомый, в котором я существую сегодня.
Незнакомая кухня цвета шоколада, кафельный пол, холодильник фирмы «Indesit» – дом, который совсем не похож на мой дом в Нормандии или мой бывший лофт в Нью-Йорке, не вызывает у меня раздражения: какая мне разница теперь, когда меня нет?
Все во мне онемело, как при анестезии, когда не чувствуешь острой боли. В этом состоянии невозможно думать ни о чем. Скучать по близким людям не дано. Видимо, умершие не скучают. Они живут одиноко, наслаждаясь, как могут, полным забытьем, и день за днем повторяют, как молитву: я один, и мне хорошо одному. Многие хотели бы оказаться в твоем положении, но они еще живы и скучают то по одному, то по другому.
По вечерам я смотрю в окно. В нем ничего нет – только отражается мой вечер и мое одиночество.
Иногда я испытываю желание позвонить Ващенко или Красило. Не потому, что скучаю, а просто чтобы услышать знакомый голос. Надо хоть с кем-то иногда говорить. Митя давно не появлялся. Надо самому пригласить его на прогулку. Может, на этот раз ко мне, в мою кухню – посидеть и что-нибудь выпить. Кстати, он любил выпивать, когда был жив. Причем на вопрос «что будешь пить?» – всегда застенчиво улыбался и говорил тихо: «Да все». Поэтому перед ним всегда стояли и рюмки с водкой, и бокалы с вином, белым и красным, и пиво. И он похлебывал то одно, то другое, как будто клевал, опуская свой большой, с горбинкой нос в содержимое рюмок и бокалов. И если кто-то, заметив его безразборщину, удивленно спрашивал: «Как вы можете мешать пиво с вином?», он добродушно улыбался и говорил: «Вот так!», демонстрируя это наглядно. Думаю, его скорее интересовал результат, чем процесс. Митя хотел просто быстрее опьянеть – в этом состоянии он чувствовал себя уютно. Становился застенчивым и добрым, цитировал Монтеня и продолжал клевать спиртные напитки. Даже водку он пил медленно, причмокивая при каждом глотке. Я ни разу не слышал от него: «Хорошо пошла» или «Какой интересный букет». Клевал он молча. Чем больше я думаю о Мите, тем больше сомневаюсь в том, что ни по кому не скучаю. Но должны же быть исключения.
А теперь лучше уснуть, укрыться одеялом и попытаться что-нибудь вспомнить из прошлой жизни, когда я был еще в состоянии скучать.
* * *
Несколько дней назад случайно встретил Коринн, дочь Пэп и падчерицу Альдо. Она торопливо шла, почти бежала в сторону набережной. Увидев меня, – я сидел в «La Palette», думая о странном поведении Жерара, – она улыбнулась. Похоже, радость встречи была искренней.
– Это ты? – спросила она удивленно.
– Возможно, – ответил я. – Может, присядешь?
– Ненадолго. Я бегу на выставку Пикассо у Лебука, просто хотя бы отметиться. Ну а потом, если ты свободен, можем поужинать.
– Выпьешь чего-нибудь? – спросил я.
– Ну, бокал шампанского.
С выставки Коринн вернулась довольно быстро.
– Где мы ужинаем? – спросила она, присаживаясь за стол.
– В «Липпе» подходит?
Я не видел ее со дня кремации Альдо. Что-то наподобие наших поминок проходило в небольшом кафе, расположенном рядом с крематорием. Был пасмурный осенний день. Накрапывал дождь. Собравшихся было не много, но поскольку кафе оказалось тесноватым, то все сидели прижавшись друг к другу.
Художников было только двое – Джим Дайн и я, остальные – близкие друзья и родственники. Кого-то я смутно помнил, некоторых видел впервые.
Я прилетел из Нью-Йорка. В тот момент после тазобедренного перелома я передвигался при помощи костылей. Их наличие, очевидно, обращало на себя внимание.
Коринн посадила меня за свой стол, где они сидели рядом с Катрин.
– Ты что, больше не куришь? – спросила Катрин.
Я достал мятую пачку «Мальборо».
– Выйдем на улицу, я бы тоже покурила, – сказала она, сопроводив приглашение мягкой улыбкой.
На улице мы молча закурили. Я не знал с чего начать. Кроме банального «Как ты?» ничего не приходило в голову. Мы вернулись в кафе. Перед тем как войти в зал, она сказала:
– Не пропадай, звони, когда будешь в Париже.
Так говорят, когда не знают, что сказать.
А может, мне ее равнодушие только показалось. Я вообще редко вникаю в смысл стандартных фраз, он почти всегда очевиден. Труднее понять, почему нам говорят те или иные слова.
Потом подали еду. Салат оливье, ветчину. Есть совсем не хотелось. Я просто пил, стараясь не встречаться глазами ни с кем из собравшихся. Да и с Катрин тоже, хотя ее глаза излучали нечто похожее на нежную грусть. Она потягивала белое вино.
Джим Дайн долго произносил свой спич. Он говорил на английском. Думаю, что большинство собравшихся постепенно теряли интерес к его монологу, тем более что принесли горячее.
Я часто думаю о тех, кого мы теряем. Почему мы бежим от людей, с которыми могли бы связать свою жизнь? Что нас пугает? Раньше, в эпоху шестидесятых, это называлось профсоюзом. «Это не мой профсоюз», – часто говаривал Кирилл, когда очередная «она» не вызывала в нем любопытства.
Здесь, сидя в этом кафе на прощальном ланче с Альдо, я почему-то думал о театре Арджентина в Риме, на сцене которого состоялась премьера спектакля Никиты «Платонов» с Марчелло Мастроянни.
Катрин, Альдо, Пэн и Коринн были моей группой поддержки. Во всяком случае, мне хотелось так думать.
Я встречал их в фойе. Они все выглядели, как какие-то сказочные персонажи, прилетевшие из другого мира. Все в них мне казалось неземным. От них исходило если не сияние, то нечто, что Митя называл божественным.
Катрин была в черной шубе а-ля рюс из каракульчи.
– Это для тебя, – бросила она, снимая медленным движением пояс.
Я проводил их в ложу, а сам пошел к осветителям. Сидя там, смотрел не на поднимающийся занавес, а на них, мерцающих в угасающем свете начинающего представления.
На сцене появился интерьер дома Генеральши. Вернее, он еще только угадывался. Где-то в углу в маленькой детской кровати просыпался мальчик. Косой луч прожектора освещал только его кроватку. И вдруг откуда-то с крыши дома, там, где я построил голубятню, сорвалась стая голубей, которые полетели по всему залу. Это было незабываемое зрелище.
Зал от неожиданности пришел в неописуемый восторг. Сделав несколько кругов, голуби вернулись в голубятню и тихо расселись по жердочкам. Публика захлебнулась в аплодисментах. Надо отдать должное Никите, он умел дотрагиваться до самых ностальгических или эрогенных зон искушенных зрителей.
Финал спектакля был грандиозен. Вся махина этой пятиэтажной декорации, с верандой, голубятней, вдруг разделившись на две равные части, начала раздвигаться, медленно уползая за кулисы. И перед зрителями открылся незнакомый, невидимый до сей поры огромный, уходящий в глубину парк. Он как будто просыпался в дымке тумана. Его глубина казалась бесконечной. Я помню, мы скупили все искусственные кусты и деревья в римских цветочных магазинах. И всю эту искусственную парковую зелень я покрасил серебром и нашил на тюль в несколько рядов. Поэтому иллюзия глубины была настолько убедительна, что парк, казалось, не имел конца.
Всходило солнце. И тот же мальчик, которого мы видели в начале, просыпался в той же кроватке и босиком в ночной рубашке бежал в этот сказочный сад. Кстати, и финал придумал тоже Никита. Уже почти в самом конце он вдруг вспомнил, что декорация дома состоит из двух раздельных конструкций. «Так почему же нам их не раздвинуть?» – произнес он, громко смеясь.
Короче, это был успех.
Как давно это было… Совсем-совсем в другой жизни.
Теперь я сидел напротив двух близких и таких далеких от меня существ – Катрин и Коринн, с которыми была связана моя жизнь в Париже. Ни Пэп, ни Альдо уже не было.
А без них эти две женщины уже переставали существовать в той же ипостаси. Они перестали быть такими же близкими, как были. Я мысленно отнес их к той группе людей, которые пришли на поминки и сидели за соседними столиками.
Сидели довольно долго, уже начало темнеть.
– Мне не хочется оставаться одной, – после затянувшегося ланча произнесла Коринн.
Я пригласил ее в тот самый ресторан, в котором мы изредка ужинали с Пэп и Альдо. Она почти не ела, пила вино и изредка украдкой смахивала слезу. А я молчал, наблюдая за ее почти незаметным движением.
Спали мы вместе, вернее, лежали, не зажигая света, прижавшись друг к другу. Ни о каком сексе думать не хотелось. Под утро я, видимо, уснул и не слышал, как она ушла. На подушке я заметил записку, вырванный листок из записной книжки. «Не пропадай, звони». Я взял сумку, собрал костюмы и двинулся в аэропорт.
С тех пор прошло много лет, может пять, может, десять.
И вот теперь мы снова сидим в том же ресторане, я слушаю ее монолог, похожий на текст телеграммы, которую обычно посылают дальним родственникам.
– Ну, что тебе рассказать? Прошло столько лет… Сразу после смерти Альдо обнаружили онкологию. Потеряла грудь. Помнишь, ты познакомил меня с Аланом? Прожили с ним некоторое время. Он родил дочку, но не от меня, расстались. Теперь он вернулся. Но живем отдельно. Иногда встречаемся. Ты меня слушаешь?
– Да, слушаю.
– Ну, так вот. Купила, наконец, себе квартиру, увлекаюсь садоводством. Спать ни с кем не могу…
Я старался не перебивать ее, но пару раз выходил на улицу покурить. Как только я возвращался, она продолжала:
– Ты понимаешь, я чувствую себя умершей. Да, конечно, я живу, но живу по инерции, как во сне. Я так хотела ребенка… И Пэп хотела, чтобы я родила от тебя.
«Господи, когда это кончится, когда? Никогда», – подумал я и попросил счет.
Лежа у себя в номере, я вдруг почему-то вспомнил ее исповедь. Раньше я об этом ничего не знал. Я помню, шел снег. Коринн волновалась.
– Ты знаешь, мой отец всегда отличался жестокостью. Я постоянно испытываю стресс перед встречей с ним.
– Кто будет на ужине? – спросил я.
– Да, хорошо, что ты напомнил мне. Я как раз хотела тебя предупредить: там будут два его близких друга. Они дружат на протяжении всей жизни. Один из них Флоран, архитектор. Другой – Поль Жегов, довольно известный пианист и композитор. Он писал много в эпоху новой волны французского кино. Кстати, Поль русского происхождения. Довольно мрачный тип и будет тебя провоцировать. Когда моя младшая сестра покончила с собой, в доме творилось что-то невообразимое. Все куда-то бежали. Это был кошмар. Отец и Пэп должны были ехать в госпиталь на ночь. Сестра была еще жива. Мне было страшно одной в квартире. Жегова попросили остаться со мной. Мне было тогда четырнадцать лет. Короче, в ту ночь Жегов изнасиловал меня. Ни отец, ни Пэп об этом не знают. Я никому не сказала. Ну, вот мы и пришли, – сказала она вдруг довольно спокойным тоном.
Казалось, ужин длился бесконечно. Единственный человек, который вызывал у меня любопытство, был мистер Праудвок, отец Коринн.
Он держался просто и естественно. Открывая бутылки вина, сопровождал это кратким комментарием. И почти всегда этот комментарий содержал иронию по поводу цены и истинного качества вина.
– Чтобы разбираться в вине, надо больше пить и меньше слушать «экспертов». Впрочем, как и во всем, – прибавлял он с улыбкой.
Обратила на себя внимание жена Жегова. Маленькое худосочное существо, сильно похожее на мартышку. Она без конца жестикулировала, произнося какие-то колкости, и много пила. И, напиваясь, становилась все более агрессивной. В основном, агрессия была направлена на Жегова. Но тот, в свою очередь, видимо, уже привыкший к этому, держал удар довольно спокойно, отвечая на ее выпады слегка виноватой улыбкой.
Коринн изредка, украдкой, встречалась со мной взглядом, видимо, не желая демонстрировать нашу близость.
В какой-то момент Жегов, видимо, устав от подвыпившей своей мартышки, решил сменить тему:
– Скажите мне, пожалуйста, – обратился он ко мне, медленно растягивая фразу и прерывая ее раскуриванием трубки. – Согласны ли вы, молодой человек, что мы являемся свидетелями странного несоответствия между количеством гениев в музыке и живописи? Что я хочу сказать? Я, например, с уверенностью могу отметить тот факт, что в нашей истории существует огромное количество гениев в живописи, – в музыке их можно сосчитать по пальцам одной руки. Как вам кажется, почему это?
Мне не хотелось вступать с ним в длинный спор по поводу количества гениев, так как, очевидно, это был своего рода тест или провокация, о которой меня предупреждала Коринн. Поэтому я решил отделаться коротким ответом:
– Я думаю, все дело заключается в компетентности эксперта. Вы являетесь, наверное, им в музыке. А что касается живописи, то вы более доброжелательны, так как этот жанр вам не так хорошо знаком.
Сказав это, я вдруг подумал, что в моем ответе было больше агрессии, чем в его вопросе. Но, видимо, это оказалось своего рода местью за то преступление, которое он совершил по отношению к своему близкому другу и его дочери. К сожалению, я не мог вызвать этого мерзавца на дуэль и не мог громогласно объявить, что это не человек, а грязное животное. Себя же я ненавидел за то, что продолжал сидеть на этом званом ужине, попивая вино из погреба месье Праудвока.
Единственное, что хоть как-то примиряло меня с этим обстоятельством, была мысль: «Сколько таких ужинов я вытерпел в своей жизни и ни разу не ушел из-за стола. Чем этот подлец хуже других? Сиди и терпи».
И я продолжал сидеть, пытаясь понять, где же я все-таки нахожусь? В ином мире мертвых или еще среди живых? Я пытался определить неуловимую границу между этими мирами, а заодно и свой диагноз.
Теперь, когда прошло столько лет с тех пор, как я сидел за столом с мистером Праудвоком, отцом Коринн, мне не трудно определить: конечно, я был в мире ушедших в мир иной.
Мои размышления прервал телефонный звонок. Звонила Коринн.
– Ты еще не спишь? – спросила она.
– Нет, – коротко ответил я.
– Ты знаешь, я лежу и думаю о том ужине у отца. Ты помнишь?
– Да.
– Так вот, я забыла тебе сказать, что Жегова зарезала его жена. Помнишь ее? Представляешь, зарезала ножом! Это случилось спустя год или два после того ужина.
– Правда? Я тебе не верю! Разве такое бывает?
– Видимо, бывает.
– А что с другим другом твоего отца? Он на том ужине не проронил ни слова. Архитектор, кажется? Как его звали?
– Флоран, – ответила Коринн.
Повисла длинная пауза.
– Так что с ним? – спросил я.
– Он умер… – И снова долгая пауза.
– А почему ты спросил о нем?
– Не знаю. Просто он показался мне тогда довольно странным персонажем. Как говорят, загадочным.
Коринн с какой-то виноватой интонацией произнесла:
– Ты знаешь, я спала с ним тоже.
Я пожелал ей спокойной ночи и отключил телефон.
Глава 33
Раннее пробуждение, которое мне всегда казалось привилегией людей одиноких, имеет и свои минусы. Что-то похожее на испуг, иногда доходящий до паники. Нет ни человеческого голоса, ни звука, говорящего о присутствии кого-нибудь рядом. Я пытаюсь, как могу, собраться с мыслями, составляя план-утопию моих дневных деяний, но безуспешно. Надо сделать и то, и это. Стараюсь проследить очередность дел, но это бесполезно. Нет и привычных телефонных звонков, да и позвонить никому нельзя. Все еще спят.
Если в Париже есть «La Palette», то в Жуковке только моя кухня и окно, в которое я вижу сплошной зеленый занавес, состоящий из трепещущих на ветру листьев. Почему они так зелены? Кажется, уже сентябрь. Должны же они иметь хоть немного осенней желтизны? Лениво размышляю, ощущая на губах горьковатый привкус кофе.
Зеленый занавес медленно погружается в туман, вернее, покрывается легкой дымкой. И от этого выглядит благородней. На него хочется дольше смотреть, что я и делаю, бессознательно продолжая откладывать и перекладывать так называемые дела и обязанности.
Надо найти Красило, он совсем исчез. Честно говоря, я уже начал думать, что и он покинул нашу бренную землю – ни звонков моей матери, ни мне. Обычно он всегда помнил дату моего рождения и день рождения мамы, а тут полное молчание. Да и я не знал, как его разыскать. Единственный телефонный номер, который у меня есть, – это домашний, но он молчит месяцами.
Последний раз, когда Игорь вдруг объявился, он оправдывал свое исчезновение плохим самочувствием. «Давление замучило. Прости. Ты же самый дорогой человек в моей жизни», – ласково и проникновенно извиняющимся тоном произнес он на другом конце провода. Его жизнь сегодня полна загадочности и тайны. Количество его болезней и бедствий настолько грандиозно, что невольно начинаешь ставить под сомнение существование справедливости на земле. Как можно подвергать таким тяжелым испытаниям одного человека? Неужели Бог не мог распределить их между разными людьми: бедствий бы хватило минимум человек на двадцать.
Но как бы там ни было, мне было приятно услышать его ласковый голос. Если верить словам Красило, его жизнь состоит из бесконечной изнурительной борьбы с болячками и недугами, которые окружают и наступают со всех сторон. И он стоически, безропотно и с довольно большой долей героизма старается справиться с неприятелем. Но когда борьба длится годами, а то и десятилетиями, то остается только удивляться почти «иововскому» терпению Красило.
Игорь, пожалуй, третий после Мити и Юрки оставшийся у меня собеседник, и его отсутствие на протяжении долгого времени заставляет меня здорово волноваться. Мне не хватает его гортанного, проникновенного, ласкового журчания.
Кстати, если бы я имел право голоса, то с легкостью рекомендовал бы его в Митины помощники там, в Антимирском Совете. Во-первых, он читал и Монтеня, и многих греческих философов, включая Плутарха, так как, по его собственному утверждению, не стоит терять время на чтение современных. А во-вторых, у меня была бы еще одна своего рода «крыша» в этом злополучном Совете. Уж он бы точно проголосовал за резолюцию считать меня своим, то есть ушедшим.
* * *
Бессонные ночи длились и длились. Я лежал в темноте на кровати с железной сеткой, прикосновение к которой постоянно ощущал спиной. Холодное пустое пространство, называемое условно комнатой, сгущалось вокруг.
Я отметил, что Лука довольно долго не появляется. То ли он совсем исчез, или, возможно, я его чем-то обидел. Да и Митя, видимо, погряз в своих общественных делах Антимирского Совета.
Долгое время, находясь в полусонным состоянии, я размышлял на тему этого незнакомого мира, до сих пор не понимая, как он устроен. Правда, иногда мне удавалось ухватить небольшие фрагменты его модели, но целостной, полной картины я так и не увидел. Единственное, что успел установить, так это то, что он безусловно обитаем. Но сам быт, взаимоотношения его обитателей оставались для меня загадкой. Что или кто связывает эти полутени между собой, откуда они появляются и куда пропадают, что является причиной их возникновения в моей жизни?
Я задавал себе вопрос, почему среди обитателей, которых встречал здесь, в основном лица давно мне знакомые? Правда, бывали и исключения, как, например, пара на пляже. Видимо, это – знакомые Мити, а я случайно находился с ним. Интересно, думал я, а эти видения-существа спят или постоянно бодрствуют? Может, они так и слоняются, как неприкаянные, по бесконечному песчаному пляжу, не имеющему ни конца ни края? Существуют ли в этом мире между ними какие-то отношения: любовь, секс, дружба? Перенесли ли они в свое новое существование чувства, которые испытывали на земле? Если так, значит, знакомые с детства пять основных чувств существуют и здесь. И соблюдаются ли здесь принципы веры, совершаются религиозные обряды, играются свадьбы или они живут в гражданском браке?
Я терялся во всевозможных догадках, выстраивая в уме разнообразные модели, но, к сожалению, безуспешно. Даже на простой вопрос: обитатели сумеречного мира – это тела или души, я не находил ответа. Куда деваются тела, это понятно, но вот почему не успокоились души? И как я узнаю по одной только душе знакомого мне человека? Ну, а если это просто тела, то куда же запропастились их души?
Неожиданно ответ на все эти мучительные вопросы возник словно сам собой, и я даже удивился – как же я раньше не догадался? Это же очевидно! Существование зыбкого таинственного мира заключено внутри меня самого. И персонажи, и их взаимоотношения связаны только со мной, вернее, с моей угасающей памятью. И если память погаснет совсем или я умру, окончательно и бесповоротно вместе со мной погибнут и они. И пока я буду оттягивать момент своей смерти, будут существовать и они: Митяй, Лука, Закуренов… Вся многочисленная толпа знакомых и друзей, прогуливающаяся по бескрайнему песчаному пляжу в ожидании, когда я вспомню о них.
Видимо, поэтому Митяй, начитавшийся Монтеня, требовал от меня вспоминать прошлое. Судя по всему, ему тоже хотелось пожить как можно дольше, и его приглашения на прогулки были своего рода напоминанием о своем существовании. И пусть это звучит немного претенциозно, но я вдруг почувствовал себя в какой-то степени миссионером.
Я ощутил себя нужным, необходимым всем этим душам-людям только для того, чтобы они продолжали существовать, даже будучи на том свете. Вот для чего нужна им моя память! Так больному, страдающему от изнурительных мук, нужен здоровый орган от умершего человека, чтобы выжить. Иногда необходимо сердце, иногда почка, в моем же случае требуется орган, который мы называем памятью.
* * *
Я не могу объяснить, почему просыпаюсь последнее время от звука лопаты, скребущей на улице снег. И это не зависит от времени года. Звук преследует меня и летом, и осенью. Вот и сегодня я был разбужен точно так же. Даже не очнувшись от сна, я с закрытыми глазами слышал этот неизвестно откуда идущий скрежет.
Открыв глаза, я увидел Митю. Он спокойно сидел на моей кровати, не шевелясь, будто боясь разбудить меня, и, как обычно, посасывал свой кусочек сахара.
Митя был одет по-летнему, на голове его красовалась белая кепка. Правда, она была почему-то накрахмаленно-белоснежной.
– Ты что, ее выстирал? – спросил я.
– Выстирал, – спокойно, глядя куда-то в сторону, пробурчал он. – Сегодня твой решающий день. Совет, ты помнишь, назначен на вторник.
Честно говоря, я ни о каком Совете не подозревал, а вторник, как день недели, мне вообще ни о чем не говорил.
– Ты готов?
– В смысле?
– Ну, ты готов продемонстрировать свою память?
– Думаю, что смогу, – слегка неуверенно сказал я.
– Ну, тогда вставай и собирайся, – почему-то улыбаясь, произнес Митя и протянул мне пачку сигарет, которую он поднял с пола. – Ты знаешь, вчера я сделал шикарный рисунок. Тебе даже в голову не придет, что это.
Он, видимо, ждал моего вопроса: «Ну и что же это?», поэтому, затянувшись, я спросил со слегка преувеличенным любопытством:
– Ну и что же это?
Он сделал длинную паузу, медленно закладывая в рот новый кусок сахара, и с легким пафосом ответил:
– Представь себе шикарный лист белой бумаги, белоснежной, ну где-то пятьдесят на семьдесят, двухсотграммовой, представил?
– Да, и что?
– А на нем… – И снова томительная пауза. – На нем… – повторил он так, как обычно рассказывают детям сказку. – На нем ничего, только моя подпись. Молчи, я заранее знаю твою реакцию. Ты никогда не понимал и, думаю, уже не поймешь магию и божественность белого. Божественность и глубину пустоты. Внедряясь в нее, каким бы художником ты ни был, ты нарушаешь идеальный мир пустоты, если хочешь, мир тишины. Все эти интервенции – только желание продемонстрировать свое присутствие.
Ты как бы вступаешь в соревнование с тысячами и тысячами себе подобных наивных пигмеев, жаждущих начать соревнование с Богом, с чистым листом бумаги…
Он говорил, говорил и говорил, и от звука его голоса словно наступало какое-то незнакомое ощущение покоя и приятного безразличия. Я снова увидел пейзаж за окном с покосившимся белым забором и деревню за ним. Затем все исчезло: и Митя, и забор, и пейзаж. Исчезли, как в дымке сфумато, будто их и не было.
Когда я очнулся, звук лопаты, сгребающей снег, вдруг прекратился. Сигарета моя давно погасла, я поискал глазами пепельницу. Не найдя, бросил окурок на пол.





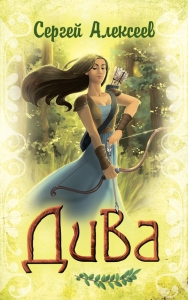
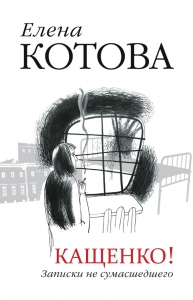





Комментарии к книге «Сфумато», Юрий Леонидович Купер
Всего 0 комментариев