оливия лэнг
к реке путешествие под поверхностью
Ад Маргинем Пресс
olivia laing to the river a journey beneath the surface Canongate
Посвящается родителям и сестре; в память о моем деде Артуре Лэнге
Бассейн реки Уз
Графство Суссекс
High Weald — область Хай-Вельд
Balcombe — деревня Балкомб
Slaugham — деревня Слаффам
Staplefield — деревня Стаплфилд
Rivers Wood — Риверс-Вуд
Lindfield — город Линдфилд
Sheffield Park — Шеффилд-Парк
Fletching — деревня Флетчинг
Haywards Heath — город Хейвордс-Хит
Burgess Hill — город Берджесс-Хилл
Low Weald — область Лоу-Вельд
Piltdown — город Пилтдаун
Uckfield — город Акфилд
Isfield — деревня Исфилд
Barcombe Mills — село и станция Баркомб-Миллс
Barcombe — деревня Баркомб
Plashett Wood — лесопарк Плачетт-Вуд
South Downs — возвышенность Саут-Даунс
Lewes — город Льюис
Mount Caburn — гора Маунт-Каберн
The Brooks — участок особого научного значения Брукс
Iford — деревня Ифорд
Rodmell — деревня Родмелл
Southease — деревня Саутис
Piddinghoe — деревня Пиддинго
Newhaven — город Ньюхейвен
Tide Mills — деревня Тайд-Миллс
Seaford — город Сифорд
Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи — в труде: не может человек пересказать всего; не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Книга Екклесиаста. 1: 7–9
Хелен Макдональд. Карта реки Уз
I очищение
Меня завораживает вода. Быть может, я слишком сухая, англичанка до мозга костей, или чересчур чувствительна к красоте, но мне действительно не по себе, если рядом нет реки. «Когда больно, — писал польский поэт Чеслав Милош, — мы возвращаемся к каким-то рекам» [1], и его слова меня успокаивают, ведь есть река, к которой я возвращаюсь снова и снова, в болезни и в здравии, в печали, в горе и в радости.
Впервые на берегах Уза я оказалась июньским вечером, лет десять назад. Со мной был мой молодой человек, который давно уже меня бросил; мы выехали из Брайтона, оставили машину на стоянке возле станции Баркомб-Миллс и пошли пешком на север против течения, мимо последних редких рыболовов, забрасывающих блесну в надежде выудить щуку или окуня. Сгущающийся воздух был напоен ароматом лабазника, и, приглядевшись, можно было различить шлейф лепестков, стелющийся по берегу. Полноводная река текла по краю поля, и после заката ее запах стал более различим; потянуло холодом, тиной и затхлостью, которые выдают близость даже невидимой воды. Я остановилась окунуть руку, и в памяти тут же мелькнуло: ведь в Узе утопилась Вирджиния Вулф, хотя почему и когда, я в то время не знала.
Однажды с компанией друзей мне довелось купаться возле деревни Саутис, рядом с тем местом, где было обнаружено ее тело. Я входила в стремительный поток, дрожа от напряжения, перерастающего в экстаз, — река увлекала меня за собой, грозила сбить с ног и утянуть прямиком в море. В этих краях она протекала через меловую долину, образовавшуюся в складке возвышенности Даунс, мел сыпался в воду, и она становилась мутно-зеленой, как осколки стекла, обточенные морем, вся в искорках света. Дна не было видно, я едва различала собственные ноги, и, возможно, по этой причине казалось, будто река таит в себе секреты и что в ней припрятан какой-нибудь клад.
Привел меня в это опасное место не душевный разлад, а скорее желание отдаться стихии, по большей части неподвластной человеку. Меня тянуло к Узу как магнитом, я возвращалась сюда летними ночами и короткими зимними днями, чтобы в очередной раз пройтись знакомым маршрутом, в очередной раз искупаться, пока мои привычки не обрели статус ритуалов. Я наведывалась в этот уголок Суссекса без всякого дела, без намерения задерживаться надолго, но теперь мне кажется, что река меня околдовала, поймала на лету, похитила мое сердце. И когда моя жизнь пошла наперекосяк, я стала искать утешение именно на берегах Уза.
Река Уз. Фотография автора
***
Весной 2009 года со мной случился один из тех мелких кризисов, которые периодически отравляют нам существование, когда кажется, будто жизнь рушится. Вышло так, что я лишилась работы, а затем по излишней беспечности потеряла любимого человека. Он был из Йоркшира, и очередным — но не единственным — камнем преткновения в нашей длительной баталии стал выбор территории, где мы с ним совместно поселимся. Я не могла бросить Суссекс, а он — отказаться от холмов и пустошей, к которым только недавно вернулся.
После ухода Мэтью меня одолела бессонница. Брайтон казался бесприютным, особенно явственно это ощущалось по вечерам. Больница через дорогу недавно закрылась, и, порой отрываясь от работы и выглядывая в окно, я видела, как стайка мальчишек бьет стекла или разводит костры во дворе, где прежде стояли кареты скорой помощи. В течение дня на меня периодически накатывало ощущение, будто я камнем иду ко дну, и единственное, на что меня хватало, это не броситься на пол и не разрыдаться, как малое дитя. Приступы паники — а в моменты отрезвления я сознавала, что они временны и преходящи, — обострились с наступлением чудесного апреля. Деревья пробуждались к жизни: сначала каштан выкинул свечки, затем зазеленели вяз и береза. Среди свежей зелени зацвела вишня, и за считаные дни улицы покрылись белым ковром, лепестки закупоривали водосточные трубы и, точно бумагой, облепляли лобовые стекла автомобилей.
Смена времен года пьянила, и именно тогда мной завладела навязчивая мысль пройти вдоль всей реки пешком. Мне хотелось очиститься во всех смыслах слова, и где-то в глубине души я осознавала, что река — это то, что мне сейчас нужно. Я маниакально принялась скупать карты, хотя никогда не умела по ним ориентироваться. Некоторые я развесила на стене, а одна, геологический срез почвы, оказалась настолько красивой, что я держала ее на тумбочке возле кровати. Моя задумка была провести исследование или зондирование, понять и записать, что собой представляет этот уголок Англии в разгар лета в начале двадцать первого века. Во всяком случае, так я говорила окружающим. Объяснить истинные мотивы было сложнее. Мне хотелось стряхнуть с себя повседневность, как спящий отрешается от обыденности и проваливается в сновидения.
•
На своем пути река фиксирует мир и возвращает его сверкающим и таинственным. Реки пронизывают наши цивилизации, как нити бусинки, и трудно вообразить себе эпоху, которая бы не ассоциировалась с великим водным путем. Сейчас ближневосточные земли превратились в пустыни, но прежде, орошаемые живительными водами Евфрата и Тигра, они были плодородными и обеспечили процветание Шумера и Вавилона. Источник богатства Древнего Египта — Нил, когда-то люди верили, что он обозначает переход между жизнью и смертью, а на небе ему соответствует звездная россыпь, которая теперь именуется Млечным Путем. Долина Инда, Хуанхэ — колыбели цивилизаций, орошаемые водами; разливаясь, они обогащали землю ценными минералами. В этих четырех цивилизациях независимо друг от друга зародилось искусство письма, и, думаю, не случайно мир письменности был вскормлен речной водой.
В реках таится загадка, потому нас тянет к ним, ведь они зачинаются в укромных лощинах и протекают по руслам, которые завтра могут быть совсем не там, где сегодня. В отличие от озера или моря, у реки имеется направление, и в его непреложности есть нечто успокоительное, особенно для тех, кто отчаялся отыскать верный курс.
Как мне тогда представлялось, в Узе были две составляющие. С одной стороны, это была просто река длиной в шестьдесят семь с половиной километров, берущая начало в дубово-ореховой роще неподалеку от городка Хейвордс-Хит, несущаяся по оврагам и стремнинам через древние леса Вельда, пересекающая возвышенность Даунс под Льюисом, а в Ньюхейвене впадающая в маслянистый Ла-Манш, в том месте, где паромы отплывают во Францию. На наших островах подобных водных потоков хоть отбавляй. Предположу, что один такой протекает рядом с вами — красивая, но ничем не примечательная река, петляющая по городам и полям, не сохранившая своего первозданного бурного нрава, но и не прирученная человеком. Хотя эпоха водяных мельниц и бассейнов для выпаривания соли давно миновала, Уз и сегодня приносит пользу в духе новых веяний: питает пару водохранилищ и уносит выбросы дюжины очистных сооружений. Иногда купаясь у деревни Исфилд, вы проплываете через скопление пузырей, а порой водоросли расцветают пышным цветом, точно плодовый сад, и все из-за удобрений, смытых с пшеничных полей.
Но река движется как через время, так и через пространство. Реки сформировали облик нашего мира; в них заключены, как выразился в «Сердце тьмы» Джозеф Конрад, «мечты мужчин, семена республик, зачатки империй». Они неизменно манили к себе людей и потому несут, подобно мусору, отвергнутые свидетельства прошлого. Уз не назовешь важной водной артерией. Лишь раз или два эта река оказывалась в центре событий: в 1941 году в ней утопилась Вирджиния Вулф, а веками ранее на ее берегах произошла битва при Льюисе. При этом ее взаимоотношения с человеком восходят к тысячелетиям до Рождества Христова, когда поселенцы времен неолита впервые принялись рубить леса и выращивать урожаи у кромки воды. Следы последующих эпох более ощутимы: саксонские деревни, норманнский замок; очистительные сооружения Тюдоров, дамбы и шлюзы короля Георга, призванные отучить реку выходить из берегов, хотя, невзирая на все ухищрения, она продолжала разливаться и затоплять Льюис еще в первые годы нашего тысячелетия.
Порой кажется, будто до прошлого подать рукой. Вечерами, на заходе солнца, когда воздух лиловеет, над лугом проносятся сипухи, а лучи убывающей луны пробиваются сквозь лесную полосу, над поверхностью реки поднимается туман. Именно в эти мгновения со всей очевидностью проявляется странность воды. Земля накапливает богатства, и ее кладовые нетронуты, пока сокровища не извлекает из недр лопата или плуг, а река ведет себя хитрее, отказываясь от того, чем обладает, лишь по воле случая и без оглядки на подземную хронологию, столь любезную сердцу археологов. История, изложенная сквозь призму воды, по своей природе юркая и ускользающая, она наполнена невидимой жизнью и способна, как я обнаружила, неожиданно перетекать в настоящее.
Этой весной я запоем читала Вирджинию Вулф, поскольку она разделяла мое трепетное отношение к воде и ее метафорам. С годами Вирджиния Вулф обрела репутацию писательницы-страдалицы, язвительной и бесчувственной неврастенички или же утонченного создания, инициатора бесед в замкнутом кружке Блумсбери. Подозреваю, что люди с подобными взглядами не читали ее дневников, ведь они полны юмора и любви к природе, которыми невольно заражаешься. Впервые Вирджиния Вулф оказалась на Узе в 1912 году, сняв дом высоко над болотами. В нем она провела первую брачную ночь с Леонардом Вулфом, а позднее восстанавливалась после третьего по счету нервного срыва. В 1919 году чета Вулф перебралась на другой берег реки, приобретя сырой светло-голубой коттедж чуть ниже Родмеллской колокольни. Первое время в доме практически отсутствовали удобства: не было горячей воды, туалет — плетеный стул над ведром — находился во дворе. Но и Леонард, и Вирджиния очень любили Монкс-хаус, в тишине и уединении им хорошо работалось. Здесь Вулф написала большую часть «Миссис Дэллоуэй», «На маяк», «Волны» и «Между актов» наряду с сотнями рецензий, рассказов и эссе.
Уильям Тернер Дейви. Гидеон Алджернон Мантелл. Опубликовано L. Buck, первоисточник — Pierre Athasie Theodore Senties и John Jabez Edwin Mayall. Mezzotint, ок. 1850
Она была необычайно восприимчива к пейзажу, и впечатления от туманной, влажной долины отразились в ее прозе. Возможно, едва ли не ежедневные одинокие вылазки были для нее главной частью рабочего процесса. В Эшеме, во время очередного приступа болезни, когда ей запретили чрезмерно возбуждающие занятия вроде прогулок и сочинительства, писательница жадно поверяла свои мысли дневнику:
«…и что бы я ни отдала, лишь бы […] пройтись по фирлским лесам, когда […] мысли излечены сладкой лавандой и вновь здоровые, прохладные и созревшие для завтрашней работы. Как бы я все подмечала — придумывала подходящую фразу, чтобы сидела, как перчатка; а потом на пыльной дороге нажимала бы на педали, и моя история стала бы рассказываться сама собой; а потом солнце зашло бы; я была бы дома и после обеда то ли читала, то ли проживала бы немного поэзии, моя плоть как будто растворялась бы и сквозь нее прорастали красные и белые цветы» [2].
«Моя плоть как будто растворялась бы» — показательная фраза. Метафоры Вулф, относящиеся к литературному процессу, уходу в мир грез, в котором она себя чувствует как рыба в воде, текучи: она пишет об окунании, плавании, нырянии, растворении. Это желание погрузиться в глубины и привлекло меня, ведь, невзирая на печальный финал, казалось, она, подобно аквалангистам, обладает даром видеть то, что спрятано под поверхностью. Сидя дома в душной комнатушке, я чувствовала себя точно ученик иллюзиониста, изучающий трюки Гудини. Мне хотелось понять, как делается этот фокус, понять, как заурядные ныряния обернулись исчезновением куда более страшным.
•
Весна уступала место лету. Я решила подгадать так, чтобы мой отъезд совпал с летним солнцестоянием, поворотным моментом в году, с самым длинным днем. Мне нравились суеверия на этот счет: считается, будто перегородка между мирами истончается. Неслучайно Шекспир приурочил свой фантасмагорический сон к кануну Иванова дня, ведь самую короткую ночь года неизменно сопровождают кавардак с волшебными превращениями. В июне Англия особенно красива, и за день до отъезда я уже изнывала от желания оказаться среди цветущих полей и войти в прохладную, плавно текущую реку.
Моя квартира заполнилась списками того, что необходимо взять с собой. Я купила рюкзак, пару легких брюк в веселенький цветочек. Мама прислала мне страхолюдные сандалии, которые якобы не натирали ноги, — естественно, это оказалось ерундой. Я провела приятный день, бронируя номера в гостиницах по пути, в том числе в «Уайт-Харте» в Льюисе. Именно там Вирджиния и Леонард Вулф приобрели на аукционе Монкс-хаус и от избытка чувств поссорились. Еще я купила кучу овсяного печенья и большой кусок сыра. Быть может, не самая разнообразная диета, но, во всяком случае, с голода я не умру.
Все эти дни я почти не разговаривала с Мэтью, но вечером перед отъездом нарушила табу: позвонила ему и посреди бестолкового, полного взаимных упреков разговора вдруг разревелась, да так, что не могла остановиться. Это был, хотя тогда я об этом понятия не имела, надир, низшая точка этой удручающей весны. На следующий день наступило солнцестояние; и, хотя дни начали уменьшаться, на душе стало легче и настроение улучшилось.
II к истоку
На следующее утро я проснулась, точно вынырнула на поверхность, впервые за много месяцев выспавшаяся и посвежевшая. Первые, кого я увидела, были стрижи. Стрижи, а еще лиса на автомобильной стоянке больницы, щуплая, рыже-серая лисица, она сидела, почесываясь на солнце, а затем прокралась в тень старого крематория. Было 21 июня, самый долгий день в году, небо заслоняли легкие облака, над морем стелился туман. У моей постели лежал собранный рюкзак, набитый одеждой и картами. Боковые карманы, куда я засунула лосьон от загара, бутылки с водой, потрепанный справочник «Дикие цветы Британии и Северной Европы» и ржавый складной нож Opinel со сломанным замком, сильно топорщились.
Готовя кофе, я напевала. После вчерашних рыданий я чувствовала себя легкой, как перышко, словно слезы растворили ярмо, тяготившее меня месяцами. В этот день я планировала пройти от деревни Слаффам до того места, где начинался Уз, маленькой глинистой канавки, тянущейся вдоль живой изгороди из боярышника. Там мне придется сделать большую кривую с юга на юго-восток, пересекая течение туда и обратно, пока не доберусь до деревни Исфилд, где дорога и река пролегали через меловую долину, ведущую к морю. За неделю управлюсь, прикинула я, и еще останется масса времени побродить по окрестностям.
Накануне вечером я расстелила на полу три карты, составленные государственной картографической службой, и шариковой ручкой прочертила свой предполагаемый маршрут, соединяя тропинки и дороги так, чтобы оказываться как можно ближе к воде. Но сколько бы я ни ухищрялась, а начальный этап пути, похоже, придумал картограф, страдавший водобоязнью: в первые три дня мне предстояло увидеть воду лишь мельком. Никто автоматически не получает права бродить по речным берегам, и большая часть земель, по которым петляет Уз, состоит в частной собственности, она огорожена колючей проволокой и увешана предупреждениями «Хода нет» — так в Англии поддерживается старое межевое деление.
Я села в ту же электричку на Бедфорд, которой езжу на службу, она ходит в Лондон и из Лондона и останавливается на всех маленьких станциях. Лучше всего мне доехать до городка Хейвордс-Хит, рассудила я. Оттуда возьму такси до Слаффама, брошу вещи в «Чекерсе» и пойду искать вольную воду. Я привалилась головой к грязноватому окну, впитывая свет. Железнодорожное полотно окаймляла полоса бесхозной земли, заросшая растениями, на которых обычно не останавливается глаз: кирпично-розовой валерьяной, иван-чаем, бузиной, вьюнком и маргаритками. За деревней Хассокс я заметила желтые цветы энотеры. В жару здесь часто можно увидеть свернувшуюся лису, ржавое пятно среди отливающих металлом маков. Сегодня никто не шевелился в траве, лишь лесные голуби, громко воркуя, хлопали крыльями, словно бесконечно повторяли пять слогов.
«Чекерс» оказалась симпатичной, выкрашенной в белый цвет гостиницей на краю деревенского пустыря, заросшего сорняками. Внутри было пустынно и на удивление жарко. Девушка-полька проводила меня до номера, по дороге показав пожарный выход, открывающийся после окончания рабочего дня. Я швырнула рюкзак на кровать и, освободив руки, отправилась в поле, карманы оттягивали карты. Воздух, казалось, сгустился, как желе, и колыхался, когда я рассекала его своим телом. Я двигалась на юг между пастбищ с лошадьми, загадочных полупустых садов, уставленных трехколесными велосипедами и батутами. К тому времени, как я добралась до дороги Уорнинглид-лейн, солнце достигло зенита и на моей майке проступили пятна пота. Я вышла из-под сосен, и в лицо мне ударил жар. На обочине сидел заяц, он опорожнился и припустил через дорогу, к его шкурке снизу прилипли темные катышки.
Месяцами я рассматривала на картах область Хай-Вельд, проводя переплетающиеся синие линии, которые через ограждения вели на восток, к верховью реки. Я полагала, что точно знаю, где начинается вода, но не учла буйства летней растительности. По краю поля шла живая изгородь из боярышника, а за ней, там, где, по моим прикидкам, находилось русло, возвышалась стена крапивы и таволги с выгнутыми кверху белыми ядовитыми зонтиками высотой по пояс. Нельзя было сказать, есть ли там вода или канавка сухая и растения выпили всю влагу. С минуту я колебалась, в голову лезла всякая ерунда. Сегодня воскресенье, машин почти нет. Если только кто-то специально не следит за мной в бинокль с фермы Истленд, ни одна душа не заметит, как я нелегально проскользну через поле к месту, отмеченному как исток. Была не была, подумала я, и нырнула под изгородь.
Засоренная канавка привела меня к зарослям орешника и малорослому дубку. Деревья потеснили крапиву, и течение было видно: бурый ручеек, истоптанный копытами, заканчивался в дальнем конце леса. Никакой это не источник. Вода не пузырилась, вырываясь из-под земли, как я это видела в Балкомбе, в десяти милях к востоку отсюда. Исток — чересчур громкое название для струйки вязкой жижи, несущей сточную воду с последнего поля перед водосбором, сдвинутым в сторону Адура. Это был всего-навсего самый дальний от устья приток, самый длинный речной рукав, полупроизвольный способ изобразить на карте постоянное движение воды в воздухе, на земле и на море.
Не всегда можно нанести на план начало. Даже если встать на колени среди листвы, я все равно не найду точного места, где начинается Уз, где струйка дождевой воды набирает достаточно сил, чтобы достичь берегов. Подобное сумбурное рождение из грязи кажется на редкость уместным, если брать в расчет название реки. В Англии Уз — распространенный топоним, и, как следствие, он вызывает много споров. Как правило, считается, что Уз происходит от usa, кельтского наименования воды, но я лично склоняюсь к доводу, что, раз бассейн реки населяли англосаксы, название восходит к саксонскому слову ooze, означающему мягкую или липкую грязь, земляную жижу. Только вслушайтесь: ooooze. Она течет почти бесшумно, чавкая под ногами. Ooze — это болото или топь, to ooze — сочиться или ползти. Мне нравится, с какой изворотливостью Уз хватается за возможность удержать воды и с присущей ему сноровкой прокладывает себе русло: это многогранное название с двойным смыслом. В нем слышится журчание реки, струящейся по Вельду и змеящейся вниз по долинам туда, где когда-то она образовывала смертоносное болото.
•
В День святого Валентина, еще до того, как все пошло вкривь и вкось, Мэтью вручил мне карту Уза собственного изготовления. В Хаддерсфилдской библиотеке он отксерил все подходящие карты Британской картографической службы, а затем, как обычно, дотошно вычислил площадь речного бассейна, вырезая его по контуру. Каждый приток был выделен своим маркером: Беверн — оранжевым, Айрон-ривер — розовым, Лонгфорд и горемыка Глайтв-Рич — зеленым. Я склеила разрозненные части скотчем, и месяцами карта висела у меня на стене — триста семьдесят пять квадратных километров земли в форме спавшегося легкого. К апрелю разметка выгорела на солнце, а нынешней весной я, наконец, сняла карту и сунула ее под кипу бумаг на столе.
Стоя в лесу, я думала о ней. На карте канавка была выкрашена синим. Само по себе это ничего не значило — место, где пьет олень, овраг, расчищенный за века до того, чтобы поле не затоплялось. С дерева сорвался лист и медленно поплыл на восток. Я не могла припомнить, когда в последний раз шел дождь, когда здесь собиралась вода, мерно просачиваясь через траву и тонкой струйкой стекая на дно. Средний срок пребывания молекулы воды в речке такого размера исчисляется неделями, хотя многое зависит от течений, дождей и дюжины других непредсказуемых случайностей. Если же влага впитывается в почву и превращается в грунтовые воды, то ее существование растягивается на века, а если проникает достаточно глубоко — на сотни тысячелетий. Согласно данным изотопной гидрологии, ископаемой воде в некоторых крупнейших в мире месторождениях более миллиона лет. Часто водоносные слои залегают под пустынями, в голове плохо укладывается, что под Калахари, Сахарой и засушливым центром Австралии под толщей камней и осадочных пород погребены огромные хранилища древней воды. По сравнению с ними стоячая вода в верховье реки была сверхновой, только-только пролившейся с неба. Большая ее часть испарится на солнце еще до впадения в озеро Слоем-Милл, где она может пятьдесят лет кружить вместе с карпами, прежде чем устремится на юг, к морю со скоростью тысяча тонн в минуту.
Сейчас вода еле двигалась, и было трудно себе представить, что характер течения полностью преобразится. Там, где заканчивались деревья, находился зловонный пруд, трактор дожидался начала утренних полевых работ. Овес уже поспел, и все вокруг замерло. Я различала, как жидкая струйка воды ударяет о корни и мелкие камешки, и, пока я стояла в раздумье, мне на память пришла строка из стихотворения Шеймаса Хини, одного из множества его сочинений, посвященных рекам. Стихотворение рассказывает о поиске подземной воды с помощью лозы и, как мне кажется, в какой-то мере передает причудливость этой стихии. «Вода через орешниковый прут из-под Земли послала свой сигнал» [3]. Быть может, эта строка всплыла у меня в голове из-за размышлений об ископаемой воде, ведь меня всегда приводила в восторг мысль о том, что на нашей планете есть тайные озера и реки наряду с теми, что выбегают на свет божий. Такие своего рода сокровенные богатства, которые имел в виду Уистен Оден, когда писал «Хвалу известняку», заканчивающуюся так:
Мой дорогой, Не мне рассуждать, кто прав и что будет потом. Но когда я пытаюсь представить любовь без изъяна Или жизнь после смерти, я слышу одно струенье Подземных потоков и вижу один известняк [4].
В стихотворении Хини ореховая рогатина самопроизвольно подергивается — так вода выдает свое присутствие. Это представляется сущим шарлатанством, не случайно лозоходство — известное в Америке как водное ведьмовство — давало посредственные результаты на научных испытаниях, доказывая, что водоносные жилы под камнями и почвой с тем же успехом можно обнаружить методом тыка. Так или иначе, некогда люди, подобно животным, чувствовали воду на расстоянии. Теперь эта способность, безусловно, стала чем-то рудиментарным, притупилась из-за автомобильных сигналов и однообразных трелей мобильных телефонов, однако множество раз, когда я гуляла по лесу, удача или инстинкт выводили меня к водоему или источнику, о существовании которых я даже не подозревала.
Я присела на корточки возле юных дубков, разглаживая на коленке свежий лист остролиста. Мне было не по себе, в этом подлеске меня ни на миг не покидало чувство, что я беспардонно внедрилась в святая святых. Истоки рек часто сопряжены с запретами, и при всей своей фантастической красоте это не те места, где селятся люди, по меньшей мере, так гласят мифы и предания. Тиресий ослеп, увидев купание богини Афины в источнике у горы Геликон, а полученный им дар прорицания стал возмещением за кару — потерю зрения.
Согласно поэту Каллимаху, это случилось в летний день вроде нынешнего. Афина и нимфа Харикло, мать Тиресия, возлежали в ручье, стоял полдень, час тишины, когда весь мир цепенеет от зноя. Только один Тиресий со сворой собак бродил по холмам, охотясь на оленя. Охваченный жаждой, он спустился к источнику напиться воды, не ведая, что там кто-то есть. Афина заметила, как он пробирается между деревьев, и мгновенно его ослепила: никому не дозволялось видеть богиню обнаженной, даже ту, что купалась вместе с твоей матерью. «O, Геликон, ты моей ныне запретен стопе! — вскричала Харикло. — Многое ты за немногое взял, меняла жестокий — Нескольких ланей отдав, отрочьи отнял глаза!» [5] Чтобы смягчить наказание, Афина наделила его даром понимать язык птиц и передавать услышанное беотийцам и могущественным потомкам Лабдака. Он понес жестокую кару, сказала богиня, но не сравнимую с той, что выпала охотнику Актеону, который увидел купающуюся Артемиду, был обращен в оленя и растерзан собственными собаками, так что его матери пришлось собирать кости сына по зарослям и колючим кустам.
•
Для купания в истоке Уза богиня должна была быть весьма миниатюрной, тем не менее река более не казалась мне безвредной. Когда я возвращалась обратно в Слоем по частной дороге мимо сарая, в котором неподвижно висела рулевая трапеция дельтаплана, меня не покидало чувство, что я нарушила границу чужих владений. Тропинка вела в гору, через поле, где паслись лошади в средневековом снаряжении, к поросшему костром и бухарником лугу на склоне, над клевером вились тучи пчел. Розовое и темно-желтое разнотравье клонилось и колыхалось на ветру, над цветами летали одиночные пчелы, и воздух звенел от их жужжания.
Так оно лучше. Я разлеглась на солнышке, согнув ноги. Звуки природы убаюкивали, и у меня стали слипаться глаза, и тут мне припомнилось точно во сне, как однажды в Шотландии, растянувшись на грязном берегу лицом вниз, я наблюдала за пчелами: они влетали в крошечные пещерки, которые они, как троглодиты, вырыли в земле, и вылетали оттуда. Пчел было так много, что казалось, весь склон холма самопроизвольно шевелится в горячем, напоенном сосновыми запахами воздухе. Под землей их должно было быть еще больше, из каждого отверстия доносилось стрекотание крыльев — далекое атональное гудение, будто земля улеглась на боковую и напевает сама себе.
Леонард Вулф держал пчел. У него был улей в Монкс-хаусе, коттедже в Родмелле, который чета Вулф купила вскоре после окончания Первой мировой войны, и по поводу их роения Вирджиния оставила в дневнике до странности чувственную запись:
«Сидя после ланча, мы слышали их жужжанье, а в воскресенье они опять висели блестящей подрагивающей коричнево-черной мошной на надгробии миссис Томпсетт. Мы прыгнули в высокую могильную траву, Перси в плаще и траурной шляпе. Пчелы проносятся со свистом, точно стрелы желанья, неистового, чувственного; играют в воздухе в веревочку; мчатся, точно выпущенные из лука; воздух вибрирует — от красоты, жгучего, острого желанья и скорости; по-моему, дрожащее перемещающееся лукошко из пчел — символ высшего сладострастья и чувственности».
Ниже, через несколько фраз, все еще под впечатлением увиденной картины, она описывает уродливую женщину на приеме, добавляя: «Не могу сказать, почему вокруг нее обязаны роиться пчелы».
Этот эпизод полностью раскрывает натуру Вулф — впечатлительную, но обстоятельную (быть может, сама она скорее оса, чем пчела), созвучную как природе, так и искусству выдумки и стремящуюся в первую очередь постичь суть вещей, отыскать верное слово для определения испытываемого чувства или воспринимаемого образа. Дневники, надо признать, написаны более легким и ярким языком, чем романы, создается полное ощущение того, что писательница упражняется в своем ремесле. При этом им присуща чувственность, особенно явственная в приведенном отрывке, и они придают обаяние расхожему образу Вирджинии — дамы холодной, как кристалл.
Один из избитых мифов, касающихся жизни Вирджинии Вулф, гласит, что она была, как это следует из ее имени [6], фригидна — своего рода памятник долготерпению, женщина, состоящая из алебастра и блистательного ума. Что правда, то правда: в 1912 году, перед женитьбой она действительно призналась Леонарду, что не испытывает к нему физического влечения. Но его ухаживания имели свои издержки, и, хотя — что мне импонирует — их встречи происходили вблизи воды, в них не было ни капли того, что люди обычно подразумевают под романтикой. Они ходили на свидания на судебное разбирательство, где рассматривалось дело о катастрофе лайнера «Титаник», впервые поцеловались у Ла-Манша в Истборне, а в тот день, когда Вирджиния призналась ему в любви, отправились на пароходе вверх по Темзе в Мейденхед. На сделанной в тот день фотографии Вирджиния Вулф выглядит нервозной и одновременно неприступной; значительно лучше, чем на портрете, где она, изможденная, сидит рядом с поэтом Рупертом Бруком, смахивающим на упитанного Аполлона и отдаленно напоминающим Леонардо ди Каприо — по контрасту с щуплой девицей с прищуренными глазами.
Первые выходные Вирджиния и Леонард провели в Суссексе, среди холмов, смотрящих на Уз, в этих краях он протекает между возвышенностями Даунса, по краю широкой болотистой долины, последним участком перед впадением в море. Бродя по раскинувшимся вокруг зеленым полям, они наткнулись на Эшем, дом, где вскоре начнется их совместная жизнь, продлившаяся без малого три десятилетия. К моменту вступления в брак обоим под тридцать и оба завершают свой первый роман. Добродушный и упорный Леонард был евреем, его яркость сочеталась с холодной расчетливостью, что даже тогда несколько отдаляло его от кружка Блумсбери с его легковесными беседами. Он недавно вернулся с Цейлона, где служил чиновником при Колониальной гражданской службе. Отец его скончался, а он, несмотря на достойную восхищения силу ума, страдал тремором — в моменты волнения не мог унять дрожь в руках.
Что до Вирджинии, она была сиротой. В тринадцать лет она потеряла мать, а в 1902 году у ее гневливого отца, сэра Лесли Стивена, альпиниста и критика, обнаружился рак кишечника, который и свел его в могилу два года спустя. Каждая из этих тяжких утрат подрывала психическое здоровье Вулф, приводя к нервным срывам, которые после ее смерти будут неизменно связываться с ее образом. Однако раз за разом она стряхивала с себя безумие, настроенная работать, писать, в чем и преуспела.
Итак, два этих человека создали союз, который никак не назовешь обычным. Брак был заключен, однако его сексуальная сторона отодвинулась на задний план, а вскоре супруги и вовсе отказались от физической близости. Всего через год после свадьбы с Вирджинией Вулф произошел третий нервный срыв, и еще до того, как вернуться к шаткому душевному равновесию, она попыталась покончить с собой, наглотавшись веронала. Леонард частично исполнял обязанности сиделки, а порой и тюремщика, заставлял жену регулярно питаться, рано ложиться спать, не давал ей перевозбуждаться, дабы она снова не впала в безумие. Но не стоит думать, что Вирджиния Вулф была вялой и безучастной калекой, оторванной от мира. Она обладала поразительным обаянием, которое отмечали как ее друзья, так и враги, а также тонким чувством юмора, которое делало ее почти неспособной испытывать жалость к самой себе.
Брак — это очень интимная территория даже для людей, оставляющих груды дневников и писем, излюбленных объектов светских сплетен. Жадному глазу чужака не всегда видно, что творится в его сердцевине, на чем он держится, и даже строить догадки на этот счет — пустая затея. И все же из выкристаллизовавшихся слов возникает ощущение неизменной любви, в равных долях состоящей из привязанности и интеллектуального взаимовлияния. Вирджиния Вулф именовала Леонарда «мой незыблемый центр», именно ему она адресовала последние слова — своего рода признание, что они были счастливой парой. Одна из многочисленных книг, посвященных семейной жизни Вулфов, носит название «Соединение двух сердец». Это строка из 116-го сонета Шекспира, подлинной оды непреходящей любви. Чувство выражено достаточно прозрачно, но с учетом всех обстоятельств, мне думается, последняя строфа подходит больше всего:
Любовь — не кукла жалкая в руках У времени, стирающего розы На пламенных устах и на щеках, И не страшны ей времени угрозы [7].
Пчелы по-прежнему пролетали над лугом, их извилистые маршруты пролегали прямо у меня над головой. Я откинулась на спину и растянулась на солнышке. Было так тепло, что тело у меня прямо-таки плавилось, а когда я прикрыла глаза, то передо мной замелькал разноцветный калейдоскоп. «Пчелы бесконечности» — в «Саде» Дерека Джармена они названы «золотым роем… с пыльцевыми мешками разных оттенков желтого». Умирая от СПИДа, он поселился на краю земли в маленьком деревянном домике на галечном пляже Дандгенесса [8] и среди прочего занялся пчеловодством. Он держал своих питомцев в улье из железнодорожных шпал, боролся с галькой в саду, и в августе пчелы делали мед из дубровника, а в январе — из английского дрока.
За несколько лет до смерти, вспомнилось мне, Джармен ослеп, сетчатку поразил токсоплазмоз. «Принято считать, что слепота страшит, — писал он в дневнике. — Но не так уж она ужасна, если у вас есть надежная гавань в море теней. Это обычное неудобство. Если человек проснется в кромешной тьме, и лишь мысленный взор ему подскажет, куда идти, повернет ли он назад?» И продолжает: «День нашей смерти сокрыт за семью печатями. Я не хочу умирать… пока. Хочу увидеть свой сад летом через несколько лет». Последний фильм режиссера, «Блю», имитирует его невидящий взгляд — ярко-синий экран не меняется на протяжении семидесяти девяти минут. Это цвет вакуума, насыщенный ультрамарин занебесного мира. Звуковое сопровождение — поток воспоминаний с поэтическими вставками — искаженная цитата из Уильяма Блейка: «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, каково оно есть».
Я резко поднимаюсь — кровь приливает к голове, и трава плывет перед глазами, на миг я слепну, голова кружится, пчелы врезаются в меня, жужжа на наречии, которого я не могу расшифровать, не говоря уже о том, чтобы делать предсказания.
•
Возвратившись в «Чекерс», я ложусь вздремнуть и сплю, пока солнце не зависает над горизонтом, затем иду в бар, где съедаю чудовищного размера бургер, он соскальзывает с тарелки, когда я протыкаю его вилкой под пристальным взглядом усатого пса, чей хозяин за все время, что я здесь нахожусь, ни разу не шевельнулся. Вечер такой чудесный, что нет мочи сидеть в четырех стенах. Когда я выхожу за порог, в небо взмывают ласточки и садятся на колокольню, их громкие крики слышатся над могилой сестры Нельсона.
Тропинка ведет меня к Слаффамскому пруду, рудименту черной металлургии, когда-то она была сильно развита в этой области. Мысль, что природа может что-то почерпнуть от цивилизации без ущерба для себя, абсурдна, по меньшей мере, на перенаселенном юге Англии. Местный ландшафт формировался веками под влиянием человеческой жизнедеятельности, меж тем как сам человек, как я полагаю, сформировался во взаимодействии с землей. Чтобы изготовить гвозди, или пушки, или изящные щипчики, которыми пользовались еще древние римляне, нужно железо, и благодаря густым лесам, поставщикам древесного угля, необходимого для топки печей, и залежам глины, богатой железной рудой, Вельд оставался промышленным центром, начиная с доримских времен и вплоть до самой Индустриальной революции.
Самые старые промышленные пруды с глинистыми берегами были сделаны из запруд. Из них бралась вода, чтобы снабжать энергией меха горнов, когда в печи выплавлялась руда. Позднее, после внедрения доменной печи, пруды стали использоваться для приведения в действие мехов и молотов в кузницах, где чугун размягчался и из него производились квадратные заготовки, которые затем кузнец превращал в слитки железа. На ходу я пыталась выстроить в уме весь процесс: огни кузнечных горнов, видимые за пятнадцать километров отсюда, громовые удары молота, эхом прокатывающиеся по возвышенности Даунс. Ныне озера — вотчина рыболовов, подобно кузнецам, говорящим на своем особом языке: «Ни палаток, ни бойлов, ни сетей! В духовке пикша даст фору карпу!»
Первые нетопыри пролетели над Кус-лейном, когда я добралась до воды. На автомобильной стоянке стояли три машины и валялись остатки еды из «Макдоналдса». Солнце только-только зашло, все вокруг стихло, небо слегка отливало розовым. Отражения в озере, казалось, проглядывали сквозь толщу воды. По поверхности пробегала рябь, когда карп погружался на дно, а затем выныривал, поднимая брызги. Внизу облака медленно ползли на восток. На дальнем конце озера деревья отражались в черновато-зеленой глади, и, когда наружу выскакивала рыба, от нее расходились белые концентрические круги. На ближайшем берегу, там, где вода сливалась с бледным небом, рябь поблескивала черным — оптический эффект, которого я прежде ни разу не встречала. Кружили мухи, на противоположном берегу рыбачили трое, еще двое — чуть к северу от меня. Всплеск и опять всплеск.
Я присела на корточки на мостках. Розоватое небо пересекал самолет, и в подводном мире он тоже летел, оставляя за собой длинный след. В небе самолет только плавно набирал высоту — неподалеку располагался аэропорт Гатвик. А вот под водой он двигался совершенно иначе, из-за ряби его след выглядел ломаной линией, казалось, будто его водит из стороны в сторону и он извивается, как змея. Будь у меня зрение поострее, я бы различила под водой лица в иллюминаторах. Нужна богиня, чтобы прочистить глаза. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, каково оно есть».
Существуют виды настолько прекрасные, что их сложно переварить. Они застревают на ободке глаза, тот не способен их вместить. Вирджиния Вулф однажды написала: «…вечер был слишком красив для одной пары глаз. Инстинктивно мне хочется, чтобы избыток моего удовольствия достался кому-то другому» (запись от 11 августа 1921 года). Но мне не к кому обратиться. Даже рыболовы умолкли; разговор шепотом о клеве и поставленных на день вершах. Мы говорим, что упиваемся видом, но что происходит с излишествами, ускользающими от нашего восприятия? Чрезвычайно многое остается за гранью нашего сознания. «После часовой прогулки, — писала натуралист Ханна Хитчман, — краски кажутся много ярче, насыщеннее. В мозг поступает кислород? Своеобразная реакция палочек и колбочек?» Но сколь бы долго я ни оставалась наедине с природой, был мир, недоступный моему зрению, пребывающий на грани восприятия, различаемый мельком и лишь фрагментами, точно дельфиниум, впитывающий в сумерках неземной ультрафиолет.
Темно-синий — последний цвет перед темнотой. Внезапно он затопляет все небо. Лишь на короткий миг оно кажется безмерным, светящимся, а затем сразу же падает ночь и даже запад пропадает из вида. Внезапно становится зябко, и я медленно иду назад, проникаю в дом через пожарный выход, протискиваясь между доской для глажения и прессом для брюк. Окно открыто, и сквозь сон от входных дверей до меня доносятся голоса:
— Ладно, Пэт, увидимся, до скорого! Трев, приятно было повидаться.
— Со знаками «новичок», как у тебя, нельзя ездить по магистрали.
— Помолчи минутку, я с тобой говорю.
— Не спорь со мной, не спорь со мной, я беспокоюсь о Треворе.
— Трев! Трев! Я, я, я, ну же, Тревор?
— Ой, Ирен меня ударила.
— Неудивительно.
— Ладно, ступайте. Трев, Трев, я, я, я!
— Увидимся на Рождество.
— Пока, Трев, приятно было повидаться.
Под чиханье и гул моторов они уезжают, а я засыпаю и сплю короткий остаток ночи.
•
На следующее утро после порции пластмассовых помидоров и тоста, густо намазанного маргарином, я снова снаряжаюсь в экспедицию. План на сегодня очень четкий. Мне предстоит проделать почти тринадцать километров на юго-восток, по кривой, через Хай-Вельд до Линдфилда, где я и переночую. Хай-Вельд — странная полоса сельской местности, тянущаяся от Хэмпшира до самого Кента. Слово «вельд» происходит от староанглийского обозначения лесистой местности: когда-то эти акры чередующихся лесов и лугов на склонах были крупнейшим зеленым массивом в Англии. Англосаксы называли его Andredesleage — огромная непролазная поросль дубов, ясеней и грабов, ольхи, орешника и остролиста, где во множестве водятся волки и кабаны. В Вельде сложилась промышленность, отчасти связанная с алхимией: углежжение, выплавка железа, производство лесного стекла [9]. Поразительно, но достаточно искры и дуновения ветра, и лес вместе с землей принесут доход. Считается, что оконное стекло пузырится и расслаивается на светло-зеленые пластинки, точно лед в зимний день.
Из-за того же сочетания деревьев и обогащенных рудой глин, сделавшего Вельд пригодным для выплавки железа, этот край труднопроходим, а в наиболее диких его уголках проходят лишь старые тропы погонщиков скота, похожие на канавки. Хотя в эпоху Тюдоров леса вырубались с такой ожесточенностью, что даже был принят указ о запрете валки молодых деревьев, Вельд — по-прежнему самая большая лесистая зона страны. Также сохранились рудименты местного языка, и даже сегодня притоки реки, изрезавшие крутые долины, называются ghylls, а полоски кустарников, образующих границу поля, — shaws.
Я шла дорогой на Степлфилд, обсаженной буками, а затем, миновав двух мужчин из электроэнергетического управления, отпиливающих от ясеней мелкие ветви и верхушки, свернула на юг. На следующем лугу, когда я наклонилась рассмотреть желтые колокольчики возле живой изгороди, ко мне приблизился мужчина с собакой. «Хотите знать, что это такое? Вас интересует латинское название или бытовое? — поинтересовался он и вдруг сник: — Ой, из головы вылетело. Сейчас вспомню». Оказалось, он садовник, хотя, по его стыдливому признанию, «обучался всем этим премудростям сорок лет назад». Он принялся мне рассказывать, что жители Брайтона тайком выращивают неподалеку отсюда марихуану. «На днях я нарвал пучок и подсунул его жене. Она зеленая, как трава. Обкурилась? Да она на ногах не стояла! Думала, я хочу ее отравить». Он откланялся и зашагал прочь, не переставая ломать голову над позабытым названием цветка.
Тропинка побежала вниз к вытянутому лугу львиного цвета, который лежал в долине, обсаженной ясенем. Здесь река текла через пороги по галечному руслу, где нерестится кумжа. Я перешла реку по Хаммерхиллскому мосту, выгоревшему на солнце до молочного цвета, и стала карабкаться к молодому леску Хаммерхилл-Копс, опять на восток. Пространство, бывшее до утра открытым, теперь, казалось, захлопнулось, как раковина моллюска. На воротах в лес, запертых на цепь, точно опоясанных ремнем, висело женское пальто. Кто его здесь бросил? Ярлык был отрезан, а в розовую сатиновую подкладку точками въелась плесень.
Хаммерхилл — еще один памятник черной металлургии: неподалеку, в лесу Холз когда-то добывали руду. В окрестностях сохранилось множество заброшенных литейных заводиков: круглые впадины воронок, которые зимой заполняются водой, ручьи, скрывающие в галечных ложах отработанные шлаки. Местные названия горных пластов удивительно звучные, они меняются от области к области с переменой рельефа. Под Хитфилдом рудокоп разрабатывал слои тринадцатифутовых шаров, серышек, бочонков, семифутовиков, шайбочек, трехфутовых питти и быков, пока не доходил до подошвы. Далее на восток, в Ашбернхэме в ходу были лисицы, рыцари и помехи, каждый имел собственный характер и горючесть. Мне казалось странным, что пушка отливается из куска породы, раскаленной в кузнице, но, быть может, не менее странной выглядела предыстория плотно прилегающих друг к другу слоев глинозема и известняка.
В меловой период, сто сорок миллионов лет назад, Вельд был вонючим болотом, затененным цикасами, а по краям его росли хвощи и папоротники, которые встречаются и по сей день в виде черноватых окаменелостей. Вельдские известняковые и глиноземные отложения образовались из осевшего ила и песка, который нанесли гигантские реки, текущие с севера и запада. Со временем земная кора просела, и впадину заполнило море, похоронив древние русла рек под морским песком и глиной, из которых позднее сформируются нижний слой глауконитового песка, мергелистая глина и верхний слой глауконитового песка. В следующие тридцать пять миллионов лет из мелких морских обитателей — одноклеточных водорослей и фитопланктона — образовался мел. Умирая, эти организмы, словно дождь, падали на дно теплого моря, создавая наслоение, прираставшее на сантиметр за тысячу лет. В конце мелового периода земная кора стала подниматься, и Вельд опять выступил из-под воды огромным меловым куполом. Возвышенности Северный и Южный Даунс — его остатки. Со временем центральная часть сантиметр за сантиметром разрушалась из-за дождей, морозов и сезонных колебаний воды и в конце концов здесь появились глубокие долины и гряды известняковых гор, вроде той, на которой я стояла сейчас.
•
На опушке леса Хаммерхилл-Копс над ясенями парами летали грачи, в струях воздуха двое стрижей охотились на мух. Трудно себе представить, что местный ландшафт когда-то был совсем не таким, как сейчас, поэтому ничего удивительного, что, когда позднее здесь обосновался человек, он не догадывался об этих бесконечно малых изменениях, пока скрипучий счетчик геологических периодов почти не достиг нынешней отметки. Геология как дисциплина сложилась в конце восемнадцатого века, и первые геологи, а среди них было немало священнослужителей, надеялись своими открытиями доказать истинность Книги Бытия, утверждающей, что Бог создал мир из тьмы: твари обитали в раю, фруктовом саду, отданном во владение человеку, образу и подобию Бога.
Окаменелости часто не соответствуют характеру местности, где они найдены, затвердевшие останки моллюсков, каракатиц и устриц попадаются за множество миль от берега, потому на Западе они назывались допотопными, то есть останками жизни, существовавшей до насланного Богом потопа, после которого Ноев ковчег сел на мель на горе Арарат. Это верование, постепенно опровергнутое, упрямо засело в людских умах, породив псевдонаучную «геологию потопа» креационистов, которая на примере мощных гейзеров и трещин в тектонических плитах на свой лад объясняет, откуда пришла и куда ушла вода, которая была столь обильна, что ее глубина составляла пятнадцать локтей.
В городе, где рос Мэтью, рассказывалась иная история, там на смену креационистской набожности пришла английская комеди-фарс. Сюжет одной из средневековых вейкфилдских мистерий сводится к яростной схватке между Ноем и его упрямой женой. В кульминационный момент супруги обмениваются ударами, осыпая друг друга проклятиями, которые вогнали бы в краску Панча и Джуди [10]. Когда ливень прекращается и корабль, груженный тварями, каждой из которых по паре, достигает берегов, Ной не только не радуется, но ужасается открывшемуся зрелищу — пред ним предстает безликая земля без признаков какой бы то ни было жизни. «Взгляните на эту зелень!» — восклицает он.
…ни телеги, ни плуга Ни деревца, ни сука, Ничего Все погибло: Могучие замки Великие города… Сгинули в потопе.
Типичный йоркширец, думаю я про себя, постоянно брюзжит. Не нужно верить в свидетельства Книги Бытия, чтобы понять потрясение Ноя. Разве не так устроен мир, исчезающий прямо на наших глазах? Последний раз пьеса игралась в 1576 году. Сколько деревьев сохранилось с тех времен, сколько телег, замков и плугов? Возможно, ни единого дуба во всем огромном Вельде, хотя по сравнению с жизнью дуба век человека — ничто. Все они пали жертвой безмолвных и разрушительных наводнений, то и дело вихрем проносящихся по планете. В свое время оно уничтожит весь видимый мир, ведь формы живут лишь короткий миг и разрушаются, какими бы крепкими они ни казались.
В ландшафте, где изрядно погуляла вода, одно растение выглядит аномалией, ожившей окаменелостью. Хвощ, забивший каждую канавку, где есть хоть капля влаги, рос здесь еще тогда, когда Вельд был тропическим болотом, задолго до образования меловых возвышенностей Даунс. Если вдруг наступит ядерная зима, то держу пари, хвощ с упругими листьями-иголочками пробьется сквозь пыль и обломки камней, как он это делал на протяжении последних двухсот тридцати миллионов лет. Equisetum, таково его научное название, — живая связь между нашим веком и эпохой динозавров. Пусть теперь его топчут коровы, он рос здесь, когда в Вельде водились игуанодоны, одни из первых найденных динозавров.
Впервые следы игуанодона в начале девятнадцатого века обнаружил акушер и геолог Гидеон Мантелл — всего в полутора километрах от того места, где я сейчас стояла. Тогда не существовало ни понятия, ни слова «динозавр», и даже сама мысль о том, что какая-то форма жизни способна вымереть, была в новинку и принималась едва ли не в штыки. Геология, как я уже говорила, еще только складывалась как научная дисциплина, и для скорейшего определения возраста слоев, составляющих земную кору, было выкопано и впервые научно классифицировано некое количество окаменелостей. Идентифицировать ранних млекопитающих было проще простого, однако ученые также обнаружили странные и загадочные останки. В 1811 году в городке Лайм-Реджис на берегу моря охотница за окаменелостями Мэри Эннинг нашла скелет неизвестной морской рептилии. После жарких споров она была названа ихтиозавром, и в следующие десять лет появились многочисленные статьи с описанием ее анатомии и происхождения. Открытие взбудоражило научное сообщество по обе стороны Ла-Манша. Что за странное животное, почему оно не похоже на морских обитателей, которых находили до сих пор? Каков его возраст? И если оно и впрямь вымерло, зачем его таковым создал Господь Бог?
Как и Эннинг, Мантелл бредил окаменелостями и их загадочной зашифрованной историей. Сын сапожника из Льюиса, он работал по необходимости как сельский врач, занимаясь геологией в промежутках между принятием родов. Его отец не мог себе позволить послать сына в университет, и он очень страдал из-за непролазной нужды, в которой жила его семья. Его дальние предки были дворянами, и подобно многим бедным, но честолюбивым детям Мантелл мечтал восстановить славу своего рода. Он собирал окаменелости с детства; самую первую, аммонит, он нашел в одном из притоков Уза.
Первые изыскания Мантелл проводил в окрестностях Льюиса, среди волнообразного рельефа, отыскивая белемниты [11] и бивальвии [12], которые выдавали меловое происхождение ложа древнего океана. В 1816 году он женился, после чего сменил географию поисков, сосредоточившись на участке Вельда чуть севернее, примерно в пятнадцати километрах от Льюиса. Почва здесь состояла из песчаника, и местные окаменелости существенно отличались от морских останков, которые он привык извлекать на свет божий. Когда по ходу разведывательных раскопок в карьере Уитменс-Грин обнаружились огромные кости — ничего подобного Мантелл прежде не видел, — он начал приплачивать одному из землекопов, и вскоре стал получать свертки с разрозненными частями скелета: разъединенные фрагменты, иногда отдельные, иногда впечатавшиеся в камень. Он трудился по вечерам, после обходов больных, высвобождая кости стамеской в гостиной милого домика, который он купил рядом с замком.
Размер костей сбивал с толку. Сначала Мантелл думал, что они принадлежат ихтиозавру, но его заблуждения развеялись, как только он заметил на некоторых камнях из карьера Уитменс-Грин следы тропической растительности: перистые ветви, походящие на пальмы и древовидные папоротники; отпечатки листьев, удивительно напоминающие молочай, который растет в Азии и никогда не встречался на наших островах. Если эти породы, как он подозревал, лежали под ныне размывшимся пластом мела, это означало, что он наткнулся на остатки тропического мира, неизвестно когда поглощенного древним морем, которое с тех пор отступило от прежних берегов и изрядно уменьшилось. В свете этого предположения размер костей казался еще более интригующим. В начале девятнадцатого века в Европе с изрядной периодичностью находили окаменелости гигантских млекопитающих: мамонтов, мастодонтов и других предков слона. Однако их обнаруживали в горах, образовавшихся в третичный период, тогда как Мантелл был практически уверен, что его кости из более глубокого и, соответственно, куда более древнего геологического слоя. Примерно тогда же, когда на побережье Франции были извлечены из грунта скелеты древних крокодилов, жена Гидеона, Мэри Энн Мантелл, сделала странную находку. Мантелл оставил несколько записей об этом, однако все они грешат отсутствием подробностей или точных датировок. Ясно одно: не то в 1820-м, не то в 1821 году его жена нашла гигантский зуб — возможно, даже несколько — на дороге возле Уитменс-Грин, где он валялся среди недавно извлеченных из карьера камней. Этот зуб — а Мантелл порой уверял, что лично его отыскал, — стал ключом к тайне костей, хотя потребовалось еще четыре или пять лет, чтобы разрешить ее до конца. Вскоре палеонтологи наткнулись на аналогичные зубы, и их внимательный осмотр доказал, что они не имели отношения к крокодилу. Со всей очевидностью, они принадлежали травоядному животному: зубы были сильно разрушены, а форма их говорила о том, что они приспособлены для перетирания травы. Но даже в таком состоянии они были гигантскими — почти тридцать пять с половиной сантиметров в длину и, по словам самого Мантелла, «казались столь необычными, что это не укрылось бы от глаз самого поверхностного наблюдателя». Если это не зубы млекопитающего или рыбы, тогда что? Эта мысль не оставляла его ни на минуту, и в конце концов опытным путем он пришел к единственно возможному выводу — это гигантский вид ящера, о существовании которого до сего дня никто даже не подозревал.
Когда я размышляю о деятельности Мантелла, мне на память приходят древнегреческие мифы и народные сказания Северной Европы, в которых герой должен выбрать из грязи мак или разобрать по сортам перемешанные зерна. Обычно эти поручения выполняются при вмешательстве волшебной силы, как это происходит, например, в легенде об Эроте и Психее или в русских сказках о Бабе-яге. На мой взгляд, эти сказания помогают представить себе, какую непосильную задачу поставил перед собой Мантелл, взявшись сложить из обломков разномастных костей скелет животного, само существование которого еще недавно казалось невообразимым.
Убедить научное сообщество в значимости открытия — задача не из легких. Мантелл был сельским врачом, так что, несмотря на очевидный талант, его далеко не сразу допустили в академические круги и, хотя он сдружился со многими геологами, ему столь фатально не везло, что порой он искренне верил, будто на него навели порчу. В 1822 году он выпустил книгу о своих находках в Вельде, к его несказанной радости, четыре экземпляра заказал сам король Георг IV. Но даже успеха книги оказалось недостаточно, чтобы признать догадку Мантелла верной. Он нуждался в одобрении со стороны Геологического общества, однако его члены отвергли гипотезу Мантелла, вежливо сославшись на то, что он неверно определил возраст породы, в которой были найдены кости.
Следующим летом друг палеонтолога-любителя отвез находку на другой берег Ла-Манша и показал ее знаменитому французскому натуралисту Жоржу Кювье, но и тот пренебрежительно отнесся к открытию, заявив, что, должно быть, это зубы некоей разновидности носорога. С трудом справляясь с отчаянием, Мантелл решил собрать волю в кулак и доказать, что порода из карьера Уитменс-Грин датируется мезозойским периодом, то есть значительно древнее пород третичного периода, в которых регулярно обнаруживались останки млекопитающих.
Судьбу исследователя изменили два события. Среди фрагментов костей, извлеченных из Уитменс-Грин, оказались огромные потрескавшиеся зубы, которые явно принадлежали хищнику. Но Мантелл был не единственным первооткрывателем. Геолог Уильям Баклэнд имел в своей коллекции разрозненный скелет крупного животного, найденный под Оксфордом, который, по всей очевидности, принадлежал рептилии. История оксфордского ящера в известном смысле так же непроста, как и история игуанодона, но нам достаточно знать, что в 1824 году Баклэнд публично объявил, что отыскал мегалозавра, первого официально идентифицированного сухопутного динозавра — хотя этого слова тогда еще не существовало. Мантелл присутствовал на этом заседании Геологического общества и, набравшись храбрости, сообщил о зубе хищника, также найденном в Вельде. Баклэнд согласился навестить его в Льюисе и во время их встречи предположил, что зуб принадлежал мегалозавру, который, по его оценкам — как оказалось, ошибочным, — был «ростом с самого крупного слона, а в длину чуть меньше самого большого кита».
И все же научное сообщество склонилось на сторону палеонтолога-любителя, и спустя несколько недель после заседания, на котором был торжественно открыт мегалозавр, Кювье, наконец, признал, что гигантский зуб когда-то рос во рту пресмыкающегося. Труды Мантелла были щедро вознаграждены, а вскоре после того он почти случайно натолкнулся на решающее доказательство, которое так долго искал. В начале осени он провел день в Королевской коллегии хирургов, тщательно осматривая огромную коллекцию анатомических образов в музее Хантериан в надежде отыскать зубы рептилии, имеющие хотя бы отдаленное сходство с его находкой. Его усилия не дали результата, и он опустил было руки, когда случайно разговорился с помощником хранителя Сэмюелем Статчбери. Как выяснилось, тот неплохо разбирался в анатомии тропических рептилий, поскольку время от времени классифицировал образцы, которые рабовладельческие суда иногда доставляли в Бристоль, и сразу усмотрел разительное сходство между зубом Мантелла и игуаны, несмотря даже на огромное несоответствие в размере. Длина игуаны примерно около метра, соответственно, быстро прикинул Мантелл, его тварь могла достигать более восемнадцати метров в длину.
В 1825 году статья Мантелла о гигантском ящере, ныне именуемом игуанодон (от греческого «зубы игуаны») Мантелла — Iguanodon mantelli, была зачитана на собрании Королевского общества. А в конце того же года он получил официальное предложение стать его членом. По всей вероятности, этот момент стал счастливейшим в его жизни, поскольку с ним пришел беспрецедентный профессиональный успех. Мантелл читал лекции о динозаврах, с такой страстью живописуя потерянный мир, что у слушателей от изумления буквально открывались рты.
Он по-прежнему со страстью собирал окаменелости, и в 1834 году очередная находка подтвердила его ранние интуитивные догадки по поводу игуанодона. Так называемая мейдстонская плита была огромным обломком горной породы, извлеченным из кентского карьера вместе с множеством разнообразных фрагментов костей. Мантелл незамедлительно идентифицировал их как принадлежащие одному или нескольким игуанодонам. Костей оказалась достаточно, чтобы сделать первые выводы о внешнем виде животного: на первичных зарисовках оно выглядело как девятиметровая собака с гибким хвостом и шипом на носу. Со временем исследователю стало ясно, что передние конечности животного короче и тоньше задних и хорошо приспособлены для захвата веток. В этом, как и во многом другом, его выводы в корне противоречили гипотезам его извечного соперника, креациониста и хранителя Британского музея Ричарда Оуэна, который ввел в обращение термин «динозавр» и пытался приписать себе открытие игуанодона.
Мантеллу недолго улыбалась удача. Частная медицинская практика, которую он открыл на Брайтоне в 1833 году, практически его разорила, и, хотя городской совет спас исследователя от банкротства, выкупив его кабинет под музей, он столь неумело распорядился деньгами, что его жена Мэри Энн, проиллюстрировавшая его книгу собственными рисунками, ушла от горе-палеонтолога, прихватив с собой четверых детей. Чуть позднее умерла любимая дочь Мантелла, и эти две потери сразили его настолько, что он вынужден был продать Британскому музею всю коллекцию окаменелостей, которую собирал с детства. В довершение всего в 1841 году он получил тяжелую травму спины, попав под повозку. Он прожил еще чуть более десяти лет, по-прежнему ежедневно работая, несмотря на сильные боли, и скончался в одиночестве в Клэпхеме в 1852 году от передозировки опиума, к которому пристрастился после травмы.
Всю свою жизнь Гидеон Мантелл чувствовал себя в интеллектуальной среде изгоем, впустую растрачивающим время, — он винил в этом свою бедность и высокие требования к практикующим врачам. Его дневник переполнен жалобами на оскорбительное равнодушие и презрение со стороны более образованных и удачливых по праву рождения, а также горькими самообвинениями в растрачивании собственных талантов. Игуанодон — счастливое исключение; хотя Мантелл продолжал находить останки динозавров и писать и публиковать книги, именно первая находка сделала ему имя. Открытие гигантского ящера — свидетельство непревзойденного умения с помощью обычной стамески и упрямого нежелания ошибиться воссоздать из беспорядочных костей мир, захороненный во времени.
История Мантелла имеет странное продолжение. После его смерти ходили упорные слухи, будто Ричард Оуэн похитил часть его позвоночника, хотя я так и не нашла объяснений, как это могло случиться. Действительно, Мантелл по завещанию выделил некую сумму на вскрытие своего тела, пояснив: «…если какие-либо его части достойны быть сохраненными как образцы патологических изменений, прошу передать их в музей Хантериан», тот самый, где он нашел доказательство того, что гигантские зубы принадлежали рептилии. В итоге его позвоночник — а он необычно деформировался из-за явно очень болезненного сколиоза — заспиртовали и в таком виде он почти столетие простоял в качестве экспоната среди разных диковинок, от зубов и черепов древних римлян до скелета ирландца-гиганта Чарльза Бирна. В 1941 году музей попал под бомбардировку, и около сорока тысяч анатомических образцов было уничтожено. По слухам, повторяемым практически во всех биографиях Мантелла, в их числе был и его позвоночник, однако это не так. Его спинной хребет пережил войну, а в 1970 году во время генеральной уборки музейные служащие по недосмотру отправили его в запасник. К тому времени большая часть его обширной коллекции окаменелостей была уже продана, утрачена либо рассеяна по разным владельцам — к этому действительно приложил руку злокозненный Ричард Оуэн.
•
С того места, где я стояла, виднелся карьер Уитменс-Грин — клочок леса, лежащий к югу от гряды. За ней синели холмы Даунс, они заслоняли собой низины — болота, тянущиеся на уровне моря от Льюиса до самого побережья. Можно нарисовать себе в воображении, как все это выглядело прежде: тропический лес, пересеченный могучей безымянной рекой; жаркий и влажный мир древовидных папоротников и цикад, не ведавший ни английского дуба, ни ясеня. Я представила себе игуанодона, пробирающегося через бесцветковые заросли, ветки хрустят у него под лапами, пронзительные крики режут слух. Земля больше никогда не явит подобного зрелища, ибо, согласно одной из причуд эволюции, единожды отработанный узор впредь уже не повторяется.
Не знаю, слышала ли Вирджиния Вулф о Гидеоне Мантелле, но ее последний роман, завершенный незадолго до смерти, полон видений первобытного мира, извлеченного из недр Вельда. Действие «Между актов» происходит летним днем в загородном доме непосредственно перед началом Второй мировой войны. Персонажи ведут неторопливую беседу, улавливая бессвязные мысли и монологи, как радио ловит помехи. Одна из женщин по имени Люси читает книгу «Очерки истории», объединившую под одной обложкой два реальных труда: «Историю Англии» Дж. М. Тревельяна и «Очерки истории» Г. Дж. Уэллса. На протяжении дня картинки богатой, уединенной жизни в сельской глуши контрастируют с картинами доисторической девственной природы, среди которой бродят описанные в книге динозавры.
От этих контрастов — по меньшей мере, поначалу — веет веселой комедией. Одна из первых сцен происходит ранним утром, когда Люси читает в постели:
«Она… от трех часов до пяти воображала леса рододендронов на Пиккадилли; когда континент, не разделенный еще, как она понимала, Ла-Маншем, был единое целое; и населен, как она понимала, слоноподобными, но притом длинношеими, тяжкими, неповоротливыми, лающими страшилищами; динозаврами, мастодонтами, мамонтами; от которых, вероятно, она думала, дергая раму вверх, мы и произошли» [13].
Зачарованная видением, самым причудливым образом сжимающим время, она на миг принимает служанку, которая входит в комнату с подносом, уставленным голубым фарфором, за «сопящее чудище, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящийся зеленью подлесок» [14].
«Между актов» — это роман, проникнутый прошлым, о том, как проникнуть в его смысл, столкнувшись с разрушающим эффектом войны. Большая часть повествования — описание деревенского спектакля, в котором минувшие дни Англии предстают как насмешливо-ироничная стилизация, мешанина из поэзии елизаветинской эпохи, комедии эпохи Реставрации и викторианского триумфализма, полная забытых строчек и запинок, когда лишь двигаются в лугах коровы и шелестит дождь. Пьеса высмеивает официальный, имперский подход к истории, рассматривающий прошлое как череду пышных коронаций и битв, — упрощенчество, которое было не в чести у Вирджинии Вулф и людей ее круга.
Невзирая на всю свою сложность, прошлое предстает на редкость умиротворяющим. Действительно, не может не поражать, насколько этот роман походит на археологические раскопки — раскопки культурного архетипа Англии, расчистки череды наслоений, образовавшихся за века мыслительной деятельности. Он построен из обрывков подслушанных, налагающихся одна на другую бесед, которые сами часто содержат отсылки — точные и искаженные цитаты и аллюзии — к великим произведениям прошлого: фрагментам из Китса и «Короля Лира», пассажам из Расина, Суинбёрна и лорда Теннисона. Эти отрывки свидетельствуют о человеческой стойкости и преемственности, равно как и в более широком смысле рождают видения доисторического прошлого, явившиеся Люси.
Роман был написан на пороге великого сдвига в мире, неисчислимых перемен, последовавших сразу после Второй мировой войны. Вулф предчувствовала эти перемены, однако до них не дожила. Грядущий конфликт выдавал себя лишь отдельными сполохами, однако его угроза ощущается необычайно сильно. Порой тон писательницы граничит с отчаянием, но в «Между актов» много игры, и роман не лишен надежды. Он завершается ночью, вневременной темнотой фантомов Люси. Ясно, что грубая сила вот-вот вступит в свои права, но любовь никуда не денется, на это указывает весь опыт наблюдений в мире, существовавшем задолго до того, как человек вышел на сцену и заговорил.
•
Я покидаю гряду и направляюсь на восток, медленно спускаясь в одну из долин, по которым протекает река. Чуть ниже пасется овечье стадо, и пока я протискивалась между тощими овцами и жирными нестрижеными баранами, сотня, если не больше, грачей снялась с дуба и, пролетев над полем, вместе с ветром устремилась на юго-запад. От их гама закладывает уши. Что они делают? Проводят собрание? Замышляют переворот? Несколько птиц свернули назад, самые желторотые, с деревьев до меня долетают их крики, но они не идут ни в какое сравнение с какофонией, произведенной стадом, которое я потревожила. Овцы задирают головы вверх, раздувают ноздри. «Ме-е-е!» — блеют они. И опять, еще жалобнее: «Бе-е-е!» Они сопровождают меня до ворот и глядят мне вслед желтыми глазами, прищуренными от резкого света.
Воздух прогрелся, наступила жара, она продержится на побережье две недели, пока дожди не сведут лето на нет. Пыльная дорога привела меня на ферму, где я бродила в замешательстве между сараями с грозными предупреждениями «Осторожно! Асбест!», не в силах найти правильную дорогу. На открытом манеже сутулая девчушка пускает пони рысью через жерди и валится на землю. По глупости я не надела носков, и теперь правая нога у меня горит. «Продолжайте охоту» — гласит табличка, выставленная в окне Сиденай-коттеджа, буквы разделены на бело-красные половинки, на манер флага с Георгиевским крестом.
Дорога переходит в шоссе, обсаженное шиповником, сахарно-розовым и сахарно-белым. В долине недавно косили траву, голубые стога четко выделялись на фоне внезапно упавшего неба. Придорожная растительность поражала разнообразием, истинная услада ботаника: зверобой и лихнис, свекольно-розовая стена чистеца, репейник, таволга и серебристый калган, способный как останавливать кровь, так и окрашивать кожу в красный цвет. Мне хотелось утонуть в этой траве, ненадолго сомкнуть глаза, но машины по-прежнему проносились мимо, и моим исцарапанным ступням казалось, что шоссе не закончится и через неделю.
Наконец дорога вильнула и устремилась вниз по деревянным ступенькам к красивейшим полям (ничего подобного не видела в жизни!), поросшим шуршащими розоватыми травами, по краям тянулись кусты бузины, пенящиеся кремовыми цветами. Я прилегла под дубом и, сбросив проклятую обувь, устроила пир из овсяного печенья, сыра и зеленого яблока, порезанного на дольки заржавевшим, незакрывающимся ножом. На рюкзак садились мухи, отдыхали пару секунд и опять улетали. Всякий раз, как я прикрывала глаза, раздавалось стрекотанье кузнечиков, словно для того, чтобы улавливать звуки дня, мне следовало отключить зрение.
За все утро я видела Уз лишь мельком, зато теперь слышала, как ниже, за зарослями крапивы течет вода, приток, сочащийся через долину внизу. Парочка вяхирей нежно ворковала, выводя свою песенку про коров и Сьюзен. Откуда-то сверху доносился стук проходящего поезда, свистящего при подъезде к перекинувшемуся через реку массивному виадуку. Ветер трепал деревья, плывущие облака то и дело заслоняли солнце, и на море трав падала тень. Впереди осталось еще одно поле, а затем дорога подходила к реке.
Мне опостылело ждать. Я вприпрыжку вбежала под виадук, едва удостоив вниманием одиннадцать миллионов кирпичей, из которых он был сложен. Годами я ездила по этому мосту на работу и с работы и всякий раз вытягивала шею, чтобы увидеть волнующуюся под ним реку. Теперь же я была на приволье, не обремененная никакими делами, и у меня не было времени глядеть наверх, туда, где громыхают поезда, наполненные людьми, от которых словно исходят миазмы недовольства. На опушке леса, однако, я перешла на медленный шаг. Ландшафт здесь претерпел очередное изменение: дуб уступил место ольхе, возвышенность — лощине. Деревья не пропускали свет, не давая траве толком расти. Место было мрачным, вода, лишенная тени, почти ушла в глину. Я брела вдоль берега, пока дорогу мне не преградил куст остролиста, высовывающийся из-за поросли вялой черемши, когда я на нее наступила, от нее резко пахнуло чесноком. В верховьях реки я слышала, как вода бежит по камушкам, здесь же течение замедлялось, и серая струя катилась между отвесными берегами высотой почти в два с половиной метра, из которых торчали корни деревьев, сплетшиеся в фантастические, невероятные узлы.
Позднее я доберусь до Линдфилда, съем порцию тикки из курицы в деревенском трактире, глядя на заросли орхидных растений на замусоренной обочине, и наконец усну на выдвижной кровати в доме, построенном в последние годы царствования Генриха VIII и окруженном тысячелетней изгородью, старейшей в Суссексе. Кровать была сбита из досок, щедро украшенных нанесенными от руки узорами, белыми по белому, и на ней я проведу беспокойную ночь, мучаясь от жары и несмолкаемого журчанья невидимого ручья.
Но все это было не важно. Поднявшись, я увидела оленя, который пил воду. Он меня не заметил, пока карабкался вверх по берегу, и вдруг навострил уши. Задняя часть его туловища напряглась, как у лошади, — движение, которое, как я знала по себе, служит прелюдией к прыжку, — и дунул прочь. Он двигался до странности скованно, как игрушечный конь-качалка, проскакал на негнущихся ногах по дороге и скрылся в чаще леса. Олени в этих краях не являются ни редкостью, ни диковинкой. Если подобных мне на земле миллионы, то их — тысячи. Просто наши пути на миг пересеклись. Встретить оленя было так же странно, как игуанодона, заточенного в глубине веков. Просто все мы повязаны между собой. Возле меня на восток бежало течение, неутомимое как игла. Стежок во времени, стежок во времени. Что еще нужно миру? Мои ощущения за день — прохладный неподвижный воздух, резкий чесночный запах — в какой-то миг сделались такими явственными, что гигантский, сокрытый от взора возраст Земли показался неправдоподобным, как сновидение. Я пригнула голову и вслед за оленем двинулась в лес.
Ч. У. Скотт-Джайлс. Семь кругов Ада. Иллюстрация к первой части «Божественной комедии» («Ад») Данте. Впервые опубликовано Penguin в 1949 г. Иллюстрация: семь кругов ада Преддверие — жалкие души Река Харон 1-й круг — лимб некрещеные младенцы и добродетельные язычники; 2-й круг — похоть; 3-й круг — чревоугодие; 4-й круг — скупость и расточительство; 5-й круг — гнев; 6-й круг — стены города Дита; 7-й круг — город Дит
III погружение
На эту ночь я остановилась в доме под названием Копигольд-Холлоу, притулившемся под высоченным обрывом над морем. Сад изобиловал цветами: пионами, водосборами, распустившимися розами; темный прозрачный воздух был пропитан их ароматом. Мне не спалось; лежа на низенькой кровати, я то проваливалась в сон, то внезапно просыпалась. Я думала о том, что видела реки, которые знала только по книгам, они извивались, как змеи, то и дело меняя русло. Среди них была коричневая богиня Элиота [15], Лиффи [16] Джойса, Темза цвета жареных каштанов, от которой пахнет пирогами, как она описана в «Ветре в ивах» [17], грозный Альф из поэмы «Кубла Хан» С. Кольриджа.
Территории, налагающиеся друг на друга либо парящие в невесомости, неподвластные никакой географии. Реки петляют по мирам, как реальным, так и вымышленным, изливаются родниками и фонтанами и иссякают, образуя лиманы или болота. Они текут в романах Ч. Диккенса, поэмах Дж. Элиота и в Библии, неся тела или младенцев в корзинках. Это Сей и Флосс, сверкающая черная Конго Дж. Конрада, стремительные потоки Э. Хемингуэя и А. Маклина, Миссисипи Гекльберри Финна и Темза «Пустоши» [18] и Вирджинии Вулф. Хотя все эти реки были всего-навсего книжными, меня едва ли не пьянили их изображения, ведь они питали мою неуемную страсть к воде.
Когда я окончательно проснулась, было почти девять, и я, спотыкаясь, спустилась к завтраку. Пока я глотала сосиски и жадно прихлебывала кофе, хозяйка гостиницы толковала о церкви в Бервике и о семействе Блумсбери и его сложных кровнородственных браках. Было 23 июня, канун Рождества Иоанна Предтечи, воспетой Шекспиром ночи, когда все идет кувырком. Считалось, что в канун Иванова дня преграда между двумя мирами истончается. По случаю праздника жгли костры и исполняли ритуальные танцы, а еще это был самый подходящий момент для поиска семян папоротника — сами практически невидимые, они наделяют тем же качеством их обладателя.
Я планировала выйти до наступления жары, но к тому времени, как расправилась с остатками бекона, солнце было уже на уровне глаз и быстро поднималось. Сегодня мне предстояло увидеть не такой уж большой участок реки — там, где она пересекает дорогу Слуп-лейн и течет по лугам возле Шеффилд-Парка. Завтра мне придется добираться до фермы Вагглс, иначе говоря, пройти насквозь весь город Льюис, а затем еще ковылять по болотистому Бруксу. Зато сегодня мой путь лежал преимущественно через леса, остатки огромной лесной территории Andredesleage, когда-то тянувшейся через три страны.
Первым делом я вышла на дорогу, ведущую к Линдфилду; накануне вечером меня насмерть перепугали тени, сгустившиеся с наступлением сумерек, и я неслась вперед, как одержимая. Сейчас же здесь все дышало покоем и блаженной прохладой, передо мной лежало поле для гольфа, все еще скользкое от росы. Дорога бежала по окраине города, пересекая центральные улицы и выводя из церковного двора прямо в поле, где паслись грустные коровы с торчащими ребрами, которые выпирали, как вешалки, из-под неряшливых шкур. Коровам было жарко, и они скучились в колыхающейся тени, которая не продержится и часа.
На дороге не было и подобия тени. Сверху припекало солнце, и резкий свет стал выкидывать шутки с моими глазами. До самого Хэнгмэн-Акра по обеим сторонам дороги трава ярко блестела. На земле валялась солома, и казалось, мое зрение каким-то чудесным образом обострилось настолько, что я могла пересчитать каждую соломинку, каждый пшеничный колосок, каждую травинку, клонившуюся с легким шелестом, когда я на нее наступала ногой. Сквозь грязновато-золотые колосья били лучи, словно устремленные обратно в небо. Краешком глаза я видела мерцающее поле, оно подергивалось, как будто в любой момент вся обманка — хлеба, нарисованные на голубом фоне, — могла сдвинуться в сторону, и мне вовсе не хотелось думать о том, что за ней скрывалось.
Я села, привалившись спиной к живой изгороди, и намазалась солнцезащитным кремом. Легкий ветерок, пахнущий пылью и розами, лизал ограду, а в пшенице там и сям вспыхивали слабые огоньки. Мое нынешнее перегретое состояние предвещало приступ мигрени. Такие фокусы со зрением, когда вам мерещатся опадающие лепестки или косяки плавающих звезд, имеют странный побочный эффект: мир кажется зыбким, точно иллюзия, созданная стенами света.
Одним из симптомов психического расстройства, которым страдала Вирджиния Вулф, были мигрени, во время обострений они сопровождались слуховыми и зрительными галлюцинациями. Безусловно, неспособность осознать свои ощущения сказывалась на ее восприятии мира: он казался ей хрупким и пребывающим в постоянном движении. В статье «Современная художественная проза» она назвала его «непрекращающимся потоком бесчисленных атомов», такое его понимание нашло отражение почти во всех ее книгах. Некоторые ее персонажи, если вдуматься, также страдали от галлюцинаций, например бедолага Септимус Уоррен-Смит в «Миссис Дэллоуэй»: он, пошатываясь, бредет по Риджентс-Парку и видит, как собака трансформируется в человека, деревья оживают и между лавочками к нему идет покойник.
Мне не мерещатся псы, превращающиеся в людей, однако весь остаток дня с моим зрением явно творятся метаморфозы, словно меня нечаянно заколдовали, как персонажей «Сна в летнюю ночь». Путаница в пьесе вызвана соком анютиных глазок — Viola tricolor: если спрыснуть им глаза спящего, то он влюбится в первого встречного, будь то лев, обезьяна или шут с ослиной головой. Но даже те, кто избежал помазанья, не верят собственным глазам. «Мои глаза расщеплены как будто, — восклицает потрясенная Гермия. — Я вижу все вдвойне». «Уверены ли вы, что мы проснулись? Нет, мы спим, мы грезим, по-моему» [19], — отвечает ей Деметрий. Быть может, это магия даты или синоптическая реакция на солнце, но весь день на меня периодически накатывали сомнения в материальности того, что я вижу, словно я тоже разгуливала по ускользающим пространствам сновидений.
Я укрылась в лесу Хенфилд-Вуд, хотя, чтобы туда добраться, мне пришлось миновать отстоявшие от деревни селения, к каждому из которых вел собственный дугообразный подъезд. На телеграфных столбах то и дело встречались объявления, обещающие «солидное вознаграждение» за пропавшую сиамскую кошечку». Лишь прочитав третье, я осознала, что они датированы восьмым сентября. Эти объявления усиливали чувство остановившегося или застопорившегося времени, так или иначе, то были проделки летнего солнцестояния, переломного дня в году, когда все на короткий миг будто затормаживается, прежде чем качнуться к зрелости и к последующему разложению.
Выше нос, сказала я себе, но потерявшаяся кошечка не шла у меня из головы. Королек в лесу щебетал: «Притюти-притюти-притюти». На последнем слоге интонация шла вверх, получалось очень жалобно. Свет здесь был приглушен, просачиваясь через папоротники и листья орешника и ложась на землю узорами внахлест, наподобие зеленоватых чешуек. Впрочем, в атмосфере было что-то нервозное. Казалось, передо мной вход в иной мир, тайный либо упраздненный. Хенфилд-Вуд не был естественным лесом. Он выглядел очень ухоженным, с утрамбованными тропинками, вдоль широкой аллеи выстроились накренившиеся телеграфные столбы. До меня доносился детский визг, на краю поля гладкие кобылы с жеребятами жевали сено, которое подвозила девушка на квадроцикле. Изгородь смотрелась как новенькая; загоны были электрифицированы. Это был юго-восток, распределенный на участки, безупречно чистый, об этом гласил каждый его квадратный метр. Но от теней леса, несмотря на всю его чрезмерную ухоженность, веяло чем-то неукротимым.
Я сошла с дороги и направилась к роще, где ясень рос вперемешку с приземистыми дубками. Веточки потрескивали, листва шуршала, словно кто-то шевелился в кронах. Вчера в Риверс-Вуде, почувствовав на себе чужой взгляд, я принялась озираться по сторонам, ожидая заметить черного дрозда. На тропинке стоял мужчина. Когда я повернулась, он пригнулся и нырнул в гущу папоротников. Впереди виднелись два фазаньих загона, дорога шла как раз мимо них. «Кто кого напугал?» — размышляла я. В лесу мне часто становится боязно, подобное чувство я испытываю еще разве что на многоуровневой парковке. Я боюсь, вдруг что-то случится, а вокруг — ни души, боюсь заблудиться — что среди деревьев, что среди бетонных колонн.
Этим утром я думала о «Ветре в ивах», и тут меня осенило: если эта сказка привила мне любовь к рекам, то могла породить и легкое недоверие к лесам, раз уж она так врезалась мне в сознание. Отец ушел, когда мне было четыре, через выходные он приезжал из Лондона и забирал нас к себе. По дороге я слушала кассеты с записями «Рассказов о приведениях» М. Р. Джеймса, «Троих в лодке, не считая собаки», «Повести о двух городах» и самое любимое — «Ветер в ивах». Тогда мы жили в районе Теймс-Валлей, неподалеку от дома, в котором вырос сам Кеннет Грэм, и место, пусть и безымянное, мгновенно опознавалось. Мы с сестрой слушали кассету так часто, что она стала частью семейного фольклора, запечатлелась на открытках по случаю дней рождений и в домашних шутках. На наших пикниках на берегу Темзы мы твердили мантру: «Жареный цыпленок, отварной язык-бекон-ростбиф-корнишоны-салат-французские булочки-заливное-содовая…» [20], плотоядно потирая животы.
Однажды осенью в начале 1980-х мы возвращались домой в ливень и по дороге у нас кончился бензин. Лило как из ведра, и отцу пришлось запереть нас в машине, не вынимая ключа из зажигания, кассета продолжала крутиться. Темно не было, однако по стеклам бежали нескончаемые струйки воды, и внешний мир словно отодвинулся куда-то далеко. Когда мы затормозили, Тоуд как раз впервые увидел автомобиль, а затем картина резко сменилась. «На улице было холодно, свинцовые тучи неподвижно, тяжело нависали над землей, — произнес рассказчик. — Крот на цыпочках вышел из дома». Должно быть, зимний воздух его опьянил, ибо он пребывал в том бесшабашном настроении, когда ноги сами собой понесли его в Дремучий Лес, хотя долгое время сама мысль о подобном приключении вызывала у него опаску.
Мы с сестрой тревожно переглянулись. Поначалу ничто в лесу не показалось ему странным. Лишь когда сгустились сумерки, Кроту померещилось, что на него из дупла кто-то смотрит. Неужели это была чья-то физиономия? Крот пригляделся. Померещилось. Но тут в дупле мелькнула еще одна, потом еще, внезапно их образовались сотни — злых узких физиономий с жестоким взглядом. Затем к физиономиям добавилось посвистывание, а вскоре послышался топот, который все усиливался, будто град молотил по палой листве, словно за чем-то — кем-то — гнались. Крот тоже припустил со всех ног — сердце вырывалось из груди, ноги подкашивались — и бежал, пока не зарылся в сухую листву у корней старого дерева, перед тем едва не свалившись в глубокую темную яму.
На счастье, как раз в этот момент вернулся отец с канистрой бензина — его подвез незнакомец. Крот — мы ждали с замиранием сердца — также был в безопасности. Его отыскал дядюшка Рэт, вооруженный дубинкой, а когда лес замело снегом, пара друзей наткнулась на нору Барсука. Никто не пострадал. Никого не заклевал насмерть дятел, и мы сидели на заднем сиденье, целые и невредимые. Тем не менее это происшествие укрепило вкравшееся мне в душу ощущение, что мир не всегда столь приятен, как кажется, и когда я познакомилась с судьбой самого Кеннета Грэма, то не слишком удивилась, узнав, какая мрачная доля ему досталась.
***
Кеннет Грэм родился в Эдинбурге в 1859 году, детство провел в графстве Аргайл, где его отец служил заместителем шерифа. Он рано познал лишения, потеряв отца, мать, родной дом, и хотя его мать умерла от скарлатины, причиной всех прочих семейных неурядиц был алкоголь. Каннингэм Грэм был алкоголиком, тайным пьяницей, он сгубил семью не физическим насилием или злой волей, а просто не сумел предотвратить ее сползания в хаос. После смерти жены Каннингэм перестал контролировать себя, и его более трезвомыслящим родственникам стало ясно, что четырем осиротевшим детям нужен другой дом.
Таковым стал особняк Маунт в Кукхэм-Дине, небольшой беркширской деревне в полутора километрах от Темзы. Маунт принадлежал бабушке Кеннета по материнской линии и был, по его собственному отзыву, одним сплошным раем с садами, ельниками, прудами и источниками, населенным бандитами, ворами и пиратами — с пистолетами! Этот период, почти свободный от вмешательства взрослых и обогащенный игрой воображения, полностью преобразил Кеннета, и, хотя он не продлился и двух лет, воспоминания об этой утерянной Аркадии остались с ним на всю жизнь, повлияв на его сочинения. Он постоянно обращался к Кукхэм-Дину в романтических ностальгических рассказах, принесших ему славу, а к реке он возвратился и в своей последней книге: сказке о дядюшке Рэте, Кроте и мистере Тоуде.
В 1866 году особняк Маунт и его волшебные сады были проданы, и примерно в то же время Каннингэм изъявил желание взять детей назад. Однако уже через год он поставил на прошлом крест, бросил дом, уволился с работы и уехал во Францию, где и провел остаток жизни в дешевом пансионе в Гавре. Дети вернулись к бабушке, которая к тому времени переехала в коттедж неподалеку от Кукхэм-Дина, а в 1868 году Кеннета отправили в школу, обучение оплачивал его дядя. Эти три события, столь близкие по времени, травмировали ребенка настолько, что его память словно застыла в семилетнем возрасте. С потерей Маунта и отца его детство во всех смыслах закончилось.
Школы-пансионы учат мальчиков скрывать чувства и прятать свое «я» столь глубоко, что докопаться до них порой невозможно. Искусство прятаться Кеннет освоил превосходно. Скрывать свой внутренний мир от взрослых, этих олимпийцев, чьи стереотипные и глупые замашки он высмеивал в своих позднейших рассказах, он привык с детства. Проблема была в том, что его тайное «я» не желало созревать, проще говоря, Кеннет так до конца и не повзрослел. Скрытный мальчик остался в душе малым ребенком, и, хотя именно это свойство позволяло ему необычайно остро воспринимать действительность, оно же делало его абсолютно неприспособленным к нормальной жизни.
Кеннет мечтал поступить в Оксфордский университет, место, которое виделось ему волшебным царством и куда его не пускали. В эссе, опубликованном уже после смерти, он трогательно описывал это чувство отчуждения:
«Что предвещали эти величественные и высоченные двойные ворота, сурово зарешеченные и никогда не открывающиеся зря? — задавался я вопросом. Лишь мало-помалу и куда позднее я стал понимать, что они служили ясным символом и назиданием. Среди смеси качеств, придающих обаяние студенческой жизни, есть те, что несут немалый налет (надо ли говорить?) исключительности и чванства. Никто их не воспринимал таковыми, однако их присутствие ощущалось, и ворота были тому типичным примером. Разумеется, никому не приходит в голову, что чванство никуда не делось. Ведь ворота стоят на прежнем месте».
Эти строчки явственно перекликаются с произведениями Вирджинии Вулф. Писательница ни дня не ходила в школу, не говоря уже об университете. В эссе «Своя комната» она с горечью, смешанной с иронией, описывает свое посещение Кембриджа. Там ее то и дело куда-то не пускали или откуда-то выпроваживали, ведь дамам не дозволено ходить по газону, а «в библиотеку они допускаются только в обществе Члена Университетского Совета или с рекомендательным письмом» [21]. Недостаток регулярного образования заставлял ее всю жизнь чувствовать себя профаном — временами это ее угнетало, временами, напротив, раскрепощало. В ее дневнике есть запись, которую, как мне представляется, высоко оценил бы Кеннет Грэм: «Посвященные пишут на бесцветном английском. Они — продукт университетской машины. Я их уважаю… Они оказывают великую службу, подобно римским дорогам. Но они избегают лесов и блуждающих огней».
Вместо обучения в Оксфорде Кеннет Грэм по указке ненавистного дяди, контролировавшего финансы детей, устроился на службу. Он работал подручным на семейной ферме, а в 1879 году, прямо под Новый год, поступил клерком в Банк Англии. В конце девятнадцатого века этот банк по всем отзывам был весьма своеобразным местом. Согласно Элисон Принс, автору последней биографии Грэма, здесь не было в диковинку застать клерка в туалете за разделкой бараньей туши, купленной на местном рынке. В туалетах также устраивались собачьи бои, которые настолько вошли в обиход, что некоторые особенно азартные клерки держали бойцовских собак на цепи прямо в конторских помещениях. Пьянство было нормой, рабочий день короток, а о поведении персонала ходила дурная слава, совсем как о нынешних менеджерах хедж-фондов и валютных спекулянтах.
Можно было ожидать, что чувствительный юноша потеряется в подобной среде, однако Грэм учился в обычной средней школе и уже привык к мальчишеским безобразиям. Он никогда не лез на рожон, медленно поднимался по служебной лестнице, а в свободное время начал писать. Сегодня его ранние вещи кажутся сентиментальными, однако они были созвучны викторианской тяге к невинности, и читатель принимал их с нарастающим восторгом. Грэм писал о природе, о скитальцах и странниках, о тупых дядюшках и людях, оставивших исполненный вражды город, чтобы вольно бродить по сонным долинам Темзы. На современный вкус, осень у него слишком часто приходит в желто-красной плащанице, но со временем таких красивостей становится меньше. Когда Грэм начал воссоздавать мир своего детства, его сочинения приобрели простоту и жизненность. «Золотые годы», его второй сборник рассказов, почти целиком автобиографический, задел у читателей настолько глубинные струнки, что писатель в одночасье сделался знаменитым.
Пока век близился к завершению, в жизни Грэма произошли две перемены. Он получил должность секретаря Банка Англии и встретил Элспит Томпсон, свою будущую жену. В 1897 году ей было тридцать пять; сирота с чудинкой, которая, несмотря на детские манеры, совсем неплохо вела хозяйство своего отчима. В этот период Кеннет много болеет, и его ухаживание в основном сводится к весточкам из различных пристанищ, где он поправляет здоровье. Из их вроде бы обширнейшей переписки сохранилось всего одно письмо Элспит, зато сотни Кеннета. Почти все они написаны детским языком, малопонятным и довольно-таки раздражающим.
«Милая Пташка, — начинается одно из ранних посланий, — ндеюс, ты уже блезка к таму и выпархниш из гнесдышка, чтобы полетат вакруг». Другое, необычайно романтичное, заканчивается так: «Я мичтаю о тибе кагда все станет как всаправду любящий тебя Динозаврик».
Предложение руки и сердца, свадебные планы и разговоры о будущем обустройстве — все излагалось языком, напоминающим младенческий лепет, этот говор позволял обоим участникам переписки играть в малышей, лишь игрой случая занесенных в непостижимый мир взрослых. Помимо того, любовное щебетание на время помогало скрыть вопиющее различие между корреспондентами: Динозаврика мало интересовала интимная сторона жизни, обществу людей он предпочитал лодки и реки, тогда как Пташка была плохо образованна и полна романтических ожиданий.
Невзирая на яростные возражения отчима Элспит и смятение родственников, друзей и даже домработницы Кеннета Грэма, свадьба состоялась. Невеста проплыла по храму, как застенчивая фея, оросив слезами муслиновое платье, в ожерелье из привядших маргариток. Медовый месяц прошел в Корнуолле, где Кеннет доказал свою полную супружескую непригодность: при каждой подвернувшейся возможности он в одиночку садился на весла и отправлялся исследовать окрестности. По возвращении в Лондон, к разочарованию Элспет, в их отношениях мало что изменилось. Тем не менее ей удалось забеременеть, и на переломе веков на свет появился их единственный ребенок Алистер.
Трагедия Кеннета Грэма и его одержимость детством воплотились в его слабовидящем сыне, которого он с первых же дней метко прозвал Мышонком. Если Кеннет эмоционально так никогда и не повзрослел, то Мышонок отринет взрослость как нечто презренное; историю его жизни можно счесть одним из самых горестных примеров в истории литературы, когда реальные дети вдохновляли писателей либо как-то иначе попали на страницы классических сочинений — от Кристофера Робина до Алисы Лидделл и Потерянных мальчиков Дж. М. Барри.
Мышонок родился слепым на один глаз, второй глаз у него косил, придавая детскому личику жалобный вид. С самого начала он был необычным ребенком, и родители не сомневались в гениальности своего чада, хотя тот и имел скверную привычку задирать слуг и беспризорников на улицах — эту склонность Кеннет находил забавной и не особенно старался ее искоренить. Повесть «Ветер в ивах» родилась из рассказов, которые он сочинил для Мышонка, тот в обычаях эпохи воспитывался по преимуществу слугами и часто проводил выходные и праздники вдали от родителей. Началось все, как Кеннет объяснил Элспет в записке, со «скаски на ночь про кротика, бобрика, барсука и водяную крысу» — детская манера изъясняться сохранилась, несмотря на увеличившуюся пропасть между супругами, — продолжение последовало в письмах, адресованных сыну. Поначалу «скаска» воспринималась как нечто глубоко личное, и лишь много позднее Кеннета убедили, что ее можно растянуть до книги. В процессе сочинительства он ввел в нее мистические элементы, в том числе «Свирель у порога зари», странную, полную смутных ожиданий главу, в которой потерявшегося детеныша Выдры находят в момент пантеистического восторга у ног самого Рогатого Бога. Ранних литературных критиков смутила смесь детского шалопайства с явственно языческим преклонением перед природой, но чеканность и юмор повести Грэма ничуть не пожухли со временем, и его прибрежный мир сохранил притягательность и через век после первого тиража книги.
Считается, что с Алистера списана хулиганистая жаба мистер Тоуд, но если верные друзья Тоуда, Крот и дядюшка Рэт, пресекали его дикие выходки, то Мышонка или баловали сверх меры, или вообще не обращали на него внимания. После лет сюсюканья, чередовавшегося с одиночеством, поступление в школу стало для него ужасным потрясением. Мышонку, видимо, пришлось весьма нелегко в школе Рагби, которую он бросил всего через шесть недель, а его краткое пребывание в Итоне кончилось нервным припадком. Вопреки ожиданиям родителей, мальчик не имел особых склонностей к учебе и плохо ладил с одноклассниками, хотя его письма дышат самоуверенностью и обаянием, а на нескольких сохранившихся фотографиях он выглядит достаточно пригожим. В конце концов, Мышонка передали в руки частного педагога; во время занятий он усиленно валял дурака, так что его отец, пустив в ход связи, устроил его в Крайст-черч, один из самых крупных и престижных колледжей Оксфордского университета.
Оксфорд был мечтой Кеннета Грэма, но у Мышонка с первого дня все пошло из рук вон плохо. Он не справлялся с заданиями, провалил экзамены и не сумел подружиться ни с кем из студентов. Однажды вечером в мае 1920 года он отправился из колледжа в Порт-Мидоу, красивое угодье в четыреста акров, которое ограничивает Изиз — так называется в верхнем течении Темза, та самая река, которую его отец обессмертил в своей знаменитой книге. Как это ни странно, именно в Порт-Мидоу зародился замысел еще одного великого образца детской литературы — «Алисы в Стране чудес». Июльским днем, за несколько десятилетий до того, как Мышонок отправился на свою последнюю прогулку, Чарльз Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл, плыл по реке на лодке вместе с тремя юными сестрами Лидделл, уговорившими его придумать историю о необыкновенном подземном мире. Мышонок, чья личная сказка также была записана и продана публике, мимо лабазника и лютиков шагал к железной дороге, он лег поперек полотна, пристроив голову на рельсы, и еще до заката его переехал поезд. При расследовании его смерть была признана несчастным случаем, однако отчет коронера не оставляет сомнений в том, что Мышонок покончил с собой.
После смерти Алистара чета Грэм оставила сельский дом, где прожила долгие годы, распродала большую часть имущества, включая огромную коллекцию игрушек, которые любовно собирал Кеннет Грэм, и отправилась в Рим. В следующее десятилетие супруги путешествовали по Европе и окончательно вернулись на берега Темзы лишь в 1930 году. А через два года Кеннет скончался от кровоизлияния в мозг в их доме на берегу. Его могила так плотно усажена душистым горошком, что воздух вокруг пропитан его едва уловимым запахом.
Позднее гроб с его телом перенесут в Холиуэлл, округ Оксфорда, где находится могила Алистера. Мне довелось побывать в этих местах с Мэтью по чистой случайности несколько лет назад. Кладбище выглядело сильно запущенным, трава была не скошена, а под кустом сирени мы заметили спящую лисицу, свернувшуюся клубочком в тени. Кеннет лежит рядом с сыном, и на их общем надгробии выгравировано: «В память о Кеннете Грэме, муже Элспет и отце Алистера, перешедшем реку 6 июля 1932 года и покинувшем детство и литературу, благодаря ему осененную высшим благословением».
Этой весной я читала «Детскую книгу» А. Байетт, действие которой происходит в начале двадцатого века, в период расцвета эдвардианской культуры. В романе выведены самые разные детские писатели, в том числе и Дж. М. Барри, и Грэм, и раскрывается неумышленный, побочный вред, который они причиняют своим навязчивым интересом к юному поколению. Один из вымышленных персонажей — писательница Олив Уэллвуд, сочиняющая сказки для каждого из своих детей. Всех их, кроме Тома, мало смущает едва уловимая примесь жестокости, вплетающаяся в сюжеты. Мальчик же полностью поглощен творением матери. Мне думается, образ Тома в каком-то смысле — дань Алистеру Грэму.
Для необузданного мальчишки Тома главная радость — бегать по лесам, и школа, куда его отсылают родители, калечит его психику. В «его» сказке речь идет о мальчике, у которого украли тень, и он переносится в волшебную страну, чтобы вернуть ее назад. Когда мать позднее переделывает эту историю в популярную пьесу, он чувствует себя абсолютно опустошенным и отправляется в долгое безумное странствие из Лондона в Кент, добирается до морского побережья в Дандгенессе, дожидается, когда солнце садится, а затем идет навстречу волнам. «Он почувствовал, — пишет Байетт в своем местами тревожном, тревожащем повествовании, — что „сад Англии“ на самом деле — в Зазеркалье, шагнул туда и решительно отказался возвращаться. Он не хотел взрослеть» [22]. Нельзя знать наверняка ход мыслей Мышонка, но эта цитата идеально подходит как эпитафия Кеннету Грэму.
•
Последующие события заставили меня внезапно вернуться к реальности. Я поднималась длинной пологой дорогой и за очередным поворотом увидела, что навстречу мне несутся собаки: одна золотистая, другая — смахивающая на оленью борзую. Я отпрыгнула в сторону, так как появившийся вслед за собаками мужчина добродушно со мной поздоровался и заметил: «Вы витаете в облаках, и вдруг — откуда ни возьмись — собаки», заронив во мне подозрение, что я разговаривала сама с собой вслух.
Лес кончился, и я оказалась перед клубком частных тропинок, бегущих между красивыми старинными особняками. Это был тайный мир абсолютно другого сорта, от него разило деньгами. Дома — Пегден, Пилстиз, Литтл-Гриб — стояли в глубине, от них отходили извивающиеся дорожки, сады окружали вековые буки с рыжеватой листвой. Из-за оград доносились обрывки разговоров, стрекотание газонокосилок и журчание воды, льющейся из открытых кранов. Сквозь ворота я видела клумбы и бордюры, чердачные помещения и коньки на крышах, карнизы и дымовые трубы.
Согласно карте, в миле или двух отсюда была гостиница, внизу, в долине, там, где река пересекала шоссе Слуп-Лейн. Дома уступили место равнине с пастбищами для лошадей и голубыми пшеничными полями, внизу на многие километры расстилался Вельд. Это была последняя возвышенность у меня на пути, семьдесят метров над уровнем моря, и я задержалась на самой вершине, чтобы сфотографировать свою тень, падающую на лютики, и четырех великолепных лошадей, тронувшихся легким галопом, когда щелкнул затвор. У подножия холма виднелась грабовая роща, стволы деревьев казались твердыми и резными, как кости, голые верхушки тянулись к небу. Кто-то соорудил из валявшихся бревен барьеры, типа тех, что мы с подругой лето напролет мастерили в Саутли-Форесте, который, как мне теперь думалось, был остатками Andredesleage. И тут, слава богу, показалась гостиница, где меня ожидали имбирное пиво, ветчина и сэндвичи с горчицей, на которые я накинулась как голодный волк и проглотила все до последней крошки.
Жара не спадала. «От тебя не дождешься помощи», — сказала мужу старуха с собакой. Буфетчик не стал наполнять бутылку водой, а послал меня к колонке во дворе. Ниже дороги, мимо старой мельницы нес свои воды Уз, они казались мутными в тени и коричневыми, как пиво, на солнце, река текла беззвучно там, где прежде плескалась и петляла. Я стояла на мосту, не отрывая глаз от мелкой воды, струящейся под ивами. В книге Грэма есть строчка, превосходно передающую эту картину. «А река все продолжала рассказывать свои прекрасные переливчатые сказки, которые она несла из глубины земли к морю, самому ненасытному на свете слушателю сказок».
От цели меня отделял последний лес, когда-то обширнейшие угодья Шиффилд-Парка, которые Генрих VIII отнял у герцога Норфолкского, а кровавая королева Мария вернула ему.
Едва войдя в Уэпсборнский лес, я услышала жалобное нытье, сначала я подумала, что это цепная пила, потом — хор мух. К деревьям были прибиты дощечки, объясняющие пользу выращивания лесов для периодических порубок, однако явившаяся мне сцена была куда масштабнее тех лесозаготовок, которые мне доводилось видеть. Лес состоял в основном из каштанов, и повсюду из земли торчали пни, сверху спиленные под углом, чтобы не сгнили. Они занимали акр, если не больше. Среди них, точно мачты, высились худосочные дубы и остролисты. Там и сям лежали груды обрубленных сучьев, хотя не знаю, собирались ли их отсюда вывезти или пустить на перегной. «Выращивание лесов для периодических порубок создает естественную среду обитания, необходимую для многих растений и животных» — гласила надпись на дощечке. Что правда, то правда. Здесь в изобилии росла наперстянка, совсем как иван-чай, обживающий воронки от бомб и места пожарищ и точно язычки пламени распространяющийся по черной земле.
Было очень тихо. В колее отпечатались покрышки, выдавив в грязи волнистый узор, а над кронами струился тихий птичий щебет. Порой одинокий странник чувствует, что время обратилось вспять, а порой — что он стоит на пороге иного мира, хотя поди догадайся, рай это или ад. Ландшафт не изменился, во всяком случае, не произошло ничего такого, что можно было бы сформулировать в словах, однако ощущение необычности пронизывало все вокруг. Словно эта территория застыла в далеком прошлом и стала местом, где не хочется задерживаться из страха перед чем-то невыразимым.
В детстве мне снился сон, будто я отправляюсь в ад. Судя по спальне, где я проснулась, вся в поту, мне было шесть. Мы только что переехали — уже в четвертый раз, и я второй год училась в монастырской школе. В этом монастыре, как говорили девочки, окончил свои дни Джордж Джеффрис по кличке судья-вешатель, прославившийся своей жестокостью на «кровавых ассизах», суде над участниками восстания Монмута [23]. Во время летних каникул монахини приходили к нам собирать виноград, из которого делалось вино для причащения, и мне казалось, что они подобрали ключик к моим снам.
Ребенок, воспитанный в католической вере, знает, что мир не сводится к тому, что мы видим, знает, что за облаками и на глубине в тысячи километров существуют другие царства. Хотя в частностях эти верования могут быть отвергнуты, ощущения остаются: что земля дышит, что нельзя доверять своим глазам. Меня приучили думать, что земля очень хрупкая, точно соломенная изгородь, и достаточно одной вспышки гнева, чтобы она повалилась. От книг, которые я читала ребенком, было мало проку. Их заполняли Нетландии и Нарнии, места, куда можно попасть через кроличьи норы или платяные шкафы, слоняясь возле лесов и рек или проходя сквозь зеркало. Разумеется, представление о мире внутри мира, мире, куда смертные попадают, лишь преодолев определенные трудности, не является исключительной принадлежностью ни католицизма, ни эскапистов вроде Кеннета Грэма, блаженного, записывавшего свои истории в канун Первой мировой войны. Такие идеи имеют более древние корни, и в этом изуродованном лесу они казались весьма уместными.
Слово hell — ад происходит от англосаксонского helan — прятать; оно родственно словам hole — дыра и hollow — впадина. Хел, царство мертвых в скандинавской мифологии, считалось сокровенным местом, каким и должна быть территория, где обитают души людей. Его аналог у древних греков именовался Аидом, а у римлян — Дитом. Эти царства не всегда ассоциировались с наказанием и проклятием. В древности ад скорее рисовался обширным залом ожидания, где мертвые, бодрствуя, убивали время.
Как бы ни называлось это место, живые люди не часто посещали его. Согласно античным мифам, лишь несколько смертных совершили путешествие в подземный мир. Эней, прародитель римлян, спустился у Кумской пещеры в царство теней, чтобы поговорить со своим умершим отцом. Одиссей, хитроумный Одиссей, добрался только до входа в Аид и вызывал души умерших на берега реки Ахеронт. Он хотел, чтобы слепой провидец Тиресий указал ему путь домой в Итаку, но к нему слетелись и другие тени, привлеченные кровью жертвенных животных, и среди них — охотник Орион, гнавший перед собой некогда умерщвленных им зверей. Орфей спускался в царство мертвых за Эвридикой, погибшей от укуса змеи, а Гераклу надлежало привести пса Цербера, охранявшего врата Аида. Стоит вспомнить и Психею: дабы вернуть себе возлюбленного Эрота, она должна была справиться с несколькими заданиями, в частности принести от Прозерпины, царицы подземного мира, баночку с волшебным снадобьем.
Последний миф в обработке Роберта Грейвза — хорошее подспорье для поисков пути в Аид, который соединялся с миром смертных запутанными подземными ходами:
Знаменитый греческий город Лакедемон находится неподалеку отсюда. Немедленно отправляйтесь туда и попросите отвести вас на мыс Тенар, лежащий в стороне от всех дорог. Тенар расположен на южной оконечности Лаконии. Как только вы туда попадете, то сразу же найдете лаз, ведущий в подземный мир. Суньте туда голову, и вам явится дорога, бегущая вниз, по которой никто не ездит. Пролезьте через лаз, и дорога приведет вас прямо к дворцу Аида. Только не забудьте прихватить с собой два ломтя ячменного хлеба, вымоченного в медовой воде, держите их по одному в каждой руке и две монетки во рту.
•
Два ломтя ячменного хлеба, вымоченного в медовой воде, — подачка Церберу. По преданию, Психея, спускаясь в Аид, не ела ничего, кроме простого хлеба, ведь принятие пищи в подземном мире отрезало путь назад. Это было табу, которое по неведению нарушила Прозерпина (греки именовали ее Персефоной или Корой). Похищенная богом Аидом — его царство называлось его именем, — она вкусила три гранатовых зернышка (по некоторым версиям, их было четыре, пять или шесть), и, хотя ей дозволялось весной покидать царство теней, зимой она вновь возвращалась к своему супругу. Богиню Персефону Одиссей назвал «страшной» и «могучей».
Эти мифы зародились в глубокой древности в далеких странах. Однако они удивительным образом перекликаются с нашим фольклором, что наводит на мысль о знакомстве с географией и нравами Аида, словно подземные лазы также сокрыты в пещерах и курганах наших промозглых островов. Существуют тысячи и тысячи баллад и сказаний, рассказывающих о маленьком народце, обитающем под холмами в холодных каменных дворцах — точно пчелы в ульях.
Одна из таких легенд называется «Черри из Зеннора», впервые я на нее наткнулась в сборнике рассказов поэта Эдварда Томаса, который, в свою очередь, отыскал ее в книге народных сказок «Популярные сказания запада Англии», составленной Робертом Хантом в середине девятнадцатого века. Черри из Зенора росла в Корнуолле, а когда ей стукнуло шестнадцать, оставила семью, чтобы поступить куда-нибудь в услужение и одновременно повидать свет. Шла она, шла и к исходу дня добрела до перекрестка четырех дорог, где проходила граница знакомого ей мира. Села Черри на камень у обочины и, обхватив голову руками, разрыдалась — так ее тянуло домой. Отерев ладонью слезы, она, к своему удивлению, увидела, что к ней направляется джентльмен, хотя всего несколько минут назад дорога была пустынной.
Выяснив, куда Черри держит путь, джентльмен поведал ей многое. Рассказал, что недавно овдовел и что жена оставила ему сынишку. Что живет он неподалеку, в долине, и, если она отправиться с ним, ей не придется особенно утруждаться — только доить коров и присматривать за ребенком. Черри не все поняла, но он говорил очень красиво, и она решила согласиться на эту работу.
Они вдвоем долго спускались по склону по тропе, затененной деревьями, так что солнца почти не было видно. Наконец они подошли к прозрачному ручью, пересекавшему дорогу. Черри слегка растерялась, но джентльмен обнял ее одной рукой за талию и перенес на другой берег, так что она и ног не замочила. Они спустились еще немного и наконец подошли к высокой ограде. Навстречу им выбежал мальчуган. На вид ему было два или три года, но лицо его выглядело необычным, а глаза ярко блестели.
Обязанностью Черри было вставать на рассвете, отводить мальчика к роднику в саду, умывать его и протирать ему глаза мазью из пузырька. Но ей ни в коем случае не дозволялось мазать этим снадобьем собственные глаза. Затем Черри должна была подоить корову, наполнить ведро молоком и отнести миску молока ребенку на завтрак. После того как вся работа была переделана, джентльмен попросил Черри помочь ему в саду: собрать яблоки и груши и прополоть лук-порей и репчатый лук. Черри и ее хозяин прекрасно поладили, и, когда она кончила прополку, он поцеловал ее в знак одобрения. У Черри было все, чего только не пожелает душа, но она не чувствовала себя полностью счастливой. Ей казалось, что глаза ребенка так блестят из-за таинственного снадобья, и ей часть думалось, что он видит в саду что-то незримое.
Однажды утром она отправила мальчика в сад собирать цветы, а сама, взяв пузырек, помазала свои глаза. Их словно огнем опалило! Девушка бросилась к роднику зачерпнуть холодной воды и вдруг увидела на дне маленьких танцующих человечков, и среди них был ее хозяин, такой же крошечный: он танцевал и целовал проходивших мимо дам. Весь день хозяин не показывался из воды, а вечером как ни в чем не бывало вернулся домой, высокий и статный.
На следующий день он остался дома, чтобы собрать фрукты. Черри помогала ему, и, когда, как обычно, он повернулся к девушке, чтобы ее поцеловать, она дала ему пощечину. «Целуйся со своими эльфами, с которыми ты танцевал под водой!» — воскликнула она. Так хозяин понял, что она нарушила запрет. С грустью он приказал ей возвращаться домой. Он подарил ей платья и разные прекрасные вещицы и, увязав ее одежду в узел, пошел ее провожать. Они долго шли в гору по тропам и проходам и почти на рассвете добрались до ровного места. Джентльмен поцеловал Черри и пообещал, что, если она будет вести себя хорошо, он иногда станет навещать ее. Сказав так, он ушел. Солнце поднялось, а Черри сидела в одиночестве на придорожном камне, и вокруг на целые мили не было ни души. Она заплакала, а устав от слез, побрела домой в Трерин, где все подумали, что явился ее призрак.
Не знаю, настолько стара эта сказка, но некоторые ее детали — волшебное снадобье, подземная страна — кажутся знакомыми. Сказки чем-то похожи на розы: из них делают гибриды, пересаживают на другую почву и они появляются вдали от родных краев. Зелье Черри сродни соку, которым Пак мажет закрытые веки в «Сне в летнюю ночь», и, по-моему, топология этой сказки восходит к «Томасу Рифмачу» [24], классической легенде о подземном мире.
Томас Рифмач (иногда его именуют Правдивым Томасом или Таммом Лиином) повстречал на берегу ручья Хантли королеву эльфов, которая забрала его в волшебную подземную страну, откуда он вернулся много лет спустя, наделенный даром предвидения. Существует множество переложений легенды о Правдивом Томасе, они смешиваются и пересекаются, однако мир, в который попал герой, оказался бы хорошо знаком как Одиссею, так и Черри из Зеннона. Она тоже переходит ручей, хотя в легенде о Томасе он выглядит пугающе, под стать мифической реке Стикс. «Сорок дней и сорок ночей он брел по колено в крови, не видя ни солнца, ни луны и слыша лишь рокот моря». Далее он попадает в зеленый сад, где растут фрукты, к которым нельзя прикасаться, «ибо фрукты этой страны несут в себе все адские напасти». Волен ли Томас уйти? Нет, он не может покинуть волшебное царство по своему желанию, и ему также запрещено открывать рот, «ибо вымолви ты хоть слово, ты уже никогда не вернешься домой».
•
Створка дня приоткрылась. Звук, который я слышала, не имел отношения ни к цепной пиле, ни к мухам: это было была пара красных тракторов, заготавливающих сено. Теперь они мелькали между деревьями: один косил, один собирал; один укладывал валки, другой ворошил их, чтобы сено сохло. В прежние времена на поле выходила целая деревня, а теперь этим занимались двое мужчин, они не смотрели друг на друга, скошенная трава летела в разные стороны, а затем сгребалась. Когда я шла мимо тракторов, то почувствовала томительно-сладкий запах кумарина, поднимающийся от сена. Он так сильно ударил мне в ноздри, что за весь день я произнесла всего пару фраз. «Вымолви ты хоть слово, ты уже никогда не вернешься домой».
Куда меня занесло, в какую эпоху? За грядой стоял особняк в стиле Тюдоров, трехэтажный, с двумя каминными трубами в человеческий рост на каменной крыше. Когда я приблизилась, то увидела, что дом окружен трейлерами, а дорожка покрыта толстым слоем пыли. Вокруг не было ни души, лишь стояли рядами пустые фургоны, дом казался безмолвным, словно занесенный снегом.
Свет теперь падал свободно, широкими косыми потоками, и мне хотелось, как Лори Ли [25], добрести до деревни и взбодриться графином вина. Но вместо того я плелась по пыли, увертываясь от сине-черных стрекоз, пока не пересекла магистраль A 275. Прямо перед мостом Шеффилд-Парк дорога ныряла под изгородь и вела через луг, по пояс заросший травой. Здесь Уз делал кульбит, по его поверхности скользили лоскуты света. Теперь это была самая настоящая река, она текла между берегами, покрытыми непроходимыми зарослями полыни, крапивы и гималайского бальзамина. На дальнем берегу по ветвям бузины карабкались собачьи розы, плоские кремовые зонтики маленьких увядших цветочков переплелись между собой, и от них пахло июнем. Вода была такой мутной и илистой, что походила на жидкую грязь. В ней отражались и искажались растения, а под ними — зубчатые облака, медленно ползущие по небу.
Я опустилась на траву под ясенем. Волосы у меня на затылке взмокли, одежда на спине пропиталась потом. Сколько же мириад зеркал в мире! Казалось, каждая травинка ловит лучик солнца и посылает его обратно в небо. Сверху давили большие белые облака, а под ними носились стрекозы цвета электрик, они неизменно летали парочками, порой склеенные в подрагивающий узел. Вскоре я слегка остыла. Села, выпила воды и съела кусочек сыра. Пока я жевала, мое внимание привлекло какое-то шевеление на краю поля. По лугу катилась волна золотистого воздуха. Она двигалась, как дым, как густое облако из золотых хлопьев. Пыльца. Стоял июнь; слишком поздно для ольхи и для орешника, слишком поздно для ивы. Я прикинула варианты: крапива или щавель, подорожник, масленичный рапс или — что менее вероятно — сосна. Частички пыльцы различаются по структуре; они бывают пористыми и морщинистыми, гладкими и остроконечными. Пыльца подорожника покрыта бугорками; пыльца золотарника — зазубринами, как миниатюрный ананас. По-научному эта форма называется echinate, ежевидно-колючей, от греческого названия ежа — echinos.
Пыльца создана самой природой для того, чтобы перемещаться. Крошечные зернышки — сотни тысяч в одной щепотке — часто снабжены воздушными мешочками, это словно надувные нарукавники у пловца. Такие зерна путешествуют на огромные расстояния. В 2006 году жители Восточной Англии и Линкольншира обнаружили на машинах и в воздухе пыльцу из Скандинавии, которая, как выяснилось, пересекла Северное море и казалась на спутниковых снимках огромным облаком — желто-зеленый шлейф протянулся по берегу, как выразилась «Би-би-си» в своем репортаже. Ученые определили, что это пыльца березы, следствие дождливого апреля и солнечного мая в Дании, хотя повлиять могли и лесные пожары на западе России.
Я откинулась назад и стала наблюдать за приближающимся облаком. Оно могло пересечь океаны, хотя, скорее всего, плыло с соседнего поля, где среди травы росли медно-красный щавель и крапива. Разве это не Платон считал, будто существуют ветры, от которых беременеют лошади? Может ли такой ветер быть плодоноснее тучи длиной в три с половиной метра и шириной почти в метр, катившейся к томимым жаждой цветам?
•
На эту ночь я остановилась в гостинице «Гриффин» в Флетчинге, деревне, когда-то специализировавшейся на производстве наконечников для стрел. Именно здесь были сделаны почти все луки англичан, участвовавших в битве при Азенкуре [26]. В тринадцатом веке поместье принадлежало Симону де Монфору [27]. Сам он бывал тут лишь наездами, а в 1264 году его солдаты останавливались здесь на ночлег по пути из Лондона в Льюис, где прогремело первое крупное сражение Баронской войны. Местное предание гласит, что ночь накануне битвы бароны провели в бдении в маленькой церквушке, хотя, как и многие деревенские легенды, передаваемые из поколения в поколение, оно плохо согласуется с историческими свидетельствами.
Гостиница «Гриффин» тоже была старинной и гордилась своей кухней. Я появилась слишком рано для ужина и часок продремала в крошечном номере со скошенным потолком, куда свет просачивался сквозь кривоватые ставни. В семь я вышла в сад со стаканчиком джина в руке. Близилась ночь летнего солнцестояния, и вся местность наслаждалась теплом, солнце струилось сквозь листья дубов, превращая траву в языки пламени. По лужайке разносился женский голос, хорошо слышный с того места, где я уселась.
«Чертова гадина, — возмущалась женщина. — Чертова гадина, это она дала девчонке кислоту?»
Я обернулась по сторонам. Она сидела через несколько столиков от меня, статная, сильно загорелая дама с изящной шеей и длинными стройными ногами. Она была пьяна. Алкоголь развязал ей язык, хотя, скорее всего, громогласной она была от природы. Ее подруга была низкорослой и круглолицей с взлохмаченной, как у ребенка, шевелюрой и в свободной юбке. С ними была собака, мопс в ошейнике со стразами.
«Ненавижу Брайтон, — кипятилась первая женщина. — Жутко злопамятная публика».
Ее подруга была занята собакой. «Смаглс! Смаглс!» — кричала она. Затем они заговорили одновременно, перебивая друг дружку, да так, что их секреты стали известны всем окружающим. Постепенно публика за другими столиками приумолкла, словно в присутствии королевской особы или покойника.
«В прошлом году я трижды принимала противозачаточные таблетки. — Ты могла бы иметь тройню! — А я четыре тройни! — Он приложил меня о стойку — девушки могут позаботиться о себе — и говорит — Смаглс! Смаглс! — говорит, больше ни слова о кокаине — он виделся с этой девчонкой — но я в жизни ничего такого не делала, в жизни не делала. — А я ему: когда я просила у тебя кокаин? — Это все чертова дрянь, чертова дрянь! — В жизни тебя не прощу».
К ним присоединились двое мужчин, и их стало четверо. Они двигали столики и опрокидывали пепельницы, теряли собачьи поводки и солнечные очки.
«Церковь не имеет готового ответа на этот вопрос, — гласит „Католическая энциклопедия“. — То есть мы можем сказать, что ад существует, но где он находится, мы не знаем». Сартр считал, что ад — это другие. А за три века до него Шекспир написал: «Ад пуст. Все дьяволы сюда слетелись!» [28] Его не избежать, как бы ты далеко ни ушел. После ужина я отправилась в церковный двор, где был похоронен Эдвард Гиббон, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи». Он скончался от перитонита после неудачной операции, из-за воспаления семенников по организму разлился гной и проник в кровь. У меня в голове женский голос прокомментировал: «У него раздулись чертовы яйца». Голос не унимался и все бубнил — плебейский, раздраженный, намеренный все свести до своего уровня. Тем временем небеса наполнились пронзительными криками ласточек. Сидя на скамейке, я смотрела, как птицы снижаются, заведя крылья назад и издавая громкие звуки. Какими странными занятиями мы наполняем жизнь: воспроизводим устройство Аида, исследуем строение зерна пыльцы. Ничто не забывается. Все где-то накапливается, на поверхности или под землей. Этот процесс не останавливается, вот в чем загвоздка. Память все прибывает, как золотой ветер, образующийся на собственных руинах.
•
Этой ночью я долго лежала без сна, едва не задыхаясь. Был канун Иванова дня, тот самый момент, когда исчезает преграда между двумя мирами. Ад и Аид, Дит, дворы и дворцы ши, скрытые под холмами, — до всех этих мест, казалось, рукой подать, быть может, они совсем близко, за пределами душного номера.
Где-то у меня был план ада, смахивающий на анатомический рисунок, который изображает объект в поперечной и саггитальной плоскостях. Во-первых, ад — это лабиринт, опоясанный реками: Ахеронтом, который пересекает кормщик в своей ладье; грозным Стиксом, похожим на пузырящееся вонючее болото; и, наконец, Летой, рекой забвения, протекающей внутри земли и доходящей до самого Рая. На втором рисунке ад представлен как последовательность ступеней или уступов. Он начинается как пологий спуск, где мыкаются мелкие грешники, который затем резко обрывается, как галечный пляж. На краю бездны стоит город, омываемый рекой Стикс. Под ним — пропасть, гигантская сужающаяся воронка, а на дне ее — вмерзший в лед сатана.
Если верить описанным мною иллюстрациям к «Божественной комедии», центр мира Данте в точности совпадает с пупом сатаны. Колодезь, где находится сатана, образовался, когда он был низвергнут из Рая в разгар сражения на небесах и на огромной скорости врезался в нашу вращающуюся планету — катастрофическое событие, полностью изменившее мировую географию. Материковая часть Южного полушария брезгливо расступилась и заняла на севере новую позицию, морские воды хлынули в образовавшуюся воронку, и из-за сместившихся пластов земной коры образовался небольшой островок с Горой Чистилище.
Одни детали космологии Данте отражают верования его эпохи, другие — собственные представления поэта. В четырнадцатом веке многие географы считали, что материковая часть расположена в Северном полушарии, а вся остальная планета затоплена морями. Однако идея, что Гора Чистилище существует как остров в Южном полушарии — плод уникальной фантазии Данте, разместившего Эдемский сад на самой ее вершине, под небесным градом.
Данте поместил Чистилище как антипод Иерусалима в южной части Тихого океана, за 1625 километров от ближайшей обитаемой земли, города Адамстауна на островах Питкэрн. Любопытно, что один из самых активных в мире подводных вулканов, подводная гора Макдональд, находится всего в трех сотнях километров от Дантовой преисподней, расстояние несерьезное для огромного океана. Этот вулкан, открытый только в 1967 году, имеет четыре тысячи метров в высоту, и его вершина выступает из воды. Зафиксировано по меньшей мере два извержения Макдональда: исследовательским судном «Мелвил» 11 октября 1986 года, французским исследовательским судном «Сюруа» и аппаратом для подводных исследований в январе 1989 года.
Эти два корабля обнаружили под водой озера из лавы и сульфидные трубы, мало чем отличающиеся от ландшафта, по которому передвигались Данте и его проводник. Склоны горы толстой осыпью покрывали лава, расплавленная магма и вулканические бомбы в форме буханок и кочанов цветной капусты, свидетельства ужасной катастрофы, произошедшей на дне океана. На восточном склоне вулкана — трещина, и вода в этом месте мутная и переливающаяся из-за постоянно сочащегося из нее перегретого газа. Нетрудно понять, почему считается, будто земля внутри раскаленная и бурлит, но с какой стати воображать себе, что это наше последнее пристанище?
•
Что до местоположения Рая — его легко отыскать на обочине дороги, ведущей к деревне Шарпсбридж, в прекрасном июне. Я рано вышла из «Гриффина», подкрепившись булочкой с шоколадом и миской слив. Утро было в разгаре, самое благостное время, и, присев в поле, я, если можно так сказать, снимала с него сливки. Надо мной с запада, точно цеппелины, плыли облака, отбрасывающие летучие тени на пшеницу цвета морской волны, отливающую серым. Поле заканчивалось двойной канавой, заросшей цветами всех форм и окрасок — словно я любовалась орнаментами в средневековом манускрипте. Клевер, сосчитала я, лютики, хвощ, подорожник, лесной чистец, мускусная мальва и облепленный семенами рыжеватый курчавый щавель. Дикие розы, одуванчики, красно-белая яснотка, ежевика, гладкая скерда и фиолетовые васильки. Вперемешку с ними росли цветы поменьше, более изысканные: журавельник с резными листьями, рогатый лядвенец, нитевидная вероника, зверобой, скальный подмаренник, мышиный горошек и ползучий полевой вьюнок с полосатыми, карамельно-розовыми и белыми цветами. Стебли васильков облепила мошкара, несколько бледно-фиолетовых цветков горошка угодили в паучью ловушку и очутились внутри плотной паутины.
Еще немного, и пейзаж изменился: леса и пастбища уступили место кустам и стадам коров, кряжи из песчаника — более ровной местности, предваряющей возвышенность Даунс. Несколько сотен метров я шла битый час, настолько поглотил меня этот новый мир. Пшеница справа и слева от меловой тропинки была на разных стадиях созревания: на западе голубые колосья стояли как налитые, на востоке были золотисто-зелеными и пушились, над ними вились стайки жаворонков. Я опустилась на бетонную плиту, от которой отвалился дорожный указатель, сорвала колосок и сунула его в рот. Внутри зерен оказалось молочко, правда, те, которые я выдернула из земли позднее, вкусом походили на поднявшееся тесто.
Вокруг меня носились жаворонки, невидимые, но весьма шумливые, они распевали непереводимую песню; считается, что ее исполняют у небесных врат. На плите валялся совиный катышек размером со сливу-венгерку, я положила его на коленку. Он состоял из множества крошечных осколков костей, которые я поначалу приняла за шелуху кукурузы, и панцирей жуков, отливающих черным и оставляющих на пальцах блестящую пыль.
Сегодня был день духовного подъема. Растения всходили или собирались взойти, в воздухе трещали крыльями спаривающиеся стрекозы, порхали степенные бабочки-бархатницы. На другой стороне долины, в поле стоял маленький самолет, и, приблизившись, я заметила летную полосу. На скошенной траве белели утрамбованные стрелки, потрескавшиеся лакированные покрышки лежали друг на друге по три, сверху поблескивали посадочные фары. Самолет был вишнево-белый, над крылом — легендарное G-AYYT [29]. Я вообразила, как он делает петлю и летит из Парижа — сначала над голубым Ла-Маншем, затем над морем пшеницы.
Пшеница не переставала занимать мои мысли. Здесь она почти созрела: длинные зеленоватые волоски торчали в разные стороны и превращали поле в океан травы, волнующейся на ветру, который клонил колосья то назад, то вперед. Дул ветер, горели посадочные огни, и мне поначалу не удавалось свести все факторы воедино и догадаться, в чем тут фокус. Пшеничные стебли на этом склоне казались почти голубыми, причем насыщенность цвета резко увеличивалась снизу вверх. Правда, к концу месяца они пожелтеют, а затем ежедневно будут терять окраску, пока не станут практически бесцветными, превратившись в самую обычную солому, из которой в былые времена в Англии делали крыши и которую поныне кое-когда используют для починки кровель старинных домов. Колосья пшеницы были золотыми, волоски — водянисто-зеленовато-желтыми с бронзовыми кончиками. Когда ветер клонил их к земле — вот именно! — на них попадал дрожащий свет, который то низвергался с холма как шквал, то убывал. «Зерно, — поясняет римский сельскохозяйственный трактат, — это твердая внутренняя часть зубца, покрытого чешуйками, из которых растут длинные тонкие иглы — ости. Таким образом, если чешуйки — это облачение зерна, ость — его головной убор».
Налетел ветер, вывернул листья ясеня белой стороной вверх, и они засверкали на солнце. От Бархэма до деревни Шарпсбридж я шла под пение королька, а вокруг меня носились стрекозы цвета электрик длиной со спичку. Я присела, выслеживая ту, что была крупнее остальных, но она меня не подпустила ближе чем на два метра, хотя сначала я подкрадывалась к ней на цыпочках, а потом попробовала схватить ее на лету. Молочно-голубое туловище казалось пластмассовым, как трубочки, что, переносимые ветром, застревают в живых изгородях или прилепляются к воротным столбам.
Деревня Шарпсбридж упорно выглядела незнакомой. Я здесь останавливалась четыре года назад, в доме, который снимал сын знаменитой актрисы. Это было еще одно знойное лето, и однажды вечером мы долго гуляли под скрип опор линии электропередачи и звуки флейты, вырывающиеся из распахнутого окна и разносящиеся над скошенными полями. Я спала в доме, стоявшем чуть на отшибе, в пустой круглой комнате, а небо над дымоходом — и моей головой — было усеяно мириадами звезд. Судя по всему, этот дом, довольно безобразный, снесли. Быть может, у меня мозги слегка набекрень. Я прекрасно помню необязательные детали: огромный малинник в саду, подгнивший сарайчик у пруда, оплетенный крошечными розочками.
Видимо, от ходьбы на большие расстояния я погрузилась в подобие транса, кровь струилась по сосудам в гармонии с движением ног. Забавно, что и Кеннет Грэм, и Вирджиния Вулф хвалили это необыкновенное состояние, оба считали его сродни писательскому вдохновению. «Природа особенно благосклонна к гуляющим, — пояснял Грэм в эссе, написанном незадолго до смерти, — к полумеханической ходьбе, она наделила ее особенностью, которой не обладает ни один другой вид физических упражнений. Ходьба заставляет ум трудиться, делает человека словоохотливым, восторженным, быть может, слегка ненормальным — творческим и сверхчувствительным, и, в конце концов, у него появляется чувство, будто слова живут собственной жизнью, словно кто-то с ним говорит, а он отвечает». Что до Вулф, то она выражалась лирически, уверяя, что наговаривает свои книги на гребне возвышенности Даунс, что слова льются из нее, когда она будто в полусне бредет под полуденным солнцем. В дневнике (запись от 2 октября 1934 года) она сравнила это состояние с плаванием или полетом в воздухе — «поток чувств и мыслей; медленно сменяемая, незнакомая череда гор, дорог, цветов; все это соединяется в великолепную тончайшую завесу совершенного мирного счастья. Правда, я часто живописала на завесе яркие картины и громко разговаривала».
Впереди были ступеньки, и, спускаясь к полю щавеля, маков и пшеницы, я первым делом увидела ряды цветных огоньков: красно-рыжих, алых и золотисто-коричневых, из их гущи выпорхнула маленькая, бледно-желтая птаха, описала круг и исчезла из вида. Интересно, алые маки того же оттенка, что краска, которую, по словам святого Беды Достопочтенного, англосаксы добывали из улиток: «ее прекрасный цвет не тускнеет ни от солнца, ни от дождя и не блекнет со временем, а только делается ярче»? [30] Цвет мака такой кровавый, что кажется, будто лепестками можно запачкаться, но на самом деле цветок не мажется, хотя, если его раздавить, на коже останется липкая горечь.
Поднялся ветер. На противоположной стороне живой изгороди примостилась пустельга, крылья распростерты, головка неподвижна, словно пришпилена к небу. Щавель облюбовала черная мошка, а на следующем поле была вырыта канава. Я подошла поближе, чтобы взглянуть. Канава была наполовину заполнена прохладной зеленоватой водой, в которой угнездилось множество растений: шлемник, водная мята, болотный подмаренник и кукушкин цвет; листья утопали в воде, а цветы слегка выступали над поверхностью. Над цветами вяло кружила парочка пчел, их жужжание убаюкивало, как кошачье мурлыканье. Я легла на живот и стала смотреть вдаль, на лес за лугом, пользуясь канавой как прицельной линией. Река должна протекать за следующим полем, задумчиво рассуждала я, а в трех километрах от нее — Исфилд. И тут я услышала географический призыв свыше, один из тех, что указывали Кроту на близость его старого дома, и я внезапно поняла, что уже бывала здесь раньше.
Я вскочила на ноги. Точно, вон там по поросшему полосками сорняков лугу вьется река в три метра шириной и почти такой же глубины — именно то, что надо для плавания. Еще недавно я мечтала сбросить одежду и плюхнуться в воду, но все, чего мне хотелось сейчас, это свернуться калачиком на берегу и смотреть вниз на течение, струящееся в тени ясеня, как жидкий уголь. Оно было довольно быстрым, а вода оказалась куда чище, чем я думала, хотя, когда я окунула в нее носок, со дна облаком поднялся глиняный осадок и метнулся косяк коричневатой мелкой рыбешки.
•
Лучшая часть дня ушла у меня на то, чтобы преодолеть последние километры до фермы в Исфилде, где я забронировала себе комнату. Я двигалась вдоль реки от стоянки к стоянки, избивая границы дороги [31], по которой шагала целую вечность. Берега у запруды были илистыми, вода выглядела почти неподвижной. Над тополиными насаждениями Генри Слейтера на старой жестянке отдыхала бабочка, выкрашенная киноварью, на крыльях — круги, сделанные ламповой сажей. Возле истфилдского моста я присела под терном и стала следить за зябликом: он двигался вверх по ветке между твердыми зелеными терновыми ягодами, пощелкивая и издавая переливчатые звуки. Пока я нежилась на солнце, мимо прошли двое рыболовов. Оба бритоголовые, с огромными рюкзаками, один разговаривал по мобильнику. «Точно. Там висит указатель. В Пилтдауне идешь вниз к гаражу, потом увидишь Паки, а потом вниз и направо. Точно, старина, точно! Отлично, до скорого». Это был первый человеческий голос за целый день, хотя во Флетчинге я заметила фигуру, пробирающуюся через кукурузное поле, а на ферме возле Шарпсбриджа мужчину с непокрытой головой, косящего на солнце крапиву у стены.
Мир бывает безлюдным, однако он кишит птицами. Из зарослей терновника на берегу разносилось пение. Я различала трели королька, звук, точно в бутылку уронили монетку, и целый античный хор синиц, обменивающихся тревогами и назиданиями. Птичьи голоса были очень четкими, но, кроме зяблика, я не заметила ни одного пернатого. Целых двадцать минут я вглядывалась в бинокль, прежде чем окончательно потерять терпение. То же самое ощущение я испытывала, когда в детстве играла в прятки. «Иди, иди, давай вылезай!» — бормотала я себе под нос. «Иди!» — этими словами Иисус Христос вернул к жизни Лазаря. Быть может, за два тысячелетия заклинание растеряло свою силу, поскольку моему взору явилась лишь голубая синица. Требовалось снадобье, которое стащила Черри из Зеннора. «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, каково оно есть».
В этот миг над лесом взмыл ястреб, осмотрелся и спикировал, легкий и смертоносный, в прогалину между деревьями. Ого, увидеть, как охотится ястреб! Мое зрение единица, то есть для людей я достаточно зоркая. Зрение ястреба в четыре раза острее, и его мир, соответственно, больше моего. Ястреб видит иголку в стоге сена. Более того, этот хищник различает значительно больше цветов, чем человек. У него пять типов цветовых рецепторов, а у нас — только три, иначе говоря, ястребы чувствительны к ультрафиолету и выслеживают мышей по моче, которая светится. Ястреб также видит чистый желтый цвет, тогда как человек не может точно сказать, желтый цвет одуванчика — это смешение в равных долях красного и зеленого или спектральный оттенок. Все это ввергало меня в ощущение собственной неполноценности, и мне хотелось гневно топать ногами.
Быть может, во мне говорила алчность. Собственного зрения мне хватает с лихвой, еще два рецептора, и я бы рехнулась. Я оставляю попытки отыскать спрятавшихся птиц и даю глазам отдых, уставившись на горизонт. Лес, где скрылся ястреб, пребывает в постоянном движении, ветви дробят свет на мелкие брызги. Утренние высокие облака сменились перистыми, располосовавшими глянцевую лазурь подобно туману. Объемность облаков была обманчивой. За несколько недель до расставания Мэтью рассказал мне занятные вещи о свойствах материи. Большая часть, то есть 99,97 процента вещества, составляющего наши тела, занимает объем, равный пылинке, настолько мелкой, что ее не видно невооруженным глазом. Причина, по которой мы не такие уж крохи, — в мельчайших пропорциях вещества, в том, что наш реальный размер определяется размером орбиталей электронов. Эти почти невесомые сферы распределения зарядов тщательно оберегают свое внутреннее пространство. Можно сказать, что не кости, а они формируют архитектуру наших тел.
Этот факт, сам по себе поразительный, можно трактовать шире. 99,9 процента вещества всех человеческих тел на планете, всех шести миллиардов, занимает объем, сравнимый с одним кусочком сахара. Все остальное — это пустое пространство, вокруг которого вращаются электроны, ничего больше. Что до планеты, то это вращающееся облако зарядов с пригоршней протонов, рассеянных по ее величине. Я легла на землю, по моим ощущениям достаточно твердую, и повернулась к реке. Клочок неба расчистился, и в образовавшихся разрывах колыхались бесконечно ветвящиеся деревья. Приходится ли удивляться, что мы так упорно не хотим расставаться с идеей жизни после смерти — от Аида, где обретают покой герои, до библейских ада и рая. Неужели среди кромешной тьмы действительно существует это иллюзорное пестрое царство?
Вечером, разгрузив поклажу и проглотив тарелку мясного ассорти с бобами, — в гостинице совсем недавно был ремонт, и там до сих пор пахло краской, — я отправилась вверх по реке, к деревянному мосту, ведущему на остров. Вовсю цвели желтые, ничем не пахнущие кувшинки, в лучах заходящего солнца между опорами струилась черная вода, подернутая холодной зыбью. Напротив меня по загону разгуливал гусь, щипля траву у копыт лошадей, а за ними расстилалось не то маисовое, не то гороховое поле. Под дубом подсчитывал свой улов рыбак, уже четвертый за этот вечер. Его собака то увязывалась за мной, то уносилась прочь, следя за тем, чтобы я оставалась в зоне ее видимости. На закате в природе наступает умиротворение, день движется к концу, к своему завершению. На дальнем берегу на деревянной ступеньке дремали две камышницы. Собака убежала вслед за хозяином, который поймал и выбросил обратно единственную серебристую рыбину.
Когда я повернула назад, небо пламенело, точно от пожара. Я остановилась как вкопанная. Невероятное зрелище. Немыслимое. Над полями рядом с Анкором летел чибис, он размахивал крыльями, точно веслами. На востоке над ясенями появился узкий серп луны — такого же тусклого серебристого цвета, как рыба у рыболова. Закат был таким красивым из-за пыльцы, пыли или копоти, скопившихся в атмосфере и рассеивающих свет. Хотя сами частицы были не видны с того места, где я стояла, они прочертили небо алыми прожилками — coccineus на латыни, этим словом святой Беда Достопочтенный также описывал пламя. Алый переходил в другие цвета, словно выплеснувшиеся из чана с краской, добытой из улиток: голубовато-серый, красно-лиловый, фиолетовый и индиго. Под закатным небом бежала река. Она улавливала то, что могла. Последние краски сгустками отражались в зазеркалье, в мире, являющемся почти точной копией нашего. Местами вода казалась красной, точно наполненная кровью река, которую преодолевал Томас Рифмач. А что если сейчас пойти вброд? Интересно, куда я попаду? Непонятно. Сколько бы я ни всматривалась в течение, ясности не прибавлялось.
IV пробуждение
В сгущающихся сумерках я шла обратно через поля, в которых дремали коровы. Ночь я провела на старой ферме возле истфилдской церкви, в комнате в конце длинного коридора, отгороженного от остального дома бархатной портьерой. В ней пахло дымком и сладостью, как будто ее поколениями отапливали дровами из яблони и вишни. Когда я отправлялась на прогулку, то одолжила фонарик, а теперь, на цыпочках прокравшись назад, получила бутылку горячего молока и тарелку трюфелей ручной работы. До чего же приятно, когда за тобой ухаживают! Я закуталась в пуховое одеяло и закатила пиршество, листая книгу, которую нашла под стопкой журналов «Сельская жизнь».
Это была история края в виде дневника, собранного из аккуратных вырезок из газет Викторианской эпохи. Заметки шли вразнобой. Следовали друг за другом, логически никак не связанные и обрывочные, самоубийства соседствовали с охотой на зайцев, наводнения — с деревенскими пикниками. Все эпизоды, касающиеся реки, были сопряжены с насилием и смертью. «В июне 1886 года, — прочитала я, — 62-летний Джон Хоббс, извозчик на ферме Колина Гудмана в Шеффилд-Форесте, утонул в реке Уз между Шеффилд-Парком и Ротервильдским лесом. Бездыханное тело, стоящее в воде, обнаружил фермер Дэниэл Уотсон. На ноги утопленника налипли песок и тина, и раздувшаяся обезображенная голова едва высовывалась из воды».
Извозчик утонул ровно в том месте, где я накануне остановилась понаблюдать за перемещением пыльцы. Река там глубиной в добрых три метра. Вдоль берегов тянутся заросли крапивы, и есть всего несколько мест, где можно подобраться к воде, усеянной кувшинками и подернутой ряской. В развилине орешника застряли хворостинки и солома — отметка самого высокого уровня воды, означавшая, что во время разлива это будет то еще зрелище. Наверное, июнь 1886-го выдался дождливым, подумалось мне, раз взрослого мужчину в вертикальном положении вода накрыла с головой. Я заглянула в алфавитный указатель, но Джон Хоббс больше не упоминался.
Что за странный способ войти в историю — провалиться по колено в песок. Судя по заметкам, в Узе не так уж часто тонули люди, Вирджиния Вулф — это особый случай, а самое знаменитое событие на его берегах произошло за шесть веков до того, как Хоббс соскользнул или прыгнул в летнюю реку. В 1264 году в холмах, возвышающихся над городом, состоялась битва при Льюисе, и многие солдаты, сражающиеся на стороне Симона де Монфора против Генриха III, бежали к болотам, расстилающимся между Хамси и Льюисом, там их и подстерегала ловушка — одни утонули пешими, другие вместе с лошадьми. Утром я отправлюсь по их следам. Чуть позже среди зыбких образов, предваряющих сны, мне привиделись покачивающиеся в воде тела солдат в сверкающих кольчугах.
•
Меня разбудило чириканье воробьев, пристроившихся на карнизе. Утро было солнечным, как и накануне, я проглотила огромный завтрак: пару порций хлопьев с сухофруктами, а затем яичницу с беконом и колбасой и запила все это изрядным количеством великолепного кофе. Из утренней беседы я узнала, что прежде этот дом объединил три маленьких коттеджа и тот, что посредине, принадлежал собирателю суссекского фольклора, хоть убей, не вспомню его имени. Местный викарий, как это ни чудно, был джазистом и играл на ударнике, недавно он отправился пешком на Линдисфарн [32]; соседка собиралась завести пчел. Это был особый тип разговора, успокоительно действующий на путешественников, он состоял из местных слухов и волнений по поводу того, что могут сделать или, наоборот, недоделать соседи. Мои собственные планы были подвергнуты скрупулезному разбору. Далеко ли пешком до Льюиса? Хватит ли мне воды? Есть ли у меня фляжка, чтобы взять с собой кофе? И я пожалела, что не прихватила ее, поскольку глоток кофе на берегу после купания вдруг показался мне пределом счастья.
Опять стояла жара. Я пересекла площадку для крикета и по длинной, вымощенной камнями ступенчатой тропе стала спускаться к реке. Этим утром я чувствовала себя счастливой как никогда: вокруг меня, точно пена, вздымались поля. Быть может, я даже что-то напевала себе под нос, шагая через пастбища фермы Ботхаус прямиком к деревне Баркомб-Миллс. Обычно здесь пасутся овцы, однако сегодня вместо них по траве бродило стадо симпатичных коров цвета чая с молоком. Я с опаской взглянула на животных с верхней ступеньки. Стыдно признаться, но я боюсь коров. Пока я глазела на стадо, одна подняла голову и уставилась на меня. У нее была массивная шея, светлая кучерявая шерсть на лбу и — внутри меня все похолодело — яйца, громадные, как у Эдварда Гиббона перед смертью. Бык не отрывал от меня пристального взгляда, пока я переминалась с ноги на ногу, пытаясь сообразить, что же делать. Мне не хотелось идти через поле, но будь я проклята, если отступлю. Так или иначе, на противоположном берегу меня тоже подстерегали коровы, все пестрые, кроме двух в бело-серых пятнах, под стать стаффордширским статуэткам.
Симон де Монфор, граф Лестер, ок. 1231
Я собралась с мужеством и двинулась вниз. Внезапно меня осенило: пение успокаивает, и я дрожащим голосом затянула «Иерусалим» [33], гимн, словно специально придуманный для отпугивания жвачных животных. Бык взмахнул хвостом и закатил маленький красный глаз. Он явно не собирался бодать меня или сбрасывать в реку. Видимо, причина, по которой у коров такой пронизывающий взгляд, кроется в том, что у них слабое пространственное зрение и они не могут толком оценить дистанцию. Лучше всего приближаться к ним с частыми остановками, давая их глазам возможность приспособиться. Я была чересчур напугана, чтобы передвигаться в стиле «Море волнуется», но парочка хоралов, казалось, сделали свое дело.
Последние несколько метров я пронеслась пулей, после чего без сил опустилась на ступеньки, приходя в себя. Размытые краски, расцвечивавшие природу вчера вечером, исчезли, красный и фиолетовый сменили зеленые вкрапления ясеня и ивовых листьев, казалось, что сложный орнамент вот-вот распадется. У края поля находился мост через реку, по нему пролегала заброшенная железная дорога. Эта ветка была пристроена в конце 1960-х, и создавалось впечатление, что с тех времен ею не пользовались. Она шла поверх насыпи, с годами вокруг вымахали кустарники и деревья, наверное, метра в полтора высотой, образовав подобие зеленого туннеля, а внутри скрывался тайный сад, ветви ясеня и худосочной бузины переплелись между собой, образовав тенистый купол. Я вскарабкалась на насыпь на четвереньках, перелезла через заграждение из колючей проволоки и продралась через кусты. Шпалы не сгнили, между ними пристроились коврики серебрянолистного калгана с плоскими желтыми цветочками. Мне пришло на ум, что здесь можно жить целое лето и никто тебя не найдет: ловить кроликов и мелкую рыбешку, питаться ягодами и молодой колючей крапивой. Деревянные поперечины моста давно истлели, либо их убрали, сохранились только железные балки. Я попыталась пройти, но между ними проросли деревья, и, чтобы взглянуть на реку сверху, требовались пила и прочные рукавицы.
Сквозь арку моста виднелись возвышенность Даунс и человек в голубой куртке, рыбачивший в запруде. Кругом до самого Анкора не было ни души, хотя по выходным гостиницы нанимают для перевозок лодки-плоскодонки, и река оглашается пронзительными криками, когда гребцы врезаются в заросли крапивы или царапаются о склоненные ветви ив. Уз, там, где он течет через неогороженные поля, очень полноводный, небосклон над ним кажется искривленным. Река движется по-черепашьи медленно, голубая беспокойная поверхность то и дело подергивается рябью из-за рыбы или мошки. Интересно, какая здесь глубина? Два метра? Два с половиной? Где-то выше по течению находится измеритель, надо посмотреть. В самом широком месте от берега до берега — добрых семь с половиной метров, прикинула я, хотя из-за излучин и изгибов река порой сужается почти наполовину.
Такой сглаженный водой рельеф мне нравится больше всего: он показывает, что у воды и земли общее прошлое. Не так давно мне попалась карта этой области, датируемая 1824 годом. Все прибрежные поля на ней назывались ручьями: Коровий ручей, Верхний ручей, Толстый ручей. Слово «ручей» — «brook» происходит от староанглийского broc, означающего «поток чистой воды», но в Кенте, Суссексе и некоторых низинных районах Германии и Голландии оно также означало затопленную местность. Не знаю, сохранили ли поля свои названия, но слово по-прежнему в ходу. Им пользуются рыбаки из Льюиса, кроме того, низменности за деревней Родмелл именуются «Брукс» [34] даже на самых современных картах. Периодически разливающаяся река затопляет эти земли и луга, и благодаря наносам почвы здесь очень плодородные. Со времен римских завоеваний тут выращивается пшеница и ячмень, и вплоть до прошлого века река давала энергию мельницам, которых на этом отрезке было множество, они перемалывали пшеницу в муку для выпечки хлеба.
Сейчас их уже нет, хотя прямо за гостиницей у чьего-то проезда к дому можно увидеть парочку жерновов. Однако в кадастровой книге упоминались три мельницы в Баркомбе, а в девятнадцатом веке здесь была мельница для помола кукурузы и еще одна для отжима масла, я сама видела фотографии. Дольше остальных продержалась мельница для кукурузы, сделанная из сосны и недолгое время прослужившая пуговичной фабрикой, которая дотла сгорела в 1939 году. Ходили слухи, что в преддверии войны с Италией ее умышленно подожгли, чтобы получить страховку и перечислить ее в военный фонд. Хотя водяные колеса и жернова, прессы, сушильни и передаточные механизмы давным-давно были проданы либо разрушились от времени, труд мельников оставил следы. Веками река была разбита на сплетающиеся в ажурные узоры истоки и устья, отрезки и канавки, образуя вереницы островков и крошечных полуостровов. Первый располагался чуть выше тропы: сказочный островок, на котором как раз поместились белый домик и ветвистый сад, полный яблонь и роз.
Было время, когда я прямо-таки влюбилась в этот полуразвалившийся дом, стоявший прямо напротив мельницы для отжима масла. В нем жила пожилая дама, иногда я видела, как она в халате возится в саду, вооруженная секаторами или садовыми ножницами. На островке было множество гусей, они обитали среди деревьев в зеленых домиках и вольерах. После последних больших паводков дом некоторое время стоял пустым, а теперь он сверкал на солнце, старые деревянные окна заменили на пластиковые, стены обшили белой блестящей вагонкой. Когда я шла мимо, гуси гуляли между ягодными кустарниками, нарядные, словно их тоже обмакнули в краску.
На самый большой остров, огромный пустой луг, отмеченный на карте как Приммер-Брук, вел мост. Шесть гектаров пастбищ, обсаженных редкими деревьями. Осенними вечерами я здесь часто видела сипуху, облюбовавшую себе место для жилья среди травы, и один раз даже ее спугнула. Был закат, луна за три дня до полнолуния висела прямо над верхушками деревьев. Сова кривыми зигзагами летела на луг, на мгновение зависла в воздухе и повернула прямо к тому месту, где я стояла. Когда оставалось метра три, она прервала полет и уставила на меня свою крошечную головку, как у привидения, пока не поняла, кто перед ней, бесшумно взмахнула дымчато-золотыми крыльями и полетела дальше.
Сейчас было слишком рано для сов и слишком жарко для другой живности. Я сидела у воды, неподалеку жалобно блеяли овцы. Река раздваивалась, и судоходный рукав тянулся вдоль противоположной стороны луга. На вид это была обычная заводь, заросшая желтыми кувшинками и окаймленная кустами и пурпурным вербейником. Я огляделась. Ни души, даже овцы не маячили на горизонте. Я стащила джинсы и натянула старый черный купальник, продев лямки под майкой.
Вода казалась глянцевой, в мелких золотистых и голубых мазках. Я набрала в легкие воздуха и соскользнула вниз, пачкая ляжки, на которых оставались грязные полоски, и распугивая мелкую рыбешку. Боже, вода оказалась ледяной! Я с трудом сделала несколько шагов вперед, ступни утонули в глине и онемели, от холода по телу поползли мурашки. Два взмаха, и меня приятно обожгло, каждая клеточка тела завибрировала. Я подплыла к кувшинкам и перевернулась на спину. Надо мной кружили стрекозы, их крылья, словно присыпанные пудрой, отливали черно-синим.
На таком берегу состоялось первое свидание Айрис Мёрдок и Джона Бейли, вернее, их встречи обрели логическое завершение, поскольку от первого совместного купания недалеко и до первой проведенной вместе ночи. Со сцены купания — на том отрезке Темзы, где река мерно скользит по сельской глубинке, к северу от Оксфорда — начинаются воспоминания Бейли о жене. Нет, не совсем так. «Айрис» начинается с описания двух купаний в реке с разрывом в сорок пять лет. Во время первого пара совсем молодая. Они скатываются в воду, как водяные крысы, выскакивают оттуда и вытираются нижней юбкой Айрис, которую он изящно именует сорочкой, а затем бегут на ланч. Во время второго — оба уже старики. Стоит жара, самый разгар лета, и на этот раз Джону приходится раздевать жену. На ней отдельный купальник, никаких нижних юбок, но она не хочет снимать носки. Неважно. Они забираются в воду и, довольные, сидят в теплой воде, поросшей кувшинками. Айрис выглядит спокойной, но, когда Джон выбирается на берег и протягивает руки, чтобы ее помочь, смотрит на него с неподдельным ужасом. Болезнь Альцгеймера разрушает ее память, и есть вероятность того, что она разучится плавать и утонет, хотя подобные, глубоко укоренившиеся навыки часто сохраняются даже после утраты всех прочих способностей. Так или иначе, это их последнее купание.
Джон Бейли и Айрис Мёрдок были женаты сорок три года, до самой смерти писательницы в 1999 году, и большую часть совместной жизни провели в обшарпанном и весьма неопрятном доме под Оксфордом. Там Джон, игнорируя все правила гигиены и безопасности, вырыл бассейн в теплице и подогревал его при помощи электрического радиатора, висящего на проводе. В «Айрис» он описывает их мир как подобие страны детства: они общаются на детском, только им понятном языке, абсолютно не похожем на профессорские гладкие речи, а апофеоз нежности для них — поцелуй и объятия, а не более взрослые ласки. Заостряя внимание на этих деталях и на царившей в Кедр-Лодже грязи, Мартин Эмис однажды написал, что пара страдала nostalgie de la boue, то есть, буквально, желанием вернуться к истокам, липкой грязи и запущенности младенчества.
Думаю, любовь к купанию также можно истолковать как часть этой тяги повернуть время вспять и погрузиться в жидкость, проникнуть в дописьменный вечный мир, который фетишизировал Кеннет Грэм, сам прибегавший к детскому лепету. Так это или нет, но факт остается фактом: вода оживляла воображение Айрис Мёрдок, ибо ее романы изобилуют реками, бассейнами и холодными серыми морями. Ее персонажей бесит раздевание, когда они шатаются по холодным пляжам в платьях поверх купальников. В «Море, море», романе, далеко не смешном, купание описано не раз и во всех подробностях, говорится там и о его влиянии на человеческое сердце. «Дрожа от волнения, я сорвал с себя одежду и вступил в воду. Обжигающий холод, потом тепло, потом ласковая сила поднимающих меня спокойных волн — все это до ужаса напоминало счастье» [35]. И хотя Мёрдок писала и об утопленниках, отождествление воды со счастьем осязаемо на протяжении всей ее жизни. Ее первые воспоминания о том, как они с отцом купались в Ирландии, и ее последние слова на эту тему, записанные в дневнике, когда болезнь Альцгеймера уже подточила ее способность обращаться к прошлому, были: «Неописуемо. Священнодействие».
Мозг, пораженный Альцгеймером, утрачивает свои функции и всю свою сложность. Айрис, какой она предстает в воспоминаниях Бейли, подобна уменьшающейся Алисе, беззвучный двигатель, заставляющий работать ее сознание, постепенно снижает обороты, пока наконец она не становится похожей на озадаченного и озадачивающего ребенка, неотступно семенящего за своим мужем, пищащего как мышка, собирающего камешки и обрывки серебряной фольги и постоянно переспрашивающего: «Куда мы идем?» Дом — теперь уже другой — вдобавок к обычному хаосу полон всякой всячины, которую она находит во время прогулок: сухих червей, хворостинок, комочков грязи; финальная перекройка ее неизбирательной любви к неодушевленным вещам. Иногда Джон оставляет ее смотреть телевизор, а потом застает в противоположном конце комнаты, где она стоя перебирает неаппетитный мусор.
В своей книге Бейли описывает фантазию, в которой он избавляется от всего этого хлама, отчасти успокаивающего, отчасти раздражающего. «Какой блаженный покой — сидеть на кровати, рядом спит Айрис и легонько посапывает. В полусне мне мерещится, будто я плыву по реке и вижу, как весь сор, заполонявший наш дом и наши жизни, все лишнее — как хорошее, так и дурное — медленно погружается в черную воду, пока не исчезает в пучине. Айрис беззвучно плывет рядом. Водоросли и листья колышутся и распластываются под водной поверхностью. У берега носятся и вьются голубые стрекозы. Иногда мелькает королевский горбыль». Если это попытка в воображении пережить потерю памяти, то в таком опыте, безусловно, есть нечто утешительное, даже приятное. Однако Мёрдок описывает то, что с ней происходит, при помощи схожих образов, дважды говоря своему другу Питеру Конради, что «на лодке плывет в темноту».
Этот брак, когда умный и добрый мужчина заботится о жене, обладающей более яркими талантами, явно напоминает союз Леонарда Вулфа и Вирджинии, которая также отличалась чудачествами. Вирджиния, однажды написал Леонард, ужасно любила делать то, что он называл гадкими кучками: набивать мешочки старыми перьями, кусками веревки, сгоревшими спичками, ржавыми скрепками, скомканными конвертами, поломанными мундштуками и т. д., «они имели злокозненное свойство накапливаться на письменных столах и каминных полках». Кстати, сам Леонард держал сагуина по кличке Миц, который регулярно испражнялся ему на спину.
Сходство их куда глубже бытовой неряшливости или даже кажущегося совпадения траекторий, ибо все браки заканчиваются теми либо иными утратами. Дело тут скорее в механизме отношений обеих пар, они были сродни хрупким инструментам, чрезвычайно чувствительным к нагрузке и к использованию пространства. Обе женщины на протяжении всей своей жизни метались между двумя крайностями: уходом в себя, напряженной, почти лихорадочной умственной работой и эмоциональными выплесками — любовными похождениями и страстными романами. Несмотря на это, для обеих мужья оставались «незыблемыми центрами», и Мартин Эмис, думаю, совсем не случайно написал, что Айрис во всех смыслах была предназначена для Бейли.
Эти две четы исповедуют нечто вроде отделенности от мира, плодотворного одиночества вдвоем, что полностью расходится с нашими представлениями о браке. Поразительно, насколько часто Вирджиния Вулф и особенно Джон Бейли пишут о счастье писать в одиночестве, зная, что где-то в доме, в своем собственном пространстве вдохновенно скрипит пером супруг или супруга. Такое разграничение уничтожается болезнью, особенно, психическим расстройством: в случае Вирджинии все доселе тайное становится достоянием общественности, а в случае Айрис исчезает сам созданный умом сокровенный мир.
Так или иначе, супруг больше не воспринимается как спутник. Единственное, что остается после ухода любимой, это куча ненужного хлама и топь воспоминаний. В одном интервью Бейли впадает в болезненную двойственность, описывая смерть Айрис как «прохладную реку, в которую можно погрузиться» и как «рак, пожирающий настоящее». Не сомневаюсь, Леонарду Вулфу было бы вполне понятно, что он имел в виду.
***
В низине становилось холодно, а я, на беду, не прихватила полотенца. За неимением нижней юбки я, чтобы высохнуть, легла на траву, и пока отогревалась на солнышке, из-за деревьев вылетел сарыч и, сделав несколько кругов, взмыл ввысь. Облака сбились в ватные шарики, предвестники неба в барашках. На живой изгороди квохтал фазан, от моста доносилось сонное воркование вездесущих диких голубей. Настоящее, настоящее. Время ни на миг не останавливается, как бы ты ни был утомлен. Оно течет беспрепятственно, как река, и, если оступиться, его течение собьет тебя с ног. Надо бы предостеречь голубя. Он спланировал на берег, запутался в крапиве и неуклюже плюхнулся в воду — иллюстрация того, как не надо летать.
Ниже по течению и возле Баркомб-Миллса раздавались голоса. Публика была разношерстная, и я не сразу отделила одну группку от другой. Трое мужчин возились с надувной резиновой лодкой. Лицо у одного было перекошено, а речь у всех троих неразборчива; страшно кривя рты, они таскали лодку на канате туда и обратно. Чудь далее на берегу сидели в купальниках светловолосая женщина и девушка с дредами, их ноги терялись в мутной воде. Когда я подошла поближе, они дружно соскользнули в реку, точь-в-точь испуганные тюлени. Под огромной ивой на овчине восседал в позе лотоса парень, на нем не было ничего, кроме плавок. Он был загорелым и очень красивым, прямая спина, полузакрытые глаза. Воздух казался тяжелым от аромата таволги — похоронного запаха, от которого свербело в носу.
Я тоже плюхнулась в воду, на сей раз укрывшись от глаз, чтобы раздеться. «Как прекрасен этот мир», — распевала старая дама. Сущая правда. В этом месте река была теплее, и я рывками поплыла к большой заводи, откинув голову назад, пока ил не стал путаться у меня в волосах. Парень тоже прыгнул в воду и исчез из вида. Пока я обсыхала, он вернулся и долго стоял на берегу в обнимку с женщиной, той, что помоложе. Когда та собралась уходить, он окликнул ее: «Эй, Джен! Пока лето и мы на природе, надо сделать еще кое-что. Этой практике учил Иисус, она полезна для здоровья. Надо спуститься к реке и намазаться высохшей глиной». В его голосе звучали нотки, от которых мне стало не по себе. Он говорил нараспев, совсем как на организованных праздниках и выездных мероприятиях, упоенный собственной миссией, — полная противоположность тому, как он бросился в реку, подняв фонтан веселых брызг.
В течение десяти лет я бывала на этом клочке земли множество раз — одна или с друзьями. В последний приезд — поразительно, что это выскочило у меня из головы, — это были выходные, которые мы с Мэтью проводили здесь перед тем, как расстаться. В тот единственный раз чары реки не возымели своего действия. Я чувствовала, что ноги несут меня подальше от знакомых мест. Солнце светило вовсю, я брела, не разбирая пути, мимо купальщиков и резвящихся собак, пасущихся лошадей, шла, тяжко вздыхала и плакала, даже не ощущая боли. Это было оцепенение, которое наступает вслед за эмоциональным подъемом, последствие нехватки эндорфинов и адреналина. Мир казался бесконечно далеким и страшил неизвестностью, словно небо вдруг пожелтело или солнце село на востоке.
Когда это случилось? Вроде бы, месяца два назад, разрыв произошел через несколько дней после моего дня рождения, мне тогда исполнился тридцать один год. Здесь осталась частица наших совместных воспоминаний. Помню, как мы целовались под дождем возле запруды и как августовским днем валялись в высокой розоватой траве, спрятавшись точно в пещере, а в нескольких метрах от наших ног с севера на юг струилась река. Я перетасовывала воспоминания, точно карты в колоде. Они падали на берег: король, валет, четверка треф. Думаю, по этой причине люди после тяжких потрясений отправляются за границу — в края, где не водятся призраки.
Память причудлива. Порой во время плавания я чувствую, как от меня отступают все мысли, все желания: я блаженствую, как морская звезда, сердце бьется в такт колебаниям воды, ощущения притуплены, лишь глаза различают пульсирующий свет, пронзающий пространство. Точно я никогда не рождалась. Не уверена даже, знаю ли я свое имя. А случается ровно наоборот. Временами, когда я погружаюсь в реку или белесое море, прошлое накрывает меня, точно волной. Вода словно ослабляет затворы, растворяет то, что зачерствело, придавливает, будто свинцовой гирей, просачивается в кровь. Настоящее стирается, но то, что видят глаза, слышат уши, нельзя передать словами.
Вода была подернута мокрым тополиным пухом. Он летел с женских деревьев, точно синтетическая вата с рождественской елки, паря над дорогой и медленно оседая в крапиву. Меня так и подмывало поймать несколько хлопьев и заткнуть себе уши, заглушить голоса мертвых и ушедших. Когда Одиссей проплывал мимо острова сирен, он залепил матросам уши пчелиным воском, чтобы сладкозвучное пение не искушало их, а себя приказал привязать к мачте и таким образом услышал, чем певуньи привораживали моряков. Не материальным богатством, не плотскими усладами. Сирены обещали наделить Одиссея знанием — прошлого и будущего. Он умолял своих спутников приблизиться к острову, но гребцы не слышали его, изо всех сил ударяли веслами и гребли, пока чудесные голоса не растворились в плеске волн.
Сирены, как пишет Гомер, обитали на усеянном цветами лугу. Их отцом был бог реки Ахелой, и хотя древние греки изображали их женщинами-птицами, с крыльями и когтями, к восьмому веку они обрели рыбий хвост и превратились в русалок, завлекающих моряков чудесным пением, обрекая их на гибель. Интересно, на что было похоже их пение — на море, плещущееся в гротах, или на ветерок, играющий в тайных полостях утесов, точно флейтист на своем инструменте? Не знаю, сумела ли бы я ему противостоять, соблазну абсолютного знания. Меня угнетало, что прошлое истерлось, виделось обрывками, и нельзя было сказать, какие воспоминания верны, а какие исковерканы или неполны.
Надо заметить, люди, слышавшие сирен, не извлекали из этого никакой выгоды. Наставляя Одиссея, Цирцея рассказала, что сирены сидят на прекрасном лугу, а вокруг них белеют кости несчастных мореходов и тлеют лохмотья их кожи. Быть может, их парализовало собственное знание: как они могли действовать, зная все, что было, и все, что будет? Возможно, лучше жить, как мы: полуслепыми, полуглухими, таща за собой сор прошлого, как комета свой хвост, то вспыхивая, то блуждая в бесконечной тьме.
***
У дамбы река разделялась. Рукав Эндрюс-Кат тек на восток, к закрытому водохранилищу и водоочистной станции. Основное русло струилось под мостом Пайк, а два маленьких ответвления после шлюзов резко отклонялись на запад и низвергались в мельничный пруд, где рыболовы зимой ловили щуку, а летом — гольца и карпа. Возле Баркомб-Миллса Уз разливается во время паводка, и немалые усилия были потрачены на сохранение гольца, вырастающего здесь до невероятных размеров, тогда как в прочих реках, протекающих по низинам, эта рыба — редкость. Шлюзы и плотина снабжались рыбоходами, сделанными в виде лесенок, с тем чтобы рыба для метания икры могла перебраться выше по течению, а периоды ловли были строго ограничены.
Как-то мне попалась памятка, выпущенная местным рыболовным обществом. В ней перечислялись потенциальные угрозы здоровью вплоть до заражения болезнью Вейля («Сунув пальцы в речную воду, не облизывать их!», «Не трогать мертвых животных, особенно крыс!»), укус щуки и опасность зацепиться леской за провода, находящиеся под высоким напряжением. Еще была вероятность подхватить бешенство, так как рыболов, удящий нахлыстом на рассвете, порой цепляет на крючок летучую мышь. Эта картина ужаснула меня до глубины души, хотя, строго говоря, это ничуть не хуже самой рыбной ловли: летучие мыши, по крайней мере, дышат воздухом, тогда как рыбы на берегу сразу задыхаются
Я долго стояла на мосту Пайк, глядя на заводь. Сегодня рыбаков не было видно и вода была темной, как лакрица, и непроницаемой. Косяки гольцов шмыгали у самой поверхности, на стене старой кассы висел прейскурант для тех, кто когда-то хотел перебраться на остров: «Моторная лодка — 1 шиллинг, повозка с лошадью — 1.6 шиллинга». В Баркомб-Миллс был возведен один из старейших мостов, и считается, что этим путем прошли войска Симона де Монфора, направляясь из Флетчинга к Льюису, под которым стояла армия Генриха III. Я планировала пройти их маршрутом, сначала пересечь низину, по которой отступали лондонские войска, а затем подняться в сам город, где укрывался король, посвятив этому путешествию остаток дня.
Есть места, где прошлое кристаллизуется и кажется эфемерным, точно пыльца, места, где оно гнетет и — как это выразился Джон Бейли? — подобно раку, пожирает настоящее. Случившееся у этой реки восемьсот лет назад оставило отметину, заметную в определенном ракурсе, ведь это событие определило ход английской истории.
Причины битвы при Льюисе коренятся в старой междоусобице, которая в конечном итоге привела к подписанию Великой хартии вольностей Иоанном Безземельным, незадачливым королем из династии Плантагенетов. Поколениями вопрос о границах королевской власти оставался нерешенным. В период между битвой при Гастингсе и восшествием на трон первого короля династии Тюдоров начала формироваться национальная идентичность. В тринадцатом веке в Англии завершились главные завоевательные войны. Основы государственности — как управляется страна, на каком языке говорит ее народ, где пролегают границы — находились в стадии становления, особенно в том, что касалось Ла-Манша. Еще в 1227 году, в начале правления Генриха III, официальным языком двора был французский. Английские короли удерживали территории на севере Франции вплоть до 1558 года, хотя не минуло и двенадцати лет с тех пор, как французские армии контролировали Лондон.
По иронии судьбы, человек, возглавивший мятеж баронов, сам был французом. Симон де Монфор родился около 1208 года, он был младшим сыном аристократа и крестоносца, также носившего имя Симон де Монфор. Старший Монфор унаследовал от матери право претендовать на титул английского графа, но так его и не получил из-за эдикта короля Иоанна, запретившего французской знати владеть английскими землями. Подобно своему сыну, он, по всем свидетельствам, был решительным воином и блестящим стратегом, хотя его таланты и послужили менее благородным целям. Он возглавил крестовый поход против альбигойцев и в 1218 году во время осады Тулузы был убит теми самыми еретиками, на искоренение которых положил жизнь.
Как младший сын Симон де Монфор не унаследовал земель и после смерти отца начал сложный процесс по восстановлению графского титула. В 1230 году он добился устного разрешения Генриха III и в течение года получил во владения земли Лестер. Это кажется огромным успехом, однако новоиспеченный граф лишь начинал восхождение наверх. Он сблизился с королем Генрихом, бывшим всего на год его старше, и в 1238 году женился на его сестре, Элеоноре Английской.
Элеонора в свои двадцать три была уже богатой вдовой. В девять лет она вышла замуж за Уильяма Маршала, второго графа Пембрука, а после его кончины в 1231 году в присутствии архиепископа Кентерберийского дала обет безбрачия. Несмотря на согласие Генриха, венчание проходило тайно, а когда секрет раскрылся, союз вызвал недовольство как у английских баронов, так и у духовенства. Особенно был возмущен брат Генриха, Ричард Корнуоллский, и несколько лет страна пребывала на грани гражданской войны. Симон — учтивый и коварный Симон — сгладил распри, осыпав Ричарда подарками, а затем поспешил в Рим, чтобы получить от Папы подтверждение законности своего брака.
Король встал на сторону Симона, но со временем в их отношениях появилась трещина, которая постепенно увеличилась. Первое разногласие возникло, когда Монфор назвал Генриха поручителем своего долга, предварительно не спросив на то позволения — непростительная дерзость, которая привела короля в ярость. Генрих III был расточительным человеком, он любил делать подарки — от бочек вина до замков, — и его привычка баловать новых фаворитов (среди которых было немало французов), родню жены и свою собственную вызывала у баронов гнев. Расточительность — это мало сказано. Генрих попросту не ведал границ. Он не скупился в том, что касается его обязанностей перед римским престолом, и был настоящим транжирой, когда речь заходила о собственном комфорте и увеселениях. Когда Данте назвал его il re della semplice vita, королем, ведшим простую жизнь, и поместил его в одиночестве в чистилище, мы может лишь предположить, что он иронизировал.
В лондонском Тауэре Генрих устроил зверинец, где держал двух леопардов, медведя и первого в Англии слона. Он страстно интересовался искусством и архитектурой, и его дворцы отличались изощренным убранством. По его распоряжению стены — от их первоначального вида остались лишь фрагменты — красили в зеленый цвет и украшали серебряными звездами и геральдическими розами, любимыми цветами его жены. Он перестроил Вестминстерское аббатство в готическом стиле, причем первый камень был заложен, когда ему едва минуло двенадцать. «Мне он представляется в своей первозданности, — написал века спустя искусствовед Уильям Летаби. — В саду между королевскими покоями и церковью Генрих III распорядился посадить грушевые деревья, очевидно, чтобы любоваться аббатством поверх цветущих крон».
Деньги на цветущие кроны, не говоря уже о плохо спланированных войнах с Францией или задумке приобрести у Папы королевство Сицилия, — откуда они брались? Отовсюду, где их можно было добыть в виде взяток, одолжить или украсть. Излюбленной уловкой был сбор пожертвований на мнимые крестовые походы, ибо кто откажет благочестивому королю, покорному воле Рима? Некогда Генрих отсылал назад недостаточно щедрые подношения по случаю рождения сына Эдуарда, а позднее метался по стране в поисках стола и крова. Не чурался он и более жестоких методов. Когда в 1257 году случился неурожай, приведший к голоду в Лондоне, он перехватил поставки пшеницы, ввозимой из Германии, и пытался продать ее втридорога своему голодающему народу. Фактически, последняя махинация и последующая абсурдная попытка провозгласить своего сына королем Сицилии и привели к первому серьезному конфликту с баронами — созыву летом 1258 года так называемого Бешеного парламента.
Через два десятилетия после свадьбы с Элеонорой отношения Симона и короля охладели. Описывая их крупную ссору, монах, хронист и легендарный сплетник Матвей Парижский сообщает, что Симон де Монфор «без утайки заявил, что король — лжец», на что король ответил: «Доселе я так ни в чем не раскаивался, как ныне раскаиваюсь в том, что позволил тебе въехать в Англию и стяжать земли и почести в стране, где ты откормился настолько, что посмел мне противиться». При этом граф Лестер остался верен своей новой родине, без колебаний отвергнув предложение французской знати вернуться во Францию в качестве правителя, пока Людовик IX находился в крестовом походе. Однако верность стране не то же самое, что верность королю, и за несколько месяцев до созыва Бешеного парламента Симон де Монфор стал центральной фигурой в движении, выступающем за реформы.
Составленный баронами документ, «Оксфордские провизии» [36], стал первой реальной попыткой провозглашения конституции. Он устанавливал правила для совета баронов и для окружных и верховных судов, а также старался снизить коррупцию среди знати и духовенства. Но что еще важнее, он пытался ограничить расходы и законодательную власть короля и запретить ему держать иностранных советников, влияющих на его решения. Представляя Генриху «Оксфордские провизии», бароны находились в полном вооружении. Намек был прозрачен: клятва соблюдать условия документа либо междоусобная война. И король, не отличавшийся мужеством, взял перо и поставил свою подпись.
Все могло бы прийти к благополучному завершению, обладай король честностью или предусмотрительностью. Но поскольку он не имел ни того, ни другого, страну поглотили распри. «Оксфордские провизии» так и остались на бумаге, и несколько последующих лет бароны колебались между верностью королю и стремлением к реформам, меж тем как сам Симон де Монфор большую часть времени проводил во Франции. В 1263 году события достигли критической точки. По стране шныряли солдаты обеих армий, захватывая земли и силой и вымогательством выколачивая из населения деньги на собственные нужды. Говоря о необузданности мятежников, хроникер-роялист Уильям Ришангерский пишет, что этот год «содрогался от ужасов войны; и поскольку каждый старался защитить собственный замок, войска разоряли всю округу, опустошая поля, угоняя скот и не щадя ни церкви, ни кладбища. Более того, они обшаривали и грабили дома бедных крестьян, вынося все вплоть до соломенных тюфяков».
•
Что до королевских особ, то однажды на рассвете принц Эдуард явился в сокровищницу при Темпле, якобы желая взглянуть на драгоценности своей матери, вскрыл ломом сундуки и забрал из них тысячу фунтов. А несколько недель спустя лондонцы забросали королеву Элеонору яйцами и камнями, когда она попыталась на корабле бежать в Виндзор. Этот инцидент имел весьма серьезные последствия.
В конце года была предпринята последняя отчаянная попытка установить мир. Обе стороны согласились обратиться к Людовику IX, королю Франции, как к арбитру и поклялись исполнить его вердикт. В январе 1264 года была принята Амьенская миза [37], которая почти полностью отвечала интересам короля. Бароны ожидали совсем не того. Несмотря на свое обещание, они отказались подчиниться документу, который во имя Отца, и Сына, и Святого Духа требовал «аннулировать и сделать недействительными Оксфордские условия». Остался единственный выход — война с королем.
Тут исторические события приближаются к Узу. 6 мая 1264 года армия Монфора выдвинулась из Лондона и направилась во Флетчинг, деревню, в которой я провела канун летнего солнцестояния. Если бароны и надеялись разбить роялистов, то именно на юге: там поддержка у них была самой сильной. Когда известия о приближающихся войсках достигли Генриха, стоявшего лагерем в аббатстве Баттл, он немедленно поспешил в Льюис, где находился замок его союзника Джона де Варенна, истового роялиста, чья подпись значилась на «Оксфордских провизиях» под королевской. Обе армии двигались лесами Вельда: Генрих — с востока, а Монфор — с севера. Из-за ловких баронских лучников, рассеявшихся по чаще, король потерял своего повара Томаса, и путь роялистов стал столь опасным, что им пришлось с головы до ног облачиться в доспехи. Они разместились на постой на окраине Льюиса, в большом клюнийском аббатстве, от замка их отделял приток Уза Уинтерборн. За землями аббатства лежала болотистая низина, которая лишь века спустя превратилась в плодородные угодья Брукс; в тринадцатом веке это, судя по всему, была зловещая трясина, вотчина скорее водной дичи и угрей, чем кроликов и овец.
Здесь и состоялись последние переговоры. 12 мая Симон и его войска, к этому времени пересекшие лес и вышедшие к долине под горой Харри — до Льюиса оставался один бросок, — направили к королю парламентариев: две группы священнослужителей. Первая требовала возвращения к «Оксфордским провизиям», вторая обещала возместить ущерб, нанесенный за предыдущие месяцы, и сулила тридцать тысяч фунтов стерлингов в качестве отступных. Последняя мера, в частности, должна была ублажить вспыльчивого брата короля Ричарда Корнуоллского: взбунтовавшаяся лондонская чернь разрушила его замок в Айлворте, вырубила сады и осушила новый пруд с рыбами, обошедшийся Ричарду в немалую сумму. Предложения были отвергнуты, и принц Эдуард, прозванный Длинноногим (а позднее за кровопролитные сражения на севере и Шотландским молотом), отец Эдуарда II, злосчастного короля-гомосексуалиста, передал послание сторонникам Монфора. В нем он пригрозил, что они «не получат мира, пока не накинут себе на шеи удавки и не сдадутся, дабы мы их повесили либо загубили, как мы того возжелаем».
На следующий день состоялся еще один обмен дерзостями, к этому времени войска Симона де Монфора незаметно переместились, заняв позицию чуть южнее (по оценкам историка Дэвида Карпентера, где-то между деревнями Оффхэм и Хамси). С той точки, где я стояла, виднелись холмы, возвышавшиеся над их лагерем, белый рубец, окаймленный деревьями, указывал место, где были похоронены солдаты. Перед рассветом 14 мая армия мятежников поднялась на Даунс, с трудом добралась до вершины Блэккэп и двинулась на юг, пока не достигла самого высокого холма, откуда Льюис был как на ладони. Здесь воины исповедовались и украсили доспехи белыми крестами, которые крестоносцы носят поверх кольчуги. Затем они разделились на центр и два фланга, левый и правый, резерв под командованием Монфора расположился чуть выше, чтобы наблюдать за ходом сражения.
Короля и его войска разбудил вернувшийся в город с сеном отряд фуражиров, который заметил баронскую армию на холме. Существуют свидетельства, что роялисты выступили в большом беспорядке, после ночной попойки, во главе с Эдуардом, что король и его брат Ричард находились в хвосте, хотя то обстоятельство, что утром все трое подписали «Провизии», лишает эти свидетельства правдоподобия. Но, так или иначе, Эдуард не ехал с основной армией, над которой плескался знаменитый штандарт с красным драконом, нагонявший на людей лютый страх, возможно, оттого, что в силу неких ухищрений язык зверя постоянно двигался. Вместо того, войско Эдуарда выступило из замка вместе с силами Джона де Варенна, поднялось по нынешнему владению Уоллэнд и встретилось лицом к лицу с левым флангом баронской армии. И хотя последний возглавляли конные рыцари, в основном он состоял из необученных лондонских пехотинцев: «заготовщиков отрубей, мыловаров и шутов», как пренебрежительно отозвался о них некий хроникер-роялист.
Это был разгром. Войско Эдуарда врезалось прямо в гущу врага, захватило в плен нескольких аристократов и обратило в бегство лондонцев, плохо вооруженных и одетых во что попало. Но, видимо, принц, все еще пылая гневом из-за летевших в его мать яиц, и допустил крупную тактическую ошибку. Рассеяв лондонцев, он пустился за ними в погоню, и тут мы видим первые жертвы Уза: как следует из хроники Гисборо, шестьдесят рыцарей утонули, пытаясь перебраться через реку и уйти от преследователей. Согласно менее достоверным источникам, погоня продолжалась весь день до самого Кройдона, и, хотя сегодня это расстояние можно проехать за час на поезде, трудно себе представить, что человек способен убежать столь далеко, как бы напуган он ни был.
В отсутствие Эдуарда Генрих и Ричард выехали из аббатства и направились к месту, где сейчас стоит тюрьма. Здесь они натолкнулись на правый фланг и центр армии Монфора, которые стремительно спустились с вершины, и здесь же между рассветом и полуднем они потерпели поражение, хотя армия Монфора была малочисленней, а ее левый фланг уничтожен. Булавы, сабли и копья не дают точного представления о том, сколько солдат полегло в этом сражении. По приблизительной оценке, приведенной монахами Льюиса, — две тысячи, и судя по числу скелетов, найденных в общих могилах, эта цифра более или менее точна. Скорее всего, среди убитых было мало рыцарей, так как последние чаще всего сдавались в плен либо брались в заложники и позднее за выкуп передавались родным. Что до особ королевской крови, то под королем Генрихом пали две лошади, и он вместе со своими слугами укрылся в аббатстве, тогда как бедный Ричард Корнуоллский, недавно получивший право именоваться королем римлян, укрылся на водяной мельнице. «Выходи, скверный мельник!» — кричал люд, и на рассвете он сдался и был уведен врагом — печальный исход для короля римлян и Августа, как он любил подписываться.
К моменту возвращения Эдуарда битва закончилась, и город был переполнен беглыми солдатами. Согласно хронике, составленной в аббатстве Лейнеркост и основанной на свидетельствах очевидцев, солдаты бежали из Льюиса через Уз, пересекая мост в Клиффе, тогда открывавшем путь на восток:
«…толпа беглецов вперемешку с преследователями столь увеличилась, что многие попрыгали в реку, прочие же в панике устремлялись к прилежащим болотам, в те времена — пристанищу морской птицы. Многие утонули и задохнулись в ямах с грязью, и погибшие в местных топях рыцари были найдены после битвы, по-прежнему восседающими в полном облачении на конях, в безжизненных руках — обнаженные сабли. Спустя многие годы в окрестностях было обнаружено множество оружия».
Об одновременной гибели людей и лошадей, затянутых в трясину, причем первые не успели даже выпустить оружие, пишут и более поздние и менее достоверные источники, хотя многие записи сходятся в том, что тела и доспехи вылавливали из воды.
Пусть Монфор и выиграл сражение, но предстояло еще захватить короля, укрывшегося с сыном в аббатстве. Некоторое время граф пытался выкурить их наружу с помощью подобия греческого огня — комков пакли, промоченных битумом, маслом и серой, — которым он подпалил деревянные дома в городе. Льюис с его узенькими, постепенно сужающимися проулками, отходящими от главной улицы, и сегодня порождает клаустрофобию, а та ночь, должно быть, выдалась по-настоящему жуткой: повсюду валялись трупы и умирающие люди и лошади, церковь аббатства была объята пламенем. Видимо, такая картина побудила монаха Оксенеда написать в своей хронике: «Зрелище наводило на мысль о том, что жизнь человека подобна небесным травам; число сложивших головы мне неизвестно, но было их великое множество». Однако убитые по преимуществу были обычными солдатами-пехотинцами, заготовщиками отрубей, мыловарами и шутами, принявшими на себя главный удар в битве, едва ли изменившей их участь.
В конце концов, пригрозив казнить трех пленных роялистов, Симон де Монфор убедил короля сдаться и признать «Оксфордские провизии» вместе с поправками. Он стал фактическим правителем Англии, после чего быстро потерял поддержку баронов, чему способствовала и его привычка запускать руку в государственную казну. Целый год Эдуард Длинноногий и Генрих находились в заложниках, но, надо сказать, пленников не заковывали в кандалы и не держали под замком. В мае 1256 года случилось неизбежное: Эдуард бежал, была собрана армия, и в августе после ряда карательных вылазок при Ившеме состоялось сражение — полный аналог великой битвы при Льюисе, но с противоположным исходом. К тому времени армия баронов лишилась своих преимуществ, изрядно сократившись в числе, солдаты были изнурены войной. Существует свидетельство, что при виде приближающихся войск Эдуарда Монфор воскликнул с присущей ему заносчивостью: «Клянусь десницей святого Иакова, отличное наступление. Они переняли этот строй у меня». А затем возможно, понизив голос, добавил: «Господь заберет наши души, ибо они получат наши тела».
Последующая битва была яростной и стремительной, она состоялась на холме возле реки Эйвон во время внезапно налетевшей грозы. На поле битвы как пленник присутствовал Генрих III в монфорском облачении. Сразу несколько современных источников описывают, как он бродил между солдатами под проливным ливнем, периодически выкрикивая: «Я Генрих Винчестерский, ваш король, не убивайте меня» и «Я слишком стар, чтобы сражаться», пока его не признали роялисты и не увели в безопасное место. Что до Монфора, то под ним был убит конь, враги сорвали с тела доспехи. Он был заколот саблей и изрублен на куски, хотя обычно рыцарей не убивали столь позорным способом.
В Британском музее хранится странный рисунок с изображением этой казни. Монфору отрубили голову, руки, ноги и гениталии. На рисунке они лежат рядом с его туловищем, на голове — копна кучерявых волос, из шеи хлещет кровь. Его тестикулы — на рисунке этого не показано — были засунуты ему в рот. Руки завернули в ткань и отослали жене Роджера Мортимора, рыцаря-роялиста, по преданию, она получила сверток, когда молилась в церкви.
•
Гольца больше не было видно. Вода подернулась рябью; в ней слабо отражалось небо. Меня стало мутить от стояния над заводью, и весь остаток дня я чувствовала себя отравленной, не знаю, впрочем, был ли яд растворен в черной воде или проник в меня вместе с солнечными лучами. Пора было двигаться. Я перешла дорогу возле коттеджа Пайкс и пролезла через дыру в живой изгороди. Кожа у меня сделалась ужасно сухой, точно ее покрыли лаком, порезы на ногах и запястьях пощипывало. Это раннее лето было изнуряюще жарким; быть может, для небольшого водоема концентрация фосфатов оказалась слишком высокой.
Отходящая от дороги тропинка уходила от реки вверх, она делала крюк по пыльным полям и пересекала высохшие русла, покрытые меловой коркой. Я прошла кукурузное поле, потом пшеничное. Между камнями росла пупавка, шагая, я поддевала носком спекшуюся грязь, отслоившуюся от мертвой земли. Кругом не было ни души, вдали виднелась гора Харри, а за ней — блестящее белое пятно мелового карьера в Оффхэме, там, где были найдены скелеты бежавших лондонцев, захороненных по четверо-пятеро в одной могиле.
Казалось, прошлое навалилось на эти места, точно тело, — пусть оно и безмолвно, но из него непрерывно льется и истекает речь. Ужас произошедших событий, как капли дождя, впитался в почву, залег в пустотах между пластами пород, точно грунтовые воды перед наводнением. «Прошлое возвращается лишь тогда, — писала Вирджиния Вулф в неоконченных воспоминаниях, — когда настоящее гладко, словно скользящая поверхность глубокой реки. Тогда человек видит сквозь воду дно». Интересно, заключено ли это прошлое в самой реке, ведь некоторые вещи тянутся к воде и ведут себя иначе, когда находятся возле нее. Мне доводилось наблюдать дымку над рекой, когда кругом ничего подобного не было, а еще видеть рои крошечных мошек, весь вечер пляшущих над единственным изломом в течении. Кроме того, вода отлично разносит голоса, будто воздух над ней туго натянут, а вдали от нее слишком разрежен.
«Невозможно, — ранее задавалась вопросом Вулф в тех же воспоминаниях, — чтобы вещи, которые мы ощущаем со всей остротой, существовали независимо от нашего разума; действительно ли они существуют?» Схожий довод приводят охотники за привидениями: события заточены в земле, точно спрятанные золотые монеты — они не различимы глазом, но заставляют магнитное поле слабо колебаться. За Халландом — в нескольких километрах к востоку от того места, где я находилась, — есть холм, по сей день называющийся Грозный Даун [38] из-за крови, которую здесь пролили сподвижники принца Эдуарда. По преданию, в другой стороне, километрах, наверное, в полутора отсюда, в городке Куксбридж, рядом с гостиницей «Рейнбоу» трупы висели на деревьях, пока не сгнивали — в знак острастки: мол, не стоит обнажать меч против короля. Такая жестокость напомнила мне о верованиях альбигойцев, уничтожению которых посвятил жизнь отец Симона де Монфора. Наряду с другими особенностями они отождествляли ветхозаветного Бога с дьяволом и отрицали наказание на том свете на том основании, что этот мир, где человек человеку волк, уже является адом.
Хотя Симон де Монфор предпочитал красному одеянию барона грубую домотканую одежду бедняка и носил на теле тугую власяницу для усмирения плоти, он, безусловно, не был святым, несмотря на то, что его таковым почитали. И все же им двигали не только алчность и стремление возвысить свой род, но и зачатки чувства справедливости. Послушайте, что он сам говорил о себе. «Сильные мира сего питают ко мне неприязнь, ибо я выступаю против них за права… бедняков». Описание его конца, когда алая кровь фонтаном хлестала из шеи и ног, прочно врезалось мне в память. Говорят, что его сын, узнав о содеянном, долго не мог есть и пить.
Я сопоставила его смерть со случаем, описанным Матвеем Парижским, который произошел прямо перед началом войны. Однажды короля застала гроза и ему пришлось искать приют во дворце епископа Даремского, где по чистому совпадению также остановился Монфор. Зная, что король боится грозы, Симон вышел поприветствовать его на лестнице и при виде бледного, как мел, лица спросил, чего он страшится, ведь опасность уже позади. Как утверждает Матвей Парижский, Генрих ответил: «Я безмерно боюсь грома и молнии, но клянусь Богом, тебя я боюсь более всех громов и молний на свете». Мне хорошо запомнилось возражение графа: «Ваше величество, это несправедливо и немыслимо, почему вы боитесь меня, вашего преданного друга, хранящего верность вам, вашей семье и английскому королевству, тогда как вам следует бояться ваших врагов, разрушителей и льстецов».
Что им двигало? Корысть? Высокомерие? Нежелание нарушить обет, данный в 1258 году, — любой ценой отстоять «Оксфордские провизии»? Возможно, и первое, и второе, и третье. Монфор имел склонность — тремя веками позднее ее перенял Томас Кромвель, простолюдин и главный советник Генриха Тюдора во время его разрыва с Римом, — набивать себе карманы и раздавать родственникам лучшие должности, привнося в политические дела дух семейственности. Но при всем том он был решительным и верным, всегда держал слово, обладал ясностью ума и был независим в суждениях, что в любые времена редкость.
Почему у советников королей такая незавидная судьба? За что их останки подвергаются надругательствам? Когда Томас Кромвель — а своими воззрениями, надменностью и смекалкой он походил на Монфора — впал у Генриха VIII в немилость, он также претерпел мучительную кончину. Ему отрубили голову, которую затем сварили, насадили на пику и выставили на Лондонском мосту, что примечательно, затылком к любимому городу. И хотя Оливер Кромвель, тот, что пошел войной на короля Карла и одержал победу, скончался в собственной постели якобы от заражения крови, тремя годами позднее его тело было выкопано для посмертной казни. Его полуразложившаяся голова была выставлена на шесте возле Вестминстерского дворца, столь любимого Генрихом III. «Железнобокие» [39] не нуждаются в нашей жалости, однако стремление расчленять человека на куски, так, что его не может собрать «ни вся королевская конница, ни королевская рать», само по себе является дикостью.
•
До меня добрался свет. Его было не остановить. Он накатывал полосками, волнами поднимался от земли. А я наконец добралась до фермы, которая выглядела заброшенной посреди огромного вспаханного поля. Амбар стоял нараспашку, перед ним рядами лежали поддоны с завядшими растениями для цветников. Это были бархатцы и бегонии, их листья высохли и выцвели, как бумага, выхваченная из пламени. Начавшееся так удачно утро испортилось. Я окончательно выбилась из сил, но просто не могла заставить себя задержаться в таком безрадостном месте. Борона извлекла на поверхность кремнистые камни, потому поле казалось беленым или высохшим. Я считала до ста опять и опять; зеленые макушки лесного массива маячили где-то за пределами досягаемости, и вдруг я вынырнула среди деревьев, вдохнув полной грудью вонь собачьих экскрементов и запах отцветших цветов — испорченный летний воздух.
Дорожка проходила через деревню Хамси, за ней я снова рванула вперед, к берегам, где вовсю било солнце. Во время дождей река здесь разливалась, сейчас же она обмелела и пахла солью, по поверхности плыли сгустки желтоватой пены и обрезки сгнившего чертополоха. Течение было быстрее, чем там, где я уже побывала. Надо быть чистым безумцем, подумалось мне, чтобы плавать среди всякой дряни. У острова Хамси поток приобрел цвет расплавленного шоколада, а когда я завернула за поворот и увидела Льюис, мимо меня пролетел баклан. На острове рыбачили двое бритоголовых пареньков в ветровках. Они орудовали сетью, и, когда я шла мимо, один из них злобно буркнул: «Я чуть тебя не поймал».
Я двигалась по верхнему краю поросшего травой берега, насыпанного специально, чтобы остановить разливы реки. По кромке луга внизу тянулись канавы, из них торчали полузатонувшие ивы с ветвями, золоченными на кончиках. Считается, что именно здесь утонули лондонцы после того, как спустились с холмов, почва у них под ногами становилась все мягче и мягче, проседала под каждым шагом, бедняги проваливались по колено, затем по пояс, пока их не поглощала трясина, помечая места их гибели сорняками, если вообще оставляла какие-либо знаки. Прежде большая часть земель здесь была полностью или почти полностью залита водой, и даже сейчас трудно проследить за мелкими ручьями, изрезавшими окрестности. Некоторые прорываются наружу в самых неожиданных местах, как-то мне попался рыболов, уверявший, что здесь даже в самых узких канавках ловятся щуки, хотя так и не установлено, заносят их туда разливы или это доказывает, что некоторые русла соединены подземными течениями. Еще он мне рассказал о бездонном озерке в лесу, он называл его Пеллс, хотя на карте оно именуется иначе. Прошлой зимой мы с Мэтью отправились на его поиски вместе с приятелями, жившими неподалеку, и весь день шагали по лесам, таким дремучим, сырым и труднопроходимым, что, хотя нас разделяло не более метра, казалось, что в любой момент кто-то из нас потеряется.
Под изнуряющим солнцем я прошла через владение Лэндпорт, на антеннах машин и жилых домах трепыхались английские флажки. Дети еще были в школе, и перегретые улицы были пусты, лишь два рыжих кота, словно неживые, лежали под машиной. Весь путь до окраины деревни Уолланд, где развернулась главная часть битвы, я еле-еле тащила ноги. В названиях местных улиц увековечены имена сражавшихся, и, похоже, роялистам повезло больше. Улица принца Эдуарда и улица короля Генриха были щедро обсажены вишнями и рябиной. Местные дома представляли собой виллы эдвардианской эпохи с остроконечными крышами, пряничные портики прогибались под тяжестью разноцветных роз. Королеву Элеонору почтили меньше, как это и подобало женщине, переправившей во Францию королевские драгоценности: тупик Элеоноры был застроен приземистыми жилищами с маленькими оконцами, выходившими на реку. Что до улицы Монфора, то она бежала вниз от гостиницы «Пэддок» до льюисской тюрьмы, места, где, возможно, велись самые тяжелые бои. Впервые эту теорию выдвинул историк Вильям Блаау, узнавший от дорожного строителя, что, когда в 1810 году Брайтонскую заставу срыли, в окрестностях тюрьмы были найдены три огромные ямы, наполненные костями, в каждой лежало почти пятьсот тел.
К тому времени, как я дошла до Хай-стрит, в глазах у меня перестало рябить и моим единственным желанием было простоять год под холодным душем и смыть с себя реку. Напротив замка расположилась гостиница «Белый олень», массивное просторное здание с красивыми каретными фонарями и аккуратным балконом с кованой загородкой, фасад почти не изменился с тех пор, как семья Вулф приобрела на местном аукционе в 1919 году Монкс-хаус. В холле было даже еще жарче, чем снаружи, и сильно пахло вареным мясом. Мой номер располагался под самой крышей, из высоких окон было видно, как ласточки высоко взмывают и сыплются вниз, точно просеянная мука. Прямо в коридоре был устроен дополнительный холл или вестибюль, совершенно пустой, если не считать запертого сундука, в который запросто уместилось бы человеческое тело. Ковер был цвета распаренного чернослива, также как занавески и стулья, обитые тканью, похожей на бархат, при поглаживании она наэлектризовывалась и от нее било искрой. Кто-то загасил о подлокотник сигарету. Поразительно, но она не прожгла дыру. Еще кто-то — возможно, тот же самый человек — отковырял от стены большой кусок штукатурки, обнажив каменную крошку и бетон, украшенный гирляндами паутины.
Моя кровь словно превращалась в ртуть. Я лежала на кровати, едва не рыдая, внезапно охваченная переживаниями последних месяцев. Я не задумывалась над тем, что бегу от людей, но сейчас я желала одного — броситься наутек в лес, дремучий, заколдованный Andredesleage, где никто меня не знает и не найдет. Почему прошлое так болезненно? Почему оно так затягивает, вместо того чтобы отступить? Почему оно порой захлестывает с такой мощью, что реальное пространство, где кто-то стоит, сидит или лежит, пространство, в котором, бесспорно, существует чье-то физическое тело, растворяется, точно мираж? Прошлое нельзя удержать, невозможно вернуть ушедшее время, вновь собрать то, что ты уже потерял или по недомыслию упустил, — к чему же тогда эти внезапные ловушки, эти вспышки памяти?
Я здесь уже бывала. Не в номере, а в ресторане внизу. Почти десять лет назад мы с Мэтью оказались в этих краях посреди зимы, в мертвые недели начала года. Шел либо собирался пойти снег — видите, память мне уже изменяет, — мы пили домашнее сухое вино, из невидимой кухни, совсем как сейчас, пахло вареным мясом, этот запах распространялся вместе с волнами теплого воздуха. Не помню, что мы ели. Знаю, что я машинально положила на стол руки ладонями вверх. Мы еще не касались друг друга, а когда уходили, в нос мне ударил запах хлорки, просочившийся из бассейна в подвале. Мы ничего не видели и не замечали вокруг. Не знали, что нас ждет впереди. Да, теперь-то я понимала, почему остров сирен был усеян грудами тел. Если бы кто-нибудь из нас знал, что уготовано нам в будущем, думаю, мы так бы и сидели, окаменев, до тех пор, пока от костей не отпала бы сгнившая плоть.
В неоконченных мемуарах «Наброски прошлого» Вирджиния Вулф снова и снова обращается к вопросу о том, как понять смысл того, что случилось ранее. Этот документ — отчасти дневник, отчасти автобиография — был начат 18 апреля 1939 года и эпизодически дополнялся в течение следующих полутора лет; последняя запись была сделана 15 ноября 1940 года, за четыре месяца до смерти. Вирджиния Вулф погружается в водоворот детских воспоминаний: радостные вольные летние месяцы на заливе Сент-Айвз и клаустрофобия в годы траура после смерти матери Джулии и единоутробной сестры Стеллы, когда отец от горя превратился в тирана, подверженного периодическим и чисто детским приступам гнева. Постепенно теряя слух, отец все сильнее замыкался в себе, но к тому времени подрос и занял его место круглощекий брат Стеллы, алчный Джордж Дакворт, он измывался над Вирджинией и ее сестрой Ванессой на балах и вечеринках, всячески потешаясь над их унылым видом.
В последней части этого клубка длинных, фрагментарных и очень живых воспоминаний — по сути, вереницы различающихся в мелочах и противоречащих друг другу набросков, один из которых был выброшен в мусорную корзину и чудом спасен, — возникает фигура Тоби, ее старшего брата. Вот он конопатит лодку, в голубых глазах читается сосредоточенность. Вот стоит в норфолкской куртке, тесной в плечах и со слишком короткими рукавами. Вот рисует птицу, непринужденно держа бумагу и начиная с неожиданного угла. Вот он… но здесь источник воспоминаний пересыхает. Тоби умирает от тифа в 1906 году, Вулф намекает на это событие, но ни разу не описывает его в подробностях.
Вместо того она воображает, как бы могла повернуться судьба Тоби, подытоживая: «Думаю, он бы более полагался на характер, чем на удачу, если бы поправился». Это замечание ее как будто встряхивает. Она осторожно продолжает, ее перо, как она однажды выразилась, чует след. «Исходящий от этих слов погребальный звон воздействует на мою память, ведь на самом деле ничего такого не было. Никто не предчувствовал, что ему суждено умереть в двадцать шесть, когда мне будет двадцать четыре. Этот постоянно звучащий в ушах похоронный звон есть одна из подделок действительности, единственный способ уберечься от нее — описать словами». Ранее она заметила, что «на прошлое сильно влияет настоящее». Сейчас, на короткий миг, кажется, будто невозможно его полностью охватить, поскольку оно непреложно подменяется настоящим, временной платформой, порождающей мимолетные впечатления.
Эти записи, как я уже говорила, фрагментарны. Они делались, когда на Суссекс падали бомбы: в одном месте Вулф начинает абзац с замечания: «Ночью был налет на Лондон». Детство и населяющие его призраки кажутся бесконечно далекими, однако мысленно переносясь назад и на ощупь роясь в воспоминаниях, она обнаруживает удивительную закономерность:
В эти моменты я чувствую величайшее удовлетворение, не потому, что думаю о прошлом, а потому, что в полной мере проживаю настоящее. Ибо настоящее, опирающееся на прошлое, в тысячу раз глубже, чем настоящее, что настолько нависает над нами, что больше ничего не ощущаешь… Я пишу это отчасти ради того, чтобы восстановить чувство настоящего, заслонив прошлым эту неровную поверхность. Так дайте же мне, как ребенку, босиком входить в холодную реку, опускаться в поток.
Этот отрывок перекликается с выводом, сделанным в романе «Между актов», который писался параллельно и также под аккомпанемент падающих бомб: чтобы понять смысл настоящего, его жестокость — и разрушительность, — надо оглянуться назад на то, что исчезло из поля зрения.
После того как солнце село, а я вымылась с мылом под едва теплым душем, тело мое стало возрождаться. Я съела карри в пустом ресторане, запивая еду пивом. Вместе со счетом мне принесли плошку с семенами фенхеля в разноцветных сахарных оболочках, розовых, белых и желтых, и весь остаток вечера на кончике языка чувствовался привкус аниса — точно слово, которое я знаю, но не могу выговорить. Пока еще не стемнело, я спустилась к землям, тянущимся между городом и магистралью А27 и ограниченным с востока рекой, а с юго-запада — железнодорожными путями. Когда-то здесь была грузовая станция, которую после долгого запустения преобразовали в заповедник. Несмотря на отдельные попытки благоустройства, местность не утратила своей запущенности, спутанные живые изгороди состояли из дышащих на ладан чахлых кустиков бузины и ежевики с первыми зелеными ягодами. Я села у реки, наблюдая за крутящимися над головой галками. Раз или два я замечала пустельгу с бледными крыльями, рыжий хвост расширялся, как клин, она кружила над Бруксом, выглядывая мышей. С четырехрядной магистрали доносился шум машин и вместе с ним периодические свистки поездов, следующих через реку из Льюиса в Гастингс и обратно.
Большая часть этих земель вместе с куда более обширными прилегающими территориями когда-то принадлежала Клюнийскому аббатству, где скрывался Генрих, перед тем как подписать отречение. Хотя аббатство продолжало богатеть и после битвы, осенью 1537 года оно было разграблено, когда по приказу Томаса Кромвеля стали ликвидировать монастыри. Сносом зданий руководил военный инженер-итальянец, на продажу пошло все, включая свинец с крыш и колокола, которые затем были использованы при постройке на месте бывшего жилища приора самого большого строения в Льюисе, Лордс-Плейс. Тремя годами позднее умер сам Кромвель, и здание перешло в частные руки, а позднее было разрушено.
Когда в 1845 году была пущена железная дорога из Брайтона в Гастингс, она прошла прямо по руинам аббатства, снесенного кое-как, несмотря на усилия инженера-итальянца. Во время разбора развалин железнодорожные рабочие вскрыли колодец с сотнями тел, говорят, от них исходил настолько отвратительный запах, что нескольким рабочим стало не на шутку плохо и пришлось уйти домой. Считается, что эти тела принадлежали солдатам-роялистам, погибшим на заключительных этапах битвы при Льюисе, когда сражение достигло стен аббатства. Что же железнодорожники сделали со своей находкой? Извлекли кости, погрузили их в вагоны и вывезли в болота, где, согласно газете «Суссекс экспресс» от 17 января 1846 года, «они пополнили груды щебня, из которого была сделана насыпь через ручьи на полпути между рекой и Саутерхэмом».
Насыпь сохранилась и по сей день. Я видела ее с того места, где сидела. Завтра пройду под ней к болотам. Однако сама история плохо укладывалась у меня в голове. Получается, поезда, направляющиеся в Гастингс и Ньюхейвен, Глайд, Ор и Сифорд, ежедневно проезжают по спрессованным костям людей, сражавшихся здесь в 1264 году? Неудивительно, что не все одобрили подобное использование человеческих останков. «Суссекс экспресс» опубликовала статью деятеля, заклеймившего такую практику, а местный доктор оставил гневную запись в своем дневнике:
С большой долей вероятности эти кости — останки погибших в битве при Льюисе в 1264 году на улицах и в непосредственной близости от города; монахи монастыря Святого Панкратия собрали их и погребли по христианскому обряду на территории аббатства. В полном согласии с духом нашей эпохи железных дорог, кучи скелетов патриотов и роялистов тринадцатого века, заполнившие тринадцать вагонов, были вывезены и использованы при возведении насыпи на ветке, пересекающей прилежащий ручей.
Кем же был этот добрый доктор, так беспокоившийся о чужих останках и их посмертной участи? Это был не кто иной, как Гидеон Мартелл, охотник за окаменелостями, который нашел первого игуанодона и дал ему название и чей позвоночник, поврежденный в результате несчастного случая, позднее был выставлен в музее Королевской коллегии хирургов Англии, пережил бомбардировки Лондона и был утрачен в 1970 году во время генеральной уборки.
Ossa hic sita sunt — писали римляне на надгробиях, или просто OHSS: здесь покоятся кости. При этой мысли я чуть не рассмеялась: железнодорожный путь пролегает по спрессованным бедренным и берцовым костям, точно так же как возвышенность Даунс за ним состоит из одноклеточных водорослей и протопланктона и каждые тысячу лет вырастает на сантиметр. «Я вижу его — прошлое, — продолжала Вирджиния Вулф, — как улицу, лежащую позади, длинное полотно сцен, чувств». Она заблуждалась. Прошлое не позади нас, а под нами, и земля, по которой мы ходим, есть всего-навсего колодец с костями, заросший густой травой.
V разлив
Я долго стояла у железной дороги. Смеркалось, но было по-прежнему тепло, и с того места, где я находилась, Льюис походил на увенчанный замком остров, парящий над черным лесом деревьев. Мне тогда казалось, что город возведен на линии разлома, или спорной границе — области, не до конца покоренной, где мир природы и тот, что принадлежит человеку, заключили лишь шаткое перемирие.
Наверное, лет десять назад я читала в «Гардиан» статью о том, что в этих краях якобы орудуют сатанисты, и, хотя само предположение звучало как абсурд, мне стало слегка не по себе при мысли, что это место столько лет привлекает к себе внимание. В заметке речь шла о Ночи Гая Фокса, когда жители города, словно обезумев, разгуливают по узеньким улочкам с вымазанными в черный цвет лицами, бросают петарды, возят огромные чучела Папы Римского и Тони Блэра и сжигают их на спортивных площадках на кострах из поддонов, которые копят в течение всего года. Этот ежегодный ритуал, как принято считать, замешен на антикатолических настроениях, зародившихся после сожжения в Льюисе семнадцати протестантских мучеников. Некоторые были убиты по одиночке, но 22 июня 1557 года сразу десять человек взошли на костер — гротескная пародия на кострища, запаленные по случаю Иванова дня, в старые времена он праздновался примерно в этих же числах. Считается, что их мученическая смерть стала самым крупным актом насилия в период Марианского гонения, устроенного королевой Марией Кровавой, стремившейся искоренить протестантскую веру.
Итак, место для костров; и место, имеющее непростую связь с водой. Льюис был построен на реке не случайно. Город богател благодаря рыболовству и помолу зерна, а позднее — благодаря баржам с вельдским железом. Но долина, над которой возвышается город, расположена на высоте всего один метр над уровнем моря, и в периоды сильных дождей вода поднимается и заливает земли, когда-то отобранные у смрадного сырого болота. Веками недостаток этой местности сказывался только на сельском хозяйстве, но сейчас в пойме реки расплодились дома и промышленные зоны, и в последний раз, когда Уз вышел из берегов, последствия оказались весьма неприятными.
Это случилось осенью 2000 года, после многодневных гроз и дождей. В понедельник 9 октября вода залила низколежащие поля и дороги, и люди принялись названивать в городской совет и требовать мешков с песком. Даже когда вода понемногу стала спадать, дожди не прекратились, не позволяя высохнуть промокшей земле. В ночь на четверг дождь хлестал как из ведра, и еще до восхода солнца вышел из берегов Ук, самый большой приток Уза. Все произошло очень быстро. В девять утра под двухметровым слоем воды очутился город Укфилд, а река превратилась в бурный поток, затопивший машины на стоянках и смывавший товары с полок супермаркетов.
В Льюисе разлилась Уинтерборн, маленькая речушка, по которой в прежние времена проходила граница аббатства. Уинтерборн, как следует из названия [40], оживает зимой, неся воды, хранящиеся в огромных меловых водоносных слоях Даунса. В период сильных дождей эти водоносные слои ведут себя как шальные, направляя воду туда, где ее никто не видел десятилетиями, если не веками. А хуже всего то, что в Льюисе русло Уинтерборна совпадает с магистралью А27 и железнодорожной веткой Брайтон-Льюис, и река почти на всем своем протяжении течет по трубам либо отводным бетонным каналам и водотокам. Однако водоотводы замусорились, и вода устремилась в Таннерс-Брук и залила желто-коричневое ложе Гранджа.
Ук сливается с Узом возле Истфилда, и, когда приток воды сместился вниз по течению, Уз также вышел из берегов, и вода хлынула на земли между Баркомбом и Хамси, пока все пастбища не исчезли во вспученном озере. К обеду заградительные сооружения Льюиса дали течь, и грязная мутная река ворвалась в город. Сбегая с вершины холма, поток наводнил улицы и к середине дня затопил землевладение Феникс, бассейн Пеллс, новые дома в Маллинге и старые в Клиффе. Полиция перекрыла центр города, и спасательные команды на надувных лодках оказывали помощь сотням людей, застрявших дома и на работе.
Пик наводнения пришелся на четверть десятого вечера, когда вода в районе землевладения Маллинг поднялась более чем на три с половиной метра и подобралась к третьему этажу. Дороги и рельсы также затопило, и к вечеру Льюис практически превратился в остров, отрезанный от внешнего мира разбушевавшейся стихией. Вода коварна, на ее счет не следует питать никаких иллюзий. Она проникает повсюду, хотя на ее пути можно возвести заслоны, и беспристрастна по своей сути, ибо не отдает предпочтение ни канализационным трубам, ни церквям. В ней повсюду что-то плавало: церковные книги, детские игрушки, нижнее белье, раздувшиеся крысиные трупы. А ведь есть еще невидимые субстанции: асбестовая взвесь, удобрения и пестициды, органические вещества, вымытые из могил и склепов.
Ту ночь эвакуированные провели во временном убежище, устроенном в здании администрации, как это ни странно, оно стояло на месте погребения протестантских мучеников. В покинутых домах вода продолжала прибывать, отравляя пространства, куда она просочилась, токсичной смесью нечистот и мазута, сдвигая мебель и пропитывая все зловонной жидкостью, похожей на пиво.
К утру дождь прекратился, и вода в реке стала спадать, но часть ее задерживали заслоны, призванные препятствовать наводнению. Пожарные команды насосами откачивали воду и сбрасывали ее обратно в реку, а 70 000 литров, загрязненных мазутом, слили в танкер и увезли прочь. В общей сложности затопило 1033 участка и свыше 2000 гектаров земли. И чего только не оставила после себя отступающая вода: одна из фотографий, попавшихся мне на глаза, запечатлела стоящую в дверях дома женщину, у ног которой лежала разбухшая мертвая корова.
В последние несколько лет схожие снимки поступали из Тьюксбери, Боскасла и Шеффилда: фотографии размытых дорог и соборов, окруженных внутренними морями, темными от глины. Подобные происшествия — лакомый кусок для газетчиков, притом что они редко связаны с человеческими жертвами, нередкими в других странах. Даже половодье на второстепенной реке на маленьком архипелаге освящается довольно подробно, причем не один день. В наводнениях есть нечто мифическое и тревожное, напоминающее о зыбкости нашего пребывания на этой планете.
Библейский потоп, самый древний акт разрушения, произошел из-за того, что Бог — темпераментный и гневливый ветхозаветный Бог, которого альбигойцы считали дьяволом, имеющий явное сходство с викторианским патриархом той породы, к которой принадлежал Лесли Стивен, — решил, что созданный им мир не так хорош, как он надеялся. Люди погрязли в грехе, и он вознамерился истребить их вместе со зверями, ползучими гадами и небесными птицами, сохранив лишь по паре каждого вида. Его решение объясняется любопытно: «Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел [Господь] Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле» [41].
Только Ной и его семья избежали этой участи, и они построили ковчег из дерева гофер и осмолили его внутри и снаружи, и как только они это сделали, небеса разверзлись и пошел дождь, который лил безостановочно сорок дней и сорок ночей, пока вся земля на пятнадцать локтей не ушла под воду, покрывшую даже самые высокие горы, и все сущее погибло. Так продолжалось сто пятьдесят дней, а затем вода стала убывать, хотя прошло еще добрых три месяца, прежде чем показались вершины самых высоких гор, и, наверное, еще месяца три, пока земля полностью не высохла. Затем Господь Бог пообещал впредь не уничтожать мир, добавив: «…потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его» [42].
Ужасная история. Не понимаю, как религия способна зиждиться на деяниях такого странного Творца, но мне близко кроющееся за всем этим беспокойство: в любой миг мы можем быть стерты с лица земли. Предания об уничтожении мира имеют длинную генеалогию, существуя во всех уголках земного шара. Некоторые из них — мифы об Атлантиде и государстве Лайонесс — повествуют о целых затонувших цивилизациях, другие имеют местный масштаб. Когда я была ребенком, бабушка часто мне рассказывала о деревне на дне озера. Ее жители совершили нечто дурное — что бабушка, что? — и должны были понести кару — о, наверное, они не молились. Деревня стояла в долине, которая всегда мне представлялась очень ровной, выглаженной, как лужайка для игры в шары, а на ее краю теснились дома. И вот в один злосчастный день с холмов обрушился стремительный поток, грохоча как десять тысяч лошадей, и деревня очутилась под водой. Но местные жители оказались очень сноровистыми и не погибли! Они вели себя как ни в чем не бывало: ухаживали за свиньями, возделывали поля и производили потомство, словно у них были жабры. По воскресеньям они, невзирая на свою нечестивость, всей деревней шли в церковь, и если как следует прислушаться, стоя у кромки воды, то можно услышать колокола, отбивающие часы. Раз в сто лет заклятье рассеивается, и вода в озере уходит под землю. Дома высыхают, и люди выходят в сады и болтают друг с другом на воздухе. Если в этот единственный день пройтись по деревне, то не заметишь ничего особенного, но если остаться здесь после полуночи, то из почвы начинает сочиться вода, она запруживает улицы, и, прежде чем ты успеешь сделать один, два, три вдоха, озеро сомкнется у тебя над головой еще на сто лет.
Это предание настолько затрепано, что походит на кружево — больше дыр, чем пряжи. Откуда оно взялось? Потребность покарать порок, затопив деревню водой, взята из легенды о Всемирном потопе. Что до места — может, это Капель-Селин, уэльская деревушка, которую затопили, чтобы устроить водохранилище и обеспечить Ливерпуль питьевой водой? Колокола, думаю, позаимствованы у Данвича, средневекового городка в Суффолке, который поглотила морская пучина, говорят, в нем было восемь церквей, и рыбаки и моряки иногда слышат их звон. Добавила ли бабушка деталей в эту историю или узнала ее в таком виде от кого-то другого? В свое время я не спросила, а сейчас уже слишком поздно.
В запрете долго оставаться в том или ином месте также нет ничего необычного. Он перекликается со сказаниями о подземном мире, над которыми я размышляла несколько дней назад, землями, которые разверзаются и смыкаются, как ракушки, поймавшие зазевавшуюся жертву. В балладе о Томасе Рифмаче есть такая строчка: «Что б ни увидел ты вокруг, молчать ты должен, как немой, а проболтаешься, мой друг, так не воротишься домой!» [43] Мне смутно припомнился и еще один мифический город — Ис, бретонский Содом, который поглотили волны, так Бог его наказал за поведение королевской дочери Дахут, которая пила слишком много вина и любила убивать мужчин после единственной ночи любви.
Эти города возникают на поверхности в апокалиптических произведениях, созданных уже в нашу эпоху, вроде Лондона из «Затонувшего мира» Дж. Г. Болларда, — разрушенные поселения с каналами вместо улиц, где горожане влачат жалкое существование, если вообще остаются в живых. В подобных фантастических романах водная стихия зачастую уподобляется времени, все уносящему с собой. Этой зимой я с любопытством проштудировала кучу материалов, содержавших письменные свидетельства об Узе. Среди бумаг были газетные статьи, постановления парламента, отчеты коронеров, дневники и документы уполномоченных по водоотведению, эта должность впервые появилась в шестнадцатом веке, и ее исполнители следили за тем, чтобы реки во время разливов не затопляли угодья. Ясно было, что двести наводнений — не отдельно стоящее событие, а часть долгой и изнурительной борьбы, на протяжении которой в города и на отдаленные поля периодически вторгалась вода. Сидя в темноте, я ловила себя на мысли о том, что народные сказания были способом схематически обозначить ту же древнюю, непрекращающуюся битву или, по меньшей мере, совладать со страхами и фантазиями о своенравности воды. Наверное, это так, иначе я плутала бы по дну озера в долине, и в любой миг вода могла бы подняться и накрыть меня с головой.
***
Ночью шел дождь, на рассвете я на миг проснулась, чтобы полюбоваться изменившимся пейзажем. Долина заполнилась дымкой, и лишь вершины Даунса выступали из бело-розового, как сахарная вата, тумана. Подъемные краны ньюхейвенских доков исчезли, пропали из вида и деревеньки, тянущиеся вереницей вдоль реки. Я опять провалилась в сон, а когда проснулась, мнимое море уже отступило и долина вернулась, лишь Фёрл-Бэкон по-прежнему скрывала густая белая пелена, точно пар, исходящий из драконьей пасти морозным днем. Дождь прекратился, на крыше препирались галки, они отпихивали друг дружку с криками «кир-ак, кир-ак».
Городской музей был прямо через дорогу, за ним возвышался замок. Отличное место, чтобы сориентироваться: из замка местность была видна как на ладони, а «Барбикан-хаус» был полон археологических артефактов, которые годами сюда сдавали обитатели местных холмов. На территории замка стояли несколько симпатичных домов в стиле ампир и зеленела лужайка для игры в шары, которая явно постоянно использовалась с 1640-го високосного года. Напротив был домик охраны, который когда-то принадлежал Чарльзу Доусону, геологу-любителю, обнаружившему в древнем гравийном ложе Уза окаменелые останки пилтдаунского человека — сейчас они признаны подделкой.
Доусон был мастаком по части открытий. Он также нашел — поглядим! — зуб одного из ранних млекопитающих, названную в его честь разновидность игуанодона, саксонскую лодку, единственную известную римскую чугунную статуэтку, гибрид золотой рыбки и карпа, окаменелую жабу размером с лимон, сохранившуюся в кремниевой конкреции, и целую систему туннелей, напичканных разнообразными доисторическими, римскими и средневековыми артефактами. Быть может, жаба и была подлинным открытием, зато все остальные оказались либо подделками, либо ошибками атрибуции, как, например, морской змей, которого он якобы видел во время поездки на пароме из Ньюхейвена в Дьепп, его округлое тело дугами вздымалось над волнами.
История находки пилтдаунского человека совсем не похожа на историю открытия игуанодона, хотя есть здесь один любопытный момент, а именно — Чарльз Доусон жил по соседству с Гидеоном Мантеллом, только веком позднее. Как и Мантелл, Доусон не учился в университете и свое увлечение геологией и археологией совмещал с более прозаичной работой адвоката. Однако, несмотря на отсутствие специального образования, его приняло ученое сообщество. К моменту его главной находки за ним укрепилась репутация плодовитого исследователя: в двадцать один год он был избран членом Геологического общества, а в тридцать пять — Королевского общества древностей. Пилтдаунский человек был открыт ближе к концу его жизни и стал находкой глобального значения, той, что, как он прежде жаловался, постоянно ускользала у него из рук.
Когда именно были обнаружены останки пилтдаунского человека, доподлинно неизвестно, впрочем, то же самое можно сказать и об игуанодоне Мантелла, и само по себе это обстоятельство не означает нечистой игры. Свидетельства самого Доусона расплывчаты, и, хотя он пересказывал свою историю не единожды, она не привязана к определенной дате. Об открытии он объявил в письме от февраля 1912 года к своему другу Артуру Смиту Вудворду, хранителю геологической коллекции в Музее естествознания. В этом письме Доусон поясняет, что случайно натолкнулся на древнее гравийное ложе, относящегося, по его оценкам, к плейстоцену, и нашел фрагмент того, что, судя по всему, является непомерно древним человеческим черепом.
В официальном докладе, зачитанном в декабре того же года перед Геологическим обществом, имеются и дополнительные подробности:
•
Несколько лет назад я прогуливался по проселочной дороге поблизости от пилтдаунского общинного выгона, что расположен во Флетчинге, графство Суссекс, когда вдруг заметил, что выбоины засыпаны коричневым кремниевым гравием, необычным для этого района Суссекса. Обратившись с запросом в соответствующие инстанции, я с удивлением узнал, что кремний добывают на территории фермы, и вскоре посетил карьер, где трудились двое рабочих, они разрабатывали месторождение кремния, который шел на мелкий ремонт дорог. Поскольку карьер находился в четырех милях к северу от зафиксированной границы залегания кремния поверх вельдского пласта, я заинтересовался увиденным и внимательно осмотрел русло. Я спросил землекопов, не находили ли они здесь кости или другие окаменелости. Хотя им не бросилось в глаза ничего необычного, я настоятельно попросил их тщательно сохранять все находки. Во время одного из последующих посещений, один из рабочих передал мне небольшой фрагмент необычайно твердой теменной кости человека. Я незамедлительно обыскал место, но больше ничего не нашел. В русле валялось множество плоских кусков железной руды, по цвету и твердости напоминающие осколки черепа, но, несмотря на неоднократные усилия, поиски ровным счетом ничего дали — казалось, русло не содержало окаменелостей. Лишь несколько лет спустя, осенью 1911 года, посещая разработки, в куче породы, очистившейся после дождя, я обнаружил более крупный фрагмент лобной области того же черепа.
•
Оповестив Вудворда о находках, Доусон вместе с ним вернулся в карьер, когда спали весенние воды, поскольку кремниевая шахта почти полгода была заполнена водой. В вынутом грунте им опять попались фрагменты черепа, включая обломок затылочной кости и челюсти с двумя коренными зубами. Все куски явно принадлежали тому же черепу, который, как они решили, был поврежден кирками. Помимо этого впечатляющего трофея, они нашли несколько грубо обработанных кремней и целый набор фрагментов зубов ранних млекопитающих — плиоценового слона, плейстоценовых бобра и лошади, мастодонта и гиппопотама, хотя из их отчетов так и не ясно, лежали они в кучах отвальных пород или же находились в неповрежденном русле.
Само русло, продолжает объяснять Доусон, составляло от метра до полутора в глубину и пролегало в нескольких сантиметрах от поверхности земли. Оно было сложено из темно-коричневой рудной гальки с вкраплениями не обкатанного коричневатого кремня — от не превышающих размером песчинку до пятнадцатисантиметровых. Русло состояло из нескольких слоев, и самый нижний из них, залегающий прямо над коренным ложем из желтого песчаника, был темнее остальных и более вязким из-за большого количества оксида железа, который часто приходилось сдвигать киркой, чтобы высвободить камни. Считается, что именно в этом пласте in situ [44] были обнаружены все находки. Карьер располагался на территории фермы Баркхам-Манор, на высоте примерно двадцати пяти метров над Узом, который сотни тысячелетий прокладывал себе путь, пока не достиг нынешней глубины, оставив за собой след и наносы из речного гравия, дабы пометить свое перемещение во времени.
После того как Доусон описал обстоятельства, сопутствующие находке, к делу примкнул Вудворд. Он произвел тщательный анатомический анализ черепа и пришел к ошеломительному заключению: пилтдаунский человек «обитал на территории Западной Европы задолго до того, как мустьерский человек [старое название неандертальца. — О. Л.] широко распространился в данном регионе». Его заявление было встречено с восторгом. Дело в том, что в 1871 году вышла книга Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», после чего развернулась самая настоящая охота за недостающим звеном в эволюционной истории человечества, и британцы в ней явно отставали от других. Надо ли говорить, что пилтдаунский человек — официально именующийся Eoanthropus dawsoni (эоантроп [45] Доусона) — точь-в-точь соответствовал предсказаниям антропологов, а именно обладал развитым мозгом человека, сохранив при этом выступающую челюсть обезьяны.
Несколько ученых сочли доказательства этой гипотезы недостаточными, хотя в те времена еще никто не осмеливался заподозрить подделку, предпочитая думать, что были обнаружены два типа окаменелостей: одни принадлежали раннему ископаемому человеку, другие — древнему виду шимпанзе. Отвечая на критику, Вудворд обратил всеобщее внимание на сильно сточенные коренные зубы, характерные исключительно для человека. Досадно, однако, согласились оба лагеря, что нет клыка, он бы прояснил, как работала челюсть. По счастливой случайности, по ходу раскопок в следующем году отыскался и клык, почти точно подтвердив предсказания Вудворта и явственно свидетельствуя о человеческом статусе обладателя черепа.
В 1914 году в пилтдаунском карьере была совершена последняя находка — древнее орудие труда, вырезанное из кости слона и чем-то смахивающее на клюшку для крикета. А годом позднее при плохо документированных обстоятельствах Доусон обнаруживает в Шеффилд-Парке осколки еще одного черепа. В раскопе на частной территории отыскивается еще один коренной зуб Eoanthropus вместе с зубом носорога, который удивительно, кстати, датируется ранним плейстоценом, то есть началом ледникового периода. Таким образом, последний коренной зуб становится самым весомым аргументом, окончательно доказывая, что первая челюсть и череп составляют единое целое: вероятность двойного совпадения слишком мала, чтобы принимать ее во внимание.
В конце 1915 года Доусон заболел и 10 августа 1916 года скончался в возрасте пятидесяти двух лет. Часто звучит предположение, что благодаря пилтдаунскому человеку он рассчитывал стать членом Королевского общества или быть посвященным в рыцари, и лишь ранняя смерть не дала осуществиться этим планам: рыцарство получили многие люди, имевшие отношения к находке и к ее последующему изучению. Что до гравийного русла, то, хотя Вудворд и продолжал надзирать за раскопками, а выйдя на пенсию, даже перебрался поближе к карьеру, никаких примечательных древностей в Пилтдауне больше не было найдено.
Во всей этой истории явно имелось нечто сомнительное. И хотя пилтдаунские находки тщательно изучались анатомами и палеонтологами и с годами пилтдаунский человек стал еще сильнее выбиваться из общего ряда, когда последующие открытия в разных странах показали, что эволюции человека сопутствовало не увеличение мозга, а развитие челюсти и зубов, лишь в 1953 году пилтдаунская тайна была разгадана.
В июле Джозеф Вейнер, оксфордский анатом и антрополог, присутствовал на званом обеде, и в кулуарах его коллега из Музея естествознания мимоходом упомянул, что нет никаких данных о точном месте обнаружения образцов из Шеффилд-Парка. Случайное замечание потрясло Вейнера до глубины души, и в ноябре того же 1953 года он доказал, что пилтдаунский человек — это подлог. Его группа сделала множество анализов, недоступных первым исследователям. Костные останки были проверены на содержание фтора, азота и железа и подвергнуты радиоуглеродному анализу для определения их возраста. Результат оказался ошеломляющим. Фрагменты черепа и челюсти принадлежали абсолютно разным особям, а челюсть и зубы были искусственно состарены с помощью краски, содержащей окись железа и битум, — по всей вероятности, использовался коричневый вандейк. Это в равной степени относилось к находкам из Шеффилд-Парка и из Пилтдауна. Более того, коренные зубы фальсификатор подпилил напильником или другим инструментом, дабы придать им необходимое сходство с зубами человека. На самом деле, пилтдаунская челюсть принадлежала современной обезьяне, вероятно орангутану. Что до зубов млекопитающих, послуживших отправной точкой для датировки находок, то они действительно были очень древними, но происходили совсем не из этих краев. Возможно, они были взяты из коллекций, собранных в Тунисе или на Мальте, и также искусственно подкрашены, чтобы соответствовать железистому гравию.
В вышедшей в 1955 году книге «Пилтдаунский обман» Вейнер еще впрямую не обвинял Доусона в намеренной фальсификации, стоившей научному сообществу годов потраченных зря усилий. Однако позднее его приговор стал категоричным. Некоторое время спустя появился целый сонм сногсшибательных теорий заговоров, бросивших тень на многих видных ученых. Тем не менее планомерное разоблачение заслуг Доусона — явление совсем недавнее, им мы обязаны археологу Майлсу Расселу, так как именно его статьи немало поспособствовали признанию антрополога-любителя главным мистификатором. Помимо впечатляющего числа сомнительных либо поддельных находок, Доусон был уличен в подкрашивании костей и фальсификации археологических артефактов. Всплыла также и неприглядная история с коттеджем Касл-Лодж, предоставленным Суссекскому археологическому обществу на условии выехать, если дом будет выставлен на продажу. В Льюисе ходили слухи, что Доусон приобрел коттедж путем махинаций, ведя переписку на бланках общества и создавая видимость, что он действует от его имени, хотя археологи впервые услышали о таком повороте, когда им вручили повестку о выселении.
Какие мотивы двигали Доусоном — загадка. Принято считать, что он был одержим жаждой признания и славы, но этим же грешком страдал и Гидеон Мантелл, в жизни не подделавший ни одной косточки. Меня особенно поразило, что многие находки Доусона были попытками доказать уже существовавшую теорию. Он делал упор на недостающих звеньях, объясняющих развитие одной формы из другой. К последним, например, принадлежали бексилская лодка — нелепый гибрид рыбачьей лодки из ивняка и долбленого каноэ — и Plagiaulax dawsoni, так называемое первое млекопитающее мелового периода. Пилтдаунский человек, пусть открытие и куда более громкое, по сути того же рода — это сфабрикованное доказательство уже высказанной гипотезы Дарвина о человекообезьяне.
Должно быть, Доусон, получивший весьма подходящее прозвище Суссекский волшебник, мечтал воплотить в жизнь научные догадки. И хотя прошлое порой противится истолкованию либо заставляет ученых блуждать впотьмах, это отнюдь не то же самое, что откровенная выдумка. Деятельность Доусона оставила на научном сообществе пятно. Сейчас разоблачением пилтдаунской мистификации занимаются сайты того же пошиба, что и научно обосновывающие существование Всемирного потопа и уличающие эволюционистов в коренном заблуждении. Думаю, те, кто не отличает ложь от правды, вполне заслуживают подобной посмертной участи.
•
От коттеджа Доусона я повернула к дому, в который в 1904 году переехало Суссекское археологическое общество. Снаружи Барбикан-хаус походил на постройку времен короля Георга, хотя мне сказали, что кирпичный фасад сооружен позднее, само здание значительно старше. Довольно просторный дом в два этажа явно был прежде жилым. Я бродила по комнатам, заполненным осколками предыдущих эпох. На витринах были расположены римские щипчики и саксонские украшения, сломанные рапиры, коллекции костей морских свиней, обнаруженных на территории Льюисского аббатства. Был здесь и изразец с изображением улыбающегося Эдуарда I, и кольцо с выгравированным внутри заклинанием от лихорадки, и коньки, изготовленные из спрессованной берцовой кости лошади. Информация на стендах была такой же хаотичной. В Средние века в Льюисском аббатстве монахи питались мясом морских свиней и устрицами и пили слабое пиво, так как вода была небезопасной. В городе процветала торговля шерстью и кожевенное дело, а периодически появляющиеся здесь бродячие торговцы за пыльные ноги были прозваны piepowders.
В одном из помещений на первом этаже за стеклом был выставлен женский скелет, на его ключицах висело ожерелье из оранжевых и зеленых бусин. Коленки были подтянуты к грудной клетке — так, в позе зародыша, саксонцы хоронили мертвых. Римских костей не было. В витрине, посвященной жизни после смерти, табличка поясняла:
«Римляне считали, что духи мертвых живут в подземном царстве под названием Аид. Цель похоронного ритуала была обеспечить успешный переход от земной жизни в следующий мир. В могилу рядом с урной или телом клались масла и мази, призванные помочь душе… Тело покойного сжигалось на погребальном костре, очищающем и высвобождающем душу. Затем пепел и кости собирались в урну, которая либо зарывалась в землю, либо помещалась в гробницу, подземное сооружение из камня или плит. Девять дней после похорон считались днями траура. Римляне обязательно хоронили покойных, ибо верили, что души непогребенных обречены столетиями скитаться по мрачным болотам у врат Аида, прежде чем туда попасть».
Подобная участь едва не выпала на долю Ельпенора, спутника Одиссея по плаванию, который, опьянев, заснул на крыше дворца Цирцеи, упал оттуда и разбился насмерть. Встретив спустившегося в Аид Одиссея, душа Ельпенора, еще не упокоенная, молила сжечь его тело вместе с доспехами и на могиле насыпать холм, водрузив сверху весло. Пожалуй, это лучше погребения в заросшем сорняками болоте, вотчине лягушек, откуда вырываются облачка газа, вроде бы горящие, но не дающие тепла. Болото поглотит тебя целиком и через век выплюнет назад твое тело, черное как мореный дуб и пропахшее рогозами. Лучше уж быть сожженным и упрятанным в облицованное плитами помещение вместе с инструментами и монетами; лучше уж разлететься искрами, чем очутиться во владениях воды, там, где она размывает почву.
Историю Ельпенора Вирджиния Вулф перевела и записала в одной из тетрадей по греческому языку, куда она выписывала слова и выражения из Гомера, Аристофана, Еврипида и так далее. Хотя она никогда не ходила в школу и ее обучением руководили в основном родители, образование она получила основательное и обширное. Ей давали уроки частные учителя, последняя из которых, суфражистка Джанет Кейс, на всю жизнь стала ее близкой подругой. Тетрадь, где описывается встреча Одиссея с мертвыми, была начата зимой 1907 года, через год после болезни и смерти от брюшного тифа брата Тоби, наступившей прямо после семейной поездки в Грецию. Тоби был ее спутником в путешествиях по классической литературе, и, возможно, она думала именно о нем, когда вложила в уста Одиссея, вызывающего из Аида «слабое племя мертвых», слова восторга: «Прекрасно! Прекрасно!»
Изучение греческого языка у Вирджинии Вулф странным образом переплетается с событиями ее жизни, неожиданно упоминаясь в самых драматических, даже фантастических сценах. Так, Джанет Кейс она поведала о грубых домогательствах со стороны своего единоутробного брата Джорджа Дакворта, который, возможно, не ограничился одними неуклюжими приставаниями; судя по всему, среди прочего Джордж пытался ее тискать во время уроков греческого в доме на Гайд-Парк-Гейт. Эта откровенная беседа сохранилась — пусть и из вторых рук — в письме Джанет к сестре Вирджинии Ванессе от 1911 года:
«У нее спокойный интерес к соитию… и это нас привело к пониманию всех пакостей Джорджа. Мне казалось странным, что ей он никогда не нравился, и она не раз говорила: „Фу, проказник!“, когда он входил в комнату и начинал ко мне лезть, пока я сидела над греческим. А когда я добиралась до постельных сцен, она роняла кружево и ловила воздух ртом, как добрый пескарь. И к вечеру сказывалась больной».
Греческий язык сыграл свою роль в психическом расстройстве Вирджинии Вулф. По многим признакам, она страдала маниакально-депрессивным психозом, хотя точный диагноз так и не был поставлен. В общей сложности она пережила пять серьезных приступов болезни: два после смерти родителей, два сразу же после замужества и выхода своего первого романа и еще один, закончившийся ее смертью, — в начале Второй мировой войны. В промежутках она часто чувствовала физическую слабость, ее обуревала тревога и терзала депрессия. Эти приступы нездоровья неоднократно описывали Леонард, Ванесса и сама Вирджиния — те, кого они непосредственно коснулись, и те, кто знал о них с чужих слов. Излишние эмоциональные перегрузки неизбежно затрудняли и сокращали жизнь, превращая сложный и противоречивый материал в сюжет с внятными последствиями и колоритными сценами.
Таким образом, болезнь Вирджинии Вулф можно свести к ряду ярких повествований. С детства она страдала приступами сильнейшей тревоги, сопровождавшимися рядом соматических симптомов: повышенной температурой, головными болями и учащенным сердцебиением. Во время нервного срыва, последовавшего вслед за смертью отца, она пыталась покончить с собой, выпрыгнув из окна; позднее она наглоталась веронала, и ей промывали желудок. У нее часто случались депрессии, и она почти ничего не ела, а что еще хуже, со временем этим кризисам стали сопутствовать острейшие маниакальные расстройства: она не узнавала окружающих, включая собственного мужа, слышала голоса, бормочущие бессвязные речи, и с кулаками бросалась на медсестер. Лечение — а лечиться она терпеть не могла — состояло из успокоительных средств: таблетки, постельный режим, ограничения в чтении, сочинительстве, прогулках и другой деятельности, способствующей возбуждению, нелепая диета, состоящая в основном из молочной и пресной пищи. В основном из-за своей настойчивости в вопросе питания Леонард после смерти жены заслужил репутацию надсмотрщика, равно как и ее сиделки.
Среди этих мрачноватых пикантных подробностей часто повторяется такой пассаж: во время своего второго приступа она «лежала в постели в доме семейства Дикинсон в Уэлине, и ей чудилось, будто птицы за окном щебечут хором по-древнегречески, а в кустах, среди азалий Оззи Дикинсон, спрятался и сквернословит король Эдуард VII». Эта фраза взята из автобиографического эссе «Старый Блумсбери», написанного почти двадцать лет спустя, как речь для Клуба мемуаристов — его члены, а в нем состояли некоторые участники Блумсбери, любили поразвлечь друг друга затейливыми историями из жизни. Может ли эта деталь считаться подлинным фактом? Данный вопрос тщательно проанализировала биограф Вулф Гермиона Ли, заметившая, в частности, что Септимусу Смиту, контуженному поэту из романа «Миссис Дэллоуэй», который в конце концов кончает с собой, тоже мерещились воробьи, щебечущие на древнегреческом.
Теперь уже не скажешь наверняка, наградила ли Вулф Септимуса собственными галлюцинациями или придумала их для своего персонажа, а затем приписала себе. Остаются только воробьи. Может, они существовали в природе, а может, и нет. Так или иначе, они присутствуют на странице, двусмысленные и исступленные, чирикая и выводя песни «на длящихся пронзительных нотах, по-гречески, они вместе, оттуда, с деревьев на лугу жизни за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет» [46].
•
Я вышла из музея и по пути к замку наткнулась на последнюю отсылку к «Одиссее». Лестница шла вверх по краю обнесенного стеной сада, где росла розовая и белая валерьяна, вызывающее сонливость растение, которое саксонцы именуют «целебной травкой». Ступеньки недавно отремонтировали, и на каждой была выбита фамилия жертвователя. В перечисления имен и бодрые призывы не сдаваться на полдороге вклинилась строка: «Пусть в помыслах твоих Итака будет конечной целью длинного пути». Одиссей стремился именно в родную Итаку, а эту цитату из стихотворения греческого поэта-гея Константиноса Кавафиса, тридцать три года прослужившего мелким чиновником в департаменте орошения египетского министерства, я отыскала лишь по возвращении домой. Стихотворение заканчивается такими строками:
И если ты найдешь ее убогой, обманутым себя не почитай. Теперь ты мудр, ты много повидал И, верно, понял, что Итаки означают [47].
Пчелы налегали на валериану, и, хотя было жарко, горизонт заволакивали облака, темные снизу и невероятно чистые сверху. Пусть в помыслах твоих Итака будет конечной целью длинного пути. Молитесь, храните мысль о Боге глубоко в сердце, веруйте, будьте настойчивы. Но что если Итака — всего лишь остров сирен, место, где останавливается время: неподвижные небеса в конце путешествия? Я давно уже отказалась от веры в судьбу, разве что во мне живет убежденность, что кости порой остаются непогребенными и что меня наверняка переживут пластиковые пакеты, которыми мое поколение разукрасило нашу планету, точно так же как инструменты древних римлян пережили их бренные тела. Забудьте об Итаке. Это утерянный мир, и нет ничего более отрезвляющего, чем знакомство с надеждами умершего на будущее. Но, быть может, именно это и имел в виду Кавафис: Итака лишь побуждает нас двигаться вперед, а в конце странствия исчезает, подобно радуге.
•
Башня-донжон венчала насыпной холм, окруженный рвом, за ней посреди аккуратно подстриженной лужайки росла огромная липа со срезанной макушкой. Я вошла в двери и стала подниматься по крутой лестнице, хватаясь за перила, как подвыпивший моряк. Посетителей не было, только парочка электриков с поджатыми губами проверяла проводку на втором ярусе. Наверху меня ослепил свет, передо мной расстилался город, который Уильям Моррис [48] уподобил «коробу с игрушками у подножия великого амфитеатра белесых холмов». Река, словно расплавленное олово, струилась по полям, на другой стороне узкой долины, по которой она протекала, опять виднелась возвышенность Даунс, точно меловая скала, которую поколения галок изрешетили дырами, чтобы устраивать в них брачные игры.
Держась руками за поручень, я смотрела в сторону моря, поверх городских крыш и потока машин со вспыхивающими фарами, тянущихся по магистрали А27. Равнина Левелс чашей лежит между холмами, изрезанная искрящимися прожилками; река змеится по сочным волнистым заливным лугам, едва достигающим уровня моря. Я перебрала холмы, названия которых знала: Маллинг-Даун, гора Кабёрн, Фирл-Бекон, Блэккап, Беддингэм с двумя искусственными водоемами, Ред-Лайон и Уайт. Холмы на западе оказались мне не по зубам, хотя прямо передо мной торчал странный пригорок Аппер-Райз, прежде бывший островком, изрытым кроличьими норами. Сзади от меня высился холм Оффхэм с лысым меловым склоном, из-за него выглядывала гора Харри. Дежуривший на башне дозорный видел, как на рассвете в Паддоке стягиваются войска принца Эдуарда, а затем мчатся по Уоллэндсу в погоне за плохо вооруженной и безлошадной добычей.
В утреннем освещении пейзаж выглядел казался чем-то незыблемым, но это ощущение было обманчивым. С начала времен в этой области протекают медленные, но неумолимые изменения, в результате их вздыбливаются холмы и прорезаются скалы. Весь мир подвержен подобным переменам, происходящим прямо у нас под ногами и лишь изредка различимым глазом. Но, как я видела прошлым вечером, существует и другая сила, переиначивающая долину на собственный лад. Человек трудится здесь с тех самых пор, как впервые обосновался в этих краях — неугомонный человек с кирками и лопатами.
За тысячи, возможно, десятки тысяч лет до Рождества Христова сюда с территории нынешней Европы перебрались первые первобытные люди, они шли пешком по земляному перешейку — позднее его поглотили поднявшиеся моря. Поначалу люди не оказывали существенного влияния на ландшафт, но примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры характер пыльцы в долине изменился — это был показатель, что девственные леса начали расчищать. Пыльца — замечательный индикатор деятельности человека. Она не только удивительно разнообразна по структуре и рисунку, но и необычайно устойчива к разложению и может сохраняться тысячелетиями в кислой или затопленной почве. Судя по образцам, извлеченным из торфа, взятого у подножия горы Кабёрн, Даунс в древности покрывали дремучие липовые леса, которые постепенно прореживали или вырубали древние скотоводы и земледельцы. До нас даже дошла пыльца злаков, которые они выращивали; неразличимая невооруженным глазом, она прячется в темных залежах торфа, нанесенного рекой.
Время медленно ползло. Дремучий бор постепенно исчез, как это случается с лесами. Римляне пришли и ушли, оставив после себя урны с прахом и проложенные по четкой схеме дороги. Льюис был построен в саксонский период по стандартному плану: от главной улицы ответвлялись узенькие проулки с ограждениями из кремниевой гальки. В городе имелись рынок и два монетных двора; изредка в близлежащих холмах металлодетекторы обнаруживают скелеты местных жителей, они лежат, свернувшись, точно коты, а рядом покоятся их сабли. Большинство виденных мной деревень вытянулись вдоль реки, точно четки; Ифорд, Беддингэм, Родмелл, Саутиз и Тарринг-Невил, упоминающиеся в земельной описи Англии, составленной при Вильгельме Завоевателе, были основаны задолго до прихода норманнов, построивших здесь свои замки, в которые вселились, как свидетельствует «Англосаксонская хроника», «дьяволы и злодеи».
В эти темные века Уз в своем нижнем течении, по всей вероятности, представлял собой обширную приливо-отливную дельту, с многочисленными крошечными руслами, которые заполнялись водой во время разливов. Река, извиваясь, течет к морю по солончакам, где водится множество диких птиц, по обеим ее сторонам — наносы плодородной почвы, за века образовавшие террасы из отложений ила. Саксонцы были мореплавателями, и, судя по записям в земельной описи, местные жители занимались ловом сельди. Они плавали в нерестовую акваторию Северного моря, кишащую рыбами цвета морской волны, и ловили их дрифтерной сетью [49]; в итоге эти крошечные селения платили такую же церковную десятину, как богатейшие восточноанглийские города.
Болота разграничивают сушу и море, а их обитатели промышляют и там и сям. В Родмелле добывали соль, вываривая ее из брикетов илистой почвы на шероховатых глиняных сковородках, называемых брикетницами. В Ифорде были две водяные мельницы, которые давным-давно развалились. Деревни также зависели от сельского хозяйства, но даже ими они были обязаны реке: холмистая местность использовалась под пастбища, ниже, на наносных склонах выращивался урожай, а сено для зимнего прокорма скота заготавливалось на богатых травой лугах, тянущихся вдоль кромки воды.
К концу саксонской эры болота начали активно осушать, и, судя по изобилию лугов в долине, занесенных в земельную опись Англии, вполне вероятно, что эта практика стала широко применяться после того, как король Гарольд пал на кровавом поле битвы, километрах в тридцати отсюда. С его смертью произошел перелом: если предметы, изготовленные в саксонский период, были хрупкими и ржавели, то в норманнскую эпоху они сделались более прочными и надежными. Башня, на которой я стояла, была возведена руками норманнов, а взглянув на юг, я могла составить себе представление о построенном ими аббатстве. Когда-то оно было размером с Кентерберийский собор и разрушилось не от времени или стихийных бедствий, а вследствие полного разрыва Генриха VIII с Римом.
После норманнского завоевания болотистая местность стала осушаться более систематично, и перемены в долине Уза были того же порядка, что и работы, кипевшие по всей стране, включая равнину Сомерсет-Левелс, болото Ромни и Линкольнширское и Норфолкское низменные болота. В этот период роются осушительные каналы, возводятся укрепления и насыпи и строятся шлюзы, дабы запереть реки в своих берегах. По иронии судьбы, эти усилия зачастую приводили к обратному эффекту. На побережье Ла-Манша имеются значительные береговые наносы — этим термином обозначается движение осадочной морской гальки под воздействием ветра, а также приливов и отливов. Смещающиеся берега имеют тенденцию перегораживать устья рек и препятствовать образованию болот, поскольку приливные течения размывают отложения. Рукава несут значительные объемы воды, и во время отливов огромные потоки устремляются к устьям, выбрасывая за ненадобностью лишние камни. С осушением болот их промывочная мощность сократилась, и к началу Средневековья дрейфующая галечная коса вытеснила Уз из его естественного устья в Ньюхейвене, так что русло сместилось на шесть километров на восток к Сифорду. В итоге река стала более быстрой и ее ложе медленнее заполнялось наносами.
С самого начала расчистки лесов, тысячелетия назад, на дне Уза стали накапливаться отложения, и со временем река все сильнее мелеет, то есть зарастает камышом или замедляет течение, а это означает, что она почти неминуемо выходит из берегов во время весеннего паводка или сильных дождей. При таких условиях совсем не удивительно, что к концу Средневековья часть долины целиком ушла под воду, а другие ее части затапливало на время сильных половодий. Местность едва поднималась над уровнем моря — в конце концов, болото есть болото, оно так ведет себя не из вредности или упрямства, а потому что находится там, где скапливается вода. Аппер-Райз и Лоу-Райз, два необычных бугра из глауконитового песка, что выступают посреди Брукса, в те времена были островами, кишащими дикими кроликами. Бóльшая часть полей с пасущимися коровами, которые я видела из замка, некогда представляли собой заболоченные луга (wisk на староанглийском), в лучшем случае раскисшие от воды, в худшем — погребенные под ней. Что до архиепископа Кентерберийского, владевшего четырьмястами акрами земли близ Саутерхэма, то он пожал плечами и превратил свои поля в зарыбленные пруды: лещи лучше приспособлены для существования под водой, чем злаки или овцы.
Не следует забывать и об изменениях климата. В римский период уровень моря был почти на два метра ниже, чем сейчас, и побережье Суссекса, вероятно, тянулось еще на добрых полтора километра. В Средние века море стало подниматься, создав большие проблемы для жителей прибрежных деревень. С увеличением высоты приливов в Европе возобладал период сильных штормов, и именно тогда под волнами начинают исчезать города Винчелси и Данвич. Эта климатическая смута длилась короткими циклами более полутора веков, и ее последствия легко проследить по записям о неурожаях и по тревожным монастырским хроникам.
Ливневые дожди принесли с собой огромные бедствия. Одна из самых крупных природных катастроф произошла весной 1287 года, когда Эдуард I только взошел на трон и собирался изгнать из страны евреев. В одно далеко не прекрасное утро море полностью преобразило восточное побережье Ла-Манша: некоторые городки лишились своего прибрежного статуса, зато другие в одночасье превратились в гавани. Город Старый Винчелси — а море дробило его на части десятилетиями — в тот день окончательно ушел под воду, и если что-то и осталось от двух церквей и полусотни постоялых дворов, то оно сокрыто под огромным пляжем Брумхил-Сэндс, облюбованным кайтсерфингистами.
Требовались какие-то меры, и в 1422 году, вслед за печально знаменитым Наводнением Святой Елизаветы, разорившим южное побережье Нидерландов и унесшим пятьсот жизней, была образована первая Комиссия по отводу сточных вод, призванная решить участь Уза. Постепенно подобные учреждения заняли главенствующие позиции в областях, где было много болот, они функционировали как водная полиция, расследуя «неполадки и ненадлежащий ремонт дамб и стен, состояние публичных источников и рек, рвов и заболоченных участков». В 1531 году парламент наделил эти комиссии широкими полномочиями, разрешив им собирать подать с землевладельцев и на эти средства поддерживать системы осушения. Более того, постоянные нарушения рассматривались на заседаниях особых судов, имевших право взимать с виновников штрафы.
Я видела в архиве графства несколько отчетов и конторских книг, принадлежавших местным комиссиям по отводу сточных вод, огромное количество бумаг, исписанных разными почерками. Ранние записи утрачены, но, хотя со временем перо уступило место пишущей машинке, некоторые слова и выражения в документах повторялись из века в век, пока не приобрели подобие едва ли не заклинания или молитвы. Снова и снова я читала: «опускание», «очистка», «расширение», «бассейн», «сплав», «деформация берега». Это означало — вычерпаем тину, очистим дно водостоков и укрепим берега там, где они осыпаются, так, с Божьей помощью, вырастим урожай на земле, отнятой у реки.
Однако осушить долину было весьма и весьма непросто. Все равно как натаскать воды решетом. Примерно в то самое время, когда Томас Кромвель боролся с монастырями, ему пришло письмо от сэра Джона Гейджа, члена местной комиссии, в котором он самым подробным образом описывал страдания местных жителей. «Льюисская равнина, — пишет он, — зимой постоянно находится под водой, а также большую часть лета… господин льюисский приор отбыл во Фландрию, дабы ознакомиться с тамошним состоянием дел… мы также оповестили его о болоте под Святой Катериной и испросили его совета».
К 1539 году потребность в новых пахотных землях и в увеличении судоперевозок стала настолько насущной, что комиссия решила прорыть через галечную косу канал и вернуть реку в Ньюхейвен. Благодаря каналу баржи с вельдским железом и древесиной смогли выходить прямо в море, и пропала необходимость тащить их волоком. Однако прошло не так уж много времени, и коса вновь образовалась, поскольку дамба, возведенная по малопонятным причинам на восточном берегу реки, перестала служить помехой морской гальке, которую наносило с юго-запада.
Решение пришлось искать современникам короля Георга, этим рациональным мыслителям. В середине восемнадцатого века, после очередного ряда наводнений и неудачного эксперимента с закрывающимися воротами в устье реки, от которых быстро отказались из-за частых поломок, для осмотра долины был приглашен инженер-строитель Джон Смитон. Он был родом из Йоркшира, начинал как изготовитель инструментов и постепенно сделал карьеру, став выдающимся инженером Индустриальной эры. Десятилетиями он проектировал мосты, порты, водяные мельницы, маяки и каналы, даже водолазный колокол. Его самой первой инженерной задачей было осушение топких участков Лочар-Мосса, и вопрос превращения торфяников и болот в пригодные земли занимал его всю жизнь. В юности он совершил путешествие в Нидерланды, где изучал гидравлику осушения, годами позднее он применил перенятые методы на родине при дренажировании трех огромных болот в Поттерик-Карре, Эдлингфлит-Левеле и Хэтфилд-Чейзе. Во второй половине восемнадцатого века Смитон был нарасхват как специалист по мелиорации, и в дождливом июне 1767 года члены комиссии попросили его обследовать Уз.
Планы Смитона были весьма дерзкими. В частности, он предлагал прорыть канал параллельно Узу и местами под ним и отводить излишки воды непосредственно в море — непомерно дорогостоящее предприятие. Более дешевый вариант был выпрямить реку, очистить ее от водорослей и ила и соорудить новые берега, то есть фактически превратить Уз в канал, а в устье поместить регулируемый водоотвод для пропуска воды, который не давал бы приливной волне попадать в реку. Последний план заслужил одобрение комиссии, но, поскольку все связанные с рекой начинания издавна страдали бессистемностью и имели тенденцию откладываться на неопределенный срок, работы производились урывками и растянулись на добрых двадцать лет.
Ненадолго к проекту проявил интерес еще один инженер, Уильям Кабитт, однако окончательно его завершил Уильям Джессоп, сын корабельного плотника, которому часто приходилось иметь дело с чертежами Смитона. В 1787 году Джессопа попросили еще раз исследовать реку, и, вооружившись его наработками, группа местных торговцев и землевладельцев обратилась с запросом в парламент. Последующие действия имели переменный успех и были чрезвычайно запутаны, но так или иначе в 1791 году был принят Акт о навигации в низовьях Уза, и вскоре после этого Джессоп представил свой окончательный (сильно напоминающий Смитоновский) проект осушения низин и превращения реки в судоходную. Были задействованы несколько сотен рабочих, и планомерно за десять лет наиболее значительные излучины реки были спрямлены, берега насыпаны заново, в Ньюхейвене сооружен волнорез, а русло расширено и очищено с тем, чтобы течение стало быстрым, а вода — прозрачной. Отныне пропала нужда тянуть волоком баржи с углем, солью, фруктами и сланцем по мели у Паддинго. Теперь река была заключена в свое русло между укрепленными берегами, которые возвели землекопы, к концу столетия стоимость работ составила почти двадцать тысяч фунтов стерлингов.
Был ли это конец? Разумеется, нет. Несмотря на обводный канал в нижнем течении, по-прежнему существовала опасность разливов из-за обильных дождей или паводков, когда вода поднималась выше берегов. Одно из сильнейших наводнений произошло в 1852 году — ливни были такими сильными, что на поле утонула овца, железная дорога вышла из строя, а трава, идущая на сено, и кукуруза были прибиты к земле и сгнили на корню. Следующая катастрофа произошла в 1960 году, правда, ущерб от нее оказался не так уж велик и не шел в сравнение с разрушениями, произведенными наводнением 2000 года, — тогда пойма реки еще не была так сильно застроена домами и супермаркетами, как сейчас. Что до защитных мер, то, хотя обязанности комиссии давным-давно уже перешли к Агентству по охране окружающей среды, методы остались прежними — насыпка берегов и перелопачивание грунта. Берега были усилены и приподняты, дно очищено драгой, в 2008 году оценочная стоимость работ составила четыреста десять тысяч фунтов стерлингов в год — труд за два века подорожал.
Я положила подбородок на стену и глянула вниз на паутину рвов, блестящих на солнце как рыболовные лески. Река делала излучину — она стала менее извилистой, но все же никак не прямой. Последние десять лет мне казалось, что вокруг едва ли не девственная природа, и теперь я чувствовала себя в дураках. Все мы сегодня согласны с тем, что ландшафт — это палимпсест, то есть является многослойной структурой, складывающейся веками. И хотя это, безусловно, верно, следует учесть, что в одни эпохи в ход шел карандаш, а в другие — несмываемые чернила. Река несет печать Индустриальной эры; ее первозданный нрав по каким-то признакам можно различить, но нельзя воссоздать.
Когда мне впервые показали карту, которой пользовался Смитон, я поначалу вообще не могла взять в толк, что на ней изображено. Уз выглядел путаным и каверзным с впадинами, извилинами, мелководьями и отмелями под названиями, которых я никогда прежде не слышала. Я нашла Железную яму, Ежевичную отмель, Ранскомбский омут. Неужели возле склада, там, где сейчас река галопом несется между крутыми берегами, возвышающимися на добрых два метра, и впрямь был брод? А где же была Сонная яма? Думаю, поглощена ньюхейвенской мариной, в то время как Моечная у Малинга очищена.
Пока я стояла спиной, за горой Харри скучились облака. Теперь они потянулись на юг, вслед за рекой направляясь к Ла-Маншу. Я наблюдала за тем, как они скользили над головой, подгоняемые порывами ветра. Превращения реки сильно волновали меня, ведь они иллюстрировали хищнический инстинкт, присущий нашему роду: перекроить мир, не думая о последствиях, — как ни печально, такое поведение сулит всеобщий апокалипсис, череду засух и наводнений. Я подумала об очистке сточных вод и ядовитых химикатах, просочившихся в Беверн; о водопроводных компаниях, черпающих подземные воды из тайных запасов возвышенности Даунс. И прикинула, что будет через век или два? А вдруг река пересохнет? И от нее останется лишь змеящаяся полоска растрескавшейся земли, тянущаяся через долину, и больше ничего? Или море будет медленно наступать, пока не затопит город, и снова превратит этот край в солончаки, свалку для разложившихся туш домашней скотины и ярких пластмассовых игрушек, которыми мы заполонили всю планету. Остановится ли здесь человек, чтобы обозреть пустыню, или вокруг будет плескаться токсичное море?
Периодические наводнения в Льюисе — это напоминание о том, что каждое действие чревато последствиями. Строительство в пойме, сколько бы коллекторов ни было сооружено, остается рискованным — разумеется, пока мы не научимся вызывать дождь. Ведь подобно лесным пожарам, необходимым для проращивания некоторых семян, наводнения приносят и пользу, хотя мне, пожалуй, не хочется представлять себе, как мой собственный дом наполняется сточными водами, листы в книгах загибаются и покрываются плесенью, а одежду смывает поток. Но даже Агентство по охране окружающей среды признает, что мелиорация затронула слишком большую часть бассейна Уза и что, если Льюису суждено пережить глобальное потепление, некоторые земли придется оставить реке.
Как-то в процессе изысканий мне попался проект по воссозданию заливных лугов в пойме Уза. Заливные, или пойменные, луга затопляются водой в половодье; словно бухты, они удерживают воду, которая в противном случае через подземные трубы и водоотводы хлынула бы в дома и магазины. С интенсивным развитием фермерства над этими участками нависла угроза, хотя они так сильно заросли травами, что их косят трижды в год: первый раз в середине лета, а затем еще дважды; местным сеном коровы кормятся вплоть до осени, а овцы — до самых зимних бурь.
Экологи и историки Суссекского университета взялись восстановить флору этих лугов, уменьшив риск разлива вод в нижнем течении и вернув реке травы, которые я видела в Шеффилд-Парке: черный василек, куриное просо, гребенник, овсяницу и шерстистый бухарник. Задача не была масштабной, однако в ней наличествовала согревающая сердце простота: экономность вкупе с широтой души, что внушало надежду на будущее. Быть может, мы все-таки сумеем приспособиться к этому миру, вместо того чтобы постепенно подтачивать его опоры, пока не рухнет фундамент и все полетит в тартарары.
***
Я поспешно спустилась по лестнице, настроение у меня поднялось, и я почувствовала зверский голод. Я купила кусок пиццы и банку сладкой газировки с привкусом бузины в очень забавном магазинчике: на его витрине соседствовали буханка хлеба, велосипед, горшки с геранью и прялка. Вместе со своими припасами я отправилась вниз, к охранной зоне железной дороги, и устроила себе пикник на солнце. Над площадкой для хранения строительного материала летала парочка галок, одна кричала «ка-ка-ка», а другая ей отвечала «клак-клак-клак». Я лежала на спине, отхлебывая из банки эрзац-сок и перечисляя цветы, росшие под спутанными кустами ежевики. Белый клевер, донник, хмелевидная люцерна, подорожник, полезный при больном горле, полынь, курчавый щавель, лесной чистец с выступающей нижней губой, как у валютного спекулянта, с которым у меня однажды было свидание. Плющевидная будра уже отцвела, но я растерла ладонями несколько листиков в надежде уловить мятный аромат.
Поев, я пошла по берегу к гребному клубу, что расположился на островке, образованном протокой между мелью Клиффе и берегом. Река опять стала как расплавленный металл — цвета молочного шоколада и такая же вязкая. Поверхность больше не казалась зеркальной, а была испещрена линиями и щербинками, словно глубоко внизу шла битва, струи сходились и расходились. Лодки уныло сновали туда и обратно. Я склонилась над водой, чтобы прочесть их названия: «Звезда номер один», «Диджей», «Оспрей», «Тритон» с брезентовым тентом. Мужчина на другом берегу вытаскивал из воды каяк. Трава здесь была голубовато-зеленой с металлическим отливом, цвета незрелой пшеницы. Прилив достиг высшей точки, и река наполнилась до самых краев, одни стебли отражались на поверхности, другие ушли под воду.
Есть еще одна история о затонувшей долине, которая совершенно выпала у меня из памяти и лишь сейчас всплыла в голове, внеся совсем иную ноту в романтичные сказки моей бабушки. Наводнения наравне с засухами свидетельствуют об изменении климата, и водопроводные компании, в конце концов, озаботились проблемами, порождаемыми недостатком, равно как и избытком воды. «Юго-восточная вода» уже обустроила два водохранилища, вода в которые подается из Уза, и нацелена на создание третьего возле Клей-Хилла, что ставит жирный крест на возможности области, чьи потребности постоянно растут, получать воду из долины к востоку отсюда.
Однажды нас с Мэтью занесло на окраину этой долины, там мы осматривали дом с крышей из ондулиновой черепицы и огромным запущенным садом, рядом с лесом Плашетт. Пол на кухне прогнил, и в ней не было ни плиты, ни холодильника. Одна из спален была выкрашена в нездоровый ярко-розовый цвет, а по стене шел фриз, изображающий запряженную в повозку свинью. Кто-то явно пытался его оторвать, но не преуспел, и теперь его отдельные куски уныло болтались под потолком. В комнатах пахло собаками и нищетой. У входной двери на пятачке земли, заваленном мятыми втулками от использованной туалетной бумаги, цвела мята. «Я не смогу здесь жить», — сказала я, и мы так и ушли ни с чем, а жаль, поскольку место было красивым, а мы уже отчаялись найти то, что устраивает нас обоих.
Дом останется в целости и невредимости, а вот местность, на которую он глядит, будет погребена под миллионами литров речной воды, если планы компании будут одобрены. Когда-то эта долина была охотничьими угодьями архиепископа Кентерберийского, а сейчас здесь расположилась арендованная ферма, где хозяйство ведется по старинке: урожай растет попеременно на маленьких полях, отделенных друг от друга высоченными изгородями. На бровке поля сохранились величавые дубы, ведь, как выразился Томас Браун [50], «поколения уходят, а деревья остаются». В этих древних непролазных лесах водились целые стаи летучих мышей самых разнообразных видов: ночница Наттерера, способная выхватить паука из паутины, водяная ночница, которая лапами выуживает из воды насекомых, ночница Брандта и редкая длинноухая ночница, стремительная большая летучая мышь, европейская широкоушка, бурый ушан, усатая ночница и нетопырь сопрано.
Каждый вечер летучие мыши поднимались в воздух и пересекали лес и поля, охотясь на жуков и мошку над остатками средневековых прудов для разведения рыб. Водохранилище лишит их среды обитания и пищи: не останется ни гнилых деревьев, ни лесных озер, ни цветущих лугов, где над бледным тысячелистником и ярким клевером вьются ночные бабочки — дубовый коконопряд и бурая медведица. Ферма вместе с рассыпанными по округе коттеджами в стиле короля Георга, думаю, будет снесена, и здесь будет одна вода, обилие воды, с призраками могучих дубов на дне.
Я растянулась на траве у кромки воды, не хотелось ни вставать, ни куда-то идти. Я лежала среди полыни, пышно растущей на этой полоске земли, двоюродной сестры горькой полыни, изгоняющей паразитов; по преданию, пояс из стеблей полыни носил Иоанн Креститель, когда скитался по пустыне. На лугах паслись коровы, отворачивающиеся, когда мимо кто-то проходил, а вдали по мосту сновали машины, там, где магистраль А27 пересекала реку. Передо мной белело известняковое образование, до того изрытое лазами и норами, что походило на крошащуюся башню, пристанище многочисленного семейства галок — птиц, за свою вздорность в старину окрещенных склочницами. Я долго наблюдала за тем, как они летают взад и вперед. У меня в кармане рюкзака, вклинившись между солнцезащитным кремом и потным куском сыра, лежал бинокль; я достала его, подложила рюкзак под спину и уперлась в него локтями.
Эскадрилья из девяти галок летела высоко над землей, огибая термические потоки, образующиеся над горой Кабёрн, когда с неба вдруг камнем рухнула какая-то птица. Я задержала дыхание. Птица приземлилась на узкий уступ почти у самой вершины утеса и стояла там, нахохлившись и выставив лапу вперед — не то как балерина, не то как кулачный боец. Сокол!
В 1960-е популяция соколов в Британии оказалась на грани исчезновения из-за непрекращающейся охоты и активного использования пестицидов в сельском хозяйстве. Особую проблему составляло ДДТ; отрава накапливалась в организмах мелких птиц, которыми питались соколы, в результате скорлупа их яиц истончалась, что приводило к гибели птенцов. Когда ДДТ запретили и ужесточили законы, касающиеся охоты, число птиц пара за парой стало восстанавливаться. А в последние годы они начали возвращаться на юг, благоволя как к городским застройкам, так и к утесам, своему изначальному жилью. Возле спортивного зала в Брайтоне, куда я хожу, поселилась пара соколов, а особь, которую я сейчас заметила, наводила на мысль, что здесь обосновалась еще одна.
Бинокль так сильно давил на лицо, что у меня вокруг глаз промялись круги. Птица с отрешенным видом топталась рядом с сухой травой, вертя головой, из-за черных отметин казалось, будто она нахлобучила на себя шлем. Я не могла видеть, есть ли рядом гнездо или она просто присела передохнуть. И вдруг, прежде чем я толком его разглядела, сокол набрал в грудь воздуха и легко взмыл в небо, выше путей, которыми обычно летают грачи, пока, наконец, не превратился в черную точку.
Я тоже поднялась и водрузила рюкзак на спину. Поворачиваясь, я заметила, что вода едва не захлестывает мне ноги: прилив торопился наполнить реку до отказа. Вода поднимается и спадает, всему свое время: европейской широкоушке и бурому ушану, дубовому коконопряду и бурой медведице, соколу и сплетнице-галке. Настанет пора, и я тоже буду лежать под водой. Тут я отличаюсь от своей бабушки, так как не верю, что через сто или тысячу лет кто-то из нас оживет, с такой же вероятностью возродившийся игуанодон вдруг вломится в охранную зону железных дорог или погибшие здесь солдаты восстанут из могил и обнажат свои сабли. Хотя сейчас именно мы — хозяева этого общего царства. Хочется надеяться, что мы сумеем передать потомкам нашу небольшую голубую планету, которую покрывает вода, «пока моря не высохнут до дна» [51] и она не перестанет быть голубой.
Реконструированный череп «Пилтдаунского человека», ок. 1950. Copyright © Popperphoto/Getty Images
VI исчезновение дамы
Удаляясь от Льюиса, я прошла под двумя мостами: по одному тянулась магистраль, а по другому — железнодорожные пути. Бетон явно притягивал художников граффити, и среди автографов и небрежно накарябанных ругательств я заметила контур женского лица, сделанный на скорую руку голубой краской: скошенные скулы, волосы зализаны назад. Пустыми глазницами женщина смотрела на воду, потоком несущуюся между опорами, праздную и красивую, не обращающую внимание на шумное движение наверху.
При виде этого лица меня словно кольнуло, в кои-то веки я вспомнила, что это было. В последнем сборнике Теда Хьюза «Письма ко дню рождения» есть стихотворение о глиняной голове, которую оставили на берегу реки. Книга была опубликована в 1998 году, за месяц или два до смерти автора, и все стихотворения в ней, написанные за десятилетия, затрагивают его отношения с Сильвией Плат. В том, что всплыло у меня в памяти, Плат получает в подарок терракотовый бюст, слепленный с нее другом-американцем. Глиняная голова не дает ей покоя. Сходство условное — губы, быть может, чересчур пухлые, глаза слишком близко поставлены. Она не хочет, чтобы бюст стоял в комнате, и вместе с тем не готова им пожертвовать, и вот они вдвоем, Тед и Сильвия, несут голову по пешеходной дороге в деревню Гранчестер и пристраивают среди ветвей ивы так, чтобы она могла наблюдать за желтой листвой, трепещущей в воде.
На что они надеялись? Отвратить с помощью этого действия несчастье, приближение которого они чувствовали? Если так, у них ничего не вышло. Скоро тревоги заполыхали ярким пламенем — примитивный страх, что причиненный модели вред по волшебству перекинется на оригинал. «Что случилось с головой?» — вопрошает Хьюз. Разбили ли ее мальчишки палками? Или за десятилетия она раскрошилась и теперь покоится на дне Гранты? Или она все еще торчит в развилке ствола, совоокая дочь реки, зрячая, но немая, вышедшая сухой из воды?
Подобные знамения мы принимаем близко к сердцу. Не надо быть поэтом, чтобы иметь склонность к апофении, поиску взаимосвязи между разрозненными, случайными данными. При определенном настрое сама земля представляется говорящей доской со спиритических сеансов, выкликающей советы, предъявляющей символ за символом, неумолимо и злопыхательски, хотя с обычной точки зрения ничего экстраординарного не происходит, просто бело-черная птица летит по небу. Мне довелось встречаться — ведь я его любила — с молодым человеком, который меня бросил, когда мы вместе шагали по полю. Он невольно подметил, что мы движемся по разным бороздам, параллельным, но не сливающимся, о чем мне и сказал. Это, как ему виделось, передавало суть наших отношений, хотя я так и не спросила, предрешила ли дорога нашу судьбу или просто внесла в нее ясность.
Мартин. Боже, почему я о нем вспомнила? Я встряхнулась, словно кошка, попавшая под дождь. Мысли были вязкими, словно болото, от них так легко не отделаться: обреченная женщина, утраченная любовь. Они были связаны с местами, куда я направлялась, с отвоеванными у дикой природы полями Брукса, крест-накрест изрытыми сточными каналами и загороженными шлюзовыми воротами. Зимой канавы походили на ртуть, но сейчас они были противного тускло-зеленого цвета, в них обитали болотные лягушки, эти навязчивые чужаки, которые даже не квакают, а гогочут, когда ты проходишь мимо. Здесь, в низинах, приютившихся между холмами Даунса, утопилась Вирджиния Вулф. Неудивительно, что в голову мне лезла всякая гадость.
Я вышла из-под моста и оказалась на ярком свету, перед глазами у меня поплыли радужные пятна. Возле сваи росла одинокая орхидея, ярко-розовая, как кошачий язык. Я понятия не имела, что сие предвещало, но улыбнулась — цветок избрал для себя весьма неожиданное место, вытоптанную грязь на проходе. И тут — словно я вслух пожаловалась на приметы местной колдунье — уголком глаза я заметила, как какая-то темная масса пронеслась в воздухе и бухнулась в реку. От изумления я даже попятилась. Господи, что это? У автомобиля на мосту отвалилось колесо? Но не успела я вытянуть шею, чтобы все как следует рассмотреть, как из воды вынырнул баклан, на миг взлетел, а затем чинно устроился на водной поверхности. «Красуется, — пробормотала я. — Мол, я тоже умею плавать». Баклан не удостоил меня вниманием, существо, способное преодолеть две стихии, безусловно, имеет на это полное право.
Была половина четвертого. Идти мне оставалось недолго: пару километров вдоль реки, а затем пробежка по полям до деревушки Родмелл, где Вирджиния Вулф жила с перерывами с 1919 года до самой своей смерти в 1941-м. Она любила гулять по этим местам, и нетрудно понять почему. Боже, какая красота! Я больше не продиралась через растительность, которой зарос береговой склон сверху, а по еле заметной желтоватой прогалине среди голубовато-зеленой травы, которая мне напоминала пшеницу, спускалась к воде. В последний раз я попала здесь под проливной дождь, мне пришлось идти через мокрую траву, высотой по грудь, и я вымокла до нитки, словно добиралась домой вброд.
Теперь я чувствовала себя, точно свалилась на дно стеклянного купола. Вокруг меня вздымались вершины Даунса, а над ними голубело небо, затянутое легкими облаками, словно марлевым занавесом, опускающимся перед началом спектакля. Позади меня выстраивались огромные белые кучевые облака. Гроза? Было достаточно жарко. Кончиками пальцев я чувствовала упругий парной воздух, а в очередной раз взглянув через плечо, заметила, что облака над Фалмером потемнели и стали грязно-серыми. А еще чем-то невыносимо воняло. Я принюхалась и увидела дохлого дикого кролика, его шкурка разлезлась на влажные клочья.
Мимо меня быстрым шагом прошел мужчина, на его шее болтался бинокль. Мы молча обменялись улыбками, и я впервые поймала себя на мысли о том, настолько вольно мне дышится. Пять дней ходьбы, минимум разговоров, и я с головой окунулась в этот мир, полностью излечившись от страхов, преследовавших меня месяцами. Телефон время от времени подавал сигнал, но я не отвечала. Не хотелось нарушить столь неожиданно наступивший душевный подъем. Дома я сходила с ума от одиночества, тяготилась им, хотя раньше любила быть одна. Но здесь, в полях, двигаясь по мере надобности, я не чувствовала себя оторванной от людей. Происходило слишком много событий. Как, например, сейчас — на другом берегу два неподвижных черно-белых кулика-сороки с ярко-оранжевыми клювами выделывали жалобные трели: «Квик-квик-квик».
Влажная дорожка бежала вперед. Мимо проехал поезд, направляющийся в Саутиз, внизу, в Бруксе парочка тракторов расчищала поле, трактористов заслоняли кабины. Идти вдоль полноводной реки было немного чуднó, она казалась движущейся лентой, готовой тебя подхватить и доставить в пункт назначения. Сейчас вода была мутной, она поблескивала на солнце, на поверхности растекались голубовато-зеленые бензиновые пятна, от ветра и течения по ней ходили гребешки и маленькие волны. За рекой виднелся лысый меловой карьер в Эшеме, где Вирджиния Вулф снимала дом. В нем она оправлялась от третьего нервного срыва и вела забавный дневник натуралиста, выматывающие отчеты о числе пролетевших мотыльков и собранных грибов. В Эшеме она провела первую брачную ночь, а также закончила свой первый роман «По морю прочь». Комнаты коттеджа, где он писался, окнами выходили на запад, а сам он вздымался на холме как нос корабля.
Того дома давно уже нет. В 1930-е годы вблизи развернулось строительство, и коттедж медленно ветшал под слоями едкой извести, покрывшей окна и погубившей сад и стоящие по периметру вязы. В итоге дом был заброшен и окончательно снесен в 1994 году, когда участок работ расширился — сейчас все это превратилось в мусорную свалку. В своей автобиографии Леонард Вулф вспоминает, как впервые нашел этот дом, притаившийся среди огромных полей, где паслись овцы. «Трава в саду и в поле, казалось, подступала прямо к гостиным и комнатам, смотрящим на запад, — писал он. — И часто возникало такое чувство, будто ты живешь глубоко под водой, в море, за толстыми шероховатыми стеклами длинных окон, в море зеленых деревьев, зеленой травы, зеленого воздуха».
Сейчас место не выглядит зеленым. Добытый известняк давным-давно вывезен, а в образовавшиеся проломы свалены использованные памперсы, бытовой мусор и туши мертвых коров, заразившихся бешенством. Глубина скважин была ниже горизонта грунтовых вод, и не все они сразу были зацементированы, так что некоторое время хлор и аммиак, вымываемые из отходов, просачивались в длинные извилистые канавы, а оттуда попадали в реку. Месяц назад, 16 мая, свалка достигла своего предела, колодцы переполнились гниющим мусором. Но скоро, во всяком случае так обещает мусороперерабатывающая компания, здесь вновь зазеленеет травка, и прокисшая и растерзанная земля обретет свой первозданный облик.
Вирджиния Вулф считала Эшем заколдованным местом и даже сочинила на эту тему рассказ. Двери, писала она, ночью сами собой распахиваются и закрываются, а по комнатам, пришептывая и вздыхая, на цыпочках перемещается пара призраков. Любопытно, спугнула ли их стройка или они так и жили в грязи, пока заброшенный дом не снесли? Хорошо бы среди мешков с мусором отыскать правильную точку и услышать, как они тихо переговариваются, охраняя давно уже исчезнувший дом.
Я всю весну читала дневники Вулф и ее письма, покупая дешевые томики в уродливых бумажных обложках, которые приходилось выписывать из Америки. Я охотилась за великолепными изданиями «Хогарт пресс», они продавались в Льюисе по ценам, приводящим в оцепенение. Когда-то у нас дома была пара таких книг, они путешествовали с полки на полку, поскольку мы часто переезжали, и в последний мой приезд к маме я забрала себе первый том писем. У него был твердый светло-серый корешок, как грудка у голубя, потрепанный по краям и слегка выгоревший на солнце. На фронтисписе отец вывел четким, аккуратным почерком: Дениз от Питера с любовью, 3 декабря 1976 года. Дата была днем рождения мамы, последним перед моим появлением на свет. Не могу вообразить себе родителей как супружескую пару, хотя я видела фотографии, на которых они улыбаются, оба в шортах, прислонившись к спортивному авто TR6 бутылочного цвета, или бездельничают на катере друга. Интересно, просила ли она эту книгу? На Рождество Мэтью подарил мне издание Гувера.
Один эпизод за другим всплывал у меня в голове, и я мысленно обкатывала фразы, которыми наслаждалась во время чтения. Вулф часто писала о реке, и мне припомнилась запись в конце дневника о наводнении, случившемся южнее. В начале Первой мировой войны возле Родмелла бомбой разворотило берег Уза, тот самый, что укреплял Уильям Джессоп, чтобы вернуть реку в русло. Голубая вода хлынула в поля, и опять, как и в Средневековье, на месте пустоши образовалось внутреннее море, мост снесло, а дорога стала непроходимой. 5 ноября 1940 года, в ночь Гая Фокса, Вулф сделала запись о красоте этого непостижимого моря, добавив: «Наводнение может длиться вечно. Девственные места; никаких бунгало; начало начал».
Как всегда бывает, уединение быстро приелось. Читать дневники Вулф значит разрываться между двумя непримиримыми желаниями — одиночества и общения, испытывать двоякий страх — очутиться в изоляции и погрязнуть в суете. Жизнь в Родмелле, который война и наводнение превратили в необитаемый остров, отрезанный от внешнего мира, была счастливой и одновременно безумно скучной. Обступившие Монкс-хаус воды несли возрождение и одновременно творческое бесплодие.
Вода в личном словаре Вулф — средство выскользнуть из своей поверхностной сущности, когда она играет в шары или волнуется, как бы ни раскритиковали ее шляпку, и погрузиться в глубины не имеющего имени царства. Когда Вирджиния Вулф пишет о сочинительстве, она часто употребляет текучие образы. Она бурлит идеями или погружается в работу. Когда книги идут хорошо, она, как счастливая купальщица, выуживает морские метафоры и заставляет ими мыслить своих героев. Когда работа не ладится, писательницу мучают головные боли или бессонница, ее описания становятся ужасающе сухими.
Совсем неудивительно, что ее романы изобилуют водными источниками. «По морю прочь» начинается с того, что персонажи на лайнере плывут в Южную Америку, а события романа «На маяк» разворачиваются настолько близко к Атлантике, что почти на каждой странице слышится плеск моря. Действия в «Волнах» чередуются с движениями воды, а в «Орландо» льды на Темзе тают, разделяя возлюбленных. Что до последнего романа, «Между актов», писавшегося, когда бомбы уничтожали лондонскую архитектуру, а чета Вулф в очередной раз отсиживалась в безлюдном Суссексе, то его сюжет вращается вокруг глубокого пруда с кувшинками, в котором плавают серебристые рыбы (быть может, карпы?).
Что скрывается за толщей вод? Хотя воды прекрасны, в них таится опасность. Возьмем, например, пруд с красными и белыми кувшинками размером с обеденные тарелки, которые раскрываются утром и закрываются в сумерки. Слуги боятся приближаться к нему ночью, поскольку в нем от несчастной любви утопилась леди, хотя когда его наконец осушали, то нашли лишь берцовую кость овцы. А в «Волнах» упоминается странная лужа, через которую не может перейти Ронда, эта сцена повторяется в отрывочных воспоминаниях Вулф «Зарисовка прошлого» — серая, жуткая, как мертвец лужа, грозящая заявить о себе.
В этих случаях вода опасна, а жуткая, как мертвец, — даже смертельно опасна. Однако есть одно но. Мне не хотелось ворошить груды прошлого, взвешивать каждое слово, сопоставляя его с тем, что происходило на Узе годами позднее. Считается, что Танатос, олицетворение смерти, стремление к небытию, является противоположностью чувственной любви, эроса, но он пронизан собственной чувственностью. Мне вспомнилось письмо Вирджинии Вулф Нелли Сесил, написанное, когда она жила под деревней Рай, среди кукурузных полей и овечьих пастбищ, которые прежде, не так уж давно, затопляло море. «Я ощущала себя словно на дне зеленого половодья, — писала она, — укатанном, выглаженном, откуда могут взяться кладези, полные слов?» Не предвосхищают ли эти слова грядущее? Vaticinium ex eventu — пророчество задним числом. И обязательно ли отрекаться от собственного «я», если надеешься, что мир повернется к тебе лицом?
***
Становилось все жарче. Огромные стрекозы одного цвета с рекой взмывали в теплый воздух, выше опор, одна или две чайки летели на юг по непроглядному небу, облака рвались на клочья. На ферме заготовляли траву на сено. Я различала пять тракторов у живой изгороди, хотя только один из них полз по полю, за ним, точно дым, стелилась скошенная трава. На следующем поле трава уже лежала упакованной в пластиковые пакеты, голубые, как халаты хирургов. Вдруг тревожно прокричал кулик-сорока, и, обернувшись, я заметила на реке подпрыгивающий то и дело катер. Он шел из Льюиса. Им управлял мужчина с голым торсом, на носу сидела женщина в обнимку с черной собакой. На корме трепыхался пиратский флаг, и когда катер поравнялся со мной, от борта отделилась вспененная тугая волна и разбилась о берег.
Дорожка расширилась, высокая трава кончилась, уступив место розовой герани и клеверу, люцерне с маленькими желтыми макушками и крупным маргариткам. Откуда-то налетел ветер, погнал по реке самые настоящие волны. Такие облака — я присмотрелась повнимательнее — явно не предвещали ничего хорошего. О боже! Я находилась ровно посередине между Родмеллом и Льюисом, в том самом месте, где я в прошлый раз попала в ливень. Здесь негде было спрятаться: ни дерева, ни моста, ни даже стены. Я сунула блокнот в карман и сердито взглянула на небо.
Над Льюисом собирались тучи. Они скучивались за горой Харри, зависали над тюрьмой и старым скаковым кругом. На поля передо мной спустился туман, воздух стал белесым и непрозрачным. Свет проникал сквозь кучевые облака, по небу бежали барашки, кудрявые и белые, как сахарная вата. «Небо в барашках, и перистые облака заставляют корабли опускать паруса», — пробормотала я себе под нос. Солнце припекало, далекое и невидимое. Правый глаз у меня заслезился, не то из-за света, не то из-за пыльцы. Белый, неправдоподобно белый цвет очистительного огня. Считается, что, когда Христос воскрес, на нем было белое облачение, белее выпавшего снега, ни один сукновальщик на свете не мог получить такого оттенка, отбеливая материю в чанах с растворенным мелом или мочой. Небо, наверное, тоже пропустили через сукновальную машину, отполоскали, спустили на землю и повесили сушиться. Я прикрыла ладонью слезящийся глаз и продолжала озирать небо, стараясь не смотреть на окутанное пеленой солнце.
В лучшие времена это был странный ландшафт, Брукс, плоская, породненная с водой территория. Я читала в истории Льюиса, что, когда вода в реке поднимается и грозит выйти из берегов, фермеры натягивают между изгородями сети и ловят рыбу, прогуливаясь по траве. Некоторые полагают, что из этого обычая родилась пословица «Рыбак сеть кормит». Не знаю, насколько это правда. Подобные этимологические изыскания вызывали у меня сомнения, как и утверждение, что название Уз — это усеченное Воды Льюиса, со временем превратившееся в Уоз, а затем в Уз.
Размышления о пустоши и ее периодическом погружении в воду навели меня на мысль о том, что в рассказе Вулф о разбомбленном береге реки есть и другой смысл. В письме подруге, необузданной композиторше Этель Смит, она делает еще одну зарисовку пейзажа, на сей раз помещая в него самое себя:
«И тогда они сбросили бомбы на нашу реку, приведя меня в бесконечный восторг. Каскады воды с ревом обрушились на пустошь — все чайки слетелись к концу поля и оседлали волны. Внутреннее море неописуемой красоты, постоянно меняющееся, днем и ночью, на солнце и в дождь, просто не могу отвести от него глаз. Вчера, опрометчиво решив исследовать округу, я провалилась в шестифутовую яму и вернулась домой, промокшая до нитки, как спаниель или водяная легавая (у Шекспира). До чего странно было плавать в поле! К счастью, на мне были старые коричневые брюки Леонарда. Завтра куплю себе плисовые штаны. Дождь все моросил и моросил… а я все шла и шла. На дороге к Мосту стояла вода глубиной в три фута, это означало двухмильный крюк, но боже, как я люблю это дикое, средневековое движенье воды, плавающие стволы деревьев, и стаи птиц, и мужчину в старой плоскодонке, и саму себя, настолько лишенную человеческих черт, что меня можно принять за ходячий столб».
Большинство критиков находит этот эпизод мрачным, видит в нем дурное предвестие событий, произошедших спустя несколько месяцев. Как поясняет Гермиона Ли, самая дотошная из биографов Вулф, «это тревожное совпадение желания погрузиться в дикую воду и желания анонимности, безликости». Не уверена, что я с ней согласна. Если в нас еще теплится надежда увидеть мир, то именно в те минуты, когда «я меркну, опустошаюсь, либо меня затягивает водоворот».
По поводу психологического запугивания натуралист Энни Диллард писала: «Прошлой ночью… сорок минут я была под стать фотографической пластинке, такой же обостренно чувствительной и немой, я получала впечатления, но они не обращались в слова. Я перестала осознавать себя, теперь мне кажется, что если бы ко мне тогда подвели электроды, то электроэнцефалограмма получилась бы ровной, как линия». Такого рода нарушение самоидентификации и ассоциирование себя с мертвой, безжизненной материей естественно и даже необходимо, когда человек поглощен созерцанием иного мира. Описание Вулф дикой средневековой воды несет налет экстатической самоотреченности, истекающего мира, в котором она растворяется без остатка, и, хотя это чувство созвучно желанию самоуничтожения, вряд ли оно присуще тому, кто разуверился в жизни.
Проблема даже серьезнее. Тенденция выуживать пророчества из обширного архива, оставшегося после Вулф, плохо сочетается с ее собственными мыслями о прошлом. Она экспериментировала с мемуарами, биографией и художественной прозой, и у нее каждый из этих жанров содержал элементы других. Однажды она заметила, что в процессе превращения событий в историю они неизбежно искажаются, поскольку прошлое при изложении обретает форму и связность, которые отсутствуют у настоящего. Этим наблюдением она делится, когда описывает смерть брата как «подделку — похоронный звон, который слышится мне постоянно, — от которой никто не застрахован, если не облечь все в слова».
Действительно, некоторые вещи видны только с расстояния, но, чтобы под таким ракурсом рассматривать жизнь, надо чем-то пожертвовать: когда мы обозреваем прошлое, ретроспективно судим о нем, события приобретают смысл, неуловимый для их очевидцев. И я не верю, что есть хоть один человек на свете, который бы ни разу не мучился от безысходности, от зыбкости реального и его не посещала бы мысль, будто он тычется впотьмах, совершая несвязные и лишенные смысла поступки. «Правильно, думала я, — писала Вулф в дневнике примерно тогда, когда бомбили Уз, — мы живем без будущего. Это странно, но мы уперлись в закрытую дверь». Она говорила о войне, но я полагаю, что ее мысли верны для любой эпохи, падают бомбы или нет. Будущее ведь по природе своей непредсказуемо, и воспринимать каждое происшествие в контексте позднейших событий значит дробить момент бытия, лишая его неопределенности и мимолетности, то есть отличительных признаков настоящего.
При этом нельзя недооценить влияние историй о погружении и выныривании на поверхность, об опускании на дно и смывании водой. Мне особенно запомнились два рассказа на эту тему: один Вулф написала в юности, другой — в свою последнюю зиму. Оба я читала снежным днем в архиве Суссекского университета, где они хранились вместе с письмами Леонарда и Вирджинии в грязно-серых картонных коробках с типичным для библиотек легким запахом тушеного мяса.
Первый рассказ, «Ужасная трагедия на Утином пруду», Вулф сочинила, когда ей было семнадцать, почти сразу же после смерти Стеллы, в подарок подруге Эмме Воган. В нем идет речь о реальном происшествии: однажды поздно вечером Эмма, Вирджиния и ее младший брат Адриан, расшалившись, опрокинули и утопили ялик, что, естественно, вызвало у них приступ истерического хохота. Как и предполагает название, рассказ — неумелая пародия на газетный репортаж, нечто вроде сочинения, которое задают в школе, куда Вулф, разумеется, не ходила, беря уроки древнегреческого у Джанет Кейс и роясь на отцовских книжных полках в поисках других знаний.
Дар Вулф как подражательницы придает ее романам живость — у нее поразительное чутье на диалоги, — а ее сатира сродни чревовещанию. В пародии слог рассказчика напыщенный и непреднамеренно патетический, как у провинциального журналиста, он вольно обращается с фактами и расцвечивает вымышленную трагедию неправдоподобно яркими красками: ужасная смерть трех юных созданий, утонувших в пруду.
•
Вода все поднималась и поднималась, неодолимая и спокойная. Миг бесстрастной решимости, и вот из тепла и радости жизни вас бросает в холодные объятия внезапной, немыслимой смерти — возможна ли более ужасная и более всепоглощающая перемена? Одни, без призора, не оплаканные ни единой душой, они идут на дно, поглощаемые водами пруда, и водоросли (мы полагаем, это был вид Anseria Slimatica) окутывают их зеленым саваном, о чем мы уже упоминали выше.
•
Как бы то ни было, эта проба пера служит действенным предупреждением любому бесцеремонному автору, который пожелал бы живописать кончину самой Вулф.
Затейливо построенный репортаж сопровождают так называемые «Исправления и дополнения, сделанные одним из утопленников», они не оставляют от первоначального сюжета камня на камне: горе-путешественники живы живехоньки и, мокрые с ног до головы, идут домой, хохоча до упаду. Хотя некоторые натужные шутки понятны лишь посвященным (именно такого рода юмор делал душной атмосферу Блумсбери), меня захватила перекличка двух голосов: первый строчит материал, а второй все переиначивает на свой манер. В заключительных строках вскрывается проблема, которая будет преследовать Вулф до конца дней: как языковыми средствами передать гамму чувств, переживаемых за короткое мгновение. «Мне думается, что человеческий метод выражать свои мысли при помощи звука, образуемого органом речи, очень элементарен, — пишет она, — и его следует заменить хитрым изобретением, способным дать выход, по крайней мере, шести предложениям сразу. У святого Иоанна, счастливца, есть ноты, разговаривающие на множество голосов, но даже это абсолютно не переносит половодья».
Она явно иронизирует, однако последняя фраза выбивается из контекста. Я подумала о полифонии «Волн» — словесных потоках, лавирующих на грани восприятия. Переносить половодье — это выражение очень точно передает намерения Вулф.
Что до второго рассказа, то он не такой легковесный. Он написан за несколько недель до смерти, очевидно, под впечатлением от поездки в Брайтон, описанной в дневнике. Находясь на грани срыва, Вулф досадует на карикатурно-толстую даму, поедающую пирожные в кондитерской «У Фуллера», запах рыбы и смущающие громогласные звуки в тесной туалетной комнате «Суссекского гриля»: возле кабинок стоят две обычные девки, подкрашивают себе губы и сплетничают. Происходящее задевает ее за живое, и она записывает его в нескольких вариантах. Рассказ опубликован посмертно под названием «Туалетная комната», это ее последнее сочинение.
Вариант, который я видела в архиве, был ксерокопией с массой типографских опечаток и перечеркиваний; его заботливо уложили в манильскую папку и сунули на самое дно коробки с набросками. Из-за дефицита бумаги во время войны он был напечатан на обратной стороне двух страниц с исправлениями, вынутых из рукописи «Между актов», хотя сейчас я уже не могу припомнить, какая это была сцена. Рассказ описывает маленький приморский городок, также пропахший рыбой. Его обитатели — старик, с променада созерцающий волны, женщины в туфлях на шпильках и жемчужных ожерельях — походят на раковины, «твердые, но пустые внутри… как будто их вытащили и пришпилили булавкой». В час дня действие — хотя в нем нет настоящего действия — переносится в ресторан, в туалетную комнату на втором этаже, где три женщины наводят марафет, их разговор прерывает звук спускаемой воды, доносящийся из кабинки.
В этом небольшом разделенном пространстве искусственное согласуется с естественным. Женщины разговаривают, их лексикон отчасти позаимствован у брайтонских девок. Они болтают, спускается вода, заглушая слова, бачок опорожняется, они опять принимаются за свое. Эта сцена подчинена ужасному ритму, очень скоро автор отказывается от всех претензий на реализм и обращает женщин обратно в рыбок, издающих «характерный рыбный запах, который, кажется, пропитывает всю туалетную комнату». Рассказ резко обрывается, уходит в сторону, и кажется, будто это последняя отчаянная попытка приукрасить действительность, одно из чудес, творимых морем, способным превращать кости в кораллы, глаза — в жемчужины, смерть — в подводное растение и статичный мираж. «Ночью город выглядит эфемерным. Горизонт мерцает белым. На улицах — кринолины и венцы. Город утонул. И китайские фонарики высвечивают только остов».
Вода придает всему особую красоту. С первого взгляда не догадаться, что она содержит азот, ты не увидишь продуктовых тележек или раздувшегося трупа овцы, выделяющего газы, с глазами, выеденными блестящими юркими рыбешками. Вода скрывает распад, сглаживает края, превращает осколки стекла в зеленые кругляши, выбрасывает на берег и пляж то, что обрело вторую жизнь, — деревья, расколовшиеся на звезды, мутные пластиковые пакеты.
Затем опять возникает зловещий ритм — исчезновение, возвращение. В ранних вариантах рассказа в туалетной комнате присутствует уборщица, женщина, «обитающая в быстроменяющемся водном мире… она колышется, как морская водоросль». Я где-то читала, будто толкающее движение вверх-вниз — имитация травмы, которую Вулф пережила в юном возрасте, став жертвой сексуального домогательства со стороны своего единоутробного брата Джеральда Дакворта, но не думаю, что нужно было так сильно бередить рану, чтобы она не закрылась, — это сладострастный и тошнотворный смысл уступки большей силе.
Дай я тебя обниму — вот что шепчет вода. Откинься назад, останься со мной. Одари меня, и я тебя приласкаю, хотя мои нежности по сути сродни лютости.
***
Внезапно пологая тропинка, идущая вдоль реки, резко оборвалась, пришлось мне карабкаться по берегу до дорожки, ниточкой тянущейся поверху. Но она тоже почти полностью заросла, и я вынуждена была буквально продираться через спутанную траву, доходившую до груди. Ветер дул прямо в лицо, и глаз не переставал слезиться. Но опустив голову, я упрямо шагала вперед, прислушиваясь к первым раскатам грома.
Я добралась до места впадения горемычного притока Глинд-Рич, что несет свои грязные воды через Левелс к зеленому Узу. Железная дорога, проходящая по восточному берегу через Ньюхейвен, пересекает Рич прямо в точке их слияния. Возле моста плавали лебеди, я насчитала двадцать одного. У одного на крыле чернел пластмассовый зажим, однако это не мешало ему опускать в воду длинную шею в поисках пищи, закидывать голову и неуклюже ею болтать, заглатывая корешок или лист. В тени рыбы выскакивали из воды, и когда я шла мимо, то заметила линию, где встречались две реки, извилистую зыбкую ленту.
Эшем был прямо по курсу, белый рубец бросался в глаза. Еще до закрытия цементного производства здесь проходила канатная дорога, ныне разобранная, она спускалась вниз по холму к кромке воды, соединяя карьер с бетонным причалом, куда баржи подвозили уголь и где забирали цемент. Именно здесь 18 апреля 1941 года было обнаружено тело Вирджинии Вулф, через три недели после того, как она ступила в воду. Его нашли две девочки и два мальчика, сделавшие привал на пути в Сифорд; сидя в поле, они швыряли камни в плывущее по реке бревно, стараясь, чтобы его прибило к берегу. Но когда предмет подплыл поближе, оказалось, что это совсем не ствол дерева. Один из мальчиков вошел в воду и, перевернув тело, закричал: «Это женщина! Женщина в меховом пальто!»
На ней были резиновые сапоги и шляпка, туго завязанная под подбородком. На освидетельствование прибыл полицейский Коллинз, после стычки по поводу маскировочных штор охарактеризованный Вулф как грубиян со скрипучим голосом. Он заметил, что наручные часы покойницы остановились в 11.45, то есть за добрый час с четвертью до того, как Леонард 28 марта обнаружил письмо, оставленное для него в верхней гостиной Монкс-хауса, и сломя голову бросился на поиски жены. Увидев на берегу ее палку, он тут же понял, что произошло, хотя Коллинз, вызванный служанкой Луи Майер, все нырял и нырял, пока кузнец Фрэнк Дин с сыном не принесли веревки, чтобы протралить реку.
Причиной смерти, как написал коронер, стало «погружение в реку… по собственной воле для совершения самоубийства в состоянии помрачения сознания». Несколько лет спустя Луи Майер добавила в интервью: «В карманах ее пальто лежали тяжелые камни, должно быть, она их подобрала по дороге к реке. Это было ужасно. Самое ужасное, что мне довелось пережить».
Почему люди уходят из жизни? Когда в 1932 году застрелилась художница Дора Каррингтон, спустя два месяца после смерти от рака желудка своего возлюбленного Литтона Стрейчи, Вулф ни о чем подобном даже не помышляет. Напротив, примерно неделю спустя она пишет: «Я довольна, что живу, и мне жаль мертвых: даже вообразить не могу, почему Каррингтон покончила с собой и всему положила конец?» Что до Леонарда: «в этом было что-то искусственное, то, что мы никогда больше не увидим Литтона. Это нереально!» Время ужесточает подобные комментарии, выявляя их бессердечность, возможно непреднамеренную, но они также образуют противовес, смазывают впечатление, будто смерть Вулф в реке была неизбежной. Нет, они как раз подвели черту радости — живости — которая периодически бьет ключом в дневниках.
В последнюю зиму Вирджиния Вулф работала над романом «Между актов», была казначеем Родмеллского женского института, играла в шары. Ее лондонский дом на Меклембург-сквер пострадал во время налета, и в октябре Вулфы отправляются на развалины — выудить из-под обломков то, что можно еще спасти: дневники, Дарвина, стекло, расписной фарфор ее сестры. Печальное занятие, но Вирджиния Вулф признается, что испытывает облегчение от потери имущества, освобождение. В ней нарастает волна ликования. «Никогда я не была такой плодовитой» [52], — записывает она в дневнике и обертывает заплесневелые блокноты в цветную бумагу, дабы «они радовали глаз» [53].
Погода все холоднее, еды все меньше, и в ней почти нет жиров. Налеты продолжаются, самолеты прорезают небо над пустошью. Ни горючего, ни сахара, почта ходит кое-как. У Вирджинии Вулф развивается дрожь в руке. Но Англия несгибаема, Англия тверда, вал Даунс устоял, «эти глубокие впадины, где приостановилось прошлое» [54]. После Рождества — комета, снег; чувство разговора в пустоту. В Цюрихе умирает Джеймс Джойс. В Лондоне полыхают пожары. Более того, ткань трещит по швам. Кто-то может сказать, из ничего не появится нечто. Сломанные ногти, разбитые оконные стекла, потерянные улицы, превращенные в пыль кирпичи, грязные руки. Немного пива, немного пива. Затем на Брайтоне опять наступает день, со сладкими пирогами, задумкой приготовить морского окуня, тягой к жизни. Дневник завершается фразой «Леонард обрабатывает рододендроны», заканчивается, как и любая жизнь, на одном вздохе, хотя это лишь иллюзия.
•
Наконец приливная вода стала убывать, обнажились меловые берега. До чего же приятно купаться в воде с растворенным в ней мелом, кожей она ощущается как пудра, взвесь задерживает свет, и кажется, будто он постоянно попадает в силки, пробиваясь ко дну со скоростью улитки.
По дороге я пыталась припомнить монолог Гертруды на смерть Офелии, в нем подслащено еще одно неприглядное зрелище: «как если бы была созданием, рожденным в стихии вод» [55]. Так ли это? Полагаю, что мы все рождены в стихии воды и изначально являемся пловцами, и эта наша особенность, даже дар, находит свое выражение в невесте в венке из сорной травы, отдающейся завистливой реке. А еще была строчка, над которой я дольше всего думала: «Как если бы не чуяла беды» [56].
Мой словарь толкует «не чуяла» как «не осознавала», хотя мне думается, что это не совсем точно. Не «чуять беды» значит не знать о грядущих страданиях. В первом состоянии человек сталкивается с болью неожиданно, во втором — испытывает ее, еще не понимая. Верно ли, что самоубийства свершаются тогда, когда человек настолько перемолот, что все рессоры выходят из строя, и единственное решение — это небытие?
Незадолго до Вирджинии Вулф в Узе утонула местная жительница. Когда это случилось — в конце 1930-х? Она жила между Сауфизом и Пиддинго, на холме Маунт-Мизери, названном так не из-за свойства нагонять тоску [57], а потому, что, по преданию, некий странник прочел тут покаянный псалом «Мизерере», и это принесло ему счастье. Эта женщина была акушеркой, сын у нее умер, дом стоял с разбитыми стеклами, и однажды во время прилива она убила свою собаку, а сама бросилась в воду. Как и смерть Каррингтон, это мрачное происшествие отмечено в дневнике лаконичной записью, в которой не слышится большой горечи, но все же оно упомянуто, выбор «не быть» остается.
Даже при самом беглом прочтении заметно, что в романах Вулф множество умолчаний — в случаях, когда кто-то погибает или теряет себя. Впрочем, тут нет ничего удивительного: если знать биографию писательницы, то нельзя не обратить внимания на то, что ее мать, единоутробная сестра, отец и брат ушли из жизни прежде, чем ей исполнилось двадцать пять. Память о них отдается эхом, скажем, в образе миссис Рэмзи в романе «На маяк» или в смерти Персивала в «Волнах». Это отнюдь не характеризует Вулф как жертву, ведь если нас не уносит ранняя смерть, мы все переживаем кого-то из близких.
И тем не менее бьюсь о заклад, что Вулф всю жизнь подстегивало, заставляло писать именно острое чувство опасности. Не утешение, но и не отчаяние — просто тревога. Стоя на оставленном водой берегу, я размышляла над романом «На маяк», той главой в середине, в которой дом разрушается под действием времени. Наступает война, война, сшибающая, как кегли, людей, которые прогуливаются, вальсируют и разговаривают в «Комнате Джейкоба»; здесь она тоже приносит смерть. Книги на полках плесневеют, комьями падает штукатурка, ее склевывают ласточки, свившие гнезда в гостиной. Но затем маятник качнулся в другую сторону, и запустение исчезает. Являются старухи, служанки, чье истинное назначенье — оттирать, отскребать и отмывать чужую грязь.
В этой части, длиной, наверное, страниц в двадцать и названной весьма метко «Проходит время», ощущается дух великой борьбы между силами танатоса и эроса, между тягой к разрушению и противоположным порывом к порядку, чистоте и созиданию. Думается, говоря беспристрастно, подобную борьбу вела Вулф на протяжении всей своей жизни; нельзя не добавить, что такая борьба естественна для всего сущего. В переломный момент, когда дом вот-вот готов рухнуть в пропасть, кануть во тьму, Вулф перечисляет вещи, которые могли бы твориться в его стенах. Этот отрывок даже более оптимистичен, чем последующее благоустройство, ведь из него следует, что даже тут, на пороге внешнего хаоса, что-то остается неизменным: на неухоженных, заброшенных грядках капуста растет вперемежку с гвоздикой и осыпается пышный мак. Запущенный сад растет, словно по собственной прихоти, все, что подчинено законам природы, упорядочивается и множится. С другой стороны, созерцая буйство стихии, легко прийти к тому же выводу, что и у Вулф: «Это благословение свыше. Все это останется после моей смерти», и успокоиться этой мыслью.
Отзвук этой причудливой смеси уступок и неповиновений виден в похоронах Вулф. Ее тело кремировали на Вудингдин-роад в Брайтоне, здание крематория смотрело на дома, выросшие здесь в канун Первой мировой войны. Леонард в одиночестве присутствовал на церемонии, которую, к его ужасу, сопровождала музыка из «Орфея и Эвридики» Глюка, оперы, в которой страдающий Орфей спускается в Элизиум, хотя еще и не воссоединяется с тенью Эвридики. Вирджиния отзывалась о ней как о прекраснейшей опере из когда-либо написанных, однако надежды на загробную жизнь приводили Леонарда в ярость.
Он забрал домой урну с прахом и захоронил ее под вязом в саду возле Монкс-хауса, дома, чьи зеленоватые стены, казалось, дышали сыростью. Он заказал надгробье у льюисского каменотеса и выгравировал на нем завершающие слова «Волн»: «Непобежденный, непокоренный, на тебя я кинусь, о Смерть!» Возглас ли это любовника или солдата? Они флиртуют, они дразнятся — закаляются, тают от вожделения. Но, так или иначе, они выдерживают испытание временем, как выдерживают испытание временем тысячи заплесневелых страниц, хотя дом, в котором они хранились, разрушен бомбами, а женщина, которая их написала, исчезла из жизни.
Вирджиния Вулф
VII притча беды достопочтенного о воробье
Гром так и не прогремел. День терял пропитавшую его тяжесть по мере того, как облака поднимались и двигались на юг. Закрывавшие солнце чешуйки разметало в разные стороны, они таяли, плывя высоко над долиной тем же неведомым маршрутом, что и летящие к морю птицы.
Ровно к половине шестого я добралась до развилки, одна из дорог вела в Родмелл. Я бродила по пустоши битых два часа, держась проложенных ветром бороздок. Покончив с этими блужданиями, я села на приступку у изгороди и подкрепилась овсяным печеньем. Мне мешали отросшие ногти на ногах, и складным ножом я провела примитивную хирургическую операцию, хотя и не самую приятную. Жаль, что щипчики для ногтей остались на столе. Будь они у меня с собой, я бы годами бегала по холмам постоянно, хотя со временем, наверное, почувствовала бы потребность в туши для ресниц.
Возвышенность Даунс начинала мало-помалу доминировать над местностью. За ней притаился Родмелл, по его окраинам были рассыпаны в беспорядке самые бедные и самые богатые дома. Какой сегодня день? Я посчитала по пальцам. Пятница. Близко ли море? Один перелет баклана или ворона, двадцать минут на машине, час на велосипеде, завтрашняя утренняя прогулка. Сегодня я переночую у подруги в Навигейшн-коттедже, построенном в восемнадцатом веке как барак для землекопов, менявших русло реки. Когда-то в нем жили отец и сын по фамилии Томпсон, помимо береговых работ в их обязанности входило поднимать разводной мост, пропуская суда.
Я легла в высокую траву и оглядела Брукс. В плоских полях и быстрой, безликой реке сквозило что-то неуловимо гнетущее. По идее, местная территория должна была служить образцом человеческой изобретательности, но мне от укрепленных берегов и рвов становилось не по себе, казалось, будто реку сдерживала гигантская сила, но та все равно грозила вырваться из тисков и запрудить долину. В воздухе чувствовалось напряжение, и в некотором смысле мне даже хотелось, чтобы неизбежное свершилось — неуютно было при мысли, что оно откладывается на неопределенный срок. Я вообразила, как река бесследно уничтожает живые изгороди, неумолимо затопляет поля, занося в амбары и дома клубки угрей. Впрочем, возможно, ждать осталось недолго. Лет через сто лет море поднимется, и Англию опять окружит кольцо болот. Или через пятьдесят? Какое будущее мы себе уготовили? Когда в липкую грязь обратятся искусственные пастбища, объеденные овцами и изрытые сточными каналами, по которым гуляют шальные ветры?
Я была не совсем честна. Поля давали урожай, а сточные каналы пусть и не украшали местность, зато служили средой обитания для всякой живности, а плюс к тому — линиями прямой видимости, уводящими нас назад в прошлое. Селери-Сьюэр, главный дренажный канал Брукса, лежал напротив меня, он петлял от реки Кокшат до Уза. В устье его перегораживали шлюзовые ворота, закрывающиеся запорными клапанами, которые сконструировал в 1949 году Фрэнк Дин, старый родмеллский кузнец, причем он проявил такое мастерство, что если верить молве, они открывались мизинцем. Тот же Фрэнк Дин искал тело Вулф в реке и тот же Фрэнк Дин ждал на берегу бледного, как мел, Леонарда. Годы спустя тот заметил в мемуарах: «Он был смелым человеком». Именно Фрэнк организовал кремацию Вулф и невольно оказался причастен к выбору музыки: Леонард хотел заказать Бетховена, каватину из Струнного квартета № 13 си-бемоль мажор, но постеснялся попросить. Впрочем, сейчас все это уже не важно. Обоих давно уже нет на свете, хотя кузница Дина в Родмелле сохранилась по сей день, как и крохотная сторожка рядом, на ее подоконниках теснятся горшки с засохшей и засыхающей геранью.
Я получила СМС от Каролайн. По поводу сыра к обеду, которым я успешно затоварилась в Льюисе. Есть хотелось безумно. Казалось, после пиццы минули годы — и века с тех пор, как я в последний раз общалась с подругой. Я потопала по дороге, изредка замедляя шаг и выглядывая на поле дохлых сорок. Сама я ничего подобного не наблюдала, но Каролайн божилась, что видела здесь их тушки, насаженные на палки в качестве пугал. Жуть, конечно, но мама мне недавно рассказала случай похлеще. Однажды она прогуливалась по полям возле своего дома в Суффолке и натолкнулась на клетку, в который лежал мертвый цыпленок и билась живая сорока. Она подумала, что птица попала в клетку случайно, открыла дверцу и выпустила ее на волю, и лишь позднее узнала, что нарушила местный обычай ловли сорок. Их убивали с помощью выхлопной трубы, проведенной в помещение, и, как я прочитала на форуме, каждому фермеру полагалось уничтожить пятьдесят две сороки (по одной, отметила я, в каждую неделю года).
Бедные сороки! Охотники также используют падаль как приманку, оставляя ее в поле или привязывая к изгороди, причем крылья у птиц должны быть сломаны и свободно колыхаться, иначе трюк не сработает. Другие способы — посадить на столб муляж совы в натуральную величину или наполовину наполнить коробочку для пленки дробинками: если ее особым образом встряхивать, то шесть коротких и одна длинная трель имитируют крик сороки. Говорят, что охотникам на сорок приходится закрывать лицо, поскольку эти птицы норовят клюнуть в голову, в охотничьих магазинах даже продаются специальные маскировочные сетки.
Я не заметила не единой птицы, ни живой, ни мертвой, зато по обеим сторонам от меня животные щипали траву — овцы справа, а коровы слева. Некоторое время спустя овец сменил табун лохматых лошадей, а тех — замусоренный земельный участок. Между рядами грузовиков и фургонов для лошадей возились цыплята, в отсыревшей будке лаяла сидевшая на цепи собака, она лаяла надрывно, без передышки — ясное дело, засиделась на привязи и мало надеялась на изменение своего положения.
Леонард Вулф, впервые опубликовано в статье «Читаем ли мы лучшие книги во время войны», Picture Post, 1944. Copyright © Felix Man and Kurt Jutton/Фотография Post/Hulton Archive/Getty Images
Навигейшн-коттедж стоял на углу деревни, в нескольких домах от Монкс-хауса. Муха заметил меня с дозорного поста на садовой ограде и помчался к воротам, изливая радость пронзительным, крайне немелодичным тявканьем, которым Господь одарил джек-рассел-терьеров. Я выложила сыр, а затем пошла в пристройку оставить рюкзак. Там было тихо и прохладно, сквозь полуспущенные жалюзи просачивался свет, казавшийся серым. Я бросилась на кровать и стянула с себя брюки. Две минуты, подумала я, закрывая глаза, а когда проснулась, была уже половина восьмого.
За ужином мы пили бутылочное пиво, сидя на противоположных концах длинного кухонного стола. К сыру прилагалась чечевица, дымчатые зернышки земляного цвета со сладковатым привкусом. Самая дальняя комната в доме была застекленной, в ней не было ни занавесок, ни жалюзи, и ее наполняли лучи заходящего солнца. Пес прыгал у нас между ногами, а затем, захандрив, вскочил на диван и улегся калачиком, маленькая пятнистая запятая, нарочито отвернувшая морду в сторону. Пиво ударило мне в голову. Хоть мне и удалось вздремнуть, я была настолько усталой, что едва шевелила языком, Я отправилась спать засветло, прошлась босиком по сухой траве, в остывающем воздухе волнами поднимался аромат лаванды и маттиолы.
На полочке у изголовья теснились потрепанные книжицы, выпущенные «Пингвином», и, уже наполовину раздевшись, я замешкалась было при виде «Паломничества Чайльд-Гарольда» и «Музыки для хамелеонов», но желание спать оказалось сильнее. Я оставила окно открытым настежь, и, пока меня не было, комнату наполнили летние запахи. Ночью температура резко упала, и на рассвете я на минуту проснулась и нащупала в шкафу второе стеганое одеяло. В девять я опять пробудилась, немного повалялась в своем гнездышке, слушая переливчатые трели черного дрозда. Затем достала из рюкзака оставшиеся карты и расстелила их на коленях.
После Слоема, который я оставила неделю назад, я более или менее точно следовала официальному маршруту — Узскому пути: он шел параллельно реке, между Саутизом и Пиддинго ненадолго резко сворачивал к Даунсу, проходя у подножия Мони-Бург мимо фермы Динс. Пусть так, но тянущаяся вдоль берега линия внушала мне беспокойство. В Ньюхейвене Уз впадает в море, там, где паромы отплывают во Францию, однако дорога на карте под углом отходила от воды, будто шарахаясь от терминала, и следовала на восток по старому средневековому руслу, петляющему вдоль бухты Сифорд, к тому месту, где начинается город Сифорд. Там находится заповедник, зажатый между промышленной зоной, магистралью А259 и брошенной деревней Тайд-Миллс. Прежде на его территории находился металлургический комбинат, позднее переделанный в санаторий, а еще позднее — в конюшни для беговых лошадей, но за долгое время постройки обветшали и рассыпались.
Я никак не могла решить, какую дорогу выбрать: идти вдоль реки до устья или сменить курс и двигаться на восток по бывшему руслу. Я легонько провела пальцем вниз. Так или иначе, сегодня вечером я должна быть дома, и осознание этого пробудило во мне чувство, уже испытанное в Льюисе: желание отмотать все назад, двинуться против течения, туда, где Уз постепенно сужается, и, в конце концов, очутиться среди крутых ущелий и лесов Вельда, на сокровенной земле. Вместо того в субботу мне предстояло слоняться по Ньюхейвену, Городу мертвых, по выражению Вулф. В устье реки значками были отмечены два маяка: один — на самом краю длинного дугообразного волнореза, другой, обозначенный восклицательным знаком, — в конце более короткого Восточного пирса. Ладно, поступлю по настроению, рассудила я, пусть ноги сами выберут дорогу, однако такое решение оказалось не самым удачным, потому что весь день я дергалась.
Мы позавтракали на кухне яичницей с тостами, и после двух чашек кофе я наконец собралась с силами продолжить свое путешествие. Песик сопроводил меня до ворот и выл мне вслед, невероятно громко для такой крохи. Воздух был напоен ароматом роз, небо над Родмеллом ярко синело, хотя долину внизу опять застилал туман. Фёрл-Бэкон был полностью скрыт из вида, а остальные холмы вырисовывались бледными тенями, пока горячий ветер не разогнал туман. Я брела по церковному двору, притормозив под брошенным гнездовьем грачей, чтобы через ограду взглянуть на лужайку за Монкс-хаусом, на которой Вирджиния и Леонард однажды азартно резались в шары. Ведущая к дороге тропинка обрывалась между огородами и садами, а когда я быстрым шагом проходила мимо домов, раздался женский крик «Элла! Элла! Немедленно сюда!», правда, кому он был адресован, ребенку или собаке, сказать не могу.
У края дороги полыхали маки: красные полевые, лиловые опийные и розовые с махровыми головками. Эти беженцы из сада с лепестками в изящных оборках выглядели неестественно легкомысленными среди мальвы и тысячелистника. Аромат роз уступил место запаху теплой почвы, сладкому как пирожное. Когда я поднималась на холм, до меня издали долетали звяканье велосипедов, курлыканье лесных голубей и треск газонокосилки — убаюкивающая летняя музыка, благодаря ей порой кажется, будто сельская местность застыла в прошлом столетии.
Утром я размышляла о Леонарде. После смерти Вирджинии он возвратился в Лондон и одно время жил в многоквартирном доме, перестроенной гостинице «У Клиффорда». Он был набит жильцами, точно улей с пчелами, и, не выдержав скученности, Леонард вернулся в разбомбленный дом на Мекленбург-сквер и жил, как скваттер, в квартире без окон и потолка, крыша здания еле держалась, а комнаты были замусорены и черны от сажи. «Одиночество и тишина — это превосходно, — писал он годами позднее, — но жизнь в разбомбленной квартире с забитыми досками окнами была крайне угнетающей».
Примерно в то же самое время на городских пустырях, среди развалин зацвели пробившиеся сквозь асфальт сорняки: иван-чай, или огненная трава, способный заполонять пустоши (каждое растение дает восемьдесят тысяч почти невесомых семян, разлетающихся на огромные расстояния), будлея Давида, любимая бабочками за медовый аромат и насыщенный лиловый цвет, атлантический мак, галинсога, одуванчик, канадский мелколепестник и оксфордский крестовник. Интересно, что последний в шестнадцатом веке вырастили в Оксфордском ботаническом саду из семян, собранных на покрытых лавой склонах вулкана Этна. Из Оксфорда он по железной дороге устремился на юг. «Самые веселые места в Лондоне — это районы бомбардировок», — писала нью-йоркская газета в 1944 году, добавляя, что иван-чай «распространился по искалеченному городу, превращая его шрамы в нечто прекрасное». Подобную метаморфозу город претерпел не впервые. Существует поверье, что лондонский гулявник, sisymbrium irio, его еще курят бедуины, чтобы излечиться от грудной инфекции, особенно разросся после Великого пожара 1666 года, когда выгорел центр, хотя позднее сделался редкостью и вернулся только спустя века. Когда после налетов авиации образовались пустоты, пространства между покосившимися стенами затянулись цветным ковром. «Валы, обочины дорог и пустыри в нескольких районах Британии и Ирландии, — пишет британский ботаник-систематик Стейс, — облюбовала одичавшая флора, в первую очередь это относится к заносным растениям».
Случайность повторяется, превращается в характерную черту. Всегда не означает однажды, но конец все равно неизменен. Лондонский гулявник возвращается в наши города, как стрелки часов к полуночи. На чразвалинах судов и соборов топорщится иван-чай, по полям сражений вышагивают одуванчики и проникают в сады. Галинсога, оксфордский крестовник, атлантический мак — эти дикорастущие растения повсеместны, они растут здесь с древних времен. Об этом следует хорошо помнить, так как люди, вопреки всем доказательствам, верят в статическое равновесие, хотя история мира ясно свидетельствует о том, что наша участь — распад и возрождение.
Подобные превращения не были в новинку для Леонарда, видевшего, как людей на Цейлоне вздергивают на виселицу. Его лозунг был «все пустяки», позднее исправленный на «все пустяки, но всякий пустяк значим». Всю свою жизнь он боролся с различными формами запустения и хаоса в нашем мире. Гуманист, человек высокой морали, верящий в цивилизацию, он ни на миг не забывал о том, что человеческие жадность и глупость угрожают ее существованию, если не обрекают на гибель.
Промаявшись после смерти Вирджинии примерно с год, Леонард в некотором смысле обрел второе рождение. Он влюбился в замужнюю актрису, Треки Парсонс, которая, на счастье, ответила ему взаимностью, хотя и не ушла от мужа и делила свою энергию и привязанность между двумя мужчинами до самой смерти Леонарда в 1969 году. Он звал ее «тигреночком» и баловал экстравагантными и милыми подарками: инжиром с клубникой, офортами Рембрандта, охапками гиацинтов и лилий из сада Монкс-хауса, кольцом с великолепным изумрудом. Эта поздняя пылкая любовь была для него благословением, поскольку до того он существовал как аду. Роясь в архиве Монкс-хауса, я как-то наткнулась на обрывок бумаги, исписанный его каракулями:
«Они говорят: „Приходи на чай, мы тебя утешим“. Но ведь это неправильно. Каждому суждено быть распятым на собственном кресте. Странно, но ужасная сердечная боль отступает, когда ноет четвертый палец на правой ноге. Я знаю, что В. не выйдет из сторожки в сад, но все равно смотрю в ту сторону, ищу ее глазами. Сознаю, что она утонула, но прислушиваюсь в ожидании, что она войдет в дверь. Сознаю, что это последняя страница, но все равно ее перелистываю. Человеческие глупость и эгоизм безграничны».
Несчастный был настолько одинок, что при одной мысли о нем сжимается сердце, хотя нельзя назвать Леонарда Вулфа святым. Несмотря на врожденную симпатию к обездоленным, он питал стойкое отвращение к психическим заболеваниям и однажды весьма резко высказался в адрес сводной сестры Вирджинии, Лоры. В двадцать два или двадцать три года семья поместила ее в лечебницу для умственно отсталых, где она провела пятьдесят с лишним лет. Леонард заметил, что лучше бы умерла она, чем Джордж Дакворт, единоутробный брат Вирджинии, который ее третировал в детстве.
В автобиографической книге «Странствие без места назначения» приводится история, произошедшая в семье домработницы Вулфов Луи Майер и тоже иллюстрирующая жесткость Леонарда. У матери Луи был сын-инвалид Тони, в котором она души не чаяла, но, по словам ее старшего сына Гарри, «своей самозабвенной любовью губила свою жизнь и здоровье». Гарри попросил Леонарда Вулфа вмешаться, и в итоге прямо перед началом войны он убедил ее отдать мальчика в дом призрения. Однако ребенок стал сильно худеть, семья забеспокоилась и забрала Тони обратно, пригрозив засудить воспитателей за дурное обращение. Леонард снова помог, однако весьма пренебрежительно отозвался о диких обвинениях, лишь мимоходом добавив, что ребенок скончался неделю или десять дней спустя.
«В слюнявом тупоумии человеческого существа есть нечто мерзкое и отталкивающее», — заметил он, пытаясь проанализировать, почему этот случай задел его за живое. Но даже подобные взгляды, безусловно куда менее приемлемые в нашу эпоху, чем в его времена, не перечеркивают того, что Леонард Вулф положил всю свою жизнь на помощь людям более низкого социального положения. Луи Майер не затаила против него обиды. Она прослужила Леонарду Вулфу тридцать шесть лет, а когда он на девятом десятке заболел, сражалась с фельдшерами неотложки, которые хотели забрать его в больницу, и ухаживала за ним сама с помощью Треки, лишь бы он остался в любимом доме. «В конце концов, нам пришлось нанять двух сестер, а затем пришло время, когда лекарства и процедуры перестали помогать, — писала она. — Но я не отходила от него до самого конца».
Незаметно я дошла до крутой тропы, ведущей в Саутиз. Посреди деревни на верхушке холма под сенью раскидистого вяза примостилась церквушка с округлым куполом. В церковном дворе в пенистом море бутеня пара выпалывала сорняки. Внутри церкви не было ни души, в нефе стояла та особая тишина, которая ощущается очень редко, лишь в старых деревенских храмах. Из-за великолепной архитектуры и убранства кажется, будто камни хранят отзвук песнопений и молитв, годами звучавших в этих стенах. Внутри помещение выглядело самым обычным. Белые стены, пол, вымощенный щербатыми плитами, сводчатый балочный потолок, чем-то похожий на перевернутый киль судна. На штукатурке северной стены — едва заметные следы облупившейся фрески: несколько параллельных линий грязного желтовато-коричневого цвета, смутные очертания человеческих фигур. Изображение на заалтарной арке было в лучшем состоянии: пухлый желтушный херувим, а под ним цитата из 74-го псалма, первая строчка сократилась до Бог есть судия, вторая до — вино кипит, а от третьей осталось единственное слово — буду [58].
Однажды один мой приятель исполнил здесь «Аве Мария», и сейчас мне казалось, что я слышу музыку, старую латинскую молитву, выводимую мальчиком-певчим, она поднимается к куполу и мерцает среди клочьев пыли. «Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». Я не произносила этих слов уже лет сто, если не считать похорон, и не собиралась сейчас молиться, читать по четкам Пять тайн радостных и Пять тайн скорбных. Но, соскользнув со скамьи, неуклюже опустилась на колени — пусть я и не сохранила веры, но считаю, что чтение Славословий достойно уважения. Я, склонив голову, повторяла «Благодарю Тебя, Господи», первую из выученных мной молитв.
Господь был изображен на витражном окне за алтарем, он стоял в одежде пастуха, с овцой на руках. И мне вспомнилась проповедь другого пастыря, из веслеянской общины [59]. Его звали Джоб, и его рассуждения о траве цитировались в биографии отца М. К. Эшби, Джозефа Эшби из Тисо:
«Я говорю о траве. Из всех даров Божьих именно ее я выбрал темой проповеди. Трава всегда рядом с нами. Она никогда не обманывает наших надежд, даже в том, что касается сельскохозяйственных работ. Она окутывает весь мир точно плащом. Кормит животных, а животные кормят нас. Вечная трава — отдохновение для мыслей. „Я покоюсь на злачных пажитях“. Зеленый цвет травы дает отдых глазам, ее постоянство разгоняет тревоги, а прикосновение летом наполняет тело покоем… Да, трава изгоняет страх перед смертью, ибо человека успокаивает мысль о том, что над его утомленным и израненным телом, обремененным тяжелыми и болезненными воспоминаниями, колышется зеленая травка. В молодости я был слишком поглощен мыслями о себе, ползал по земле, а не воспарял к небесам. Потому-то и требуется обновлять свой дух. Бог в своем милосердии позволяет нам сбросить усталость и похоронить ее под дерном».
Разве это не крепкая вера? Вера в то, что миг жизни завершится сном под колышущейся травой, хотя лично я предпочла бы цветущий бутень с белыми зонтиками, чуть зеленоватыми или розоватыми, или крупную астранцию сорта «меланхоличный джентльмен», правда, она растет севернее, в тенистых местах. Интересно, что сказал бы об этой проповеди Леонард Вулф, ведь в нем вера в вечность природы уживалась с неприятием религии. Его абсолютно выводило из себя все, что касалось жизни после смерти, и с похорон жены он вернулся в состоянии, столь же близком к ярости, как и к скорби. «Он говорил с огромной горечью, — писал его друг Уилли Робон, в то время гостивший в Монкс-хаусе, — о дураках, игравших музыку Глюка, которая обещала счастливое воссоединение или воскрешение в будущей жизни. „Она мертва, и ее уже нет“, — отрезал он, в этих словах звучало абсолютное неверие в религиозные догмы и утешения. Его невозможно было утешить, слишком велики были его одиночество и чувство утраты».
При этом он верил в непрерывность, даруемую землей. В 1939 году, когда уже надвигалась война, Вирджиния как-то позвала его из сада послушать выступление Гитлера по радио. Он отказался, крикнув в ответ: «Не пойду. Я сажаю ирисы, и они будут цвести тогда, когда Гитлера давно уже не будет на свете». Он оказался прав. Весной 1966 года в яблоневом саду по-прежнему цвело несколько ирисов, он упомянул о них в финале «Пути с холма». Они, «особенно фиолетовый», пахли, по словам Треки, изысканно, сильнее, чем в других садах.
Мне кажется, я проникла в суть его кредо. «Разумеется, — говорится в Католической энциклопедии по поводу царствия небесного, — оно находится не в земных пределах, а, согласно Священному Писанию, вне видимого мира. Прочие подробности касательно его местонахождения неизвестны. Церковь на этот счет не имеет определенного мнения». За пределами Земли — да, конечно. За пределами земного шара, где в вечернем небе Марс предстает то лиловым, то розовым, то пурпурным, а птичьи стаи столь многочисленны, что порой из-за них приходится сажать самолет. Чума на ваш рай, зачем его помещать вне нашей планеты? Я привязана к этой земле и, когда умру, стану пищей для червей и сквозь меня прорастет спутанная трава, зеленая, зеленовато-голубая и даже золотистая.
Лучи солнца били в одеяние Христа, раскрашенное в оттенки красного: гранатовый, пунцовый, вишневый и киноварь. Посох был коричневый, а небо за ним — из смальт цвета берлинской лазури. Этот витраж был сделан в 1850-е годы, в период расцвета декоративного искусства в Британии, но получился не слишком удачно. Когда смальты разогрели, цвета как следует не сплавились, быть может, потому, что печи были недостаточно горячи либо краска неверно смешана. За годы пигмент незаметно обсыпался, и стекло мало-помалу вернуло свою натуральную прозрачность. Стилизованные желтые цветы поблекли, а кусок бороды Христа, казалось, был начисто сбрит.
С небес падал белый свет и, проходя через витражные стекла, превращался в поток отраженного цвета с примесью пыли. Мне на миг показалось, что Ньютон был прав: от светящихся тел беспрерывно отскакивает множество невообразимо мелких и быстрых корпускул разных размеров, и они летят на большом расстоянии друг от друга, направляясь вперед по закону движения: индиго, желтые, насыщенно красные, как вино или кровь.
По пути к воде я на минуту остановилась на лужайке, чтобы прочитать объявления на доске: приглашения в общественные сады и на церковные концерты, поиск комнаты-студии за подписью «Зрелый про-мужчина, писатель и травник, некурящий, любит собак». Цвет неба опять изменился, а воздух наполнился ароматом роз. В деревне была всего горстка домов, но позади каждого, как я знала по предыдущему посещению садов, притаились всевозможные чудеса: бассейн, к которому вел туннель из вьющихся розовых роз, лабиринт с живыми изгородями из дельфиниума, живокости и буйного душистого горошка. В доме на вершине холма можно было купить полукустарниковые пионы, а чуть дальше в церкви находился питомник, которым заведовал отставной нотариус, он специализировался на разведении морозника, ядовитого растения с тяжелыми зелеными и бело-розовыми, а иногда сливовыми и бледно-серыми цветами. Сейчас уже слишком поздно для морозника. Наступил месяц роз, и томный запах цветников и отдельно стоящих цветов растекался, как аромат ладана из качающегося кадила.
Когда я шла по полям к реке, коровы лежали на солнышке, а болотные лягушки в канавах насмешливо перекликались, хотя я не могла понять, какие звуки они издают: брук-брук-брук или крук-крук-крук. Я присела на корточки — не выглядывают ли из липкой тины маленькие золотисто-зеленые головки? Мне хотелось взглянуть, как лягушка квакает, надувая сероватые пузыри — щеки, они же голосовые мешочки. Туман обособил долину, закрыв Льюис и Ньюхейвен стеной густого белого воздуха. Вода под мостом Саутиз понизилась, и двое каякеров боролись с течением. «Даже у матроса этого не получится!» — выкрикнул один, и, когда я проходила над ними, второй крикнул ему в ответ: «Я просто лечу!» Неудивительно. Река здесь была шириной в добрых девять метров, и гладкая коричневая вода неслась под мостом, одолевая порог, завихрялась, вспенивалась. Временами комок пены отрывался и сонно плыл против течения вдоль берега. Отметина, показывающая максимальный уровень воды, была вся залеплена тиной, и ветер — я принюхалась — уносил с собой манящий солоноватый запах.
Море меняло все вокруг. Из-за отлива обнажились пласты шелковистой грязи, там и сям усеянные лужицами, в которых стаи серебристых чаек ловили червей. Чуть дальше на берегу неподвижно сидели группы точно игрушечных черноголовых чаек, головы их были повернуты на север. Растительность тоже изменилась: полынь и трава уступили место низкорослому морскому торичнику и морской полыни, их бледная тускло-зеленая листва не страдала от соли.
Поле у реки охранял одинокий чибис, и я задержала шаг, чтобы на него полюбоваться. Эта птица — педант. Она делает шесть шагов вперед, а затем замирает. В следующий миг резко разворачивается на девяносто градусов и пробегает еще шесть шагов. Затем замирает и быстро клюет. Ого, опять задвигалась: бросок из четырех шагов, пауза, еще пять, точно заводная птица, кажется, что она вот-вот сорвется с места. Я зову их крылатками, поскольку они летают, раскинув свои короткие и толстые крылья, точно книжные страницы. Но тут над зарослями камышей взмыла цапля, описав над полем тяжелый полукруг, опорожнилась, просыпав град белого помета, и плавно заскользила над рекой, покачивая на ветру массивными крыльями.
Отлив продолжался. На берегу топталась маленькая белая цапля, стройная и изящная, как на японском рисунке, она осторожно ступала вдоль самой кромки воды. Крылья помогали ей удерживать равновесие, делая шаг, она выбрасывала вперед острую головку. В воздухе я приметила еще одну, с желтыми ногами, вытянутыми назад, как у танцовщицы, ослепительно белую, по сравнению с ней даже небо казалось серым. Маленькая белая цапля — новичок в этих краях. Традиционный ореол ее обитания — Южная Европа, Африка и Азия, однако во второй половине двадцатого века он сдвинулся севернее, распространившись на Францию и Нидерланды, а лет двадцать назад, на радость орнитологам, достиг южного побережья Англии.
Не все переселенцы встретили теплый прием. Растения и животные не лишены ксенофобии по отношению к иммигрантам, особенно когда те переселяются не по собственной воле, а по прихоти человека. Тех, что распространяются быстро — серую белку, японский горец, американскую норку, железистую недотрогу, пахнущую дешевыми духами, — встречают в штыки. В них видят угрозу биологическому равновесию и, как следствие, опасность вырождения местной флоры и фауны. Я собственными ушами слышала выступления экологов, ополчившихся на платаны, хотя эти деревья были завезены на наши острова еще в шестнадцатом веке, иными словами, живут здесь дольше многих британцев. Это противоречивая тема, и защитники той или иной позиции не стесняются в выражениях, подобно журналистам «Дейли мейл», выведшим на чистую воду беженцев, которые на пособие сняли шикарный особняк.
Как-то раз я видела в Узе норку. В августе мы с моим приятелем Тони плыли на кремовой надувной лодке от Исфилдского моста. Мы громко плюхали веслами по воде, так как резиновые лодки без уключин — не лучшее средство передвижения, как вдруг он заметил на берегу темную головку, пристально наблюдавшую за нами. Зверек был размером с кошку и с лоснящимся гладким мехом. Через секунду или две он легко соскользнул в воду и появился с другой стороны, разглядывая лодку. Затем опять нырнул и опять возник, на сей раз на мелководье — мы видели его тельце целиком до самого кончика широкого хвоста. Зверек казался настороженным и игривым, самоуверенным, но без обескураживающего крысиного нахальства. Эти американские норки, сбежавшие с ферм либо выпущенные активистами-защитниками животных, истребили популяцию водяных крыс, теперь их считаные единицы и в Суссексе, и во всей стране.
Что до железистой недотроги, то она обильно произрастает в верхнем течении реки, выкидывая летом крупные цветы, прозванные шлемами полицейского. У недотроги необыкновенно сладкий нектар, привлекающий пчел, а семена разлетаются на расстояние до шести метров. Если хотите кого-то напугать, уговорите его взять в руки зрелую зеленую коробочку — от тепла она взрывается с приятным треском. Густые заросли недотроги заслоняют солнце соперникам, а если выдергивать ее летом, семена, попадая в воду, мигрируют вниз по течению, где образовывают новые колонии.
После приключения с норкой я общалась с активисткой Фонда живой природы, которая между делом обозвала долину Уза пустыней. Я понимала, что она имеет в виду. Понимала, что прежний растительный и животный мир был куда богаче и разнообразнее, что дороги, города и фермы с их выбросами химикатов не способствуют его развитию. Я восхищалась деятельностью фонда: его заботой о среде обитания, неустанными усилиями по защите водяных крыс и черного тополя, радовалась восстановлению популяции выдр. Однако порой от лексикона борцов за охрану природы меня коробит — они склонны принижать то, что есть, и раздувать значимость редких и вымирающих видов. Всю эту неделю я ходила явно не по пустыне, и мне не понять, зачем очернять зверушек, пусть их и пруд пруди, которые отчаянно цепляются за разоренную людьми долину.
Интересно, не является ли эта извращенная неприязнь человека к опасным представителям животного и растительного царства, вредным насекомым и ловкачам своего рода проекцией: а что если железистая недотрога и норка есть темное зеркало, в котором мы видим собственное отражение — человека-разрушителя, человека-сорняка? Кого в конечном счете еще винить в том, что темпы вымирания флоры и фауны приняли лавинообразный характер? Человека, уничтожающего среду обитания, человека, охотой или иным образом истребившего в Великобритании серого кита, серого волка, дрофу, скарабея, плодового шмеля, бабочку изумруд Эссекса, моль пламенную парчу, моль желтую с изморозью, непарного шелкопряда, бабочку пестрокрыльницу изменчивую, бабочку лесную голубянку, моль волнянку тростниковую, бабочку парусника. Если разрушить среду обитания, уничтожить пищу — в случае парусников — гирчу, то вид исчезнет. У него, по прекрасному выражению Уильяма Берроуза, не остается даже призрачного шанса.
Заметьте, что при этом человек прилагает неимоверные усилия, чтобы восстановить исчезнувшие виды в прежних ареалах обитания. Недавно мне на глаза попалась статья о расселении дроф на равнине Солсбери. В Британии этих птиц истребили охотники в девятнадцатом веке, а попытка в 1970-е восстановить популяцию провалилась: выращенные в неволе птенцы оказались слишком домашними, чтобы выжить в условиях дикой природы, а шестерых скитальцев, случайно залетевших в Суссекс, в 1980-е перебили — случайно или нарочно — охотники на уток. На сей раз завезенных из России птенцов кормили с помощью муляжа в виде головы птицы-матери, а исследователи закутывались в светоотражающие балахоны, скрывающие человеческие фигуры. Сейчас мне это событие представляется водоразделом, положившим начало эволюции. Когда Бог наказал человеку наполнить землю, не именно ли это он имел в виду?
Из меланхолии меня вывели два травника. Они стояли в шести метрах друг от друга и кричали, их клювы тряслись, когда из них вылетало пронзительное «пью-пью». Должно быть, я их спугнула, поскольку оба одновременно вспорхнули, под крыльями мышиного цвета мелькнула белая подпушка. За ними вдали показались ньюхейвенские журавли, их силуэты отпечатывались на небе, которое смахивало на гигантскую макрель: четко прорисовывались рыбьи ребра, солнце терялось в области желудка, хвост нависал над деревней Тарринг-Невилл, а голова — над холмами Телскомб-Тай.
Полдень миновал. Поверхность реки слегка мерцала, на дальнем берегу по долине бежал поезд. Напротив виднелись летние коттеджи, по моим прикидкам, я точно попадала на причал, где ходил старый паром. Если верить карте, домик паромщика по-прежнему стоял у слепого рукава реки, исчезающей голубоватой прожилки, бесполезной, как аппендикс. Видимо, когда-то паром ходил дважды в день, возил работников на ферму и обратно. Судя по всему, его тащили на веревках, а однажды он дал течь и утонул вместе с пастухом по имени Оливер Саймонс и его стадом из пятидесяти восьми овец.
Говорят, что дорога, ведущая отсюда к холмам Даунс, очень старая. Сегодня безмолвный, безлюдный ландшафт словно был пропитан духом старины. Случайная рыба выныривала на поверхность, солнце било вовсю, ярко освещенные полоски земли отливали золотом, столбом поднималась легкая пыль. Меня охватило ощущение разлуки. Мое одиночество близилось к концу, ведь как только я спущусь с холма и миную деревню Пиддинго, то сразу попаду в Ньюхейвен. Я бросилась на ложе из индийской кокцинии и откупорила бутылку с водой. Река подо мной была как стекло, возле нее колыхался боярышник. Выше по косогору ласточки вили себе гнезда. Я различала шум дороги, но его поглощала разлившаяся в воздухе тишина. Быть может, рассуждала я философски, это как-то связано с переломом дня, его естественной приостановкой. Я вздохнула полной грудью, и в этот миг мне на макушку вспрыгнул кузнечик и скакнул вбок, ловко двинув мне по лбу лапкой.
Дорога на Пиддинго тянулась мимо фермы Динс, а затем резко шла в гору по меловому руслу пересыхавшей летом реки. Я карабкалась вверх между ухабистых берегов, поросших диким чабрецом с прошивками из желтого вербейника и бледных цветков скального подмаренника. Тут же в изобилии росли лойник и рогатый лядвенец, детьми мы еще называли его яичницей с беконом, а между ними, точно пьяные, медленно перемещались пчелы. Объеденный дерн усеивали куски мела и крупные пятнистые кремни в форме корней или зубов. Я пнула ногой один, чтобы посмотреть, как он катится, и случайно задела лапку кролика, из нее торчал осколок кости, как леденец на палочке. От обилия трав у меня кружилась голова. Идя вверх, я перебирала: подорожник, репейник, двухцветковая недотрога, лапчатка, зловещий сладко-горький паслен с вывернутыми наружу бледно-лиловыми лепестками и желтыми тычинками, сросшимися в трубочку. Небо над склоном колонизировали жаворонки, они веером вспархивали ввысь, их звонкие голоса звучали как монастырские хоры из сотен монахов, считается, что они раз в час сменяют друг друга, дабы ежеминутно славить Господа.
Чего мне никак не удавалось, так это увидеть каменок, пухленьких птах с белыми брюшками, когда-то в этих краях они водились в таком количестве, что их отлов превратился своего рода мини-промысел. В 1743 году Джереми Майллс, юный антиквар, позднее ставший старшим священником Эксетерского собора, отправился в путешествие по Суссексу и, как тогда было принято, составил отчет о поездке. Он в основном интересовался замками и церквями, но охота на каменок его явно заинтересовала, так как он оставил для потомства на редкость подробное описание их ловли:
«Я поднялся на возвышенность, где увидел великое множество ловушек на каменок — птиц размером примерно с жаворонка, с коричневыми перьями и белыми полосками на крыльях и хвосте. Это перелетные птицы, они прилетают в июне и улетают в сентябре, за лето они как следует откармливаются и становятся особенно вкусным лакомством, как серые славки в Италии и Турции. По моему мнению, английское название „каменка“ — это искаженное „белая гузка“, поскольку огузок этой птицы белый и жирный. Каменки обитают всего в нескольких частях Англии, чаще всего на возвышенностях, принято считать, что они питаются мухами, так как в их желудках ничего не находят, однако думаю, что они едят рапсовое семя, поскольку видел, как они во множестве кружат над рапсом. Это птицы-одиночки, летающие всегда по одной, и они довольно глупы, поскольку их легко заманить в силки. Ловят их таким образом. С земли в двух местах снимают дерн, чтобы получилась вот такая форма (Майллс изображает букву Г); в углубление сбоку вбивается колышек с петлей из конского волоса, затем углубление прикрывается дерном таким манером (Майллс перечеркивает Г горизонтальной линией), чтобы с обоих концов оставались просветы. Птицы прыгают по дерну и, когда просвет затеняет облачко, запутываются в петле. Подобные силки устанавливают рядами по всей возвышенности на расстоянии примерно двух-трех ярдов друг от друга. Владелец проверяет их дважды день и вытаскивает пойманных птиц. Зачастую одному человеку принадлежат тысячи ловушек, и он снабжает дичью всю округу. Каменки продаются ощипанными, со связанными лапками, примерно по шиллингу за дюжину».
Поначалу рассказ показался мне малодостоверным, однако книга под названием «Автострады и проселочные дороги Суссекса» его подтверждала, добавляя, что каменки в силках не умирают, а слабо трепыхаются, не в силах высвободиться из петли, до самого прихода ловчего. Как правило, в его роли выступал местный пастух или просто человек, пожелавший отужинать так называемой суссекской овсянкой. Забрав добычу, он честно оставлял пенни. В восемнадцатом веке на каменок шла такая охота, что к середине лета вся возвышенность Даунс казалась перепаханной из-за перевернутых прямоугольников дерна. Осенью остатки стай улетали в Африку, и трава заново прирастала к почве. В 1904 году — «Автострады и проселочные дороги» тогда уже вышли — практика временно попала под запрет. Тем не менее автор книги — Эдвард Веррал Лукас, бывший, кстати, биографом поэта Чарльза Лэма, а заодно и заядлым собирателем порнографии, сообщает, что охота на каменок и щеглов продолжается, их истребляют тысячами. В этой связи он описывает странное приспособление под названием жаворочное стекло, судя по всему весьма распространенное во Франции, и я не могу отделаться от подозрения, что автор тоже смастерил его для своих надобностей.
По всей видимости, жаворочное стекло делалось из сбитых в треугольник стволов дерева длиной в метр и толщиной в несколько сантиметров, утыканных мелкими осколками зеркала, треугольник прикреплялся к железному веретену, оно быстро вращалось при помощи резинки, которую натягивал охотник, сидящий в засаде примерно в двадцати метрах от устройства. Крутящиеся зеркала обладали загадочной притягательностью для жаворонков: они во множестве спускались с небес, зависали над приманкой, и их сразу же подстреливали, причем птицы даже не пытались упорхнуть прочь или продолжить полет.
Это зрелище, вне всяких сомнений, заинтересовало бы Леонарда Вулфа: однажды он взорвал в поле шутиху, чтобы увидеть, как огромная стая скворцов взметнется в небо, затмив солнце. Может, прийти сюда еще раз с зеркальным шаром и проверить, сохранили ли свои чары вращающиеся зеркала? Впрочем, их, полевых жаворонков, было и без того полно, они снижались, точно подвешенные на нитках, раскинув горизонтально крылья, а затем — с радостной звенящей песней — ныряли головой вперед, под углом сорок пять градусов, в нижний слой воздуха. Они вполне могли бы дразниться: «Не поймаешь, не поймаешь!», ведь в настоящее время мы больше заботимся о диких птицах, запрещая отлавливать всех, за исключением явных вредителей: представителей семейства врановых, малых черноспинных чаек, канадского гуся, длиннохвостых попугаев и одичавших голубей. Их разрешается отстреливать, ловить сетями или с помощью клеток, известных как ловушки Ларсена, хотя и в них непременно должны размещаться жердочка, корм и вода, и их надлежит проверять как минимум раз в день, в особенности если внутри сидит подсадная птица. Закон о животном мире и сельской местности от 1981 года весьма определенно требует, чтобы птиц убивали быстро и гуманным способом, уточняя, что «канадский гусь, которого держат в неволе вместе с другими птицами того же вида, должен быть убит так, чтобы этого не видели его сородичи». Эта трогательная забота не распространяется на общительных ворон и грачей.
Пока я карабкалась вверх по склону, мне припомнилось стихотворение Реймонда Карвера о подсадной птице, гусе с подрезанными крыльями, которого держит в бочке фермер с покрытой язвами кожей, на чьих полях растет пораженный болезнью ячмень. Его кормят до отвала пшеном, а взамен он служит приманкой для других гусей — стаи кружат настолько близко, что едва не касаются крыльями стреляющего фермера. Рассказчик, который во время охоты случайно забрел на ферму, заглядывает в зловонную бочку, и то, что он видит, навеки западает ему в память. Этот гусь становится для него показателем той крайности, до которой можно довести живое существо, символом предательства, лишений и нужды.
Что-то в стихотворении мне подсказывало, что гусь был реальным, хотя и не все, что Карвер описал в своем мини-эпосе, правда. Стихотворение написано в 1980-е, за несколько лет до его смерти, и в любом случае гусь к этому моменту уже сдох. Может, его заменили на другого. А может, фермер разорился или сам скончался, от пулевого ранения или той самой болезни, что поразила его руки. Так или иначе, судьба этого гуся перекликается с историей птицы, описанной Хемингуэем в романе «За рекой, в тени деревьев», искалеченного зеленоголового селезня, подстреленного в конце книги. Его к лодке, где сидит охотник, притаскивает собака Бобби. «Птица была цела и приятна на ощупь. Сердце у нее билось, а в глазах стояло отчаяние и ужас перед неволей» [60]. Полковник сажает селезня в холщовый мешок, лежащий на носу, чтобы оставить его живым манком либо выпустить весной на волю. И хотя на обратном пути с охоты Полковник умирает от сердечного приступа, именно эта плененная, беспомощная птица остается в глазах читателей символом уязвимости всего живого в нашем мире.
В краткой жизни птиц человек улавливает параллель с собственным существованием, и, пожалуй, нигде условия не были столь суровы, как в монастыре королевства Нортумбрия, где монах Беда проводил дни за молитвой, сочинением богословских трудов и исчислением сроков Пасхи. Именно он однажды сравнил жизнь человека и воробья. Эпизод с воробьем он приводит в «Церковной истории народов англов», описывая обращение в христианство языческого короля Эдвина; возможно, это одна из самых прекрасных речей на английском, хотя, оговариваюсь, мне абсолютно чужд сам посыл:
Вот как сравню я, о король, земную жизнь человека с тем временем, что неведомо нам. Представь, что в зимнюю пору ты сидишь и пируешь со своими приближенными и советниками; посреди зала в очаге горит огонь, согревая тебя, а снаружи бушуют зимний ветер и вьюга. И вот через зал пролетает воробей, влетая в одну дверь и вылетая в другую. В тот краткий миг, что он внутри, зимняя стужа не властна над ним; но тут же он исчезает с наших глаз, уносясь из стужи в стужу. Такова и жизнь людская, и неведомо нам, что будет и что было прежде. Если новое учение даст нам знание об этом, то нам следует его принять.
«Уносясь из стужи в стужу». Ага, кажется, это о размере воробья. Мы тыркаемся, точно слепые котята, наши представления о мироздании не многим отчетливее, чем у воробья или жаворонка, вынырнувшего из тьмы на свет, а знания в любой миг могут померкнуть. Тысяча двести семьдесят четыре года минуло с того дня, как Беда Достопочтенный испустил последний вздох в нортумбрийском монастыре, но мы нисколько не приблизились к пониманию того, что будет и что было до нас на этой вращающейся планете.
Такой пугающий образ Беда использовал для проповеди веры в Бога. Всю свою жизнь Леонард Вулф исповедовал диаметрально противоположные взгляды, и совсем неудивительно, что животные играли в них определенную роль, ведь он их очень любил и постоянно держал дома кошку или собаку. Его философия — все пустяки — охватывала и посмертную тьму, ведь он полагал, что вера в фантастическую модель мироздания есть признак трусости. Во «Взрослении» Леонард Вулф описывает зверинец, который держал на Цейлоне, и воспоминание о своих замечательных питомцах — стае собак, детеныше леопарда и олене с явно выраженным пристрастием к табаку — заставляет его с яростью отрицать загробную жизнь:
«Не думаю, что с точки зрения человека во вселенной присутствует хоть малейшей смысл, если созерцать ее, сняв розовые очки. По всей видимости, мессии, пророки, Будды, Боги, Сыны Божьи и философы сочинили хитроумные космологические фантазии о вселенной и о нашем в ней месте, чем ублажили или ввели в заблуждение миллионы. Но если попытаться встроить в эти фантазии мою кошку, или собаку, или леопарда, или мартышку, с их чудными привычками, страхами, привязанностями — их душой, если такая штука существует, — то от всех философий и религий не останется камня на камне».
Что до Беды и его хитроумных космологических фантазий, то в «Церковной истории народа англов» он также приводит историю некоего мужа, сраженного телесным недугом и на пороге смерти перенесенного, по его уверениям, в долину, объятую адским пламенем, а затем на небеса. Когда видение кончилось, муж, к большому удивлению родственников, очнулся; позднее он сделался монахом, хотя прежде был женат. Все оставшиеся годы он многократно живописал слушателям страдания и наслаждения, ожидающие их после смерти, видя в своем повествовании особую наставительную ценность. Не помню подробностей об аде, зато его небеса врезались мне в память, поскольку казались до боли знакомыми. Они выглядели, по его словам, как «широчайшая прекрасная равнина, полная благоуханием весенних цветов, и их сладостный аромат быстро прогнал окутавшее меня гнусное зловоние исчадий тьмы. Так ярок был свет, пронизавший всю это местность, что он казался ярче дня или лучей полуденного солнца».
За несколько минут я добралась до вершины, поднимаясь к живой изгороди. Она состояла из дикого клематиса, цветущей ежевики и бузины, последние соцветия с вялыми лепестками побурели в тех местах, где на них налипли комочки пыльцы. Были растения и покрупнее: длинностебельчатая герань и жестколистная звездчатка, усыпанная белыми звездочками, которые ярко выделялись на фоне темной листвы. Было очень тепло, и я сняла рюкзак и, ничем не обремененная, ступила туда, где земля разверзалась. Это был Вельд, весь в синих тенях, и оттуда вытекала река, хотя все, что я видела, это два голубых отрезка, позаимствовавших свой цвет у неба, которое есть не что иное, как газ и рассеянный свет.
На нашей планете жилье никому не предоставляется насовсем. Это не входит в условия сделки. И хотя мне известно не больше, чем Беде Достопочтенному, бьюсь о заклад, что на том свете нас не ожидают залитые солнцем поля; даже если туда занесет нелегкая, то поймешь как воин Ахилл: лучше уж быть последним поденщиком на земле, чем повелителем мертвых. Такова уж наша быстротекущая жизнь, и между тьмой и тьмой полуденный свет освещает реальные увядшие цветы, притулившиеся на известняке, а за гребнем холма — накатывающие буруны Ла-Манша, которым небеса одолжили свой лазурный окрас, цвет земного рая, если верить Дереку Джармену и его фильму «Блю».
Самолет лейтенанта Экери после крушения
VIII спасение
На обочине дороги на Пиддинго лежала крыса с лапками, аккуратно поджатыми под подбородок. Должно быть, подумала я, склоняясь над тушкой, ее убили совсем недавно, хотя я не заметила ни единого ушиба. Крыса казалась здоровой, ее шкурка лоснилась, черные, уже незрячие глазки подергивала поволока. Через несколько метров я заметила вторую, изрядно растерзанную и покрытую копотью. Обе крысы выглядели просто гигантскими, быть может, они состояли в родстве и первая, лоснящаяся, погибла, скорбя на могиле родителя или супруга, хотя более вероятно, что она лакомилась трупом, когда из-за угла выскочил автомобиль и двинул ее так, что она пролетела чуть ли не метр.
Я свернула на дорожку, ведущую к реке, обогнула деревню и вышла к местной лодочной мастерской. Перед ней в шезлонге восседал старик в голубой рубашке и ел сэндвич из пластиковой коробки. Подойдя поближе, я услышала, как он сказал: «Кефаль. Мне кажется, она питается илом». Его слова были обращены к парочке, стоящей чуть поодаль от воды, и, когда я шла мимо, другой старик рассмеялся и ответил: «Ты ее ловил, когда мной еще здесь и не пахло». Они немного помолчали и по-свойски принялись обмениваться рыбацкими премудростями, степенно, с расстановками, как это делают пожилые люди, вместе коротающие время. Я не расслышала всего, что они говорили, до меня долетали лишь отдельные слова и обрывки фраз. Вот первый старик насадил на крючок наживку и забросил удочку в спокойную воду. «Я ловил окуня. Взял… — неразборчиво, — и поймал кефаль на мушку. Это было в Беддингэме, на тамошней реке. — В Беддингэм-Рич? — Ага, я иногда ловлю на мушку мелкого окуня. Ни разу не попался приличный в этой реке. Хотя сегодня мы опробовали мякиш. Обычно я беру белые личинки». Тут вмешалась женщина, глуповато рассмеявшись, и пара откланялась, бросив: «До скорого», и вместе с удочками двинулась вверх по тропинке.
Над головой плыли бледные облака, слепленные, точно затвердевшие шарики мороженого, а я все выглядывала дождевые тучи. О Пиддинго есть забавная загадка, она вертелась у меня на языке. Что-то насчет сорок. Точно, вот оно. Они подковывают сорок, ловят на удочку лунный свет и вывешивают сушиться пруды. На самом деле, пестрые сороки — это местный скот, вывешивать сушиться пруды — изготовлять побелку из мела, а удить удочкой лунный свет — отсылка к отговорке, к которой прибегали местные, когда у них находили контрабанду. Есть и более развернутый вариант: акцизные чиновники поймали пастуха, когда он вытаскивал бочонки с ворованным бренди из какого-то водоема в окрестностях Даунса. Тогда он закричал: «Луна тонет. Я должен ее выудить» — и таким поразительным заявлением спас себя и выпивку.
Некогда деревня Пиддинго специализировалась на производстве кирпичей и вела обособленное хозяйство. Затем приблизился разросшийся Ньюхейвен, кирпичный завод закрылся, а вместе с ним и сапожная мастерская с кузницей и гостиницами «Королевская» и «Королевский дуб», лишь завод по ремонту лодок спасал это место от незавидной участи глухомани, жители которой ежедневно ездят на работу в ближайшие города. Река тоже изменилась. За Детоном возвышались три красных подъемных крана, а дальше виднелись пригороды, холмы покрывали уродливые дома, о которых однажды весьма язвительно отозвалась Вирджиния Вулф, обозвав их «кляксой, и сыпью, и прыщом, и волдырем с бесконечными автомобилями, ползающими, как вши». На берегу валялись выброшенные бутылки из-под кока-колы и обломки пенопласта, облепленные водорослями, а надо мной, раскинув выгнутые крылья, зависла красноватая пустельга; затем, когда ветер переменил направление, птица сделала рывок вперед, пару раз взмахнув крыльями, и вновь изогнулась, приняв охотничью позу.
Что она высматривала своими прекрасными глазами-бусинками среди смолевок и васильков? Мышь? Полевку? Крошечную, но хищную землеройку, нагоняющую жука или слизняка? В частично видимом мире под нашими ногами царит бедлам. Землеройка спит считаные минуты, поскольку если не съест за сутки в два раза больше, чем весит сама, то не выживет. Что, если бы у нас был такой аппетит и нам приходилось бы ежедневно добывать и потреблять сто с лишним килограммов мяса? Наш единственный набор зубов сточился бы до корней, а без них нам бы пришел конец. Алле-оп! Я заскрежетала зубами. По крайней мере, у меня еще осталось немного овсяного печенья и вчерашнего вкусного сыра.
Пока я лазила по холму, прилив пошел на убыль, а когда я двигалась по направлению к кранам, зеркало спутанных трав поглощало или отбрасывало обратно в небо падающий свет, так происходило из недели в неделю. Стрекотал кузнечик, а далекий вой сирены свидетельствовал о том, что в людском царстве что-то неладно. Мне стало смешно при мысли о целом городе людей, спешащих на работу, едущих на машинах или идущих по улицам, по их лицам сразу не догадаться, что в голову каждого встроен волшебный фонарь, проецирующий картинки. Порой мне любопытно, мыслят ли животные яркими цветными образами, выстраивающимися в киноленты? Грезят ли они наяву или бродят во сне по знакомым и незнакомым местам? Животные не проигрывают в уме разговоры и не перегружают себя цифрами, но, возможно, они мысленно переживают прошлое и думают об ушедших? Поразительно, до чего одинок человек, хотя он может прикасаться к своим соплеменникам, разговаривать и смотреть на них. Но театр образов прячется у него в мозгу: никто, кроме него, никогда не увидит спектакля, и на земле нет медиума, способного точно определить яркость прожекторов или темп действия.
Подобного рода думы часто посещали меня после ухода Мэтью, в те унылые месяцы в Брайтоне, когда мне казалось, что вся наша любовь была сплошной гнусной ложью. Общая постель не дает непосредственного права вторгаться во внутренний мир другого, проникать в его мысли или мечты. В конце нас все равно ожидает разлука, какие бы иллюзии мы ни питали, и эту горькую истину надо принять, ведь хотим мы того или нет, так всегда происходит из-за оскудения чувств или слабостей тех, кого мы считаем самыми близкими. Сейчас мне уже не так больно, как прежде. Я отчасти примирилась со своей участью, но еще долго не смогу никому доверять, убедившись на собственной шкуре, насколько непредсказуемыми бывают даже те, кого мы любим по-настоящему.
Прокручивая в голове эти мрачные мысли, я вступила в примыкающую к порту промышленную зону, на нежилую территорию, где на скорую руку чинился и разбирался на запчасти транспорт. На противоположном берегу находился причал, и ныряющие кулики-сороки привлекли мой взгляд к строительной площадке, на которой суетились фигурки во флуоресцентных жилетах и красных, желтых и белых касках, как у человечков из «Лего». У рабочих играло радио, но пока я пыталась разобрать песню, кулики-сороки взмыли в небо с громким «квик-квик-квик», а когда они улетели, музыка уже кончилась. Сбоку от стройплощадки рядами стояли грузовики компании «Палетлайн», а за ними был свален металлолом — в солнечном свете искореженные машины и искрящиеся горы ржавого металла отливали черно-золотым цветом, точь-в-точь как помет совы, который я нашла в пшеничном поле. Я никак не могла взять в толк, что это за место — с дымоходами, спускными желобами и резервуарами. Оно выглядело заброшенным, механизмы насквозь пропыленными, но все же я не слишком полагалась на ощущения, ведь находилась на другой стороне реки и в лицо мне било солнце. Подобные места, выходящие за пределы человеческого измерения, живут жизнью невидимок: на них не останавливается глаз, их цель — напускать тумана, а их назначенье трудно понять.
Дорожка на моей стороне реки тянулась вдоль пустыря, обозначенного на карте как заброшенная мусорная свалка, но вдруг резко оборвалась, и сквозь йоркширский туман за чернеющими скелетами бутеня я увидела широкий обводный канал свинцового цвета, по нему, точно цыганский табор, кочевали траулеры и баржи. Краска на бортах облупилась, развалившиеся рулевые кабины были залатаны голубым брезентом, но, невзирая на внешнее угасание, канал бурлил жизнью. Я прошла мимо женщины, развалившейся на палубе плавучего дома с сигаретой в руке, рядом с ней растянулся черный пес, еще дальше какие-то люди орудовали кистями или просто дремали на солнце. Мужчина в красной прогулочной лодке застрял между двумя понтонами и пытался завести мотор, который упорно глох. После нескольких захлебывающихся рывков он плюнул и принялся выбираться из западни с помощью единственного весла. Яхта! Почему у меня нет яхты? Я стала подбирать себе судно по вкусу и в конце концов остановилась на небольшом белом траулере с четырьмя голубыми иллюминаторами и катере, привязанном за нос. Я размечталась — спать в каюте! яичница на завтрак! — и чуть было не врезалась в накачанного здоровяка с двумя ротвейлерами, шеи у собак были почти такими же мощными, как у хозяина. «Извините», — пробормотала я, а он великодушно кивнул в ответ, словно политик или король.
Должно быть, канал был старой петлей реки, потом здесь прошлись землечерпалки, и появился остров Дентон. На берегу мальчишки в спортивных майках гоняли в футбол, к их крикам и собачьему лаю примешивалось поскрипывание яхт; квинтэссенция звуков точно выражала сущность этого места, казалось, я знаю его как свои пять пальцев. Узский маршрут — а я по-прежнему честно им следовала — увел меня в сторону от воды и оказался дорогой, вдоль которой выстроились разнообразные службы, связанные с рекой: «Кантел и сын» обещали «ремонт лодок, швартовку и поставку товаров на судно»; в окнах «Лицензированного центра Осмосис» от Блейков красовались красные и белые буйки; «Ньюбери Инжиниринг» изготовляла лодки; сюда же затесались «Бридж пресс», замечательные печатники-литографы. Напротив этих сараюшек и подсобок стояли муниципальные дома, развернутые фасадом в противоположную сторону, дорожка внезапно ныряла между ними и упиралась в пролегающую между дворами аллею.
Мне сразу не понравилась эта аллея, хотя она удобно спускалась к дороге с двусторонним движением, у ее края росла розовая валериана, засиженная мухами. Я вышла с другого конца петли, там, где канал впадал в реку. На мосту, ведущем на остров Дентон, стояли двое загорелых босоногих парней в плавках, один тощий, а другой — жутко толстый, и пока я наблюдала за ними, первый прыгнул с бортика в мутную реку и размашистым кролем поплыл к берегу. Следом за ним толстяк оттолкнулся от бортика и плюхнулся в воду, подняв огромный столп брызг. Тут на мост поднялась девчонка в майке, шортах и абсолютно не сочетающихся с ними флуоресцентных зелено-розовых ботах от гидрокостюма. Второй парень не без усилий добрался до берега и крикнул: «Постоять рядом с тобой?», но его рыцарство было явно неуместным, поскольку девчонка с лягушачьим проворством сиганула головой вниз.
Я перешла Уз по широкому автомобильному мосту, который дважды в день поднимался, пропуская суда, плавающие туда и обратно. Не слишком привычное зрелище — промышленная река цвета нефти с темной, непроницаемой поверхностью. На стороне, ближней к морю, я заметила крайне уродливую скульптуру баклана, он сидел на полуразвалившемся молу, растопырив под солнцем крылья. Позади него причаливал паром из Дьеппа — именно здесь с корабля сошел изгнанник Луи-Филипп, последний французский король, отрекшийся от престола 6 марта 1848 года, он путешествовал вместе с женой под именем господин и госпожа Смит. Супруги остановились в отеле «Бридж», откушали, по отзывам «Таймс», обильный завтрак и получили от ворот поворот у местной аристократии, дабы закончить свои дни в благородном угасании. «Представители Орлеанского дома в Англии буквально бедствуют, — писал Виктор Гюго. — Двадцать два человека теснятся за одним столом и пьют воду». Луи-Филипп был королем-транжирой, его собственность во Франции была удержана за долги, причем, добавляет Гюго, семьдесят тысяч франков он задолжал своему огороднику за масло. Придворным удалось сохранить за собой лишь одежду, что была на них, да горстку украшений, но даже это оказалось крайне непросто.
В театре Тюильри стояли три длинных стола, и на них было навалено все то, что февральские революционеры передали управляющему Тюильри, господину Дюран Сан-Аману. Это была причудливая смесь: запятнанные и рваные придворные платья, вываленные в грязи ленты от ордена Почетного легиона, звезды иностранных орденов, сабли, бриллиантовые короны, жемчужные ожерелья, цепь от ордена Золотого руна и т. д. Законные представители принцев, адъютант или секретарь, брали то, что опознавали. Как выяснилось, востребованы были считаные вещи. Герцог де Немур скромно попросил вернуть белье и, главное, туфли на прочной подошве.
•
Становилось жарче, и я почувствовала раздражение и голод. Мне хотелось отправиться на пляж, скинуть с себя влажную одежду и вволю поплавать, а потом съесть сытный сэндвич и выпить бутылку пива. В Сифорде наверняка есть кафе или маленький бар — зайду туда и отмечу завершение похода. Итак, я, стиснув зубы, решила проигнорировать Ньюхейвен, а вместо того повернула на восток и по Узскому маршруту двинулась к старому речному руслу, тянущемуся вдоль сифордского пляжа. На карте все выглядело проще простого: по Бич-роад дойти до железнодорожной станции Ньюхейвен-Харбор и отыскать там дорожку, идущую параллельно морю. Но Бич-роад долго меня вела вдоль запущенных домиков с немытыми окнами, пока я не очутилась в абсолютно безлюдном районе, жутком, как ночной кошмар. Я миновала отвратного вида паб, названный явно в честь инженера Джона Смитона, фабрику, выпускающую ручки «паркер», две стоянки для машин, затем начались кварталы обшарпанных офисных помещений и мастерских — их могли покинуть в шесть часов вечера в пятницу, а могли и десятилетия назад. Пустынные здания наводили ужас. Я не могла избавиться от ощущения, что мне кто-то смотрит в затылок, хотя не встретила здесь ни души, кроме двух мужчин на черной «субару», дважды неторопливо прокатившей мимо. Чисто случайно я вышла к станции, но при виде забора из сетки, а за ним загона, заполненного грузовиками, не выдержала. Здесь просто не могло оказаться нужной дороги. Я резко развернулась и потопала назад.
Вернувшись на А259, я рухнула под кусты карликового боярышника и внимательно всмотрелась в карту. Судя по всему, рядом была еще одна дорога, она пересекала угол заказника и сливалась с той самой ненайденной тропой. Отлично. Я опять понуро побрела по Бич-роад, обливаясь потом и ругая себя почем зря. Разумеется, я опять ничего не нашла. Мне не хотелось изучать карту среди облупившихся домов, густо затянутых вьюнком, и в отчаянии я свернула на школьный двор и вдруг приметила за ним дорожку, идущую через низкорослый лес в нужном, как я надеялась, направлении.
Несмотря на зелень вокруг, здесь было немногим приятнее, чем на улице. Ощущение замкнутого пространства теперь создавали деревья, и кончилось дело тем, что я проглотила гордость и сломя голову промчалась под низкими сводами, образованными платанами и орешником, их ветви так густо переплелись, что под ними царил полумрак. Вся в поту я вынырнула наружу, но счастье длилось недолго. Это была не та дорога, совершенно не та. Я слишком сильно отклонилась на север, и теперь от моря меня отделял почти километр непролазных камышовых зарослей — ни туда ни сюда.
Черт! Я сбросила рюкзак и пнула его ногой. Вытащила бутылку с водой и жадно выхлебала остаток теплой жидкости. Должно быть, это заповедник «Устье реки Уз» — на эту мысль меня навели скамейки, велосипедные дорожки и деревянные загородки с зазорами, судя по всему, для наблюдения за птицами. Заповедник был создан несколько лет назад как компромисс между индустрией и защитниками природы, чтобы свести на нет вред от близлежащих магистралей и промышленной зоны. Несмотря на десять веков осушительных работ, территория по-прежнему часто заболачивалась и использовалась как затопляемая пойма, когда вода поднималась чересчур высоко, уменьшая риск наводнений в Ньюхейвене и радуя болотных птиц. Наводнение! Дождя не было вот уже несколько недель. Земля была абсолютно сухой, и склоненные камыши, сохранившие у корней влагу, походили на покрывшийся ржавчиной океан, тонкие, как бумага, листья, задевая друг друга, шелестели, словно подражая шепоту моря. Да уж, попала я в оборот! Единственный способ отсюда выбраться — это выйти на дорогу и двигаться по ней в обход по направлению к автомобильной стоянке в Тайд-Миллсе. Я взглянула поверх камышей туда, где находились развалины, и увидела яркий зловещий блеск. Суббота, летнее солнцестояние. Ад кромешный.
•
Заповедник был полон бегунов трусцой и велосипедистов, ленивый людской поток тек бесцельно и довольно быстро. Я пробивалась вперед, едва слышно сыпля проклятиями, а при выходе на А259 выругалась от души и лишь затем наконец, свернула в сторону моря. Обе автомобильные стоянки были запружены машинами, не поместившиеся были брошены на подъезде. В остальном место выглядело мало обихоженным, кругом волнами расстилались костер и заячий ячмень, перемежающиеся с яркими полосками щавеля и мальвы. Впереди, за буйством зелени я различила разрушенные стены высотой в человеческий рост, а за ними грязный канал с галечным берегом, струйка воды с глинистым дном. Домики-развалюхи были сложены из песчаника, наиболее распространенного материала в этих краях, там и сям угадывались оконные и дверные проемы. Это все, что осталось от брошенной деревни Тайд-Миллс, построенной в восемнадцатом веке и когда-то бывшей самой большой в Европе. Здесь жило более тысячи работников мельницы, которая в лучшие времена давала до полутора тысяч мешков муки в неделю.
Чтобы понять, что тут стряслось, необходимо на миг возвратиться к истории Уза, поскольку деревня Тайд-Миллс всегда зависела от милостей воды. В Средние века из-за непрестанных прибрежных наносов в устье образовалась галечная коса, заставившая реку размыть болотистый берег и течь на восток по направлению к Сифорду. В царствование Генриха VIII местные землевладельцы прорыли в Ньюхейвене протоку, превратив крошечную деревушку Мичинг в нынешний динамично развивающийся порт. Однако канал быстро пришел в негодность, главным образом из-за того, что какие-то болваны построили на его восточной стороне пирс, там, где он физически не мог помешать образованию галечных отмелей и бугров. Почвы вокруг снова заболотились, а река проделала новое устье. Хотя канал в дальнейшем привели в порядок, а пирс перенесли в подобающее место, петляющий ручей никуда не делся, и в 1761 году на его берегах была построена мельница, которую приводили в действие волны, а по ручью ходили баржи, подвозившие кукурузу и забиравшие муку. Под руководством обаятельного Уильяма Кэтта дело процветало, говорят, он даже не раз ездил во Францию, чтобы посоветовать Луи-Филиппу, тогда еще королю, действовать по аналогичной схеме.
Упадок начался с аннулирования в 1846 году закона о кукурузе. Несколько лет спустя умер Кэтт, а еще через двадцать лет во время страшного шторма море затопило деревню вместе с домами, поломав мельницу, да так, что ее нельзя было починить. В 1883 году следующий шторм завершил начатое, разбив крылья мельницы в мелкие дребезги, а годом позднее железная дорога достигла Ньюхейвена. Гавань отошла во владение Железнодорожной компании, открывшей на Восточном причале пункт приема иммигрантов, как раз в том месте, где от реки отделялся ручей. Для выравнивания уровней воды был построен шлюз, но он не подходил для барж, мельница закрылась. Первым из ее новых воплощений стал барак для железнодорожных рабочих.
Позднее ее превратили в конюшню для рысаков, затем в больницу для мальчиков, страдающих полиомиелитом и рахитом. В начале Второй мировой войны оставшиеся в деревни семьи — Дженнеры, Бейкеры, Ларкины, Таббы, Гиринги, Томпсоны, Уотсоны и Гейты — были выселены, а дома снесены в рамках Стратегии береговой обороны, чтобы в них не укрылись немецкие захватчики. В 1940-е годы среди руин отрабатывали уличные бои канадцы, а после войны деревня была брошена на произвол судьбы, в оставшиеся без крыш дома волны намели гальку, которая со временем заросла маком и бузиной. Я пересчитала поселившихся здесь гадюк, они грелись на солнышке под стенами, где когда-то росли груши на шпалерах, — в этом мире одно население сменяет другое до той поры, пока игра не заканчивается и сорняки не прекращают цвести. В последние несколько лет разрушительные процессы приостановились, если не обратились вспять. Тайд-Миллс попала в поле зрения Суссекского археологического общества, и в начале нового тысячелетия под эгидой Королевской комиссии и службы «Английское наследие» сюда завезли партию заключенных на испытательном сроке, которые убрали мусор, вырубили ежевику и расчистили фундаменты домов, отгребая лопатами коричневые, голубые и кремовые камни. Позднее местные историки начали собирать архив фотографий и воспоминания о меняющемся облике деревни. Помимо больницы и мельницы, во время Первой мировой войны здесь размещались также радиостанция Маркони и база гидросамолетов, сражавшихся с подводными лодками в Ла-Манше.
Какой-то мужчина вывесил в интернете подборку фотографий, сделанных его дедушкой, — самолеты, проносящиеся по коричневым небесам или опускающиеся на темные волны. Бóльшая часть снимков была подписана авторучкой и для надежности приклеена на бумагу, два из них запечатлели обломки самолета, врезавшегося в волнорез, в этой катастрофе погибли лейтенанты Коул и Китчен. Фотограф Генри Росс Алдерсон также погиб молодым, разбился на мотоцикле, когда ему было тридцать. Вверху странички располагалась его фотография: симпатичный парень в кожанке и летных очках стоял на пляже, отбрасывая тень на запад. Некоторые снимки были сделаны с воздуха, на одном с пухлыми кучевыми облаками заглавными буквами значилось: МИР ГРЕЗ. Это царство, не отмеченное ни на одной карте, человек посещал лишь во сне, пока, к всеобщей радости, не изобрели воздушный шар, биплан и пакетный тур на лоукостере «Изиджет».
Я перешагнула то, что осталось от потока, когда-то приводившего в движение мельничье колесо, — застоявшуюся лужицу, которая во время сильного прилива превращалась в ручей, и оказалась на галечном берегу, сложенном из золотистых и кремниевых голышей. Некоторые были цвета хлеба, а некоторые раскрошились, обнажив темно-серые с голубым оттенком фаски. Берег резко обрывался, открывая взору армию людей, рассеянных по камням: у одних были удочки, у других — змеи, способные поднять в воздух человека. Отдыхающие оккупировали все побережье, заполонив его своим скарбом и досками для буги-серфинга, они лежали, перекликаясь, точно колония тюленей, а возле их ног туда-сюда носилась малышня. Перед ними до горизонта расстилалось море, светло-зелено-голубое, как медуза. Вопреки моим ожиданиям, оно было неспокойным, с большими волнами без гребешков. Наконец-то. Я присела на шпалу, рывком стащила брюки, поправила купальник, сбросила сандалии и стрелой помчалась к воде. Пляж резко шел под уклон. Через три шага мне было по пояс, а через шесть — уже по шею. Затем дно ушло из-под ног, меня обожгло холодом, и с минуту я барахталась, захлестнутая волной. Я изо всех сил старалась выплыть наверх, и с каждым рывком толща воды подо мной увеличивалась.
Какая прекрасная бухта! Какой замечательный день! Я сделала полный круг, неспешно, наслаждаясь видом — земля, казалось, вытянула вперед две известняковые руки, защищаясь от волн или же обнимая их. На востоке были видны все дороги на Сефорд-Хэд, а на западе по двум маякам угадывалось устье Уза, выбрасывающего в Ла-Манш тысячи тонн воды в минуту. А что если в эти грохочущие воды затесалась посторонняя молекула, которая проделала весь путь на юг по моим пятам, от истока под сенью дубов до глубоких оврагов Шифилд-парка, по гравию Шарпсбриджа и рыболовецким каналам Баркомб-Миллса, мимо пристаней Льюиса и через лабиринт Брукс? Я хмыкнула. Никаких признаков вельдской глины, одна сплошная соль — болтая ногами, я радостно валялась на берегу.
Расплата явилась позднее, когда мне пришлось грациозно подняться с гальки, чтобы обсохнуть и переодеться без помощи полотенца. Зрелище было не самым величественным, но все же я ухитрилась не особенно сверкать влажным телом перед пожилым джентльменом в панаме, глазевшим на меня сверху. У кромки воды играли две маленькие девочки, одна верещала как автомобильная сигнализация всякий раз, когда набегающая волна обрызгивала ей ноги.
Море стало ярко-синим, у поверхности растворяясь в свете. Леонард Вулф купался здесь в самом начале семейной жизни, когда они с Вирджинией жили в Эшеме. В те времена неподалеку от берега был пришвартован плот для ныряния, и 1 августа 1914 года Леонард Вулф, как обычно в то знойное лето, приехал сюда на велосипеде. Должно быть, день был вроде сегодняшнего, и он, доплыв до плота, нырнул с него и долго плыл под водой. Вынырнув, он «столкнулся с краснолицым богатырем, плывшим от берега. Я извинился, а он мне сказал будто мимоходом: „Вы знаете, что война?“». Это была правда, и, хотя из-за тремора в руках Леонард Вулф не сражался в армии, он публиковал книги и трудился в рядах Лейбористской партии ради дела мира, коль скоро у его жены и половины стран помутился рассудок. Бедный Леонард! Перед смертью в 1969 году он пребывал в убеждении, что варвары прорвались через заслоны. Я представила себе, как он в отчаянии, сгорбившись, слоняется по берегу, ведь он любил человечество в целом, хотя не слишком жаловал конкретных его представителей, лоснящихся под слоем крема от загара, с болтающимся под ногами орущим потомством.
Я поднялась на ноги, вскарабкалась наверх и нашла свою тропу, которая шла по дну мелкой извилистой канавы, вроде бы тянущейся на восток. Судя по всему, это были следы ручья Тайд-Миллс, высохшее русло, по нему текла тонкая струйка, когда зимнее море поднималось. Я обернулась, чтобы бросить прощальный взгляд на разрушенную деревню, на дома, превратившиеся в груды бревен. В перипетиях судьбы Тайд-Миллса было нечто символичное, если я приму этот урок, он явно пойдет мне на пользу. Но вместо того мне вдруг все привиделось в ином измерении, словно я перенеслась в другую эпоху. Если бы существовала возможность (нас бы наверняка парализовало, как смертных на острове сирен!) хоть глазком взглянуть на людей, которые будут ходить среди наших развалин — Дженнера, Бейкера, Ларкина, Таббса, Гиринга, Томпсона, Уотсона, Гейтса, которые сидели на цветущем лугу, не в силах ни шевельнуться, ни сделать вздох до тех пор, пока их кости не обратились в тлен. Слава богу, время течет лишь в одном направлении, мы смутно представляем себе прошлое и совсем не знаем будущего. При этом у каждого из нас имеются свои представления о том, что будет дальше, ведь при созерцании руин минувших веков становится очевидным, что наше время всего лишь мимолетная тень, а наши жизни — это тоже сказал Дерек Джармен? — пробегают как искры по небритой щетине.
Если своей одухотворенностью мы обязаны некоей искре, то ее наличие плохо вяжется со свойствами наших физических останков, их нежеланием полностью исчезать, тем более что ее посмертное местонахождение — тайна, которую еще только предстоит разгадать. Что такое наш мир? Нам внушают, что у нас имеется бесконечный выбор, однако слишком часто происходящее вовсе не зависит от нашей воли. Нам неизвестно, почему мы здесь, и, хотя мы способны по собственному желанию покинуть сей мир, ни один человек не в силах сдвинуть рамки отведенного ему срока или вернуть назад усопших, которых любил. С тех самых пор, как Христос, стоя у пещеры, где был похоронен Лазарь, приказал: «Встань и иди», никто не изобрел ни программы, ни зелья, ни заклинания для воскрешения мертвых. Те, кто ушел, отправились в никуда, и теперь они не помнят наших имен, совсем как Антиклея, мать Одиссея, которая, лишь испив крови овцы, принесенной Одиссеем в жертву подземным богам, на миг избавилась от беспамятства и обрела человеческие чувства,
Странное дело, но от этих безрадостных мыслей я повеселела. Все пустяки, любил повторять Леонард Вулф, и вместе с тем — всякий пустяк значим. В ложе реки, на этой территории исчезновения, я чувствовала себя легко и свободно. Растения, которые здесь прижились, сделали это наперекор всему, на сквозном ветру расцветая в выстеленных голышами блуждающих руслах. Они росли прямо на камнях, точно их сюда посадил фокусник, запустив корни в потайные залежи песчаной почвы: белая и золотистая заячья капуста с цветами-звездочками, желтый глауциум с остроконечными листьями и облетающими лепестками, скопления морских водорослей, листья самых невероятных форм, словно у них клоки выдрал вихрь.
На ходу я грызла яблоко. Вокруг не было ни души, хотя я знала, что под каждым мостом полно народа. Мне не хотелось домой, это правда, но при этом я чувствовала себя абсолютно счастливой, словно мне уже доводилось здесь бывать, мерно шагать под голубым небосводом по открытому туннелю, когда снаружи зима. Впереди, в тени одного их холмов, возвышавшихся над Сифордом, примостилась стоянка для автофургонов. На меня неумолимо надвигался город, а я так и брела, словно во сне, среди жаворонков и валерьяны. Я чувствовала себя раскованной и почти невесомой, такое ощущение иногда появляется после плавания в живительной морской воде. Но это еще не все. Мне казалось, будто я провалилась в другой мир, сообщающийся с нашим, и, хотя меня в любой миг могло вытолкнуть обратно, не исключено, что я уже наловчилась самостоятельно перемещаться вверх и вниз. Мне показалось смешным, что я иду по поросшему травой дну старого русла Уза и, поскольку меня никто не видел, никто меня не одернул, несколько шагов я прошлась вальсом, точно маленькие сказочные человечки из «Черри из Зеннора», пляшущие до упаду на дне родника.
•
В самом конце дороги находился яхт-клуб. Возле него на лавочке сидела пожилая чета и наблюдала за неотвратимо отступающей водой. Я поздоровалась, а в ответ старик заметил: «Вы ходите куда прытче меня», и мне захотелось ему рассказать, что я прошла всю реку, от истока до устья, но вместо этого улыбнулась: до чего дружелюбны люди, когда ты пришлый, с рюкзаком за спиной. Меня по-прежнему влекла вперед мысль о еде, и по набережной я двинулась к городу. На пляже яблоку негде было упасть: кто-то купался, кто-то ловил рыбу, и ряды белых и розовых тел тянулись до самого Сифорд-Хэда. От жары у меня кружилась голова, а кожу покрыла соляная корка. По пути мне не встретилось ни одного кафе, хотя я прошла много дальше, чем собиралась. В конце концов, я сдалась и купила якобы клубничное мороженое с явственным привкусом растительного жира. После завтрака я ничего не ела, за исключением яблока и горстки овсяных крошек, и, пока я лизала сладкий батончик, меня вдруг посетила мысль: а что если это заменитель зернышек граната, которыми Аид угостил Персефону, и я навсегда застряну в царстве мертвых? Как это могло бы случиться с Черри, сказка о которой завершается такими словами: «Долго сидела Черри на придорожном камне и плакала. Потом встала и медленно, понуро побрела домой в Зеннор. Мать с отцом давно уж оплакали ее, думая, что дочери нет в живых. Она рассказала им свою странную историю, и они сначала не поверили ей. Потом, конечно, поверили, но Черри с тех пор сильно изменилась. Соседи говорили, что она повредилась в уме. Каждую лунную ночь выходила она к развилке и долго бродила там в ожидании Робина, но он так и не пришел за ней».
Я поднялась на перрон как раз в тот момент, когда отходила электричка на Брайтон. Раздумывать было некогда. Все кончено. Еду домой. Я прижалась лицом к стеклу и смотрела на места, которые прошла пешком. На сиденье позади меня мрачный круглолицый мужчина разговаривал по мобильному телефону: «Я пришлю тебе телефон Парки по СМС. Да, я знаю Лоуренса, он учился в Итоне». За окном холмы Даунс исчезли, заслоненные стеной набухших грозовых туч. Одна из них росла прямо у меня на глазах, перевоплощаясь в подпорные стены, нависшие глыбы и светло-голубые глубокие рвы. Казалось, что мир за холмами пережил мощный взрыв, что его разбомбили вдребезги. Но разве не так же мы движемся, между ничем и ничем, по жизненной полосе, где клонится на ветру амброзия? «Точно полоска асфальта над бездной» — однажды сказала Вирджиния Вулф. И если она права, то наш единственный дом находится здесь. На этой грешной земле. Мы пересекли реку и порвали с прошлым, а в пустынных полях по-прежнему разливается жаворонок, поет ей хвалебную оду.
БИБЛИОГРАФИЯ
I ОЧИЩЕНИЕ
The Letters of Virginia Woolf / Eds. N. Nicolson, J. Trautman. 6 vols. Hogarth Press, 1975–1980.
II К ИСТОКУ
Brook T. The End of Mantell’s Spine // Newsletter of the History of Geology Group of the Geological Society of London. Number 31, September 2007.
Cadbury D. The Dinosaur Hunters. Fourth Estate, 2000.
Camden W. Camden’s Britannia [1789] / Annotated and ed. G. J. Copley. Hutchinson, 1977.
Cleere H., Crossley D. The Iron Industry of the Weald [1985]. Merton Priory Press, 1995.
Dealny M. C. The Historical Geography of the Wealden Iron Industry. Benn Brothers Ltd., 1921.
Edmonds W. The Iguanodon Mystery. Kestrel Books, 1979.
Fitter R., Fitter A., Blamey M. Wild Flowers of Britain and Northern Europe [1974]. Collins,1996.
Jeffrey D. L. A Dictionary of Biblical Tradition in English Literature. Ethics & Public Policy Center, 1996.
Jenkins R. The Rise and Fall of the Sussex Iron Industry (transcript of a talk read at the Iron and Steel Institute, Westminster, on 27 January 1921).
Lloyd-Taylor A. Wealden Iron and Worth. 1972 (for private circulation).
Mantell G. The Journal of Gideon Mantell / Ed. with an introduction and notes by E. C. Curwen. Oxford University Press, 1940.
McCarthy E., «Mac». Sussex River: Journeys Along the Banks of the River Ouse: Seaford to Newhaven. Lindel Organisation Ltd., 1975.
McCarthy E., «Mac». Sussex River: Journeys Along the Banks of the River Ouse: Newhaven to Lewes. Lindel Organisation Ltd., 1977.
McCarthy E., «Mac». Sussex River: Upstream from Lewes to the Sources. Lindel Organisation Ltd., 1979.
Owen T., Anderson P. The Sussex Ouse Valley Way. Per-Rambulations, 2005.
Parish R. W. D. A Dictionary of the Sussex Dialect [1875]. Snake River Press, 2008.
Sisters of the Earth / Ed. L. Anderson. Vintage, 1991.
The Shaping of Southern England / Ed. D. K. C. Jones. Academic Press, 1980.
The Wakefield Mystery Plays / Ed. M. Rose. Norton, 1969.
Willard B. Sussex. Batsford, 1965.
Wooldridge S. W., Goldring F. The Weald [1953]. Collins, 1972.
III ПОГРУЖЕНИЕ
Bede: His Life, Times and Writing / Ed. A. H. Thompson. Oxford University Press, 1935.
Biggam C. P. Whelk Dyes and Pigments in Anglo Saxon England // Anglo Saxon England. Vol. 35. Cambridge University Press, 2006.
Ehrlich P., Dobkin D., Wheye D. The Birder’s Handbook. Simon & Schuster, 1988.
Everyman and Medieval Miracle Plays [1956] / Ed. A. C. Cawley. Everyman, 1993.
Grahame K. Pagan Papers [1893]. General Books, 2009.
Grahame K. The Golden Age [1895]. Aegypan Press, 2010.
Graves R. Greek Myths. 2 vols. Penguin, 1957.
Hekinian R., Stoffers P., Cheminee J.-L. Oceanic Hotspots: Intraplate Submarine Magmatism and Tectonism. Springer, 2004.
Henderson G. Vision and Image in Early Christian England. Cambridge University Press, 1999.
Jeffries R. Landscape with Figures: An Anthology of Richard Jeffries’s Prose / Ed. R. Mabey. Penguin, 1983.
Prince A. An Innocent in the Wild Wood. Allison & Busby, 1996.
Ramachandran V. S., Rogers-Ramachandran D. How Blind Are We? // Scientific American Mind. June 2005.
Stace C. New Flora of the British Isles. Cambridge University Press, 1997.
Thomas E. One Green Field (first published as «The Heart of England» [1906]). Penguin, 2009.
Virgil. The Aeneid / Trans. F. Ahl. Oxford World’s Classics, 2008.
Vision in Context / Eds. T. Brennan, M. Jay. Routledge, 1996.
IV ПРОБУЖДЕНИЕ
Adams T. Marriage Made in Heaven // The Observer. 18 March 2001.
Amis M. Age Will Win // The Guardian. 21 December 1991.
Bayley J. Iris: A Memoir of Iris Murdoch. Duckworth, 1998.
Beamish T. Battle Royal. Frederick Muller, 1965.
Blaauw W. H. The Barons’ War. Nicholls & Son, 1844.
Carpenter D. The Battles of Lewes & Evesham 1264/65. Mercia Publications, 1987.
Conradi P. J. Iris. HarperCollins, 2001.
Fleming B. The Battle of Lewes 1264. J&KH Publishing. 1999.
Labarge M. W. Simon de Montfort. Cedric Chilvers, 1962.
Maddicott J. R. Simon de Montfort. Cambridge University Press, 1994.
Paris M. Chronicles of Matthew Paris / Trans. R. Vaughan. Sutton, 1984.
Powicke Sir M., Treharne R. F., Lemmon Lt. Colonel Ch. H. The Battle of Lewes 1264: its Place in English History. The Friends of Lewes Society, 1964.
Sadler J. The Second Barons’ War. Pen & Sword, 2008.
Segal J. Kleos and its Ironies // Reading the Odyssey / Ed. S. L. Schein. Princeton University Press, 1996.
Turk T. A Victorian Diary of Newick 1875–1899. Tony Turk, 1999.
Vaughan R. Chronicles of Matthew Paris. Alan Sutton, 1984.
Waley D. Simon de Montfort and the Historians // Sussex Archaeological Collections 140. Sussex Archaeological Society, 2002.
Woolf V. Moments of Being (first published Sussex University Press [1976]) / Ed. J. Schulkind. Pimlico, 2002.
V РАЗЛИВ
An Historical Atlas of Sussex / Eds. K. Leslie, B. Short. Phillimore, 1999.
Anon. The Anglo-Saxon Chronicle [1823] / Trans. J. Ingram. Echo Library, 2007.
Brandon P. F. The Origin of Newhaven and the Drainage of the Lewes and Laughton Levels // Sussex Archaeological Collections CIX. Sussex Archaeo logical Society, 1971.
Brandon P., Short B. The South East from AD 1000. Longman, 1990.
Browne Th. Hydrotaphia and the Garden of Cyrus [1895] / Ed. W. A. Greenhill. Macmillan, 1929.
Cracknell B. Outrageous Waves: Global Warming & Coastal Change in Britain through Two Thousand Years. Phillimore, 2005.
Dawson Ch., Woodward A. S. On the Discovery of a Palaeolithic Human Skull and Mandible in a Flint-bearing Gravel Overlying the Wealden (Hastings Beds) at Piltdown, Fletching (Sussex) // Quarterly Journal of the Geological Society 1913. Vol. 69.
Eddison J., Green Ch. Romney Marsh: Evolution, Occupation, Reclamation. Oxford University Committee for Archaeology: Monograph 24. 1988.
Ellis Sir H. Commissioners of Sewers for the Lewes Levels // Sussex Archaeological Collections X. Sussex Archaeological Society, 1858.
Environment Agency. Adur and Ouse Catchment Abstraction Management Strategy: Final Strategy. Environment Agency, 2005.
Environment Agency. Lewes Flood Report: March 2001. Environment Agency, 2001.
Evans P. Lost Horizons // The Guardian. 27 February 2008.
Fagan B. The Little Ice Age. Basic Books, 2001.
Farrant J. H. The Evolution of Newhaven Harbour and the Lower Ouse before 1800 // Sussex Archaeological Collections CX. Sussex Archaeological Society, 1972.
Green P. Finding Ithaca // New York Review of Books. Vol. 53. Number 19. 2006.
Hartley D. Water in England. Macdonald, 1964.
Holford-Strevens L. Sirens in Antiquity and the Middle Ages // Music of the Sirens / Eds. L. Ph. Austern, I. Naroditskaya. Indiana University Press, 2006.
Houghton J. The Great River of Lewes. Parchment Ltd., 2002.
Houghton J. Unknown Lewes. Tartarus Press, 1997.
Loyn H. R. Anglo-Saxon England and the Norman Conquest. Longman, 1962.
Millar R. The Piltdown Mystery. S. B. Publications, 1998.
Russell M. Piltdown Man: The Secret Life of Charles Dawson. Tempus, 2003.
The Agrarian History of England and Wales Volume II, 1042–1350 / Ed. H. E. Hallam. Cambridge University Press, 1988.
The Archaeology of Sussex to AD 2000 / Ed. D. Rudling. Heritage, 2003.
The Domesday Geography of South-East England / Eds. H. C. Darby, E. M. J. Campbell. Cambridge University Press, 1962.
The South Saxons / Ed. P. Brandon. Phillimore, 1978.
Thomas A. The Lewes Flood. S. B. Publications, 2001.
Thorburn M. The Lower Ouse Valley: A History of the Brookland. Withy Books, 2007.
Weiner J. S. The Piltdown Forgery [1955]. Oxford University Press, 2003.
What on Earth is under Sussex?: A Series of Essays Exploring the History of Geology in Sussex / Ed. A. Brook // Journal of West Sussex History. 77, 2009.
Woolf V. Greek & Latin Notebooks, 1907–1909. Unpublished (Monks House Papers University of Sussex Special Collections).
VI ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДАМЫ
Bell J. Monk’s House and the Woolfs // Virginia Woolf’s Rodmell / Ed. M. McQueeney. Rodmell Village Press, 1991.
Briggs J. Virginia Woolf: An Inner Life. Penguin, 2006.
Brosnan L. Reading Virginia Woolf’s Essays and Journalism. Edinburgh University Press, 1999.
Caramagno Th. C. The Flight of the Mind: Virginia Woolf’s Art and Manicdepressive Illness. University of California Press, 1992.
Dillard A. Pilgrim at Tinker Creek. Harper’s Magazine Press, 1974.
Einsley L. The Immense Journey. Vintage, 1957.
Hansen C. The Life and Death of Asham: Leonard and Virginia Woolf’s Haunted House. Cecil Woolf Bloomsbury Heritage Series. 2000.
Hughes T. Birthday Letters. Faber, 1998.
Interviews and Recollections / Ed. J. H. Stape. Macmillan, 1995.
Lee H. The Novels of Virginia Woolf. Methuen, 1977.
Lee H. Virginia Woolf. Chatto & Windus, 1996.
Light A. Mrs Woolf and the Servants. Fig Tree, 2007.
Luckhurst N., Ravache M. Virginia Woolf in Camera. Bloomsbury Heritage Series 31. 2001.
Luke H. M. The Way of Woman. Gill & Macmillan, 1995.
Nicolson N. Virginia Woolf. Weidenfeld & Nicolson, 2000.
Noble J. R. Recollections of Virginia Woolf by Her Contemporaries (first published Peter Owen [1972]). Cardinal, 1989.
Poole R. The Unknown Virginia Woolf [1978]. Cambridge University Press, 1995.
Spatter G., Parsons I. A Marriage of True Minds. Hogarth Press, 1977.
Woolf L. Beginning Again. Hogarth Press, 1964.
Woolf L. Downhill All the Way. Hogarth Press, 1967.
Woolf L. Growing. Hogarth Press, 1961.
Woolf L. Sowing. Hogarth Press, 1960.
Woolf L. The Journey Not the Arrival Matters. Hogarth Press, 1969.
Woolf V. A Terrible Tragedy in a Duck Pond. Unpublished Story (Monks House Papers, Special Collections, University of Sussex Library).
Woolf V. A Writer’s Diary / Ed. L. Woolf. Hogarth Press, 1953.
Woolf V. Collected Essays. 4 vols. / Ed. L. Woolf. Chatto & Windus, 1996–1997.
Woolf V. Greek and Latin Studies. Unpublished Notebook (Monks House Papers, Special Collections, University of Sussex).
Woolf V. Selected Short Stories / Ed. with an introduction and notes by S. Kemp. Penguin, 1993.
Woolf V. The Captain’s Death Bed and other essays. Hogarth Press, 1950.
Woolf V. The Complete Shorter Fiction / Ed. S. Dick. Harvest, 1989.
Woolf V. The Death of the Moth and other essays. Hogarth Press, 1942.
Woolf V. The Moment and other essays. Hogarth Press, 1947.
Woolf V. The Platform of Time: Memoirs of Family and Friends. Hesperus, 2007 (republished with new material, 2008).
Woolf V. The Voyage Out. Duckworth, 1915.
Woolf V. The Watering Place. Unpublished draft of Woolf ’s Last Story (Monks House Papers, Special Collections, University of Sussex Library).
Zwerdling A. Virginia Woolf and the Real World. University of California Press, 1986.
VII ПРИТЧА БЕДЫ ДОСТОПОЧТЕННОГО О ВОРОБЬЕ
Between Earth and Sky / Ed. N. Philip. Penguin, 1984.
Farrant J. Sussex Depicted: Views and Descriptions 1600–1800. Sussex Record Society. Vol. 85. 2001.
Glendinning V. Leonard Woolf. Simon & Schuster, 2006.
Hemingway E. Across the River and into the Trees. Penguin, 1966.
Jarman D. Chroma. Chatto & Windus. 1994. [Рус. изд.: Джармен Д. Хрома. Книга о цвете. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.]
Love Letters: Leonard Woolf & Trekkie Ritchie Parsons 1941–1968 / Ed. J. Adamson. Chatto & Windus, 2001.
Lucas E. V. Highways and Byways of Sussex. Macmillan, 1904.
VIII СПАСЕНИЕ
Hugo V. The Memoirs of Victor Hugo [1899] / Trans. J. W. Harding. Bastian Books, 2008.
БЛАГОДАРНОСТИ
В первую очередь я хочу поблагодарить Роберта Макфарлейна и Роберта Маккрама: они оба очень мне помогли осуществить этот проект и были бесконечно ко мне добры.
Когда я писала настоящую книгу, то с огромным удовольствием беседовала и переписывалась с людьми, куда более знающими, чем я. Я хочу выразить благодарность Каролайн Арчер за то, что поселила меня в Навигейшн-коттедже; Джулиану Баркер — за разъяснения по ботанике и по поводу глауконитового песка; Джону Бличу из Суссекского археологического общества — за терпеливый рассказ о топографии битвы при Льюисе, он также сообщил мне о телах, погребенных под железнодорожной насыпью; Яна Данфорда из Археологического и музейного партнерства Восточного Суссекса — за ответы на бесконечные вопросы по археологии; Анну Фьюстеп — за блестящие суждения о книгах Вирджинии Вулф; Элисон Лайт — за подсказку двух цитат, которые я бы сама никогда не нашла; Хелен Макдональд — за прекрасную карту и помощь с распознаванием птиц; персонал Архива Берга в Нью-Йоркской публичной библиотеке, Брайтонскую библиотеку, Архив графства Восточный Суссекс, Льюисскую библиотеку и Университет специальных библиотечных коллекций Суссекса, где, к счастью, хранится большая часть архива Вирджинии Вулф; Сару Пирсон, куратора архива музея Хантериан, — за сведения о реальной судьбе позвоночника Гидеона Мантелла; Уилла Пилфолда и Маргарет Пилкингтон из «Ривер Уз проджект» — за ответы на вопросы о землях, регулярно затопляемых водами; Сэма Сент-Пьера из Суссекского Узского общества сохранения природных ресурсов; Лиз Уильямс из Общества железнодорожных земель — за помощь в идентификации птиц; Натана Уильямса — за находку народных песен и местных баллад.
Мне бесконечно повезло с издателями, в частности, я в огромном долгу перед Ником Дейвисом, моим редактором, чей энтузиазм, деликатность и проницательность глубоко ценю. Помимо того, мне хотелось бы поблагодарить весь коллектив издательства «Канонгейт» и в особенности Нору Перкинс и Энни Ли. Я также очень благодарна моему литературному агенту Джессике Уллард и коллективу агентства «Марч».
Мне повезло с замечательными читателями, познакомившимися с книгой еще на стадии рукописи, и среди них хочу назвать Роберта Дикинсона, Дениз Лэнг, Юна Фергюсона, Питера Лэнга, Элизабет Дей, Хэлен Макдональд и Уильяма Скиделски — всем им большое спасибо. Отдельно мне хотелось бы упомянуть Джин Ханну Эдельстен, выпускающую лучшие в своем роде путеводители и неформально относящуюся к своей работе. Хочу также выразить свою признательность Стюарту Кроллу, Крэл Дейвис, Тому де Грюнвальду, Грейс Данфорд, Мауд Фриментл, Тони Гэммиджу, Барбаре Хауден Ричардс, Кити Лэнг, Робину Макки, Лили Стивенс и Кэрол и Чарльзу Вильерс за их интерес и поддержку, а также Мэтту Эшу, который первым привез меня к реке.
Разумеется, все ошибки и недочеты остаются на моей совести.
[1] Чеслав Милош. «Я подолгу сплю». Пер. с польск. В. Британишского. — Здесь и далее приводятся примечания переводчика.
[2] Вулф В. Дневник писательницы. 18 августа 1921 года / Пер. с англ. Л. Володарской.
[3] Пер. с англ. Г. Кружкова (целиком стихотворение на русский язык не переводилось).
[4] Пер. с англ. А. Сергеева.
[5] Каллимах. Гимн на омовение Паллады / Пер. с древнегреч. С. Аверинцева.
[6] Имя Вирджиния происходит от латинского virginea — «девичья, девственная».
[7] Пер. с англ. С. Маршака.
[8] Мыс в проливе Па-де-Кале, на юго-востоке графства Кент.
[9] Стекло зеленоватого цвета, изготавливавшееся с добавлением древесной золы.
[10] Персонажи ярмарочного балагана.
[11] Вымершие головоногие моллюски.
[12] Двухстворчатые моллюски.
[13] Вулф В. Между актов / Пер. Е. Суриц.
[14] Там же.
[15] Аллюзия на строку из поэмы Т. Элиота «Драй Селвэйджес» — «река — это коричневая богиня». Пер. с англ. А. Сергеева.
[16] Река в Ирландии, протекающая через Дублин.
[17] Сказочная повесть шотландского писателя Кеннета Грэма.
[18] Поэма Т. Элиота.
[19] Шекспир У. Сон в летнюю ночь / Пер. М. Лозинского.
[20] Грэм К. Ветер в ивах. Здесь и далее пер. с англ. И. Токмаковой.
[21] Вулф В. Своя комната / Пер. с англ. Н. Рейнгольд.
[22] Байетт А. Детская книга / Пер. с англ. Т. П. Боровиковой.
[23] Восстание Монмута — неудачная попытка свергнуть в 1685 году короля Якова II.
[24] Томас Рифмач — шотландский бард XIII века, персонаж кельтского фольклора, герой одноименной баллады.
[25] Лори Ли (1914–1997) — английский поэт и прозаик.
[26] Крупное сражение, состоявшееся 25 октября 1415 года между французскими и английскими войсками близ местечка Азенкур в Северной Франции во время Столетней войны.
[27] Глава сопротивления баронов королю Англии Генриху III.
[28] Шекспир У. Буря / Пер. М. Донского.
[29] Модель британского самолета.
[30] Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат. В. Эрлихмана. СПб.: Алетейя, 2003. Здесь и далее текст цитируется по этому изданию.
[31] Избивая границы — речь идет о так называемом избиении границ, древнем обычае, до сих пор сохраняющемся в некоторых английских деревеньках. Каждый год в Великий четверг или в день Вознесения Христова мальчики во главе со священниками отыскивают все пограничные знаки и указатели и бьют их палками. Такое напоминание о границах деревни было способом разрешения споров о разделе территории во времена, когда не было карт и других официальных документов о границах.
[32] Остров у северо-восточного побережья Англии, колыбель христианства.
[33] Стихотворение Уильяма Блейка из предисловия к его эпической поэме «Мильтон» (1804). Положенное на музыку в 1916 году композитором Хьюбертом Пэрри, оно получило широкую известность как гимн «Иерусалим» и стало неофициальным гимном Англии.
[34] Ручьи (англ. brooks).
[35] Мёрдок А. Море, море / Пер. с англ. М. Лорие.
[36] Иначе — «Оксфордские условия».
[37] Иначе — Амьенское соглашение.
[38] По-английски Terrible Down.
[39] Прозвище, данное Оливеру Кромвелю и его солдатам за стойкость и мужество.
[40] По-английски Winterbourne («зимний ручей»).
[41] Быт. 6: 11–12.
[42] Быт. 8: 21.
[43] Маршак С. Я. Томас Рифмач.
[44] На месте нахождения (лат.).
[45] От греческих eos — «заря, рассвет, начало» и anthropos — «человек».
[46] Вулф В. Миссис Деллоуэй / Пер. с англ. Е. Суриц.
[47] Кавафис К. Итака / Пер. с греч. С. Ильинской.
[48] Уильям Моррис (1834–1896) — английский поэт, прозаик, художник и издатель, представитель второго поколения прерафаэлитов.
[49] Дрифтерные (или плавные) сети представляют собой очень длинное сетное полотно, которое рыба не расценивает как преграду, поэтому сильно натягивает ячеи, намертво в них запутываясь.
[50] Томас Браун (1605-1682) — британский медик, один из крупнейших мастеров английской прозы эпохи барокко, автор литературных «опытов» на оккультно-религиозные и естественнонаучные темы.
[51] Бёрнс Р. Любовь / Пер. с англ. С. Маршака.
[52] Запись от 5 ноября, 1940 г.
[53] Запись от 29 ноября 1940 г.
[54] Запись от 24 декабря 1940 г.
[55] Шекспир У. Гамлет / Пер. с англ. М. Лозинского.
[56] Там же.
[57] Misery по-английски «страдание, горе, мучение».
[58] Пс. 74: 8–10.
[59] Веслеянцы (методисты) — одна из номинаций протестантизма.
[60] Хемингуэй Э. За рекой, в тени деревьев / Пер. с англ. Е. Голышевой.
УДК 821.111-311.1:75.071.1(73) “19”
ББК 84(4Вел)6-442.3+85.143(7Сое)6-8
Л92
Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современного искусства «Гараж» и ООО «Ад Маргинем Пресс»
Предприняв все усилия, чтобы най-ти и упомянуть правообладателей фотоматериалов, использованных в этой книге, издатель приносит извинения за любые упущения или ошибки, которые будут исправлены в следующих изданиях.
This edition is published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE and The Van Lear Agency LLC
Перевод — Александра Соколинская
Редактура — Мария Томашевская
Дизайн — Анна Сухова
Л92
Лэнг, Оливия
К реке. Путешествие под поверхностью / Оливия Лэнг. — М. : Ад Маргинем Пресс,
Музей современного искусства «Гараж», 2019. — 292 с. : ил. —
ISBN 978-5-91103-490-0
Более чем через шестьдесят лет после того, как Вирджиния Вулф утонула в 1941 году, Оливия Лэнг (род. 1977), английская писательница и критик, прошла весь путь вдоль реки Уз в графстве Суссекс: от истока до Сифорда, где река впадает в море. Результатом этого путешествия стало глубокое исследование того, как история живет в ландшафте, и того, как призраки никогда не покидают любимые места. Лэнг поднимает с заболоченных берегов Уза различные истории — от жестокой Баронской войны в XIII веке до «охотников на диназавров» в девятнадцатом, — вспоминает Шекспира, Гомера, Айрис Мердок и Кеннета Грэхема, автора прибрежной классики «Ветер в ивах», и рассматривает роль рек в человеческой жизни, прослеживая их запутанный поток в литературе и мифологии. Но центральным из всех призраков остается Вирджиния Вулф, постоянная компаньонка Лэнг в этом путешествии, поэтому книгу можно прочесть и как биографию этой уникальной английской писательницы: памятник текучести ее жизни и литерaтурного процесса — «ведь, невзирая на печальный финал, казалось, она, подобно аквалангистам, обладает даром видеть то, что спрятано под поверхностью».
TO THE RIVER: A Journey Beneath the Surface
Copyright © Olivia Laing, 2011
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2019
Оливия Лэнг
К реке
Путешествие под поверхностью
Издатели:
Александр Иванов
Михаил Котомин
Выпускающий редактор:
Лайма Андерсон
Корректор:
Любовь Федецкая
Дизайн:
Анна Сухова
Все новости издательства
Ad Marginem на сайте:
По вопросам оптовой закупки
книг издательства Ad Marginem
обращайтесь по телефону:
+7 (499) 763 3227 или пишите
на: sales@admarginem.ru
OOO «Ад Маргинем Пресс»,
Резидент ЦТИ ФАБРИКА
Переведеновский пер., д. 18,
Москва, 105082
тел./факс: +7 (499) 763 3595
info@admarginem.ru
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
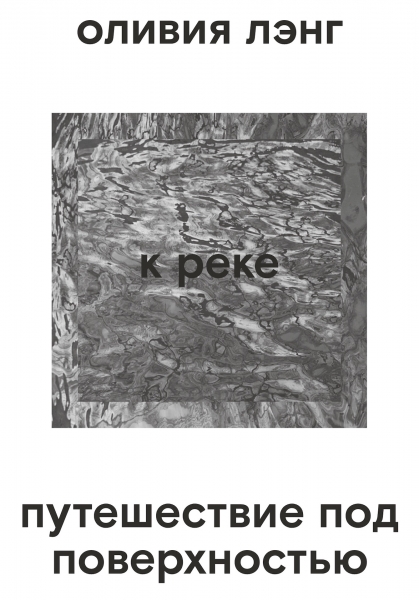

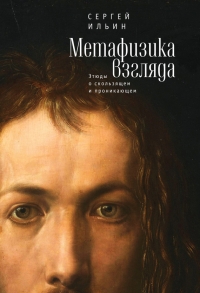








Комментарии к книге «К реке. Путешествие под поверхностью», Оливия Лэнг
Всего 0 комментариев