Павел Крусанов Яснослышащий
© П. Крусанов, 2019
© ИД «Флюид ФриФлай», 2019
© П. Лосев, оформление, 2019
* * *
Яснослышащий
Итак, в каждой трагедии непременно должно быть шесть (составных) частей, соответственно чему трагедия обладает теми или другими качествами. Эти части: фабула, характеры, мысли, сценическая обстановка, текст и музыкальная композиция. К средствам воспроизведения относятся две части, к способу воспроизведения одна, к предмету воспроизведения три, и кроме этого – ничего.
Аристотель. ПоэтикаОн не верит, что на свете есть что-то, лишённое голоса. Он проникает всюду – утренние зори, лес, туманы, ущелья, горные пики, трепет ночи, лунный свет, – он проникает в них и понимает их тайное желание: они тоже хотят звучать.
Ф. Ницше. Рихард Вагнер в БайрейтеНо главное, что нас сейчас интересует, – это аргумент относительно музыки.
А. Секацкий. Партитура неслышимой музыкиУвертюра
Родители не раз рассказывали, как в шестилетнем возрасте мне в горло вцепилась жуткая ангина – что-то невообразимое, из ряда вон. Полагаю, я был знаком с её хваткой и раньше и уж точно испытывал эту саднящую удавку потом, но тут особый случай. Температура – сорок. Резь в гортани такая, что – ни кашу съесть, ни чаю выпить, ни сглотнуть слюну. Плюс забытьё, горячечный бред и приступы удушья. Вызвали неотложку. Врач настоял на срочной госпитализации, и скорая увезла меня в больницу. Сказали: состояние критическое – вопрос жизни и вечного покоя.
Но дело, собственно, не в ангине. Когда кризис миновал и болезнь отступила, медики, коль скоро угодил к ним в лапы, решили провести обследование моего небольшого организма. Всё было в норме: гемоглобин и сахар, кожные покровы и пищеварение, сердце, щитовидка и надпочечники, нервные реакции и проба Пирке. А вот флюорографический снимок показался подозрительным. Сделали ещё один, после чего назначили ультразвуковое зондирование, благо в больнице проходил обкатку экспериментальный аппарат. Эхограмма к изумлению врачей показала в моём теле странное образование размером с перепелиное яйцо, чуть вытянутое и имевшее в верхней трети перетяжку, как рыбий плавательный пузырь. Образование располагалось над диафрагмой, между спинной стенкой пищевода и позвоночником. Решили – опухоль. И, хотя пациент никаких жалоб не высказывал, постановили: после выписки рекомендовать осмотр в онкоцентре.
Окончательно расправившись с ангиной, врачи, прежде чем передать меня спецам в Песочном, сделали повторное УЗИ и снова изумились. Опухоль не то чтобы исчезла, но сократилась по меньшей мере вдвое. Странное образование как бы дышало, медленно пульсировало, и не было никаких гарантий, что оно не растворится вовсе. Чтобы не попасть впросак и определить точнее, к ве́дению какой из медицинских областей относится мой случай, пригласили для консультации молодого, но уже авторитетного онколога. Тот посмотрел флюорографический снимок, эхограммы, и глаза его зажглись. Дело пахло докторской.
Специалист подавал большие надежды и был любим профессорами. Он деликатно поговорил с моими родителями и убедил их в целесообразности дополнительного обследования, дабы окончательно увериться, что с их ребёнком всё в порядке. Взволнованная мать (несмотря на доводы, что нет никаких оснований для волнений) взяла неделю за свой счёт, и мы в сопровождении специалиста отправились в Москву.
В Москве тогда как раз испытывали первый в СССР опытный образец установки магнитно-резонансной томографии конструкции Владислава Иванова, дававшей послойное трёхмерное изображение внутреннего устройства пациента. График работы на установке был расписан между медицинскими светилами по часам, спор шёл за каждую минуту, но мне с моими эхограммами отвели внеплановое время, подвинув в сторону исследования опального корифея Неустроева.
Благодаря послойному сканированию на установке Иванова опухоль наконец-то удалось разглядеть как следует. Снаружи она в точности походила на уже описанную фигуру в виде вытянутого яйца с перетяжкой, покровы которого состояли из соединительной ткани неопределённого характера с трабекулами и вкраплением нейроноподобных структур. Ткань эта была эластичной и едва заметно раздувалась и сжималась, так что образование напоминало воздушный шарик, в котором то и дело менялось давление воздуха. Довершало сравнение с шариком то обстоятельство, что внутри образования ничего не было – оно представляло собой пузырь. Вопрос об онкологии не то чтобы отпал, но повис в пустоте. Биопсию ткани сделать не удалось – при попытке взятия образца шарик исчез, сдувшись до таких размеров, что его было уже не разглядеть. Словом, образование оказалось весьма своенравным, изобретательным, живущим каким-то собственным умом.
Констатировав уникальный случай, молодой специалист решил осторожно посоветоваться с коллегами.
Работавший с ним в очереди на установке Иванова опальный корифей Неустроев был автором некогда нашумевшей монографии «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте» – первого в мире руководства по трансплантологии. Учёный-экспериментатор, он вообще всё делал впервые в мире. В 1937 году, ещё студентом-третьекурсником, он сконструировал механическое сердце и подключил его собаке вместо настоящего. После операции собака прожила три часа. В 1946-м он первым провёл операцию по пересадке сердца от одной собаки другой, а вслед за тем успешно провёл пересадку сердца и лёгкого одновременно. Подопытные с пересаженными органами жили по несколько суток. Прежде сердечно-сосудистая хирургия ничего подобного не знала – трансплантаций сердца в грудную клетку животного ещё не делал никто. Отрабатывая методику пересадки органов, Неустроев первым применил метод коронарного шунтирования, вшивая часть внутренней грудной артерии в коронарную. Ему удалось решить главную проблему при наложении шунта – недостаток времени, ведь при подобной операции сердце искусственно останавливалось и в распоряжении у хирурга оставалось не более двух минут. Фокус заключался в изобретённом Неустроевым составе для склеивания сосудов на основе не то прополиса, не то рыбьего клея.
В 1951 году на сессии Академии медицинских наук он провёл публичную операцию по пересадке донорского сердца и лёгкого собаке Лушке. Очнувшись от наркоза, собака первым делом направилась к миске с едой. Прожила Лушка восемь дней и умерла от инфекции, занесённой при случайном порезе.
Даже учёную степень кандидата наук Неустроев умудрился получить не как все, а только на полтора часа. Дело было так. Защита кандидатской проходила в переполненном зале в атмосфере скандала – Неустроев, парадоксальным образом занимая должность младшего научного сотрудника в собственной лаборатории (не было ни степеней, ни званий), успел нажить себе как восторженных почитателей, так и непримиримых врагов. Приближённые профессора Щапова, давнего и последовательного недоброжелателя Неустроева, пытались сорвать заседание совета, однако оппонент соискателя профессор Калачёв заявил, что рассматриваемая кандидатская работа весит больше всех докторских диссертаций её критиков, вместе взятых, после чего противники Неустроева покинули зал, а оставшиеся устроили Неустроеву овацию стоя. Вслед за тем учёный совет – невероятный случай! – решил проявить принципиальность. Последовало повторное голосование, по результатам которого Неустроев, пробыв кандидатом наук девяносто минут, сразу получил докторскую степень.
В своей маленькой лаборатории при Институте Склифосовского Неустроев воистину творил чудеса. В середине пятидесятых он пересадил голову одной собаки на туловище другой. Цель эксперимента – научиться пересаживать органы с наименьшими повреждениями. Для операции отбирались крупные собаки и молодые щенки. Под наркозом тело щенка разрезалось в средней части грудной клетки – передняя половина с лапами и головой, но с удалёнными сердцем и лёгкими пересаживалась целой собаке в район шеи перед загривком. После сшивания сосудов налаживалось общее кровообращение и пересаженная голова оживала. Так в лаборатории Неустроева появились двухголовые собаки. Документальный фильм о пересадке собачьей головы в 1956 году был показан в США, после чего Неустроев получил мировую известность: хирурги превозносили его, защитники животных проклинали до седьмого колена. Многие видные зарубежные медики специально приезжали в СССР для того, чтобы присутствовать на операциях Неустроева. В его лаборатории стажировались хирурги из Германии, США, ЮАР и Австралии. Дважды Неустроеву ассистировал на операциях знаменитый впоследствии кардиохирург Барнард.
Все эти сведения моя мать почерпнула из бесед с всеведущим медицинским персоналом, пока тело её сына послойно и трёхмерно изучала опытная машина Иванова.
В 1965-м Неустроев разработал метод сохранения жизненно важных органов в рабочей форме путём их подключения к кровеносной системе живого организма. В качестве временного хозяина донорских органов использовалась свинья, кровь которой заменялась на человеческую. Неустроев помещал трупные органы человека в брюшную полость свиньи и соединял их с кровеносной системой животного. Ему удавалось таким образом оживлять трупные сердца людей через шесть часов после смерти их хозяев. При этом свиньи оставались подвижными. Неустроев умудрялся одновременно подключать к одной свинье четыре сердечно-лёгочных комплекса и сохранять их в действующем состоянии в пределах недели. Так был создан банк человеческих органов на копытах.
Злопыхатели считали исследования учёного мракобесием и шарлатанством. Благодаря их усилиям Неустроев угодил в опалу вышестоящих инстанций. На его экспериментах уже готовились поставить крест, как тут южноафриканский врач Кристиан Барнард – через двенадцать лет после Неустроева – провёл операцию по вживлению собаке второй головы. А через некоторое время произвёл первую в мире пересадку сердца человеку. Мир рукоплескал Барнарду, однако тот во всеуслышание заявил, что у него бы ничего не вышло, не преподай ему в своё время практический урок его русский учитель.
После этого административное давление на Неустроева немного ослабло, и он даже был допущен к работе на опытной установке Иванова.
«Наблюдать, наблюдать и наблюдать, – сказал корифей, ознакомившись с данными по моему пустотелому образованию. – Пока пузырь не угнетает организм, об операции забудьте думать». Действительно, а что если во время операции шарик исчезнет? Что если это коварное фантомное образование специально провоцирует врачей на то, чтобы его удалили, как лишний орган, а оно в действительности совсем не лишнее? И стоит к нему прикоснуться скальпелем, как в лучшем случае пациент умрёт, а в худшем… случится чёрт знает что и распадётся мироздание?
Между тем я чувствовал себя прекрасно, был здоров, непоседлив, полон жизни. Видя это, мать твёрдо сказала врачу, что раз обследование не выявило вредоносного характера странного вздутия (а оно его не выявило), она забирает меня домой. Договорились, что я время от времени буду наблюдаться у доставившего меня сюда специалиста, а в случае каких-либо необычных симптомов и недомоганий мои родители обратятся к нему немедленно. Должно быть, молодой врач, любимец профессуры, не оставлял надежды слепить из моей истории болезни если не диссертацию, то полноценную научную статью.
Впрочем, в любом случае с операцией возникли бы сложности. С учётом возможных рисков, необходимо было заручиться письменным согласием родителей. Теперь в стандартной форме подобного согласия есть пункт, который непременно в том или ином виде присутствовал и прежде. Этот пункт звучит так: мне разъяснена и понятна суть заболевания. А с этим – некоторые затруднения.
Я вовсе не склонен думать, что воздушный шарик внутри меня – единственная причина всех моих проблем и заморочек. Более того – до поры я о нём забыл. Забыл бы окончательно, не напоминай мне родители о моей выдающейся ангине. Живут же некоторые, даже не догадываясь, что в голове у них присутствует гипоталамус.
И тем не менее…
И тем не менее – да, причина. Но убеждён: отсутствие шарика – бо́льшая беда.
Действие первое. Оглашение мира
– Мы нуждаемся в друзьях, потому что дружба – это наслаждение: азарт беседы, хмель застолья, живая глубина молчания. Это восторг открытий и радость понимания того, что внутренне становишься богаче – словно надуваешься чужим дыханием и летишь. Ведь наши друзья всегда в чём-то лучше нас – таков секрет притяжения. А вы? Что вы способны предложить? Вы такой же буржуазный ловкач, как и я. Чем мы обогатим друг друга? Страстью стяжания подтяжек от Кляйна и чуней от Бротини? Нет, мне не нужна ваша дружба. Таким, как мы, нечего сказать друг другу. Нам следует держаться подальше и не испытывать судьбу.
Парень оторопел, посмотрел недоверчиво, словно бы взвешивая мои слова – горькая исповедь или плевок? – и отвалил, так и не решив, что выразить бровями – недоумение или обиду. На что рассчитывал? Думал, осчастливит своей готовностью открыть мне сердце? Но я не за этим здесь. Я заглянул сюда по делу, пусть и праздному – выпить чашку эспрессо и вычерпать креманку взбитых сливок. Воздушных, обметённых шоколадной крошкой. Где вам ещё их в городе дадут? А этот, источая крепкий дух олд спайс («один пшик – весь день мужик!»), увидел, скользнул из своего угла и – будьте-нате: вау! я вас узнал, вы классный, давайте сводить знакомство и фрэндить на дружеской ноге… Вот что бывает, если доведётся засунуть голову в телеэкран. Как было тут не щёлкнуть по носу? Я мигом разобрал мелодию его душонки.
Допил кофе, выскреб ложкой донышко креманки и, провожаемый – уже недобрым – взглядом из угла, вышел вон. Надо ещё купить мороженое для Ники.
Кстати, о мелодии… Хотя тут не о чем и толковать: каких материй мы бы ни касались – псовой охоты, чёлмужских сигов или, допустим, Марксового приснопамятного «сюртука» (der Rock), – мы говорим всё время о себе, то есть о своей душе, страстно желающей вселенского признания. И через любую щёлку мы её являем, оповещаем о ней мир, порой отчёта в том не отдавая, – вот, мол, какая она у нас тонкая, ершистая, неповторимая, чудна я… И так всегда. В каждом слове нашем душа, как младенец в утробе, толкается – рвётся на свет: из одного торчит наружу, словно монтёр из люка, из другого только глазом лупает, будто котёнок из валенка. А из речей того, что подкатил ко мне в кафе, плечом вперёд рвалась никчёмная душонка. И чтобы различить её напористый мотив, не надо штудировать басовый и скрипичный ключ в консерватории. Надо всего лишь обрести безмолвие. Тогда сумеешь и другого расслышать верно, и для себя уловишь истинный напев. Его подхватишь, последуешь за ним – и будет счастье. Такое, каким быть ему и надлежит – деятельное, текучее, живое.
Говоря о безмолвии, надо понимать, что речь идёт не о молчании вмещающего нас бедлама, поскольку здесь не сыщешь немоты, здесь вечно что-нибудь то скрипнет/треснет, то квакнет/громыхнёт, – речь о внутреннем безмолвии, гарантию которого даёт определённого извода глухота. Врождённая или усилием труда приобретённая. Само собой, желанное безмолвие не абсолютно – слух не отключён, а просто правильно настроен, благодаря чему твой резонатор отзывается лишь на манящую свою мелодию, поскольку она пропущена сквозь фильтры, так сказать, тугого уха и облущена от фоновых шумов внешней бла-бла-сферы. А слышать свою мелодию надо непременно – только она способна обеспечить успешный танец на канате, натянутом над бездной (помните? один усатый немец говорил). Пока следуешь своей мелодии, ты неуязвим, ты знаешь путь и ты бесстрашен. Но если твоё потаённое безмолвие, эти чистые звуки в тишине, перекроют посторонние шумы – ты обречён и неспасаем, какой бы поводырь ни предложил козьей тропой сопроводить в Эдем.
Всё, что касается фильтрации шумов, конечно же, не новость. Этот принцип вполне укладывается в русло картезианской парадигмы с её универсальным скепсисом. С её стремлением к ясности и чёткости в опыте скользких восприятий и туманных откровений. Ведь нарастание шумов даёт картину, для которой нормой становится лоскутность, мелькание выхваченных впечатлений, прерывистость соображений и догадок. Связное сознание рассыпается на крупицы/эпизоды, случайно и некстати сменяющие друг друга, – причём всякий раз выходит так, что каждая крупица в момент своего нечаянного предъявления, поражённая внезапным приступом величия, представляет себя не клочком, а всем сознанием в целом.
Конечно, там, за чашкой кофе, про буржуазность я схитрил – не выношу на дух. По крайней мере, в той жизни, о которой речь. То есть иной раз, разумеется, доходит запах и заставляет прятать нос в платок… Чтобы не прятать, нужна привычка, как к вину и дыму. На всё можно подсесть: крэк, анархизм, либерализм, пивасик, буржуазность… Пока Бог миловал. Надеюсь, будет милостив и впредь. Без самообольщения – того, что у прослойки, которая морщила нос и мнила себя духовной аристократией, на деле оставаясь духовной буржуазией с наморщенным носом. Какая наглость! Благородство перенять нельзя: чай, не заёмная деньга. Об этом, помнится, писал русский глашатай нового средневековья. Ведь достояние аристократа даровое, наследственное, а не добытое трудом и по том собственных усилий, – раз это так, то оно невольно определяет в нём ряд характерных черт. Скажем, аристократу чужды рессентимент, обида, зависть и вообще любые копошения на этот счёт, свойственные человеку из подполья. Аристократ способен быть обидчиком и даже часто обижает, но быть обиженным – увольте, никогда. Обида, как и зависть, не входят в арсенал его переживаний. Всякую обиду аристократ воспринимает как хуление чести – своей и своих предков – и в тот же миг готов отстаивать её с оружием в руках, смыть кровью оскорбление – поставить жизнь на кон, но ни мгновения не быть обиженным. Другое дело – зависть: раз ценность аристократизма даровая, её уместно уподобить красоте, которая даётся ни за что, а только от избытка сил прекрасного в природе – красив сам собой, таким родился и по этой же причине независтлив. В отличие от иных сословий, черты которых процарапала резцом нехватка, аристократы есть произведение избытка, и подлинному аристократу свойственно от этого избытка отдавать – быть щедрым и великодушным.
Понятно, в приложении к сегодняшнему дню говорить о благородстве не приходится, но… Бывают такие люди – журавль перелётный, кочевник, скользящий по земле, которую он несказанно любит, при этом к ней не прирастая. Речь о них. Ведь у кочевника есть Родина, ещё как есть. Он просто не прибил себя гвоздём к клочку пространства, к недвижимой, неподъёмной с места вещи: он любит и эту кочку, и эту речку, и тот пригорок, и вон тот овраг, и со всей этой родной землёй он – душа в душу. И ей не причинит вреда, поскольку за неё были в ответе его предки, и за неё в ответе он. Но, как и Сковороду, мир не поймал его. Так и со мной. Нет у меня ни уютно обустроенного дома, ни загородного поместья с клумбой и мангалом. Хотя позволить что-то вроде мог бы. Теперь, по крайней мере, – недаром проходимцы узнают в кафе. Но у меня их, лакомств этих, нет – есть келья-логово, рабочий внедорожник и надёжная палатка в багажнике, выдерживающая без протечек ливень. Лучший бутик на мой суровый и нецеремонный вкус – лавка «вторые руки». Возможно, помимо воспринятого с детства равнодушия к вещам, причина скромных притязаний в милости небес, пославших благодать о них, вещах, не думать, поскольку всякий раз в жизни устраивалось так, что необходимое являлось. Но разве это важно? Впрочем, как знать – быть может, доведись мне, как доводилось многим, участвовать в безумной гонке за процветанием/наживой, качаться маятником от успеха к пепелищу, мне никогда б не распознать звучания тех струн, чей звон, вопреки дремучему запрету, слух мой (называю это слухом по привычке) способен различить. Было у Хлебникова: «Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их…» Касался. Очень даже касался.
Что я хочу сказать? А вот что. Традиция человеческой премудрости – с Платоновой Академии и до наших дней – толкует истину как нечто в той или иной степени незримое. Обитателям пещеры крутят на стене/экране довольно скверное кино, где лишь мелькание теней, тусклые отсветы, размытые наплывы и прочие увечные проекции подлинного бытия – это, как помним, и есть наше представление о сущем. С тех пор и доныне в европейской метафизике традиция оптического описания предмета, прошу простить за невольное потворство этой практике, бросается в глаза: небесные эйдосы, недоступные земному зрению, пролитая из разбитых сосудов и пребывающая в изгнании шехина (божественный свет), постигающий природу вещи lumen naturalis Декарта и Спинозы… Тот же оптический закос и на площадке бытовой риторики: сияет светоч разума, оспаривается взгляд на вещи, пленяют радужные мечты, поблескивает луч надежды… Про чёрные помыслы, белые зарплаты, серые будни нечего и говорить – зелёная тоска. Вся многовековая работа философии, покорной диктату голодного зрачка, сводилась, в сущности, к тому, чтоб умозрительно дорисовать, достроить, допредставить невидимую часть айсберга истины. А между тем, как нам авторитетно заповедано, в начале было Слово. Не форма, не чертёж, не образ – Слово. И поскольку язык творения неведом нам (всякий чужой язык для слуха не более чем тонированный строй гласных и согласных, значение которых, в принципе, равно значению нот и тембров в музыке), то нет ни кощунства, ни ошибки в утверждении, что в начале был вещий Звук. И Звук был Бог. Он, Всемогущий, гремел чередой творящих глаголов/аккордов, а усмирённый хаос внимал гармонии и обращался в космос. Тот космос, где в единстве справедливости и раздора над противостоянием стихий царит и всё пронизывает восхитительное иго – разумная душа симфонии, которая привносит согласие и мир в лютую тяжбу вздорных звуков.
Доверившись чутью, пожалуй, можно было бы предположить, что… Впрочем, зачем расшаркиваться, деликатничать? Акустический ключ способен отворить дверцу тайны и исправить один существенный просчёт в записи Книги: Бог, будучи одновременно Симфонией и её Создателем, разумеется, не видел, а слышал каждый день творения, когда оценивал, что это хорошо. Божественное зрение взыскует ослепительного совершенства уже созревших, будь они неладны, эйдосов. Созревших – значит, замерших и неизменных. В то время как процесс творения – это ряд текучих перемен, поток сгущений и преображений, череда льющихся созвучий, и именно они, созвучия, а не законченные образы хороших форм, в дни грандиознейшего созидания ласкали уши Бога. Да и вообще – нелепо будет не признать, что Царствие Небесное с его многоголосым хором поющих ангелов всё-таки больше напоминает не вернисаж, а филармонию.
Ну вот, а изгнанный из рая человек (впрочем, наоборот, это рай был изгнан, осквернён, потерян, поскольку рай – это и есть земля, из которой вычтен ад) в первую очередь накрепко оглох в пределах того диапазона, в котором звучит первозданная музыка сфер – сложная тема упорядоченного космоса вкупе со всякой его соразмерной, верно настроенной частью. Более надёжного способа лишить человека благодати трудно вообразить – ведь если ты слышишь отзвуки тех аккордов, слышишь симфонию вселенского порядка, ты не можешь ошибиться, выпасть из тональности и заскрежетать. Следовательно и законы, писанные на скрижалях, излишни – ведь у тебя просто не получится вершить дела, рассогласованные с гармоничным строем окружающего мира, потому что чудовищная фальшь тут же разорвёт твоё сердце. А если не разорвёт, то тебя всё равно выпрут из оркестра, поскольку фальшь твоя будет распознана сразу и всеми: перестань пялиться в декольте флейтистки – там нет нот, твоя партия на пюпитре!
Но человек постоянно скрежещет, и ни ему, ни окружающим по большей части этого не слышно. То есть слышно, но не режет ухо так, чтобы резь эту счесть невыносимой: ничего страшного, просто безголосый сосед снова практикует караоке – противно, но не до смерти, ведь и мой скрежет он терпит, как визжащее в стене сверло. Далеко за примерами ходить не надо – сегодняшний случай в кафе.
Короче, имею веские мотивы, чтобы толковать истинное бытие не как незримое, а как неслышимое.
Впрочем, по порядку.
* * *
– Мама, смотри, – я увлечён рождением неожиданного благозвучия. – Вот так – мерцает и поблескивает. А так – неярко, мягко. Словно сперва стоишь на солнце, а после – в тень.
Мне пять лет. Я сижу на стуле с четырёхструнной домрой-альтом и извлекаю звоны. Рядом мама вытирает тряпкой клеёнку стола после завтрака – папа накрошил хлеб, а сестра уронила с ложки небольшой сугроб рисовой каши.
– Правильно, – говорит мама. – Вот это – большая терция, мажорная. А это – малая, минорная.
Я вновь тревожу струны слишком ещё большого для моих рук инструмента. Звук интересный – внутри тела отдаётся какой-то бархатистой лаской, словно поглаживает и промывает внутренности, всю подчистую анатомию, о которой толком знать ещё не знаю.
Мама откладывает тряпку.
– Теперь добавь вот эту ноту… Палец вот сюда, на этот лад, – показывает – куда. – Или вот так. Получится аккорд.
Распялив пальцы, извлекаю глухое трезвучие, которое со второй попытки выправляется и звенит чисто.
– Видишь, – говорит мама, – это аккорд весёлый, звонкий. А этот, – ставит мой палец в новую позицию, – задумчивый и немного грустный.
– Домашнее животное, родственник верблюда, разводимое в высокогорном поясе Южной Америки ради шерсти, – говорит папа, глядя в раскрытый журнал, и чешет безопасным концом авторучки затылок. – Семь букв. Четвёртая – «пэ».
На некоторое время в комнате повисает тишина, которую, не дав ей сгуститься, нарушает мажорное трезвучие.
– Альпака, – говорит папа, пишет что-то на странице журнала и смотрит на меня. – Знаешь, кто такая альпака?
Разумеется, не знаю. Папа объясняет. Одарённый подробными сведениями, пытаюсь выдать на струне тремоло, как делает это мама, но получается скверно.
Мама вновь берёт тряпку, протирает стол и уходит на кухню.
– Производная тригонометрическая функция, – говорит папа. – Девять букв. Вторая – «о».
В этот момент сзади подкрадывается сестра и двумя руками быстро крутит колки на грифе, мигом расстраивая инструмент. Ей весело, она смеётся.
Мне посчастливилось родиться в семье мирной и трудолюбивой: отец – экономист на Адмиралтейских верфях, мать – преподаватель музыкального училища по классу домры. Я был у них вторым ребёнком. Дети эгоистичны – и маленьким трудно. Но старшей сестре, страдавшей приступами мелочной вредности, не удалось надолго отравить моё детство: к великой досаде Клавдии (так звали сестру) я довольно скоро получил иммунитет к её злонравию, так что, не выдавив при всём усердии из жертвы капли сладкого негодования, она спешила оставить скучного брата в покое, чтобы скорее переключиться на какой-нибудь иной, более благодарный объект.
Да, сразу не сказал: родители назвали меня Августом – отца пленяло багровое сверкание былого Рима (предмета нет уже, а гипнотическое излучение осталось, – так, говорят, бывает с умершими звёздами), а мать этой страсти не препятствовала.
И снова о сестре – один пример, показывающий, что её хватало на большее, чем злодейский толчок под локоть в момент, когда я самозабвенно рисовал бой с фашистами или старательно выводил в тетради упражнение домашнего задания. Помню, в детстве у меня была игрушка – небольшой, размером с белку, волк из покладистого материала, который теперь отчего-то хочется назвать упругим словом «гуттаперча», хотя за соответствие названия и означаемого не поручусь. Спина у волка была серой, брюхо – белым, нос – чёрным, а пасть – алой, воспалённой, отчего я не раз тайком потчевал его микстурой, которую прописывали мне врачи при ежегодных ангинах. В моей памяти не сохранилось, но родители рассказывали, что в пору, когда у меня резались зубы, я обкусал волку хвост и ухо. Благородный зверь стерпел, простил хозяину увечья, – эта преданность вкупе с лёгким стыдом перед верным другом многие годы питала во мне нежную любовь к волчку. Стоит ли говорить, что эта игрушка была главным предметом посягательств Клавдии, когда её настигал очередной припадок вредности? Она тайком похищала волка и изобретательно прятала, с невозмутимым видом отрицая причастность к трагической (сдержать слёзы обиды удавалось не всегда) пропаже, но я не жаловался родителям, а отправлялся на поиски, упорствовал и находил. В конце концов я вообще перестал выпускать волка из рук. Тогда сестра хитрила – являлась предо мной с какой-нибудь коробкой, застеленной перинкой из её кукольного царства, и предлагала: «Август, положи сюда, пускай волчок поспит». Понимала, бестия, что в руки ей игрушку просто так уже не отдадут! Я с чистым сердцем укладывал серого в коробку под атласное одеяльце, и плутовка Клавдия немедленно с ней исчезала. Таких уловок у сестры оказывалось всякий раз в запасе с горкой – она была мастерица на многоходовые операции и отвлекающие манёвры, коварную суть которых мой детский ум был распознать не в силах.
Пример описан столь подробно потому, что в нём, как в капле, предстаёт и океан.
Уроки сестры не прошли даром – с той поры я старался уже не прикипать душой к вещам, что позволяло оставаться до известной степени неуязвимым. Если кому-то удавалось поживиться за мой счёт, будь то уличная цыганка, продавец пёстро упакованной дряни или плут-работодатель, обман вызывал небольшую досаду и только – ни о душевной боли, ни о каких-либо сильных чувствах вообще говорить уже не приходилось. Так – рябь на отмели. Спасибо тебе, милая Клавдия!
Помимо проделок сестры, призванных во что бы то ни стало досадить, детство моё разнообразили терпеливые усилия матери по прививке сыну музыкальной культуры и навыков игры на домре, а также деятельные попытки отца развить во мне интерес к познанию мира в предельно широком охвате. Труды их не пропали втуне: нотная грамота, техника звукоизвлечения и беглость пальцев левой руки, натренированных на грифе домры (врачи, охочие до детской крови, не могли взять на анализ ни капли из этих пальцев: прокалывали огрубевшую подушечку, а кровь не шла – жало инструмента не доходило до сосудов), вскоре пригодились для освоения гитары, а тома альманахов «Хочу всё знать!» вкупе со стопками журналов «Наука и жизнь», «Юный натуралист», «Знание – сила», etc. и впрямь предоставили мне немалый материал для удивления и восторга. Так в одном из журналов я вычитал, что муравей способен узнавать себя в зеркале и, глядя на своё отражение, прихорашиваться (рыжему муравью, рядовому фуражиру, ставили на голове краской крошечную точку, на которую тот не обращал внимания в будничных трудах, но, очутившись перед зеркалом, принимался отскребать пятно лапками), что говорит о наличии у муравья известного самосознания. Ведь до тех пор считалось, что, помимо людей, узнают в отражении себя лишь человекообразные обезьяны и сороки. Бедные муравьи моего детства! Полтора месяца я преследовал их с зеркальцем в руке, пытаясь повторить хитроумный опыт. Подозреваю – капля за каплей – я утопил в краске население небольшого муравейника.
Чуть позже меня поразила более долговременная страсть – я заболел дельфинами, как иные сверстники болели филателией, хоккеем или судомоделированием. Я собирал любые сведения о дельфинах, которые только мог раздобыть. Мне был смешон человек, способный перепутать этих смышлёных животных с глупой рыбой. В четвёртом классе отец с матерью восемь раз попеременно ходили со мной в кинотеатр смотреть «Флиппера». Три лета подряд родители возили нас с сестрой в Севастополь только потому, что там, в Казачьей бухте, располагался секретный военный океанариум с несколькими десятками поставленных на довольствие афалин – друг детства отца пошёл по жизни маршем и занимал на Черноморском флоте какой-то важный пост. Тогда я об этом не думал, а теперь не перестаю удивляться, в какой чудесной стране мы живём – в лице хранителей своих загадок она считала и, надеюсь, до сих пор считает чем-то вроде свинства и низости иметь тайны от детей. Особенно, если на секретный объект ребёнка приводил за руку этих хранителей начальник. С той поры я очарован Крымом – оазисом невероятного. Деревья там поют и шелестят рифмами, травы знают молитвы и рассчитывают на спасение, камни обидчивы и злопамятны, а вода течёт как вниз, так и, вопреки законам естества, духоподъёмно – вверх. Случаются там чудеса и с отвлечёнными понятиями – так вычитание здесь часто ничего не уменьшает, умножение не умножает, а попытка деления заканчивается забвением и сном. Проверено – родители и на каникулах пытались иной раз подсунуть мне какой-нибудь учебник.
Разумеется, меня было не вытянуть из океанариума за уши – кто же откажется собственноручно покормить дельфина рыбой, погладить по влажной коже, улыбнуться его улыбке, в упор смотреть в его весёлые глаза и даже плавать с ним, взбираясь на тугую спину, – нет и не может быть в одиннадцатилетнем возрасте таких посредственностей и недоумков. А ведь эти добродушные звери нашли за время службы десятки потерянных при учебных стрельбах торпед и даже одну сбежавшую беспилотную субмарину. Иногда боевых дельфинов, на радость археологам, привлекали к поискам останков затонувших кораблей – несколько поднятых со дня моря амфор (то ли утаённых от учёных, то ли ими подаренных) украшали скупой интерьер секретного океанариума.
Дошло до того, что я стал составлять словарь дельфиньего языка и сам уже свистел на нём, щебетал, щёлкал и крякал, призывая не понимающих меня родителей и школьных товарищей оказать мне глубоководную помощь, извещая их об опасности или о том, что найдена прекрасная рыбёшка. Питомцы же Казачьей бухты мне внимали и отвечали бурной трескотнёй. Разумеется, не все слова дельфинов были мной осмыслены и переведены на язык Чуковского и Носова: порой они издавали не вполне определённые поквакивающие звуки, а одна афалина, выбираясь из воды на гладкую площадку-пирс, начинала словно бы дудеть в детскую дудку и мяукать.
Наставник – инструктор по патрулированию акватории и обезвреживанию диверсантов – поведал мне однажды душераздирающую вещь: во время вьетнамской войны американцы использовали дельфинов в качестве убийц аквалангистов, пытавшихся подкрасться к их кораблям на морской базе. На голове дельфина крепился ядовитый шприц, и любопытный зверь, обнаружив пловца, устремлялся к нему в радостном предвкушении, чтобы потыкать носом – так его учили выпрашивать рыбу, – в итоге невольно всаживая в человека убийственное жало. После этого рассказа я возненавидел злых американцев, лжецов и растлителей дельфиньих душ, всей силой детского сердца. Так и жил, ожесточённый, пока не взялся за книги и не узнал, что и среди этих пройдох изредка встречаются славные ребята, вроде Мелвилла, отдавшего заслуженную дань китообразным, и Хемингуэя, здорово завернувшего историю со стариком и рыбой.
Тот же инструктор поведал мне в утешение, что наши дельфины, в отличие от заокеанских, не убивали людей, а, обнаружив с помощью своего сонара диверсанта, настигали его, срывали ласты с маской и выталкивали на поверхность. Этого было вполне достаточно – дальше в дело вступал быстроходный катер со спецназом. Конечно, инструктор признавался, что пробовали, и не раз, вооружать дельфинов ножами, иглами с парализующими веществами и даже пистолетами, крепившимися на морду и срабатывающими при ударе, но выяснилось, что советские дельфины – создания чрезвычайно впечатлительные и после атаки, приводящей к смерти товарища по, как им казалось, играм, подчас испытывают такую душевную травму, что выходят из-под контроля и уже не подчиняются приказам. Совсем не то что морские львы или тюлени – эти, говорил инструктор, резали диверсантов безо всяких угрызений совести. Но до кровожадных тюленей мне не было дела.
Зато упомянутый природный сонар – способность дельфинов к эхолокации – вызывал безоговорочный восторг. По своим параметрам он многократно превосходил любые технические выдумки людей по этой части. Но удивляло не то, что дельфины способны были лоцировать дробинку, упавшую в воду на расстоянии пятнадцати метров, а пловца – за пятьсот, оценивать размеры предметов одинаковой формы, отличающиеся на единицы процентов, определять параметры и детали внутреннего устройства объектов даже под слоем ила (ведь эхо вездесуще), обнаруживать съедобную рыбу на расстоянии трёх километров и не путать её с той, что не подходит в пищу, – моё детское воображение поразило другое: способность, оглашая мир, воссоздавать его посредством звука.
Как сообщали статьи в журналах, которые выписывал отец, дельфины не отличаются особой остротой зрения: глаза их расставлены таким образом, что по большей части они видят окружающее только одним из них – лишь в узком секторе обзора афалина может глядеть в оба, бинокулярно. Так что зрение китообразных, предки которых миллионы лет назад окончательно отдали предпочтение пучине, играет для них лишь вспомогательную роль. На первое место выходит эхолокация – активная подсветка криками пространства с последующим приёмом отражённых звуков. В предмет своей детской любви я стремился проникнуть на всю глубину, поэтому, проявив упорство, разобрался и осознал, как этот орган чувств, у нас отсутствующий, работает на деле.
Мне было трудно вообразить, как можно жить в беспросветном мире, доверяясь только слуху. Однако сотрудники секретного океанариума объяснили, что их питомцы в полном смысле видят слухом. Если коротко: наш мозг обрабатывает электромагнитные импульсы и сортирует информацию на основе законов геометрической оптики, а дельфиний обрабатывает импульсы звуковые, осуществляя их анализ на основе законов акустической голографии, потому и отделы мозга, отвечающие за слух, развиты у китообразных необычайно и увеличены против наших в десятки раз. Опустим сведения о воздушных мешках, костяном рефлекторе во лбу, акустической линзе – мелоне и прочей дельфиньей органике, позволяющей рассеивать внешнюю тьму и ловить рыбу в мутной воде. Существенно лишь то, что на выходе комплекс этих органов даёт дельфину картинку, подобную той, какую нам позволяет получить прожектор, выхватывающий своим лучом пространство из мрака. Только куда более содержательную, поскольку дельфиний мозг кодирует полученные данные в виде четырёхмерных образов (три пространственных и один частотный), в результате чего дельфин видит поверхность воды, объекты в её толще, дно со всеми деталями строения, предметы, лежащие на дне (даже те, что, как уже говорилось, покрыты илом), отмечает особенности каждого предмета – его размеры, форму, – а кроме того, подобно рентгену, видит материал и своеобразие их внутреннего строения. В Казачьей бухте на моих глазах проводили опыты – брали две похожие болванки, показывали дельфинам, и при некоторой тренировке они отличали одну от другой по любому параметру: по величине, по виду, по материалу, по наличию внутренних пустот, по величине и виду этих пустот. В общем, если что-то дельфина интересовало, он был способен вонзить в вещь своё невероятное акустическое зрение, которое не впадало в зависимость от внешних условий – освещение, прозрачность, – и познать её до печёнки, до само́й тайны рождения. Чудо что такое!
Однажды в одном из журналов я наткнулся на статью некоего Джека Кассевица, работавшего в мексиканском дельфинарии в Пуэрто-Авентурас, который, зная о способности дельфинов преобразовывать звук в объемные изображения, предположил, что между собой дельфины общаются не так, как люди, а звуко-визуально, языком картинок – просто нащёлкивают, насвистывают, наскрипывают и накрякивают друг другу череду образов, обмениваясь ими, как люди обмениваются котиками и салатиками в соцсетях. Прочитав эту статью, я забросил свой дельфиний словарь – бесполезно: у человека в голове просто нет приёмника, чтобы полноценно увидеть их живописную речь.
Забавно. Годы спустя, вспомнив о своём детском увлечении, я вообразил следующее: если люди, по преимуществу познающие мир глазами, перед всеми искусствами отдают предпочтение кинематографу, то для дельфинов – научи их какие-нибудь нырнувшие ангелы, как допотопных людей научили ангелы падшие, всяким пакостям, включая ремёсла и художества, – для дельфинов самым важнейшим из искусств стала бы ультрамузыка. Причём это было бы весьма предметное искусство, поскольку каждый набор звуков представлял бы здесь конкретный объект – ракушку, косяк кефали, медузу, «Титаник», – и степень свободы была бы тут ничуть не большей, чем в академической живописи или поэзии, которая на своём столбовом пути не может всё же обойтись без точных слов. И с импровизацией возникли бы проблемы – в этой музыке она была бы возможна не более чем абстракция на киноплёнке. Отснимешь полный метр – кто будет смотреть?
Постепенно интерес к природной эхолокации затмил интерес к дельфинам как таковым. Поэтому ничего удивительного, что и летучим мышам досталась часть моего детского внимания (только дети в своём любопытстве умеют быть так радостно сосредоточенными), пусть и в порядке, не соответствующем поступи науки – ведь этими живыми радарами люди заинтересовались на полтора столетия раньше, чем дельфинами. Шарль Журин, поражённый способностью рукокрылых свободно передвигаться в темноте, ещё в конце XVIII столетия определил: летучие мыши теряют ориентацию в пространстве вовсе не тогда, когда лишаются зрения, а тогда, когда лишаются слуха. Следом Лазарь Спалланцани, поборник чистоты научного эксперимента, доказал, что причиной утраты нетопырями этих способностей после того, как Шарль Журин лишал их слуха, является не механическое повреждение или болевое раздражение, а именно глухота. Он был довольно ловок, этот итальянец, – смастерил маленькие трубочки, вставил их в ушные каналы подопытных мышей и выяснил, что с ними они летают вполне нормально, но стоит залить трубочки воском, как малышки становятся совершенно беспомощными.
Про ультразвук тогда не слыхивали слыхом, и открытие Спалланцани было осмеяно – непререкаемый авторитет науки тех времён Жорж Кювье, обласканный Наполеоном, настаивал на том, что летучие мыши имеют специальный орган осязания в перепонке крыла, благодаря которому реагируют на сгущение воздуха между собственным телом и встречным предметом, предощущая препятствие и добычу в темноте на расстоянии. Эта теория главенствовала в учёных умах до тех пор, пока накануне Первой мировой инженер, естествоиспытатель и конструктор станкового пулемёта Хайрем Максим не высказал предположение, что летучие мыши овладели эхолокацией. Впрочем, для научного обоснования этой догадки потребовалась ещё четверть века.
Вообще рукокрылые – эволюционирующая группа. О том, что ниша воздушных равнин ещё плохо освоена млекопитающими, говорит тот факт, что там пищат летучие мыши, но их не когтят летучие кошки. И в мелочах… Скажем, мыши-подковоносы кидаются за брошенными в воздух камнем или скомканной тряпицей как за добычей, но, настигнув, оставляют обманку. Это свидетельствует, что они преследуют летающий вздор чисто рефлекторно, не имея о нём ясного представления. Стало быть, до способностей дельфинов им ещё далеко. Но как ни сравнивай возможности воздушных крикунов и водяных, способ считывания реальности у них один и тот же: не имея возможности обзавестись в темноте источником света, они обзавелись источником звука, благодаря которому перед ними открылся оглашаемый мир – мир, вернувший им свои контуры посредством отклика. В схожих обстоятельствах человек, как уже сказано, использует фонарь/ прожектор (неспроста немецкая фирма, выпускавшая ветрозащитные керосиновые лампы, называлась «Fledermaus» – «Летучая мышь»): фонарь излучает свет и дарует нам озаряемый мир – мир, вернувший отсвет и ставший видимым.
Потом, вслед за летучими мышами, пришла очередь ночных бабочек-совок, способных благодаря эхолокационным щелчкам к стремительному полёту среди густой растительности в полной темноте… После чего во внезапно наступившей юности все эти детские увлечения из моей жизни вымели метлой любовь и музыка. То, что я музыкой по той поре считал.
* * *
С любовью в общих очертаниях всё ясно (хотя на этом веретене накручено столько словесной пряжи, что попробуй размотать – за сто лет не сладишь) – этот опыт практически у всех довольно схож, как опыт первой рюмки или возрастной опыт стыдной, но неодолимой тяги к непристойным картинкам, – разница в деталях. Нет ничего важнее любви, пока вулкан её гремит и извергает огненную лаву, и нет ничего обыденнее и преснее, когда её вулкан потух. Потух, и лава в его недрах скисла. Так происходит в каждой отдельно взятой головокружительной истории (конечно, в их ряду есть главные, опорные или сокрушительные для жизни, и есть пустяшные, не вызвавшие трещин, не давшие корней), точно так же обстоят дела и в их, этих историй, обобщающем итоге. Ювенильные влюблённости – лишь робкое предчувствие грядущего фонтана раскалённой магмы, невинные грёзы о чём-то манящем и страшном, своего рода детские рисунки непознанного ужаса: рисуют мальчики войну. А когда прорвало… детство развоплощается, карета оборачивается тыквой, царевна – лягушкой, братец – козлёночком. После чего начинается суетная и довольно неприглядная в своей нечистоплотной одержимости юность со всеми этими бесстыдно или стыдливо любопытными Ритами, Ленами, Светами, Галями и Василисами, – юность, полная сомнительных обретений, отчаянных предательств и горьких потерь, юность, воспеваемая лишь слащавыми стариками или корыстными проходимцами. Это время, полное оглушительных фоновых шумов: своей мелодии не разобрать, хоть тресни, а хочется – поэтому все кажутся твоими. Это время, когда каждому представляется, что он особенный. Единственный, непревзойдённый, исключительный. Но стоит приглядеться, и оказывается, что первый (а следом и второй, и третий) встречный тоже даёт тебе понять, что он особенный. И, чтобы не впасть в мизантропию, приходится признать, что все вокруг особенные. А если это так, если все вокруг особенные – это всё равно, что все одинаковые. В таких обстоятельствах довольно трудно предъявить свою самобытность, поскольку она вынужденно впадает в сон от необходимости выслушивать откровения соседних самобытностей. Форменный кошмар. Все одинаковые, и у всех в голове только любовь – такое время.
Для женщин, конечно, сказанного будет недостаточно. Женщины живут и грезят отношениями. В широком смысле отношениями: любит – не любит, обманул – не солгал, пошутил – обидел и тысячами других нюансов, включая взгляды, приветствия, прикосновения, улыбки, интонации, запаздывающее или своевременное внимание/комплимент. Они преисполнены переживаний по поводу слов, сказанных за их спиной, по поводу недостатка жара в зрачках, скользит ли взгляд смотрящего по жемчугам или по прелестям под блузкой, по случаю малейших колебаний чувств близких или вовсе посторонних относительно их микровселенной, – ими, этими переживаниями, у женщин забита без остатка их мелькающая жизнь. И в головах у них от перегрузки случаются нечаянные вихри, протуберанцы и слепящие грибы, сжигающие всё, что им не мило. Столь же высок – не заметить совпадений невозможно – статус отношений в среде подростков и секс-меньшинств. Безусловно, это что-то значит, но тут я не специалист.
Теперь – музыка. В те времена самый чудесный город на земле был в очередной раз отмечен персональным вниманием небес. В него ударил пучок незримых молний, твердь дрогнула, и повсеместно – от Васильевского и Петроградской до Средней Рогатки и дикого Купчина – забили источники неудержимо взвившихся энергий. Распылённым ядом был напитан сам невский воздух, он отравлял людей, и они галлюцинировали, обнаружив себя искажёнными в искажённом пространстве, – тогда не быть музыкантом, поэтом, художником значило то же, что не быть вовсе. Не быть по самому высшему требованию небытия. Как в греческом городишке-государстве неотменяемой обязанностью гражданина было участие в общей жизни, так Ленинград тех лет требовал от своих подданных безумств и небывалых творческих свершений. Тот, кто упрямствовал, тот, безусловно, – идиот (в эллинском, конечно, смысле слова). Но главным содержанием жизни всё же оставалась музыка. Она, собственно, и была жизнью.
Зачарованный пир продолжался недолго. Вскоре время весёлых и дерзких нестяжателей было погребено под обломками их страны, а потом выметено вместе с сором новой генерацией алчущих деляг. Не то чтобы в той стране все были весёлыми и дерзкими, а в следующей, межеумочной – посредственностями и делягами, но нестяжание в этой, межеумочной, определённо перестало считаться доблестью и сделалось объектом злых насмешек.
Странные чувства испытываешь, вспоминая себя того. Странные. И дело не только в перенастраивающих голову и подчиняющих волю гормонах… Тот, молодой, весёлый и дерзкий, – какое-то заколдованное существо, знакомое и вместе с тем совсем чужое. Гораздо более чужое, чем мальчик, щебечущий самозабвенно по-дельфиньи.
Вот так, с любовью и музыкой в образе путеводных звёзд, я, юный Август, и пустился в путь по дремучим зарослям большого мира, который с порога детства и вправду грезился пугающе великим. Здесь, перед дверью, обернувшись и посмотрев назад, пожалуй, можно рассыпать на прощание горсть справедливой благодарности.
Выходит, что семья наилучшим образом способствовала моему развитию в том направлении, которое, как выяснилось позже, обеспечило пробуждение дремлющих способностей. Даже маленькое чудовище Клавдия имела тут вполне определённые заслуги, поскольку на примере её вреднейшего характера, её вечно обманывающих речей я осознал, что именно – при всём различии – объединяет человека с дельфином и нетопырём. Последние криком оглашают мир, и тот является им во всех деталях, однако крик их должен повторяться вновь и вновь – иначе действительность развоплотится. Исключение в этой необычайной практике миропознания – присутствие собрата, поскольку только он, собрат, собственным кличем заявляет о себе не отзвуком, а напрямую: ау, я здесь! Зрачку человека мир открывается сам, зачастую желание открыть мир опережая, что позволяет нам в быту обходиться без эхолокации и чувствовать себя при этом сносно. Однако и у человека, как у дельфина с рукокрылой мышью, есть одна насущная потребность – он тоже стремится известить мир о своём существовании, всучить, что ли, ему свою визитку. Потребность эта столь сильна, неодолима, рефлексивна, что заставляет раз за разом настойчиво взывать в пространство: вот я, пришёл, такой чудесный и неповторимый, я здесь – примите же меня, примите все, кто только есть вокруг, впустите в своё чувствилище, вы слышите, впустите, хоть кто-то пусть подаст мне знак, что я услышан! По этому сигналу дельфины узнают собрата. Так же заявляет о себе и человек. Персональная мелодия его души неотменяема, по ней душа опознаётся столь же точно, как по узору пальца – тело. Подтверждение того, что ты услышан, что твой личный росчерк принят и опознан, несёт в себе такое наслаждение, какое мало с чем сравнится.
И вот душа поёт: я здесь, послушайте меня! – поёт и жаждет быть услышанной если не самым желанным слушателем, то хоть кем-то – первым встречным. Но все так заняты, поглощены делами, заткнули головы наушниками и слушают другую музыку или, как на току тетерева, увлечены собственным мотивом бытия. Ничего не попишешь – нехватка внимающих ушей едва ли не самая досадная в нашем общежитии червинка: поющих свои немудрёные песенки душ куда больше тех, что настроены на их приём и опознание. Так есть, увы. А ведь трагедия неуслышанности таит в себе столь сильное отчаяние, что жажда известия о принятом позывном, о том, что мелодия твоей души услышана, отливается не просто в побуждение – в сокрушительную пулю, по сравнению с которой неустроенность, муки голода, а иной раз и страх смерти кажутся чепухой, пушинкой, вздором.
(Сказал о позывном и понял: точно, позывной, как там, на Донбассе, на той войне, чертей, героев и богов которой запомнят не по именам, а именно по позывным. Бродяга, Фрейд, Мангуст, Чих-Пых, Омлет, Гиви, Моторола… Я был там. Мой позывной – Алтай. Об этом речь ещё пойдёт.)
Человек говорит, но, говоря, оглашает не мир сущего, а себя в нём – в мелодике слов, в обёртке речи упаковано его «я». И хотя человек всякий раз упрямо пытается внушить окружающим, будто он не просто говорит, а говорит что-то вполне определённое, едва ли не для каждой частной ситуации обстоятельство я говорю куда важнее говоримого мною. Это и есть индивидуальное оповещение, тонированный строй звуков, за которыми нет ни словаря, ни прочих признаков знакомого нам языка – значение этих звуков равно значению их в музыке, это позывной: вот я, и это именно я, а не кто-то другой, пожалуйста, не спутайте меня с иными. Тут стоит вспомнить Мусоргского – он часто был настроен на приём и внятную мелодию чужой души стремился положить на ноты. В усадьбе и окрестных деревнях он слушал говоры крестьян, делал заметки по интонированию и произношению определённых слов и до того увлёкся, что в итоге просодия стала инструментом его музыки, определяя её метрику, акцентировку и агогику. Причём не только в вокальных сочинениях, хотя по преимуществу Модест Петрович, разумеется, вокальный композитор. В «Картинках с выставки» – инструментальном цикле – есть тема «Променад», сквозная тема, в которой метр столь переменчив, будто он следует уже не принятым аналитическим конвенциям, а силлабической природе музыкально организованных звуков, воспринятых как высказывание речевое. Учитывая это, претензия Мусоргского к Вагнеру вовсе не выглядит комичной: мол, у Вагнера в музыкальных драмах декламация нерусская. Уместность подобного упрёка композитору, взыскующему истинного германства, конечно, спорна, но выпад Мусоргского обусловлен тем, что исток его вдохновения – именно музыкальность повседневной русской речи. А тут – чужой, настойчивый и – чу! – враждебный позывной.
Словом, выслушать человека, утолив его отчаяние и страх оказаться не принятой, брошенной в урну визиткой, можно, даже если пропускать мимо ушей смысловое содержание его речи. Скажем (как в моём случае с сестрой, когда однажды, повзрослев, я с удивлением её услышал), идёт рассказ об отдыхе в Таиланде – секреты приготовления креветок в тамариндовом соусе и кальмара в кляре, сведения об ухажёре из Армавира, у которого из носа смешно торчат два волоска, и соседке по бунгало из Иркутска, перенёсшей в тридцать свинку. Рассказ идёт, сыплются все эти ненужные подробности, и надо просто отдаться музыке – слушать тоны, тембры и перекаты звуков, ритм внутреннего дыхания, токи холодного огня, которые и составляют мелодию души. Вот нота оповещения (ау! я здесь!), вот грусть воспоминания, вот всплеск отчаяния (вам три минуты жалко на меня!), вот робкая надежда, вот накат волны радостного возбуждения, вот откат её, вот обертон иронии, вот опасение оказаться недопонятой, вот жар благодарности за то, что – да! о счастье! – наконец услышана… Словом, определённая последовательность частей складывается в своеобразную музыкальную тему, и это не тема какого-то повествовательного рассказа, а тема чьего-то уникального присутствия в глухом к этой драгоценной мелодии мире. Вот и сестра, после того, как я её услышал, закончила песенку своей души высказанной лишь в интонированных звуках, не связанных с произносимой речью, благодарностью: ты знаешь, мне не был нужен, никогда не был нужен твой серенький волчок, я просто боялась, что меня не заметят, понимаешь? – просто не заметят: ты есть, а тебя, такую замечательную, в упор не слышат и не принимают к сердцу…
Понимаю, сестрёнка, и слышу тебя.
Действие второе. Musica ficta
– Нас же четверо, – удивился Ванчик, глядя, как Михей кладёт на барабан очищенный и разломленный надвое мандарин.
– Вот эту половину я съем прямо сейчас, – объяснил Михей, сгребая с побитого пластика рабочей поверхности оранжевую шкурку, – а другую – чуть позже.
– Еду вчера в трамвае, – прищурил в сторону Михея близорукие глаза толстый клавишник Щека, – гляжу – ты идёшь. С беленькой такой. Забавная.
Михей расплылся в лучезарной улыбке и легкомысленно махнул рукой.
– Дохлое дело. Я говорю на трёх языках, но не могу найти слов, чтобы описать наши отношения. Они обречены. Они безнадёжны.
– Характер никуда? – Ванчик подкручивал колок бас-гитары в поисках «ми», которую вытягивал из «Ионики» Щека. – Метр двадцать на метр двадцать, ножка хромает, глазик косит?
– Характер подходящий. – Михей, как и обещал, сунул в рот сочную половинку и подхватил с пола наплечную сумку. – Девяношто, шешдешат, девяношто.
– Так что? – «Ми» Ванчик благополучно отыскал.
Михей неторопливо разжевал и наполовину проглотил, наполовину выпил мандарин.
– Обнимаю её, говорю: «Ты мне нравишься, я хочу от тебя детей и внуков». Боевую нежность применяю, а она даже наушники с ушей не сбросит. Снежная королева.
– Холодец, – согласился Ванчик.
– Брестская крепость, – поправил Михей, вываливая из сумки на «Ионику» россыпь оранжевых шаров. – Налетай.
– А в наушниках что? – полюбопытствовал Щека. – Девятая симфония Чайковского?
Мандарины, падая на клавиши, сыграли диссонансный взвизг.
– Чайковский – глыба, – вступился я за классика. – Жаль, что он написал только семь симфоний.
Когда школьные товарищи в попытке причаститься святых даров ревущего фуззом времени только брали свои первые баррэ, стыдясь то глухоты, то дребезга их звучания, я уже освоил прогрессивную аппликатуру. Да и пальцы, натасканные на домре, то и дело готовы были сорваться – и срывались – в стремительные пробежки по порожистому грифу, так что гитара моя (подарок отца, положивший начало длительному перемирию в пору неизбежных подростковых бунтов), окрашенная щедрыми созвучиями, пела как сирена – рассыпчато-звонко, упруго, призывно. Словом, вот так, без приглашения, в компании таких же самоучек, в последний школьный год я устремился в горнило рока (в антично-трагедийном смысле тоже), пожирающее и испепеляющее, но тогда казавшееся царством чарующей свободы и бесконечного праздника.
В радиорубке школы пылилась немудрёная аппаратура, приобретённая для нужд самодеятельности, – два-три усилителя, колонки, микрофоны. На этой рухляди и репетировала наша банда – трижды в неделю вечерами в рекреации второго этажа: гитара, клавиши (нет слов, чтобы описать своеобразный звук свистелки, проходившей по инвентарной ведомости как электрический многоголосый клавишный инструмент «Ионика») и ритм-секция – ударные и бас. Всё вместе называлось механическим, но упругим, будто подскакивающий мячик, словом «Депо». Без всякого символизма – просто надо же было как-то назваться.
С Михеем мы были друзьями. Жили по соседству, вместе набивали синяки в дворовых драках, знакомились с хорошенькими гимназистками и грезили грёзами юности. Время от времени Михей из озорного любопытства промышлял фарцовкой – отсюда знание трёх языков: родного, купеческого английского (чейнч) и немного турмалайского (пурукуми ё?). Он был весёлым и неунывающим, с ним рядом делалось легко. Стучал, правда, по барабанам так себе, – но дружба перевешивала.
– В человеке есть пробелы и пустоты, – сказал он мне однажды таким тоном, каким извещают о недавно обретённой истине.
Мы с ним сидели в очереди к стоматологу. Михею надо было ставить пломбу, мой долг заключался в том, чтобы быть рядом и воодушевлять.
Я уточнил:
– Как в решете? Или в дырявом зубе?
Усилие мысли прочертило складочку между его бровей.
– Нет. Это такой особенный дефект конструкции, невидный, незаметный глазу. Он жизнь нашу делает забавной.
– Ты говоришь, что человек несовершенен и этим интересен?
– В общем, да.
Подобные глубины мысли в те годы никого не удивляли.
Мы были юны, доверчивы и беззащитны перед подувшими над задремавшим во льдах материализма отечеством эзотерическими веяниями, которые на все лады сулили за туманами своих доктрин дорогу к просветлению. Многие тогда получили воспаление рассудка.
– Понимаешь, – дыхание Михея коснулось моего лица, – будь человек полон, как стеклянный колобок, он был бы завершён, достаточен. А так у нас есть счастье дружбы и общения.
Машинально подавшись назад, я восстановил область приватности.
– Стеклянный колобок, – сказал я, представляя при этом в мыслях вовсе не стеклянный, а бильярдный шар, тоже гладкий, без изъянов.
– Да! – Михей радостно оживился и кивнул. – Будь мы тверды, круглы и монолитны, не будь в нас впадин и пустот, мы перестали бы нуждаться друг в друге, встречаться, разговаривать. Мне было бы некуда тебя вместить!
Невольно пришёл на память древний грек – тот самый, что рассказал и про пещеру. Устами своего героя, известного комедиографа, он утверждал, что любовь – это полное совпадение вмятин угнетенного своим несовершенством существа с буграми избранницы и наоборот.
– Но может статься, – предостерёг я, – пустоты эти углядит голодный дух. Целая свора голодных духов. И они войдут в тебя, как данайцы в Трою.
– И что? – Уголёк притух в бледных, точно голубоватый прах, глазах Михея.
– Ничего. Ворвутся и понесут по кочкам. И – хана.
Михей страдальчески погладил щёку, за которой ждал экзекуции дырявый зуб. Однако, помимо грядущей нервотрёпки с зубом, бояться ему было нечего – в лакуне его щербатого колобка надёжно стояла пломба дружбы. Ведь наши близкие, наши друзья и в самом деле одаривают нас тем, в чём мы испытываем недостаток – в этом суть привязанности.
– Не дрейфь, – ободрил я взгрустнувшего Михея. – Голодные духи – это крайний случай. Обычно пустоты заполняет телевизор, водка, Харе Кришна, здоровый образ жизни или тяжёлый металл.
Над дверью кабинета загорелась лампочка, и мой товарищ со вздохом встал со стула.
Михей был преисполнен подкупающего простодушия и непосредственности, нехватку которых мне часто доводилось ощущать в себе. При этом мнил себя хитрецом – его наивное лукавство иной раз приводило в умиление. Из любой ерунды он мог сделать праздник. Он был отважен, энергичен, щедр и в дружеском кругу до щепетильности честен. Он умел построить разговор и потушить в зародыше конфликт. Разумеется, как в каждом человеке, хватало в нём и всяческой нелепости. Скажем, он был отчаянный модник и вместе с тем, случись нужда, запросто отдал бы щёгольскую рубашку другу. Он наверняка догадывался, что помогающий людям рано или поздно начнёт презирать их, но эта догадка никак не влияла на его решения. Однажды, посетив первопрестольную, он совершил открытие: Москва, оказывается, растёт кольцами, как дерево. А в другой раз случайным опытом определил, что, если букет черёмухи оставить в закрытой комнате, на другой день там будет пахнуть котами. Он точно знал, что спящего человека змея не жалит, что на новом месте, пока не подерёшься – не приживёшься, что у осинки не родятся апельсинки, что если ты по зодиаку – Рыба, а по жизни – дерьмо, то нипочём не утонешь. И девиц у него было – на каждом стуле по фигуре. Что он находил во мне – ума не приложу.
Отец Михея ушёл в другую семью, так что жил он в трёхкомнатной квартире с матерью и дедом – некогда бравым военным моряком, капитаном первого ранга, разбитым уже не первый год безжалостным инсультом. Свидетельством былого блеска служили висевший в шкафу чёрный офицерский китель с орденскими планками, пожелтевшая, военных времён фотография на стене (молодой дед в бескозырке с пистолетом-пулемётом Шпагина в руках) и кортик – он вызывал безоговорочное уважение.
Мать, чувствуя неустойчивость и артистическую переимчивость Михея, в меру сил следила за его приятельскими связями – не дай бог угодит в какую-нибудь гнусную компанию. Благодаря опрятности и музыкальным склонностям мне удалось добиться её расположения. Поскольку мать Михея с утра до вечера тянула лямку товароведа в крупном мебельном магазине, его квартира часто использовалась нами как место встреч и посиделок. У меня в доме мелькала сестра, способная испортить любые луперкалии, а дед Михея препятствий нашим шабашам, даже если бы и захотел, чинить не мог. Инсульт парализовал правую половину его организма и, несмотря на то, что передвигался дед всё ещё своим ходом, делал это еле-еле, – когда он начинал шаркающий путь из своей комнаты в нашем направлении, мы знали, что имеем достаточно времени не только на то, чтобы спрятать бутылки, но при необходимости можем начать и завершить генеральную уборку. Во всяком случае, гимназистки успевали привести в порядок туалет, а мы – стереть предательски размазанную тут и там помаду. Да и говорить дед не мог – в арсенале его солёного языка сохранилось лишь несколько форм мычания, нечленораздельного, но довольно эмоционального. То есть выдать нас матери Михея, вполне способной принять карательные меры (такой был у женщины характер: в церковь пойдёт – с попом поругается), он просто не имел возможности. Ко всему, дед был не дурак выпить – хватало одного стакана «Агдама», чтобы морской волк, впав в мягкосердечие, отправился спать и нас уже не беспокоил.
Ванчик жил в Купчине, к нему приходилось пилить на метро, а после – на автобусе. Из окна его комнаты была видна насыпь царскосельской чугунки. Его мы привлекли в коллектив за целеустремлённость – Ванчик раз и навсегда определился со своим будущим, свидетельством чему служили приобретённые им таинственным путём в собственность весьма по тем временам приличные бас-гитара и усилитель с колонкой. Вот только инструмент ему не подходил: будучи от природы довольно музыкальным и имея сильный, хотя и бесцветный, как толстое, тяжело ходящее туда-сюда стекло в дверях метро, голос, Ванчик был довольно возбудим, обидчив и с девичьей лёгкостью менял решения. Нет, басисту не к лицу нервозная маета, ему к лицу невозмутимость и устойчивость. Да и слушал он всякую свинцовую хрень, от которой мы с Михеем тосковали.
В погожие дни мы иногда выбирались с Ванчиком за железнодорожную насыпь, где зеленела и кустилась дикая жизнь, – там затевали пестринку с вином и мясом на углях. У городских детей тоже есть корни, и эти корни тоскуют по райскому саду. Мясо Ванчик таскал из загруженной морозилки (его мать, как и мать Михея, работала в торговле, но по желудочно-кишечной части) и, бывало, промахивался – оттаявший в пакете шмат оказывался не свиной шеей, а печенью или почками. Но ничего, нанизывали на шампур и почки. Там, за насыпью, мы вели самые свои горячие споры: что предпочтительнее – давящий, тянущий на дно сомьего омута свинец или пируэты воздушного змея – полёт, эквилибристика?
Щека сидел с Ванчиком за одной партой, он заехал в «Депо» прицепным вагоном. На репетицию Щека обычно приносил пару сосисок, которые, улучив паузу, чтобы спустить с них, словно чулок, целлофановую шкурку, съедал сырыми. Ему было всё равно что играть – он не предъявлял ни острых предпочтений, ни лидерских качеств. Выглядел увальнем и, имея за плечами пять классов музыкальной школы, уроки музлитературы благополучно проспал. В отличие от него, я в музыкальной школе не бывал, но дома с детства звучали Бранденбургские концерты, «Манфред» и «Весна священная», голосили Ленский, Индийский гость, Эскамильо, Каварадосси, Царица Ночи и вообще все сказочные птахи Венского леса, итальянского поднебесья и отеческих дебрей. И времён года в нашем доме было чуть больше, чем на улице – пять: Вивальди, Гайдна, Пьяццолы, Чайковского и Глазунова. Поэтому, сколько симфоний написал Пётр Ильич, я знал на слух. Зато Щека бегло читал ноты и был неплох на бэк-вокале.
С танцевальной программой мы играли на вечерах в разнообразных заведениях (школы, ПТУ, техникумы) и под Новый год даже умудрились немного заработать. Школьное начальство к «Депо» благоволило, поскольку мы обещали прикрыть дыру в плане культурно-воспитательной работы – выступить на районном смотре самодеятельности. В новостном фокусе, точно птица в силке, давно уже бессменно трепетала тема укрепления борьбы за мир во всей вселенной – требовалось исполнить что-нибудь антивоенное. К сочинительству в «Депо» были склонны двое – я и Ванчик. Поскольку репетировали мы в моём питомнике, отковать изделие духа доверили мне, хотя тема определённо была ближе к любимому Ванчиком харду.
И отковал. Такой резкий рок-н-ролл на пониженной передаче, по темпу и звучанию нечто вроде «Suzy Q», если это кому-то что-то говорит.
Пелось там про забавного паренька Колю, который ходит на четвереньках и дверь за собой закрывает хвостом. Спит он на потолке, а вместо кофе лакает из блюдца валерьянку. Ну и прочие странности… Откуда такой сердяга взялся? Вопрос законный. Оттуда и взялся, что нечего было взрослым дядям расщеплять уран.
Тут брал разбег гитарный проигрыш, взлетал, вертелся, зависал, а следом – выход на финал: вы, мол, парни, тоже ничего, забавные, только вот на Колю не похожи. Это не дело – с хвостом и на карачках прикольнее. В общем, давайте-ка попросим и нам на город парочку грибов отвесить.
Ребята одобрили – подход к теме не уезженный. Однако после публичного исполнения песни на районном смотре в репетиционной площадке «Депо» было отказано. Да и чёрт с ней, на носу – выпускные экзамены, всё равно скоро пришлось бы со школой прощаться. Словом, мы не очень огорчились. Мы были молоды и смотрели в будущее с весёлым ожиданием. Нам было по семнадцать лет.
Нет, Михей был на год старше – в осенний призыв он надел тельняшку и отправился на службу в ВМФ – по стопам деда. Поэтому он не попал в Афганистан, а будь там море, непременно бы добрался. Таким, как он, беспокойный характер не позволяет умереть мирно. Зато поучаствовал в морской блокаде бурлящей в очередной раз, как дурной желудок, Польши.
Больше в этом составе мы уже не собирались. Когда Михей, отслужив три года на флоте, вернулся домой, я давно играл с другими музыкантами, равняться с которыми он никак не мог. Да и не пытался. А спустя ещё три года Михей за рулём «восьмёрки» вылетел под Выборгом на встречку и угодил под большегруз. Умер сразу: как ни греши на музыкальный свинец Ванчика, а «КамАЗ» размазывает мощнее и необратимее.
Ванчик поступил в Техноложку, где собрал группу, заточенную, разумеется, под ревущий хард. Бас оставил, взял в руки лидер-гитару. Испортил пару наших старых песен – перепевая, обернул в музыку тупую и повизгивающую. Словом, добровольно ушёл на периферию только ещё вздувающегося пузыря удивительного культурного явления, много позже окрещённого асса-культурой. Нерв уникальной подлинности пульсировал перед его глазами, а он его в упор не замечал – не чувствовал, не слышал. Ему нравилось трясти под гитарный запил гривой – таково было его представление о прекрасном. В конце концов за это не судят. Но и второго шанса не дают.
Щека отслужил срочную в войсках связи, вернулся похудевшим и подтянутым. На клавиши забил – отрастил волосы, чтобы было чем тряхнуть, и пошёл под крыло Ванчика на бас-гитару.
С этим – всё, «Депо» закрылось. Пора переключать регистр.
* * *
Интермеццо: фрагмент программы «Катапульта» (начало нулевых)
Ведущий (бодро). Возвращаясь к теме передачи, уточним: вы, я слышал, однажды говорили о молниях, ударивших в наш город на рубеже семидесятых-восьмидесятых и вызвавших мощный всплеск художественной активности. Что вы имели в виду?
Август. На этот счёт есть любопытное научно-иллюзорное соображение. Я расскажу о нём.
Ведущий. Что за соображение? Кто автор?
Август. Один обрусевший бенгалец. Свои труды он не подписывает, так что считайте – автор аноним. Вкратце изложу его доктрину – так, как она осела в памяти. В пересказе возможны искажения, поскольку, принимая чью-то мысль всем сердцем, будто бы свою (чужая мысль часто является нам как не высказанная собственная), невольно промываешь её в струе личного опыта. В результате она обретает краски, отсутствующие в оригинале. Так поднятый с дороги камень, погрузи его в ручей и извлеки на свет, выглядит уже совсем иначе.
Ведущий (с воодушевлением). Очень интересно.
Август. Исследование предваряет эпиграф. Написан кириллицей на тарабарском языке, знаете – как дорожный щит в недавно братской, а теперь вновь экзотической стране, то ли желающий удачного пути, то ли предупреждающий о его опасности: «Билам бутхы ас визам уфирак! Хумра валебес явис бала пурми юм, дахта уби дахтаван».
Ведущий. И что же это значит?
Август. Я имею опыт распознавания чужой речи как музыкальной заставки души, не связанной со смыслом произносимых слов. Поэтому на разные лады прислушивался к этим фразам, вертел их так и сяк на языке, однако понял лишь последнюю: «Даже если собираешься вернуться вскоре, уходя – уходи».
Ведущий. Может быть, это бенгальский язык?
Август (смотрит на ведущего с сочувствием). Может быть. Итак, речь об асса-культуре. Молнии ударили, энергии взвились – кто-то, как водится, оказался глух и слеп, невосприимчив, а кто-то эти энергии впитал. Не с тем чтобы отяжелеть, а – чтобы засветиться. И те, впитавшие, понесли дальше, щедро делясь с первыми встречными, это жёсткое излучение – свой магнетический заряд.
Ведущий. И сколько же их было, этих облучённых?
Август. Хватило на метаморфоз. В результате их беспечных дел, в процессе проживания ими своих подсвеченных дарованным огнём жизней сгустился пространственно-временной культурный феномен, орех кристаллической друзы: такой ни раскусить, ни проглотить – застрянет в горле. И перед Хроносом он устоял. А тот сжирает всё, что подвернётся. Собственно, этот орех и был их, облучённых, главным коллективным делом, роевым творением – манящим, ярким, не похожим ни на что.
Ведущий. Это очень мило. А почему именно асса-культура? Я – о происхождении названия.
Август. Бенгалец объяснял выбор термина так: с обозначением предмета изначально вышли затруднения – не годились ни «поздний застой», ни «перестройка», ни «предчувствие перемен», ни «ленинградский андеграунд», ни «питерский нонконформизм», поскольку речь шла фактически о параллельном мире, существовавшем наряду с этими явлениями и всё же обособленно от них. Обойдёмся без дефиниций – вдаваться в ход его мысли нет нужды. Примем как данность – асса-культура.
Ведущий. Хорошо. Ну а почему орех?
Август. Если хотите, пусть будет кокон. Или ещё проще – запаянная капсула художественной событийности.
Ведущий. Нет уж, давайте – кокон.
Август. Дело в том, что это время вовсе не прошло в привычном смысле слова, а свернулось и продолжает в окукленном режиме подавать признаки жизни, тихие и странные. Оно едва пульсирует, поджидая, когда придёт пора выпорхнуть из кокона и замысел о себе во всю его ширь осуществить. Случается же так: наваливается зной, пересыхает старица, и обитающая там улитка задраивает крышку своей кручёной субмарины, чтобы сберечь влагу тела и пережить сушь. Пока не придёт вода. Улитка обездвижена, но не мертва – под панцирем пробегают цепочки огоньков, как фосфоресцирующие змейки в мантии медузы. И если их заметил – глаз не оторвать.
Ведущий (кивает понимающе). Такая стеклянная сфера с домиком, и зимой внутри – если встряхнуть, поднимется метель. Миленькая штучка. Одно время они были популярны.
Август. Понятно – кокон вам тоже не годится. Тогда уместен образ книги. Книги, которая в своих премудрых письменах вместила тайну времени. Эти письмена заложены под доски переплёта и заперты на замки. Книга издаёт шёпоты, ритмические стуки, вздохи – живёт своей тихой силой, как гриб на болоте. В хранилище вечности, куда нам путь заказан, таких книг множество – если раскрыть какую-то из них в свой срок и прочитать, запертое в ней время развернётся, оживёт, и тут же вихрь когда-то не сбывшегося танца мир закружит. Но лишь в свой срок. Поэтому тома в хранилище лежат нетронутыми сотни лет. «Что это за книги?» – спросит юный ангел, допущенный в библиотеку. «Это могущественные книги, – ответит хранитель. – Само время доверило им свои тайны». – «Почему же они пылятся? Почему никто их не читает, чтобы тайной овладеть?» – «Праздное чтение лишает эти книги силы».
Ведущий. Очень интересно. А…
Август (перебивает). Если помнить о результате праздного чтения, понятно, почему тогда, когда время асса-культуры проживалось непосредственно, вживую, оно воспринималось как созидательная круговерть, демиургическая хабанера, а сегодня, когда не его час, вслушивание в затихающие отзвуки вызывает чувство совершенной невозможности.
Ведущий (настойчиво). Простите, хотел бы всё же уточнить. Говоря о времени, что именно вы имеете в виду?
Август. Для эллинов время было двуликим, и олицетворяли его разные божества. По существу, греки разделяли время на два явления, связь между которыми была не очевидна. То, что складывается в последовательность событий, уходит в бездну прошлого, то – Хронос Пожирающий. Это количественное свойство времени, время прошедшее. То, что является человеку внезапно, открывает перед ним счастливую возможность, которую так легко проморгать, если не придать ей значения, не ухватить за вихор, то – Кайрос Крылатый. Это миг удачи, качественное свойство времени, его возможная вариация. Это внутреннее время человека, которое он слышит или, напротив, остаётся глух к его сигналам. Но наша глухота не отменяет то, что мы не слышим. Так вот, те, облучённые, были избранниками Кайроса. Неуловимый для других, им он сам подставлял свой вихор – указывал благоприятный миг, который нужно оседлать, чтобы успех сопутствовал самым немыслимым затеям. Они слышали внутреннее время, которое и есть прямо сейчас случающееся время мира, несущее в себе мгновение удачи.
Ведущий. Теперь понятно. А можно как-то структурно описать этот орех, этот кокон, эту запертую под крышки переплёта улитку?
Август. Разложить асса-культуру на фракции? Это довольно затруднительно. Да, собственно, и ни к чему. Ленинград той поры – клокочущая уха, где в котелке над пламенем дружно хохотала вся пойманная в сети рыба: и щука, и судак, и сиг, и линь, и сом, и скользкий мень, и остропёрый окунь. Ранжир и цеховая замкнутость отсутствовали – всё происходило едва ли не одновременно, разом, как будто в чрезвычайной спешке. Вероятно, самые чуткие догадывались о краткости отпущенного срока, поэтому создавали и придумывали впрок, с запасом, не представляя, что сгодится нынче же, а что невесть когда. Помните, у Талейрана: «Тот, кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни»?
Ведущий (кивает). Да-да, конечно. Кто не помнит Талейрана…
Август. Замените семёрку девяткой, и все благородные скоморохи асса-культуры подпишутся под этими словами. Подпишутся, несмотря на то, что сами давали дуба от собственного смеха, как дрожжи в браге от продукта своего метаболизма. Речь не только о музыкантах, которые хотели, точно вещие рунопевцы Калевалы, просто-напросто напеть новый мир. То есть заново, по-своему огласить тот, большой, неповоротливый, воспринимаемый как неуютный мрак, чтобы вызвать к жизни другой мир – лучший. Пусть не вполне отчётливый, но наверняка более приветливый и достойный их, таких неугомонных, славных раздолбаев. О них, музыкантах, речь в первую очередь. Но и художников, поэтов, лицедеев и тех, кто не укладывался в рамки жанра и творил цветной витраж из собственной единственной и драгоценной жизни, это касается тоже.
Ведущий. Может быть, стоит назвать имена? Как я понимаю, герои, запертые в этой магической книге, отнюдь не безымянны.
Август (задумчиво смотрит в потолок студии). Слушая сегодня шёпот, перестук и вздохи, раздающиеся из-под переплёта, оценить личный вклад каждого персонажа в её, этой книги, производство, пожалуй что нельзя. Первенство того или другого определялось волей мгновения – от музыки флаг переходил к живописи, затем снова к музыке, затем к кино, к театру, потом ещё раз к живописи, снова к музыке… Вихрь закручивался, набирал силу, и в центре его воронки, в глазу бури, один танцующий дервиш сменял другого – Гребенщиков, Шинкарёв, Курёхин, Майк, Цой, Новиков, Африка… Список можно расширять и расширять – кроме ключевых фигур были и гении мизансцены, и предтечи, и пехота, и те, кого конструкция с сердечником, вокруг которого вихрился вихрь эпохи, выдёргивала из далёких мест и втягивала в свой бешеный круговорот. Например… (Перечисляет около тридцати имён.) И много кто ещё… У каждого из них был свой триумф, своя минута славы. И свой вклад в коллективное творение особенного времени-пространства, где и по сей день длится их звёздный час. Длится потому, что то время, как сказано, не завершилось – свернулось в кокон и спрятало внутри свою загадочную истину, которая ещё будет предъявлена в финале, подобно сердцу на суде Осириса.
Ведущий. Ряд имён убедительный. Хотя некоторых из названных вами припоминаю уже с трудом.
Август. Бенгалец считает, что кое-кто из моего перечня не входит в описанную им локализацию, то есть в мир асса-культуры, а представляет отдельную ветвь явления или вообще самостоятельную пьесу. Например, Шинкарёв, Шагин и все митьковствующие – это особый пещерный город со своим опытом проживания, именуемым дык-бытие. Что ж, каждый, кто помнит тех людей, волен сам соотнести того или иного с бесспорным эталоном. Которых здесь по меньшей мере два – Курёхин и Новиков.
Ведущий (улыбается). Помня о Хроносе, пожирающем память, не могли бы вы сказать пару слов о каждом?
Август. Сергей Курёхин, кроме того что был феноменальным пианистом и композитором, отвечал за архитектурный ансамбль возводимого мира, благодаря чему этот мир уже невозможно было с чем-то спутать. С какого боку ни взгляни – всё парадокс и удивление. Остроумец, интеллектуал, паяц и демиург, он олицетворял явление в целом, каждый раз оказываясь вдохновителем едва ли не всех его самых выразительных проделок и протуберанцев. Он совмещал несовместимое – архаическое и модернистское, классическое и авангардное, изысканно-умственное и карикатурно-идиотское. На его концертах-шабашах, прокатившихся волной по миру, звучали разом симфонический, народный и военно-духовой оркестры, солистами выступали гуси, поросята, лошади и коровы, в одной команде пели звёзды политики, оперы и эстрады, художники-некрореалисты рвали зубами осьминогов, американские шпионы, советские дипломаты и лилипуты-трансвеститы исполняли танец с саблями под аккомпанемент ритм-секции, собранной из олимпийских чемпионов-тяжеловесов и кордебалета Мариинского театра… Он был великий человек – фейерверк, постоянно действующий взрыв. В отличие от тех пророков постмодерна, что вылупились из позднего советского диссидентства, пропитанного духом фиглярства и посредственности, он понимал постмодернизм как водораздел. С одной стороны – завершается многовековой цикл истории, целая эпоха, порождённая новым временем, с другой – открывается возможность обратиться к реальностям, на отрицании которых эта эпоха возводилась. Курёхинский постмодерн, гомерически хохотавший над глубокомыслием культурно-исторических раздумий и рефлексий, одновременно санкционировал реабилитацию мира традиции. Вспомнить хотя бы его империализм, его мечту об «империи ежового типа», ощетинившейся снаружи и мягкой, нежной изнутри. Этакий синтез предельного тоталитаризма с предельной свободой. Даже высшая мера наказания в его империи носила метафизический характер и осуществлялась через казнь души. Отсюда тотализация его чудесной «Поп-механики», куда он рекрутировал едва ли не все виды искусства. Музыку – от горлового пения, через классическую оперу, до утюгона, – поэзию – как мелодекламацию, – балет, цирк, живопись, театр, эротический перформанс, декоративное искусство и так далее. Экспансия за пределы жанровой ограниченности, беспрецедентный империализм в искусстве – вот что это было. И смех Курёхина определённо звучал странно и неоднозначно. Тот, кому казалось, будто он понимает смысл его улыбки, мало отличался от того, кто искренне недоумевал. Его жизненный проект был невероятен и амбициозен в высшей мере – «Поп-механика» до сих пор не исчерпала своего новаторства, хотя и не успела воплотиться в до конца тотальный проект. Да что говорить – редко когда повезёт столкнуться с таким очевидным и в то же время таким простым предъявлением объективной магии, которая осуществляется прямо на твоих глазах. Тут недалеко до подозрений, что в ходе этих камланий вносились точечные поправки в частоты колебаний суперструн, благодаря которым само мироздание есть то, что оно есть. Я имею в виду трёхмерную брану, в которой мы увязли, точно муха в липучке, – все иные измерения проложены вне этого листа и нам заказаны.
Ведущий (с воодушевлением). Блестяще! А Новиков?
Август. Тимур был генеральным учредителем художественного вкуса асса-культуры в её оперативно развёрнутом формате. То есть соотносил координаты вечности с конкретной датой. Весть о нём всегда бежала впереди него, интригуя, очаровывая, маня обаянием изящного скандала. Новиков вывел на художественные подмостки, где до него мрачные правоборцы в растянутых свитерах гневно потрясали цепями, молодняк. Этот молодняк плевать хотел на цепи и на власть, которая для него тогда имела ту же природу, что и растянутые свитера, не пускавшие юных безобразников на свои выставки. Тимур заставил всех считаться с существованием этой новой генерации. Он организовал «Ноль-движение», «Новых художников», «Клуб друзей Маяковского», «Новую Академию» и чёрт знает что ещё. Художников и групп он налепил столько, что искусствоведам хватит материала для научного паразитизма на многие годы вперёд – потребность обращать жизнь в сказочное приключение не отпускала его ни на миг. Его «Новые художники» переросли в движение, охватившее весь молодёжный авангард. В стилистическом плане их практика стихийно совпала с подобными движениями на Западе – «ист-виллиджем» за океаном, «фигурасьон либре» во Франции и «ное вильден» в Германии. Но если западные сверстники «новых» так и остались в восьмидесятых, повиснув экспонатами в музеях современного искусства, их русские соратники подобным не удовлетворились. Съездив за границу, где они угодили в ласковые объятия художественной элиты, модных французских философов и звёзд Голливуда, бывшие авангардисты вернулись домой убеждёнными патриотами и консерваторами. Так возник неоакадемизм – такое же агрессивное, стремившееся к тотальному охвату явление, как и «новые», вполне готовое подписаться под лозунгом панков начала восьмидесятых: «Бодрость, тупость и наглость!» Во всех своих начинаниях Тимур держался принципа «игры на опережение», ибо понимал: побеждает творец завтрашней моды. Он развивал и накачивал энергией традиционный петербургский минимализм – стремился к наиболее эффективным художественным жестам при наименьшей затрате энергии, что точно соответствует универсальному принципу живой природы. Чтобы стать эффективными, жестам следовало быть не заёмными, а уникальными в своей выверенности – только это, по Новикову, и следовало понимать под словом «творчество». Он был зорким человеком. Он с первого предъявления распознавал красоту. И этот зоркий человек последние пять лет своей жизни был слеп. Красота ослепила его. Что ж, и не такие зубры со временем становятся достойными того, что с ними происходит. Даже если мы говорим о выпавших на их долю несчастьях.
Ведущий (мечтательно). Да… Помню, на выставке неоакадемистов в Манеже…
Август (перебивает). Они, конечно, разные – Курёхин и Новиков. Но вместе с тем во многом схожи. Их главным творением были не записанная или сыгранная музыка, не картины, герои и события, а художественная ситуация в целом. Поражает скорость и воздушность их – и, разумеется, их соратников – захватывающих пируэтов. Никакого изнурения, вынашивания замысла, мук творчества – произведения, даже подлинные шедевры, создаются и проживаются на лету, как узоры текучей жизни. Ничего не жаль по отдельности, ничто по отдельности не рассчитано на вечность. Именно поэтому вечности пришлось принять всё время целиком, обернуть в панцирь и задраить люк – до срока, когда вновь придёт вода.
Ведущий (настойчиво, почти капризно). Тимур тогда ещё не был слеп…
Август (перебивает). Вы спрашивали, сколько их было – облучённых, услышавших время в себе. Никто не скажет точно, но, повторю – хватило. Хватило на то, чтобы построить наполовину призрачный, однако признанный и осязаемый за счёт предъявленных сокровищ мир, который к концу девяностых исчез с радаров, как Китеж перед ордами Батыя.
Ведущий (со вздохом). Да, времена изменились.
Август. Негодный аргумент. Как будто люди ни при чём. Ничто не меняется само по себе. Иначе, следуя этой логике, можно сказать, что Александр Второй мирно испустил дух потому, что ещё утром первого марта почувствовал лёгкое недомогание.
Ведущий (жеманно смеётся). Вот вы какой. И всё-таки о Тимуре…
Август (перебивает). Мир асса-культуры был не по зубам бандитам и даже отбил у них, очистив от «малин», Пушкинскую, 10, но не устоял перед явившимися вслед за бандитами политиками, главарями придонной мути. Потому что те в своём цинизме, жадности и жлобстве оказались беспощаднее предшественников. Время асса-культуры схлопнулось, как крышки переплёта, под которым дремлет зачарованная жизнь – ужаленная веретеном и погрузившаяся в сон прекрасная принцесса. Теперь оно покоится в хранилище вечности. До радостного утра. А то, что выдаётся за это, будто бы всё ещё длящееся, время сегодня – мираж, мёртвые отсветы, искажённое эхо. Последним танцующим дервишем, закручивающим вихрь, был Шнур, он – завершающая точка.
Ведущий (смирившись). К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Так что поставленная вами точка в нашем разговоре как нельзя кстати.
Август. В финале исследования в противовес эпиграфу есть кода – на том же тарабарском языке: «Купана уби пихва, фомрия уби борду. Ахчиная ас тивира узиварис пунг? Алти суверия».
Ведущий (иронично). Это вы тоже нам переведёте?
Август. Здесь очевидна лишь первая фраза: «Спящие просыпаются, умершие смердят».
* * *
Едва освоился в институте Герцена (следуя детскому интересу, поступил на биофак), как сложился новый состав: на барабанах – Евсей, художник-мебельщик из Мухи, на басу – Илья, поэт и студент финансово-экономического, на клавишах – Захар, однокурсник, тихий чудак с пожаром музыки внутри, и вторая гитара – Данила, бывший участник легендарной «Былины» (такая тавтология), недавно вернувшийся из колонии, куда угодил за травку. Репетировали в институтском клубе – в центре города, на Мойке. Институт владел сказочной территорией с двумя десятками корпусов и садом в самом сердце северной столицы – университет и тот не мог похвастать такой компактной и роскошной вотчиной. И аппарат на точке был – не предел мечтам, но и не ровня школьному. Словом, обосновались – только играй, гони свою волну. И мы погнали.
За зиму отрепетировали полноценную программу. Вышло свежо, лаконично и как-то серебристо-чисто – голоса и инструменты звучали звонко и отчётливо, басы давили диафрагму. Доступной студии у нас в ту пору не было, делали записи в зале, на микрофон – качество убогое, конечно, но пробивало даже так. Ведь если искусство – это способность делиться с другими тем, что испытал сам, то выходит, что непонятная, мутная или заёмная тема сама себя невольно душит, а высший блеск – дар увлекать кристальной ясностью каждого встречного без расчёта на его культурный опыт. Разумеется, молодой азарт и отсутствие возможности услышать в хорошем качестве собственное звучание не позволяли судить ответственно – слишком много было ослепляющего предубеждения, слишком много восторженности. Но, как и положено фаворитам Кайроса, мы чувствовали внутреннее время, благодаря чему с первых же полулегальных концертов взлетели на Олимп местного, а стало быть, самого славного музыкального андеграунда (такой оксюморон). Пусть ненадолго, но взлетели. О высоте парения говорил тот факт, что Клавдия скрепя сердце была вынуждена хвастаться перед подругами родством со мной. Какая мука для её своеобразного характера!
Мы видим каждое зерно в початке, Мы понимаем прелесть опечатки, Туман нас манит, Алгебра – туманит, Любовь кидает нас, Судьба – хранит, —пели мы на два голоса с Захаром под рояль, четырёхдольный такт (первая – сильная, вторая – слабая, третья – средняя, четвёртая – слабая и – та-там) ритм-секции и звон Данилиного Gibson Les Paul, и именно так всё в действительности и было – и про зерно, и про туман, и про любовь, и про судьбу в её тактическом формате. Песня называлась «Милонга Августа».
Музыка – такая вещь, в которой, если удалось в неё нырнуть, находишь не жемчужины, разложенные исполнителем, а свои собственные, поскольку она – волна, звучащий тон. Созвучие тонов. И под эти созвучия настраиваешься сам и сам звучишь, потому что и ты – лишь волна. Точнее – живой резонатор, порождающий волну (ну да, среди наших внутренних пустот есть и такая, и не только у меня). Ещё точнее – одновременно резонатор и волна. Всякий, должно быть, замечал, как музыка освобождает разум и окрыляет дух. Спящий в привычке мир вдруг озаряют молнии, высвечивая заново очертания вещей, спадает пелена, занавес раздвигается, и сыплются в открытое сознание ответы, и словно невзначай находится решение неразрешимому. Печаль чужого тона отзывается в тебе печалью собственной, а вибрация чужого откровения – прозрением своим. И той музыки, где голос – главный инструмент, ответственный за её душу – мелос (в отличие от её сердца – ритма), это касается особенно, так как у инструмента голос есть добавочное и словно бы внемузыкальное обременение – привязывание к звукам смысла.
На деле привязанный смысл обретает свойства волны, к которой он привязан, только теперь эта волна капризнее настроена, к ней как бы прилип особый обертон, улавливаемый не слухом, а сознанием. То есть выходит так: початок, зерно, опечатка, туман, любовь, судьба как словарные единицы значат что-то вполне определённое и вместе с тем они – в каком-то роде чепуха, турусы на колёсах, поскольку у того, кто тебя слышит, они, эти обертоны, эти добавочные смыслы/ волны, вызывают сугубо индивидуальные переживания. Порой со значением вокабулы связанные косвенно, символически, а порой не связанные никак. Те, кто это понимал, делали чудесные дела – внимавший их песне слышал не то, что ему пели, а то, что он хотел или готов был услышать. Помните чудесные сны, навеваемые раскуренной трубкой доброго волшебника из Шварцевой «Золушки»? Та самая история.
Конечно, музыка, о которой речь, в сравнении с филармонией и Мариинкой – падение в архаику, но разве это меняет дело? Архаике подчас доступны те возможности, какие опера и филармония давно порастеряли.
Первый же выход на сцену перед публикой имел решительный успех. Это случилось на небывалом до той поры подпольном сейшене-тройнике в клубе Завода турбинных лопаток, где за день были отыграны три концерта: утренний, полуденный и завершающий – дневной. Странные сеансы, но выбирать не приходилось. Играли «Россияне», «Зеркало» и мы, неведомые никому честолюбивые юнцы, мнящие себя идеалом современника, взошедшего на верхнюю ступень посвящения в таинства прекрасного. Способствовал организации события Данила, знакомый с воротилами подпольного менеджмента ещё со времён «Былины».
Как дебютанты, мы были на разогреве, вторыми играли «Россияне», а право завершать программу оставили за собой хозяева аппарата – «Зеркало».
Три концерта в день – много. Если выкладываться честно, спускать положенные семь потов, а после отжимать в гримёрке мокрую насквозь рубашку.
Утренник мы отыграли бодро, с лихвой восполняя бойким задором отсутствие навыков сценического движения. Правда, немного лажали в голосовых раскладках – подзвучку «Зеркало» ставило под себя, и если в зале инструменты и голоса вытягивал на пульте оператор, то на подмостках друг друга мы почти не слышали. Но не беда – образу накатившей новой волны небольшая вокальная небрежность пошла лишь на пользу.
Мы пели про розового слона, который, вздымая пенные бока и трубя огромным хоботом, бежит по джунглям, а мы, качаясь на волнах струящихся по залу энергий, неслись за ним, не в силах его настигнуть.
Потом, упившись исступлением, с которым зрители проводили всё-таки сбежавшего от нас розового слона, пели про поле, уставленное стогами, про счастливую радугу в небе и гордого лося, вышедшего из леса похвастать рогами. Потом – про беззаботных свинок, подёрнутых золотым пушком, – они резвятся на лугу и жизнь их полна чудесных приключений. Потом пели про червей, которые хотят остаться червями, хотят любить и не любить так, как у них заведено, поскольку делать что-то по-своему, как умеешь и считаешь верным, – не зазорно.
Зоологический уклон был не то чтобы намеренным, но предсказуемым: группа называлась «Улица Зверинская». Никакого пафоса, никаких мессианских амбиций – бодро, тупо и нагло.
Зал заводского клуба, набитый под завязку пёстрой толпой, свистел, орал и неистовствовал, как по той поре неистовствовал лишь фанатский вираж стадиона имени Ленина: «„Зенит“ – шампиньон!» Музыканты «Россиян» стояли за кулисами и, не скрывая приятного удивления, демонстрировали нам оттопыренный вверх большой палец.
Затем, отработав свой выход, «Россияне» (теперь уже мы, окрылённые собственным успехом, смотрели на них из-за кулис) пригласили нас в свою гримёрку – слушать «Зеркало» с их двумя с половиной хитами, уже набившими оскомину, ни им, ни нам было не в охоту. Как водится, друзей в гримёрке было под завязку, в тесном пространстве – гам, табачный дым, позвякивание бутылок и стаканов. Мы обосновались в уголке, на время отделившись от свиты, и скрипач «Россиян» пальнул в потолок пробкой от шампанского, довольно в тех обстоятельствах диковатого. Что может быть отраднее признания твоих заслуг собратьями по цеху? Не просто собратьями, а одними из самых заслуженных, самых… Ну тут всё ясно. Чем мы могли ответить на эту удивительную чуткость? Только портвейном, припасённым в наших сумках.
На втором концерте взяли зал, как Суворов Измаил, с весёлым вдохновением, удивив вновь стоявших за кулисами «Россиян» тем, что не повторили ни одного номера, – у нас была готова сольная программа, и на этом сборном «тройнике» мы решили выложить её по частям.
Вновь оказавшись в гримёрке «Россиян», мы пили сначала их портвейн, а после того, как скрипач назвал нас открытием года и посулил великое будущее, откупорили оставшийся свой. В какой-то момент Данила, глядя на булькающую струю, задумчиво изрёк: «Если мы сейчас выпьем, мы согрешим против искусства». Говорил он не очень, но думал красиво. И впрямь, нам вот-вот предстояло в третий раз выйти на сцену. Некоторое время мы колебались, хотя выбор, разумеется, был предрешён.
Результат обманул ожидания. В «Собачьей балладе», где старый священник просил у Бога верную собаку, чтобы скрашивала дни, а грозный Михаил вещал ему из облака: мол, поверь, не стоит, у неё ж житуха будет самая что ни на есть собачья – ты мясо в подклеть не запрёшь, она его рубанёт, а ты сгоряча её убьёшь и в садике зароешь, и зарыдаешь, и… сплошное, словом, выйдет огорчение… Так вот, в этой драматической балладе была такая кода: всем инструментам следовало разом замолчать после шести тактов жёсткого басового риффа. Блям-с – и всё. Песня была новая, ещё не отыгранная до автоматизма и не прописанная в матрицу мышечной памяти. Тем не менее после шестого такта все действительно замолчали. Все, кроме меня и Евсея. Осознав оплошность, мы принялись спасать ситуацию и в два инструмента разыграли чумовую импровизацию. Бочка Евсея ухала, как сваебойный копёр, рабочий барабан на пару с хай-хэтом рубили сложные дроби, то́мы гудели, тарелки рассыпали жёлтый звон. Моя гитара тоже не подвела – резвости её в тот миг могли бы позавидовать устроенные из гранёных самоцветов, бронзы и слюды стрекозы. Впоследствии по опросам музыкантов и зрителей мы с Евсеем были признаны самым креативным дуэтом сезона.
Взлёт оказался недолгий, но сияющий. Нам выпало пять лет, в которые мы яростно парили между небом и землёй, как искрящийся цветным огнём и не желающий гаснуть салют. Мы стали одними из немногих, кто мог собрать стадион без расклеенных по городу афиш, а исключительно по сигналу сарафанного радио. Нелепое время – все эти пять лет мы куда-то спешили, роковым образом не понимая, что мы уже там, куда спешим. Впрочем, так уж заведено – куда ни стремись, всякий раз оказываешься совсем в другом месте и решительно в иных обстоятельствах, чем те, о которых грезил.
Были ещё концерты, летние халтуры на танцах в Парголове и Вырице, четыре студийных альбома, за которые совсем не стыдно, радости, влюблённости, измены… Потом окончил институт, по специальности не работал, к биологии остыл. Случилась даже короткая семейная идиллия, обречённая изначально, поскольку большая любовь – это всегда большая зависимость, а о благе цепей задумываться нам тогда было не в пору. Что ещё? Опубликовал несколько статей в машинописном музыкальном журнале, где, в частности, рекомендовал Ванчику оставить гитару и взять бензопилу (звук тот же, а денег больше), пару раз выходил на сцену с «Поп-механикой», писа́лся в студии как сессионный гитарист с разнообразными составами – звёздными и не очень. Вот, собственно, и вся история.
Трудно удержать в одном пучке разнонаправленные творческие воли – букет красивый, но недолговечный. Устойчивые формы складываются там, где властвует один. Казалось бы – азбука, но через неё надо пройти, как через ожог ребёнку, чтобы горячо обрело статус обстоятельства, которым невозможно пренебречь.
Данила, щуплый, точёный, с прямой, как у оловянного солдатика, спиной ушёл первым – ему нужен был постоянный заработок, а мы выступали от случая к случаю за невеликие деньги. Он был порядком старше, и жить на одном энтузиазме у него уже не получалось. Какое-то время Данила играл на танцах в Бабкином саду (парк им. Бабушкина), потом – в кафе «Север» на Невском, где водился жирный карась, потом вёл класс гитары в детской музыкальной студии на Миллионной. Время от времени выступал с то и дело собиравшейся на пару концертов и вновь рассеивавшейся, точно наваждение, «Былиной».
Илья, сдержанный гордец и умница, ушёл следующим – окунулся с головой в поэзию, оторвав её от трепета струны. Тоже битва и тоже бездна – такая же безнадёжная, как и музыка. Он был сильной натурой. Слабые люди в любви и дружбе часто теряют искренность суждений и свободу действий. Не то Илья – он не терял, в любви и дружбе он не признавал оков, те, с кем он дружил и кого любил, ничуть его свободы не стесняли. Институт он не окончил, финансистом не стал, для поддержания штанов предался тонкому ремеслу – выучился делу у мастера книжной реставрации и устроился в переплётный отдел при Публичке. Потом по зову крови улетел в далёкий Ханаан на родину далёких предков. Где только люди не живут. А где люди – там книги. И книгам нужен ремонт.
Круглолицый Евсей, жизнелюб и весельчак с роскошными на зависть девам волосами, после распада «Зверинской» постучал с одними, потом с другими и вскоре роман с барабанами закончил. Остепенился, воцерковился. Женился на красавице Оксане из общины Князь-Владимирской церкви, несколько лет подряд на пару месяцев подряжался трудником в Белогорскую пещерную обитель на высоком берегу Дона, паломником объездил русские монастыри, Афон и Святую землю. Потом продал квартиру и с семьёй уехал в трудовой скит – дикое экологическое поселение на севере Ладоги.
Захар – поющая душа, редкого таланта мелодист, – сероглазый, мечтательный, худой и нескладный, женился на энергичной молдаванке, вместе с Майком записал альбом, родил двух девочек и, пока жена сживала со свету его родную мать, тихо сошёл с ума. Сначала на почве дзен-буддизма, потом – уже беспочвенно. Когда я случайно встретился с ним в последний раз, он собирал в Михайловском саду облако в стеклянную баночку, чтобы потом выпустить его дома в комнате. Сырая свежесть молодой зелени щекотала ноздри, рваная листвяная тень трепетала на гравийной дорожке. «Мы едим жизнь, и однажды она съест нас», – сказал Захар. Он был сосредоточен и пугающе безумен – облако ускользало.
В ту пору мне изредка начали сниться странные сны – не видеоряд, а череда застывших кадров. Чётких и достоверных, словно репортажная фотография. В этих картинках мир откровенничал со мной, делясь тайнами прошлого и будущего. Я смотрел на изображения, посланные мне прямиком в мозг, как посылают друг другу известия дельфины, и жизнь делалась понятной и ясной, точно рентгенограмма на просвет. Но пробуждение вновь взбивало донный ил, и ясность пропадала.
Переключу регистр ещё раз.
* * *
Интермеццо: фрагмент программы «Парашют» (конец нулевых)
Ведущая. Вы столько лет отдали музыке… Почему всё-таки простились с ней? Легко ли это вам далось, и нет ли запоздалых сожалений?
Август. Чёрт!.. Извините, сорвалось. Эта раскрашенная всей радугой переживаний растрата жизни оглушала. Но с музыкой я вовсе не простился. То есть с музыкой как таковой.
Ведущая (с удивлением). Но ведь вы не выступаете на сцене.
Август. Ещё чего. (Несдержанный взмах руки.) Согласен – в плену той грёзы протомился долго. Годы. Но и освобождался шаг за шагом. Хотя осознанно такую цель перед собой не ставил, поскольку сладкий плен нас не гнетёт.
Ведущая. И что же послужило причиной… э-э… разочарования?
Август. Прозрение. Оно пришло вместе с попытками понять, что всё же с нами происходит. Как вышло, что музыка вдруг стала всем, и почему ей это удалось.
Ведущая (с механическим воодушевлением). Напоминаю, в гостях у нас человек, имеющий прямое отношение к теме нашей передачи – участник памятной знатокам русского рока группы «Улица Зверинская» Август Сухобратов. Не скажу за других, но топот розового слона до сих пор гуляет эхом в моём большом сердце. Пожалуйста, Август, продолжайте.
Август. Да, рок всегда существовал в порядке сотворения кумиров – если ты намерен был надолго обосноваться в зале славы, то следовало обзавестись ордой поклонников и почитателей. Зачастую это происходило само собой, но всё же требовалось соблюдать кое-какие правила. В противном случае – судьба «Улицы Зверинской» и забвение.
Ведущая. Вы говорите о восьмидесятых? О начале? Я это время не застала.
Август. Ну да. В ту пору рок был не просто музыкой. Он противостоял официальной норме жизни. Именно жизни, а не только образцам её художественных достижений. Иначе говоря, этот музыкальный выбор говорил о твоём личном бунтарском отрицании устоев, иерархий и вообще всего строя обстоятельств в окрестностях твоего, в общем-то, беспечного существования. Даже в условиях вялого тоталитаризма подобный жест щекотал нервы – утрата опоры грозила зависанием и требовала обретения другого стержня. Поэтому в музыкальных избранниках видели не просто парней, умеющих принять позу и при этом попасть в ноты, а пророков, глашатаев новых контркультурных ценностей, не признающих фальшивые ценности официоза. В итоге кумиры разошлись по должностям. Один олицетворял интеллектуальную апологию маргиналов – сторожей, дворников и прочих беглецов с галеры, гребущей в будущее. Другой – романтический образ современника, чьи будни полны неизбывной экзистенциальной печали. Третий – трагедию личности, травмированной несчастной любовью к сладкой N. Четвёртый – вселенскую меланхолию комнаты с белым потолком. Пятый – воспалённую гражданскую совесть. Шестой – национальную идентичность, собранную в вязанку «мы вместе». Седьмой – идею ноля, решительного самоподрыва и аннигиляции. Так было в героический период и продолжалось по инерции ещё какое-то время, на вид казавшееся беспризорным. А между тем хозяева у наступившего времени имелись – революция стяжания бесповоротно инфицировала или сломала о колено всех. И русский рок, продолжая издавать характерные звуки, в действительности жил уже призрачной, загробной жизнью.
Ведущая. То, о чём вы говорите, это некоторым образом дополнительное измерение. А музыка? Чем для вас была она?
Август. Тут трудно обойтись без предыстории, поэтому прошу терпения. Принято считать, что одно искусство нельзя передать или объяснить средствами другого. В определённом смысле это верно. Да, музыку нелепо пересказывать словами, она свершается внутри нас собственными звуками. Да, живопись не выйдет изложить поэзией, а поэзию – нарисовать: на первую следует смотреть, второй – внимать. И прозу не получится сплясать в балете так, чтобы зрителя пробило – ах вот, оказывается, что хотел сказать нам автор «Котлована»! Всё верно, и чаще прочих к подобным аргументам прибегают музыкальные обозреватели и искусствоведы. Прибегают, вполне осознавая, что их задача именно в том и состоит, чтобы, слив в помои профессиональные спекуляции, растолковать как существо искусства в целом, так и его отдельных проявлений. Парадокс.
Ведущая (заинтересованно). Вы это утверждение оспариваете? Что музыку не передать словами, а прозу не сплясать?
Август. В известной мере.
Ведущая. В какой именно?
Август. Вот в этой: насколько верно представление, что музыка способна поведать о себе только звуками. И вообще, не выглядит ли статус того или иного художественного случая как заведомо невыговариваемого определённой внутренней разладицей в искусстве? Если кто-то полагает, что, «когда не думаешь, то многое становится ясно», и в состоянии благодушной созерцательности твердит, будто и впрямь существуют вещи, о которых не сказать словами, – так пусть, чёрт возьми, попробует сказать о них как-нибудь иначе. Ведь заявляет же человек о своём присутствии через мелодию души, через настырный позывной – смыслу произносимых слов при этом обычно не придают значения, однако позывной поддаётся осмыслению и, стало быть, дальнейшей передаче.
Ведущая. О каком позывном вы говорите?
Август. Неважно. Просто позывной. Вы распознаете его, стоит только прислушаться к чьей-нибудь речи. Именно так – не вникнуть в суть, а просто вслушаться в мелодию. Слова – всего лишь звуки, ноты, из которых складывается песенка души.
Ведущая (дружелюбно улыбается). Запишу себе в дневник в качестве домашнего задания.
Август. Но если так устроено…
Ведущая (внезапно возбудившись). Скажите, и у меня есть позывной?
Август. Есть.
Ведущая. И вы его слышите?
Август. Чтобы его услышать, надо перейти в режим приёма.
Ведущая. Понятно.
Август. Я продолжаю?
Ведущая. Конечно.
Август. Но если так устроено, что каждому из нас, кем бы он ни был, в надежде быть услышанным необходимо бесконечно высвистывать свою мелодию души, то и Создатель творящими глаголами, вероятно, заявляет о Себе. Таков Его Зов. Зов с большой буквы. Однако мы слышим (если слышим) этот Зов иначе, чем земную музыку – ведь благодаря ему, Зову, мы есть то, что есть, пусть по глухоте своей и не разбираем небесного о себе замысла. Благодаря Зову с большой буквы и гора есть гора, сбрасывающая снежную лавину, и ветер есть ветер, шарящий под рубашкой. Если дельфины – мастера эхолокации – во тьме пучины непрерывно окликают сущее, криком принуждая его проявиться, то Зов Создателя, Его творящие аккорды изначально призывают сущее к существованию. То есть призывают мир к бытию – со всеми пребывающими в нём дельфинами, снежными вершинами и мерцающими звёздами. Симфония-заклинание, которой покорна материя, – вот это да, вот это то, о чём мечтать не стыдно! Но для того, чтобы подобное сыграть, сначала надо научиться слышать.
Ведущая (озадаченно). Как всё, оказывается, сложно.
Август. Да, научиться слышать. А мы не слышим. И наша музыка вовсе не тождественна музыке как таковой, Его Музыке. Музыке с большой буквы. В сравнении с ней наша музыка выглядит скованной, робкой, даже боязливой, как будто опасается, что её вот-вот разглядят со всех сторон и обнаружат изъян, которого она стыдится. Более того, Музыка с большой буквы в своей полноте вообще недоступна для нас как нечто цельнозвучащее, ибо диапазон её шире возможностей нашего слуха. А то, что мы потребляем в виде повседневного музыкального сопровождения, в действительности за редким исключением оказывается помехой, ширмой, звуковой завесой, как треск в эфире, заглушающий почти неразличимую волну. Бряцание лиры, адресованное только человеческому уху и не имеющее отношения к потустороннему первоисточнику, не имеет и небесного мандата от Музыки. Совпадение имени – курьёз, омонимия. Не более того. Но если ты услышал звучание той, запредельной, пусть и в урезанном формате, ты уже не думаешь, искусство ли это, хороша ли она и ласкает ли твой слух – ты чувствуешь лишь необходимость этой музыки, её первородную законность. Как передать? Многие в бессилии опускали руки от невозможности донести до кого-то ещё то, что они в действительности слышали. Нотный текст «Картинок с выставки» Мусоргского полон апподжиатур, диких акцентов, спорадической альтерации и невозможных в исполнении динамических указаний – в пьесе «Катакомбы» композитор настаивает на одновременном усилении и ослаблении силы звучания в пределах одного вертикального созвучия. То же самое в партитурах модернистов, того же Дебюсси. Почему так? Да потому, что запись этой музыки – всего лишь несовершенное, приблизительное отражение её подлинного, потустороннего звучания.
Ведущая (волнуется, но старается не подавать вида). Боюсь, наши зрители не вникнут во все нюансы ваших рассуждений. Слишком много профессиональной специфики.
Август (смотрит на ведущую, моргает). Это не сложно. В позднем Средневековье толкователи церковных песнопений вооружились понятием musica ficta – мнимая музыка. Этот термин служил для описания высоты звука, который добавлялся певцами или музыкантами во время исполнения и находился за рамками строя musica recta – истинной музыки в соответствии с системой гексахорда Гвидо Аретинского. Не вдаваясь в детали современного толкования термина «мнимая музыка» – довольно произвольного и сильно отличающегося от описания musica ficta авторами Средневековья, – силён соблазн использовать его как метафору подавляющего массива звучащей ныне музыки. В противоположность музыке истинной, Музыке с большой буквы.
Ведущая (язвительно). Действительно, ничего сложного. Отдельное спасибо, что доверяете музыкальной эрудиции нашей аудитории и не вдаётесь в детали.
Август. Я хочу сказать, что линейка звуков, доступных нашему уху, имеет довольно чёткие пределы. Ни ультразвук, основу удивительного сонара дельфинов и крылатых мышей, ни инфразвук – зов океана, трепет тверди – человеческий слух не различает, поскольку в нашем чувствилище, по общему мнению, отсутствует орган, отзывающийся на эту частоту. Стало быть, сектор слышимого – лишь ограниченная часть истинной музыки. Однако и в таком виде она оказалась востребована – именно потому, что представляла собой врата в иное. Как и всякий трансперсональный опыт, эта первичная востребованность породила злоупотребления. Шаманское зелье пошло по рукам в виде приятного расслабляющего наркотика. Магический кристалл затуманился – слух определил для себя пределы желанного и в них замкнулся. Примерно таким образом слышимая истинная музыка превратилась в мнимую музыку. С тех пор запертый в границах приятного формата слух привычно внимает звучанию угодного обманутому уху шумового фона – запущенному по кругу строю обесцененных созвучий в разнообразных, порой весьма изящных вариациях. Обладай человек чувствилищем дельфина, наша мнимая музыка тут же избавилась бы от большей части заключённого в ней мусора, поскольку в оглашённой реальности китообразных и сладкая N, и Иванов на остановке, и розовый слон, и восьмиклассница, и мальчик слепой, и причал с рыбачащим апостолом Андреем присутствуют с предметной отчётливостью, штучно, а не в форме музыкальной темы. Вся приблизительность, эскизность, паразитирующая сегодня в теле мнимой музыки, была бы вытравлена, так как сделалась бы явственной и, следовательно, не заслуживающей снисхождения. Подобный глистогон определённо приблизил бы musica ficta к звучанию её потустороннего прообраза. Разумеется, если она не полное фуфло и прообраз всё-таки звучал. Не это ли имел в виду вестник сходящего с горы сверхчеловека, когда требовал от музыки, чтобы она не становилась искусством лгать?
Ведущая. Да, с таким изысканным отношением к нотам трудно в них не разочароваться.
Август (не реагирует). Между тем истинная музыка предназначена вовсе не уху. Точнее – не только уху. Зона её воздействия – органы чувств, фиксирующие напряжение и узловые точки внутреннего времени. Ведь она, неслышимая, но звучащая музыка мироздания, и есть крылатый Кайрос – хозяин мгновения удачи, той минуты, когда задуманное непременно воплощается.
Ведущая. Вот как?
Август. Точнее – и крылатый Кайрос тоже. Но наши улавливатели, ответственные за регистрацию внутреннего времени, пребывают либо в зачатке, либо атрофированы и потому бездействуют. Время для нас – только Хронос, ввергнувший весь мир в зону строгого календарного режима с тикающими механизмами на вышках. Не выпасть из расписания, прожить как можно больше сосчитанных наперёд дней, смотреть с тоской, как отлетает шелуха секунд в тьму вечности – вот наш удел. И это вместо того, чтобы прислушиваться к перебору струн, которые играют о тебе, улавливать вибрацию судьбы и, выбросив ладонь, выхватывать, как опасную осу из воздуха, свой миг удачи – свой шанс наладить связь с транслятором тебе направленного Зова.
Ведущая. Зова с большой буквы?
Август (смотрит на ведущую, моргает). Да, с большой. Именно благодаря бездействию наших улавливателей внутреннего времени реальность обрела столь выморочное состояние – мы больше не наследуем истинную музыку, она пропущена мимо ушей. Зато торжествует ухищрённая подделка, баюкающая сонный слух. Так что «человек разумный» с бо́льшим правом может называться «человеком тугоухим». Не в смысле глухоты, а в смысле роковой немузыкальности, – ведь он прискорбным образом оказывается неспособен расслышать Зов в замусоренном скрежетом эфире. (Смотрит на ведущую.) Зов с большой буквы.
Ведущая. А есть ли те, кто всё же слышит переборы струн, играющие ту музыку, благодаря которой они есть то, что есть? Или всё абсолютно безнадёжно?
Август. В своём заветном воплощении область звуков, доступных человеку, – зеркало для отражения потусторонней музыки, где и гармония сфер Пифагора с Аристотелем, и Кайрос, внутреннее время каждого из нас. Вот только тугоухий человек утратил чуткость к этому первоисточнику, который вовсе не голоса в сознании душевнохворых, а совсем, совсем иное… Возможно даже, он, первоисточник, нарочно не прилажен к нашим чувствам. Впрочем, попытки преодоления мнимой музыки были и делаются сейчас, хотя написанный двумя французами «Нацистский миф» утверждает, что после Вагнера с его тристан-аккордом никто уже не пробовал восстановить вещую музыку в правах. Чушь – пробовали ещё как. И русский орфик Скрябин с Прометеевым аккордом, мечтавший о симфониях звуков, света, ароматов и касаний, где произойдёт финальное слияние всех искусств в единое искусство – его осуществит воля величайшего художника, влекущего человечество в объятия Абсолюта. И Стравинский с петрушка-аккордом, венчающим его мерцающую музыку. И Курёхин со своей неописуемой «Поп-механикой». И новозеландец Грэм Ревелл, записавший диск музыки насекомых, где инсекты сами выступают в роли музыкантов.
Ведущая. Значит, Курёхин эти струны слышал?
Август (не реагирует). Однако вопреки заветному желанию область доступных звуков оказалась невосприимчивой ко всему, струящемуся свыше. Так что нам приходится иметь дело не с вещей музыкой, а с её чучелом – с пляской мёртвых нот. Пляской иногда довольно любопытной, как опыт гальванизации покойника, уже породившей собственные представления о музыкальности, собственные гармонии и прочие кадансы и синкопы.
Ведущая. О какой именно музыке вы говорите?
Август. Речь о всей мнимой музыке от кифареда Нерона и миннезанга до звуковых заставок и телефонных рингтонов. То есть о том, что, собственно, и является музыкальным сопровождением наших шумных будней.
Ведущая. Но во времена «Улицы Зверинской», надо полагать, вы думали иначе.
Август (порывисто). Да, я заблуждался. Я думал… Нет, наша музыка – та же звоностукобренчащая химера. Горько сознавать – она такова во всю ширь и толщу своего полива. Горько – потому что на месте, где был идеал, остаётся дыра. Изначально предназначенная под истинную музыку гладь доступных звуков накрыта паутиной шумовой завесы, сплетённой из призрачных мотивчиков, прилипчивых мелодий, закольцованных напевов. И под этой завесой, заглушающей вещие звуки, как в скверной теплице, зреет урожай – новые поколения человека тугоухого, неспособного расслышать ни гармонию сфер, ни весёлый посвист Кайроса, ни отчаянный позывной ближнего. Разумеется, речь не о том сигнале, который имел в виду Башлачёв, когда пел: «В ушах звучал секретный позывной».
Ведущая (улыбается). Вы снова про позывной? Но я ещё не выполнила домашнее задание.
Август. Снова. Поскольку без него – куда?
Ведущая. Живут же люди и не знают…
Август (перебивает). Ведь в песенке души каждый заключает самое дорогое и подлинное из того, что, как ему кажется, в себе имеет – вот это самое: пожалуйста, не спутайте меня с иными… Поэтому неподтверждённый приём рождает муку неуслышанности – томление, печаль, отчаяние и новое повторение призыва. До «петуха», до хрипа. А неуслышанность, будьте уверены, вам гарантирована – ваша мелодия невольно пропускается мимо ушей, как и аккорды истинной музыки. Поэтому страх, что твоё существование никем не будет удостоверено, преследует взывающего постоянно. И этот страх порождает сомнение в собственной реальности – существуешь ли ты, раз никто тебя не слышит? А это такое же глубокое переживание, как экзистенциальный ужас осознания, что ты, такой прекрасный, тонкий, чувствующий, такой единственный и непохожий на других, неминуемо смертен.
Ведущая (лицо выражает страдание). Боже мой, и что же делать?
Август. И тут от отчаяния мы переходим к плану «бэ» – упрощённой схеме получения свидетельства о собственном существовании. В дело идут готовые облачения, которые в среде, где ты более всего желал прописки, гарантированно признаны. В основе всех этих вечно повторяющихся битв стиляг и гопников, металлистов и панков, гномов и грибных эльфов, в корне всех этих нескончаемых подростковых разборок лежит зуд опознания, жажда подтверждения присутствия, сколь бы подложным оно ни было – скидка на условность подразумевается сама собой.
Ведущая. Вы говорите безжалостные вещи… Но мы, кажется, опять выходим в открытый космос дополнительного измерения. Скажите…
Август (перебивает). Хотя, признаться, иной раз кажется, что наша поразительная беззаботность, наша лёгкость бытия напрямую зависит от нашей тугоухости – спасительной неосведомлённости о той музыке, которая в отрезанном от нас эфире в действительности рокочет и журчит. Услышишь, что там играют о тебе, обо мне, о всех нас – куда засунешь свой щенячий оптимизм?
Ведущая (удивлённо). Как это – услышишь, какую музыку о нас играют? Если я правильно поняла, мы сами и есть часть той вещей музыки, которая наигрывает горы, речки, дубравы и нас, немножечко смертных. Мы – её порождение.
Август. В том-то и дело, что нет. Мы изгнаны из этой музыки, как из рая. Потому что симфония мироздания – и есть рай. Мы не слышим прелюдий ещё не разразившихся бурь и землетрясений, которые слышат муравьи, воробьи и мыши. Которые слышат кошки, загодя бегущие из Помпеи, чтобы археологам не достались их трупы. Мы – шальные звуки, как тоны musica ficta в гексахордах Гвидо Аретинского. Мы, тугоухие, в лучшем случае ловим тональность, а дальше выгребаем кто во что горазд.
Ведущая (с бледной улыбкой). Мне кажется, я разобрала ваш позывной. Но как передать его в нашем пока ещё не заглушённом эфире – ума не приложу. Получится сплошное пи-пи-пи…
Действие третье. Одичание
– …По дурости, конечно. Что там к чему – уже не помню, но коготок увяз. А как в ту пору мимо них проскочишь? Они же как репьи. Только гораздо хуже. – Мы с Евсеем сидели под навесом его летней мастерской (фамильярничая, он звал её «масте́рня»), с одной стороны которой начинался колючий мир карельской тайги, а с другой, переходя в широкую долину, стелился по склону холма солнечный луг, обсыпанный июньскими цветами. – Короче, пришёл один – с бригадирской цепурой на вые, пальцы впереди себя несёт – попросил болтовку вензелем украсить. А я мебельщик, не гравёр.
– Сказал? – осведомился я.
– Сказал. – Евсей поглаживал лежащую на верстаке дюймовую плашку, отсвечивающую желтоватым липовым светом. – Только им поди откажи – рогом прут, лоси. Им фиолетово – керамист ты или так, по батику. Художник – и баста. Ну мы, орлы из Мухина гнезда, – артисты из говна конфету делать. Так-растак, душевно в душу от души! Взял штихель, сплёл вязью на латуни монограмму: Пузырёв Вениамин. Благо, накануне вензелюшка на глаза попалась – «ПВ». Пётр, стало быть, Великий. Витая штука – большого ухищрения ума. Показал заказчику – одобрил. Неси, говорю, приклад, врежу пластину. А он болтовку целиком припёр, да ещё с пламегасителем. Я в отказ – не хочу дома держать, хрен знает, может, она мокрая и на ней двенадцать трупов. Поспорили. Уговорил, гангрена, они умеют. Оксана тогда была на седьмом месяце… Нет, плохого не скажу – без рукоприкладства, только силой убеждения. Это ж, говорит, такая хитрая конструкция – если приклад снять, опять пристреливать придётся.
– В самом деле?
– А я знаю? – развёл руками Евсей. – На всякий случай в перчатках мастырил, чтоб не наследить. Короче, сделал. Слава Тебе, Господи, – Евсей осенил себя крестом, – обошлось, думаю. А тот другим ухорезам нахвастал. Ну ко мне братва и повалила – в моду у них, что ли, именной инструмент вошёл? Калаши, обрезы, магазинки… Я отпирался, мне морду били. Аргумент. Платили, правда, хорошо: поди, решили, что я у них, саранчуги летучей, вроде полкового кузнеца – сбрую наладить, коника перековать. Полезный, типа, мудошлёп. А времена, сам знаешь, какие были – не до жиру. Опять же, младенец на руках… Словом, гравировал злодеям монограммы, хотя и не лежала к делу этому душа. А потом как отрезало. Слава Тебе, Господи. – Евсей снова перекрестился – привычно, не напоказ. – Коготок увяз, а птичка не пропала.
– Постреляли друг друга?
– Похоже. Прошлой весной в Петербург приезжал, товарища хоронил. Иду по кладбищу, гляжу – вензелюшка знакомая. Ну-ка, ну-ка… Подошёл – точно, Пузырёв Вениамин.
Евсей уже лет пять жил в диком трудовом скиту, в Чистобродье – экологическом поселении, зародившемся в середине девяностых как мечта о развороте оглоблей к первобытному состоянию ума, растворённого в природе. Заветы просты: отказаться от губительных плодов цивилизации, работать по старинке на земле, ремесленничать, рыбачить, кормиться от трудов своего рукоделия, собирать грибы и ягоды, размеренно плыть сменяющейся чередой природных лет и зим – и воцарится в Чистобродье мир, благоденствие и счастье, как в раю, который небеса время от времени завьюживают снегом. Место хорошее выбрали – вроде полчаса от Сортавалы, но съехал к Чистобродью с трассы, и будьте-нате – карельские дебри и гранитные глыбы.
История скита имела корни длинные, с узлами. Сначала сложилось ядрышко – человек шесть-восемь одиноких и семейных. Они, утомлённые городским мытарством, с конца восьмидесятых плутали по лесным углам Северо-Запада в поисках доброго пристанища, где можно было бы наладить общинный быт по своему аршину, без указки власти, которая вечно не даёт русскому человеку пощупать счастье. А его вокруг – полно. Катались по сукну, никак не попадая в лузу: не уживались с местными, не ладили с угрюмо подозрительными, не понимающими, в чём подвох, сельсоветами.
Потом вроде бы заякорились на Валааме как ремонтно-реставрационная артель. Но тут на остров вернулся монастырь – иных учреждений и общин, кроме чернецкой, на Валааме настоятель видеть не хотел и принялся, благословясь, пядь за пядью их с монашеского острова выдавливать. И хотя артель на ту пору ни в воинственном безбожии, ни в поганом идолопоклонстве замечена не была, но и она угодила в давильню. Упирались ещё год-полтора в надежде отстоять землю, но с монастырём бодаться реставраторам было не по силам, как вошке с гребешком. Видя непреклонность настоятеля и братии, не до конца ещё отстроившаяся артель, во главе которой встал выборным старостой архитектор Оловянкин, свернула труды по обустройству и вновь пустилась на поиски кисельных берегов. Оловянкин рек: «Монахи спасаются в минуты ропота молитвой, мы же идём путём иным. Потому что с художником Бог говорит языком красок, а с кузнецом – языком железа. Вот потому у нас и нет одних на всех молитв – у нас есть труд. Радостный труд, не оскверняющий землю, – вот наша молитва».
Приглянулось Чистобродье. И расположением, и именем – суровая красота Приладожского севера известна, а слово «экология» с конкретным направлением науки общинники не связывали, оно, это слово, означало для них скорее характер отношения к чуду первозданности, то есть понятие «экологический» совпадало в их представлении с понятием «чистый». Стало быть, прозорлив был настоятель – зерно ереси в артельщиках узрел: новые катары или новые пуритане, стремящиеся хоть крохотный кусочек мира, как чёрного кобеля, отскрести добела. Так и скребут до дыры в бездну. Именно такими их видел монастырский пастырь, а не просто городскими умниками, впавшими в восторг природопоклонения. Что тут предосудительного? Вот что: творение поставлено выше Творца – оно угодно чистым настолько, что во имя него, а не во имя спасения души, они бросают окаянный город и добровольно уходят в общинный затвор. Настоятель чистых не судил, но и тихий бунт их не приемлел.
Там, в Чистобродье, всё надо было начинать с нуля. Оловянкин заключил с монастырём договор о передаче земли и строений, артель в качестве возмещения получила причитающиеся деньги, после чего перебралась с острова на большую землю.
На окраине Чистобродья, неподалёку от приобретённого под возведение скита участка, сняли старую избу, где община и пересидела в тесноте первую зиму. Чёрными январскими вечерами под вой и посвист ветра в печной трубе – так насылают чары унылой песней ведьмы Карьялы – мечтали о своём грядущем поселении, основанном на правилах старинных технологий и свежих, сберегающих красу и чистоту пространства мыслях: сольём, вооружившись принципами биотека, с пейзажем дома, разобьём питомник северных садовых саженцев и огородных корнеплодов, заселим скотные дворы рогатой и безрогой животиной, гусей, индюшек, кур и перепёлок разведём, наладим солнечные батареи для отлова световых энергий, организуем детскую школу, поставим по дворам художественные и ремесленные мастерские – плетение корзин, резьба по дереву и камню, гончарный промысел – и заживём в веселье и трудах, встречая хлебом-солью наезжающих гостей – растущий день ото дня легион поборников природной жизни, врачующих свой закоптелый организм зрелищем прекрасных далей… Мечтали так горячо под холодную песню вьюги, что вымечтали наконец свой дикий скит – встал он в воображении как наяву и никаким напастям был уже не по зубам.
А ждать напасти не заставили. К весне бо́льшая часть средств, полученных от монастыря, растаяла под дыханием инфляции.
Оловянкин хмурился и думал. Морщины вреза́лись в его упрямое лицо, будто тяжёлый плуг тянули за собой неусмиряемые мысли. Он не любил прямоугольных планировок архитектуры – покатости холмов и ломаные углы скал питали его воображение. Точно так же, естественным и изворотливым путём повсюду пробивающейся жизни, текли его мечты и думы. Следуя за ними, морщины на его лице чертили кружева, подобные растительным узорам хохломы или орнаментам Альфонса Мухи.
И вышло так – очередной замысел сработал, содействие пришло. Руку протянул датский «Гудфред-трест», поддерживающий экологические поселения, разбросанные тут и там по миру. Староста Оловянкин представил проект трудового скита на международной конференции, проводимой «Гудфред-трестом» в Копенгагене – да так всё расписал, что выслушали его европейские господа с большим вниманием и отрезали от пирога ломоть, о каком общинники и не мечтали. После чего Оловянкин снискал в скиту такой авторитет, что позавидовали бы и восточные деспоты – ловкий, как уж, и красивый, как снегирь.
Закипела работа: к месту стройки проложили подъездную дорогу, подвели столбы электрической тяги, расчистили участки, запустили лесопилку, срубили первые дома и мастерские, разбили огороды и сады, поставили парники – без них на нашей широте куда? Трудились всем миром, по принятому на собрании общины плану. Всем миром же гуляли в праздники. Из главных были – Святки, Масленица, День Победы, Купальская ночь, Медовый и Яблочный Спас, Осенины. В остальном праздновали кто что хотел, неволи не было – Оловянкин объявил в скиту свободу совести и отправлений культов.
К общинному земельному наделу примыкало лесное Воронец-озеро с глыбистой гранитной осыпью по берегам. Пройти к озеру можно было от скита по набитой тропе. Была ещё старая, финских времён, дорога с северо-восточного края, но её общинники по-партизански перекопали рвом, сделав непроезжей. Теперь она зарастала осинами и молодой сосной, так что в пользовании у трудового скита оказалась и своя грозной красоты ламбина.
Ко времени моего прибытия в скиту сливались с природой, точно камбала, уже полсотни человек, из которых треть – дети, родившиеся по большей части здесь, в общине, стояли уже полтора десятка домов, четыре бани, клуб, часовня, в которую хлопотами валаамского пастыря приезжал служить из Сортавалы отец Иона, и четырнадцать с половиной гектаров отведено было под личные подсобные хозяйства. Завелось и небольшое, в три могилы, кладбище – были уже в скиту свои покойники. Старостой из раза в раз избирался архитектор Оловянкин, который рек: «Судьба человечества показывает нам, что мы не в силах сделаться свободными, пока добром не примем узы, связующие нас с природой. Так и искусству нашему не стать свободным, пока не перестанет оно стыдиться родства с изначальным творением, вышедшим из мастерской Отца».
В условиях тепличных, без учёта природных ритмов, без оглядки на свойства людской натуры, вырастить общественный жизнеспособный организм никак нельзя. А Оловянкин вырастить хотел. Поэтому и способ развития скита определился постепенный, без рывков и перегрузок. За годы его правления путём естественного и умышленного отбора – в общину вливались новые семьи, уезжали разочарованные и уставшие – сложилось в Чистобродье по заветам основателей устойчивое поселение, отчасти встроившееся в окружающий хозяйственный уклад, но власти над собой чужой не допускавшее – чтобы никто не мог мешать общинникам всласть щупать счастье. Разрослись пузыри парников и теплиц, буйным цветом цвели сады и огороды, работали мелкие производства, артели и заготконторы, разбил мичуринец Бубёный в долине сортоиспытательную станцию, а при ней – питомник годных для здешних мест плодовых саженцев и овощной рассады.
Принципы общежития Оловянкин очертил:
– каждая семья имеет собственный надел и распоряжается им по своему усмотрению, но не во вред соседям;
– общинник сам выбирает область приложения усилий, бытовой уклад, а также форму и меру участия в общинной жизни;
– избыток средств или общественная должность не добавляют прав и преимуществ перед остальными;
– управление общинной жизнью строится на основе добровольного самоустройства: всяк исполняет службу по его склонности и умению, решение же о совместных действиях принимается всем миром на совете;
– общинник может по желанию выйти из договорённостей, но только после исполнения принятых прежде обязательств;
– опираться следует по преимуществу на собственные силы – необходимое производить внутри, наружу отдавать излишки;
– к благим целям не следует идти порочными путями – пусть это ограничит денежный успех, зато исключит ложь внутри общины равно как и в связях с миром.
Так рек Оловянкин, неизменно завершая наставление: «Живите в трудовом братстве и согласии, ибо мы – это всё, что у нас есть». Он был умел в слове, хотя регламент жизни в целом очертил туманно – не Город Солнца. Впрочем, писаного устава, определяющего порядок отношений внутри скита, специально никто не составлял, как никто не строил преград, способных уберечь общину от вторжения плутов, корыстолюбцев, идеалистов-прожектёров и сумасшедших.
Конечно, удалось не всё: солнечные батареи, замкнутый цикл водоиспользования, утилизация и переработка мусора – для воплощения таких фантазий не было ни подручных средств, ни доступных технологических решений. Да и биотек выглядел затратной выдумкой в сравнении с дедовским пятистенком. Только Оловянкин с упорством муравья и опорой на собственные силы возвёл себе волнистый и покатый дом-курган с густой тимофеевкой на крыше.
– Так что же? – спросил я. – Состоялся завьюженный рай?
Из-под навеса мастерской было видно, как пара отчаянных скворцов гоняла с сосны на сосну белку, интересующуюся птенцами в их гнезде.
– Какой там рай… – махнул рукой Евсей. – Кто скажет так, тому – семь лет расстрела горохом по мудям. – Он приподнял и вновь положил на верстак липовую плашку. – Во-первых, если сам берёшься насаждать, то надо помнить: кто затеял райский сад, тот получит адский труд. – Евсей наморщил лоб, вспоминая, что хотел подать на второе. – И потом – люди. Понимаешь? Скит – это люди. А где люди, там рано или поздно кончается разум и начинаются нервы. Даже если люди – самый отбор породы.
* * *
Тут следует немного отступить назад и рассказать о девушке с большим сердцем, благодаря которой я оказался в Чистобродье. Ну да, той самой – ведущей музыкально-познавательной программы «Парашют». У нас с ней кое-что сложилось: взгляд, слово, интонация, улыбка и – бац! – прошла шипящая искра.
Пожалуй, первый узел заплёлся после её вопроса: «Скажите, и у меня есть позывной?» Вопрос нелепый, но именно тогда и накатило: а моя собственная песня? Мелодия моей души – какова она? Задумаешься – и пропал. Ведь свою песенку, как свою пулю, оказывается, не слышишь. Выходит, мы собственную мелодию вроде и не распознаём. Или лишь думаем, что распознаём, полагая, что о напеве этом осведомлены, как о чём-то само собой разумеющемся. Думаем, пока не взбредёт в голову попробовать для самого себя напев этот напеть. И всё. Сплошное недоразумение. Однако в том, что мелодия эта есть, нет никаких сомнений – приходит заветная минута, и мы понимаем, что она услышана. Не раз бывало с каждым: посреди разговора вдруг накрывает мягкая волна, как будто ангел охватил крылами и баюкает тебя в своём пуху. Это и есть оно – твой позывной принят и опознан.
Вот и тогда, когда прошла искра, мне показалось, что случилось. И грудь ожгло, словно вдохнул нежданно угли. И ожил, загудел внутри вулкан.
Говорят, любовь ослепляет. Меня она ещё и оглушила.
Девушку с большим сердцем звали Вера. У неё была детская полупрозрачная кожа, глаза с зеленоватой радужкой и крошечная родинка над ключицей. Там, в студии, назад тому минуту, я был уверен, что, даже специально не прислушиваясь, распознаю её мотив, и не сказать, что он особо примечателен. А тут, как только обнаружил эту родинку, вдруг в небеса взвились шальные скрипки, трубы органа дали по ушам и – всё, будто сменили у неё внутри пластинку. Передо мной явился новый человек – желанней невозможно и представить.
Вероятно, Вера тоже поймала эту искру. Хотя кто скажет что-нибудь о женщинах наверняка, раз музыка внутри у них меняется в одно мгновение? По крайней мере, провожая гостя после программы к выходу, в пустом коридоре студии она позволила себя обнять и пригубить и даже ответила озорным язычком, ловко юркнувшим в мой рот, после чего уже и мой язык был захвачен в плен и втянут в её сладкие – вот новость всякий раз – уста.
Вечером мы оказались в Коломне, поскольку Вера жила на Покровской площади, а я вызвался проводить. Сначала сидели в кафе за массандровской мадерой. Потом гуляли по Английскому проспекту – от Пряжки до Декабристов его обсыпали опавшие кленовые листья, и было пусто, как в блокаду, разве что светили фонари и окна. Железные богомолы – краны Адмиралтейских верфей – чётко прорисовывались на фоне гаснущего неба, и оттуда, с верфей, валил в поднебесье синий пар – сказочный пейзаж! Тут мы и обнаружили на тротуаре старинный телевизор КВН в деревянном корпусе, с пустотелой стеклянной линзой перед экранчиком, куда наливали дистиллированную воду, чтобы не зацвела, – вполне себе в приличном состоянии. Такой я видел в старых фильмах. Вера немного на нём посидела, отдыхая, а потом мы подняли его и потащили, не понимая толком зачем и куда. Но антиквариат оказался непомерно тяжёлым. Мы пронесли его шагов пятнадцать, а потом отдали засыпанному листьями проспекту. И в ту секунду между нами прошла ещё одна искра. Вот тут уже точно – случилось. Вера, сверкая зеленью глаз, пригласила меня к себе, и вскоре, очутившись у неё в квартире, мы сбросили неуместную стыдливость, как кроссовки при входе, и на ложе с невозможным лиловым бельём наши ноги сплелись.
Так началось. Так мы оказались вместе. И длилось это…
Это длилось.
Она была необычайна, я сходил с ума. Манящие звёздные отблески вспыхивали в её зрачках, а дыхание было таким лёгким, что, когда она в минуты передышки из баловства надувала презервативы, те улетали под потолок и болтались там, не желая спускаться. Я был уверен – и сама она рано или поздно улетит на небо, потому что там её настоящая родина. И это несмотря на то, что мой старший товарищ Георгий (речь о нём впереди), мнению которого я доверял, однажды увидев Веру, предостерёг: «Кроткую строит, а тут и без очков видно – ты, милая, давно уже в дамки прошла».
Да, любовь не только ослепляет, но и оглушает. Однако эти слепота и глухота особенного свойства. Казалось бы, рассеянные ко всему иному, чувства мои до невозможной остроты сошлись лишь на одном предмете. Но именно благодаря их предельной остроте и чуткости напряжение в фокусе сделалось так велико, что вихри психических энергий раз за разом вызывали сбой то картинки, то трепещущего звука. Когда мне вдруг чудилось, что я увидел её лицо, мелькнувшее в уличной толпе, сердце сходу переходило на престиссимо. Когда кто-то рядом невзначай произносил: «Вера», холодели пальцы, сердце замирало в томительной паузе и всё моё существо становилось одним большим ухом. Когда в компании мне вдруг мерещилось, что я слышу её голос, внутри разливалось жаркое студенистое оцепенение, и я терял способность искренне смеяться и шутить. Когда я смотрел программу «Парашют» в ящике и она крупным планом дарила мне с экрана свой лучезарный взгляд, меня поражала слезоточивая нежность. Словом, понятно, о чём речь: маленькое сумасшествие, коричневая чумка – признание тотальной, подавляющей, превосходящей разум исключительности одного человека перед остальными.
Мы виделись не регулярно: бывало, часто, а бывало, только раз в неделю – дела у неё, дела у меня. В тот год я много чертоломил, хватался за всё, что подвернётся – служил продавцом-консультантом в магазине музыкальных инструментов, давал уроки игры на гитаре, подрабатывал на студии сессионным музыкантом, ночами разгружал машины с товаром в открывшейся по соседству «Пятёрочке». Хотел заработать денег, чтобы купить толковый синтезатор, который может генерировать любые звуки, даже те, что за пределом слуха – нашёл в каталоге одной известной фирмы. На клавишах я, конечно, не Мацуев и не Рихтер, однако, пока пооботрёшься в группе, худо-бедно овладеешь каждым инструментом. Даже на ударной установке доводилось давить педаль и щёлкать дроби. Да это и не важно, что не Рихтер. Ведь как бывает: часто небеса венком людской любви венчают безголосых, а голосистым – гвоздь в ботинок. Всё для того, чтоб мы не забывали: для вышних судий не так важно, чисто ли ты попадаешь в ноты, как – чисто ли ты попадаешь в души. Хотя и ноты тоже, разумеется, никто не отменял. Словом, работал много. В таком режиме здорово выматывался, иной раз спал на ходу. И тут – Вера… Никогда не питал иллюзий относительно собственных физических достоинств. Ну в этом смысле. Всё как у людей – случались и осечки. Но с Верой силы оставались верны мне даже во сне, когда, изнурённый ночными разгрузками, я преступно засыпал рядом с ней, едва коснувшись подушки. Да-да, она была желанна настолько, что я геройствовал не просыпаясь – то, что становилось для Веры реальностью неугомонного соития, оставалось для меня содержанием моего сна.
Вероятно, в этих снах я забывал о предосторожности – однажды Вера сообщила, что беременна.
Известие обескуражило и окрылило. Признаться, мысли о ребёнке до той минуты мне в голову не приходили – в фокусе чувств, как сказано, была лишь Вера. Но я без колебаний предложил себя в полное её распоряжение, вместе с рукой, сердцем и всеми потрохами. В конце концов, я был уже не мальчик, первая седина в висках, давно пора завоёвывать царства, основывать династию и дальше – всё, что полагается, иначе будет поздно. Хотя, признаться, прошлый недолгий опыт семейной жизни, о котором вскользь уже упоминалось, меня не прельщал. Чего стоит одно только короткое воспоминание. Обычно я сам стирал свои носки, трусы и прочее исподнее, но однажды, когда я лежал, сражённый ангиной, запускать полуавтоматический стиральный агрегат «Малютка», наполненный моим бельём, пришлось жене. Из постели, через прихожую нашей крохотной съёмной квартиры, горячими глазами, в которых померкли цвета, я видел, как она распоряжалась моими носками в ванной: даже не пытаясь отжать, бросала на верёвки комом, не расправляя, будто брала в руки гадость, прикосновение к которой – позор, не смываемый керосином. Подобная картина способна охладить любые чувства. Поклонение вещам возлюбленного, конечно, перебор, но и брезгливое пренебрежение тут не годится – в конце концов, ввиду известной близости наших тел и бельё наше в каком-то смысле становится общим. А уж за носками я следил не меньше, чем бывшая жена за своими изысканными штучками, обметёнными для соблазна кружевом.
Но Вера жертвой не прельстилась. Её манила телевизионная карьера, рожать было совсем не время.
Стоял холодный март – помню заиндевевший от дыхания шарф и огуречный хруст снега под ногами. Я шёл в больницу, где накануне из Веры выскребли ребёнка. В воображении всплывали инструменты, придуманные медицинскими умельцами специально для таких вещей – они были ужасны в своём стальном холодном блеске. Представить их внутри любимой, в её волшебном тайничке – невозможно, выше сил. Мучительные чувства давили, словно подушка душителя, набитая чёрт знает чем – там нежность, отвращение, растерянность, готовность расшибиться всмятку и тревога с ознобом пробегающих по затылку и хребту мурашек. Неизъяснимый винегрет.
Я опоздал – договаривались в полдень, но прежде в этой больнице мне бывать не приходилось, поэтому сперва не рассчитал время пути, потом заплутал и в результате оказался в просторном немноголюдном холле только к часу с лишним. Видя, что не успеваю, звонком предупредил Веру о задержке. Кажется, она не обрадовалась.
На лестницу и к лифтам, ведущим на верхние этажи, где располагались больничные отделения, посетителей не пускали – то ли карантин, то ли проветривание, то ли кварцевание, то ли закончились или ещё не наступили положенные для посетителей часы. В дверях стояла гладкая полная женщина лет тридцати пяти, туго затянутая в белый халат – цилиндр варёной колбасы, облитый сливочной глазурью – и осуществляла зрительный контроль.
Набрал в трубке Верин номер. Она спустилась из палаты в холл – в знакомом домашнем халатике, расшитом турецкими огурцами, нежная и встревоженная. И губы у неё были мягкие, влажные и податливые, точно перезревшая слива. Дурачок, почему опоздал? У меня процедуры, времени – пара минут. А завтра уже выписывают. С нами не церемонятся – чик, и на выход.
Чувствуя неловкость (эта нарочитая торопливость – прежняя ли передо мной Вера или, лишившись нашей новой общей части, сделалась чужой?), я вручил ей пакет с фруктами – груши (она любила «конференцию»), нектарины, виноград. Заглянула внутрь. Какой ты милый. Вот спасибо. Тут, вообще-то, кормят хорошо, приличная больница. Ну, не горюй, иди, а то меня врачи порежут на кусочки – им только повод дай.
Неприступный страж кидал на нас косые взгляды. Завтра не приходи – в каком часу выпишут, не знаю, но шофёр со студии за мной приедет и отвезёт домой. И не накручивай себя, не зажимайся так. Уже всё позади. Ну, поцелуй скорей. Пока-пока.
И мимо колбасы в глазури упорхнула к лифтам.
Потуже замотав на шее оттаявший шарф, я вышел на улицу и нос к носу столкнулся с Ванчиком, которого не видел уже, должно быть, сотню лет. Он как раз выбирался из потёртой «короллы». С годами Ванчик сделался кряжистее, тяжелее, но на лицо почти не изменился – крупный костистый нос, румяные щёки в персиковом пушке и длинные светло-русые волосы, собранные в хвост и спрятанные под воротник пуховика.
Меня он тоже сразу опознал.
– Привет! – выплеснул руку. – Как дела?
– Порядок, – солгал я.
Действительно, разве это порядок, когда ты до одури влюблен, а твоя любовь убивает вашего ребёнка? Мог ли я что-то сделать – настоять, запретить? В конце концов, я – человек, внутри которого трепещет сердце. Но на каком основании? На каком основании запретить? Признаться, я не был достаточно настойчив в попытках изменить её решение. Когда заходила речь о том, что, может, всё-таки родить, – я видел на Верином лице досаду и смиренно умолкал. Возможно, не самая удачная аналогия, но тут между творцом и творением я выбирал творца. Отчего же теперь так скверно на душе?
– Чем занимаешься? – тряс руку и хлопал меня по плечу Ванчик.
– Втыкаю булавки в твоё чучело.
Почему-то я мнил себя вправе держаться с ним несколько надменно. (О, кабы знать, насколько мой экспромт окажется провидческим!) Он всё играл по клубам свой свинец, как будто изначально получил в дар какую-то последнюю правду и уже не имел нужды искать другую. Пожалуй, он даже гордился сделанным однажды выбором и своей твёрдой волей этому выбору следовать, в то время как мне казалось, что он просто загнал себя в незримую стеклянную тюрьму и однообразно жужжит там, как муха под стаканом. Потому что ничего другого, собственно, уже не остаётся.
– А я думал, пишешь фугу, которой усмиришь стихии, – сказал Ванчик. – Типа, как Орфей.
Ого – герольды впереди нас трубят о нашем приближении. Разумеется, после демонстрации внимания к моим творческим исканиям я не мог не поинтересоваться, за каким бесом он здесь очутился.
И Ванчик бодро поведал мне и тем, кто ещё не догадался, что он забирает из больницы после аборта свою девушку (Ванчик сказал «козу»). Само собой, речь шла о Вере – бывший соратник по школьному «Депо» похвастал её достижениями на ниве телевизионного эфира. Она и его, как идейного хард-рокера, вытаскивала раз повисеть на «Парашюте» – спускают же под куполом из высей танки, чтобы с небес, на землю, в бой…
Я был раздавлен, как Михей под большегрузом. У меня не было сил даже на писк. Пускай невольно, но Ванчик оказался невероятный мастер портить песни. Как мог я так долго оставаться с ним в одной музыке?
С тех пор я Вере больше не звонил. И она мне не звонила тоже. Вероятно, она наблюдала за встречей друзей юности в окно – мы были на виду в пустом заснеженном дворе. Что же, спасибо и за то, что хвост великовозрастному щенку оттяпали с одного удара. Бог знает, сколько этот свинский ужас тянулся бы, не опоздай я и не столкнись лоб в лоб с румяным Ванчиком. На счастье, и канал, где она обхаживала музыкантов, бесчестно улыбаясь мне с экрана, в одночасье сдулся, завял и переформатировался уже без Веры.
Умолчу про чувства и пустившееся во все тяжкие воображение, страшно мучившие меня тогда – они были ужасны, они были невыносимы, они были за пределом человеческого в человеке, как сатанинская мистерия, обращающая тень во тьму, или подлая китайская пытка. Уж тут чучелу Ванчика досталось.
Город, который подарил мне столько радости, столько восторгов замирающего сердца, подарил мне и предательство. Нет, тут надо бы найти иное слово – грубее и точнее. Предательство у нас в уме тождественно Иудину греху, а он по существу – форма торговой сделки. Здесь же была грязь без всякой выгоды. Грязь в чистоте замысла о ней. Хочу отыскать слово и не нахожу. Но потребность уехать из СПб я ощутил всем существом – зализывать рану надо вдали от места, где твоё сердце рассекли и окунули в выгребную яму.
Не будь солнца, Икар остался бы жив. Но оно было, и он полетел. Ничего не попишешь – не стоило терять слух до таких немыслимых пределов.
Дождался, когда прибудет заказанный синтезатор, и отправился в Чистобродье к Евсею. Он человек уравновешенный, семейный, авось на время приютит – мне самому так нужно было вновь уравновеситься.
* * *
Со стороны леса в соседстве с Евсеем хозяйствовал кузнец, который варил тигельный булат, сплетал, гнул и расковывал железные пруты в дамасскую сталь, отпускал и закаливал оттянутые молотом клинки. С другой стороны, за лугом, жила Гороховая Фея (по удостоверяющим существование бумагам – Фея Ивановна Прогляд), засадившая свою землю и вообще всё вокруг ползущим на усах горохом.
Кузнец-оружейник и два его сына-подростка мастерили ножи, топоры, мясные тяпки и мачете для ценителей железа ручной выделки. Однако при нужде могли сковать ограду или каминный гарнитур – совок, щипцы и кочергу. Да и вообще – всё что угодно. Но главное – клинки. Евсей иной раз помогал им с рукоятками и топорищами: на черенки шли лосиный рог, карельская берёза, капа, береста, на топорища – дуб и ясень. Жена кузнеца занималась сертификацией изделий и на старенькой «Ниве» развозила товар по мелким оружейным лавкам в Петербурге и Петрозаводске. Она же отвечала за интернет-продажи – вела сайт и рассылала из Сортавалы бандероли по всей стране. Русская женщина плохо приспособлена к искусству ведения торговли, как серна к дойке, – кузнецу приходилось жену иной раз понукать, с нежностью приговаривая: «Курица – птица гордая: пока не пнёшь – не полетит».
Гороховая Фея, которую Евсей звал не иначе как гороховое пугало, несла соседям благую весть такого содержания: слепцы и маловеры, чудо чудес и ценность ценностей давно обретена – усатый поводырь горох указывает путь правильной и здоровой жизни. Фея и сама походила на сутулый стручок, но пальцы её были цепкими, а голос оплетал вьюном, пробирался в ухо и словно вылизывал ушное отверстие изнутри.
Проповедь её была трёхчастной, подобно «Саду земных наслаждений». Во-первых, благодаря наличию необходимого и сытного белка горох прекрасно заменяет мясо, при этом несравненно лучше усваиваясь организмом. Он не имеет дурных обременений, свойственных животной пище, и не потворствует недугам, на которые обрекают свои суставы, печень и сосуды мясоеды. В горошине счастливо собрались в одну компанию клетчатка, углеводы, жиры, крахмал и всяческие витамины: кому-то нужно фолиевую кислоту, кому-то никотиновую, а кому-то бета-каротин, ну а в горохе – всё на выбор. А что творится с минералами и микроэлементами! Таблица подчистую. Словом, в питательности и разнообразии состава гороху равных нет – чревоугоден, надолго утоляет чувство голода, а натуральный сахар, заключённый в мозговых сортах, способствует наклонности к глубокомыслию.
Во-вторых, помимо кулинарного, бесспорно и целительное благо. Горох – отменный антиоксидант, предупреждающий развитие злокачественных вздутий. Он помогает при избытке тела, подстёгивая жировой обмен, содержит в надлежащем виде холестерин, предотвращает астму, снижает риск инфаркта и гипертонии, способствует естественной отдаче желчи и противостоит туберкулёзу с диабетом. Он обладает мягким мочегонным свойством и расправляется с кислотностью в желудке. Угри, фурункулы, экземы, рожистые воспаления – всё по плечу ему, а зелёные стручки – испытанное средство от глистов и водяных отёков.
И третье, наконец: горох – живой. Как всё живое, наделён сознанием и волей. Он сам себя готовит в жертву человеку, накапливая в теле изумительную пользу. Об этом вещует Пифагор, который изначально, как известно, был Эфалидом, отпрыском Гермеса от девы, чей отец стал прародителем мирмидонян – народа Ахиллеса. Гермес предложил сыну на выбор какой угодно дар, кроме бессмертия, и Эфалид просил не отбирать у него память после смерти: пусть сохранит воспоминания о том, что с ним происходило – о всех тропах жизни, какие доведётся ему пройти. И стало так. Впоследствии он родился троянцем Евфорбом, который ранил Патрокла и сам был ранен Менелаем, потом душа его переселилась в прорицателя, следом – в рыбака. Лишь после этого он явился Пифагором. Хвала Гермесу, он помнил о всех своих перерождениях. Более того, помнил о том, как странствовала его душа, пока не обретала пристанище в человечьем теле – в каких растениях и животных она оказывалась и что пережила в Аиде… Словом, воздерживаясь от животной пищи и бобов, видавший виды Пифагор превозносил горох, дарующий здоровье организму, ясность уму и усладу чреву, ибо сам был и зверем, и скотом, и птицей, и бобом, и луком, и горохом, благодаря чему познал природу всякого, в чьём теле побывал.
Гороховая Фея, впрочем, не ограничивалась рекомендациями мыслителей, целителей и гастрономов, но имела собственный опыт общения с чудесной мозговой культурой. Она в прямом смысле со стручками говорила, и те в ответ согласным хором горошин рассказывали ей о своём житье-бытье. Оно, это житьё-бытьё, было направлено на пользу человека вплоть до того, что горох брал на себя заботу о красе его лица, поскольку был способен молодить – мука из юного гороха, по заветам Феи, служила лучшей основой для косметических масок.
– Ещё немного – и она бы основала гороховую церковь, – посетовал Евсей. – Чтоб ей своим горохом подавиться! Но Оловянкин запретил ей проповедовать. Послушался отца Иону и запретил. – Не удовлетворившись сказанным, Евсей призвал на помощь народный разум: – Кабы на горох не мороз, он бы через тын перерос. – И пояснил: – Одно дело свобода совести, другое – если крыша набекрень. Заразный псих – вредней холеры.
После запрета на проповедь, подтверждённого общим собранием скита, учение Феи ушло в катакомбы – она исподволь продолжала тихую борьбу за идеал идеалов, давая соседям советы по приготовлению блюд из несравненного плода земли и угощая их изделиями гороховой кухни. Так, например, скитники узнали, что если вместе с горохом подавать на стол укроп или фенхель, то эти травы значительно сократят неуправляемое производство газов. Однако Евсею как хозяину сопредельной территории, на которую Батыевой ордой наползали гороховые стебли, с лихвой хватало и советов – неспроста горох в его личном уложении о наказаниях играл столь существенную роль.
Гороховая Фея была здесь не единственным уникумом. На другом краю скита жил Семён-Грибовик, молившийся великому мицелию. Он имел последователей, но окормляемая им секта была настрого закрытой – адептам следовало пройти суровую инициацию, сопровождаемую отрезанием уха, – так что в деталях культа мало кто разбирался даже в Чистобродье. Гороховая Фея и Семён-Грибовик пребывали в состоянии непримиримой вражды. Все попытки перехода этой вражды в активную фазу пресекал Оловянкин, чтобы не обратить движение жизни вспять и не очутиться вновь в тех былинных временах, когда, по известной поговорке, царь горох с грибами воевал. Словом, жили своеобычно, с причудами – помимо часовни, находилось место и капищам.
Что тут сказать? Я уважал Пифагора, ведь он сверял свою жизнь с музыкой сфер, которую, без сомнения, отчётливо слышал. Именно Пифагор первым обратил внимание на изменение высоты тона в зависимости от длины колеблющейся струны и произвёл разметку монохорда. Гармонию чисел он находил родственной гармонии звуков – оба эти начала усмиряют хаос в сознании. Вообще, музыка в его учении играла ключевую роль: он утверждал, что добродетель – это гармония. Разумеется, в музыкальном смысле, а не числовом. Вполне созвучное моим исканиям соображение. Но такого: быть в одном из рождений горохом, запомнить и возвестить… – нет, никак не ожидал. Да и откуда Гороховая Фея это взяла? Разве только душа Эфалида, оседлав Пифагора, как ездовое животное, всё-таки не добралась до мокши и обрела теперь пристанище в её, Феи, стручкообразном теле. И помнит всё.
Занятия Евсея находились в промежутке между трудом кузнеца, имевшим дело с раскрасневшимся железом, и проповедью о жертвенном спасителе – горохе. Он работал с деревом, а когда в часовню скита приезжал служить отец Иона, помогал ему в качестве чтеца. Над деревом Евсей корпел не как обычный столяр, мастерящий филёнчатые и клиновые двери, оконные рамы, столы, гробы да банные скамьи, а с воображением – как художник. Семейной артелью, с женой, дочерью и сыном, Евсей изготавливал штучную мебель в диком стиле – нарочито грубую, с обнажённой фактурой материала, с подчёркнутой естественностью узловатых линий, первобытно основательную, но при этом безупречную в стыках и подгонке, продуманную и сделанную во всех деталях от браширования и тонировки природного древесного узора до стволовых и корневых извивов в отделке спинок, ножек и подлокотников. Подобным образом могла бы выглядеть мебель в интерьере берлоги из сказки про Машу и медведей. Хотя иной раз Евсей позволял себе и эклектику, помесь первородства и хай-тека – стол его работы с толстой стеклянной столешницей, крепящейся на хитросплетённой отполированной коряге, похожей на одеревеневшего спрута, украшал студию утренней программы одного из федеральных каналов.
Дикую мебель заказывали состоятельные хозяева загородных поместий из тех, кто в качестве строительного материала пенобетону, SIP-панелям и сайдингу предпочитал вручную окорённое бревно или лафет; помимо них – частные охотхозяйства и владельцы лесных гостиниц. Сайт артели наглядно представлял готовые образцы тех или иных предметов обстановки, стадии изготовления их в мастерской, а также фотографии наиболее интересных спальных и столовых гарнитуров в интерьере дач и охотничьих домиков. Не сказать, что заказов было много, всё-таки штучная мебель – вещь дорогая и делается не враз, поэтому, случалось, деньги шли густо, а случалось, считали каждую копейку. Но в целом в доме Евсея чувствовался достаток: не было лишнего, но не было и нужды – хватись чего, есть в доме всё необходимое. В том числе и своя животинка – по примыкающему лесу, роясь в хвойной подстилке, бродили куры, по лугу скакали озорные козы, а во дворе караулил трясогузку черепашьей окраски кот. Козья вольная стайка частенько подъедала соседский горох – вероятно, о козах этот разумный вьюн тоже имел заботливое попечение.
* * *
Евсей отвел мне небольшую пристройку с печкой-шведкой, на плите которой можно было греть чай и кашеварить. Как выяснилось позднее, когда настали холода, с охапки поленьев – две закладки – печка держала жар с вечера до утра, так что зимой достаточно было протопить её утром и на ночь, чтобы каморка не простыла.
Но тогда, когда я только появился здесь, над карельской тайгой распластывал крыла дымчато-зелёный май, а вслед ему уже дышало влагой и зноем пёстрое лето. Первые дни Евсей водил меня по окрестностям Чистобродья, открывая заповедные красоты – сырые тенистые лощины, полные басовитого, тугого мха и свисающего с еловых стволов седого бородача-лишайника, густые черничники и брусничники (мочёная брусника неизменно подавалась здесь к столу), ручьи с буроватой торфяной водой, заросшие вековым лесом скальники и светлые затаённые поляны, убранные жадными до жизни северными цветами. Эдем, если б не звереющие летом мошка́ и комары. Евсей, впрочем, не забывал о деле – даря мне лесные тайны Чистобродья, сам присматривался к выворотням, фигурным сучьям, странно изогнутым, будто в корявой пляске, стволам берёз и сосен, наростам-капам, разлапистым можжевеловым кустам, словом, ко всему, что можно было бы в мастерне куда-то приспособить.
Мне сразу пришлось по душе пустынное, вытянутое башмаком, торжественное в своём спокойном величии Воронец-озеро, чьи берега были усыпаны циклопическими обломками довольно странных для первозданной природы (правильные кубы и параллелепипеды) форм. Эти камни сбросили вниз окружавшие озеро скалы при случившемся тут в 1635 году трусе – редком для этих краёв землетрясении, попавшем в хронику Соловецкого монастыря. Между подёрнутыми струпьями лишайника глыбами, оплетая их узловатыми корнями, проросли берёзы, ели, осины и сосны – здесь нужно было не зевать, чтобы невзначай не расшибиться и не поломать ноги. Вода в озере была чистейшая и меняла цвет вслед за погодой и временем суток. Мы с Евсеем, голые, поскольку берега здесь по большей части оставались безлюдными, ныряли с каменных уступов в шелковистую прохладу, плескались, фыркали, а после сидели на глыбах гигантской сыпухи, слушая немолчную тишину пространства – посвисты, трески и шорохи, с которыми входила в нас стихия.
Случалось, Евсея одолевало странное воодушевление – не в силах совладать с ним, он доставал из кармана окарину (дочь его, помимо артельных дел, занималась в мастерской у керамистки, живущей здесь же, в трудовом скиту, поэтому весь дом Евсея был заставлен крынками, плошками, игрушечным зверьём и разнообразными свистульками), закрывал глаза и со счастливым вдохновением, словно отвечая на ему одному адресованный оклик, выдувал из глиняной свирельки, похожей на раковину морского моллюска, то протяжные писки, то быстрые сбивчивые трели, равно лишённые лада и смысла. В юности вихри неугомонного любопытства пару раз завлекали меня на выступления отечественного и заезжего фри-джаза – та же картина: играть тот самозабвенный вздор, что звучал со сцены, судя по виду музыкантов, было бесконечно сладостно, но слушать его – всё равно что есть ту стряпню, которую готовят, воображая себя поварами, в песочнице дети.
Что слышал Евсей, на чьё приветствие отзывался – бог весть. Лично ко мне тишина Воронец-озера, наполненная лёгкими всплесками, птичьей перекличкой и то нарастающим, то стихающим шипением ветра в кронах, взывала нездешними мелодиями. Тут царили низкие тоны тростниковых флейт, подчас взлетающие и парящие, как поймавшие восходящий воздушный поток драконы, но потом неизменно спускающиеся на самое дно ущелий, в багровую тьму земных разломов, потому что родом они были оттуда, из хтонических глубин. И опять – поднявшись и описав величественный круг, звуки стремились в зону инфра, за край доступного человеческому уху диапазона. Кто знаком с индейскими «Pampa lirima» или «Flor de un dia» – тот поймёт, о чём речь. И пусть те горы (я увидел Анды через пару лет), которые навеяли людям солнца эту музыку, нелепо сравнивать с лесистыми карельскими утёсами, гул каменного трепета земли, где-то всё ещё отчётливо звучащий, а где-то едва слышимый в затухающей реверберации, – порождение одной природы и считывается чутким слухом схоже.
Потом, уже в одиночестве, я часто ходил на Воронец-озеро, пятная кроссовки сочными кляксами сбитой черники, и слушал его музыку, возможно – отзвуки древних излияний магмы, которые в дремучие эпохи породили Балтийский щит, а может, аккорды содрогания земли, случившегося здесь всего четыреста неполных лет назад. Настраивался, ловил внутренней лакуной-резонатором неслышимые звуки и соображал. Картина понемногу складывалась. Примерно так: ультразвуковые колебания, которые лежат за пределом человеческого слуха, но оглашают мир дельфина и нетопыря – это те октавы ве́щей музыки, которые несут ответственность за пребывание тех или иных предметов в мире. За наличие в нём уже пригодных к опознанию форм. Не то чтобы неслышный уху музыкальный образ, подобно мгновенно действующему 3D-принтеру, отливал из предвечной пустоты буфет, табурет или другую полезную штуку, нет – речь об уникальности каждого конкретного подтверждения существования уже существующего.
Далее – музыка в диапазоне звуков, доступных, а стало быть, и напрямую предназначенных человеку. Музыка, которая предъявлена нам в виде улыбки Чеширского Кота, в то время как сам кот находится уже за границами восприятия. Музыка, обращённая нами в ficta… Впрочем, в своё время о ней уже было подробно рассказано в программе «Парашют». Печальная история, имевшая печальные последствия. Повторять нет нужды. Довольно помянуть слова Стравинского, который, дело понимая, говорил, что музыка дана нам для того единственно, чтобы внести порядок в сущее, и прежде прочего – в отношения человека со временем.
Следом – инфрамузыка. Совсем другой компот. Царство её звуков тоже расположено за гранью слышимого, но, так сказать, с противоположного от зоны ультразвука края мнимого безмолвия. Инфрамузыка отвечает за состояние, за формирование, за процесс, за пластические метаморфозы материи и конфигурации её многосложных структур. Более того, неслышимая, она подспудно, через внутреннюю лакуну-резонатор (если этот резонатор не деформирован и хорошо настроен) распознаётся нами и даёт нам представление о том, о чём мы не могли бы узнать никак иначе. Вот, к примеру: известно – вещи можно видеть, но не мыслить, в то время как идеи мыслятся, оставаясь незримыми. Но если речь идёт об отваге, соразмерности, справедливости, благе, единстве целого или же о красоте как таковой – разве возможно помыслить небесный эталон этих вещей как нечто наглядное? Ведь справедливость – не амфора, в случае которой всегда можно обратиться если не к образу совершенной сущности, то к образцу, который был выставлен на афинской Агоре как принятый стандарт в палате мер и весов, и отвага – не сапог, который, чем меньше жмёт и натирает, тем ближе к своему эйдосу. В случае блага и красоты как таковой картинка может только ввести в заблуждение – оптика тут бессильна. Стало быть, исходным оригиналом, идеей этих вещей, как и единства целого, призвано служить потустороннее созвучие, эхо которого иной раз отзывается и в здешней музыке. И ничто кроме него.
Или взять Оловянкина. Допустим, он правит Чистобродьем, как Солон – Афинами, и он – философ, как Платон, поскольку всякий древний грек стремился помудрить, а без того жизнь ему была пресна, и лепёшка с вином вкушалась им без удовольствия. Так вот, допустим, правитель Оловянкин решил подарить своему полису/скиту и остальному миру справедливейшие законы и разумнейший уклад. И подарил. Но вот вопрос: с какой стати обитатели Чистобродья – и в целом и в отдельности – должны радеть о чём-либо ещё, помимо личной выгоды? Ведь получается (предположим, и у Оловянкина получится, как у Платона), что блюдущие истину стражники, которых согласно разумнейшему укладу придётся в скиту завести, должны быть стойкими не из собственного интереса, поскольку самим им, сообразно их обязанностям, придётся претерпеть определённые лишения, а кузнецу, садоводу или дикому мебельщику Евсею вменено будет исполнять ограничения (непременно будут ограничения) из соображений, не имеющих прямого отношения к смыслу их труда. Да что там стражники и садоводы! Сами мудрецы-правители во главе с Оловянкиным будут вынуждены править как бы без охоты, по необходимости, жертвуя наслаждением многоумных бесед – ведь именно философическим беседам, как известно, предаются души блаженных, угодившие в Элизиум.
Во имя чего эти жертвы, когда ты просто хочешь щупать счастье? Вероятно, во имя гармонии и соразмерности целого, во имя государства Оловянкина. Ну то есть так обстоит дело в полисе Платона. В скиту дело будет обстоять иначе, но в чём-то непременно схоже, раз речь идёт об идеале. Ведь идеалу без гармонии и соразмерности не быть (а гармонии и соразмерности – без самоограничения и беззаветности) – схожи при всех различиях и термитник с ульем. Однако же как обнаруживает себя эта гармония целого? Как заявляет о своём существовании? Загадка.
В хрестоматийном труде, положившем начало коренному визуальному закосу вольной масли, Платон вкладывает в речь Сократа идею рокового разделения: мол, земным знаниям в каждой отдельной области соответствуют высшие знания – небесная геометрия, предвечная астрономия, совершенная математика и так далее, предметами которых являются доевклидовы фигуры, светила и пространства как таковые и числа сами по себе. Есть среди упомянутых дисциплин и музыка. Почему же Сократ, исследующий сущее до корешка, не открывает Главкону, а заодно и всем заглянувшим в книгу её, музыки, истинное значение? Я недоумевал, пока не догадался: так-растак – да ведь именно о ней, о потусторонней музыке, речь здесь и идёт! Точнее, об определённой теме небесной симфонии.
Прежде я упоминал о пустотах-резонаторах, скрытых в человеке. Именно они воспринимают и воспроизводят неслышимую музыку, и именно их, эти резонаторы, (подобно моему старшему товарищу Георгию) на протяжении всего повествования настраивает Сократ, превозмогая сорные шумы и пагубную тугоухость собеседников. И этот неслышимый мотив большой симфонии не что иное, как гармоничное звучание идеального государства. Неспроста так часто тут всплывают образы души и лиры. Любой отлаженный агрегат – двигатель, турбина, помпа – играет свою, доступную даже нашим ушам тему, и опытный механик сразу просечёт, что стало с механизмом, если эта тема вдруг изменилась/сорвалась. Так и у любого целого, в отличие от его имитации или просто мёртвой детали, есть своя мелодия. И уж конечно, праведная, справедливая душа исполнена неслышимой гармонии. Что уж говорить о лире. Так вот, когда резонатор настроен и неосязаемая прежде небесная гармония вдруг врывается в тебя, её уже ни с чем не спутать и от неё не отступить. Она отзывается в тебе неукоснительным порядком действий. Но на словах поведать человеку тугоухому об этих безукоризненных божественных созвучиях получится едва ли. Поэтому Сократ при всей своей соображалке делать это даже не пытается. Что уж говорить про Оловянкина – не вышло бы и у него.
Пустоты-резонаторы, упузырённые в нас, на деле редко кем используются, хотя именно они должны улавливать как позывные ближних, так и потустороннюю музыку вкупе с неслышным трепетом тверди. Улавливать и воспроизводить, как мембрана динамика воспроизводит добежавший импульс. И вот картина: музыка сфер очищена от искажений и заглушающих шумов, так что все в трудовом скиту стали способны прежде не слышимому внять. Внять и партию свою воспроизвести. Получится оркестр, где каждый человек настроен, как должным образом звучащий инструмент – оркестр, исполняющий партитуру космической симфонии, которой ежечасно лакомятся ангелы и которую столь редко удаётся слышать многогрешным нам. В этой воспроизводимой обществом-оркестром симфонии – грёза Скрябина – будет развёрнута и тема справедливых законов, и тема разумного уклада, и тема единства целого, аккорды которых, как и всей симфонии, увы, пока что не слышны обольщённому самообманом слуху. И внутри этого оркестра стражник будет стоек без личного интереса, кузнец, садовод и мебельщик самоограничатся во имя общего блага, а мудрец-правитель будет править справедливо, не ведая соблазна побыстрей свернуть труды и дёрнуть на философический симпозиум.
И всё это – музыка в расширенном диапазоне. Музыка, не ограниченная несколькими октавами нашего слуха и двенадцатью тонами темперированного звукоряда, не скованная отношениями тоники и доминанты. То есть – Музыка. Её звучание не просто выходит за пределы слышимого, но только в тех областях и сохраняется в практически неискажённом виде. В диапазоне инфра исполняется музыка сфер, оттуда взывает Зов, там рокочут отзвуки творящих глаголов, по этим частотам разливается симфония гармонии, соразмерности и порядка. Но и музыка гнева, гибели, преображения, огня звучит, неслышимая, там же. Эту музыку я и хотел играть. Да! И ту, и ту, и ту – не нота в ноту музыку порядка, музыку войны или музыку извергающейся магмы, а просто музыку, призванную властвовать над сущим, рождённую его осуществлять. Такое непростительное легкомыслие.
На берегу Воронец-озера я ловил отзвуки этой музыки, которая вливалась в меня и откликалась не созвучиями и сменой настроений, но правильными мыслями. Бывало, каждая клеточка моего организма трепетала в сладостной гармонии с другими, со всем окружающим миром. А бывало, музыка врывалась настолько мощно, что не выдерживал напора и бежал – стремился прочь, чтобы, ощущая спиной взгляд водяного глаза, уменьшиться и исчезнуть вдали.
Забыл ли я здесь то, что хотел забыть – девушку с большим сердцем? Забыл. Не помню ни дня рождения, ни имени. Вру, разумеется. О смерти, поселившейся в тебе, забудешь разве?
* * *
Всю осень и зиму я терзал синтезатор, как пифагореец Гиппас свою звенящую медь. Этот мозговитый муж внял учению, согласно которому движение небесных тел производит гармонию сфер, лежащую также в основе музыкальной гармонии, и пытался воспроизвести первозданную музыку в своей симфонии звуков. В ход шли то ли медные доски, то ли диски – прообраз карильона – и наполненные в разной степени водой сосуды. Чего достиг Гиппас, помимо открытия числовых отношений для консонансов и соображений о быстрых и медленных движениях звуков, нам неизвестно, но шуму он наделал, раз поминают до сих пор.
Когда осознаёшь желание (пусть даже не вполне определённое) и представляешь, какими можно средствами его достичь, но дело не даётся, оказавшись сложнее, чем вначале представлялось – надо запастись терпением, чтобы не впасть в уныние и вдребезги не разнести ту глыбу мрамора, которая не хочет становиться Галатеей. А глыба нерасчленённых звуков, точно музыкальный риф, скрывавший бо́льшую свою часть за пределом слуха, не давалась моему резцу. Возможно ли вообще для человека все звуки мира распознать и, ничего не упустив, в божественном подобии сложить повторно? Один упустишь обертон, один оттенок – целому не быть. Ведь, случается, и композитор, слушая со стороны оркестрованное исполнение своей вещицы, иной раз не ловит ухом ту или другую ноту того или другого инструмента, которые сам в партитуру по внутреннему наущению вносил. Зачем он делал это, раз слух подчас не способен различить в сложных аккордах каждый тон в отдельности? Возможно, не для того, чтобы их слышать, а чтобы музыка свершилась до конца. Или, скажем, техника игры. От неё наверняка зависит что-то. Если твоя техника не в силах (а она не в силах) соперничать с техникой Первого Исполнителя, что тогда? Ведь, может статься, произойдёт не просто пшик, а нечто страшное… Отчаяние охватывало, как тяжёлая ангина, голова туманилась, опускались руки, и наступала тишина. Такая тишина, что было слышно, как за окном в порывах ветра стучат деревянным стуком, словно бусы, гроздья замёрзшей до костей рябины.
Но я не отступал. И повторялось снова: я находил едва ли не на ощупь созвучия, как слышимые, так и нет, хотя назвать последние «неслышными» – странно, ведь они довольно внятно отзывались в чутком от напряжения внутреннем пузыре, где и решалась мера их гармонии и свинства (ох как умеют свиньи разрушительно визжать, заслышав поступь свинобоя). Порой казалось, что нащупал, и прямо здесь, сейчас, вот-вот что-то произойдёт с материей – полыхнёт в безвидной пустоте цветок огня или из-под ног взовьётся гейзер. Но не случалось ничего. При этом я определённо слышал сдвиги в теле мира, слышал вздохи сущего и пробегавшую по нему дрожь. Но – ничего. И снова тишина, отчаяние и на ветру – стук заледенелых ягод.
Камень срывался, но бедный Сизиф, отдышавшись, вновь катил его на гору. Конечно, голой темы мало, даже для самого что ни на есть ничтожного события. Нужна поддержка дружественных колебаний, сопутствующих звуков, маленьких причин, сливающихся в одну великую причину, способную из ничего произвести хотя бы что-то, пускай мельчайшее ничтожество – нужна тончайшая инструментовка, тему надо обогатить по широте всех мыслимых диапазонов, предельно насытить гармониками, одеть в роскошные одежды, на деле сотканные только из необходимости, и тогда… Опять сомнения: но разве смертному по силам в симфонии бессмертной каждый инструмент учесть? Замахиваясь на вещий звук, Вагнер увеличил число музыкантов, а стало быть, и инструментов в своём оркестре вчетверо против того, что было принято в те времена. Так же и с хором. И что, помимо чуда музыки земной? Или Германия своим последующим бытием обязана именно ему, искателю тевтонства в звуках? Вполне возможно. Ведь и Ницше играл и сам музыку писал, любил импровизировать – словом, вступал в таинственные отношения с гармонией. И пусть не просиял как композитор, но музыки инстинкт так оказался в нём силён, так одухотворял его порыв, что исподволь он воплотил искусство звуков в ином материале – отлил не в нотах, а в словах. Недаром и Малер, и Рихард Штраус познали в «Заратустре» скрытую музыку. Да и сам Ницше писал сестре: мол, если я хотя бы на минуту задумываюсь о том, о чём мне хочется, то я ищу слова к мелодии, которая звучит во мне, или – мелодию к словам, которыми располагаю. И с Вагнером Ницше дружил, пока не раздружился. С такими зубрами, при их неудержимом титанизме, любая небылица станет былью…
Я заводил в память синтезатора одну, другую, пятую партию под основную тему, обращался к лидийскому, фригийскому и дорийскому ладу, балакиревскому русскому минору, смешивал их и разводил, формировал два, три, четыре тональных центра, сгущал их, подобно Стравинскому, до динамического покоя (если уместно так говорить о музыке, которую не слышит ухо и наполовину), правил, добавлял, снимал и так – до изнурения, до бесчувствия, до тишины и перестука красных бусин.
Обессиленный я засыпал и видел жуткий сон: огромный и безлюдный музыкальный магазин с убегающими в бесконечность стеллажами, на которых – всё музло мира (теперь уже и лазерные диски – в прошлом), и вдруг это безбрежное пространство законсервированных звуков, весь этот чулан Евтерпы, всё это остолбеневшее херувимство и чертобесие само собой включается и начинает грохотать одновременно… Божий страх.
Однажды, протапливая печку на ночь, я сунул в пылающую топку полено, принесённое в охапке прочих, и, уже закрывая дверцу, вдруг заметил, как из-под отслоившейся коры выползла заспанная муха – затаилась с осени в надежде перезимовать. Миг – и её охватило пламя. Чёрт знает что – мне стало скверно так, будто цыган плюнул в душу. Чепуха, мелочь, чих бараний – муха. Однако весь остаток вечера и даже после, утром, я страдал душой и осуждал себя за смерть этой несчастной зимней мухи. Странно, но именно тот случай натолкнул меня на мысль, что для начала следовало бы поставить скромную задачу – реши сперва её, а уж потом замахивайся и дерзай. К примеру: сыграй живую муху, сделай так, чтобы твои созвучия её вернули к жизни. И снова странно: разум внял идее малых дел.
Нет, ни сном ни духом – не думал и не говорил, будто живую муху сыграть/исполнить проще, чем извержение Везувия. Откуда знать мне – так или не так? Масштаб, энергия, конечно, несравнимы, но это ли мерило, когда коснётся дело колебаний вещих струн?
В Чистобродье я жил уже десятый месяц. Не захребетником – кое-какие деньги были у меня. Остались после покупки синтезатора. К тому же накануне отъезда из Петербурга нежданно мне вернули старый долг, который получить уже и не рассчитывал: один рассеянный парнишка – ему когда-то я в рассрочку продал свой белый Fender Strat – вдруг расплатился. Словом, приживалой не был и вносил положенную долю – осенью заказал машину дров, Оксане подарил новый сепаратор, сгрузил в закрома запас консервов, круп и макарон, ну и в текущих кормовых расходах участвовал, хотя никто на этом не настаивал. Глаза людям, давшим мне приют, старался не мозолить: Евсей – в мастерне, Оксана – по хозяйству, у детей – удалённая учёба, игры, помощь старшим, я, пока не пришли ночные заморозки, – с корзиной в грибном лесу или на озере, а после – в пристройке с умным, но пока что бесполезным инструментом. Иной раз, заскучав в однообразии снегов, мы с Евсеем отправлялись в гости к мичуринцу Бубёному, где под неторопливый разговор пили яблочный самогон, закусывая грушевым компотом. Так и тянулись дни.
Как-то в конце зимы, оставив на синтезаторе крутиться в автоматическом режиме неделю с лишним оформлявшуюся тему, я заглянул к хозяину развеяться. Евсей сидел перед компьютером – на экране красноармеец Сухов геройствовал в барханах Азии.
– Раз сто уже смотрел, – предположил я.
– Больше. – Евсей не отпирался.
В доме мы были одни – Оксана с детьми отправилась в клуб, где давала концерт приехавшая на Масленицу Умка. Мы с Евсеем встречались с ней накануне и под блины с рубленой селёдкой даже немного попели.
Когда красноармеец Сухов победил врагов, принялись за вечерний чай. Разговор вился путём естественного роста – вся жизнь в трудовом скиту происходила именно таким манером.
– Кто сказал, что крепкий рубль – плохо?
Я не говорил. С какой стати Евсей завёл об этом речь? Телевизора в доме не было, а в интернете он по большей части смотрел «Твин Пикс» и старые советские фильмы, в которых актёры, как кто-то точно заприметил, с каждым годом играли всё лучше и лучше.
– Крепкий рубль, – продолжал Евсей, – это значит ниже цены. За те же деньги килограмм становится больше, а литр – глубже. – Он почесал затылок барабанной палочкой, которые в большом количестве переместились вслед за ним в здешний дом из его прошлой жизни. – Умом я не востёр, однако понимаю, что для меня, человека с рублём, это хорошо. Мне говорят: это плохо для экономики. Но что это за экономика, если для неё хорошо то, что плохо для меня? А? К чёрту такую экономику.
Чертыхнувшись, Евсей торопливо перекрестился.
И тут над столом грузно пролетела муха. Я замер, как, бывало, замирал, услышав имя Вера. Потом кровь побежала быстрыми толчками, словно помпа работала взахлёб. Стоп, сердце, стоп – пока не торопись, дай приглядеться. Отогрелась или… Ну да, похожа – точь-в-точь та, что заживо сгорела в печке. Хоть коротко её и видел, но вспышка памяти, как пламя топки, фотографически высвечивала жертву до щетинки, до последней жилки на крыле. Взглядом сопровождал муху в её перемещениях. Она была медлительна – то тяжко погудит в углу, то покружит вокруг горящей лампы, то сядет под потолком на стену и затихнет, то проползёт, взлетит и снова сядет. В висках стучало, в голове закручивалась чёрная воронка… Мелькнула мысль: а если темп ускорить?
Под немой вопрос Евсея я выскочил из-за стола и устремился в свою келью. Синтезатор по-прежнему негромко гонял загруженную оркестрованную тему. Я тронул реостат и несколько ускорил темп. Потом подумал и ещё ускорил.
Вернувшись, мухи не услышал. Куда девалась – и минуты не прошло. Потом увидел: прибитая барабанной палочкой, муха сыро чернела возле вазочки с вареньем.
– Метнулась прямо на малину. – Евсей проследил мой взгляд и палочкой сбросил муху со стола. – Но у меня не забалуешь.
Обычно мой товарищ не грешил избытком самомнения, его стихия – скоморошество, фиглярство, балаган. Не стоило и начинать. Муху, разумеется, убил не он, а я. Так, как и в прошлый раз: убил без умысла однажды, воссоздал и вновь нечаянно убил. Понимаю – бездоказательно, смешно, не примет к рассмотрению ни одна инстанция. Но разве доказательства нужны нам, когда умирает кто-то близкий и мы виним себя, что последние пятнадцать, двадцать, тридцать лет были к покойному недостаточно внимательны, и именно оно, наше невнимание – причина тревог, переживаний, увядания и смерти, и этого уже не отменить? Согласен, не тот случай, но убеждённость в том, что я – виновник и причина – во мне, была абсолютной силы. Виновник не только повторного убийства, но и предшествовавшего воскрешения.
Стоит ли говорить, что день за днём с удвоенным упорством я повторял опыт, как в детстве с зеркалом и муравьями? Всё делал так же, но оживающие мухи больше не показывались на глаза. Зато заметно распоясалась безносая – пошла косить, сорвавшись, точно пёс с цепи.
Недели не прошло, как занедужила Гороховая Фея. Иссохла, съёжилась, а из седенького темени пробился зелёный хвостик, нацеленный усами сразу во все стороны. Этот росток высосал её за считаные дни. Врач, прибывший из Сортавалы, отсёк зелёный стебель, пустивший корни в мысли Феи, но было поздно. По поручению Оловянкина Евсей изготовил гроб и доску на могилу, где начертал по завещанию покойной: «Упала в землю – пойду в рост». Отец Иона со смирением покойницу отпел. Её могила на кладбище скита – четвёртая.
Следом Семён-Грибовик сварил какой-то хитрый зимний сбор, и великий мицелий потребовал жертву – Грибовик отсёк себе второе ухо, развёл в подполе большой костёр и прыгнул в пламя. Его Иона отказался отпевать. Да и в гроб, собственно, класть было нечего, так здорово Семён раскочегарил подпол.
А вскоре позвонила Клавдия, моя забавная сестра, и сообщила… В общем, дала мне в полной мере почувствовать вину за то, что был последние сто лет к родителям довольно невнимателен. Они погибли. Какой-то недоделанный шумахер не справился с рулём и вылетел на автобусную остановку. Умерли на месте оба – отец и мать. С учётом их привязанности друг к другу, которая имела такую выдержку, что сделалась сильнее и крепче любой любви, это выглядело милосердно. Единственное утешение. Больше смирить тоску вины мне было нечем – не помог и самогон, доставленный Евсеем от Бубёного.
На следующий день после звонка сестры простился с приютившими меня людьми и оставил скит. Воронец-озеро не провожало, не смотрело вслед – лёд закрывал гладь тяжёлым веком.
Действие четвёртое. Сверхзвуковая
Первые дни по возвращении из трудового скита в Петербург прошли словно в тумане – точнее не сказать. Попытки выразить это состояние иначе – пустая гонка за оригинальностью. Густой туман заволок и обложил ватой все чувства, направленные вовне – вплоть до ощущений от рукопожатий и прикосновений. Я погрузился в кокон внутренних переживаний: всё, что способно было тронуть и ранить, сосредоточилось под телесной оболочкой – внешний мир оставался размытым, глухим и плавным, точно кисель. Точно вязкая хмарь, глотающая звуки, краски и перемещения предметов. Вероятно, так чувствует себя живое, преобразующееся вещество куколки, укрытое под плотной кожурой, чуткое лишь к самому себе, к движениям внутри своего студня и снаружи воспринимаемое как мёртвый лист, кора, сучок. Или в лучшем случае как нечто вычеркнутое до поры из повседневной круговерти.
Определённо, из круговерти я был вычеркнут. Но там, под кожурой – голгофа. Там – хруст суставов души и боль необратимой перемены.
Такой была встреча с великой разлукой.
Да, мы давно отдалились, я мотался по съемным квартирам и виделся с отцом и матерью от случая к случаю, но они были живы и значит – рядом. Ведь, в сущности, наш мир так мал. И я любил их. Пусть иначе, чем в детстве, когда они были молоды и красивы и я возле них чувствовал полноту и совершенную достаточность, какие чувствовал потом возле женщин, в которых был влюблён. Пусть они стали просто дорогими, родными, привычными людьми, пусть распалось уже неразрывное единство, какое было когда-то, в мальстве… Ничего не попишешь, взрослея, мы неизменно теряем это единство. И, теряя его, теряем детство. С ним вместе – теряем родителей, обрывая пуповину сердца. Такова первая утрата самых дорогих и близких. Мы ещё живём вместе и любим друг друга, но великая разлука уже дышит нам в затылок, и изменить это никак нельзя. Великая разлука явилась в своём холодном величии и открыла ужасную тайну: оставайся мы рядом в любви и согласии, до смертного часа не сводя друг с друга глаз – это всё равно ничтожная мелочь в сравнении с ней, великой разлукой, с веками, с тысячелетиями, с ослепляющей тьмой бездны, где уже не будет нас и не будет никакой памяти о нас… Так говорил я Клавдии, сестре – единственной, кого в те дни впускал под оболочку кокона.
Но ведь тепло живого участия, любовь, внимание и родственная близость ценны именно потому, что впереди – великая разлука. Как можно обижать, браниться, воевать и убивать, как можно порождать неправду, делать зло, если за шкафом, за углом, за горизонтом – она, великая разлука? Как можно этого не понимать? Ведь оно, это чувство великой разлуки, так мучительно, так огромно, что для того, чтобы его избыть, мы сочиняем сказки, пишем маслом, возводим храмы и верим в Бога, который обещает, что будет, ещё будет впереди у нас встреча с теми, кто нам дорог, кто любим – не на земле, а… в другом месте. Будет встреча и с подругами, пути с которыми давно уж разошлись, и с Витей Цоем, постер которого был зацелован в прах, и с умершей от мочекаменной болезни кошкой Кляксой, и с мальчиками, в которых была так смешно и глупо в школе влюблена, и с мёртвыми, но там, в другом месте, всегда живыми родителями… Так говорила Клавдия, и по лицу её катились слёзы.
Мы сидели с ней за кухонным столом, в пустой родительской квартире, и между нами тоже была великая разлука.
В те дни я почти не спал. Вместо сна – лихорадочное забытьё, пестрящее чередой бессвязных кадров, быстро сменяющихся, ярких. Будто кто-то настойчиво стучался в моё сознание, и даже заходил, и оставлял послание-вспышку, которая озаряла чёрный экран и поражала масштабом, красками, резкостью деталей, но тут же её перекрывала следующая вспышка-кадр, как будто вырванная из другого фильма. Они, эти репортажные вспышки, показывали что-то, что прежде я нигде не видел: картины грядущего или миры иные? – я не мог понять. Вернее, там, в изнуряющем сне – понимал. Но вынести этот альбом внезапных озарений из хрупкого беспамятства, увы, не мог. В итоге – усталость и опустошение без награды.
Прошедшие годы многое спутали и изменили в наших отношениях с сестрой. Простота родственного соперничества ушла, гуттаперчевый серенький волчок с обкусанным ухом – символ нашего раздора – остался в минувшем, беспечно качаясь в светлых волнах памяти детства. Каждый погрузился в собственное долгоденствие. Теперь Клавдия благополучно жила во втором браке с деловым Василием, сумевшим не только замутить в прошлом какие-то коммерческие штуки – кто их только не мутил, – но довести дело до ума, развить и, что достойно удивления, сохранить за собой в пору отжима и захвата. Василий обеспечивал семье достаток, так что Клавдия имела всё необходимое и даже сверх того. Благодаря чему не работала, дни напролёт боролась с вселенской скукой и растила дочь, нормальную пятнадцатилетнюю девчонку, в голове которой сообразно возрасту главное место занимали отношения: ведь это важно, это чертовски важно – какое впечатление я произвожу. Так, говорила Клавдия, девчонка этим озабочена, что дымится сердце. В остальном: учится в школе, тройка по информатике – всё как у людей.
Между тем я вроде бы оставался прежним – великовозрастный балбес без постоянного дела: несколько пар белья, два свитера, штаны – три пары, кроссовки, четыре футболки, синтезатор, зимние ботинки и куртка – вот весь мой скарб. Заработки случайны – неприкаян, как пушинка одуванчика. Тем не менее с тех пор, как я впервые услышал её мелодию и Клавдия это поняла, она заметно переменилась в своих чувствах ко мне. Появились внимание, участие, расположение. Я стал для неё родным и близким, на что прежде, несмотря на узы крови, рассчитывать никак не мог. Впрочем, возможно, именно потому, что она не видела во мне развития – об успехе, в привычном смысле, и речи нет, – её не изводил и зуд соперничества. Напротив, к месту было сочувствие – непутёвый, но свой и понимающий. Нет, Клавдия не докучала мне ни навязчивой заботой, ни стремлением во что бы то ни стало обустроить мой хромающий быт. В ней всего лишь проснулось то мягкое тепло, которое питает внутреннюю готовность прийти на помощь – искренне, самозабвенно, без любования и задней мысли. Славная, славная Клавдия…
Спустя пару дней после похорон настало время решать формальности, от которых, какова бы ни была печаль, не отвертеться. Мы с сестрой сделались наследниками квартиры на Большой Конюшенной, где выросли и где с переменным успехом трепали друг другу нервы, и дачи в Зеленогорске, которую родители, в свою очередь, в середине восьмидесятых унаследовали от какой-то дальней отцовской родни. Дом был летний, неказистый, но восемнадцать соток земли, кажется, теперь имели цену. Ещё у отца была машина – пятилетний «фокус», бывалый, но ухоженный. Остались и кое-какие трудовые сбережения…
Разговор завела Клавдия – деловитость вещь заразная. Речь шла о квартире: потолки с лепниной, старый фонд, металлические балки перекрытий плюс положение: на языке агентов/маклеров – «золотой треугольник». Клавдия размена не хотела, мечтала оставить родовое гнездо, набитое воспоминаниями детства, за собой. Мне было всё равно – великая разлука ещё не отпустила меня из объятий. То есть я за эти стены не держался, как и за дачный домик, к которому не питал тёплых чувств, поскольку он появился в пору, когда детство уже кончилось.
За отказ от прав на родные хоромы и загородную землю деловой Василий организовал мне чечевичную похлёбку – небольшую квартиру-студию на Малом проспекте Петроградской и отступные – таких деньжищ я сроду не держал в руках. Возможно, мне причиталось больше, но это была не та гармония чисел, о которой я готов был думать. И прежде, и тогда числа слагались, умножались и дробились где-то в стороне, всё время в стороне: такой аттракцион, наподобие жизни под окуляром микроскопа – забавная, но посторонняя, несмотря на очевидное соседство, возня.
Из вещей взял кое-какие книги и домру матери – четырёхструнный альт, подаривший первые покорные моей воле звуки. И серого волчка, который нежданно, облепленный мягкими хлопьями пыли, отыскался под шкафом в родительской спальной. На машину сестра не претендовала, была при своей, так что и «фокус» достался мне – с тех пор, как я получил права (нахлынул некогда такой порыв), отец неизменно вписывал меня в страховку.
Так, через великую разлуку, я обрёл логово, колёса (спустя год, почувствовав интерес к разнообразию земли, сменил «фокус» на трёхдверного «поджарого») и нежданный капитал, который Василий рекомендовал вложить в его дело и преумножить. Я не вложил. Поскольку капитал не цель, а средство, я не хотел преумножать – хотел не торопясь и вдумчиво пустить на ветер. Помнится, однажды очередной работодатель, задолжавший мне зарплату за четыре месяца, в сердцах посетовал, когда я выразил настойчивое недовольство: «Август, скажи на милость, зачем тебе деньги? Ты же всё равно их все потратишь!» Смешно. Но верно. Именно так я всегда и поступал. Так же намеревался поступить теперь. Поскольку – что деньги? Говорю же – инструмент.
Да… Но музыка ушла. Тогда не знал, что лишь на время. Показалось – будто навеки залило звучащий мир чем-то чёрным, густым и маслянистым, как тяжёлая нефть. Показалось – тяжёлая нефть навсегда.
Что ж, с великой разлукой как будто понятно – кто не испытывал, тот так или иначе предощущал, и чувства холодели. А вот проблема денег, кажется, раскрыта недостаточно.
Переключу регистр.
* * *
Интермеццо: фрагмент интервью журналу «Аритмия» (середина нулевых)
Корреспондент. В нашем разговоре вы уже касались особенностей локального менталитета – петербургского самоощущения. Вы действительно чувствуете его отличие от прочих?
Август. Да, я слышу его звучание довольно внятно. И оно особое, не равно другим. Хотя в своей полноте эта тема неоднородна и некоторые её вариации подчас напоминают что-то, что можно услышать где-либо на стороне.
Корреспондент. Но мы ведь сейчас говорим не о музыке, верно?
Август. Джон Кейдж, простите за общее место, утверждает: всё, что мы делаем, – музыка. Другое дело – музыка, как вода, бывает мёртвая или живая.
Корреспондент. Ну хорошо. Вот, скажем, вы в качестве координатора «сверхзвуковой поддержки» участвовали в арт-проекте Котлярова-То́лстого «Деньги. Третье тысячелетие». Но это же, пардон, московская тематика. Здесь, на невских берегах, говорить о деньгах, пусть это всего лишь художественное высказывание, так же нелепо, как рассуждать об американском футболе. И то и другое во всей, так сказать, полноте свершается где-то в другом месте. Вы так не думаете?
Август. Нет, не думаю. В Античности, помнится, была хорошая традиция…
Корреспондент. У вас хорошая память.
Август. Не жалуюсь. Так вот, в Античности была хорошая традиция – помышлять о природе вещей. Полезное – хотя бы в плане умственной гимнастики – занятие. Вещи уже носили данные им Адамом имена, но само их существо, их идея для пытливых эллинов и строгих римлян требовали осмысления. Вернее, требовало выхода клокотавшее в них любопытство, поскольку в человеческой голове, особенно античного склада, всегда находилось место если не помыслу, то впечатлению.
Корреспондент. Ну как же – Тит Лукреций Кар «О природе вещей». Пересказал на латинском взгляды Эпикура.
Август. Анаксимандр, Эмпедокл, Парменид, Гераклит… Да взять одного Демокрита: «О ритмах и гармонии», «О пении», «О вкусах», «О чувствах», «О планетах», «О цветах», «О военном строе»… Так вот, склад головы сдержанного петербуржца в силу ряда особенностей – примерно тот же.
Корреспондент. То есть причина в организации ума?
Август. Можно возложить ответственность на кишечник, привычный к корюшке. Это не существенно.
Корреспондент. Понятно.
Август. Известно: память о первоначалах была частью повседневного опыта греков. Что же касается народов, пришедших им на смену, то история для них растворяется во мраке лет: чем дальше в лес, тем меньше мы о ней знаем. У греков наоборот: самой яркой страницей была первая. Они, как Лев Толстой, помнили себя с порога материнской утробы – каждый город чтил своего основателя, у каждого закона был свой творец, у каждого обычая – своя причина. С этой точки зрения мы здесь, в Петербурге, – сущие эллины. Город встал едва не в одночасье, и мы знаем (или думаем, что знаем), по чьей воле. Все местные призраки откликаются на имена, которые живым известны, все здешние традиции имеют родословную.
Корреспондент. Да, верно. Другого города, столь густо населённого литературными персонажами, в России нет. А жизнь литературных персонажей, как мы понимаем, строго задокументирована.
Август. Тут вообще как-то лучше с памятью. И время новые эллины понимают не как заведённый хронометр или бездушную дробильню, а как помощника, как струящуюся через них текучую энергию. Так что если кому-то где-то и пристало сегодня помышлять о природе разных штук, то нам и здесь. А если говорить о деньгах, стяжании и умеренности – тем более, поскольку Петербург умеет быть не только богатым, но и сдержанным, и даже аскетичным.
Корреспондент. Однако Москва в этом смысле показательнее. Не находите?
Август. В смысле сдержанности и аскетичности?
Корреспондент. Нет, в смысле… наоборот – умения быть богатой.
Август. Но для раскрытия природы этих вещей – денег, стяжания и умеренности, а именно о них шла речь в проекте «Деньги» – сдержанность как раз важнее, потому что деньги, вопреки расхожему предрассудку, не делают нас свободными, напротив: украл, нажульничал, скопил – карауль, дрожи и чахни. И вопрос, кто свободнее: Крез или Диоген Синопский, – не вызывает у нас сомнения, хотя Диоген и познал рабство.
Корреспондент. Оригинальный метод – исследование природы денег через аскетизм.
Август. Разговор пока о сдержанности, а не об аскезе. Итак, деньги. Что мы о них знаем?
Корреспондент. Их вечно не хватает. Лично мне.
Август. Есть кое-что ещё. Они звенят в горсти, жгут ляжку и лишают сна. Они умеют таять, обращаться в дым, пускаться в оборот, лежать в чулке, улетать в трубу и возвращаться сторицей, как подружейная собака с уткой. Они ходят по свету, но их тянет друг к другу. От них дают прикурить. На них можно купить удовольствие, но нельзя построить счастье. Они дешевле уговора, но любят счёт и тишину. Они бывают лишними и бешеными. Играют в прятки. Вводят в грех. Идут мерцающим курсом. Их ссуживают под процент (нехорошие люди) и кладут на язык в уплату Харону.
Корреспондент. Разве их кладут не на веки?
Август. Ещё один расхожий предрассудок. Ко всему, если приглядеться – деньги подражают людям: они бывают цветными, носят на себе лица, забавны на просвет и хрустят на изломе. Шутка Веспасиана, будто им не присущ запах, – сомнительна. Иначе с чего бы им отмываться?
Корреспондент. А как быть с фальшивомонетчиками? Что деньги думают о них?
Август. В истоке природы денег – фальшь. Но при этом деньги не любят подделки. Потому что честолюбивы – тем порочным честолюбием, которое превышает дарование.
Корреспондент. Мрачная картина. Но разве есть деньгам противовес?
Август. Не только деньги объявляют войны. Порой и им бросают вызов. Нам известны подвиги бескорыстия, сбивавшие программу построенного на стяжании земных благ мира. Чего стоит пример Гаутамы, образец кинической школы, опыт первохристианских общин, жест – пусть и половинчатый, не доведённый до предела – битников и хиппи. Деньги несут потери, но не сдаются – отбивают сданные рубежи. Благодаря короткой памяти они считают, что не знают поражения.
Корреспондент. Мне отчего-то думается, плохи не деньги сами по себе, а люди, ослеплённые деньгами и не знающие удержу.
Август. Но точно так же можно заявить, что плохи не люди, а их дурные помыслы. Я говорил уже: в самой идее денег как универсального эквивалента сокрыты соблазн и фальшь. В действительности они не универсальны. Однако таковыми быть хотят. Причём – во что бы то ни стало. Поэтому деньги сделали посмешищем достоинство и добродетель – чувствуя призрачность своей цены, они обесценивают всё, что цены не имеет. При этом мудростью сердца мы всё же понимаем – а если не понимаем, то ощущаем, и порой довольно болезненно, – что путь Башлачёва вернее пути Вексельберга. И все разговоры о том, что, выбирая дорожку, мы не знаем, куда она приведёт, – лукавство и обман. Знаем. Отлично знаем: будет смерть и будет суд. В этом смысле с будущим всё просто. А то, что мы здесь, в Петербурге, сами зачастую не имеем сил быть безупречными, – так это ничего, бывает.
Корреспондент. То есть вы готовы отчасти тельца принять и поклонение ему простить?
Август. Готов понять. Не более того. Новому эллину противен вид соотечественника, давящегося за копейку, как противен вид художника, сбежавшего от муторной реальности в искусство и обретшего там то, от чего бежал, – отвратительные сцены тщеславия и дикой погони за прибылью. Уже не говорю, насколько скверно всё это, если проецировать на музыку, звучит… Особенно если это сверхзвуковая музыка, которой я отдаю предпочтение.
Корреспондент. Вернёмся всё-таки к деньгам.
Август. Деньги новому эллину нужны лишь для того, чтобы держать дух в бодрости и иметь возможность жить внутри культуры, поскольку культура – это то, что придаёт короткой жизни длинный смысл. Речь о культуре как о внутреннем порыве – когда человек добровольно делает что-то задаром ради того, что не совсем осознаёт и что, как это ни странно, возможно, совершенно смысла лишено.
Корреспондент. Значит, деньги всё-таки нужны.
Август. Как функция. Как агент по доставке насущного. Только и всего. Но нельзя забывать, что деньги лукавы. Они обводят человека вокруг пальца и, точно базарный плут, совершают подмену желаемого. В мире стяжания, где единственным мерилом успеха становится банковский счёт и всё имеет свою цену, человек, стремящийся к радостной сосредоточенности на любимом деле, сначала должен раздобыть к этому средства. Иначе говоря, вынужденно и суетно побеспокоиться. Но тут – ловушка, поскольку деньги от начала времён несут в себе порчу. Постепенно они, эти молчаливые лакеи, служащие поставщиками необходимого и желанного, прибирают вожжи и сами становятся объектом вожделения. Утоление страсти обладания деньгами теперь – такая же потребность, как утоление страсти физического обладания. Деньги превращаются в источник чистого наслаждения.
Корреспондент. Понятно. Стало быть, единственный противовес – культура?
Август. Не столько культура сама по себе, сколько творящий её бескорыстный порыв. Ведь и в культуре заводятся черви. Вырождаясь, люди и культуры теряют способность к благородному устремлению и становятся меркантильными. При этом они непременно подчёркивают своё внешнее изобилие и тучность, как бы говоря, что если бы дела их шли из рук вон плохо, разве им было бы настолько хорошо – им, с их надутыми щеками, таким роскошным и богатым? Но внутри это наливное яблочко давно уже источил червяк – деньги. Они – тот паразит, который управляет обречённой жизнью лишённого собственной воли хозяина.
Корреспондент. Знаете рецепт исцеления? Что предлагаете?
Август. Намордник на алчность. Есть хорошее русское слово «достаток», спокойное и твёрдое. В нём чувствуется осмысленность стремления и равнодушие к излишеству. В этом слове деньгам определён предел. Ведь богатство, не обременённое границей разума, равно как и само стремление к нему – уродство, горб, жутчайший флюс. Другое дело, что по сию пору все попытки построить мир, в котором денег будет ровно столько, чтобы постоянно о них не думать, потерпели крах, потому что деньги соблазняют, а человек слаб и непременно начинает откладывать в сундук по дукату или воровать – кто медный грош, кто миллиард. И ведь ворует и копит, и страсть эту не объяснить ни дурным воспитанием, ни скудостью детства.
Корреспондент. Помнится, пробовали строить мир вообще без денег.
Август. Попытка построить такой мир, несмотря на солидное теоретическое обоснование, провалилась потому, что мир хочет оставаться продажным, а деньги – им править. И раз уж мир таков, то в итоге предпоследний человек купит всё, из чего этот мир составлен – его воды, леса, горы, степи, газы, недра, воспоминания и даже его Бога, а последние люди, дети предпоследнего человека, спустят имение отца в выгребную яму вселенной, в её клоаку, где смрад и разложение. Так умрут деньги и купленный ими мир.
Корреспондент. То есть никакой обнадёживающей перспективы? Неизбежный конец света и вечный мрак?
Август. Пройдёт время, и в этой выгребной яме заведутся блохи, которые через эпоху разовьются в других людей, вездесущих и шестиногих. Те придумают новые деньги, и всё начнётся сначала. Будет новый свет, новый газ для дыхания и новые предложения для нового спроса. Только не будет нас, нашего смеха и нашего волшебного города. Так что сказать, будто мир лишён перспективы, может лишь дикарь, весёлый киник, называющий вещи своими именами, тот, кто желает невозможного – отменить дьявольский сценарий или насколько удастся оттянуть его окончательное воплощение. То есть сказать это может он, сдержанный петербуржец, новый эллин с незарастающей дырой в кармане.
Корреспондент. Хочется верить, что небеса будут к человеку более милостивы.
Август. Если вообразить, будто Господь по милости Своей исполнил хотя бы треть обращённых к нему просьб и хоть отчасти внял мольбам, то в Тихом океане будет не протолкнуться от белоснежных яхт с вечно юными парами, лакающими шампанское. Апофеоз пошлости. Чтобы заслужить милость, надо научиться желать.
Корреспондент. А возможно ли в принципе в одном человеке такое сочетание – мудрость и богатство?
Август. Редчайший случай. Из области чуда. Но один, по крайней мере, общеизвестен. В Гаваоне Соломону во сне явился Господь и сказал: проси, что хочешь, и дам тебе. Соломон сказал: даруй рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить и различать, что добро и что зло. Господь немало подивился и решил: за то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил богатства, не просил душ врагов твоих, а просил разума, чтобы уметь судить, Я даю тебе сердце мудрое, какого ни у кого не было прежде, и вдобавок то, чего ты не просил – богатство и славу земную.
Корреспондент. Ну хоть кому-то пофартило…
Август. Важно не это. Важно то, что ни у кого не возникает сомнений в справедливости подобного решения.
Корреспондент. И последний вопрос: говоря о новых эллинах, кого вы имеете в виду?
Август. Засранцев того склада, что подарили миру асса-культуру. Весёлых раздолбаев, желающих невозможного. Поскольку именно желание невозможного – черта, отличающая человека высшей пробы от его меньших братьев по разуму. Ты ощущаешь предел, но отказываешь ему, пределу, в праве быть. Это позиция, не признающая поражения. Позиция непобедимого засранца, понявшего, что бессилие придаёт жизни вкус. Ведь воплощённое желание в конце концов – неизменно скука, пошлость и разочарование. Куда величественнее другая установка: пусть мир вокруг продаёт и покупает, скругляет острые углы, чистит пёрышки и следит за кожей подмышек, я буду стоять посреди всё тот же – гордый и непреклонный в своём чудесном бессилии. Именно так новые эллины и стоят – посреди. И если нам хватит жизни, мы увидим, как материя подчинится их воле, реальность дрогнет и осыплется, точно старая штукатурка, – бессилие станет силой, деньги потеряют власть и лакеи кувырком полетят с незаконно занятых мест, потому что господа вернулись. И воссияют достоинство и добродетель. И наступит сказка.
* * *
Весну, лето и начало осени провёл в перелётах и разъездах – барбос, сорвавшийся с цепи.
В памяти остались вспышки. Не те, что иной раз озаряли сон, другие.
Прогулка с Ильёй, басистом «Улицы Зверинской», по тенистому кварталу Ямин Моше, где дома крыты красными черепичными крышами. Не виделись столько лет, а будто бы вчера расстались. Пишет в столбик слова, переплетает книги. Живёт на оккупированных территориях, за колючей проволокой, в бардачке машины возит «беретту». Мохнатые пальмы – зелёная копна на вершине и серая шуба из отсохшей ботвы до земли. Торжище Via Dolorosa, на вытертых камнях которой сердце бьётся с болезненной задержкой. Первый дон-дон вечернего трамвая, возвещающий о конце шаббата. Русская Духовная миссия, что против Новых ворот Старого города – потешная чехарда качественных прилагательных. И всё здесь, в этом городе, какое-то скачущее…
Апрель. Пасха. Завтрак в мурманской гостинице. Среди омлета, ветчины, сыров и сёмги – яйца-крашенки и маленькие порционные куличи. За окнами – голые деревья, голые кусты. Скелет природы. И – синее небо, белые снега. Заполярье. На рыбном рынке – треска, палтус, клыкач и хитиновые ноги-трости обжившегося здесь камчатского краба. На рейде – красные рубки ледоколов. Набережной нет – залив отрезан железнодорожными путями. Город не для жизни – для безостановочной работы…
Пятница, вечер. Нижний Новгород гуляет. Яркий свет вывесок и витрин заведений, брызги музыки из открытых дверей. С пешеходного моста, переброшенного через Почтовый Съезд, уходящий под рискованным уклоном вниз, к Оке, видно, как два парня пытаются помочь подняться с земли завалившемуся гуляке, потом просто вытаскивают у него из кармана смартфон и уходят. Над Окой висит рыжее закатное солнце…
Аэропорт Ниццы – припаянное к берегу насыпное поле. Самолёты садятся, заходя с моря, и взлетают в море. В старом итальянском квартале, наискосок от Оперы, цветут две огромные липы. Запах такой, что чувствуешь себя пчелой и крылья твои трепещут. Зелёная Замковая гора, руины римских терм, кладбище, разбитое на сектора – католический, протестантский, иудейский. Над могилой разбуженного декабристами Герцена – бронзовая фигура в полный рост. Английская набережная, вытянувшаяся роковым шарфом Айседоры Дункан. Несуразная архитектура выставленного в ряд разностилья. Галечный городской пляж, где ночуют кочевые житаны, оставляя утром французам битое стекло и мятые жестянки банок…
«Казань брал… Ревель брал… Шпака – не брал…» В туалете кафе на Профсоюзной – крепкий запах нафталина. Почему нафталин? Зачем нафталин? В городе много пешеходных переходов без светофоров, и люди идут, а машины стоят. Казанский кремль надраен. Спасо-Преображенский монастырь – рукотворный, приземистый, толстостенный. Кул-Шариф – белая с голубым, рвётся вверх минаретами. Весь мировой новодел исполнен какой-то технологической нерукотворности, будто сделан машиной из синтетика, который сделала машина. Природная нерукотворность поражает, как любое чудо. Технологическая – холодное бесчувствие. Не надышал ни Бог, ни человек…
Поросшие лиственничником и кедрачом склоны с оградами маральников. Не уступающие дорогу машинам низкорослые лохматые бурёнки под опекой хмельного раскосого пастыря, едва держащегося в седле. Шестигранные бревенчатые аилы. Бирюзовое небо, под слепящим хрусталём которого пепельная Чуя размазанной вдоль берега струёй вливается в излучину зеленовато-опаловой Катуни. Ветвящиеся снежники на гребне горного хребта, розовеющего в лучах закатного солнца. Прозрачный нефрит поющих перекатов Девичьих Плёсов. Перламутровый мёд горной пасеки, снятый пчёлами с цветущей акации. Отвесные стены Чулышманского ущелья и серпантин перевала Кату-Ярык, по которому легковушки, скребущие брюхом грунтовку, тросом вытягивает наверх трактор…
Стальная гладь, дымка горизонта. Теплоходик «Василий Косяков» маршрутом Кемь – Соловки. Люди на верхней палубе с рук кормят булкой чаек. Желтоклювые чайки зависают над леером – вытянутые лапы поджаты к животу, как шасси самолёта. Многотонные валуны монастырских стен. Запах водорослей. Седые доски старого сарая. Веками здесь настраивали жизнь по высочайшей ноте духа и землю обихаживали с любовью, молитвой и строгостью. Бесу такие кружева – поперёк глотки. Он соблазнил скверных, и те впустили сюда ад на двадцать лет. И ад поглотил вековые труды праведников. Осквернённую святыню трудно возродить – преисподняя прилипчива, льнёт намертво…
Горный перевал. Туман, как молоко, льётся по зелёному ущелью к Тонкинскому заливу. Огромный белый Будда в Дананге – запрокидывая голову, приходится придерживать панаму. Тьма бывает различного свойства – в одной из дальних пещер Мраморных гор, до которой, утомлённый бесконечной торговой аллеей с каменными изваяниями всякой всячины, дотопает редкий турист, она была такая, что фонарь оказался бессилен. Луч не пронзал здешнюю тьму, рассеивался, утопал в чернильном мраке. Набив на лбу шишку, пришлось ретироваться. Если спуститься по побережью к югу… Там в семидесятые, на своей морской базе в Камрани, янки учили дельфинов убивать людей…
Такого рода узоры складывались в калейдоскопе памяти после первых странствий. Необязательных, случайных – просто подспудно хотелось сбежать от тоски. Вот и бежал, как от слепней жеребчик.
Кажется, музыка стала возвращаться после Соловков, уже порядком отмоленных у скверны, отскобленных трудниками со всех православных краёв. Сначала запели люди – мелодии их душ, – потом понемногу стряхнул оцепенение и немоту весь остальной мир. Нет, даже прежде Соловков. Помнится, посмотрев на чаек, вернулся на нижнюю палубу, расчерченную рядами пассажирских сидений. Из камбуза тянулся запах сладкой сдобы. «Пышками пахнет», – заметил вслух. Сидевшая рядом женщина в повязанном на голове платке повернула ко мне обветренное лицо и сказала: «Должно быть, вы голодные, поэтому и чуете. Возьмите бутерброд». И достала из сумки завёрнутый в салфетку бутерброд с ломтем любительской. От неожиданности взял. И – что с ним делать? – съел. Пышками пахло по-прежнему. Но теперь я слышал мелодию. Она исходила от женщины и была печальной, смиренной и чистой.
Потом, уже на берегу, услышал рыбака, коптившего мелкую беломорскую треску возле сарая, доски которого и впрямь казались пепельно-седыми. Потом кровельщика-серба, приехавшего латать монастырские крыши. Потом… Да, чуть не забыл – в лесу у Макарьевской пустыни по-комариному и вместе с тем басовито-густо звучала жёлтая морошка. Только увидел пару ягод, как тут же и услышал. Так моцарты, должно быть, и прокофьевы слышат внутри себя никем ещё не сыгранную музыку. Её пока как будто нет, но… Кто-то же, чёрт подери, эти созвучия им в душеньку напел.
В общем, в середине сентября снова сел за синтезатор. Крепко сел. Если у вещей есть внутренний огонь, который – песня, то можно ли воочию увидеть то, что слышишь?
Четырёх месяцев не прошло, и вот что получилось.
Небольшой зал со сценой в Библиотечно-информационном центре на Невском, 20. Известный дом. Прежде – здание Голландский церкви. Собственно, помимо церкви, здесь были магазины, училище, Голландский клуб, первая в России художественная галерея Андрея Прево, правление Нидерландского банка… Здесь жил голландский посол барон Геккерн со своим приёмным сыном Жоржем Дантесом. Здесь в редакции «Отечественных записок» Белинский познакомился с Некрасовым. Здесь в Круглом зале стоял орган – теперь его трубы гудят в Академической капелле.
Окна занавешены – не столько от дневного света, сколько от долетающих сюда (окна выходят во дворы) отблесков уличного электричества: вечер не поздний, но небо уже черно – декабрь. На высоких белых дверях зала афиша:
Перекличка с Мусоргским, конечно, не случайна – это не жалкая попытка острословия. Тот впечатления от выставки покойного товарища, художника и зодчего Виктора Гартмана, хотел сыграть при помощи хитро отлитых звуков. Я же, напротив, был намерен музыкой живописать.
На сцене – синтезатор, колонки с мощными низкочастотными «титаниумами» (законная гордость – пожалуй, лучшие в стране низы, стоившие мне немалых денег). Само собой, задействованы и СЧ динамики, и ВЧ «пищалки». В зале – ряды стульев. Публика, сдав куртки и шубы в гардероб, рассаживается по местам. Лица румяные (на улице лёгкий мороз), приветливые, беззаботные: через неделю Новый год, а там и рождественские чудеса, все предвкушают праздник.
Я поднимаюсь на сцену, рассыпаю пригоршню шутливых слов. Встаю за синтезатор. Свет гаснет. Зал погружается во мрак. Встроенная лампа, прикрытая козырьком, позволяет видеть клавиатуру и панель управления, не «засвечивая» музыканта. Щели оконных занавесей отчасти пропускают блики праздничной иллюминации, поэтому темнота зала едва заметно искрит и мерцает. Мерцает и искрит.
Запускаю первую сверхзвуковую фонограмму, которая неслышно, уловленная лишь чуткой диафрагмой, расправляется, как чёрный бархат в непроглядной тьме, колеблется и понемногу в тишине густеет. Давление низкочастотных волн накатывает и спадает. Накатывает вновь… Поверх практически беззвучно звучащей минусовки перебором клавиш вживую добавляю свою лепту – слышимые звуки. Это пикколо и валторны. Помнится, Глинка писал в записках, что в детстве с трудом переносил эти звуки – валторны на низких тонах, когда они звучали сильно. Видно, подсказывал самородный слух, что валторны могут быть в ответе за что-то большее, чем сигнал охотничьего рога.
Моя партия – всего лишь шляпка на тонкой ножке – единственное, что доступно непосредственному восприятию из всей гигантской, опутывающей вселенную грибницы, остальная музыка слухом практически не уловима. Но внутренний резонатор тему всё-таки распознаёт, и существо слушателя уже в процессе. Какое-то время зал аккумулирует в себе трепет потревоженного прибоем низких частот пространства, как бы беременея, тяжелея, созревая… И вдруг под потолком, в сумрачной пустоте, вспыхивает большая, пузырчатая, жёлтая, будто подсвеченная изнутри лимонным неоновым сиянием ягода морошки. Идеальная ягода. Внутренний огонь земной морошки. Чистый восторг вышнего замысла о ней.
Совершенство видения завораживает. Зал нем. Зрители не в силах оторвать взгляд от хорошей формы, явленной вдруг во всей полноте достоинства, как чудо.
Изображение гаснет. Перед запуском следующей фонограммы – лёгкий пробег по клавишам, словно изящный конферанс. Зал очнулся, перевёл дыхание…
Но уже звучит новая партия слышимой музыки – скромный, однако обязательный, как всё в нотной записи творения, довесок к первозданным вещим звукам, недоступным уху. Колеблемое пространство вновь наполняется вызревающим предчувствием, трепетом радостного предвкушения, натягивается, как пучок эластичных струн, и – коллективный выдох. Новое рождение. Пустоту над головами зрителей озаряет огромная белоснежно-яичная ромашка. Совершенный, неописуемый цветок.
Сила восторга такова, что никому не приходит в голову вскочить на стул, дотронуться, пощупать невещественное диво. Только зачарованное любование, гипнотический транс, ликующее зависание. Воочию в чистейшем виде явилась красота. Не просто красота – абсолютная, безукоризненная, лютая непогрешимость. Хотя сам я, конечно, видел (а точнее – слышал), не мог не видеть: это всё же слепок красоты, иллюстрация в атласе земных чудес – изображение прекрасно, но мертво, как принцесса в хрустальном гробу. Оно не дышит. Как ни крути, звук синтезатора – всего лишь имитация, не подлинные духовые, которые звучат живым дыханием, славящим творение. «Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания». Хвалю, но имитацией кимвал и гуслей. Добросовестной имитацией творящих звуков.
Потом были жёлудь, подосиновик, веточка ягеля, голубое в чёрную полоску перо сойки, громадный сияющий кристалл снежинки (снежинищи), преображающийся, ловко перестраивающийся на глазах в одну, другую, пятую игольчатую форму… И наконец пространство над головами зрителей затянул серебряный, морозный, хрустко-звонкий папоротниковый узор.
Публика себя не помнила от ослепительного блеска обыденных вещей.
Финальные аккорды. Тишина. Чары понемногу тают. Растаяли. Ладони щедро расплёскивают благодарность…
Когда в уже опустевшем зале я скручивал провода, на сцену поднялся улыбчивый кудрявый парень. То есть ему явно было за тридцать, но выглядел он моложаво – именно как парень выглядел. Сказал, что кадровый манипулятор, микромаг, карточный волшебник. Знает профессиональную среду и все её кунштюки, сам умеет много гитик, а тут такое чудо. Немало удивлён. Да что там удивлён – повержен, поражён, раздавлен.
Внимательно глядя на меня, микромаг склонял голову набок так и эдак, точно любопытная собака. Спросил: «Ведь это – голограмма? Верно?» Я развёл руками. «Понимаю, – кивнул манипулятор. – Что за душа без тайничка?» Заверил, что ещё не доводилось вкушать такого. Сказал: «Вливайтесь в сообщество наглядной микромагии. Поддержим и поможем». И тут же предложил с ним вместе чёсом пройтись по новогодним, расписанным уже по дням корпоративам. Деньги посулил, успех и перспективы на грядущее.
Ушёл ни с чем.
Смешно. Вот так же гармонию небесных сфер, подслушанную у врат иного мира, старозаветные трюкачи обратили в мнимую музыку – в привычку и кормушку.
Смешно и грустно. Невесёлый смех.
* * *
– Есть злые дети, изощрённые в дурной фантазии. Знаешь таких?
Взгляд мой, устремлённый на Георгия, если бы мог, завился б в знак вопроса.
– Да знаешь, – последовал небрежный взмах руки, – гангрены хуже… Видел, как травят в классе новичка? Вот тут они и предстают во всей красе. – Георгий задумался и уточнил: – Бывает, яд точа́т без повода: кто-то не мил, слишком мудрён или хвостом пред их высочеством не машет. Хотя и это – чем не повод.
Сияя сединами на вечернем солнце, которое сумело наконец пробиться сквозь молодую зелень старых крон, Георгий остановился возле могилы Блока, увенчанной чёрным обелиском с медальоном. Встал и я.
– Они, эти злые дети, вечно на старте и всегда готовы…
Предвкушая очевидное, подумал: «Как пионеры».
– Как пионеры, – сказал Георгий. – Только дела у них скверны. Щёлкнул пистон – ату! Обложили и давай дразнилки сыпать – чья гнуснее. Воображение их фонтанирует в режиме нарастающего смрада. Всё гаже, всё обиднее… Иначе, как им представляется, нельзя – иначе оскорбления уже не будут оскорблять, а унизительные клички – ранить.
Я согласился: да, конечно, доводилось видеть – пренеприятнейшая сволочь, хоть и мелкая.
– Вот именно. – Георгий кхекнул, прочищая горло. – Трудно не заметить, что та же смрадная отрыжка – наследственный недуг любого самозваного цивилизаторства. Сейчас я говорю про коллективный Запад. Отсюда, видимо, его привязанность к одеколону. – Георгий выдержал паузу, предназначенную для оценки шутки. – Именно там, на европейском Западе, находится очаг заразы несдержимого стяжания. Эта живучая поганка, как занесённый из космического мрака протоплазменный Протей, принимает форму того, в кого вселилась. Этакий зловещий пудинг. Пожрав верхушку, Протей пожрал и государство. А на себя надел его одежды.
Погода выдалась на диво: воздух был так чист и свеж, будто им никто никогда не дышал. Вдали за зеленью листвы по Расстанному переулку, слегка побрякивая и позванивая, катился красный трамвай. Подумалось: «Какое точное название дороги, ведущей к кладбищу».
– Словом, при всём наружном рационализме, – чеканно продолжал Георгий, – этот Протей в обличии Запада угнетён какой-то родовой контузией – не может удержать в узде стремление унизить всё отличное и непонятное. Представь: осинник костит дубраву за то, что та поздно сбрасывает листья. Которые до того бесстыдны, что даже не краснеют, как заведено среди осин. Да что говорить – и гриб там растёт какой-то другой, и птицы иные, и жёлудем хрустит кабан…
Я представил, о чём дал знать собеседнику сдержанной улыбкой.
– Стремится унизить, даже если нет возможности всё это отличное и непонятное в ближайшем будущем остричь, выдоить и схрумкать. Или за ненадобностью истребить. За кажущейся ненадобностью. А уж желание выдоить и истребить, в отличие от возможности, – будь спокоен – у Протея есть всегда.
– Конечно, – я снова согласился, – если решил прибрать к рукам, тогда кошмарить жертву… э-э… есть смысл. Хотя разумней задушить в объятиях. А так… Дразнить и оскорблять без перспективы слопать – и впрямь невроз.
– А между тем отличное и непонятное по-прежнему хвостом не машет. – Георгий выставил вверх указующий перст. – Напротив, перенеся в тяжёлой форме эпидемию конца времён… ну, то есть пережив финал былого века, приобрело иммунитет к заразе. Благо, очаг её не здесь, а на закате, в царстве мёртвых. И воображение Протея, изощрённое в злословии, вновь фонтанирует, а струя – смердит. И это несмотря на одеяния благополучия и дружелюбия, напяленные на расползающийся пудинг. К чему я? – риторически воззвал Георгий. – Неугомонному, вздорному Западу уже недостаёт описывать Россию и русских в терминах «орда», «дикари», «азиатские варвары». Тем более – «скифы». Это вовсе не обидно.
– Особенно после того, как Александр Александрович, – я кивнул на обелиск с медальным профилем поэта, – повесил скифство нам на грудь, как орден.
– Именно. – Георгий крякнул, довольный, что я понял связь между его речью и могилой, перед которой мы стояли. – «Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы…» Нелепо, невозможно русского после подобного признания крыть азиатом. Даже если он не азиат вовсе, а просто взял и так нарочно – скоморохом – извернулся. Не уязвлённо, а с пониманием чужого нрава и сочувствием: «Нам внятно всё – и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений…» Да при том ещё, скифская морда, заявляет, почти как ты: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжёлых, нежных наших лапах?» Великолепно! Выбрани дуб дубом – так он дуб и есть. Пустое дело – дубу не обидно.
– Нисколько, – подтвердил я.
– А обидеть хочется.
– За пудингом дело не станет. Уж больно в этой протоплазме желчь черна.
Мы двинулись дальше, в пустынную тень «Литераторских мостков», к могилам Менделеева и Петрова-Водкина. Напрашивающийся ассоциативный ряд вполне оправдывал соседство, которое уготовило им посмертие.
– Теперь мы – орки, гоблины и тролли. Отменно троллим и живём в Мордоре, – сказал Георгий.
– А они, само собой – эльфы Запада, – сообразил я.
– Именно. Несмотря на очевидную нелепицу. Ведь если взять, к примеру, олицетворение эльфизма в образе Маккейна, Меркель, Трампа и сравнить этих видных представителей волшебного народа с выдающимися орками Жириновским, Матвиенко, Путиным, то – попробуй отыщи кардинальное несходство.
– Найди семь отличий, – буркнул я под нос.
– Что? – не расслышал Георгий.
Я пояснил: был раньше в детских журналах прикол – две картинки, на которых, скажем, жираф с бегемотом под пальмой, а над ними висит барашек облака и желток солнца с лучиками. На первый взгляд – картинки одинаковые. Надо посчитать пятна на жирафах, завитки на облаках и найти семь отличий. Или около того.
– Помню, – припомнил Георгий. – Похожая история. И семь этих отличий мы непременно сыщем. Но все – не по существу.
Солнце сверкнуло и снова потерялось в кронах.
– Да, – признал я. – Внешние различия пустячны – чепуха. Что эльфов и смущает. Но есть другие – в плане песенки души.
– Ну-ка, ну-ка… – обрадовался Георгий моему активному вступлению в беседу.
Я выставил перед собой кулак и оттопырил большой палец:
– Первое. Эльф проклинает империю и восхищается ампиром. Орк несёт империю в себе – поэтому, когда кончается ампир, начинаются анекдоты про императора. Второе. – Я разогнул указательный палец. – Орк доверчив. А эльф с колыбели знает: крупной станет та рыба, которая не поведётся на приманку. Третье. – Пришёл черёд среднего. – Эльф понимает под цивилизацией комфорт, терпимость, эгоизм и деловую калькуляцию. Живому искусству нечего делать в таком мире – там для него в лучшем случае отыщется музей. Орк понимает под цивилизацией энергию, героизм, восторг, сплетенье молний. Поэтому его искусство дышит жаром и способно испепелить – таков его звериный стиль. Четвёртое. – Распрямился безымянный. – Эльф нарциссичен до таких пределов, что порой – чистая моль из старой байки: когда я вылетела из шкафа, мне так аплодировали! Орк знает за собой несовершенства – отсюда его тоска. Пятое. – Ладонь раскрылась. – Если культурный миф народа что-то может сказать о самом народе, то надо помнить: главная тема эльфийской фабрики грёз – месть, возврат обиды в форме непоправимого ущерба. У орков этого в помине нет. Шестое. – Пальцев не хватило, поэтому я опустил руку. – При всём нарциссизме подспудно эльфы сознают свой позорный финал – сначала они оскопили свои души, теперь отказались и от размножения…
– Ну да, понятно. – Георгий перешёл от красного креста Менделеева к пепельной колонне Петрова-Водкина. – Но ты рисуешь чёрно-белую картину. Действительность цветистее.
– Отличия виднее на контрасте. А вообще – согласен. – Я не был склонен городить напраслину. – И среди эльфов встречаются вменяемые. Скажем, Честертон. В «Варварстве Берлина» он удивляется узлам эльфийского рассудка, по логике которого Россия, бывшая под игом и самостоятельно стряхнувшая его с загривка, считается неизлечимо заражённой азиатчиной, в то время как Испания, несколько веков томившаяся под маврами, и Греция, столетия стонавшая под османским каблуком, безоговорочно приняты в семью европейских народов. И ещё он говорит, что эльфы, эти рыцари терпимости, терпимы к любому мнению, кроме истинного. Истины для них нет вообще. То есть они догадываются о её существовании, но, едва почуют хоть слабейший её признак, принимаются носителя этого признака с неумолимым рвением топтать. И это тоже родимое эльфийское пятно. Ведь орки Мордора взыскуют истины и справедливости как Царствия Небесного, как оправдания скорбей.
– Да, – тряхнул сединами мой старший товарищ, – и там есть светочи. Подумать если, мошенничество, разгильдяйство, воровство, излишества и вредные привычки – это же не только в Мордоре, а где угодно. Что на улочках итальянского Ривенделла, что в бронксах заморского Валинора. А если взять по губернским городам, наш орк живёт не хуже эльфа. Только поныть, пожаловаться – золотые руки. И крыша есть над головой, и дачный домик, и землица, и от машин, глянь, нету продыху. И болеет наш орк не чаще и по миру рыщет – куда только не занесёт нелёгкая… Дело ведь не в нулях зарплаты, а в соотношении прибыток – обязательные траты. Остаток и определяет суть.
Менделеев с Петровым-Водкиным остались позади. Мы вышли на дорожку, с намерением пройти к могилам мордорских искусников: Гаршина, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Тургенева и Гончарова.
– Вот мы беседуем, – сказал я. – Мы добродушны, наши помыслы чисты, мы деликатно подбираем выражения. А фонтан Протея – так ты его назвал – всё хлещет и смердит. В пору не ныть и жаловаться, как принято у орков. В пору заслать ответку.
– Это верно.
– Куда вернее.
– Только ответить надо по уму. – Георгий повернул ко мне худощавое лицо с крупным носом и впалыми висками. – Доказывать, что не верблюд – курам на смех. Тут бы с талантом и душой… Как Блок.
– Как Блок?
Серые глаза Георгия зажглись:
– Через художественный жест. Мощный художественный жест. Чтобы какое-нибудь недюжинное дарование предъявило миру: «И там, где у орка вскипает душа, у эльфа порхают купюры, шурша».
Я не нашёл, что ответить – уж больно плакатные строки. Георгий продолжал:
– Или через целую череду художественных жестов. Ярких и монументальных. Чтобы возвысить славных орков и прекрасных гоблинов и путём их заслуженного возвышения обнажить природу хвастливых, поражённых внутренним недугом эльфов, ничем ныне не отмеченных, кроме родового гонора, хитрости, жестокости и холодной злобы. Вклад в такой художественный жест – вклад в вечность, как всякое дело любви. Необходим неодолимый культурный соблазн – нынешнее противостояние решается лишь так. Нужна победа в войне обольстительных грёз. Ракеты и бомбы не определяют, а лишь завершают дело. И даже могут вовсе не понадобиться. То есть первое и главное – интеллектуально развенчать врага. Развенчать и культурно обезвредить. Если угодно – такой социальный заказ. Вспомни Обломова и Штольца – к кому льнёт наше сердце?
Мы только подошли к чёрному кресту на могиле гоблина Гаршина, а Георгий уже предвкушал встречу с бюстом орка Гончарова, изваянным из белого камня, но за долгие годы под воздействием нависшего над ним куста слегка позеленевшего.
– Нет, – возразил я.
– Что? – вскинул серые глаза Георгий.
– Не должно быть никакого социального заказа.
– Почему?
– Социальный заказ – это идеализм. – Я достал фляжку с зубровкой и протянул Георгию. – Более того – вульгарный идеализм. Надо просто поощрять тех, кто поёт прекрасные песни, и выключать микрофон тем, кто не умеет их петь. Прекрасные песни – это всё, что нам надо.
– Пожалуй, ты прав, – после паузы, вызванной долгим глотком, согласился Георгий, вслед за чем загадочно изрёк: – Однако всегда должен быть тот, кто может себе позволить.
Вернув мне фляжку, он некоторое время молчал, склонив крупный нос и впалые виски перед надгробием вечно молодого Всеволода Михайловича.
– По крайней мере, – наконец сказал Георгий, – у того, кто включает и выключает микрофон, должен быть отлично настроен резонатор. Точно так же, как у того, кто прекрасные песни поёт. – И добавил, обводя широким жестом пространство: – Ты только посмотри, какая красота!
Я тоже сделал глоток, мысленно поминая Гаршина и всех тех, чей прах в итоге тут обрёл покой. Я был не согласен: поющий прекрасные песни вполне может не осознавать свои деяния, не поверять их беспрестанно гармонией светил, не ведать, ёксель-моксель, что творит, поскольку он просто не умеет петь по-другому. Но как тут возразишь? Действительно, в погожий майский день русские кладбища на диво хороши.
* * *
Георгий занимался наладкой пустот-резонаторов, ответственных за приём отголосков Зова, в то время как я был увлечён воспроизводством чистых, освобождённых от фоновых шумов звуков потусторонней музыки. В принципе, мы с разных концов запаливали одну и ту же свечку. В наладке резонаторов упражнялся и Сократ, но он использовал на своих софистических сеансах логико-речевой метод, в то время как Георгий, так сказать, практиковал фонохирургию. Как он пришёл к этому, не знаю. Возможно, сказалось краткое общение с покойным ныне корифеем Неустроевым, которому по силам было абсолютно всё и даже немного больше. А возможно, дело в интуиции и врождённых способностях. В конце концов, бывают дарования к внушению или чутьё на воду, как у природных лозоходцев.
Должен наконец сказать: Георгий – тот самый подававший некогда надежды специалист, который так и не защитил на мне докторскую диссертацию. Ну тогда, когда я был шестилетним ребёнком, а он исследовал пульсирующий шарик у меня внутри.
Однако, несмотря на несложившуюся диссертацию, для Георгия эта история имела продолжение. После констатации моего – на тот момент уникального – случая, он стал подробнее исследовать своих пациентов и у некоторых обнаружил нечто подобное моему пузырю, но в зачаточном (или всё-таки рудиментарном?) виде – булавочная головка, не более. У остальных же – просто незаметная складочка соединительной ткани. Георгий зачастил в прозекторскую – при вскрытиях находил и у покойников этот не то пузырьковый рудимент, не то зачаток, брал образцы мёртвых тканей, делал срезы, исследовал под микроскопом. На свой страх и риск ставил эксперименты, не согласованные с больничным руководством. Увлёкся так, что запустил пациентов с их заурядными болячками и вызвал подозрение коллег. Дальше – больше. Крест на текущей научной работе, раздор с начальством, увольнение.
Текущей научной работой Георгия были экспериментальные исследования по воздействию звуковых волн на клетки организма с нарушенным механизмом апоптоза. Не просто волн – направленных низкочастотных колебаний. Впрочем, он использовал колебания в весьма широком спектре и исследовал их воздействие уже не только в области злокачественных новообразований. А вскоре и вовсе перестал интересоваться бессмертными клетками, полностью сосредоточившись на любопытном пузырьке.
После конфликта с руководством низкочастотная научная тема была вычеркнута из планов академической лечебницы. Однако Георгий успел набрать изрядный клинический материал и в общих чертах нащупал методику фонохирургии в области открытого им органа. Впоследствии он частным порядком продолжил исследования и теперь был способен концентрированной звуковой волной переменного тона расправлять загадочную складочку и формировать из завязи оптимальный пузырь-резонатор.
В лучших традициях научной одержимости Георгий первым делом проверил методику на себе. Вслед за оценкой параметров изменившейся рецепции пришло осознание функции эластичного шарика как своего рода колебательной мембраны, как спящего органа слуха, предназначенного для восприятия потусторонней музыки – симфонии упорядоченного космоса. Георгий называл этот неслышный обычным ухом гармоничный гул, отзывающийся радостью в каждом уголке сознания, рокотом мироздания. Само собой, после этого открытия до рутинной медицины ему больше не было дела. Он обнаружил главную причину человеческой бесприютности, его оставленности и сиротства. Более того, он был способен человека тугоухого вновь в гармонию космической симфонии включить. Включить, увы, только отчасти и в сугубо индивидуальном, штучном, что ли, порядке, но тем не менее…
«То, что ты называешь тугоухостью, – сказал он мне однажды, – в действительности – синдром отсутствия шестого чувства. Хотя, конечно, счёт неверный – с точки зрения иерархии органолептики или, если угодно, перцепции сущего это чувство по значению должно быть первым. Способность внятно расслышать рокот мироздания – безупречную череду аккордов гармонии сфер, включая сферу социальную, сферу нашего совместного бытия, – могла бы послужить достаточным условием для окончательного обустройства этого бытия. Такая способность позволила бы нам избавиться от революций, злоупотреблений властью, законодательной чепухи, разрушительных преобразований – вообще всякого несовершенства повсюду и во всём. Самозванец в деле государственной жизни был бы изгнан с позором, как дилетант из сыгранного оркестра: придёшь домой, передай наши соболезнования жене – как можно спать с таким неритмичным существом?! Ах, если б только аккорды этой великой музыки доходили до каждого из нас как до её первейших адресатов!» Мне это было знакомо. Разве не о том же я грезил в скиту Оловянкина? И даже раньше – Царствие Небесное, похожее на филармонию… Что поют там ангелы? Это самое Царствие Небесное они и поют, как граждане идеального государства каждым своим деянием, будто хорошо настроенные инструменты, исполняют этого государства партитуру.
Порвав с медициной, теперь Георгий называл себя наладчиком, хотя по роду деятельности, так или иначе связанной с музыкальным контекстом, ему пошло бы больше называться настройщиком. Но даже безупречно настроенный резонатор не мог беспрепятственно одолеть фоновой завесы в области слышимой музыки, мешающей, как треск в эфире, распознанию отзвуков творящих аккордов. А без того рокот мироздания, принимаемый с помехами, то и дело корчила судорога скрежета и фальши. То есть мог – настроенный резонатор мог одолеть завесу, но человеку приходилось справляться с этим делом в полуслепом (диктат оптической метафоры), мучительном режиме, в каком одолевал её я. Ведь царящая вокруг мнимая музыка, извратившая наш слух, никак не может обойтись без драматической концепции, без заёмной семантики, всё время норовя удобным образом в неё улечься, – теоретик музыки Леонард Мейер называл такой подход «кинетико-синтаксическим» способом сочинительства. В результате музыка перестаёт довольствоваться собственным, присущим ей изначально смыслом и начинает впитывать добавочные, внешние по отношению к ней идеи. Впитывать и их иллюстрировать. Вероятно, и кладбища Георгий выбирал для прогулок потому, что в городе это были наименее засорённые фоновыми шумами пятна – прообразы чистых каналов трансляции рокота мироздания.
Георгий считал, что пузырёк, этот то ли едва нарождающийся в нас, то ли едва не отмерший орган, следует неустанно упражнять и развивать. Нам требуется к нему приноравливаться, учиться чувствовать им, пытаться как можно полнее, во всех оттенках воспринимать доселе заповедную ткань мироздания – неслышимую часть сущего. И тогда рано или поздно он, этот пузырёк, подобно монгольфьеру или возвышающему духу, недаром вдутому в телесную физику, вознесёт нас и позволит полностью влиться в музыку сфер, чтобы зазвучать в ней полновесной, соразмерной темой.
Я же считал, что коль скоро творящую музыку можно услышать, то почему бы не попробовать её, хотя бы в малой части, сыграть/воспроизвести. На этой лестнице, восходящей в небеса, вероятно, будет много удивительных и искусительных ступеней, но там, на вершине – звучащие в полный голос вещие звуки, которые снимут проклятие отлучения от Зова. Только сыграй их, и наступит благоденствие, спустится на землю небо и вернётся рай. Как писал по схожему поводу Иван Киреевский: «Возможность этого потому только невероятна, что слишком прекрасна».
На сверхзвуковом концерте в здании бывшей Голландской церкви собрались разные люди – и пациенты Георгия, и случайные зрители. Хорошие формы видели все. Все без исключения. Увы, не дышащие формы. Возможно, кто-то видел ярче и объёмнее, но, так или иначе, они открылись каждому. Что это значит? Вот что. Георгий обещал индивидуальное, поступательное спасение, в то время как я хотел предложить возвращение в лоно божественной симфонии всем и сразу. Ну то есть в будущем предложить. В отложенном и неопределённом будущем. Однако напрямую зависящем от моего усердия, от результатов дерзкого труда. Ведь всё, что я хотел – это всего лишь воссоздать партитуру глубинной закономерности, того рокота мироздания, который с трудом улавливает сквозь помехи шарик-резонатор. Той закономерности, которая даёт понимание единства происходящего и правомерность перемен, случающихся в одном месте, хотя определённые условия, казалось бы, нарушены в другом. Так чрезмерный избыток на каком-либо из полюсов приводит к нехватке на противоположном, благодаря чему обретший великое богатство или кромешную власть многократно увеличивает для себя риск падения в ничтожество. Почему это происходит – определённо сказать нельзя, но дело обстоит именно так. По свидетельству Геродота, Амасис, властитель Египта, разорвал дружбу и союз с Поликратом, тираном Самоса, только потому, что Поликрату во всём сопутствовал успех и он достиг такого величия, какое до него на Эгейском море знал только Минос. Амасису стало ясно, что чрезмерное благоденствие скоро сменится столь же чрезмерной бедой. Так и случилось – Поликрат был коварно пленён и казнён таким способом, который Геродот даже не посчитал возможным описывать.
Иными словами, вещие звуки позволяют обнаружить сопричастность событий, не обусловленных цепью прямого причинения – единое может быть расслышано там, где наша оптика не в силах узреть непосредственной взаимосвязи. На ответной определённости условий и следствий строится история, а, например, трагедия следует путём предвечной музыки, о чём нам поведал уже упоминавшийся Ницше, не чуждый её, музыки, тайн (он ещё в юности провидчески указал её цель – вести человека к небу) – в своё время он написал множество хоров, вокальных композиций и даже романс на стихи Пушкина «Заклинание». Помните?
О, если правда, что в ночи, Когда покоятся живые И с неба лунные лучи Скользят на камни гробовые, О, если правда, что тогда Пустеют тихие могилы, — Я тень зову, я жду Леилы: Ко мне, мой друг, сюда, сюда!Вот и выходит, что трагедия в своём античном воплощении куда ближе к вещей музыке, нежели созвучия тех или иных заведомо очеловеченных сочинений, рождённых в темнице извратившегося слуха. Как снова тут не вспомнить Блока: «А дух есть музыка». Дальше что-то про революцию и про Сократа, которому даймонион велел слушаться духа музыки. Уж он-то, Сократ, слушался, спокойны будьте.
Теперь – не то. Времена вещих аккордов отгремели. Теперь мы живём в поствавилонскую эпоху смешения напевов. И наполняющая мир невразумительная событийность, которая проистекает из наших поступков, – не более чем печальное следствие сбоев в приёме отзвуков заветной симфонии. Цельность отсутствует, и всё, что мы имеем – в лучшем случае беспорядочные обрывки уловленных мотивов, набросанные и сведённые кое-как, без представления о первозамысле. Вообще всякая часть в своей кажущейся завершённости, будь то осинник, дубрава, курортный роман или взятые в отдельности бессвязные поступки, в отличие от завершённости целого, – результат тугоухости в отношении всемогущего: аминь, истинно так. Того самого аминь, которое вершит дело. Только отсеяв сорные шумы, можно услышать свою судьбу и осознать своё место в единстве сущего. И перестать сомневаться. И перестать думать, потому что всё и навсегда станет ясно. А без этого, сколько ни морщи лоб, не решишь о себе ничего путного сверх чепухи: рождён, чтобы родить.
Словом, многое нас с Георгием сближало, а кое-что разъединяло. Но оба мы при этом в полной мере понимали, о чём ведётся разговор – о возвращении к благодати, если кто-то до сих пор не понял.
После предновогоднего концерта-иллюзиона я много думал, как эти вторичные образы, вызванные музыкой из пустоты, эти недышащие слепки эйдосов вырвать из небытия. Как влить в них животворящие энергии и воплотить? Вопрос, в общем, был не нов. Ведь и прежде, там, на Воронец-озере, столкнулся с незадачей… Я сидел, точно врубелевский демон, на каменной глыбе и слушал, впитывал всем существом музыку жизни, её журчание, трели, шелест, а в мои ноты, которые, как мне казалось, я жизнью напитал, ползучим гадом вкралась смерть. Почему? Не было ответа.
Чтобы прочистить восприятие, сбить прежние настройки, не давшие желанный результат, отправился проветриться на дальние просторы глобуса. Уже так делал, когда хотел избыть великую разлуку. Перед тем первым странствием был полёт обречённой мухи и сгущающаяся вокруг смерть, а после – блестящий фокус, зрелищный аттракцион. Что это напоминает? Слепой щенок, тычущийся носом туда-сюда в поисках материнского соска. Забавно и трогательно. Но щенок находит. Ухвачу и я.
Пересадка в Амстердаме, потом – одиннадцать часов над Атлантикой и сельвой. В Лиме, небо которой затянуто плывущей от океана сизоватой дымкой, на перекрёстках у светофоров крутятся брейк-дансеры, вьются женщины-змеи и скачут парни-лягушки – из окон машин на асфальт летит бренчащая мелочь. В Мирафлорес улицы уже не пахнут мочой, а на прибрежных волнах наездники седлают доски. В Лиме арендовал машину и на колёса накрутил Паракас, Наску, Ику, Арекипу… Без малого пять тысяч километров за месяц с небольшим. Кондоры, взмывающие на воздушных струях из ущелья Колка. В горной пампе пасутся альпаки, о которых некогда поведал мне отец: чудно́е дело – инкам удалось из верблюда вывести овцу. Мощные фундаменты Куско, точно балласт, держат у земли разреженный воздух, не дают ему исчезнуть вовсе. Невероятный Мачу-Пикчу сложен на срезанной вершине из таких же титанических камней, как стены Соловецкого монастыря, но с расчётливой подгонкой, чтобы камни удержались на местах при сотрясениях земли. А они тут не в диковинку – недаром на улицах и в патио гостиниц пестрят трафаретные буквы: zona segura en casos de sismos[1]. И всё это столь непохожее на мою многоликую Родину пространство от безжизненной пустыни вдоль океана до дремучей парно́й сельвы залито тростниковой музыкой, прообраз которой восславил некогда огромную державу Солнца, империю высокогорного социализма.
Не стоит долго распространяться о том, как я был прав, рассчитывая, что дальняя поездка с погружением в неведомый мне мир собьёт настройки восприятия. Так и случилось – сбила. И что же? Помнится, говорил: наше сердце откликается на отголоски неслышимой гармонии не созвучиями и перепадом чувств, а верными решениями. Там, в поднебесных Андах, в голову пришло: источники живой воды и мёртвой струятся по соседству и, возвращая бездыханному дыхание, всегда работают друг с другом в паре. В паре. Только так. На Воронец-озере я слушал музыку жизни, и в мои ноты вкралась смерть – так, может, надо окунуться в пламя смерти, чтобы сложить напев, который дивным образом животворит?
Уже пылал Донбасс, кровоточил, как злая рана. И миллионы русских несли эту рану на себе, словно они были одно огромное живое существо, ропщущее, вечно неудовлетворённое, томимое неясными страхами, озарённое таинственной верой и устремлённое к загадочной цели. Существо, полное неугасимого света и неиссякающих слёз. И я ощущал себя частью этого огромного зверя. И меня, как его, язвило жало предательства, отвратительного, как всякое предательство, но сверх того отягощённого подлейшим ядом – чёрной изменой и земле, и небу, и священным клятвам предков. Изменой, оплаченной понюшкой табака. И эта рана ныла и тянула в путь – туда, на Донбасс, искупавший в огне и муке вероломство блудных свидомитов.
Рана тянула, но до поры держало дело – начатое и не завершённое.
Теперь не держало ничего.
Действие пятое. За мёртвой водой
– Алтай исполнил!
Когда музыка звучит в голове, закрываю глаза и вижу её цвет – синестезия. Соль мажор – зелёный и как бы лакированный, точно молодая листва. Ми минор – густой, вишнёво-бархатистый, немного сладкий на слух. Ре минор – волна, серебряный трепет, но не рассыпчатый, а – будто встряхнули шёлковое покрывало, качнули ртуть. До мажор… Странно, если видишь эти цвета вживую, они не отзываются внутри звуками – обратной связи нет. Так что там до мажор? Он белый-белый, как снежные пятна на терриконах… Хотя теперь март – снег стал ноздреватым, посерел, раскис.
Отстрелявшись первым, я лежал на огневом рубеже поверх расстеленной пенки. Пенка узкая, как ни изворачивайся, а локти замочишь – мои под налокотниками были мокры. Рядом, накрытая полой плащ-палатки, лежала «плётка» с уже отщёлкнутым магазином и пустым патронником. Не знаю, кто первым назвал так СВД, но в точку – выстрел звучал хлёстко, словно щелчок пастушьего кнута. Справа – четыре бойца, слева – два. Все из разных мест – не усидели дома, сорвались. Гнев Славянска, пламя Одессы, отчаяние Мариуполя стучало в их сердца.
Ближний слева – Лель, молодой голубоглазый парень из Перми. Затаив дыхание он приник к окуляру прицела. Его отстрелянные дымящиеся гильзы пару раз доскакали до меня и дружески шлёпнули по плечу. У него была странная привычка – всякий раз, отправляясь в нужник, он непременно сообщал во всеуслышание: «Пойду цыгану долг отдам». Оригинальная кредитная история. В Перми у Леля остались родители, жена и маленькая дочь.
Справа, закрыв затвором пустой патронник, отложил СВДэшку Чабрец – черноволосый с проседью автомеханик из Краматорска. В его сторону летели мои отстрелянные гильзы. Чабрец научил разведчиков, как просто и без шума выводить из строя транспорт и бронетехнику укропов: прыснуть из баллончика в выхлопную трубу монтажную пену. В Краматорске у него никого не осталось – украинский снаряд разнёс гражданский автобус, в котором ехали его жена и двадцатилетний сын.
Последний боец, шахтёр из Макеевки, стебанул из «плётки» и доложил об окончании стрельбы. Гобой скомандовал: «К мишеням бегом марш!», и мы – группа курсантов-снайперов батальона спецназа «Кентавр» с шевронами «Новороссия» и «Россия» на разномастных распятнёнках – нестройным табуном рванули к подошве террикона. Рубеж был стометровый – чтобы исследовать дырки в своих мишенях, за утро мы одолевали его по размокшему, смешанному с донецким чернозёмом снегу уже в девятый раз.
Возле своей мишени достал из кармана школьную линейку и принялся замерять среднюю точку попадания, расстояние до контрольной и кучность – инструктор был строг, цеплялся к каждой мелочи и за любую приблизительность мог отбрить почище цирюльника – останешься без бороды и носа. «Прут укропы на броне приблизительно ко мне», – с недоброй улыбкой на рассечённом шрамом лице приветствовал Гобой оплошности курсантов. Впрочем, при таком шраме любая улыбка показалась бы зловещей.
Никому не давая спуску, инструктор гонял нас по стрельбищу вот уже два с лишним месяца – если не выезжали на задание, отправлялись на полигон. «Железо без движения ржавеет», – приговаривал он, пугая курсантов неконтролируемой мимикой.
Гобой переходил от мишени к мишени, оценивая результат и вразумляя нерадивых. Остановился рядом.
– Негоже садишь.
– Разве? – опрометчиво возразил я. – Разброс – меньше, чем по инструкции.
– Та шо ты говоришь? – с характерной южнорусской модуляцией и мягким рокотом фрикативных во рту удивился Гобой. – Инструкция – то ж для незрячих.
Закончив осмотр, Гобой велел сменить мишени, после чего гаркнул:
– На огневой рубеж бегом марш!
И первый ухнул тяжёлыми берцами в скользкую жижу.
Гобой знал своё дело – он был уже и в Славянске, и на Саур-Могиле. Там, на Саур-Могиле, пуля распорола ему щёку и сорвала пол-уха, отчего лицо его перекосилось. За спиной курсанты называли инструктора Касабланка. Укропы на его глазах убили младшего брата – с тех пор кровь в сердце Гобоя запеклась. Рассказывали, он целыми днями выжидал, пока кто-нибудь во вражьем окопе не высунет нос, – и тотчас бил. Здорово бил, без промаха, точно ярость придавала его глазу ястребиную остроту. Ни на перекур, ни на обед не отвлекался, чтобы и минутной бесам не было милости – еду ему бойцы в котелке носили на огневую позицию. Горел на глазах. Сгорел бы весь, но после ранения его приказом перевели инструктором на стрельбище.
Да, вот ещё: а выстрел? Какого цвета выстрел? Закрыть глаза на бегу я не решился. Вспышка? Да, пожалуй, вспышка. В ней разом – все цвета. Это – если приход не в голову и ты услышал…
Через полчаса перешли на новый рубеж – земляную насыпь-бруствер в пятистах метрах от террикона. Тут, как в ярмарочном тире, мишени были на любой вкус: железные из прокатного листа – в полный рост и по пояс, бумажные на фанере – круговые, круговые с грудной фигурой, просто чёрные точки-яблочки, нарисованные фломастером на писчей бумаге, а однажды Гобой навязал на верёвки пустые пластиковые бутылки с красной полоской Vittel – маленькие, ёмкостью 0,33, – и курсанты садили по ним, резво пляшущим на ветру, с двухсот метров. Курсанты садили, а Гобой, поглаживая зарубцованный шрам, жучил нас последними словами на обе корки, в хвост и в гриву, засучив рукава… Мы с Чабрецом были старше инструктора лет на двенадцать, но даже мы не обижались. Что обижаться? Да, здесь нет срочников, здесь добровольцы – но Гобой вбивал в нас науку, которая поможет победить и выжить. «Не насобачитесь стрелять, насобачитесь рысачить», – часто приговаривал он. А до победы между тем как от Макеевки до Ужгорода – на семи трамваях ехать. (В Донецке после очередного ночного артобстрела слышал на улице разговор. Дама с продовольственным пакетом: «Боже, когда ж то кончится!» Гладко выбритый мужчина в очках: «Когда мы вставим этим дрын до Львова». Дама с пакетом: «Да то ж я знаю. Ну а шо молчит пушистый Запад? Шо хунту ту не отмудохает в ООНе?» Мужчина в очках: «Так Западу смотреть, как русские хайдачат русских – удовольствие. Как барышне конфетка».)
Мишени стояли вразброс, на разной дистанции, чтобы с одного огневого рубежа бойцы могли получить навык работы с оптическим прицелом – определять дальность до цели и задавать поправки на деривацию с учётом силы ветра и расстояния. Курсанты предпочитали листовое железо – к бумажным мишеням приходилось бегать, оценивать и замерять результат, а стреляя по железу, достаточно было навострить ухо – цель сама отзывалась на удачный выстрел.
Отстегнув от мародёрки пенку, на весу развернул и бросил на бруствер. Рядом – плащ-палатку. Мародёркой тут с донбасским юмором называли рюкзак десантника – он же эрдэшка или сухарка. Раскрыл рюкзак, достал пачки с патронами. Улёгся и поудобнее подбил свой валик – упором под винтовку нам служили старые штанины, набитые песком и завязанные с двух концов узлами. Несколько раз глубоко вздохнул, вентилируя лёгкие и успокаивая дыхание.
– По четыре заряжай! – скомандовал Гобой.
Чик-чик-чик-чик – вошли в магазин четыре матово отсвечивающих патрона, щёлк – магазин зафиксирован в гнезде.
– Работаем на неизвестную дистанцию, – из-за наших спин руководил Гобой. – Варяг, мишень номер два, Лель – семь, Алтай – пять, Чабрец – девять… Стрельба по готовности!
Прильнул к остывшей резине наглазника, высматривая в прицел на фанерных щитах с мишенями цифру «5». Вот и она. За два месяца занятий на стрельбище не мудрено выучить все цели и расстояние до них. Мой щит стоял на дистанции четыреста двадцать; сверился с дальномерной шкалой – так. Нащупав верхний маховичок, установил индекс на четвёрку. Дослал патрон в патронник и сосредоточился на сетке прицела. До мишени четыреста двадцать, выставил четыреста, стало быть, надо взять немного выше. Ветер – метров шесть в секунду, поправка вправо. Плюс деривация на дальность…
Скула коснулась упора на прикладе. Вдохнул, неторопливо выдохнул и, словно ухнув в воду, задержал дыхание. Сетка прицела замерла. Толчок в плечо, гром выстрела, заглушивший клацанье затвора, и курящаяся гильза полетела к лёжке Чабреца.
Вдохнул, медленно выдохнул, задержал дыхание. И снова толчок в плечо…
Выбросив четвёртую гильзу, затвор замер, оставив патронник открытым. По сторонам грохотали выстрелы. Закрыл глаза, чтобы увидеть цвет: ну да, конечно, вспышка, белая с оранжевой опушкой вспышка – зажглась, вобрав в себя весь спектр, раздулась ярким шаром и плавно растаяла до ядрышка, из которого взвилась, погасла… Снял пустой магазин, запер затвор, положил винтовку на плащ-палатку, накрыл полой и доложил по персональной форме:
– Алтай исполнил!
В таких мелочах Гобой позволял курсантам буквой устава пренебречь. Как позволял себе пренебрегать инструкцией по эксплуатации СВД в части допустимого разброса на стометровой дистанции.
И тут же:
– Лель стрельбу окончил!
– Чабрец стрельбу окончил!
Буроватая глыба террикона с пятнами мартовского снега чётко проступала на фоне светлого сизовато-голубого неба. Я перевернулся на спину. Высоко над полигоном в поднебесье, словно не слыша грохота на грязно-белой, простроченной цепочками черных следов земле, парил далёкий коршун.
«К мишеням бегом марш!» – внутри меня, опережая живой звук, уже гремел неумолимый рык Гобоя.
Так мотались ещё часа два, прежде чем подала сигнал подкатившая «буханка», отвозившая нас в столовую.
Обед в солдатской жизни – больше чем обед. Как завтрак больше завтрака, уже не говоря про ужин, после которого – покой. Обед – священнодействие, овеянный традицией канон, который ни отнять, ни изменить, ни передвинуть. Посягнуть на святость ритуала мог только враг, за что прощения ему, конечно же, не будет. Начальство это знало, потому посыльный появился, когда солдатский борщ, а вслед за ним и греча с тушёнкой уже улеглись в желудках и бойцы, переместившись из столовой в кубрик, баловались чаем.
– Группа Малуго на выход! – просунул посыльный голову в дверь. – Грузиться на задание!
Кузов тупорылой армейской «шишиги» под прорезиненным тентом со стороны кабины был забит набросанными мародёрками. На полу стояли ящики с боекомплектом (здесь говорили коротко – БК), коробки с сухим пайком, тушёнкой, крупами и макаронами. Тут же – несколько больших пластиковых бутылей с водой, пара бывалых сковородок, дуршлаг и кастрюля. Бойцы, упираясь подошвой в уступ откинутого борта, по очереди забирались в кузов. Каждый знал своё место, к которому притёрся за время выездов, поэтому – ни суеты, ни пустых споров. Так – хрипловатый матерок.
«Шишига» – неубиваемый самовар, с неисчерпаемым запасом прочности, пусть её сняли с производства ещё в конце девяностых. Помню, полз на такой к Мультинским озёрам – то по ступицу в жидкой грязи, то по радиатор в горном потоке, то по голым лбам валунов, встречая на пути увязшие «буханки» и завалившиеся набок «хантеры». Этой трудяге было по зубам любое бездорожье, так что списывать её в утиль хозяйственники не спешили.
Коробочка вскоре набилась битком, и водила Голец поднял зелёный борт. Я в обнимку с винтовкой сидел в углу, привалившись плечом к эрдешкам. Места у заднего борта считались мажорскими и предназначались по уставу для пулемётчиков, но в нашей «шишиге» по негласному ранжиру их занимали Набоб и замкомандира Пёстрый. Малому, как командиру группы, полагалось сидеть в кабине.
Набоб тоже из Петербурга – светло-русый, лобастый, крепко сбитый аспирант философского факультета с весёлыми и умными глазами. После 2 мая, когда в Одессе жгли людей, определился с выбором: оставил недописанной кандидатскую диссертацию про метафизические аспекты инициации и рванул на Донбасс – инициироваться на полную катушку. Уже бывал в боях, так что закрепить за собой привилегированное место ему не составило труда. Однажды он поделился со мной чувствами: «Воевать не хочется, а смириться – душа не терпит. Неопределённости нет – просто трудно тут, если в тебе ум заматерел: уже не гнётся, а трещит только. Здесь ведь и не всякий гибкий ум до высшего разума дозреть успеет».
Спокойный, сорокалетний, точный в слове и движениях Пёстрый любил шутку, розыгрыши и умел быстро подчинить своей воле, обходясь без кулаков, – голосом и свинцовым взглядом. Норов объяснял так: «Бывает, балуем. Иной раз от тоски. Не шутка – через день под пули». В бою был расчётлив и смел одновременно, замком стал по праву. Четыре месяца назад они с Набобом воевали в одном разведвзводе батальона «Славянск» – выбили вэсэушников из Никишино так, что те кувырком летели до Дебальцева. В Челябинске Пёстрый оставил семью, работу и приехал в Донецк добровольцем. Через несколько месяцев ему по локоть срежет осколком левую руку.
– Лягушата в коробчонке? – Над бортом «шишиги» возникла голова Малого.
– Лукум отливает, – доложил Пёстрый. – Сейчас будет.
Тут объявился и Лукум – непоседливый, как заведённая пружина, псковский паренёк лет двадцати двух, уже имевший за плечами опыт зоны-малолетки. А с виду не скажешь – улыбчивый, смешливый, в разговоре голос не повысит, но взгляд быстрый, цепкий. Он любил сладкое – конфеты, пряники, сгущёнку, – за что получил позывной Рахат-Лукум, впоследствии купированный. Он тоже уже поучаствовал – в том же разведвзводе, что и Пёстрый с Набобом. Рассказывал про первый бой: «Не пойму: как бежать? как на бегу АКа держать? Всё не прилажусь – беспонтово выходит. Потом гляжу, один чешет так козырно: то куницей, то будто кошка. Ну, я срисовал. Довёл немного, теперь – другое дело». Он и впрямь был грациозен и стремителен – молодой демон битвы. Говорил, что шумно жить любит, потому война ему в самый раз по натуре.
Лукуму нравился подствольный гранатомёт, метающий серебряные яйца. На выданном ему АК подствольника не было – купил за свои деньги. Во время боя в Никишино отличился: под бешеным огнём в несколько приёмов вывел из подвала дома сорок гражданских – женщины, старики, дети. Радовался, что не бросил в подвал эргедешку, когда увидел в темноте людей. Захарченко вручил ему медаль, Малахов приглашал в своё гнилое шоу. Медаль Лукум принял, а Малахова не удостоил.
Почему я – Алтай? Всё просто. Первое время, как приехал на Донбасс, носил тряпичную шапочку-таблетку, купленную некогда с лотка на перевале Чике-Таман – на обочине Чуйского тракта. Её украшали фигурки, напоминавшие петроглифы Калбак-Таша, и надпись – Алтай. Этого оказалось достаточно для выбора позывного.
– Куда едем? – забросив через борт «шишиги» АК и перевалив следом в кузов ловкое тело, полюбопытствовал Лукум.
– Великая тайна, бойцы. – Малой надел поверх подшлемника каску и уже на пути к кабине сквозь брезент тента сообщил – куда.
Место было известное, горячее – бойцы оживились и в предвкушении пустили по кругу пачку сока.
Малой – коренной дончанин. До случившегося в Киеве головняка держал небольшой магазин автомобильных запчастей, потом взял автомат, оставил на жену и двух дочек любимую собаку – белого вислоухого алабая, грозного и ласкового – и отправился брать артиллерийскую базу в Артёмовске. По алабаю в редкие лирические минуты скучал, кажется, больше, чем по детям. Как-то, оказавшись с командиром один на один, спросил его, почему он воюет. «Да как же? – неподдельно изумился Малой. – Фашисты ж, мать ети! В мой дом – с Бандерой на хоругвях!»
А почему здесь я – никто не спрашивал. Не принято.
Спрашивали: откуда?
* * *
Полтора года минуло с того донецкого марта. Мы с Пёстрым сидели на кухне в луганской квартире бывшего санитара Линзы, теперь – не кошачьего ветеринара, как в довоенном прошлом, а медбрата в госпитале, где латали и выхаживали бойцов непризнанных республик. Сидели и смотрели то на стол с ополовиненной бутылкой водки, двумя рюмками, солонкой и тарелкой с крупно порезанными огурцами, то в окно, за которым накрапывал сентябрьский дождь. Из левого рукава рубашки Пёстрого торчала восковой желтизны кисть протеза, неподвижная, но упругая, каучуковая, так что он мог ухватить ей и мобильный, и рюмку, и столовый нож. Пили Линза с Пёстрым. Мне сегодня ещё предстояло крутить баранку.
Время шло к полудню, мы только что вернулись из госпиталя. Пёстрый скучал: натура его требовала действия, а тут – зависли. Ждали Набоба с Лукумом. Из СПб выехали вместе, но в пути у «сузучки» Набоба стал троить двигатель, и он завернул в Воронеже на СТО – почистить или заменить свечи. Чтобы не терять времени, мы с Пёстрым погнали в Луганск – сгрузить часть коробок гуманитарки, которыми были забиты багажники и задние сиденья наших машин, в госпитале у Линзы. Там были лекарства, одноразовые шприцы, медицинские смотровые перчатки, ватные тампоны, перевязочный материал…
Пограничники на пропускном пункте досмотрели вскрытые коробки. Гуманитарная помощь шла централизованно через МЧС, поэтому нам предложили заехать в Ростов и оформить груз как следует. Офицер смотрел на нас и всё понимал, но у него было предписание. И мы смотрели на него и всё понимали. «Офицер, – сказал Пёстрый, – это моё. Аптечка». – «Аптечка?» – с интересом повторил тот. «В Донецке в больницу ложусь на полгода, – пояснил Пёстрый. – Руку мою нашли, будут пришивать». Нас пропустили. Луганские в машину даже не заглядывали. Прорвутся и Набоб с Лукумом.
Несколько месяцев назад, когда ополчение начали реформировать в контрактную армию и снимать шевроны «Новороссия» с камуфляжа, мы написали рапорты и вернулись по домам (Пёстрый – раньше, и в госпиталь, потом Набоб перетащил его в Петербург). Но уже второй раз за это время приезжали на Донбасс – навестить боевых товарищей. Живых, покалеченных и мёртвых.
– Ну как? – Пёстрый качнул подбородком в сторону Линзы. – В целом?
– Путём всё. – Линза наполнил рюмки.
– Уверен?
– Говорю же.
Водка в рюмках стояла вровень, как по ниточке.
– Спортом, может, тебе заняться? – задумчиво предположил Пёстрый.
– Зачем? – Линза застыл с бутылкой на весу. – Здоровому спорт не нужен, а больному – вреден.
Ловко подхватив рюмку пальцами протеза, правой рукой Пёстрый взял четвертинку разрезанного вдоль огурца и макнул её в солонку.
– Хорошо, если путём. – Пёстрый поставил пустую рюмку на место. – А то вид у тебя какой-то болезненный.
– У меня? – изумился Линза.
– Ну не у меня же, – хрустнул огурцом Пёстрый.
– Да в порядке всё. Забожиться?
– Я что спрашиваю, – пояснил Пёстрый. – С виду – поизносился будто.
– Ну, может, не всё… – усомнился в своём благополучии Линза. – Но в целом – нормально.
– А что лицо такое, будто тебе от улыбки больно?
В глубине сердца Линза считал себя неудачником, пасынком судьбы. И уже внутренне смирился с этим, хотя ещё не был готов признаться в своём смирении. В конце концов экзистенциальное сиротство ему не досаждало – пусть безысходность диагноза веяла холодком и неуютом, но в ней одновременно была и определённость, а значит, был покой. Пёстрый тоже считал себя пасынком судьбы, но мирился с этим неохотно – он словно бы всё время шёл в атаку. Их сближало общее чувство, что ничего уже нельзя переменить, поскольку, если тебе выпало заглянуть за край, то вернуться к прошлому – такому, каким оно когда-то было – всё равно уже не удастся. Это чувство сближало нас всех.
– Что пристал? – вступился я за Линзу. – Угомонись.
Вечно так: всё переберут – с Бога начнут, бабами кончат.
Но до чего б ни договорились, дружба оставалась выше всяких разногласий – за кость такие не передерутся.
– А ты помолчи. – Пёстрый с ласковой улыбкой повернулся ко мне – его взгляд был холоден и неумолим. – У тебя глаз, конечно, заслуженный, но ты тех-то… тех-то глаз не видел. Если б в предсмертные глянул – так бы и чудились. Иные как пришибленные ходят – только зенки на сон заведут, так мёртвые-то и смотрят.
В кармане рубашки Пёстрого телефон заиграл «Прощание славянки». Отложив огурец, он поднёс трубку к уху.
– Да, командир… У Линзы… Набоб с Лукумом, черти, отстали… Ждём… Да что ты говоришь! Нашёл её собачий рай… Понимаю… Как догонят, сразу к тебе… Бывай.
Пёстрый убрал телефон.
– Привет от Малого.
В дверях кухни появился тринадцатилетний сын Линзы.
– Вот те на! – оживился Пёстрый. – Давай сюда.
Подросток сделал шаг к столу.
– Смелее, – ободрил Пёстрый.
– Мне – чайник поставить. – Парень приблизился.
– Ча-айник… – передразнил Пёстрый. – Ну, ставь. Только сперва что надо?
– Что? – Лицо у паренька было ясное и нежное, почти девичье.
– Поздороваться надо. Со мной и с дядей Алтаем.
– Здрасьте.
– Здра-а-асьте!.. – снова передразнил Пёстрый. – Ты хоть знаешь, кто он такой? Знаешь, кто такой дядя Алтай?
Парень смущённо налил в чайник воды и поставил на плиту.
– Это что такое, Линза? – Пёстрый был изумлён. – Твой сын не знает, кто такой дядя Алтай?
– Он не знает, – сказал я. – Отстань от ребёнка.
– Он не ребёнок. – Пёстрый снова хрустнул огурцом. – Он боец. Боец резерва. Слушай сюда, боец резерва. Дядя Алтай…
– Дед Пихто, – сказал я.
Пёстрый усмехнулся.
– Скромный какой. Так вот, боец резерва, дядя Алтай – музыкант. – Пёстрый поднял вверх указательный палец. – Он такой музыкант… «Группу крови» слышал? То-то! Его. Он Цою все песни написал… Поэтому Цой жив. И «Звезду по имени Солнце» – тоже.
Парень посмотрел на меня – в глазах его зажглось детское любопытство.
– И «Восьмиклассницу», – вспоминал Пёстрый, – и про троллейбус на восток…
Поражённый моим величием, парень вышел из кухни.
Линза снова налил.
– Какой, нахер, Цой, – сказал я, глядя на пасмурное небо за окном.
– Виктор Робертович, – пояснил Пёстрый. – Не тупи – что смешно, то не грешно. – Пёстрый помолчал, обдумывая какое-то новое коленце. – А что, не хотел бы? Нет, ты скажи… как на духу. Никогда не хотел очутиться на его месте? Виктора Робертовича? Спеть то, что спел он? Скажи, не хотел?
– Не хотел, – сказал я, не совсем понимая – вру или нет.
Полдень только приближался, но мне почему-то казалось, что небо уже понемногу темнеет и тяжелеет. И опускается к земле, сползает, как медленная лавина, как окончательная и неотвратимая египетская тьма.
Подперев подбородок кулаком, Пёстрый смотрел в окно и улыбался.
– Весёлое время вспомнил? – поинтересовался Линза. – Воздух тут такой – волей тянет…
– Ну да, весёлое время… – Пёстрый вынырнул из грёзы. – До сих пор смеюсь. Когда меня осколок шибанул, сам себя позабыл – лежу, кричу, и никакого стыда. Не сказать, что больно, а просто такое чувство… будто в целом свете один остался. А раз один – то всё можно. Смешно. Лежу, кричу… Тут и подобрали. А рана-то – тьфу. Только руку и срубило.
В дверь позвонили. Вошли Набоб и Лукум, по очереди обнялись с Линзой.
– Ползаете, как черепахи, – сказал Пёстрый.
– А куда торопиться? – Набоб подхватил с тарелки дольку огурца.
– К Малому. – Пёстрый тронул протезом руку Линзы. – Ставь третью рюмку.
– Я не буду, – отказался Лукум. – Рано ещё.
– Часом раньше, часом позже… – сказал Набоб и уточнил: – Я не про водку – про Малого.
– Быстрее надо. – Пёстрый посмотрел на нас, выдерживая паузу. – Командиру поддержка нужна.
– Что случилось? – Лукум насторожился.
Лицо у Набоба окаменело.
– Собака у него померла. – Пёстрый опустил голову к столу и горько качнул седеющим ёжиком.
– Алабай? – Набоб округлил глаза. – Да ты что!
– Вот так, – сказал Пёстрый. – Все умрём.
– Надо же, – сказал я. – Малой её как родную кровь любил, души не чаял. Надо же…
– Кто помнит, как собаку звали? – встрепенулся Пёстрый.
Повисло молчание.
– По-краковски как-то… – наморщил лоб Линза. – Марыля, что ли?
– Матильда, – вспомнил Лукум.
– Точно, – вспомнил я тоже. – Матильда.
– Жалко Матильду, – сказал Набоб.
– Жалко командира, – сказал Пёстрый.
– По последней – и едем, – сказал я.
Провожая боевых товарищей, Линза вышел в прихожую вместе с сыном. На сыне была свежая футболка с мужественным ликом Цоя.
– Молодец, боец резерва, – похвалил Пёстрый. – Так держать.
– Не забывайте, – обнимаясь на прощание, попросил Линза. – Вместе у нас шкура ныла, вместе глотка выла…
Ехать решили через Алчевск. Блокпосты не смущали – ополченцы узнавали друг друга по взгляду. Особенно – если на подъезде, не включая головного света, помигать аварийкой.
Пёстрый дремал на переднем сиденье. Культя с протезом подрагивала – должно быть, подхватывала во сне АК.
Перед Дебальцево на дороге голосовал человек в камуфляже с чёрно-сине-красным шевроном ДНР на рукаве – контрактник новой армии Донецкой Народной Республики. По-прежнему накрапывал дождь. Я съехал на обочину. Пёстрый тут же взбодрился и опустил стекло.
На лице контрактника сложилась мокрая улыбка:
– До Ясиноватой.
– Садись, – велел Пёстрый и, выйдя из машины, откинул спинку кресла, пропуская пассажира на заднее сиденье трёхдверного «поджарого», уже свободное от медицинских коробок.
На вид парню было лет двадцать пять – высокий, костистый. Ну что ж, отцы вахту в горячем цеху отстояли – теперь их смена. Сообщил, что едет из части домой – на побывку. Несколько раз бросил взгляд на протез Пёстрого.
– Своё повоевали, – кивнул Пёстрый. – От пожара, как от печки, грелись. Ну и отжимали по мелочи – как иначе. А ты ещё не претерпел, как святой великомученик?
– Нет пока, – смущённо улыбнулся парень.
Спать Пёстрый больше, кажется, не собирался. Спросил, как служба. Парень оказался разговорчивый: танкист, только что с учений, дали сержанта.
– Как сообразил, куда двигать, сержант, – наставлял Пёстрый, – дави уже без передышки. Чтоб желчь кипела и кровь играла. Кто встал поперёк – круши. За тобой бойцы идут – им послабление будет.
Я чувствовал – разговор Пёстрый ведёт неспроста, за его добродушием что-то кроется. И даже подозревал, что именно.
Меж тем Пёстрый задавал вопросы, а парень с охотой отвечал.
– И сколько на ходу?
– Четыре. Два стоят.
– А командир кто?
Парень сказал.
– Не знаю такого. – Пёстрый мотнул головой. – Где участвовал?
Контрактник, довольный, что едет в машине к дому, что водяная морось, залезающая в рукава и за шиворот, наконец-то осталась снаружи, взахлёб рассказывал про службу и сослуживцев – кто и откуда, где дислоцируется часть, чем кормят и что БК – завались.
– Соляру-то воруете? – поинтересовался Пёстрый.
– А то!
Парень весело хохотнул. Улыбнулся и Пёстрый.
– А особист у вас есть?
– Неа.
Голос Пёстрого сделался вкрадчивым:
– Ты, сержант, не тяни с передовой-то. Послушать надо, как пули жужжат. Они ж, когда совсем вблизи, словно бы дышат – волосы шевелят, такой от них весёлый ветерок…
Когда высаживали сержанта в Ясиноватой, Пёстрый, выпуская его с заднего сиденья, ласково улыбнулся, окатил своим неумолимым взглядом и напутствовал:
– Видишь, паря, сам всё рассказал. И яйца в эсбэу тебе крутить не пришлось.
Сержант, как от затрещины, втянул голову в плечи, побледнел и с оглядкой потрусил во дворы.
– Пусть побздит теперь, – сказал Пёстрый. – Находка для шпиона.
До Донецка было рукой подать.
* * *
Когда «шишига» добралась до места, уже смеркалось. Высадились у двухэтажного, недавней постройки здания, которое, судя по рябым стенам и нескольким выбитым стёклам в окнах, недавно попробовала на штык война. Некогда нарядная, а теперь пыльная и потрёпанная зелёная вывеска над козырьком у входа гласила: «ПриватБанк». «Шишига» подала задом к крыльцу, и мы принялись выгружать пожитки.
Местные разведчики занимали первый этаж, нам отвели большую комнату на втором. Здесь было зябко и темно – сверху, вместо светильников, свисали выдранные из подвесного потолка плети проводов.
Обустраивались сами, без указаний и команд – каждый делал что-то к общей пользе. Одни продолжали таскать ящики с БК, рюкзаки и коробки с сухим пайком, другие найденными где-то щитами с рекламой до одури выгодных займов заделывали выбитые окна. Водила Голец принёс из «шишиги» чемоданчик с инструментом и полезным дорожным хламом – в давние времена с такими чемоданчиками приходили на вызов сантехники, – достал патрон с вкрученной лампочкой, огляделся и принялся прилаживать его к свисающим с потолка плетям. Лампочка не загоралась. Сапёр Фергана, сунув по очереди в пару розеток зарядку телефона и выяснив, что электричества нет, отправился на поиски распределительного щита. Вскоре свет воссиял.
Фергана – родом из Горловки, потомственный горняк, в мирное время взрывал породу в открытых карьерах, теперь минировал отечество, чтоб не топтал народившийся фашист. Был ранен – рассказывал, как выжил: «Глаза прикрыл, так и спасся. А то бы – край. Известное дело – глаз много силы имеет: если бы посмотрел да взгляд мой увидали – тут разом и каюк».
Вскоре на офисном столе в зелёном, с языками копоти солдатском котелке уже шумела разогретая кипятильником вода, а рядом, заправленные чайными пакетами на нитках, выстроились кружки. Пока вода закипала, Пёстрый составил на оторванном от коробки с крупами куске картона график ночного дежурства и прикнопил его к стене над чайным столом. Быт налаживался.
Ночевать в финансовом учреждении мне ещё не доводилось. А случалось всякое – спал и в полуразбитых сельских халупах, и в протекающей палатке, и во дворе под каштаном, и на богатой даче начальника таможни, хозяин которой драпанул в Днепропетровск, и в подвале многоэтажки, и в пустом заводском цеху… А меньше месяца назад и вовсе провёл ночь на стылой мокрой земле под плащ-палаткой. Спать, впрочем, тогда не пришлось. Это была самая скверная ночь в моей жизни – батальонное начальство отправило разведгруппу в наблюдение к вражеским позициям. Моросил холодный дождь. По промёрзшей и размокшей земле местами ползком, а местами на карачках ещё засветло добрались до окраины посёлка и залегли в двухстах метрах от расположения правосеков. Подавать признаки жизни нельзя было ни при свете, ни в темноте – укропы следили за окрестностями в тепловизоры. Продрогли до хребтины, как грешники в ледяном мусульманском аду, – чтобы хоть как-то согреться, по трое сбивались под одной плащ-палаткой. Думаю, поднимись мы в рост, тепловизор не отличил бы нас от камня. Сутки стучали зубами, грызли сухой паёк, наблюдали за врагом, нужду справляли, отвалившись на бок. А те, с белым тризубом на красно-чёрном поле шевронов, спокойно бродили по сельской улице, разговаривали, смеялись, не подозревая, что каждый накрыт сеткой прицела, как капустница сачком… Вернувшись, едва отогрелись в бане с самогоном.
В коридоре вдоль стены стояли разобранные железные кровати и тут же – стопки матрацев. Собирать кровати не стали – занесли в комнату сетки, уложили на пол, сверху – матрац, и уже на него – пенку. Пёстрый как-то рассказывал: «Здесь многие сон теряют. Только глаза заведёшь, точно койку из-под тебя выдернут, летишь куда-то. Бывает, в ночь раз десять кричишь, как провалишься. Всё от войны, с перепугов разных. Такой сон не в отдых – мука одна». Не доверять товарищу не было причин, тем более что изредка иной боец и впрямь вскрикивал в ночи. Но из-под меня койку пока никто не выдёргивал – должно быть, мои перепуги ещё впереди. Зато теперь я часто ощущал то давнее, почти, казалось бы, забытое чувство опасности, которое некогда постоянно носил при себе. В юности это чувство не отпускает, потому что мужчина – это охотник и герой. И должен каждый день доказывать это. Но со временем, когда ты определился и доказал, когда добился того, чего оказался достоин – чувство опасности уходит. И вот оно вернулось. Вернулось и омолодило кровь.
Подготовив ложе, бросил на него спальник, рядом пристроил винтовку и разгрузку. Ложиться не стал – через сорок минут в паре с Набобом надо было заступать на дежурство. Пошёл гонять чаи…
Мы сменяли Фергану с Лукумом. Те отдежурили положенные полтора часа и уже позёвывали.
– Ну как? – прихлёбывая на ходу горячий чай из кружки, справился Набоб у сидящих на подоконнике в коридоре товарищей.
Свободную ладонь Набоб держал на ствольной коробке висящего поперёк широкой груди АК.
– Покой и воля, – заверил Лукум. – Местные – внизу на входе. Мы два обхода сделали, теперь тут кукуем. Обзор хороший.
Я посмотрел в окно. Брезентовый тент «шишиги» искрился изморозью – Голец отогнал машину от крыльца, чтобы оставить пространство перед входом открытым. Напротив банка через дорогу, обсаженную пирамидальными тополями, открывалась небольшая, очерченная по бокам рядами кустов, площадь, на которую фасадом выходило старое, красного кирпича, здание пожарной части с тремя большими гаражными воротами и возвышающейся с левого угла каланчой. Окна в каланче были темны, но лампочка над крыльцом горела. Перед пожаркой стояли две легковушки. У обеих были открыты багажники. Сухопарый мужчина и полная немолодая женщина, весело переговариваясь, перекладывали из одной машины в другую какие-то не очень тяжёлые мешки. Справа от пожарной части прожектор высвечивал стройплощадку с недостроенным многоквартирным домом, зияющим двумя рядами пустых оконных проёмов, и мёртвым башенным краном. Слева темнели очертания частных домов с палисадниками. Ветви тополей качались на ветру. Небо над городком тонуло в сливовой черноте – шипы звёзд по самое жало были залиты этой густой патокой.
Фергана с Лукумом, должно быть, уже сопели в коконах спальников. Одному снились карьеры и терриконы, другому – Псковский кремль над излучиной Великой.
Кружка Набоба опустела.
– Выскочили из-за дома – слева Пёстрый, справа Безмен, – рассказывал Набоб. – Бежим, кричим, упали за бугром каким-то. Кругом пуля визжит. Вскочили, опять бежим. Пёстрый чешет рядом, а Безмена нет… И чего они от нас драпанули? Сумерки – наверно, целый взвод углядели, а нас двое. Добежали до школы. Менял рожок за рожком, орал, лиц не видел – в глазах туман белый. Отбили школу. Глотку сорвал – три дня хрипел. А Безмена убили…
– Страшно было?
– Вроде страшно, а вроде и страха нет – отчаянность какая-то. Но уж её столько – до греха… – Набоб провёл ладонью по горлу. – Встань на пути кто – пять раз убью, но не остановит.
Внезапно вдалеке раскатисто громыхнул взрыв, и тут же посыпался автоматный треск. Фергана оставил мне свой АК – от «плётки» в темноте толку было мало, – и я машинально слегка оттянул затвор. Убедившись, что патрон в патроннике, вернул затвор на место. Громыхнуло ещё и ещё. К автоматному треску присоединился хряск пулемёта, а потом и басовитый, крупнокалиберный голос «Утёса». Где-то по соседству, в паре километров, закипала ночь.
Мужчина и женщина, продолжавшие со звонкими смешками болтать возле пожарной части, не обратили на канонаду ни малейшего внимания. Оживи сейчас строительный кран, они, пожалуй, сочли бы это куда более значительным событием. Так и есть: война – это когда порыву ветра или стае грачей, вернувшейся к своим весенним гнёздам, уделяешь больше внимания, чем раскатам дальнего боя.
Оставив Набоба в коридоре, прошёл в пустую боковую комнату, окна которой выходили на гаражи и жилую силикатную двухэтажку. Рядом с домом вытянулся ряд дощатых угольных сараев (уже история – по стене двухэтажки тянулась газовая труба). Два окна в доме светились жёлтым электричеством, одно мерцало голубыми всполохами телевизора. Всё было спокойно. Разом, будто щёлкнул выключатель, прекратилась и стрельба.
Вернулся в коридор. Легковушек перед пожарной частью уже не было.
Поговорили с Набобом о музыке – он захватил хвост тех времён, когда асса-культура ещё крутила калейдоскоп своих цветных чудес. Я рассказал про любимый Майком напиток чпок, водку пополам с каким-нибудь газосодержащим напитком – лимонадом, пивом, колой, – закрываешь стакан ладонью, бьёшь дном о колено и залпом выпиваешь вспенившуюся ваксу. Потом – про басиста и перкуссиониста «Аквариума» Фана, который в свободное от музыки время шил на заказ брюки…
– Почему ты бросил это дело? – спросил Набоб. – Слинял из музыки?
– Я не слинял, – сказал я. – Просто ушёл от мачехи к матери. Так бывает, когда износишь старые убеждения, когда они перестают соответствовать той требовательности, которую привык к ним предъявлять.
Как объяснить философу, бежавшему от философии и отдавшему предпочтение аргументу Калашникова, ибо случаются времена, когда это – последний аргумент, всю эту лабудень? Как объяснить, что шумовая завеса, покрывающая города и веси, обеспечивает нашему слуху первичное очарование, уже по большей части не подлежащее поправке и переосмыслению? Что образцы мнимой музыки, беспрестанно вливаемые в уши каждому с младенчества – с «баюшки-баю» и «спят усталые игрушки», – формируют хрестоматийные примеры предпочтений и становятся чем-то вроде родной речи, в которую ты погружён с момента появления на свет, так что по отношению к ней вещая музыка, ныне запретная, выглядит даже не иностранной тарабарщиной, а вовсе чем-то марсианским. Первичное очарование шумовым фоном напоминает опыты последователей Конрада Лоренца: только что вылупившимся журавлятам вместо журавлихи предъявляют какую-нибудь чепуху – бумажный китайский фонарик, траченное молью чучело лисы на ниточке, черепаху или человека в балахоне. И журавлята безоговорочно признают их матерью. Называется – импринтинг. И вот уже не мать, а президент на дельтаплане с моторчиком выстраивает стерхов в клин. То же и здесь – предложенное только что вылупившемуся слуху чучело музыки запечатлевается накрепко и обеспечивает роковую тугоухость в отношении материнских отзвуков гармонии сфер. Один компот. Конечно, можно объяснить, но я не знал, как сделать это в двух словах. Да нужно ли? Нужно ли это тут? Тут, где антракт истории, в котором мы жили последние годы, заканчивается?
Через полчаса к банку подъехал «Урал» – привёз трёх гранатомётчиков, АГС с боекомплектом из нескольких «улиток» и замкомандира роты Кокоса. Гранатомётчики были из местных, Кокос – капитан запаса, усатый, похожий на молдаванина доброволец из Стерлитамака. Месяца не прошло, как он приехал на Донбасс, поэтому на себя командирское одеяло не тянул, приглядывался. Под два метра ростом, в бронежилете с торчащей из-под него курткой, в берцах, кевларовой каске, наколенниках и налокотниках Кокос походил на нукера Батыя в кожаных доспехах.
Вскоре в коридоре затопали крепкие подошвы, загремело железо, зазвенели голоса.
Набоб отправился в комнату к бойцам будить смену. Пришло время и нам – на боковую.
Как заснул – не помню. Намотался за день: руки-ноги точно гири – на безделье не поднять. Ухнул разом в чёрное беспамятство, в плен слепой ночи.
Спальник-минусовка хорошо держал тепло, вылезать из него не хотелось. Но давал себя знать выпитый с вечера чай.
Малой с Кокосом прихлёбывали из кружек растворимый кофе, испускающий аромат, как будто бы он заварной, и переводили взгляд с развёрнутой перед ними карты на лежащий тут же, на командирском столе, спутниковый снимок местности. Карта была армейской стометровкой, снимок – распечатка с Google Maps. Над столом витали белые кудельки дыма от сигареты Малого.
Позавтракав кашей с говядиной из сухпайка, разогретой на жестяной горелке таблеткой горючего, с кружкой растворимого кофе в руке присоединился к нескольким бойцам, уже обступившим командирский стол.
– На Головастика три месяца назад ходили – он ничей был! – Возмущённый Фергана тыкал пальцем в спутниковый снимок. – А Ящер – весь наш! От гребня до пяточки! А теперь?! Головастик под укропами, и половину Ящера отжали! На кой хрен такие шминские договорённости?
Из-за плеча Пёстрого посмотрел на разложенные карты. Головастика на снимке увидел сразу – трудно было не узнать. Что за умельцы навалили террикон? С Ящером было сложнее.
– Где тут Ящер? – спросил.
– Вот этот, длинный. – Малой ногтем с зачернённым краем провел по спутниковому снимку – на нём видно было яснее, чем на карте. – С юга, прямо под ним – карьер. А севернее, вот он, другой террикон – Сорока. Он выше Ящера. Между ними, видишь, – ущелина. И Ящер разбит теснинкой. Тут – мы, тут – укры. Сегодня – только осмотр, знакомство с местностью. – Малой затянулся и выдохнул дым в потолок. – Согласны, товарищ капитан?
– Ты обстановку лучше знаешь, – пригладил усы Кокос. – Сам решай.
Мудро – Малой был донецкий, воевал с первых дней, знал места не по карте.
– Тогда так, бойцы. – Малой окинул взглядом собравшихся у стола, потом остальную комнату. – Пёстрый, Лукум и Ус – на Ящера. Алтай, Набоб, Фергана – на Сороку. Будите Фергану и Уса, хорош щеку давить. Да, гранатомётчики… Старший расчёта Серьга… Где Серьга?
– Тут, – откликнулся от чайного стола гранатомётчик.
– Серьга – тоже на Сороку. Определишь позиции для агээса.
Сказано – сделано. Однако за один день освоить территорию не удалось, хоть местные бойцы и дали своего проводника. Изучение ландшафта и выбор позиций заняли два дня: бродили, исследуя каждую тропу, стенку и уступ, перебежками, пригнувшись, одолевали простреливавшиеся участки, ползали по гребню, как саламандры, часами лежали, затаившись среди каменных отвалов, подробно, метр за метром осматривая в оптику этот на вид марсианский, а на деле самый что ни на есть человеческий пейзаж. Надо было выдавить укропов с Ящера – эта высота, случись горячая пора, позволяла им корректировать артиллерийский и миномётный огонь по городу с обжитым нами «ПриватБанком». Непозволительная роскошь.
Сбоку Ящер и впрямь напоминал громадную рептилию, вытянувшуюся посреди степи километров на шесть, а то и больше. Серые отвалы доломита на его гребне оказались отличной позицией: кучи разнокалиберных камней – от огромных до мелочи, – отсыпанные пирамидками, стояли плотной чередой, тут и там подёрнутые кустарником, а на стороне, где в обход Минска закрепились ВСУ, – даже поросли небольшим лесочком. Террикон рассекала глубокая расщелина, отделявшая наши позиции от вражеских. И хотя Сорока была выше Ящера, большого преимущества эта высота не давала – разглядеть противника, если он соблюдал элементарные правила не то что маскировки, а простой предосторожности, среди серых камней, поросших кустами и приземистыми деревцами, было дохлым делом. Зато сам ты, приподнимись невзначай над шапкой Сороки, сразу высвечивался на фоне неба, и будьте-нате – отличная для оптики мишень. А если залечь на Ящере, то, возвышаясь позади, Сорока милостиво закрывала от засветки.
Тут и присмотрел укромные местечки.
* * *
Малой жил в аккуратном домике возле Свято-Николаевского кафедрального собора. Через дорогу от палат митрополита. Россыпь таких теремков была построена здесь ещё сто с лишним лет назад для первых юзовских инженеров-металлистов. Теперь – частный сектор.
Поколесив по нарядному, обсыпанному цветущими розами городу, здания которого тут и там зияли наскоро залатанными следами артобстрелов, остановились у большого магазина. Купили продукты, водку, конфеты Лукуму. Поспорили насчёт мяса – позвонили Малому. Малой сказал: мясо есть. Через десять минут подъехали к воротам, которые, ожидая нас, хозяин распахнул во всю ширь.
Дождь кончился, только нависшая над оградкой груша ещё роняла с листьев капли.
Обычно гостей густым лаем встречала громадная, вислоухая, грозная на вид, но снисходительная к друзьям хозяина Матильда. Теперь во дворе было тихо. Пёстрый многозначительно переглянулся с нами и обнял Малого.
– Как сам?
– Лучше всех, – обнял Пёстрого в ответ Малой.
– И правильно, – одобрил Пёстрый. – Держись.
Отнесли продукты на кухню. Потом перетащили медицинские коробки в гостиную и сложили под деревянной лестницей, ведущей на второй этаж, к спальням. Надо было разобрать, что – куда. У Набоба был список самого необходимого ещё от двух госпиталей.
Малой жил один. По весне, когда укропский снаряд угодил в крышу соседа, досталось и палатам митрополита, и ему – осколки посекли стену дома Малого, а два влетели в окно детской, пробили межкомнатную перегородку над кроватью младшей дочери, но, слава богу, никого не задели. После этого случая Малой отправил жену с детьми к знакомым в Евпаторию. Остался вместе с верной Матильдой.
В гостиной, возле круглого стола, молча переминались с ноги на ногу. Воздух густел от нервной неразрешённости.
– У тебя в прихожей, в корзинке с грецкими орехами, граната лежит, – сощурил веки Пёстрый. – Это зачем?
– У задних дверей тоже граната, – признался Малой. – На подоконнике под каской. Если укропы прорвутся – чтобы долго не искать.
– Какое прорвутся! – взвился Лукум, но Пёстрый страшно вытаращил на него глаза, и тот, разведя руки, сдал назад: – А что сказал-то?
– Понимаю, нелегко, – вздохнул Пёстрый. – Но… вразнос-то не надо. Всё проходит. Даже старость. Сколько твоей Матильде стукнуло?
Малой посмотрел на Пёстрого долго и странно.
– Да в самом соку – принцесса.
– Эка… – мотнул лобастой головой Набоб.
– Надо же, – сказал я. – Вот дела…
Лукум хотел усугубить, но, посмотрев на Пёстрого, сдержался.
Снова повисла пауза.
– Вы что? – не выдержал Малой. – Что кислые, точно моча ослиная? Дела-а… – передразнил. – Дела у вас – на стол накрывать, огурцы-помидоры рубить. А мясо – за мной. – Он решительно двинул на кухню.
– Командир, – поспешил следом Пёстрый, – я помогу.
Выходя из гостиной, Пёстрый обернулся, посмотрел на нас с укором и тихо вразумил:
– Деликатнее надо – у человека горе.
– А что сказал-то? – снова развёл руками Лукум.
Через несколько минут на столе красовались банка сметаны и блюдо с нарезанными овощами, петрушкой и стрелками зелёного лука на белых луковичках. Я расставлял рюмки, Набоб резал кирпич белого хлеба, Лукум, принеся из холодильника водку и пакет сока, шуршал без дела конфетным фантиком.
В гостиную вошёл Пёстрый. Лицо его выражало смешанные чувства.
– Беда, – сказал он. – Командир того…
– Что? – спросил я.
– Не в себе, – пояснил Пёстрый. – С петель, кажись, поехал. От переживаний.
– Ты говори – в чём дело-то. – Набоб отложил нож.
– Такие, короче, дела… – Пёстрый понизил голос. – Сам рассказал… Привёз он покойницу в крематорий и велел сжечь, как мёртвого викинга. А урну ему выдать.
Я тихонько присвистнул.
– Сожгли? – Лукум отщёлкнул ногтем фантик.
– Так у него ж с собой граната! – Пёстрый взмахнул протезом, но говорил, по-прежнему не повышая голоса – жарким шёпотом. – Куда деваться! Спасибо, попа не потребовал.
– Отойдёт, может? – предположил Набоб.
Пёстрый по очереди посмотрел на нас. На каждого в отдельности. Молча. Потом сказал:
– Это не всё ещё.
– Ну, не тяни, – поторопил я.
– Не нукай!.. – Пёстрый шумно вздохнул, успокаивая душевное волнение. – Он, значит, про крематорий мне рассказывает… Рассказывает, значит, а сам мясо режет, лук, выкладывает в кастрюлю слоями, солит, перчит… Пару зубчиков чеснока меленько покрошил, кинзу… Сухой маринад, типа.
– Ну? – не вытерпел Лукум.
– Баранки гну. Потом давай мясо руками жамкать… А я тут возьми да посмотри на банку… – Пёстрый поднял к лицу протез и посмотрел на жёлтовато-восковую кисть. – Ё-моё! Так это же не перец!
– А что? – Набоб тоже посмотрел на искусственную руку Пёстрого.
– Матильда! – Пёстрый вскинул брови. – Это Матильда!
– Ты что? – Я ровным счётом ничего не понимал. – Что лепишь-то?
– Это Матильда! Прах Матильды! Он хочет, чтобы мы её с шашлыком умяли! – Пёстрый обвёл нас страшным взглядом и остановился на Лукуме. – Водки налей…
За дверью послышались шаги, и Пёстрый мигом переменился в лице, придав ему самое будничное выражение.
В гостиной, вытирая мокрые руки вафельным полотенцем, появился Малой.
– Ну что, за стол? – как ни в чём не бывало предложил Пёстрый.
– Давай по рюмке, – сказал Малой, – и – угли жечь.
Расселись за столом. Набоб отодвинул нож на противоположный от Малого край. Лукум налил в рюмки водку.
– Вот я и говорю, – Пёстрый словно бы продолжал прерванный разговор, – странная штука – голова. Обычно – горшок горшком, и в нём – одна баранья мысль с подливой. А чуть опасность – точно пулемёт стучит. Двести пятьдесят соображений в минуту.
– Это не голова, – сказал я. – Это время. Оно течёт в нас…
– В голове? – удивился Лукум.
– Типа того, – уклончиво ответил я, понимая, что говорю что-то неуместное. – Оно течёт, а мы его то чувствуем, то – мимо кассы.
– Светлая память и вечный покой, – поднял рюмку Пёстрый. – Безмену, Фергане – всем.
Выпили не чокаясь.
– Ну да, – сказал Малой. – Бывало, одной группой идём, а голова у каждого по-своему соображает. Как и сейчас…
– А что сейчас? – встрепенулся Пёстрый.
– Замажемся, – Малой макнул стрелку лука в сметану, – сейчас у нас с тобой мозги по-разному молотят.
Пёстрый печально вздохнул:
– О чём речь? По-разному, конечно. У одного ромашки в голове, а у другого горюшка – греби лопатой… Наливай, Лукум.
После второй случилась третья. Потом Малой отправился жечь угли.
– Тащите водку, харч и шампуры во двор, – сказал. – Под грецким орехом стол. Да клеёнку протрите – с дождя мокрая.
Когда Малой вышел, Набоб заметил:
– Сумасшедший, а чешет рассудительно.
– Бывает. – Изо рта Пёстрого торчал шевелящийся стебель петрушки. – От горя помутнение волной идёт. Нахлынет – отпустит, нахлынет…
– Может, и впрямь отойдёт? – с надеждой спросил Лукум. – Со временем?
– Может, и отойдёт. Рассудок – тёмная материя. – Пёстрый взял бутылку и наполнил рюмки. – Готовьтесь, через полчаса Матильду будем лопать.
– Я не буду, – передёрнул плечами Набоб.
– Мне тоже… как-то не очень, – признался я.
– Придётся, – обречённо вздохнул Пёстрый. – Через «не хочу». Это же собака нашего командира! Он её так… А тут… Откажетесь, его разом и замкнёт. Что тогда? У него в каждом углу – граната!
Кажется, Пёстрый хотел сказать что-то ещё, но слова закончились.
Смеркалось. Пока Малой возился с мангалом, мы накрыли стол в его крошечном садике. Вокруг на земле валялись орехи, выпавшие из лопнувших шкурок. Я принёс тарелки и вилки. Набоб добавил на блюдо огурцов, помидоров и болгарского перца. Лукум очистил полдюжины небольших луковиц, нарезал их кольцами и попытался было помочь Малому насаживать мясо на шампуры, но был решительно отстранён.
– Пользы от тебя, как от пустого улья! И мёда нет, и собака не помещается. – Малой кивнул в сторону стола. – Делом займись – видишь, рюмки пустые.
Командир воевал дольше нас всех – мы уже уехали, а он всё рвал жилы. Куда ему деться с родной земли? Помнится, он всё приговаривал: «У нас кровь, чтобы за правду лить, у них – чтобы жирок растить. Вот и не лезь теперь к нам, укроп, ни с танком, ни с лаской – сокрушим».
– А ты почему рапорт написал? – спросил я Малого, хотя историю его мне, конечно, уже рассказывали.
– А как же?! – Командир мигом вспыхнул. – Мы же в Мариуполь несколькими разведгруппами вошли – он пустой был! Как наши выдвинулись, укропы без боя сдриснули. Вошли, а тут приказ: назад! Ахметов, видишь ли, просил – ему свой порт нужен. Если Мариуполь наш будет, ему тут работать не дадут: эльфы запада, как ты говоришь, кислород перекроют – санкции, мать ети! А в Одессу его не пустят – там Коломойский рулит. Бойцы жизни кладут, а эти зелень считают! Не война, а собачья драка, только крови больше. Там шерсти клок, тут шкуры шматок… Я такие танцы не танцую.
Угли уже дышали ровным жаром. На оштукатуренной стене, над дверью в садик, горела голая лампочка, свет её мешался с бледным светом гаснущих сумерек. Вокруг лампочки кружили бойкие мотыльки. Малой опрокинул рюмку и выложил на мангал порцию снаряжённых шампуров. Небо быстро темнело, опрокидываясь в ночь, которая на юге наступает разом, без прелюдий…
За столом снова помянули тех, кто не дожил. Пёстрый строил общий разговор, умело обходя мели и острые углы. Лукум шуршал очередным конфетным фантиком. Набоб с тоской смотрел, как шипит и румянится на углях мясо. А я? Я ловил всем существом музыку спускающейся ночи.
– Слушай, Малой, – внезапно предложил Набоб, – может, мы тебе полы помоем? Где у тебя ведро и тряпка?
– Ты что? – удивился Малой. – На ночь глядя?
– А что такого? – в ответ удивился Набоб.
– Сейчас всё бросите и пойдёте мыть полы? – не верил своим ушам Малой.
– Ты же наш боевой товарищ, – сказал Набоб. – У нас такой душевный порыв. Почему тебя удивляют наши душевные порывы?
Пёстрый смотрел на Набоба с восхищением.
– Стебётесь? – Малой побагровел – нас всех уже немного цепануло. – Сидеть на месте! Пить водку! Есть шашлык!.. Лукум, наливай!
Очередная бутылка подходила к концу. Пёстрый, бросая на нас скорбные взгляды, обгладывал шампур. Набоб больше не кричал «Нет, нет!», когда Малой подкладывал ему в тарелку сочные куски печёного мяса. Лукум сидел на корточках, привалившись спиной к стволу грецкого ореха, с шампуром в одной руке и смартфоном в другой – на экране какие-то душманы с автоматами бегали среди развалин и стреляли по живым людям. Я смотрел на Малого, и мне было легко от водки и тяжело от того, что мой боевой товарищ сходит с ума.
– …На плащ-палатку его положил да по снегу и потянул, – говорил Пёстрый. – На плечах не осилить – здоровый больно, прямо бык. Тяну, а он стонет и бормочет что-то. Мне всё не разобрать – тащить тяжело, а встану, оглянусь, и жаль его так, что сил нет – кровь из него ручьём хлещет. Так слов и не разобрал – дотянул, а он уже мёртвый…
– …С чужаком мириться можно, – говорил Набоб. – Чужой солдат ушёл, и сам рад, что до дома живой добрался. Пришлых сдуло – и нет их. А на гражданской как? Как ты с нациками мир заключишь? Они эту землю своей объявили – вас, правда, спросить забыли… По их выходит – и они, и вы тут разом хозяева. Вот и получается, что на гражданской до конца воюют, до последнего истребления…
– …Казачки здесь почему слабину дали? – говорил Малой. – Потому что они от рода к коню привыкли. В крови у них от предков не на товарища, а на коня надежда. Чуть что не так – конь с поля вынесет, от врага сбережёт. А в пешем-то строю другая отвага нужна – не перелётная, а чтоб бойцы сваей стояли и друг другу спины прикрывали…
– …Мёртвую воду слышно – плещет, – говорил я. – Сижу в окопе – тихо, звёзды большие, яркие, и не скажешь, что война на свете. И вдруг – будто холодок потянул – внутри меня голос немирный. Снаружи благодать: ветер ласковый траву колышет, кузнечик трещит, а внутри звуки такие – жди беды. Тут и началось – пулемёты застучали, мины, «грады»… и пошла писать губерния…
– …Я здесь по нашей партизанщине тоскую, – говорил Лукум. – Тут носом поведёшь – кругом волей тянет. Народ порядка ждёт, а под ноздрёй – одна воля. Им бы к воле и порядок – тут тебе и свобода… А по мне и не надо ничего – только б воля одна. Потому и не женюсь – не наседка, не хочу над семьёй крылья разводить. Они мне, крылья, для полёта… Если тут рванёт – я снова под ружьё…
Ночь запечатала город. Небо очистилось, и в его лиловой черноте пёстро горели крапины звёзд. Где-то вдали дважды громыхнул приход. Мы сидели с Малым под грецким орехом, друг против друга, упёршись лбами, словно замершие в поединке бараны. Нас покачивало даже в такой крепкой сцепке. Все остальные расползлись по дому и, должно быть, уже спали.
– Ты дурак! – говорил Малой. – Съесть Матильду! Совсем уже?.. Съесть Матильду! Нет, ты дурак?.. Это же вязка… Слыхал? Ты в этом что-нибудь вообще… того? Моя принцесса потекла, а у заводчика в Макеевке – кобель… Чемпион породы! Ты понял? Свадьба! У Матильды свадьба! Понял? Два раза надо им… Сегодня – первый… Свадьба! У заиньки моей, Матильдочки, цыплёночка… Ну ты дурак… Чтоб я!.. Чтобы её!.. Завтра заберу красавицу… Э-эх-ма! Свезёшь меня в Макеевку? Щенка алабайского тебе оставлю… Хочешь?.. А?.. Свезёшь?..
* * *
Хорошенько потоптав местность и определившись с позициями, на третий день наконец вышли на задание.
Расплескивая грязь и раздвигая лужи, «шишига» прошила железнодорожную насыпь сквозь бетонную нору, поколесила по разбитому асфальту извилистой дороги, миновала одноколейный железнодорожный переезд и встала возле отходящей на террикон грунтовки. Голец, подымив сигаретой вместе с выгрузившимися бойцами, залез в кабину и покатил обратно. Кокос-багатур – степной великан – отправился к стоящему неподалёку вагончику-бытовке, чтобы согласовать с местными наш выход – не дай бог, накроют огнём свои.
– Выступаем, – сказал, вернувшись. – Порядок боевой. Первый – Набоб, второй – Лукум, потом – я. За мной – Пёстрый, за ним – Фергана. Алтай – замыкающий. Дистанция – три метра. Пошли!
Забросили за плечи мародёрки, разобрали оружие и двинулись на террикон. Сначала дорога шла вверх полого, потом стала забирать всё круче и круче. Под ногами хрустела мокрая до черноты отсыпка. Шли, как по минному полю – гуськуя. Я на ходу передёрнул затвор, загнав патрон в патронник, отщёлкнул магазин и, пошарив в кармане, снарядил его ещё одним. Теперь в «плётке» было не десять, а одиннадцать патронов: не лишнее – война полна неожиданностей.
Задача замыкающего – держать тыл. Крутил головой, как байбак у норы, иногда разворачивался и какое-то время, с оглядкой, пятился задом. Здесь следовало быть настороже, каждые заросли кустов могли скрывать опасность – укропы всё чаще выдвигали вглубь нашей стороны свои диверсионно-разведывательные группы.
Впереди показалась развилка. Одна дорога уходила круто вверх и вправо – наш путь на Ящера, – другая отворачивала и, сначала тоже забирая вверх, а потом спускаясь и стелясь низом между Ящером и карьером, вела в сторону позиций ВСУ.
Голова цепочки уже ушла за поворот, как вдруг по группе, от передних к задним, будто волна на трибуне стадиона, пробежал сигнал – разведчики вскидывали над плечом сжатый кулак и каждый, встав на одно колено, брал под прицел свой сектор. Я быстро развернулся и вогнал бесчувственный наколенник в сырую землю. Флажок предохранителя снят, указательный палец – на скобе спускового крючка. Что впереди – разберутся бойцы головы, моё дело держать тыл с подступающими к дороге кустами.
Услышал, как за спиной в тишине хрустит грунтовка, и быстро кинул взгляд через плечо: из-за поворота накатом, с заглушённым двигателем, по-хозяйски экономя на спуске горючее, выполз автобус с рабочими из карьера. Как ни в чём не бывало автобус двинулся вниз, вдоль ощетинившейся цепочки ополченцев. Чёрт! Работяги из окон не то с любопытством, не то с удивлением смотрели на бойцов. Чёрт, чёрт! Что за война?! Комбинат продолжал производить флюсовый доломит, известь и строительный щебень – пять минут назад этот автобус, везущий домой, в городок, откуда прибыли мы, смену горняков, был на стороне врага. В моём сознании война по-прежнему оставалась уделом отчаянных голов, героев и злодеев, но, при виде уходящих из Донбасса на Приднепровье и Трипольскую составов с углём или таких вот автобусов, невольно охватывало скверное недоумение. Как будто эта безымянная война (разве это имя: вооружённый конфликт на юго-востоке Украины? нет, должно быть тавро, выжженное в душе тавро, а не казённая дефиниция) – игра, и смерть здесь косит понарошку. Как будто всё вокруг – случившийся по недосмотру загулявших Сил, Серафимов и Престолов бессмысленный бардак. Как будто мне придётся рано или поздно стрелять в противника, у которого в запасе уйма жизней, и я заберу только одну из них. И только одну жизнь, если мне не повезёт, заберут у меня, – а там, на скамье запасных, сидит ещё обойма точно таких же в ожидании выхода на арену.
Я понимал, что это не так. Видел обезображенные трупы – у них, у этих мёртвых тел, не было в запасе других жизней. Ни у тех, кто, перестав ненадолго скакать, во славу Украины зачищал Донбасс от ваты, ни у ополченцев, вставших на его защиту. Две недели назад боец из нашего батальона в заброшенном, ощетинившемся сквозь снег прошлогодней травой поле подорвался на мине. Его нашли только на второй день – то, что от него осталось после собачьего пира… Я всё понимал. Поэтому как мог гнал от себя мысль о неизбежном выстреле.
Бинты, которыми зимой обмотал СВДэшку, чтобы не чернела на снегу, за пару месяцев истрепались и посерели. Думал срезать, как стал сходить снег, но увидел, что по цвету они оказались под стать жухлой траве, и оставил. А проведя два прошлых дня на гребне Ящера, поползав по камням, заметил, что здесь, среди доломитовых отвалов, бинты сливаются с субстратом так, что не увидеть с трёх шагов. Накануне у санитара Линзы, ветеринара из Луганска, взял две пачки бинта, раскатал, извозил в здешней жидкой грязи, порвал на ленточки и повязал обрывки на разгрузку и свою маскировочную флисовую шапочку, обшитую зелёной сеткой, так что хвостики можно было при необходимости сбросить вперёд и закрыть лицо. Тем же бинтом обмотал трубу разведчика.
Добравшись до присмотренной накануне позиции, сорвал пучок сухой травы, прижал аптечной резинкой к перископу, медленно выставил трубу над гребнем доломитовой кручи и приступил к осмотру вражеских позиций. Место было отличное – отсыпанные каменные пирамиды стояли вплотную друг к другу, возвышаясь на два с лишним метра, и позволяли скрытно передвигаться за ними от лёжки к лёжке. Вчера, во время перестрелок, которые, казалось, без всякого повода завязывались тут по нескольку раз в сутки днём и ночью, за этими камнями я чувствовал себя как у Христа за пазухой.
До укропов было четыреста метров. Точнее – четыреста тридцать. Почти как до щита с номером «5» на стрельбище. Во время вчерашнего осмотра умудрился точно замерить дистанцию лазерным дальномером, наведя луч на плоскую глыбу, торчком стоявшую сразу за вражеской траншеей. В правом конце траншеи виднелся пулемёт. Перед ним росло деревце, которое так и не сбросило с осени бурую прошлогоднюю листву, – хороший маячок. Возле пулемёта, лицом друг к другу, болты болтали два солдата – караульные, или как там у них… Ну да – вартовии. Серый камуфляж, разгрузки, тактические очки поверх касок. Над бруствером – только плечи и головы в профиль.
Справа из кустистых зарослей появились ещё две фигуры, у каждой – по белому шишковатому мешку на плече. Должно быть, провиант. Фигуры, пригнувшись, быстро проскочили десяток метров открытого пространства, отделявшего заросли от траншеи, и спрыгнули в укрытие.
Поточив лясы с вартовими, двое с мешками двинули по траншее дальше, влево. Потом выскочили из-за бруствера и, пробежав рысью метров двадцать, юркнули в едва заметную нору в глинистой насыпи. Надо же – блиндаж! А ведь вчера никто из группы не заметил…
Вновь наведя перископ на пулемётную позицию, увидел, что один из караульных, подняв бинокль, смотрит в мою сторону. По хребту пробежал холодок, хотя умом и понимал: засечь меня невозможно – из камней торчит пучок сухой травы и только.
– Алтай, ответь Усу, – в ухе ожил динамик гарнитуры. – Что у тебя?
Я придавил кнопку на ларингофоне.
– У меня тихо. В двадцати метрах левее траншеи – блиндаж. Возможно, не один.
Динамик в ухе просыпал песочек, как бывало на старом виниле, и откликнулся:
– Принял.
Ус – школьный учитель физики из Славянска – сидел на Сороке и с высоты положения координировал действия всех групп. Где-то рядом с ним обустроил позицию под свой скорострельный АГС «Пламя» миномётный расчёт Серьги. Там же поблизости – гнездо «Утёса». Вспоминая директора школы, преподававшего литературу и оставшегося под новой киевской властью, Ус говорил: «Он всё долбил детям, мол, тот не человек, кто Пастернака назубок не знает. Вот выдумал! Да пусть никто не знает – неужто же они не люди? Вот он вытвердил – а толку? Душа-то хлипкая. Сам всего боится и на людей шипит: не человек – сопля. Вот тебе и Пастернак! Забыть его не могу – так дуростью своей обидел…»
Малому с пятёркой бойцов предстояло сегодня сделать самую опасную работу. Сейчас они внизу, в расщелине между Ящером и Сорокой, в густых зарослях скрытно и бесшумно выдвигались как можно ближе к позициям укропов. Задача – взять языка. Повезёт, если перехватят вражескую разведгруппу, как и они, шарящую в леске по дну ущелья. Ну а снайпер, пулемётчик (сегодня за него был Кокос – справлялся в одиночку) и все остальные, отсюда, с нашей части Ящера, должны если что прикрыть Малого огнём. То же – и миномётчики с Сороки.
Внезапно с той стороны, но не из траншеи, за которой присматривал я, а откуда-то из-за перелеска, резко и гулко защелкала пулемётная очередь. С Сороки в ответ прогремела наша. Справа, с позиции метрах в ста от меня, короткими очередями ударил Кокос. И пошло-поехало… Автоматы и пулемёты затрещали сзади, спереди, справа, слева. Кокос поменял позицию и уже строчил где-то совсем рядом. Несколько раз по соседним камням с впечатанными в них раковинами древних моллюсков щёлкнули предназначенные ему пули. Перекрывая автоматный и пулемётный треск, в тылу вэсэушников гахнули один за другим два миномётных выхода. Через мгновение в воздухе, как змея по сухой траве, прошуршали мины, и тут же дважды громыхнул приход – то ли на Сороке, то ли дальше.
– Малой, ответь Усу, – раздалось в ухе. – Как обстановка?
– На связи. Всё нормально, – с небольшой задержкой едва ли не шёпотом отозвался Малой. – Что происходит?
– Так, пустяки, – равнодушно оценил ситуацию Ус.
Я спустился с гребня отвала вниз. Неподалёку щёлкал семечки Кокос, сплёвывая лузгу на россыпь пулемётных гильз. Справа метрах в тридцати курили Пёстрый с Ферганой, слева – Набоб с Лукумом. То есть Лукум не курил – грыз шоколадку, припасённую с утра из сухпайка. Положив трубу разведчика на камень, из которого торчал ребристый край какой-то крупной раковины, сел на соседний обломок. Когда-то здесь был океан. Потом он умер и окаменел. Весь террикон состоял из обломков мёртвого океана. И сегодня на его глыбе копошились мы, живые, но тоже собравшиеся здесь по делу смерти.
Перестрелка затихла сама собой, как и началась. Пёстрый, осторожно поднявшись на гребень, плавно, без резких движений, осмотрел в бинокль вражескую сторону. Так же осторожно присел и, повернув лицо к командиру, махнул рукой – отбой, спокойно.
Не дожидаясь команды, я взял трубу и поднялся к своей лёжке, стараясь не показываться из-за камней. На позиции укропов всё было по-прежнему – дерево-маячок шевелило на ветру бурыми листьями, караульные у пулемёта разводили бобы.
– Алтай – Малому, – послышался в ухе приглушённый шёпот.
– Алтай на связи, – откликнулся я.
– Работать можешь?
– Могу. – Я почему-то тоже перешёл на шёпот.
– Работай. Чтобы ни один укроп носу не поднял.
– Принял.
Приспустившись с гребня, я протянул трубу Кокосу – приказ работать он слышал тоже – и, сбросив на лицо хвосты грязно-серого бинта, осторожно заполз на огневую позицию, где лежала винтовка.
В оптике прицела всё виделось несколько иначе – кратность меньше, да и по высоте – ниже на полметра. Но в целом картина та же. Караульные болтают, на прямой линии с пятнами их лиц – несколько трепещущих травинок. Нехорошо: чиркни пуля по стеблю – может слегка отклониться. Зато колыхание травы точно показывало направление ветра, который здесь, в терриконах, здорово крутит.
Дыхание успокоилось, но сердце стучало неровно. Ветер косой, около пяти метров в секунду – то подует, то стихнет… Я оторвался от прицела. Кокос на соседней пирамиде вонзил взгляд в окуляр перископа. За ним Пёстрый, чуть приподнявшись, следил за траншеей в бинокль. С другой стороны Лукум, как и Пёстрый, наблюдал в бинокль за вражеской позицией, а Набоб не мигая смотрел на меня. Я приник к резине наглазника.
Сердце по-прежнему стучало не в лад. Поправка влево на ветер плюс деривация… Ветер, зараза, порывами – вынесешь влево, а он не подует. И что?
Пошевелив пальцами правой руки и разогнав в них кровь, подвёл вершину уголка на сетке прицела под ухо левого солдата. Не потянет ветер – пуля достанется левому, потянет – поймает правый.
Голова была чиста, как дневник первоклассника. Сейчас там, внизу, в густых зарослях, рисковали жизнью мои товарищи – бойцы, добровольно сделавшие свой выбор и отказавшиеся от чужого настоящего. Непобедимые бойцы, взыскующие справедливости. Мои братья по вере не в чужое – в собственное будущее. И я был в ответе за них. На меня рассчитывали, и подвести было нельзя. Невозможно. Иначе – сердце в клочки и несмываемый позор.
– Рокот вод и ветра вой… – сказал вполголоса.
Скула легла на упор. Вдохнул и неторопливо выдохнул. Затаил дыхание – сетка прицела встала неподвижно. Палец плавно потянул скобу спускового крючка.
Выстрел хлестнул по ушам. Гильза, звякнув, поскакала по камням вниз… Чего я ждал? Что небеса разверзнутся бездонной музыкой? По наставлению Гобоя, после выстрела снайперу не следовало интересоваться результатом. Я пренебрёг, снова прильнув к прицелу. Над бруствером металась каска. Одна каска. От правого края траншеи к левому. От пулемёта и обратно. Приказ Малого: никто на той стороне не должен поднять носа, чтобы его группа как можно дольше оставалась незамеченной. От этого зависела их жизнь. Сделал упреждение и снова выстрелил. Мимо. Каска металась – солдат, казалось, очумел. Четыреста метров, по движущейся цели… Выстрелил снова. Мимо. Да скройся ты, исчезни с глаз!..
Плюнув на каску, несколько раз пальнул в стоящий над траншеей камень – пули на плоском боку выбили секущие осколки. Быть может, так сообразит… И точно, голова над бруствером пропала.
Справа азартно застучал пулемёт Кокоса. Фонтанчики пыли взвились у лаза в блиндаж. Теперь попробуй сунься… Слева присоединился треск автоматов Лукума и Набоба. Эти били по брустверу траншеи. Снайперу здесь делать было больше нечего. Оставив лёжку, медленно сполз вниз.
– Алтай исполнил, – доложил едва слышно Тому, кто всё знал без доклада.
Действие шестое. Переозвучка
В моё отсутствие Георгий преуспел на поприще осуществления своей идеи развития и тренировки внутреннего резонатора. Помнится, таким образом он намеревался спасти тугоухое человечество – дать ему возможность поймать восходящий поток рокота мироздания и вознестись, слиться с гармонией сфер, зазвучав в ней мелодией естественной и соразмерной. По его плану действовать следовало не в одиночку, а монолитной группой преданных единомышленников. В кругу своих пациентов, прошедших процедуру научной фонохирургии, Георгий создал нечто вроде тайного ордена – прообраз будущей команды ковчега спасения, которому более соответствовала идея не корабля, но планера. Или даже самостоятельно воспаряющего дирижабля.
Круг был ограничен, но Георгий строил маршальские планы. Основная проблема при вербовке адептов сводилась к тому, что до тех пор, пока внутренний резонатор не настроен и его обладатель не овладел основой техники преодоления фоновых шумов, нельзя было предугадать наверняка, какая мелодия звучит о нём там, за пределами его былого слуха. То есть выстраивать в миниатюре полноценный гармоничный социум, зародыш идеального государства, приходилось на ощупь. А тайный, но всемогущий орден яснослышащих по замыслу Георгия как раз и должен стать таким зародышем – зерном нового человечества и в то же время инструментом его преображения.
Он приглашал меня на встречи, знакомил с выпестованными соратниками. Они производили двойственное впечатление: осколки огромного хрустального сосуда – блестящие и вместе с тем опасные. Определённо Георгий хотел привлечь меня к своей работе, хотел объединить усилия. На этот счёт у него были кое-какие виды – он рассказал и даже показал один невероятный опыт… Об этом, впрочем, после. Скажу только, что опыт этот меня насторожил, и я решил с сотрудничеством не спешить. Тем более что был тогда не в форме.
Итак, Георгий действовал. Мои дела шли туго и скрипели.
Какое-то время после возвращения домой никак не получалось вновь обратиться к напевам творящих звуков. То есть я к ним стремился всем своим трепетным, отзывчивым пузырьком, но вдруг обнаружил неучтённое препятствие, упорно искажавшее восприятие происходящего и размывавшее его гармоничный строй. И я не знал, как следует эту кромешную помеху устранить. А без того попытки не то что воспроизвести, но хотя бы внятно расслышать великую трансляцию сводились к ерунде: распознавались лишь клочки различных тем, случайная компоновка которых коверкала очертания событий, отчего линии судеб вещей, людей и явлений кривлялись и пускались в пляс.
Дело в том, что голос мёртвой воды, который удалось расслышать мне как в нерасчленённом грохоте боя, так и в гробовом затишье, угнездился в моей голове, точно осиный рой, и теперь звучал произвольно, в свою охоту, словно западающая клавиша. Словно череда западающих клавиш. То есть время от времени он, этот голос, давал о себе знать тем самым образом, который известен каждому под именем «привязавшейся мелодии». Если она застревает в тебе ненадолго – пустяк, но в случае назойливого сбоя, когда мотив вцепляется, точно репей в хвост вернувшейся с вязки Матильды, то – сплошь расстройство, сбивающее с толку раздражение. Эту навязчивую мелодию зачастую не удаётся даже толком воспроизвести, и тем не менее она морочит нас подобно наведённым чарам. В итоге замороченный внутренний слух перестаёт улавливать связующие темы – распадается единая перекличка событий, рушится гармоничный лад. В него вкрапляются скрежещущие всплески – разрушительные действия, которые можно было бы счесть случайными, не будь они прямым результатом звучания в голове залипшего мотива. Должно быть, все поствоенные синдромы с дремучих времён и по вьетнамский, афганский, чеченский – по существу следствие неконтролируемого журчания в сознании вернувшихся домой легионеров/нукеров/стрельцов этой привязчивой мелодии мёртвой воды.
Конечно, сама по себе проблема залипшего мотива, который благодаря своей привязчивости мотивирует скрежет и распад, куда шире моего случая. Страшно представить, какой чудовищный раздрай вносит это наваждение как в будничную череду событий, так и в пласты сущего скрытые, не явленные нам. Излечение и утешение приходит лишь тогда, когда верно настроенный внутренний резонатор по отзвукам Зова вновь получает представление не только о гармонии замысла в целом, но и о собственном внутреннем времени, насвистывающем песенку твоей судьбы, если, конечно, ты за этой песенкой последуешь. Собственно, именно она, эта расслышанная песенка, и позволяет всем существом ощутить полноту и единство проживаемых событий. Уходит холод экзистенциальной бездны, тяжесть отчаяния от картины кажущегося вселенского несовершенства и несправедливости, как изначальной, так и во всех своих метаморфозах, и даже страх смерти как неотвратимого удела словно бы тает – всё находит примирение в строе неслышимых созвучий, ибо тут тварь осознаёт наличие отчётливой обратной связи со своим Творцом. Тем, кто запустил пульс чарующей симфонии.
Не стоит, однако, обольщаться: высший замысел потусторонней музыки заключается вовсе не в том, чтобы услаждать наш слух, давно утративший спасительную чуткость к вещим звукам, нет. Выход в открытый космос творящей гармонии – самоценное стремление. Хотя, сказать по чести, – да, и услаждать она способна тоже. По крайней мере уши тех, кто понял, что за работа происходит в теле музыки и что порождает её дух. Тут и Орфей, и Гиппас, и Вяйнемёйнен, и Палестрина, и Вагнер, и Скрябин, и Малер, и Стравинский, и, конечно, Ницше, и многие другие… Включая Курёхина и Ивана Грозного. Ведь он, Грозный, не только души не чаял в церковном пении, не только сам пел в храмах Александровской слободы, не только держал свою певческую капеллу, в которой подвизались Фёдор Христианин и Иван Нос, но и самолично писал музыку (точнее – давал распев), перенастраивая с её помощью звучание своего царства-государства. Писал, как полагается, с фитами, указующими певчим, где подпустить триоль, где мордент или какой-нибудь иной мелизм. В собрании Троице-Сергиевой лавры (сейчас – в РГБ) хранится рукописная «Книга глаголемая Стихирарь месячный, иже есть Око дьячье», куда включены две стихиры его сочинения, подписанные «Творение царя Иоанна, деспота российского» и «Творение царево». Одна сочинена на сретение Владимирской иконы Божьей Матери, которая в 1395 году спасла Русь от полчищ Тамерлана, другая – хвала митрополиту Петру, переместившему митрополичью кафедру из Владимира в Москву.
Пусть даже те, включая Грозного, кто чувствовал за духом музыки неизрекаемую силу, вовсе не помышляли (отчётливо) о воссоздании творящих звуков, которых больше нет – отпели, отыграли. Но отзвуки-то их расслышать и отобразить возможно – чтобы напомнить о гармонии, как о покинутом отцовском доме, и вернуть в симфонию, будто в лоно рая, блудное племя к его же несказанному блаженству.
Словом, мелодия залипла. Подумал даже, не обратиться ли за помощью к наладчику Георгию с его научной фонохирургией. Но, слава богу, обошлось – включился в будни и понемногу выбрался из наваждения. И снова сел за синтезатор. Со светлой головой, в которой складывались воедино неведомые никому ещё спирали сольных партий и рокоты аккордов оркестровки – и слышимые, и сверхзвуковые.
Картина показалась вдруг простой и ясной. Моим прекрасным формам, явленным тому уж пару лет назад в предновогоднем выступлении, для воплощения и жизни просто не хватало места. Они, эти голодные звуки тонких миров, жаждущие тела жизни, уже задолго до меня обрели вещественность и с тех пор неизменно продолжали пребывать в своей земной запечатлённости, рождаясь, умирая и рождаясь вновь. Мироздание не знает пустоты. Раз это так, то – дабы нечто идеальное сгустить, овеществить, сперва нужно что-то истребить, расчистить место под застройку. Музыка мёртвой воды – инструмент высвобождения времени и пространства под новое создание. Таков порядок их взаимодействия – творящих и сметающих частей – в единой симфонии живой музыки и мёртвой. Задача – гармонично их сплести, чтобы выстроенная композиция благотворно сказалась на состоянии здоровья окружающего мира. Так медицина усмиряет яды, вербуя смерть на службу жизни.
И ещё. Моей новой музыке был нужен голос. Была нужна смысловая волна – та самая, привязанная обертоном к звучащей ноте. Если угодно, сложносочинённая мёртво-живая гармония сфер плюс смыслообразующая партия – вот симфония творения. Неспроста в нашей литургической традиции допустима только вокальная музыка, ибо сказано: «Всякое дыхание да хвалит Господа». А то, что не производится дыханием, то в лучшем случае – аккомпанемент, сопровождение, гарнир.
Ладно бы я понял это путём логического построения – так нет, сверкнуло озарение, и ощутил – могу. Откуда взялась уверенность, ума не приложу. Наверное, из предвечной музыки, как всё на свете. Нет, не сверкнуло даже. Сначала догадка, точно рыба из недоступной свету глубины, всплыла из таинственной пучины – ещё её не видишь толком, но уже заметно сквозь качающуюся волну зеленовато-чёрное пятно. Оно то проясняется, то гаснет, то словно бы дробится и уходит вглубь. Но вдруг взрывается, взвивается над пляшущей волной в алмазных брызгах и слепящем блеске чешуи. И тут уж точно – озарение, оно.
Самонадеянно и в то же время феерично – решиться самому, уж как попустит небо, спеть музыку, которая творит. Пусть лишь кусочек, пусть в ограниченном возможностями голоса диапазоне (они, эти возможности, у же даже, чем у слуха)… А голос мой хоть и приятен, бархатист, хоть и с оттенками, но диапазон, конечно, не велик. Если точнее – не просто бархатист, а с такой, что ли, звенящей трещинкой – вот в этой трещинке и прелесть. Как говорил в пору «Улицы Зверинской» басист Илья: «Целая вещь не поёт – дырочка звук создаёт». Хорошо говорил. Хотя, конечно, вещь целая не хуже дырочки поёт – только иначе, на другой волне.
Короче, волевым усилием решился. И написал слова – легко, как будто под диктовку. Ведь снизу, под словами, словно бы уже звучало всё что нужно, и оттого, казалось мне, их, слов этих, сила непомерна. Однако в глубине, под пламенеющим восторгом, под возбуждённой пёстрой пеленой, пульсировало предощущение тоски и бездны. Дикой тоски – будто предчувствовал, что въяве отзовётся всё не так, как мнится мне, поверившему в озарение. А между тем – не наваждение ли это? Не наваждение ли то, что озарением назвал? Ответа не было. Но на поверхность дрожь мышиная не выходила.
Как ни расписывай тревогу, а случилось – вмазал, помпезно выражаясь, закладной кирпич альбома могущественной музыки – безымянного, но если бы напала блажь назвать, то можно так: «Переозвучка».
* * *
Первые странности дали о себе знать уже через три месяца.
Началось с молотка.
Тогда и в мыслях не было, что эти странности каким-то образом могут быть связаны с могущественной музыкой. Альбом писался вдохновенно, звукообильно и в то же время с изводящей му́кой, трек за треком – иные дорожки прослушивались, подправлялись, сводились, разводились и сводились вновь по сотне раз. Но дело шатко-валко шло. Один опус даже разыграл и спел на полном звуке в клубе, где музыкальной частью заведовал тот самый паренёк, которому я в прошлом уступил свой белый Fender Strat. Стоял необычайно жаркий май, гроздья сирени на Марсовом вот-вот готовы были вспыхнуть и чу́дно задышать, а собравшейся в клубе публике даже коктейли в глотки не полезли, так застучало в их сердцах разбуженное мною внутреннее время.
Добравшись после выступления до дома, к немалому удивлению обнаружил в кухне молоток. Хороший столярный молоток с обрезиненной ручкой и гвоздодёром с противоположного от бойка конца. Я мог поклясться чем угодно, что в моей квартире никогда не было такого молотка. Другой был – старый, слесарный, головка с двумя бойками (один скошенный) на потемневшей деревянной ручке. Он лежал в стенном шкафчике, в санузле, рядом с пачкой стирального порошка и бутылкой уайт-спирита, в ожидании нужды – забить в стену гвоздь или поставить на брюки пуговицу-клёпку (в самом деле – не возиться же с иглой и ниткой). А этого – нет, не было. Того, что с гвоздодёром. Когда я утром уходил из дома, на кухонном столе оставались только чашка с недопитым чаем, хлебная доска и лежащий на ней нож. А теперь – вот, внезапный молоток. Рядом с чашкой, в которой темнел недопитый чай. И никаких следов пребывания в квартире посторонних, которые могли бы инструмент оставить/подложить. Никаких, кроме, конечно, молотка.
Событие это я окрестил крепким словом, смысл которого отчасти передаёт сдержанный термин «чертовщина». Нет, я не страшусь солёных выражений, напротив, однако частое употребление, увы, эти выражения преснит – лишает вкуса, аромата, ярких нот. Надо беречь силу слов и не растрачивать их соль впустую. А то получится как у гимназистов с гимназистками, направо и налево сыплющих остоелозами, – их мат теряет силу заповедной брани и вызывает лишь брезгливость, отвращение и стыдную неловкость, будто метнувшаяся у собеседника из ноздри и на губе повисшая сопля. Впрочем, оставим лирику – речь не о том.
Следующий случай чертовщины произошёл вскоре после дня летнего солнцестояния. По приглашению Евсея – Оловянкин дал санкцию – я приехал в Чистобродье на праздник Купальской ночи, чтобы выступить с концертом. Зрителей было много – сами скитники плюс гости семинара по энергосберегающим новинкам. Могущественная музыка духоподъёмно возбудила клубную избу, трудовые пчёлы гудели и щедро взбивали мёд оваций. Потом пил яблочный самогон Бубёного, прыгал через костёр, купался голый в лесном Воронец-озере. А когда, вернувшись в СПб, во двор заехал, двор поначалу не узнал, подумал – спутал подворотню. Стены дома, сколько помню, всегда были охристые, пыльные, с дымно-серыми потёками, а теперь – свежие, кремовые с рыжиной. Раньше такой тон, кажется, назывался «цвет бедра испуганной нимфы». Рядом сосед укладывал портфель в машину. «Быстро управились», – сказал я, удивлённо обводя руками двор. «Какое быстро, – свистнул носом сосед. – Три недели мазали». Он уехал, а я улыбался ему вслед – раньше склонность к шутке за соседом не водилась. Однако слова его подтвердили другие жильцы – из тех немногих, с кем вступал в общение. Ну не чертовщина ли?
На следующий день под душем обнаружил справа на груди давно зарубцевавшуюся рану. Штырь или огнестрел. Похоже по рубцу. Ничего подобного на моём теле прежде не было. Как не было в памяти никакой истории по поводу её, раны этой, обретения. Как выяснить? У кого спросить? Чертовщина.
И цветок преобразился на окне: алоэ был в горшке – теперь драцена. И лампочка в прихожей: горела голая – сейчас в плафоне…
А после выступления в университете Лаппеенранты, весьма, надо сказать, зажигательного – медленные финны заискрили, – я случайно увидел передачу, которая, сперва смутив, затем серьёзно озаботила. Я лежал на кровати в номере гостиницы при кампусе и пультом переключал телевизионные каналы. Мелькнули финские домохозяйки с рыбой и ножами, затем реклама наглядно объяснила, как надо холить и лелеять ногти на ногах, потом выскочила «Россия 24». Новость часа: полуторагодовалый ребёнок в Бразилии нашёл во дворе ядовитую змею и загрыз её насмерть. За новостью последовал документальный сюжет о полузабытом русском трансплантологе, величине невероятного масштаба – я в детстве видывал его, – о Неустроеве. Он пересаживал животным сердца, легкие и печень, в его лаборатории водились двухголовые собаки, он человеческие донорские органы хранил в рабочем состоянии внутри живой свиньи. Всё так, я знал об этом. Вот только чудотворца называли почему-то в ящике не Неустроев, а Владимир Демихов. Какой-то несусветный бред. Схватил планшет и вышел в интернет – есть трансплантолог Демихов, а Неустроева, который всё это на самом деле вытворял, в помине нет. Как стёрли. Остался тот Неустроев, который штурмовал Рейхстаг – спасибо и на этом. Что ж такое?
Далее. Вернувшись в СПб, подумал о Георгии – о том, что образ наладчика в моей истории раскрыт не до конца. Ведь собирался же поведать об одном курьёзе – о том, почему, собственно, Георгий боится клоунов, – который оправдывал и вместе с тем исчерпывал необходимость упоминания об этом необычном человеке, чей метод фонохирургии был сродни евгенике, – попытка выведения из человека тугоухого породы человека музыкального (внимающего музыке потусторонней), – и у меня имелись все нужные для этого слова. Однако тут внезапно ощутил, что, помня о намерении поведать нечто и о том, что да – под рукой лежали готовые слова, теперь уже и знать не знаю, что это были за слова. В недоумении решил связаться с Георгием и обнаружил, что он развеялся бесследно. По крайней мере, из доступного мне круга жизни – все контакты оборвались: номер телефона принадлежит другому человеку, ученику восьмого класса, и тот довольно грубо заявляет, что номер этот принадлежал ему всегда; письма на электронный адрес Георгия возвращаются с отчётом об ошибке; аккаунт исчез, как не было; в квартире его – он обитал в Коломне, неподалёку от Аларчина моста – проживают чужие люди, которые нагло рассмеялись мне в лицо, когда я поинтересовался, где хозяин. Чертовщина.
Два эти случая – последние, с Георгием и Неустроевым – засели в голове и навели на размышления. Похоже, что Создатель шаг за шагом, по мелочи, переиначивал создание – перетворял его. И почему-то никто, кроме меня, этого перетворения не замечал. Кого ни спросишь, всякий скажет: так и было. Не стану утверждать про Создателя наверняка, но точно кто-то насмешливый рвал и тут же связывал в ином порядке нити, из которых ткалась материя судьбы и жизни – в частности, моей. Едва только мысль эта проскочила в голове, как тут пробил холодный пот. Так это же я сам! Не злой и не насмешливый, а просто глупый! Ведь это ж музыка! Она! Та, что по ходу дела подстраивает колебания уже звучащих суперструн! Могущественная и сверхзвуковая! И, чёрт возьми, неуправляемая… Мурашки зашевелились на затылке.
Догадка требовала подтверждения. Хотя, сказать по чести, тревога (даже страх) и любопытство одолевали в равной мере. Любопытство, как обычно, взяло верх.
Дома я на полном звуке не играл. Из аппарата имел только отменные низкочастотные колонки, остальное – так, игрушки. Договорился в клубе «Лоэнгрин», что на Литейном, – как раз дозрели два новых музыкальных построения. Рыцарь Лебедя звук обеспечил.
На сцене накатило полное самозабвение – сказать даже не смогу, как прошёл концерт. Как миг один мигнул. Впрочем, музыкальный обозреватель заявил, что впечатлился. Он писал в какой-то местный глянец и после выступления с диктофоном подошёл ко мне. Попросил начать издалека. Я начал с «Улицы Зверинской». Странно, обозреватель знать о ней не знал, хотя осведомлён был, кажется, о ситуации сегодняшней и прежних лет довольно основательно. Конечно, много времени прошло, но если ты специалист, изволь учить уроки. Дома, оставив в прихожей громоздкий кейс с синтезатором, открыл планшет и обнаружил, что «Улица Зверинская», как в случае с корифеем Неустроевым, в сети пропала – ни музыки, ни упоминаний, ничего. Взял с полки третий том Рок-энциклопедии Бурлаки – там тоже нет статьи. А ведь была. Мурашки снова поползли под волосами. Нехорошо, противно поползли.
Набрал номер Бурлаки. Ангелам хвала, Андрей ответил. Но почему-то поприветствовал меня как Николая. Я был настороже и ждал уже чего угодно, поэтому на всякий случай возражать не стал. Сказал, что мне нужна для дела справка о музыкальном прошлом, а сам, боюсь, уже в подробностях не вспомню точно, где, с кем и что играл. Бурлака, будучи в добром настроении, всё рассказал по памяти, потом посетовал, что не виделись давно, а между тем пора уже и под забором полежать. Я согласился, мы простились. Проверил информацию в сети и по Рок-энциклопедии. Фотографии развеяли последние сомнения. Августа Сухобратова больше не существовало. У меня изменились и биография, и имя. Внешность, возраст, пол пока остались прежними. Получалось, теперь у меня были две жизни – об одной знал только я и более никто, а о другой знали те, кто был со мною этим, другим, знаком, но сам я о ней не имел ровным счётом никакого представления. Уже не чертовщина – дьявольский какой-то переплёт.
Назрела, как нарыв, проблема. Приблизительно того же свойства, что та, какую формулирует конечный аргумент из анекдота, в котором синий с бодуна ведёт беседу с крокодилом: «Сейчас опохмелюсь, и тебя не станет». В моём случае загвоздка выглядела так: «Дам звук, и кто-то пропадёт». Как пропал Георгий, которого, вовсе не желая, я стёр вместе с не рассказанной о нём историей, расчистил место под нечто новое, неведомое мне, и этим новым и неведомым пустое место, вероятно, заселил. Что будет дальше, если я продолжу неуправляемо реальностью рулить? Завтра стану папуасом с костяным кольцом в носу? И все в округе подтвердят, будто так именно и было? И кто это – я? Что я творю, если не знаю, как сделать так, чтобы родители остались живы? Да и кто, собственно, теперь мои родители? И тот в окопе парень – быть может, не ведая того, я уже распорядился музыкой, и он с вправленным мозгом домой вернулся невредимым? Да и другие… Фергана вернулся. Все вернулись – все-все-все…
Тут ожил телефон, и на экране высветилось: «Заяц». Таких зверей в моих контактах не водилось. Впрочем, о чём теперь я мог судить наверняка?
Девичий голос в трубке повелел:
– Домой пойдёшь, купи багет. И не забудь мороженое Нике.
– Сударыня, вы кто? – спросил я осторожно.
– Какой ты милый, – отозвался Заяц. – Шесть лет женаты – пора уже запечатлеть.
Я оцепенел. Голос – я узнал его. Вера. Это была Вера. Девушка с большим сердцем, предавшая меня в той, прошлой жизни.
– На всякий случай подсказываю, кто такая Ника, – язвительно-вкрадчивым тоном, ожившим в памяти моей, сказала Вера. – Это твоя дочь. А дочь – это такой женский сын. Ника ждет дынное мороженое.
– На всякий случай, – севшим разом голосом попросил я, – подскажи, куда багет с мороженым доставить.
– Ты что там, мухоморы куришь? – Не дожидаясь ответа, Вера дала отбой.
Это было невозможно. Внутри меня, залитый под завязку, колыхался горячий кисель. Невероятно. Если мой дом теперь там, на Покровской, где некогда мы с Верой тонули в лиловом постельном белье, то здесь что? Эта квартира – плата за отказ от отчего гнезда. Похлопотал муж Клавдии, деловой Василий. Но есть ли у меня сегодняшнего сестра? Ответит кто? Мой возмущённый разум закипал.
Началось с молотка, молотком и закончилось. Я принёс из прихожей в комнату неуклюжий кейс и на полу раскрыл его. Назревшая проблема не имела решения, но требовала остановки. Я далеко уехал, но пока ещё маячила на горизонте точка отправления, надо было рвать стоп-кран. Молоток с гвоздодёром лежал теперь на подоконнике. Я взял его, вернулся к синтезатору и расколошматил сложную и дорогую вещь. Так поработал, что мусор уместился в три ведра, которые по очереди, вытряхнув в пакеты, снёс на помойку. Потом достал из морозильника бутылку водки.
Знаю, говорят, водку не стоит в морозильнике держать – у переохлаждённой исчезает вкус. Но я держу. Мне нравится тягучая и ледяная водка.
В жизни не пил один. Даже после смерти родителей. Даже на войне и позже, когда залип мотив и в голове журчала только мёртвая вода. Но тут было нельзя не выпить. И вообще, подумать если, реальна ли та жизнь, где в одиночку я не пил?
* * *
С тех пор музыку не играл. При одном воспоминании об этом дрожали руки, сердце, селезёнка – всё, что могло дрожать. Я её, неслышимую, только слушал. И она, как водится, отзывалась правильными мыслями. В конце концов, искусство – не более чем жалкая попытка отобразить прекрасное, которое окружает нас в реальном мире.
Чем занимаюсь? Сразу и не скажешь. Вернее – стыдно говорить. Тем, что по приглашениям хожу на передачи – по большей части бестолковые – и говорю в эфир слова, предсказываю ход событий. Эксперт широкого профиля и дальнего полёта. Попал, так сказать, в обойму – даже платят деньги. Предсказывать не трудно – чуткий пузырёк слышит мелодию оборотов мирового колеса, звоны серебряных спиц и хруст его стального обода. Ни разу не ошибся, но разве кто-нибудь такие вещи помнит?
Впрочем, некоторые помнят. Недавно появились крупные фигуры с большими средствами – для этих невозможного не много. У них, фигур этих, интерес к прогнозам точечным, конкретным, в ближайшей перспективе и подчас в довольно странных областях. Развеиваю и для них туман грядущего – тут у меня особые тарифы. Отрадно, что история с могущественной музыкой неведома для сильных мира, не то бы кто-то непременно заказал концерт. Скажем, кантату окончательного и бесповоротного решения эльфийского вопроса. Я – против. Это перебор. Зачем же окончательного? Довольно просто вырвать жало.
* * *
Интермеццо: фрагмент программы «Семейный круг» (вчера)
Ведущая. Я правильно поняла – вы хотите углубиться в историю проблемы? Вернуться, так сказать, назад, к зерну?
Август/Николай. А как ещё можно объяснить невольные мотивы наших действий, в том числе тех, что совершаются в кругу семьи? Только через реконструкцию первичной формы. Разумеется, не стоит слепо переносить звериное на человека, но до пробуждения сознания, позволившего нашим предкам упражняться, помимо прочего, и в социальном творчестве, над нами тьмы веков тяготел начальный социум, чьё устройство было незыблемым, а связи внутри него отчётливы и каждому ясны – интуитивно, бессознательно, как данность. Определив черты этой архаической структуры, нам будет проще понять то, что кажется сейчас чудовищным, болезненным, необъяснимым. Но, присмотревшись, придётся, может быть, признать, что это не более чем часть нашей природы. Ведь и кошка не в силах унять дрожание усов при виде воробья, хотя пару минут назад умяла блюдце вискас.
Ведущая. Кошку ведёт инстинкт.
А/Н. Как будто человек на свет родится без инстинктов. Просто некоторые инстинкты наш разум одолел. Но корешок остался – глубоко сидит.
Ведущая. Ну что ж. Раз так, давайте погружаться в тьму веков.
А/Н (задумчиво). Я бы сказал – сверхархаической.
Ведущая. Что?
А/Н. Следует определить черты сверхархаической структуры общества, чтобы понять то, что кажется сейчас довольно странным.
Ведущая. Пусть так, раз это важно.
А/Н. Это важно. Общеизвестно – характер социальных связей внутри естественных сообществ в первую очередь определяется той или иной формой репродукции. Иначе говоря, присущей тактикой расплода. Иначе – размножения. Ибо стратегия всегда одна – выживание, развитие и процветание вида. Тактика размножения обуславливает и характер половых различий.
Ведущая. Что вы имеете в виду?
А/Н. Половой диморфизм. Те характерные черты в облике мужчин и женщин, благодаря которым мы сразу можем безошибочно сказать, кто – кто. Эти черты помогут нам реконструировать структуру общества далёких предков, структуру нашей сверхархаики.
Ведущая. Вы о тех отличиях, которые сегодня принято благопристойно прятать под одеждой?
А/Н. Как раз нет. Первичные половые признаки человека ничем особенно не примечательны и не дают подсказки относительно устройства отправного общества. Ведь по существу наши гениталии схожи с гениталиями других млекопитающих. Что делает возможным и такой вид связи, какой практиковали в Элладе козопасы. Другое дело – вторичные признаки. Они у нас весьма своеобразны. (Пауза.)
Ведущая. Продолжайте, пожалуйста, вы меня заинтриговали.
А/Н. Наш половой диморфизм, в частности, наглядно выражается в характере волосяных покровов. Анализируя его, можно предположить кое-что относительно особенностей поведения и нравов пресапиенсов – наших неразумных предков.
Ведущая (с иронией). Необычный метод реконструкции.
А/Н (не реагирует). Вообразите существо с копной волос на голове и дикой бородой. При виде такого робинзона у нас рождается невольная ассоциация – гривастый лев. Этот образ всплывает первый, как бы сам собой. Хотя среди известных всем животных гривы имеют самцы и других млекопитающих помимо львов: бизоны, зубры, бабуины…
Ведущая. Павианы…
А/Н (не реагирует). Что интересно – несмотря на все различия, в образе жизни наряженных в гривы существ есть несомненное сходство. И связано оно именно с тактикой расплода. И львы, и зубры, и бабуины – общественные звери, живущие устойчивыми группами, где численно преобладают самки. Самец может быть один, или их двое-трое – это нюансы, главное – самок неизменно больше. И забота о потомстве в этих группах всегда возложена на самок. А у львов на них возложена не только забота о потомстве, но и забота о пропитании самцов, которые сами редко участвуют в охоте.
Ведущая (по-прежнему с иронией). Как хорошо вы это всё сейчас сказали. Мне кажется, не грива, которую многие нынешние мужчины уже утратили, а именно эта склонность, этот зуд – взвалить на женщину заботы о потомстве и пропитании – более всего роднит сегодня льва и человека.
А/Н. Мы всё же говорим о ранней форме общественного бытия далёких предков. Из сказанного не проистекает, что на гривастых трутнях не лежит ровным счётом никаких обязанностей. Наоборот: главная их задача – оставаться исправной машиной любви и защищать свою территорию и своих самок от посягательств других самцов. При нападении естественных врагов, гиен или учуявших львов буйволов самки обороняются не менее отважно, чем самцы. Но главным объектом их заботы при этом является потомство – они защищают детей, в то время как самцы бьются не столько за детей, сколько за своих самок и своё царство.
Ведущая. К чему вы клоните?
А/Н. Если бы для львов главную ценность представляли дети, они бы встали грудью на их защиту не впереди львиц, а рядом с ними. Будь это так, они бы имели преимущество перед своими самками и шансы на выживание у них определённо увеличились, поскольку львы крупнее львиц, сильнее и лучше защищены – их голова, шея и горло прикрыты гривой. Но природа распорядилась иначе и позаботилась о том, чтобы преимущество осталось за самками.
Ведущая (удивлённо). И в чём же наше преимущество?
А/Н. В покорности судьбе. (Пауза. Ведущая смотрит на гостя выжидающе.) Да-да, в покорности судьбе на уровне инстинкта. Мужчиной быть опасно – самцы всегда идут на смерть первыми. В случае нападения других львов, претендующих на прайд соперника, самцы с той и другой стороны либо погибают, либо изгоняются прочь. Самки всегда выживают. Они остаются с прежним самцом, если он победил, или достаются новому господину, если старый проиграл битву. Такой порядок весьма целесообразен, если иметь в виду стратегическую задачу эволюции. Отголоски этой сверхархаики отражены в нашей исторической памяти: женщины защищают своё потомство, но, когда враги убивают их мужчин, они становятся продолжателями рода врагов, убивших их мужчин. Вспомним знаменитую свадьбу в Сузах, когда девяносто македонцев взяли себе в жёны знатных персиянок.
Ведущая (удовлетворена объяснением). То есть наши далёкие предки жили прайдом? Я правильно вас поняла?
А/Н. Да, восстанавливая нашу сверхархаику, наш начальный социум, следует исходить из такого образца.
Ведущая. Думаю, многомиллионная армия беззаветных кошатников и кошатниц будет вам признательна за это изыскание.
А/Н. И напрасно.
Ведущая (удивлённо). Почему?
А/Н. У кота нет гривы.
Ведущая. Ах вот в чём дело… Надеюсь, нас ждут откровения и относительно библейского Самсона.
А/Н. Совершенно верно. Сила пребывала с Самсоном до тех пор, пока с ним пребывала его грива. Лишившись гривы, он перестал быть и защитником, и победителем. Это даже не метафора. Это констатация факта, развёрнутая аксиома. Джедаям из космической саги Лукаса следовало бы напутствовать собратьев: «Да пребудет с вами грива».
Ведущая. С джедаями понятно. Так что там с котом?
А/Н. У кота нет гривы. Кот, погуляв с кошкой, бросает и её, и её котят. У льва есть грива, и он привязан к своим самкам. Не так ли обстоят дела и у людей? Мусульманская и мормонская семья – рудимент и в то же время иллюстрация сверхархаического сообщества гоминид тех времён, когда светильник разума в их головах ещё не брезжил. Вспомните «Белое солнце пустыни» – жёны Абдуллы сразу и безоговорочно признали красноармейца Сухова, в распоряжение которого они поступили после бегства старого самца, своим новым господином.
Ведущая (встревоженная поворотом разговора). Давайте всё-таки вернёмся туда, откуда начинали – к взаимоотношениям внутри семьи для нас традиционной.
А/Н. Хорошо. Что первым здесь бросается в глаза?
Ведущая. Что?
А/Н. Мужчины вовсе не настроены заниматься детьми – а ведь именно по этому признаку мы обычно определяем градус любви, в том числе и родительской, – они настроены заниматься женщинами.
Ведущая. Так ведь и женщины не прочь заняться мужчинами.
А/Н. Но при этом они с удовольствием нянчат своих детей, и ещё неизвестно, какому занятию отдадут предпочтение, если возникнет проблема выбора.
Ведущая. Бывает, за детьми присматривает и мужчина.
А/Н. Не будем выдавать желаемое за сущее. Чрезмерно трогательное внимание мужчины к детям подозрительно: скорее всего, такой мужчина – носитель женского психотипа. Либо латентный гей. Либо вовсе педофил. Если смотреть правде в глаза, мужчина, желая завести ребёнка, вовсе не предполагает посвящать ему весь свой досуг. Он сознаёт – возиться с ним будет не он. Так, в частности, даёт о себе знать древняя структура прачеловеческого общества с его строгим распределением ролей: мужчина оберегает женщину и территорию, делая свой дом крепостью, женщина заботится о потомстве. Именно такой порядок безотчётных действий позволил нашим далёким предкам выжить.
Ведущая. Почему же они впоследствии отошли от этой организации? Почему изменили идее прайда? Ведь благодаря ей, как вы утверждаете, вид выстоял в суровых обстоятельствах отбора.
А/Н. Виной тому болезненно проснувшийся рассудок. Допустим, от вкушения запретного плода. Разбуженный, он предложил нашим предкам собственный соблазн – не просто выстоять, но восторжествовать.
Ведущая (лицо делается серьёзным). Но чем обусловлено это пробуждение?
А/Н. Решительным отключением от трансляции божественного Зова. Изгнанием из предвечной музыки. Человек был спущен с поводка – инстинкт перестал быть доминантой его действий. Целесообразное поведение без осознания цели, безоговорочное следование закону звучащей в тебе гармонии – именно это и принято называть инстинктом. Мы отключены от гармонии, брошены на произвол собственной воли. Разум – причина, а вместе с тем и следствие изгнания из храма согласного земного бытия и, одновременно, возможность выйти на иной виток. Путём проб и ошибок вновь подключиться к извергнувшей человека симфонии, но в качестве новой, более существенной мелодии. Поэтому разум и мечется, впадает в крайности. Ведь он, как сказано – и сказано не мной, – всего лишь неоформившийся инстинкт, созревающий взамен отринутого старого. Ещё разбалансированный, подчас пускающийся в бредни и вразнос. Да, разум позволил человеку восторжествовать, но он же подвёл его и к краю бездны.
Ведущая. И что же будет, когда инстинкт оформится?
А/Н. Всё станет на свои места. Выстроится новая структура общества, незыблемая, безупречная и строгая в чётких сочленениях. Разум исподволь нащупывает её в своих утопических экспериментах. А как нащупает, усохнет и отвалится. И новое человечество, ведомое обретённым инстинктом, вновь станет неразумным, но идеально вписанным в гармонию земли и неба, в их чу́дную, торжественную музыку. У истоков сознания, как известно, стоит безумие. Оно же будет ждать его и в устье.
Ведущая. Под утопическими экспериментами вы имеете в виду… э-э… тоталитарные модели?
А/Н. Я имею в виду всю сумму человеческого опыта. В одном случае индивидуальность подвергается обработке сакральным или идеологическим резцом, уравнивается с прочими кирпичиками и закладывается в общественное здание. В другом – индивидуальность возводится на пьедестал абсолютной ценности, что в равной мере приводит к уничтожению различий. Ведь если каждая индивидуальность одинаково значима, несмотря на все несходства, то цена этой индивидуальности – ломаный грош. Эльфы Старой Европы, этого оплота индивидуализма, добровольно, как гражданский долг, возложили на себя обязательство доносить на ближнего, выбивающегося за рамки нормы, – причём с таким искренним рвением, какое тоталитарному обществу не снилось.
Ведущая. И что в итоге?
А/Н. Процесс ещё далёк от завершения. Однако надеюсь, когда инстинкт оформится, мы вновь вольёмся в симфонию космоса чистой мелодией – без дребезга и фальши. И это будет в полном смысле умопомрачительная музыка.
Ведущая. О какой музыке вы всё время говорите?
А/Н. Как? Я разве не сказал? О той, которую мы не слышим.
Ведущая. Прекрасно. Это проясняет дело.
А/Н. Мы, кажется, немного отклонились.
Ведущая. Да. Вернёмся вновь под сень семьи.
А/Н. В семье женщинам постоянно кажется, будто их мужья уделяют детям недостаточно внимания и, следовательно, недостаточно их любят. Так вот, милые дамы, это вам не кажется. Так есть на самом деле. Исследования подтверждают: как у кошки непроизвольно дрожит ус на воробья, так у мужчины непроизвольно расширяются зрачки при взгляде на красивых женщин, а у женщин – при взгляде на детей.
Ведущая (растерянно). По-вашему, мужчины не любят детей? Но это дичь какая-то.
А/Н. Мужчины любят детей. Но иначе, чем женщины. Отец любит ребёнка эгоистично – более умом, чем сердцем. В ребёнке мужчина в первую очередь видит родную кровь, наследника, продолжателя рода – видит продление себя в грядущее. В львином прайде, близком, как мы выяснили, к начальному сообществу гоминид, львы и вовсе не любят детей в привычном смысле слова – они их только терпят, позволяя львятам ползать по своему телу, но не проявляя по отношению к ним никакой нежности.
Ведущая. Вы хотите сказать, что мужская любовь к детям и любовь к детям женская – два разных чувства, объединённых одним словом по недоразумению?
А/Н. В общем, да. Женщины любят детей беззаветно, самозабвенно, всем существом. Мужчины любят в детях собственное отражение, то есть самих себя. Любить себя в другом – крайне важное качество с точки зрения общественной перспективы, но это всё-таки эгоистическое чувство. Бессмысленно сравнивать две эти разные любви по их сердечности и глубине. Однако женщины, любящие не себя в детях, а детей как таковых, думают иначе. Редкий муж не слышал от жены упрёка в том, что он относится к потомству недостаточно внимательно, не так, как она. Наблюдение верное, но упрёк несправедлив.
Ведущая. Почему?
А/Н. Потому что не следует забывать, сколько мужчин отдали свою жизнь за то, чтобы женщины могли и дальше продолжать любить своих детей.
Ведущая. Не знаю, что и возразить. Но, говоря о том, что чувства эти… ну, мужская и женская любовь, что они количественному сравнению не подлежат… Говоря об этом, вы признаёте, что женщина любит детей всё же чище и бескорыстнее?
А/Н. Всякая вещь таит в себе свою изнанку. Довольно часто прекрасное вдруг оборачивается безобразным.
Ведущая. Не понимаю вас.
А/Н. Чистая и бескорыстная любовь женщины к своим детям порой оборачивается слепой ненавистью к чужим. Слово «мачеха» вызывает в нас такой вихрь негативных перекличек, обусловленный сложившимися за века представлениями, какой никогда не вызовет слово «отчим». И это тоже корешок не до конца ещё преодоленного инстинкта.
Ведущая (слегка озадаченно). Когда же мы его преодолеем?
А/Н. Когда закончится процесс формирования инстинкта нового взамен того, что был отвергнут. (Смотрит на ведущую – взгляд скучающий.) Тогда исчезнет негативный шлейф и у таких понятий, как «тёща» и «свекровь». А может быть, и сами понятия исчезнут. И не только эти.
Ведущая. Не знаю, что и сказать…
А/Н. Ничего не говорите.
Ведущая (пауза, молча смотрит на гостя).
А/Н (молчит).
Кода
На следующий день после выхода в эфир этой пустячной передачи – новая жизнь дала мне материал, – в кафе, где я одолевал креманку взбитых сливок, ко мне за столик приземлился парень и попытался навязать знакомство. «Семейный круг» с львиной темой ему пришёлся по сердцу («Настроены заниматься женщинами! Ха-ха! Отлил в граните!»). Как только он нащёлкал пультом эту передачу? Такие, как он, обычно смотрят комик-клубы. Песенка его души звучала скверно – я ускользнул. Надо было купить Нике дынное мороженое – об этом думал. Потом думал о другом. О странностях детских предпочтений – Ника любит дынное мороженое и на дух не переносит кабачки. Что за нелепый вывих вкуса? С другой стороны – а сам? Жареную корюшку готов уписывать за обе щёки, а вот шпинат – не понимаю, будто у коровы отобрали жвачку.
Потом, отсеяв сорные шумы, слушал музыку, разлитую повсюду, пронизывающую толщу мировой храмины от основания до маковки.
Слушал и печалился о так и не преодолённой человеком тугоухости, через которую не продраться вещим звукам. А ведь несовершенство слуха в отношении потусторонней музыки, которая персональным образом о нас/для нас звучит, приводит к повседневному разладу в ближнем круге точно так же, как нечувствительность к симфонии небесных сфер приводит к разладу в жизни общества и государства. Представить только, от скольких дребезжаний мы могли бы уберечься и скольких столкновений избежать, направив дело к общему согласию, если бы слух наш не был так досадно ограничен. Каждый ясно расслышанный мотив музыки храма бытия имел бы тогда для всех неоспоримое значение и однозначный смысл – кто стал бы возражать против того, что явно? А если бы нашлись прохвосты, они бы скоро очутились в одной палате с теми, кто сомневается, что вода мокра, мёд сладок, а огонь горяч.
Слушал и уже не думал ни о чём – сам становился музыкой, тёк и звучал с общей гармонией в лад. Не думал ни о прошлом, ни о настоящем, ни о будущем. Зачем? Прошлое кривляется и фиглярит так, что нежные и слабые срываются с катушек. Настоящее надо слушать – разве мы думаем о музыке, когда в ней растворяемся? А будущее… Оно, конечно же, наступит. Уж больно чёткие картинки – те самые, которые всё чаще являются в мой сон, как кадры ещё не вышедшего на экраны фильма. Я, помнится, упоминал уже: словно знакомый фотограф побывал в грядущем, нащёлкал снимков и переслал мне прямо в мозг – по-свойски, как дельфин дельфину. Это загадочные, завораживающие и отчаянно весёлые картинки. Я разглядываю их, и во сне меня одолевает хохот. Небесный промысл опять нас всех надует. Ну то есть всех вообще. Затейливо и ловко завернёт, как не могли бы и представить. Известно же: куда ни двигай, всякий раз окажешься не там.
Но просыпаешься, и через миг уже не вспомнить – в чём, собственно, прикол? При этом всё же ощущение такое, что там, впереди – бесконечная мелодия.
Благодарности
Александру Секацкому, бросившему зёрна в дремлющую пашню;
Дмитрию Григорьеву, приоткрывшему дверцу в трудовой скит;
Сергею Носову, деликатно указавшему на недостатки;
ополченцам Донбасса – позывные Олигарх, Пепел, Шербет, Одесса, Беркут, – позволившим увидеть и почувствовать очнувшуюся Новороссию;
героям асса-культуры, живым и мёртвым;
Музыке – за то, что всё-таки есть.
Примечания
1
Безопасная зона при землетрясении (исп.).
(обратно)


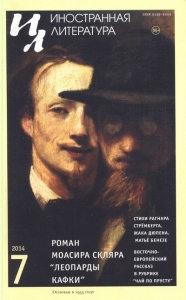
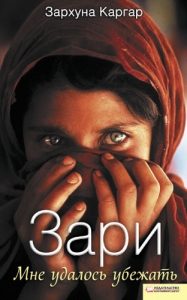


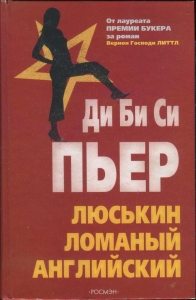


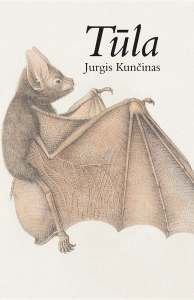


Комментарии к книге «Яснослышащий», Павел Васильевич Крусанов
Всего 0 комментариев