В.Г. Зебальд Головокружения
© Eichborn AG, Frankfurt am Main, 1990. All rights reserved
* * *
Бейль, или Диковинный факт любви
В середине мая 1800 года Наполеон с тридцатью шестью тысячами войска перешел через Большой Сен-Бернар, осуществив предприятие, до той поры считавшееся совершенно немыслимым. Почти четырнадцать дней необозримый караван людей, животных, техники и припасов тащился из Мартиньи через Орсьер по долине Антремон, затем по бесконечным, казалось, серпантинам вверх к перевалу на высоте двух с половиной тысяч метров над уровнем моря, при этом тяжелые стволы пушек приходилось укладывать в выдолбленные бревна и волочить по снегу и льду, а местами и по свободной уже от снега скальной породе.
К числу немногих участников легендарного перехода через Альпы, не оставшихся безымянными, принадлежал Анри Бейль. Было ему тогда семнадцать лет, он как раз переживал расставание со столь ненавистными ему детством и юностью и не без энтузиазма предвкушал вступление на поприще армейской службы, которое, как мы знаем, впоследствии открыло ему многие пути на просторах Европы. Записки, которые он набросал в возрасте пятидесяти трех лет – тогда он на время осел в Чивитавеккье – и в которых пытался воскресить в памяти тяготы тех дней, наглядно демонстрируют самые разные сложности вспоминания. Кое-где его представления о прошлом сводятся к одним только панорамам бескрайних серых полей, а иной раз он внезапно натыкается в памяти на картины столь поразительной ясности, что, кажется, сам не решается принимать их на веру; таков, например, образ генерала Мармона, якобы встреченного им в Мартиньи с левой стороны от дороги, по которой тащились обозы, при этом генерал, как представляется Бейлю, был облачен в мундир члена Государственного совета, с небесно-голубой по темно-синему нашивкой; в точности таким, уверяет нас Бейль, видит он его и поныне, стоит лишь, закрыв глаза, вызвать в памяти давнюю сцену, хотя, как ему прекрасно известно, Мармон должен был быть в генеральской форме, а вовсе не в синем штатском наряде.
Уверив нас, что по причине нелепейшего воспитания, направленного исключительно на развитие навыков, почитаемых третьим сословием, сам он к тому моменту имел конституцию четырнадцатилетней девицы, Бейль пишет, что трупы лошадей по обочинам и прочий хлам, какой ползущая вперед армия оставляла за собой, оказали на него воздействие, которое лишило его возможности сохранять и впредь ясное представление о том, чтó именно тогда пробуждало в нем ужас. Словно чрезмерность впечатления, так ему представляется, грубым насилием разрушила последующие воспоминания. По этой причине приведенный ниже рисунок следует рассматривать как своего рода вспомогательное средство – с его помощью Бейль пытается вызвать в воображении картину того, что было в действительности, когда воинское подразделение, в составе которого он двигался вперед, угодило в районе деревни и крепости Бар под обстрел. В – это местечко Бар. Три буквы С в правой верхней части рисунка обозначают пушки крепости, которые обстреливают точки L, L, L на дороге, тянущейся по верху крутого склона Р. Буквой Х отмечено место внизу, в пропасти, где лежат лошади, что, в ужасе оступившись, рухнули вниз – и их уже нельзя было спасти; Н означает Анри (Henri), позицию рассказчика. Конечно, когда Бейль действительно был в той точке, он видел происходящее иначе, поскольку в реальности, как мы знаем, все всегда по-другому.
Впрочем, пишет Бейль, даже в тех случаях, когда речь идет о воспоминаниях, сохраняющих определенную близость к реальности, полагаться на них все же не стоит. Не менее яркое впечатление, чем великолепное явление генерала Мармона в Мартиньи, в самом начале подъема, произвела на него открывшаяся сразу же после преодоления наиболее трудного участка пути – спуска с перевала – долина Сен-Бернар в утренних лучах солнца. Он не мог оторвать взгляд от этой прекрасной картины, а в голове у него все время крутились итальянские слова – quante miglia ci sono da qui a Ivrea и donna cattiva[1], – за день до того впервые услышанные от священника, у которого он квартировал. Бейль пишет, что долгое время пребывал в уверенности, будто помнит эту дорогу верхом до мельчайших подробностей, в особенности же картину, какую при угасающем свете дня явил собой впервые открывшийся ему с расстояния примерно в три четверти мили город Ивреа. Там, где долина, расширяясь, медленно переходит в равнину, лежал этот город, чуть правее центра, в то время как слева, сколько хватало глаз, вздымались горы – все выше и выше к вершине Резегоне-ди-Лекко, которая впоследствии будет значить для него так много, а совсем уж на заднем плане высилась Монте-Роза.
Для него, пишет Бейль, стало глубоким разочарованием, когда несколько лет спустя, перебирая старые бумаги, он наткнулся на гравюру под названием «Prospetto d’Ivrea» и вынужден был признаться себе, что картина лежащего в закатных лучах города из его якобы собственных воспоминаний представляет собой не что иное, как копию этой самой гравюры. Потому и не следует, советует Бейль, приобретать гравюры с хорошими видами на встреченное в пути. Ибо вскоре гравюра целиком завладеет тем местом в памяти, которое отведено для собственного нашего воспоминания об этом, и, можно сказать, разрушит его. К примеру, чудесную «Сикстинскую Мадонну», виденную в Дрездене, Бейль, как ни старался, вспомнить не мог совсем, поскольку ее образ вытеснила гравюра, сделанная с картины Мюллером, а вот дрянные пастели Антона Менгса из той же галереи, гравюр с которых он позднее нигде не встречал, отчетливо отпечатались в памяти. [2]
Все дома и общественные территории в Иврее заняты были стоящей биваком армией, однако для себя самого и капитана Бюрельвилье, вместе с которым Бейль вошел в город, ему удалось все же устроить квартиру – в складском помещении красильни между бочонков и медных котлов, со всех сторон овеваемую странными кисловатыми запахами, причем едва спешившись, он вынужден был защищать ее от мародерствующей толпы, жаждавшей сорвать с петель ставни и двери, чтобы бросить их в костер, разведенный посреди двора. Не только поэтому, но и вследствие всего пережитого в последние дни Бейль чувствовал себя взрослым и, невзирая на голод и чрезвычайную усталость, не принял во внимание предостережения капитана, когда в порыве предприимчивости поспешил в эмпорий, где, как он знал уже из многочисленных афиш, давали в тот вечер «Il Matrimonio Segreto»[3] Чимарозы.
Фантазия Бейля, и без того по причине царившего вокруг хаоса приведенная в состояние брожения, теперь, благодаря музыке Чимарозы, разыгралась еще сильнее. Уже в первом акте, в том месте, где тайно вступившие в брак Паолино и Каролина соединяют голоса в исполненном страха дуэте: «Cara, non dubitar: pietade troveremo, se il ciel barbaro non è», он и вправду поверил, будто стоит на подмостках примитивной сцены и даже в самом деле находится в доме тугого на ухо торговца из Болоньи, держа в объятиях его младшую дочь. И столь сильно тогда сжалось его сердце, что далее в ходе представления на глазах у него то и дело выступали слезы, а покидал он эмпорий уже в совершенной убежденности, что актриса, певшая Каролину, вне всякого сомнения, не раз обращала свой взор прямиком на него и, конечно, способна подарить ему обещанное музыкой блаженство. При этом ему не мешало ни в коей мере, что левый глаз обладательницы сопрано заметно косил в сторону, когда она преодолевала сложные колоратуры, а во рту отсутствовал правый верхний глазной зуб; недостатки лишь крепче привязывали восторженное чувство. Теперь он знал, где следует искать счастья; не в Париже, как полагал он прежде, будучи в Гренобле, и не в горах Дофине, о которых порой тосковал в Париже, но именно здесь, в Италии – в такой музыке, подле такой вот певицы. И эту убежденность не могли поколебать сальные шутки капитана о сомнительных нравах актрис, которыми тот дразнил Бейля на следующее утро, когда они, оставив Иврею позади, уже скакали в направлении Милана; Бейль остро ощущал, как движения его сердца щедро изливаются на просторы летнего ландшафта и в ответ его отовсюду приветствуют свежей зеленью бесчисленные деревья. [4]
23 сентября 1800 года, примерно через три месяца после прибытия в Милан, Анри Бейль, до сих пор исполнявший письменные работы в бюро посольства Французской республики в Каза Бовара, был прикомандирован сублейтенантом к 6-му драгунскому полку. Необходимые дополнения для его униформы вскоре получили денежное выражение, причем расходы на лосины, на шлем, от затылка до темени украшенный стриженым конским волосом, на сапоги, шпоры, поясную пряжку, портупею, эполеты, пуговицы и знаки различия намного превзошли обычные его расходы. Теперь, правда, ловя свой новый облик отраженным в зеркале или, как ему казалось, в глазах миланских женщин, он чувствовал себя преображенным. Чувствовал себя так, словно ему наконец удалось выбраться из собственного коренастого тела, словно высокий расшитый стоячий воротник в действительности удлинил его короткую шею. Даже широко расставленные глаза, из-за которых, к большому его огорчению, его нередко называли Le Chinois, стали вдруг казаться исполненными храбрости и решительно сдвинулись в сторону воображаемого центра. Дни напролет проводя в погоне за обмундированием, семнадцатилетний драгун таскал повсюду свою эрекцию, однако расстаться с привезенной из Парижа невинностью решился не сразу. Имя, как и лицо, той [5]donna cattiva, что ассистировала ему при этом, впоследствии он предпочел более не вспоминать. Мощное ощущение, пишет он, стерло в нем все воспоминания. Но в последующие недели Бейль столь основательно предался учебному процессу, что в ретроспективе вступление его в мир было оттеснено куда-то на задний план воспоминаниями о визитах в городские бордели и – уже к концу года – болями вследствие заражения, а также лечения йодистым калием и ртутью. Все это, однако, не мешает ему в то же время всесторонне разрабатывать еще одну, гораздо более отвлеченную страсть. Его потребность в обожании избирает своим предметом Анджелу Пьетрагруа, возлюбленную его товарища Луи Жуанвиля, даму, которая лишь изредка дарит некрасивого юного драгуна иронически сострадательным взглядом.
Лишь одиннадцать лет спустя, когда Бейль после долгого отсутствия вновь нанесет визит Милану и Анджеле, своей незабвенной, которая едва его помнит, он наберется мужества изъяснить ей свои возвышенные чувства. Одержимость странного влюбленного придется Анджеле не очень-то по нраву, и она попытается разрядить обстановку, предложив отправиться к вилле Симонетта, знаменитой своим невероятным эхом, повторяющим звук пистолетного выстрела до пятидесяти раз. Однако ее стратегия замедления потерпит крах. Леди Симонетта, как отныне станет он называть Анджелу Пьетрагруа, будет вынуждена в конце концов капитулировать перед безумным, на ее взгляд, натиском красноречия, направленным на нее Бейлем. И все-таки ей удастся вырвать у него обещание, что по получении милости он без дальнейших проволочек покинет Милан. Бейль принимает условие без возражений и покидает город, по которому так долго скучал, в тот же день, не преминув зафиксировать у себя на подтяжках дату и час одержанной победы – 21 сентября, половина двенадцатого утра. Когда этот вечный путешественник вновь оказывается в дилижансе и мимо проносятся прелестные пейзажи, он задается вопросом, предстоят ли ему еще в жизни победы, подобные этой. Во время остановки на ночлег его охватывает уже привычная меланхолия, сродни тому чувству вины и собственной ничтожности, какое впервые долго терзало его на исходе 1800 года. Все лето тогда он словно летал на крыльях всеобщей эйфории, последовавшей за битвой при Маренго; с величайшим воодушевлением читал в бюллетенях все новые отчеты о ходе Второй итальянской кампании; повсюду сияло праздничное освещение, давали балы, представления на открытом воздухе, и в тот день, когда он впервые явился в новой форме, ему даже представилось, что жизнь, наконец, обрела упорядоченность внутри совершенной или по меньшей мере стремящейся к совершенству системы, в которой Ужасное и Прекрасное присутствуют в строго отмеренном соотношении. Но поздняя осень принесла с собой меланхолию. Служба в гарнизоне тяготит его все сильнее, Анджеле, по-видимому, он действительно
безразличен, вновь вспыхнула болезнь, и он то и дело, прибегая к помощи зеркала, исследует воспаления и язвы во рту и в глубине горла, как и пятна на внутренней стороне бедер.
В начале нового столетия Бейль снова слушал «Il Matrimonio Segreto» – в Ла Скала; однако, хотя театральная интерпретация была вполне совершенна, а исполнительница роли Каролины – немалой красоты, ему не удалось, как тогда в Иврее, вообразить себя участником действия. Напротив, на этот раз он был настолько далек от происходящего, что музыка – он ничуть в этом не сомневался – едва не разбила ему сердце. Аплодисменты, громом заполнившие зал в конце спектакля, в его представлении завершили акт разрушения грозным треском, будто при сильном пожаре, и он еще долго сидел там, словно оглушенный надеждой, что, быть может, огонь поглотит и его. Одним из последних покинул он тогда гардероб театра, выходя, бросил беглый взгляд на свое отражение в зеркале и, глядя себе в лицо, впервые задался вопросом, с которым ему предстояло сражаться в последующие десятилетия: из-за чего гибнет писатель? Ввиду описанных обстоятельств ему показался исполненным особенного значения тот факт, что буквально через несколько дней после сего знаменательного вечера он прочитал в газете, что 11-го числа текущего месяца в Венеции за работой над новой оперой «Артемизия» Чимарозу настигла смерть. 17 января состоялась премьера «Артемизии» в театре Ла Фениче. Успех был феерический. Затем поползли странные слухи, будто бы Чимарозу, который в Неаполе связался с революционным движением, отравили – по приказанию королевы Каролины. Были и другие подозрения, якобы Чимароза умер от последствий жестокого обращения, каковому подвергался в неаполитанских тюрьмах. Слухи эти, источник повторяющихся ночных кошмаров Бейля, в которых все пережитое за последние месяцы самым жутким образом спутывалось в клубок, держались с чрезвычайным упорством и не затихли, даже когда личный врач Папы после специально назначенного исследования тела объявил, что причиной смерти композитора явился антонов огонь.
Бейлю потребовалось немало времени, чтобы хоть как-то успокоиться после этих событий. Всю весну он страдал приступами лихорадки и желудочными спазмами, которые лечил хинной корой, рвотным корнем да еще пастой из сурьмы и поташа – тем самым он настолько ухудшил свое состояние, что ему не раз уже казалось: это конец. Только с началом лета опасения постепенно улеглись, а вместе с ними ушли лихорадка и страшные боли в животе. Едва мало-мальски встав на ноги, Бейль, сам покуда не принимавший участия в сражениях, если не считать боевого крещения при Баре, начал с пристальным вниманием изучать места, где происходили крупные баталии последних лет. Снова и снова колесил он по столь близким его сердцу, как выяснилось теперь, ландшафтам Ломбардии, а вдали постепенно сливались серые и голубые полоски тончайших оттенков, образуя у горизонта своего рода нежное марево.
И вот, прибыв из Тортоны, Бейль стоит ранним утром 27 сентября 1801 года на широком и тихом поле – слышно лишь, как тут или там вдруг вспорхнет жаворонок, – где 25 прериаля минувшего года, как отмечает он, ровно пятнадцать месяцев и пятнадцать дней тому назад произошла битва при Маренго. О решающем повороте в ходе сражения, свершившемся благодаря яростной атаке кавалерии Келлермана, которая в лучах заходящего солнца врезалась с фланга в основные силы австрийцев, когда, казалось, все уже было потеряно, Бейль знал по многочисленным и очень разным рассказам, да он и сам не раз рисовал себе в красках эти события. И теперь он обозревал равнину: видел отдельные мертвые деревья, рвущиеся кверху, и рассеянные повсюду, местами уже побелевшие, поблескивающие в утренней росе кости примерно шестнадцати тысяч человек и четырех тысяч лошадей, расставшихся здесь с жизнью. Несовпадение батальных картин, которые рисовались в его воображении, с представшими теперь перед ним доказательствами, что битва в действительности имела место, – несовпадение это пробуждало в нем прежде неведомое раздражающее ощущение, чем-то похожее на головокружение. Возможно, по этой причине мемориальная колонна, воздвигнутая на поле сражения, показалась ему, как он пишет, в высшей степени жалкой. Своим убожеством она входила в противоречие как с его собственными представлениями о вихрях прошедшей битвы, так и с огромной, усеянной останками равниной, где он сейчас в полном одиночестве погружался в пучину.
Позднее, мысленно возвращаясь к этому сентябрьскому дню на поле битвы при Маренго, Бейль не раз испытывал чувство, будто в тот день провидел события будущего – все грядущие сражения и катастрофы, вплоть до падения и ссылки Наполеона, – и будто в тот миг ему стало ясно, что в армейской службе счастья ему не найти. Во всяком случае, именно в те осенние недели он принял решение стать величайшим писателем всех времен. Реальных попыток, ведущих к исполнению мечты, он, правда, не предпринимал, пока разложение империи не стало вырисовываться явно, и настоящий прорыв в литературе удался ему лишь в книге «De l’amour»[6], которую он написал весной 1820 года, подведя своего рода итог предшествующих лет, столь же исполненных надежды, сколь и несчастливых.
В эти годы Бейль как никогда много курсировал между Францией и Италией и в марте 1818 года познакомился с Метильдой Дембовской-Висконтини в ее миланском салоне. Метильда, в те времена дама невероятной красоты и меланхолического склада, двадцати восьми лет от роду, была замужем за польским офицером лет на тридцать старше ее. По прошествии примерно года Бейль вошел в число постоянных гостей домов на piazza delle Galline и на piazza Belgioioso и своей страстью, преподносимой с молчаливой сдержанностью, почти уже завоевал расположение Метильды, но вдруг сам перечеркнул все шансы собственной непоправимой, как он вынужден был признать впоследствии, ошибкой.
Метильда отправилась в Вольтерру навестить двух своих сыновей, которые воспитывались в монастырской школе Сан-Микеле, а Бейль, не в силах не ВИДЕТЬ Метильду и несколько дней, последовал за нею инкогнито. Он никак не мог освободиться от впечатлений последней встречи с ней: вечером, накануне отъезда из Милана, когда, уже прощаясь, в передней она нагнулась поправить ботинок, все вдруг померкло вокруг него, и, стоя позади нее, он увидел, будто сквозь вязкий дым, как в густой мгле разверзлась темно-красная пустыня. Видение это привело его в состояние, близкое к трансу, и внушило ему намерение полностью переменить свой облик. Он купил новый желтый сюртук, темно-синие панталоны, черные лакированные туфли, необычайно высокий велюровый цилиндр и пару зеленых очков и в таком вот виде бродил теперь по Вольтерре, стремясь лицезреть Метильду так часто, как только возможно, пусть и с некоторого расстояния. Поначалу Бейль верил, что остается не узнан, потом, к вящей своей радости, установил: Метильда бросает на него многозначительные взгляды. Он поздравил себя с первоклассно проведенной операцией и теперь непрестанно мычал себе под нос на придуманную мелодию слова «Je suis le compagnon secret et familier», казавшиеся ему весьма оригинальными. Метильда же, как нетрудно себе представить, чувствовала, что подобная затея со стороны Бейля ее компрометирует, и, когда необъяснимое его поведение стало тяготить ее слишком уж сильно, очень сухим письмом положила конец всем его надеждам на взаимность. [7]
Бейль был безутешен. Несколько месяцев он осыпал себя упреками и, лишь когда принял решение переработать грандиозную страсть в записки о любви, вновь обрел душевное равновесие. В память о Метильде на его письменном столе всегда лежал гипсовый слепок кисти ее левой руки, который ему посчастливилось – как он часто думает теперь, когда пишет, – получить в личное распоряжение незадолго до вышеописанного крушения надежд. Эта гипсовая кисть значит для него едва ли не больше, чем могла бы когда-нибудь значить сама Метильда. В особенности легкое искривление безымянного пальца – оно пробуждает в нем горячность и задор, каких он прежде никогда не испытывал.
В трактате «О любви» описано путешествие из Болоньи, якобы предпринятое автором в обществе некой мадам Герарди, которую он иногда называет просто Ла Гита. Эта самая Ла Гита – позднее она еще несколько раз мелькнет на периферии творчества Бейля – персонаж очень таинственный, чтобы не сказать призрачный. Есть основания полагать, что под этим именем Бейль зашифровал нескольких своих реальных возлюбленных: Адель Ребюфель, Анжелин Берейтер и, конечно, Метильду Дембовскую, а мадам Герарди, чья жизнь, как он пишет, могла с легкостью составить целый роман, вопреки всем свидетельствам в действительности не существовала вовсе и являла собой своего рода фантом, которому Бейль затем десятилетиями хранил верность. Далее, не до конца ясно, когда именно в жизни Бейля имело место путешествие с мадам Герарди, коль скоро оно действительно было. Но поскольку в самом начале трактата много говорится об озере Гарда, весьма вероятно, что в отчет о путешествии с мадам Герарди вошло многое из пережитого Бейлем в сентябре 1813 года, когда он поправлял здоровье на озерах Северной Италии.
Осенью 1813 года Бейль пребывал в устойчивом элегическом настроении. Минувшей зимой он участвовал в ужасном отступлении из России, сразу после этого по делам службы провел некоторое время в Силезии, в Сагане, где в разгар лета его одолела тяжелая болезнь, и в лихорадочном бреду его помутившийся рассудок попеременно терзали картины то грандиозного пожара Москвы, то восхождения на снежную вершину, которое он собирался предпринять непосредственно перед болезнью. Раз за разом Бейль видел себя на горной вершине отрезанным от всего мира, окруженным горизонтально развевающимися снежными пеленами и пламенами, срывающимися с крыш окрестных домов.
И когда по выздоровлении он отправился в Северную Италию подкрепить силы, отпуск его определенно окрасился слабостью и благодушием, отчего ему в совершенно новом свете представились и окружающая природа, и неизбывная любовная тоска. Своеобразная, никогда прежде не испытанная легкость владела им тогда; воспоминанием о той легкости пронизан и написанный семь лет спустя отчет о путешествии, вполне вероятно имевшем место только в его фантазии, в сопровождении, скорее всего, также воображаемой спутницы.
Исходной точкой повествования становится Болонья, где в первые недели июля некоего, как уже было сказано, не определимого с надлежащей точностью года стоит такая невыносимая жара, что Бейль и мадам Герарди решают провести несколько недель на более свежем воздухе, в горах. Отдыхая днем и путешествуя по ночам, они пересекают холмистые просторы Эмилии-Романьи, болота Мантуи, затуманенные сернистыми испарениями, и на третий день утром прибывают в Дезенцано – на берег озера Гарда. Никогда в жизни, пишет Бейль, не доводилось ему ощущать красоту и одиночество этих вод ярче, нежели в тот раз. Из-за невыносимой жары они с мадам Герарди проводили вечера на воде, в лодке, и с приближением темноты внимательно вглядывались в редкостные переплетения цветовых оттенков, переживая незабываемые мгновения тишины. В один из этих вечеров, пишет Бейль, они говорили о счастье. Мадам Герарди утверждала, что любовь, как и большинство благ цивилизации, – просто химера, к которой нас влечет тем сильнее, чем дальше мы отходим от природы. И пока мы продолжаем искать природу лишь в другом теле, мы удаляемся от нее, ибо любовь – это страсть, выплачивающая свои обязательства в изобретенной ею же самой валюте, и предлагает она тем самым ложную сделку, столь же мало нужную человеку для счастья, как, скажем, устройство для обрезания гусиных перьев, приобретенное Бейлем в Модене. Или же вы готовы поверить, добавила, как пишет Бейль, мадам Герарди, будто Петрарка был несчастен оттого лишь, что ни разу в жизни не пробовал кофе?
Через несколько дней после этого разговора Бейль и мадам Герарди продолжили путешествие. Поскольку около полуночи ветер над озером Гарда дует, как правило, с севера на юг, а в последние часы перед рассветом – с юга на север, поначалу они проехали вдоль берега до Гарньяно, расположенного примерно на уровне середины озера, и там взяли лодку, на которой с рассветом прибыли в маленький порт Ривы-дель-Гарда, где двое мальчуганов уже играли в кости, сидя на парапете набережной. Бейль привлек внимание мадам Герарди к тяжелому старому баркасу с надломленной в верхней трети грот-мачтой и обвислыми желто-коричневыми парусами, который, кажется, тоже прибыл совсем недавно, и как раз сейчас двое матросов в темных куртках с серебряными пуговицами спустили на берег носилки, на которых под шелковой цветастой шалью с бахромой, по-видимому, лежал человек. Мадам Герарди была неприятно поражена этой сценой – настолько, что по ее настоянию они без промедления покинули Риву.
Чем выше забирались они в горы, тем прохладнее и зеленее становилось вокруг, и мадам Герарди, много страдавшая от пыльной летней жары у себя на родине, без устали выражала восхищение. Мрачное происшествие в Риве, несколько раз тенью промелькнувшее в воспоминаниях, вскоре было забыто, уступив место радости, до такой степени переполнявшей теперь мадам Герарди, что в Инсбруке она даже приобрела тирольскую шляпу с широкими полями – из тех, что известны нам по изображениям крестьянских восстаний под предводительством Андреаса Гофера, – и это подтолкнуло Бейля, прежде собиравшегося повернуть здесь обратно, продолжить путь далее вверх по долине Инна, через Швац и Куфштайн до самого Зальцбурга. В Зальцбурге они пробыли несколько дней и не отказали себе в удовольствии посетить знаменитые подземные галереи соляных шахт Халляйна, где один шахтер преподнес мадам Герарди в подарок хоть и неживую, зато усыпанную тысячами кристаллов веточку; и едва они вновь вынырнули на свет дня, солнечные лучи засверкали в кристаллах с неописуемым разнообразием – как сверкает порой, пишет Бейль, лишь хорошо освещенный во время бала парадный зал: брильянтами дам, ведомых кавалерами по кругу.
Длительный процесс кристаллизации, превративший сухую веточку в настоящее чудо, представился Бейлю, как разъясняет он сам, аллегорией зарождения и роста любви в соляных шахтах человеческих душ. Долго убеждал он мадам Герарди в том, что его сравнение удачно. Она же была не готова выйти из овладевшего ею в тот день состояния счастливого блаженства, дабы всесторонне исследовать вместе с Бейлем глубокий смысл этой, как она насмешливо заметила, вне всякого сомнения, изумительно прекрасной аллегории. Бейль увидел здесь проявление тех самых трудностей, с какими вновь и вновь сталкивался в своих поисках женщины, которая отвечала бы его внутреннему миру, и, как он отмечает, осознал, что никакие даже самые неординарные и решительные действия с его стороны не помогут убрать с дороги это препятствие. Так он открыл тему, которая будет занимать его как писателя годы и годы спустя. Вот он совершенно один году в 1826‐м – ему почти сорок – сидит на скамье, обнесенной невысокой оградой, в тени двух красивых деревьев в саду монастыря Minori Osservanti[8] высоко над озером Альбано и медленно выводит на песке тростью, которую теперь, как правило, носит с собой, инициалы былых возлюбленных, словно тайные руны собственной жизни. Инициалы означают Виржини Кюбли, Анджелу Пьетрагруа, Адель Ребюфель, Мелани Гильбер, Мину фон Грисгейм, Александрин Пети, Анжелин («que je n’ai jamais aimé») Берейтер, Метильду Дембовскую, а еще Клементину, Джулию и мадам Азур, чье имя он не может вспомнить. И точно так же, как не понимает он более имен этих далеких звезд, ныне ставших ему, как он пишет, чужими, не понимал он, когда писал свою книгу «О любви», почему всегда, когда он всерьез прилагал усилия, убеждая мадам Герарди поверить в любовь, ответ ее был неизменно печален, если не резок. Особенно сильно задетым чувствовал он себя в те отнюдь не редкие минуты, когда мадам Герарди, едва лишь он сам, смирившись, убеждал себя в справедливости основ ее философии, немедленно признавала определенную ценность и за иллюзией любви, вызванной к жизни кристаллизацией соли. Его приводило в ужас внезапное осознание собственной неполноценности и давящее ощущение неудачи. Осенью того года, когда состоялось их совместное путешествие в Альпы, был момент, и Бейль помнит его очень отчетливо, когда, выехав верхом к Рейнскому водопаду, они обсуждали в пути любовный[9] недуг художника Ольдофреди, о котором тогда много говорили в городе. Бейль, которого еще не покинула надежда на благосклонность мадам, обычно хорошо принимавшей его возвышенные речи, испытал настоящий ужас, когда она вдруг тихо, будто сама с собой, заговорила о божественном счастье, с которым ничто в этой жизни сравниться не может, и назвал Ольдофреди – имея в виду скорее себя, чем его, – жалким иностранцем. После этого он придержал коня и отстал от мадам Герарди, возможно и без того существовавшей лишь в его воображении, и три мили, что отделяли их от Болоньи, они проскакали, не перекинувшись более ни словом.
Главные свои романы Бейль сочинил между 1829 и 1842 годами, практически постоянно страдая от тех или иных проявлений сифилиса. Затрудненное глотание, вздутия под мышками и боли в мошонке, постепенно уменьшавшейся в размерах, давали о себе знать особенно сильно. Обстоятельный наблюдатель, каким он к тому времени стал, Бейль скрупулезнейшим образом вел дневник состояния своего здоровья и в конце концов заметил, что бессонница, головокружения, шум в ушах, мерцающий пульс и дрожь, временами настолько сильная, что едва позволяет ему справляться с ножом и вилкой, связаны не столько с болезнью, сколько с приемом высокотоксичных лекарств, которые он пил годами. Постепенный отказ от ртути и йодида калия способствовал заметному улучшению состояния, но тут он вдруг обнаружил, что исподволь начинает отказывать сердце. Все чаще и чаще Бейль теперь зашифровывал собственный возраст – эту забаву он знал давно – в разных математических выражениях, читавшихся в их острой зловещей абстрактности как послания смерти. Когда он писал это отнюдь не прозрачное числовое сообщение, от смерти его отделяли еще шесть лет напряженной работы. Вечером 22 марта 1842 года, когда воздух уже полнился предвестиями весны, апоплексический удар сразил его прямо на тротуаре улицы Нёв-де-Капусин. Его отнесли домой, в квартиру на нынешней улице Даниэль-Казанова, и там, в рассветные часы следующего дня он, не приходя в сознание, угас.
All’estero [10]
Тогда, в октябре 1980 года, я выехал из Англии, где в одном из графств под гнетом серых туч живу уже без малого двадцать пять лет, и отправился в Вену в надежде, что перемена места поможет мне пережить совсем уж неблагоприятный период в жизни. В Вене, однако, сразу же по приезде оказалось, что дни мои, не заполненные теперь привычной работой за письменным столом или в саду, растянулись необычайно, и я действительно не знаю, куда себя деть. Каждое утро я заставлял себя встать пораньше и бродил по Леопольдштадту, Внутреннему городу или Йозефштадту словно бы бесконечными и бесцельными маршрутами, ни один из которых, как я, к собственному удивлению, выяснил потом, изучая карту, ни разу не вышел за пределы определенной четко очерченной области, формой напоминающей серп или полумесяц, заостренные углы которого располагаются на Венедигер-Ау за станцией Пратерштерн и по соседству с больничными корпусами в Альзергрунде. Вздумай кто-нибудь вычертить маршруты, какими я тогда ходил, у него сложилось бы впечатление, будто некто пытался на заданной плоскости проводить одну за другой все новые поперечные линии и зигзаги с тем, чтобы, достигнув границ рассудка, воображения и воли, вынужденно поворачивать назад. Мои нередко многочасовые блуждания по городу упирались, таким образом, в четкую границу; при этом я совершенно не отдавал себе отчета, чтó именно в моем тогдашнем поведении представлялось более непостижимым – непрерывная ходьба или же невозможность пересечь невидимую, но, как я думаю теперь, вполне определенную границу. Я знаю только, что для меня тогда было просто невозможно воспользоваться общественным транспортом и выехать, например, 41-м трамваем в Пётцляйнсдорф или 58-м – в Шёнбрунн, чтобы, как я не раз поступал в прошлом, провести день в Пётцляйнсдорфском парке или среди деревьев в Доротеенвальде или Фазангартене. Зайти же в кабачок или в кафе почему-то особых проблем не составляло. Наоборот, стоило подкрепиться или передохнуть, как ко мне возвращалось временное ощущение нормальности: в обновленном, не чуждом некоторой уверенности состоянии я даже временами верил, будто один телефонный звонок может без промедления положить конец моей длящейся уже много дней немоте. Однако те трое или четверо, с кем мне в тогдашних своих обстоятельствах хотелось бы побеседовать, были в отъезде, и, сколько ни названивай, даже самыми длинными гудками их сюда было не перенести. Когда, находясь в чужом городе, безуспешно один за другим набираешь телефонные номера, возникает совершенно особенная пустота. Когда никто не снимает трубку, испытываешь разочарование, чреватое последствиями огромной важности, как если бы в этой игре в номера речь вправду шла о жизни и смерти. Что оставалось мне после того, как я засовывал обратно в карман мелочь, в очередной раз со звоном выпавшую из телефонного автомата, кроме как продолжать и дальше без всякого плана метаться по городу до позднего вечера. При этом мне зачастую казалось, скорее всего из-за чрезмерной усталости, будто я вижу впереди кого-то знакомого. В подобных галлюцинациях, а ничем иным это быть не могло, участвовали исключительно люди, о которых я не вспоминал уже много лет, то есть для меня в известной степени покойные. В том числе те, кого точно не было среди живых, к примеру я видел и Матильду Зеелос, и нашего однорукого деревенского писаря Фюргута. Однажды на Гонзагагассе мне почудилось, что я узнал осужденного на сожжение и изгнанного из родного города поэта Данте. Довольно продолжительное время он шел, возвышаясь над другими прохожими, но не замечаемый ими, в своей характерной шапочке, на некотором расстоянии впереди меня, но, когда я ускорил шаги, чтобы нагнать его, он свернул на Хайнрихгассе, а когда я добрался до угла, его уже нигде не было видно. После таких наваждений во мне нарастало неясное беспокойство, выражавшееся в тошноте и головокружении. Контуры образов, которые я хотел удержать, растворялись, а мысли рассыпáлись прежде, чем мне удавалось по-настоящему их понять. Временами, когда приходилось опираться о стену, а не то и искать спасения в подъезде, я опасался паралича или какой-нибудь болезни мозга и был в состоянии противодействовать этому, лишь совершенно изнуряя себя ходьбой до самого позднего вечера. За те примерно десять дней, проведенных в Вене, я ничего не посетил, нигде не побывал, кроме кафе и закусочных, ни единым словом не перемолвился ни с кем, кроме кельнеров и официанток. Только галкам в скверике перед ратушей, если не ошибаюсь, я кое-что рассказывал, да еще покушавшемуся вместе с ними на мой виноград белоголовому дрозду, которого про себя я прозвал Сенафогелем. Растущая склонность подолгу сидеть на скамейках и бесцельно блуждать по городу, избегать нормальных кафе и отдавать предпочтение, как оказалось, перекусу в забегаловках, а то и вовсе торопливому поеданию пищи прямо из обертки – все это сказывалось на моем внешнем виде, хоть я и не отдавал себе в этом отчета. Тот факт, что я по-прежнему жил в отеле, вступал во все более явное противоречие с уже заметными в моем облике приметами падения. В привезенном из Англии полиэтиленовом пакете я теперь повсюду таскал с собой множество ненужных вещей, причем моя с ними связь противилась осознанию и крепла день ото дня. Поздно вечером, возвращаясь с прогулок в отель и ожидая в холле лифта, я прижимал пакет скрещенными руками к груди и спиной чувствовал при этом долгий вопрошающий взгляд ночного портье. Я не решался теперь включать в номере телевизор и не стал бы с уверенностью утверждать, что мне вообще удалось бы прервать это затяжное падение, если бы однажды ночью, когда я, сидя на кровати, медленно раздевался, меня не ужаснул сам вид моих ботинок, изнутри расползшихся в лохмотья. Горло сдавило, в глазах потемнело – в тот день со мной уже случилось нечто подобное, когда после долгих блужданий по Леопольдштадту я через Фердинандштрассе и мост Шведенбрюкке вышел обратно в Первый район и оказался на площади Рупрехтсплац. Окна на втором этаже здания, где располагаются синагога и кошерный ресторан центра еврейской общины, были распахнуты – поскольку стоял на удивление прекрасный, будто из середины лета, осенний день, – и невидимые дети там, внутри, пели, как ни странно, на английском языке «Jingle Bells» и «Silent Night, Holy Night». Поющие дети – и вдруг эти драные и, как мне представилось, брошенные башмаки. Горы снега и башмаков – с этими словами в сознании я лег спать. Проснувшись наутро после глубокого сна без сновидений, ни разу не потревоженного даже проникавшим в окно гулом транспортного потока с Рингштрассе, я чувствовал себя так, словно в часы ночного отсутствия одолевал морские просторы. Прежде чем открыть глаза, я еще видел себя спускающимся по трапу большого парома и, едва ощутив под ногами твердую почву, решил отправиться вечерним поездом в Венецию, а оставшееся до отъезда время провести в Клостернойбурге в компании Эрнста Хербека.
Эрнст Хербек с двадцати лет страдает душевным расстройством. Впервые он попал в клинику в 1940 году. А до этого был подсобным рабочим на военном заводе. И вдруг почти полностью перестал есть и спать. По ночам он лежал без сна и считал про себя. Тело его ссохлось. Жизнь в семье, в особенности резкие суждения отца, разъедала, как он выражался, его нервы. Из-за этого он терял над собой власть, отшвыривал тарелки с едой, выливал суп под кровать. Порой состояние на время улучшалось. В октябре 1944 года его даже призвали на военную службу, но уже в марте 1945-го вновь отпустили. Через год после окончания войны дело дошло до четвертого, последнего, направления в клинику. Он тогда бродил ночами по улицам Вены, привлекал внимание своим поведением, морочил головы полицейским ложными сведениями. Осенью 1980 года, проведя в стенах психиатрического заведения в общей сложности 34 года, на протяжении которых он по большей части страдал от ничтожности собственных мыслей, а мир вокруг видел словно бы через тонкую сетку перед глазами, в качестве эксперимента он был из пациентов разжалован. Теперь Эрнст Хербек жил в городе, в доме для пенсионеров, и среди его обитателей не выделялся. Когда около половины десятого утра я добрался до этого дома, он уже ожидал меня, стоя на верхней ступеньке лестницы. Я помахал ему рукой еще с другой стороны улицы. Он тут же приветственно поднял вверх руку и, не опуская ее, пошел по ступеням вниз, мне навстречу. Одет он был в костюм из шерстяной ткани в мелкую клетку со значком «Перелетной птицы» на лацкане. На голове небольшая мягкая фетровая шляпа, которую, когда ему стало жарко, он снял и нес в руке – в точности так, как, бывало, мой дед летом во время прогулок.
Как я и предлагал, мы отправились на электричке в Альтенберг и проехали несколько километров вдоль Дуная. В вагоне мы были единственными пассажирами. За окном в речной пойме сменяли друг друга вербы, тополя, ольха и ясени, огороды, сады и садовые домики. Время от времени открывались виды на воду. Эрнст ни единым словом не препятствовал им проноситься мимо. Ветерок из открытого окна обдувал ему лоб. Веки были полуопущены, прикрывая большие глаза. Мне пришло в голову странное слово «отпуск». День отпуска, отпускная погода. Ехать в отпуск. Отпуск. Длиною в жизнь. В Альтенберге мы прошли немного назад по шоссе, а потом свернули направо на тенистую дорожку, ведущую вверх к средневековому замку Грайфенштайн, очень значительному, причем не только в моей фантазии, но и в реальности до сих пор живущих у подножья скал грайфенштайнцев. В первый раз я был в Грайфенштайне в конце шестидесятых годов и смотрел тогда с панорамной террасы кафе на сияющий поток дунайских вод и заливные луга – на них как раз опускались тогда ночные тени. А в тот ясный октябрьский день, когда чудесным видом, сидя рядом друг с другом, наслаждались мы с Эрнстом, голубая дымка витала над морем листвы внизу, поднимавшимся вверх к самым стенам замка. Волны воздуха пробегали по верхушкам деревьев, и отдельные оторвавшиеся листочки, поймав восходящий поток, взлетали высоко вверх и мало-помалу скрывались из виду. Временами Эрнст явно отсутствовал. По нескольку минут его десертная вилочка, замерев, торчала из пирожного. Марки, бросил он вдруг, раньше, мол, он собирал их, австрийские, швейцарские, аргентинские. Потом молча выкурил еще одну сигарету и, уже потушив ее, будто удивляясь всей своей прожитой жизни, повторил последнее слово – «аргентинские», вероятно казавшееся ему слишком уж экзотическим. Думаю, еще бы чуть-чуть и мы бы с ним оба в то утро научились летать – по крайней мере, лично я освоил бы навыки, необходимые для падения в пропасть. Но мы всегда упускаем самые благоприятные моменты. Остается добавить, что и вид с Грайфенштайна уже не тот. Прямо под замком построили гидроузел с плотиной. Русло реки выровняли, и нынешний вид едва ли как-то поможет человеческой памяти надолго его удержать.
Обратный путь мы проделали пешком. Для нас обоих он оказался чересчур долгим. Мы удрученно брели рядом под осенним солнцем. В Критцендорфе дома все никак не кончались. Жителей вообще не было видно. Все они сидели за обеденными столами и постукивали приборами о тарелки. Собака во дворе бросилась на выкрашенные зеленой краской металлические ворота, вне себя от ярости, будто с ума сошла. Большой черный ньюфаундленд, врожденная кротость которого, видимо, серьезно пострадала от жестокого обращения, длительного одиночества или слишком уж ясной погоды. В доме за штакетником ничто не пошевелилось. Никто не подошел к окну, ни одна занавеска не колыхнулась. Вновь и вновь зверюга атаковала решетку. Лишь изредка останавливалась и поднимала на нас взгляд, от которого мы, остолбенев, замирали на месте. Я даже пожертвовал во спасение души шиллинг, бросив его в жестяной почтовый ящик, прибитый к воротам. Шагая дальше, я ощущал во всем теле ледяной ужас. Эрнст еще раз остановился и обернулся к черной собаке, которая теперь неподвижно, молча стояла в полуденном свете. Может, надо было просто ее выпустить. И тогда она, вероятно, послушно бежала бы рядом с нами, а злой дух вышел бы из нее и отправился на поиски другого хозяина среди обитателей Критцендорфа или вселился бы во всех его обитателей сразу, и никто из них более не смог бы удержать ложку или вилку.
По Альбрехтштрассе мы, наконец, вошли в Клостернойбург. В северной его оконечности стоит заброшенное здание со стенами, сложенными из пустотелых блоков и гераклитовых плит. Окна на уровне земли заколочены досками. Стропильной фермы нет вообще. На месте крыши вверх торчат только ржавые железные штыри. Все в целом навело меня на мысль о совершенном здесь тяжком преступлении. Эрнст ускорил шаги и быстро миновал этот ужасный памятник, бросив на него лишь беглый взгляд. Через несколько домов в начальной школе пели дети. И красивее всего как раз те, кому не вполне удавалось следовать изгибам мелодии. Эрнст остановился, повернулся ко мне, будто мы оба зрители в театре, и с особым сценическим выражением произнес фразу, как мне показалось, когда-то давно выученную наизусть: «Звук так красиво разливается в воздухе и возвышает нам душу…» Года два назад я уже стоял перед этим школьным зданием. Тогда я вместе с Ольгой приехал в Клостернойбург навестить ее бабушку, которую поместили в здешний дом престарелых на Мартинсштрассе. На обратном пути мы вышли на Альбрехтштрассе, и Ольга не устояла перед искушением заглянуть в школу, куда ходила ребенком. В одном из классов – том самом, где в начале пятидесятых годов она сидела за партой, – спустя почти тридцать лет урок вела та же учительница, что и тогда, и в точности так же увещевала ребят не отвлекаться и не болтать. Однако в просторном вестибюле, в окружении нескольких закрытых дверей, которые в былые времена казались ей высокими, словно в церкви, Ольга, как она потом рассказала, безудержно разрыдалась. Во всяком случае, когда она вернулась на Альбрехтштрассе, где я ее ждал, она выглядела такой потрясенной, какой я прежде никогда ее не видел. Мы возвратились тогда в квартиру ее бабушки в Оттакринге, и Ольга, столкнувшаяся с непредвиденным вторжением прошлого, никак не могла успокоиться ни по дороге в Вену, ни весь вечер после.
Дом престарелых святого Мартина – длинное капитальное строение XVII или XVIII века. Бабушку Ольги, Анну Гольдштайнер, страдавшую той ужасной забывчивостью, которая быстро делает невозможными простейшие повседневные дела, поместили в общей спальне на пятом этаже, из окон которой, вдвинутых глубоко в стену и забранных решетками, открывался вид на кроны деревьев, обступивших довольно крутой склон с задней стороны заведения. Будто перед тобой море и волны. Суша, казалось, уже исчезла где-то за горизонтом. Гудит туманный горн. Все дальше и дальше в море уходит корабль. Из машинного отсека доносится ровный рокот турбин. Снаружи по коридору мимо бредут отдельные пассажиры, кое-кто с помощью персонала. Проходит вечность, пока они в своих растянутых во времени прогулках добираются от одной стороны дверного проема до другой. Будто стоишь, прислонившись к потоку времени. Паркетный пол двигался у меня под ногами. Тихие речи, шепот, шарканье, жалобы и молитвы наполняли пространство. Ольга сидела рядом с бабушкой, гладила ее по руке. Раздали манную кашу. Опять загудел туманный горн. Снаружи по зеленым волнам ландшафта мимо прошел еще один пароход. На капитанском мостике, широко расставив ноги, стоял матрос, ленты на бескозырке развевались, двумя цветными флажками вычерчивал он в воздухе сложные семафорные знаки. Ольга на прощание обняла бабушку, пообещала скоро снова прийти. Но не прошло и трех недель, как Анна Гольдштайнер, которая, к собственному удивлению, не могла уже вспомнить даже имена своих трех мужей, которых пережила, умерла от обыкновенной простуды. Иногда нужно совсем чуть-чуть. После того как нас известили о смерти Анны, у меня неделями не выходила из головы полупустая голубоватая пачка ишлевской соли, что стояла тогда под мойкой оттакрингской квартиры в муниципальном доме на Лоренц-Мандльгассе и никому теперь не понадобится.
Уставшие за время продолжительной прогулки, мы с Эрнстом выбрели с Альбрехтштрассе на городскую площадь, расположенную под уклоном. Довольно долго мы нерешительно стояли на тротуаре в ослепительном свете дня, пока, наконец, словно два фермера, не отважились пересечь поток адского движения, чуть не попав при этом под колеса грузовика со щебенкой. Добравшись до теневой стороны, мы нашли спасение в трактире. Темнота, объявшая нас, едва мы вошли, поначалу была до такой степени непроницаема для глаз, привыкших к яркому солнечному свету, что нам пришлось усесться за ближайший свободный столик. После временной слепоты зрение возвращалось постепенно и лишь до некоторой степени: из сумерек проступили очертания других посетителей, которые сидели, нависнув над столами, или, напротив, необычайно прямо, или откинувшись на спинки стульев, но все без исключения были здесь, как мне показалось, поодиночке, и общее пространство этого молчаливого схода пересекал только призрак официантки, словно бы передававший тайные послания и шепотом сказанные слова от одних посетителей другим или от посетителей тучному трактирщику. Эрнст не пожелал ничего есть, взял только одну из предложенных мною сигарет. С видимым уважением покрутил в руке пачку с надписями на английском. Глубоко, со знанием дела, затянулся. Сигарета, как написал он в одном из своих стихотворений, —
это монополия и ее следует выкурить. На том она и прогорит.Уже сделав первый глоток из кружки с пивом, он отставил ее и сказал, что прошлой ночью ему снились английские скауты. Все, что я, пользуясь случаем, рассказал ему про Англию, про графство на ее востоке, где живу, про широкие пшеничные поля, превращающиеся осенью в необозримые бурые пустоши, про реки, куда прилив нагоняет морские воды, про наводнения, которые происходят там регулярно, как в давние времена в Египте, когда на поля выплывают на лодках, – все это Эрнст слушал терпеливо, однако с полным отсутствием заинтересованности, как человек, которому давно и в мельчайших подробностях известно все, что ему рассказывают. Я попросил его написать что-нибудь в моем блокноте, и он без малейшего промедления шариковой ручкой, вынутой из кармана куртки, положив левую руку на раскрытую страницу, исполнил мою просьбу. Склонив голову набок, сильно оттянув назад кожу на лбу и опустив веки, он написал: [11]
Потом мы ушли. До его дома оставалось уже немного. Прощаясь, Эрнст подбросил вверх шляпу и на цыпочках, слегка наклонившись вперед, сделал разворот, чтобы в конце его снова поймать головой шляпу – детская забава и одновременно непростой трюк. Как и его утреннее приветствие, это навело меня на мысли о человеке, который долгое время был связан с цирком.
Поездка на поезде из Вены в Венецию почти не оставила следов в моей памяти. С час, наверное, смотрел я на проплывающие мимо более или менее густо заселенные юго-западные пригороды метрополии, пока успокоенный быстрой ездой, подействовавшей на меня подобно болеутоляющему средству после бесконечных пеших прогулок по Вене, не погрузился в сон. И во сне, когда снаружи все уже давно утонуло в темноте, я увидел пейзаж, который с тех пор не могу забыть. Нижняя часть явившейся мне картины была затянута надвигающейся ночью. По проселочной дороге женщина везла коляску к нескольким отдельно стоящим домам, на одном из которых, потрепанном с виду трактире, пониже фронтона большими буквами было написано имя Йозеф Йелинек. Над домами высились лесистые горы, их словно вырезанный ножницами зазубренный черный контур олицетворял сопротивление вечернему свету. А надо всем этим, сверкая, светясь, извергая пламя, рассыпая искры, вершина горы Шнееберг врывалась в последний свет неба, где плыли странные серо-розовые облачные образования, между которыми виднелись зимние планеты и лунный серп. Во сне у меня не было сомнений, что вулкан – это Шнееберг, а земля вокруг, над которой я вскоре вознесся сквозь сверкающие капли мелкого дождя, – Аргентина, бескрайняя, очень зеленая равнина с островками деревьев и множеством лошадей. Проснулся я от ощущения, будто поезд, долго и равномерно петлявший по долине, теперь вдруг спрыгнул с гор и рухнул вниз. Я рванул вниз окно. В лицо мне с треском ударили клочья тумана. Мы проезжали опасное место. Сине-черные каменные громады острыми клиньями едва не задевали поезд. Я высунулся наружу и тщетно старался разглядеть их вершины. Взгляду открывались темные, узкие, изъеденные трещинами долины; горные родники, водопады в клубах белой пыли были так близко в обступившей меня ночи, что дыхание их прохлады вызывало дрожь на лице. Фриули, пронеслось у меня в голове, при этом я, конечно, сразу подумал о разрушениях, произошедших в этих местах всего несколько месяцев назад. Рассветные сумерки мало-помалу вытаскивали на свет дня сдвинутые со своих мест массы горной породы, обломки скал, обрушившиеся постройки, каменные осыпи, небольшие призрачные палаточные поселения. Почти нигде в округе не горел свет. Приплывшие из альпийских долин низкие облака распростерлись над опустошенной землей и соединились в моем представлении с картиной Тьеполо, которую прежде мне случалось подолгу разглядывать. На ней изображен пораженный чумой город Эсте: с виду совершенно невредимый раскинулся он на равнине. Задний план образует горная цепь с дымящейся вершиной. Разлитый по картине свет изображен будто сквозь завесу пепла. Почти веришь: именно этот свет и выгнал людей из города в чистое поле, где они некоторое время бродили, покуда их не свалила выбравшаяся наружу из них самих моровая язва. На переднем плане картины, в центре, лежит умершая от чумы мать, все еще обнимая живого ребенка. А слева стоит на коленях в молитве за жителей города святая Текла, лицо ее обращено кверху, туда, где в воздухе носятся небесные рати, готовые, стоит только к ним обратиться, дать нам представление о том, чтó вершится над нашими головами. Святая Текла, молись за нас, дабы мы счастливо избежали всякой заразы, смерти без покаяния и были милостиво избавлены от всех напастей. Аминь.
Когда, позволив себя побрить, и довольно грубо, цирюльнику на венецианском вокзале Санта-Лючия, я вышел на площадь, влажность осеннего утра еще плотно стояла в воздухе между домами и над водами Канале-Гранде. Тяжело груженные, так что ватерлиния ушла под воду, мимо тянулись баржи. С рокотом они выныривали из тумана, вспахивали желеобразную зелень канала и опять пропадали в белых испарениях. Прямо и неподвижно стояли на корме рулевые. Положив руку на штурвал, они неотрывно смотрели вперед; каждый являл собой символ готовности к последней правде, подумал я тогда и еще некоторое время шел взволнованный тою значительностью, какую приписал морякам, от набережной обратно через широкую площадь, вверх по улице Рио-Терá-Листа-ди-Спанья и через канал Каннареджо. Тому, кто вступает во внутреннее пространство этого города, никогда не известно заранее, на что сейчас упадет его взгляд и чей взгляд будет направлен на него самого. Стоит кому-то выйти на сцену, как он тут же покидает ее через другой выход. Все экспозиции по-театральному, до непристойности кратки, но в то же время отмечены таинственностью, словно тебя вовлекают в заговор, не спрашивая, помимо твоей воли. Если войти вслед за кем-нибудь в безлюдный переулок, то достаточно лишь самую малость ускорить шаги, чтобы до смерти перепугать впереди идущего. И наоборот, легко и самому превратиться в преследуемого. Смятение и ледяной ужас то и дело сменяют друг друга. Вот почему я испытал облегчение, когда, почти час проблуждав между высоких домов Гетто, вновь увидел воды Канале-Гранде возле Сан-Маркуолы. Торопливо, как местный житель, спешащий по делу, забрался я в катер-вапоретто. Туман тем временем рассеивался. Неподалеку от меня, на одной из задних скамей, сидел – еще чуть-чуть, и можно было бы сказать, лежал – человек в потертой одежде из грубого зеленого сукна, в котором я сразу же опознал Людвига II Баварского. Он выглядел несколько старше, худее и весьма странно беседовал с очень низкорослой дамой на английском языке, подчеркнуто в нос, как принято в высших слоях общества; в остальном совпадало все: болезненная бледность лица, широко распахнутые детские глаза, вьющиеся волосы, гнилые зубы. Il re Lodovico[12], никаких сомнений. Вероятно, подумал я, прибыл по воде в этот город, città inquinata Venezia merda[13]. После того как мы сошли на берег, я увидел, как он в развевающемся плаще шел вниз по набережной Рива-дельи-Скьявони, постепенно уменьшаясь в размерах – не только из-за увеличения дистанции, но и потому, что, обращаясь к своей действительно крошечной спутнице, наклонялся все ниже. Я не пошел за ними, вместо этого устроился в баре на набережной, выпил утренний кофе, изучил «Гадзеттино», записал себе кое-что для трактата о короле Людвиге в Венеции и полистал «Дневники путешествия по Италии» Франца Грильпарцера, относящиеся к 1819 году. Я купил эту книгу еще в Вене, поскольку в пути нередко чувствую себя как Грильпарцер. Подобно ему, не нахожу ни в чем удовольствия, испытываю горькое разочарование от любых достопримечательностей, и мне часто кажется, что было бы гораздо лучше остаться дома среди географических карт и всяких дорожных расписаний. Даже Дворцу дожей Грильпарцер отдает лишь очень условную дань уважения. При всей искусной изысканности зубцов и арок силуэт Дворца, как он пишет, неуклюж и напоминает крокодила. Как ему пришло в голову такое сравнение, он не знает. Таинственно, несокрушимо и твердо должно быть то, что заключается внутри, пишет он и называет Дворец дожей каменной загадкой. Сущность этой загадки, по-видимому, составляет страх, ибо в Венеции Грильпарцера ни на минуту не покидает ощущение тревоги. Он, правовед, непрестанно размышляет об этом Дворце, где размещались органы правосудия, а в самых глубоких внутренних норах, как он выражается, высиживает птенцов невидимый принцип. Усопшие гонители и гонимые, убийцы и убиенные встают перед ним с сокрытыми лицами. Дрожь охватывает бедного сверхчувствительного чиновника.
Одним из таких гонимых, не поладивших с венецианским правосудием, был и Джакомо Казанова. В напечатанной впервые в Праге в 1788 году книге «Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise qu’on appelle Les Plombs écrite à Dux en Bohème l’année 1787» он дает весьма широкое представление об изобретательности тогдашней уголовной юстиции. Например, Казанова описывает аппарат для удушения. Жертву сажали спиной к стене, на которой закреплена скоба в форме подковы, куда голову приговоренного просовывали таким образом, что скоба охватывала половину шеи. Вокруг горла оборачивали шелковую ленту и наматывали на лебедку, которую подручный медленно вращал и потом долго удерживал, пока не замрут последние судороги. Этот аппарат находится в тюрьме под свинцовой крышей Дворца дожей. Казанове шел тридцатый год, когда он был туда помещен. Утром 26 июля 1755 года в его комнату вошел вооруженный мессер-гранде. Казанове было приказано незамедлительно подняться, передать из рук в руки все, что было у него из написанного им самим или кем-либо иным, одеться и следовать за пришедшим. Слово «трибунал», пишет он, полностью его парализовало, сохранив ему лишь ту степень телесной свободы, что необходима для повиновения. Механически он приводит себя в порядок, надевает лучшую сорочку и только что сшитое новое платье, будто собирается на свадьбу. Чуть позже он уже в чердачном пространстве Дворца, шесть маховых саженей в длину, две – в ширину. Сама камера, в которую его поместили, имеет в длину и ширину по четыре метра. Потолок так низок, что стоять он не может, и мебели нет никакой. Из стены торчит доска шириной в один фут, стол и кровать одновременно, туда он и кладет свой красивый шелковый плащ, столь неудачно опробованное новое платье и шляпу, украшенную испанским кружевом и белым пером цапли. В камере до ужаса жарко. Сквозь прутья решетки Казанова видит, как по чердаку шныряют крысы размером с зайца. Он подходит к окошку, за которым виден клочок неба. Здесь он без движения пребывает целых восемь часов. Никогда в жизни, сообщает он, не ощущал он во рту такой горечи, как тогда. Уныние более не желает его отпускать. Самые жаркие дни в году. Пот течет с него ручьями. Две недели у него нет стула. Когда окаменевший кал, наконец, выходит, ему кажется, он умрет от боли. Казанова размышляет о пределах человеческого рассудка. И приходит к выводу, что хотя люди сходят с ума нечасто, как правило, их отделяет от сумасшествия не так уж и много. Достаточно ничтожного сдвига, и ничто уже не останется прежним. В своих размышлениях Казанова сравнивает ясный рассудок со стеклом, которое остается целым, если его не разбивать. Но как же просто его разбить! Достаточно одного неверного движения. И тут он принимает решение взять себя в руки и научиться по возможности осознавать свое положение. Скоро становится ясно: в этой тюрьме сидят исключительно люди уважаемые, которых по причинам, известным, правда, только высшей власти и самим взятым под стражу не сообщаемым, следует изолировать от общества. Выступая против преступника, трибунал заранее убежден, что это преступник. В конце концов, правила, согласно которым действует трибунал, поддерживаются сенаторами, избираемыми из числа самых талантливых и добродетельных граждан. Казанова понимает, ему придется смириться перед тем, что реальный вес здесь имеет правовая система Республики, а не его личное правосознание. И фантазии о мести, какие он лелеял в начале своего заключения – он поднимет народное восстание, возглавит его и сметет прочь правительство и аристократию, – в реальности совершенно неисполнимы. Вскоре он уже готов простить причиненную ему несправедливость, лишь бы его, наконец, освободили. К тому же выясняется, что до определенной степени с властью можно прийти к взаимопониманию. На свой страх и риск он устраивает, чтобы ему в камеру принесли кой-какие необходимые вещи – книги, продукты. В начале ноября в Лиссабоне происходит сильное землетрясение, которое порождает волну, дошедшую на севере до Голландии. Казанова видит, как тяжелая балка чердачного перекрытия над его окошком повернулась и опять [14]встала на место. Отныне он оставляет всякую надежду выйти из заключения на свободу и гадает даже, не предстоит ли ему сидеть здесь до конца жизни. Все его мысли направлены на подготовку побега, которая осуществляется с необходимой серьезностью и занимает целый год. Поскольку теперь он может ежедневно некоторое время прогуливаться туда-сюда по чердаку, где свален всякий хлам, ему удается раздобыть кое-что полезное для реализации замысла. При этом он натыкается на стопку старых тетрадей с заметками об уголовных процессах прошлого века. Помимо обвинений по адресу духовников, которые неподобающим образом нарушают тайну исповеди, там в подробностях описаны практики школьных учителей, уличенных в педерастии, и множество других, самых причудливых, так сказать, трансгрессий, изображенных для услаждения ученых юристов. Особенно часто, как узнает Казанова из старых записей, встает вопрос о совращении девственниц в сиротских домах города: исключения не составлял даже тот, воспитанницы коего изо дня в день возносили свои голоса к представляющей три кардинальские добродетели потолочной росписи в церкви Посещения Девы Марии неподалеку от Пьомби на набережной Рива-дельи-Скьявони, которую Тьеполо завершил вскоре после взятия Казановы под стражу. Вне всякого сомнения, судебное производство в те времена – да и позднее тут немного что изменилось – занималось в основном регулированием любовного инстинкта, и среди изрядного количества вяло грезящих под свинцовыми крышами арестантов нашлось бы немало ненасытных подобного рода, чья жажда раз за разом приводила их в ту же точку.
К осени второго года заключения приготовления Казановы продвинулись столь далеко, что побег мог быть осуществлен. Время удобное, поскольку инквизиторы на днях отправляются на terra firma, на материк, а Лоренцо, надзиратель, ввиду отсутствия начальства со знанием дела предается пьянству. Чтобы выбрать точный день и час, Казанова обращается к поэме Лудовико Ариосто «Orlando Furioso»[15], составляя запрос по системе наподобие sortes virgilianae[16]. Сначала он записывает вопрос, на который ищет ответа, затем из чисел, исчисленных по словам, составляет перевернутую пирамиду, а потом, трижды совершив операцию по вычитанию числа 9 из каждой пары цифр, получает первую строку седьмой строфы девятой песни «Orlando Furioso», которая звучит так: «Tra il fin d’ottobre e il capo di novembre»[17]. Столь точное указание для Казановы – тот самый знак, которого он ждал, ибо, по его представлениям, неопределенность огромного множества условий неподвластна даже самому ясному разуму, однако Закон действует и ему следует подчиняться. Описанный опыт Казановы подтолкнул и меня к произвольной, на первый взгляд, попытке измерить неведомое сходной игрой слов и цифр; я обратился к собственному календарю и, к своему удивлению, вернее ужасу, обнаружил, что тот день 1980 года, когда я читал заметки Грильпарцера, сидя в баре на Рива-дельи-Скьявони между отелем «Даниэли» и церковью Посещения Девы Марии, а значит, совсем недалеко от Дворца дожей, пришелся на последний день октября, иными словами, был годовщиной дня или, скорее, ночи, когда
Казанова со словами «E quindi uscimmo a rimirar le stelle» на устах взломал свинцовый панцирь крокодила. Сам я в тот вечер 31 октября, сидя в баре на набережной, куда вернулся и после ужина, вступил в разговор с венецианцем по имени Малакьо, изучавшим астрофизику в Кембридже и, как выяснилось вскоре, смотревшим на все, а не только на звезды, с огромного расстояния. Около полуночи мы с ним отправились на его лодке, причаленной возле мола, вверх по драконьему хвосту Канале-Гранде мимо железнодорожной станции и искусственного острова Тронкетто на большую воду, туда, откуда виден растянувшийся на несколько миль по другой стороне освещенный фронт нефтеперерабатывающих заводов Местре. Малакьо выключил мотор. Лодка качалась, поднимаясь и опускаясь вместе с волнами, и длилось это, как мне показалось, довольно долго. Перед нами догорал блеск этого мира, на который мы не могли насмотреться, словно на Град небесный. Чудо жизни, возникшей из углерода, слышал я слова Малакьо, зарождается в пламени. Вновь заработал мотор, нос лодки поднялся из воды, по широкой дуге мы вошли в Канале-делла-Джудекка. Молча мой капитан указал на запад, на [18]Inceneritore Comunale на безымянном джудеккском острове. Мертвая тишина бетонных сооружений под белым флагом дыма. На мой вопрос, продолжается ли сожжение мусора и ночью, Малакьо ответил: [19]Si, di continuo. Brucia continuamente. Сжигают без остановки. В поле зрения возникла мельница Стакки – из тех, что построены в XIX веке из миллионов кирпичей; слепыми окнами смотрит она через воды Джудекки на морской порт. Здание до того огромно, что Дворец дожей поместился бы в нем несколько раз, и невольно возникает вопрос, действительно ли только зерно здесь перемалывают. Как раз когда мы проплывали мимо высящегося во тьме фасада, из-за облаков вышла луна, и в ее сиянии высветилась размещенная под левым фронтоном золотая мозаика, изображающая жницу с пучком спелых колосьев, – образ в высшей степени странный среди камней и вод здешнего ландшафта. Малакьо сказал, что в последнее время много думал о Воскресении и спрашивал себя о смысле утверждения, будто однажды кости наши и прах будут перенесены ангелами пред очи Иезекииля. Ответа он не нашел, но в реальности ему хватило вопроса. Мельница уплыла в темноту, а перед нами вынырнули башня Сан-Джорджо и купол собора Санта-Мария делла Салюте. Малакьо направил лодку назад, к моему отелю. Больше сказать было нечего. Лодка причалила. Мы подали друг другу руки. И вот я уже на берегу. Волны плещут о камни, обросшие лохматым мхом. Отплывая, лодка заложила вираж. Малакьо еще раз помахал мне рукой и крикнул: «Ci vediamo a Gerusalemme». И отплыв еще дальше, уже громче повторил: «На будущий год в Иерусалиме!» Я пошел через площадь к отелю. Вокруг ни движения. Все лежало в своих постелях. Даже ночной портье покинул свой пост и, оставив открытой дверь, отдыхал в каморке позади швейцарской на странном узком ложе с высокими ножками, будто в выставленном для прощания гробу. На экране телевизора подрагивала тестовая картинка. Только машины поняли, что спать больше нельзя, думал я, поднимаясь по лестнице в свой номер, где и меня вскоре одолела усталость. [20]
В этом городе просыпаешься по-другому, совсем не так, как обычно. День наступает тихо, пронзаемый лишь отдельными криками, звуком поднимаемых металлических жалюзи, хлопаньем голубиных крыльев. Как часто, думал я, совсем иначе, чем сейчас, лежал я ранним утром в отеле в Вене, во Франкфурте или Брюсселе и, скрестив руки под головой, внимал не тишине, как здесь, но с неусыпным ужасом прислушивался к грохочущему прибою уличного движения, который и раньше на протяжении многих часов обрушивался на меня. Вот, значит, каков он, неизменно думал я в такие мгновения, новый океан. Беспрестанно, сильными толчками по всему городу прокатываются волны, делаясь все громче и громче, растекаясь все дальше и дальше, и в своеобразном неистовстве достигают вершин уровня шума, опрокидываются, бегут дальше уже по инерции, бурунами, по асфальту или брусчатке, а в пробках у светофоров вызревают тем временем новые волны шума. С годами я пришел к заключению, что ныне именно из этого грохота и происходит та жизнь, которая будет после нас и постепенно направит нас к гибели, так же как мы постепенно вели к гибели то, что было задолго до нас. И потому совершенно невероятной, словно грозящей в любую минуту лопнуть, казалась мне тишина над Венецией в это раннее утро Дня Всех Святых, когда белый воздух, проникая в мою комнату через полураскрытые окна, окутывал все, и я лежал в море тумана. Даже селение В., где прошли первые девять лет моей жизни, в День Всех Святых и следующий за ним День поминовения усопших всегда бывало окутано очень густым туманом. А жители его, все без исключения, облачившись в черное платье, шли к могилам, которые накануне привели в порядок – выпололи летние растения и сорняки, вычистили граблями дорожки и подмешали в землю сажу. Ничто в детстве не казалось мне столь же исполненным смысла, как эти два дня памяти о страданиях святых мучеников и молитв о страждущих в чистилище душах, когда вокруг в тумане бродили по кладбищу темные, странно склоненные силуэты жителей селения, будто именно им предназначались здешние квартиры. В особенное волнение меня ежегодно приводило поедание поминальных хлебцев, которые Майрбек выпекал специально к этому дню, в количестве не меньшем и не большем, чем по одному на каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка. Хлебцы были из сдобного теста и настолько малы, что легко помещались в кулаке. Укладывали их рядами по четыре штуки. И обсыпали мукой. Помню, однажды мука, оставшаяся у меня на пальцах после того, как я съел такой хлебец, представилась мне своего рода откровением, и вечером того дня я долго еще рылся деревянной ложкой в мучном ларе, стоявшем в спальне бабушки и дедушки, в надежде раскопать скрытую там, как я думал, тайну.
Занятый своими заметками, а прежде всего предаваясь собственным мыслям, кругами то расширявшимся, то сужавшимся вновь, и временами оказываясь в объятиях совершеннейшей пустоты, в тот день, 1 ноября 1980 года, я так ни разу и не вышел из комнаты. Мне казалось тогда, будто лишить себя жизни и вправду можно посредством одних только раздумий и размышлений. Хотя я закрыл окна и помещение слегка прогрелось, мои руки и ноги по причине полной неподвижности все сильнее немели и леденели – до такой степени, что, когда вызванный мною кельнер принес в номер бутерброды и красное вино, сам я являл собой нечто среднее между уже погребенным и выставленным для прощания усопшим, который, пусть молча, но способен еще испытывать благодарность за поднесенные возлияния, будучи сам, однако, не в состоянии уже принять ни капли. Я представлял себе, каково было бы, если бы по серым водам лагуны меня повезли на остров-кладбище, в Мурано, или еще дальше, на острова Сант-Эразмо или Сан-Франческо-дель-Дезерто в топях Святой Екатерины. С такими мыслями я погрузился в неглубокий сон и увидел, как поднимается туман и расширяется зеленое пространство лагуны, залитое майским солнцем, а острова, будто шапки травы, выныривают из безмятежности водных просторов. Я видел остров-больницу Ла-Грация с круглым сооружением, из окон которого во все стороны выглядывают и машут руками тысячи сумасшедших – будто плывут мимо на большом корабле. Святой Франциск лежал лицом вниз, покачиваясь в камышовой заводи, а по топям шагала святая Екатерина, держа в руке небольшую модель колеса, на котором ее замучили. Закрепленное на палочке, оно с жужжанием вращалось на ветру. Фиолетовые сумерки сгущались над лагуной; когда я проснулся, меня окружала темнота. Я спросил себя, что имел в виду Малакьо, когда сказал: «Ci vediamo a Gerusalemme», попытался – безуспешно – вспомнить его лицо и глаза, разволновался, подумал, не навестить ли мне вновь бар на набережной, но чем больше размышлял, тем меньше был способен сдвинуться с места. Вторая ночь в Венеции миновала, прошел День поминовения усопших, прошла и третья ночь, и в понедельник утром я в странном состоянии невесомости снова пришел в себя. Горячая ванна, вчерашние бутерброды, красное вино и газета, которую по моей просьбе принесли в номер, настолько привели меня в чувство, что я сумел собрать сумку и продолжить путь.
В вокзальном буфете стоял поистине адский гвалт. Подобно клочку твердой суши высился он посреди волнующегося, будто поле спелых колосьев на ветру, скопища людей – одни волнами вливались в двери, другие изливались оттуда, третьи прибоем прокатывались возле буфета, четвертые устремлялись дальше, к сидящим поодаль на возвышении кассиршам. Если, как в моем случае, испытываешь потребность в билете, следовало сперва, крича изо всех сил, донести свою нужду до одной из сидевших наверху на троне дам – облаченных только в халатики обладательниц курчавых волос и потупленных взоров; с полнейшим равнодушием они парили над головами просителей и произвольно, как мне казалось, выхватывали то одно, то другое из путаных пожеланий настойчивых, срывающихся голосов и при этом громко, тоном чуждой всяких сомнений убежденности повторяли просьбу поверх нестерпимого шума, после чего называли цену требуемого, в точности как если бы здесь, в этом зале, оглашался окончательный приговор третейского судьи, и, слегка наклонившись вперед, милостиво и одновременно с легким презрением вручали кому-нибудь бумажку и мелочь. Только став обладателем билета, ощущавшегося уже как жизненная необходимость, можно было выбираться из толпы и пробиваться в середину кафе, где за круглым прилавком высились мужчины, работники этого невероятного гастрономического предприятия, которые в полном презрении к смерти и, противостоя, иначе не скажешь, напирающему со всех сторон народу, исполняли свою работу – с абсолютной невозмутимостью на фоне всеобщей паники, наводившей на мысли о растяжимости времени. Малоподвижные официанты в белых крахмальных льняных куртках, как и их сестры, матери и дочери наверху, за кассовыми аппаратами, походили на своеобразное сообщество высших существ, которые по какой-то неясной системе вершили здесь суд над племенем, одержимым эндемической алчностью, причем такое впечатление лишь усиливалось оттого, что этим исполненным достоинства мужчинам в белых одеждах, находившимся во внутреннем круге, очевидно на возвышении, буфетная стойка доставала приблизительно до бедра, тогда как стоящим снаружи она доходила до плеч, а то и до подбородка. Персонал, в остальном весьма сдержанный, шваркал стаканы, блюдца и пепельницы на мраморную стойку с такой неистовой силой, что можно было подумать, будто они намеренно стараются подогнать все на грань падения и раскола. Мне подали капучино, и на мгновение мне почудилось, будто я одержал самую большую победу в жизни, получил знак отличия. Облегченно вздохнув, я бросил взгляд на круг стойки и тут же понял свою ошибку, увидев, как мне представилось, одни лишь отрубленные головы. Если бы кто-нибудь из крахмальных официантов легким движением руки смахнул эти отрезанные головы, не исключая моей, с гладкой мраморной поверхности и они упали в ров живодера, меня бы это совершенно не удивило, напротив, в тусклом свете показалось бы совершенно справедливым, поскольку головы ясно и недвусмысленно обнаруживали полное единство в том, чтобы напоследок, можно и так сказать, что-нибудь в себя опрокинуть или запихнуть. Во власти подобного рода недобрых наблюдений и, признаться, весьма путаных идей мне вдруг почудилось, будто в кругу этих привидений, поедающих утренние пайки и занятых исключительно собой, я случайно наткнулся на чей-то взгляд, и действительно, я обнаружил две пары направленных на меня глаз. Обладатели глаз стояли напротив, облокотившись на стойку. Один подпирал подбородок правой рукой, другой – левой. Словно тень облака, упавшая на поле, меня накрыло опасение, что двое молодых людей, которые – это вовсе не плод моего воображения – смотрели на меня сейчас через стойку, не раз уже с того момента, как я прибыл в Венецию, попадались мне на пути: и в баре на набережной Рива-дельи-Скьявони, где я встретил Малакьо, среди посетителей они были тоже. Стрелка часов приблизилась к половине одиннадцатого. Я допил капучино и, время от времени поглядывая назад через плечо, вышел на платформу, а там, как и собирался, сел в миланский поезд, чтобы добраться до Вероны.
В Вероне я снял комнату в «Золотой голубке» и тотчас же, по обыкновению, отправился в Сад Джусти. Там я провел послеполуденные часы, лежа на каменной скамье под кедром. Слушал, как ветерок пробегает сквозь крону, то в одну, то в другую сторону, слушал тихий шорох, который производит садовник, ровняя гравийные дорожки между невысокими изгородями из самшита, чей мягкий аромат ощущался в воздухе даже сейчас, осенью. Давно уже не было мне так хорошо. Наконец я поднялся. Выходя из парка, некоторое время наблюдал за парой белых голубей – несколько раз кряду они, слегка хлопая крыльями, круто взмывали над верхушками деревьев, зависали в синей небесной выси и, кувырнувшись вперед, с воркующим звуком, какой едва ли способно издавать горло, в парящем полете скользили вниз широкими полукружьями вокруг красавцев-кипарисов, иные из которых, возможно, стояли здесь еще двести лет назад. Вечная зелень кипарисов напомнила мне о тисах во дворах церквей английского графства, где я живу. Тисы растут медленнее, чем кипарисы. В одном дюйме тисовой древесины нередко насчитывают более сотни годичных колец, и, как говорят, некоторые из этих деревьев изрядно старше тысячи лет, а то и вообще позабыли о смерти. Я вернулся к входу и в фонтанчике, устроенном там в поросшей плющом парковой стене, вымыл, как и по пути сюда, лицо и руки, бросил последний взгляд на парк и, повернувшись к выходу, попрощался с привратницей, кивнувшей из темной будки. Через Понте-Нуово по улицам Ницца и Стелла спустился к площади Бра. Едва я вступил на Арена-ди-Верона, возникло ощущение, будто я впутался в какую-то темную историю. Амфитеатр был безлюден, если не считать группы запоздалых экскурсантов, которым их чичероне, чей возраст определенно приближался к восьмидесяти годам, а то и превосходил это число, высоким надтреснутым старческим голосом описывал особенности сооружения. Я взобрался на самые верхние ряды и оттуда смотрел вниз на группу, казавшуюся теперь очень маленькой. На старике, рост которого едва ли сильно превышал четыре фута, было надето не по размеру большое полупальто – он шел сгорбившись, сильно наклонившись вперед, и полы спереди доставали до земли. На редкость отчетливо – яснее, наверное, чем люди вокруг него, – я услышал, как он говорит, что в этом амфитеатре grazie a un’acustica perfetta… слышно l’assolo più impalpabile di un violino, la mezza voce più eterea di un soprano, il gemito più intimo di una Mimi morente sulla scena. Туристов, как мне показалось, не слишком впечатляли восторги их согбенного экскурсовода по поводу нюансов оперы и архитектуры, а он, двигаясь уже по направлению к выходу, прибавлял то одну, то другую прелестную подробность, каждый раз останавливаясь, оборачиваясь назад и поднимая правый указательный палец навстречу группе, которая вслед за ним тоже останавливалась, – будто крошечный школьный учитель беседовал с учениками, переросшими его на целую голову. Почти горизонтально падал на меня теперь вечерний свет над краями арены, и долго еще после того, как старик и его слушатели покинули амфитеатр, я сидел там в полном одиночестве, окруженный лишь розоватым мерцанием мрамора, по крайней мере мне так казалось, ведь только по прошествии некоторого времени я заметил две фигуры, устроившиеся на камнях в глубокой тени по другую сторону арены. Сомнений быть не могло: снова те два молодых человека, чьи взгляды были нацелены на меня ранним утром на вокзале в Венеции. Подобно двум стражам, они неподвижно сидели на своих местах, пока свет полностью не покинул арену. Тогда они оба встали и, как мне показалось, поклонились друг другу, прежде чем спуститься вниз и исчезнуть в черноте выхода. А я был не в состоянии тронуться с места, столь многозначительными представились мне эти, скорее всего, совершенно случайные встречи. Я уже представлял себе, как сижу здесь всю ночь, парализованный страхом и холодом. Пришлось мобилизовать все здравомыслие, чтобы просто встать и двинуться к выходу. Я одолел почти полпути, когда с невероятной навязчивостью меня захватила картина, будто, со свистом разрезая серое пространство, летит стрела, которая вот-вот пробьет мне левую лопатку и с особенным чавкающим звуком застрянет в сердце. [21]
В последующие дни я был занят исключительно изучением творчества Пизанелло, из-за которого, собственно, и решился съездить в Верону. Еще много лет назад его картины пробудили во мне стремление научиться отказываться в чувственном восприятии от всего, кроме созерцания. В Пизанелло меня привлекает не только невероятно высокоразвитый для того времени реализм, но и совершенно не совместимый, по большому счету, с реалистической манерой письма уровень, на который ему удается вознести свое искусство, так что абсолютно все на его картинах: главные персонажи, статисты, птицы в небесах, зеленый взволнованный лес и каждый отдельный листочек – обретают ничем не ограниченное право на существование. Этот давний мой интерес к художнику Пизанелло теперь вновь привел меня в церковь Святой Анастасии, где над входом в капеллу Пеллегрини я мог увидеть фреску, которую художник закончил около 1435 года. Капелла Пеллегрини в левом боковом приделе церкви сегодня как таковая уже не существует. Входная арка закрыта дощатой, грубо закрашенной коричневой краской перегородкой с дверью, за которой теперь комната отдыха, а может быть, даже квартирка причетницы. Во всяком случае, здешняя причетница, печальная, почти истаявшая от долгих лет молчания и одиночества женщина, вскоре после четырех часов отперла тяжелую, обитую железом дверь главного входа, тенью проскользнула по церковному нефу передо мной, единственным посетителем, и, не сказав ни слова, скрылась за перегородкой. Пока я разглядывал фреску, она не раз с регулярностью, наводящей на мысль о вечном круговороте, вновь появлялась оттуда, отступала на некоторое расстояние в темноту, чтобы вскоре вернуться на круговой маршрут и опять войти в свой закуток. Дневной свет едва проникает в боковой придел церкви Святой Анастасии. Даже в самые светлые послеполуденные часы здесь царит глубокий сумрак. И живописное творение Пизанелло над аркой бывшей капеллы кажется тенью. Бросая в жестяной ящик монеты по тысяче лир, можно ее осветить – на время, которое кажется то слишком долгим, то слишком коротким. Тогда ясно виден святой Георгий, он прощается с principessa[22], намереваясь выйти против дракона. На левой половине фрески сохранилось лишь выцветшее изображение чудовища с двумя еще бескрылыми юными отпрысками. Вокруг разбросаны кости и черепа, останки людей и животных, принесенных в жертву ради умиротворения дракона. Пустота, в которую проваливается видимый фрагмент, по-прежнему передает ощущение ужаса, переполнявшего тогда, по преданию, души обитателей палестинского города Лидды. Правая часть картины, второй ее композиционный центр, сохранилась почти полностью. Местность, по виду, скорее, северная, поднимается, как вынуждает нас констатировать способ изображения, к голубым небесам. В даль на всей картине указывает только корабль с надутыми парусами. Все остальное – здесь и сейчас: неровная местность, вспаханные поля, живые изгороди и холмы, город с крышами, башнями, зубцами и виселица; на ней болтаются повешенные, оживляя всю сцену – излюбленный прием того времени. Кусты, растения, лиственные орнаменты выписаны очень тщательно – с любовью, – как и животные, которым Пизанелло всегда уделял самое пристальное внимание: летящий в глубь страны аист, собаки, баран и лошади семерых всадников, среди которых есть калмыцкий лучник с выражением болезненного напряжения на лице. В центре картины – принцесса в меховом одеянии и святой Георгий, серебро на его оружии облупилось, но блеск золотистых волос по-прежнему обрамляет лицо. Остается лишь удивляться, как Пизанелло догадался оттенить полный тоски мужской взгляд рыцаря, направленный туда, где ему предстоит тяжелая кровавая работа, женским взглядом, полным решимости, выразившейся, однако, лишь в чуть заметно опущенном краешке нижнего века. На третий день пребывания в Вероне меня занесло поужинать в пиццерию на улице Рома. Не знаю, каким именно образом я выбираю в чужих городах кафе, куда захожу. С одной стороны, я слишком разборчив и иногда часами брожу по улицам, прежде чем обретаю способность принять решение; с другой стороны, в конце концов я просто наобум куда-нибудь заворачиваю и там, чаще всего в унылой обстановке с тягостным ощущением неловкости, поглощаю еду, которая мне не по вкусу. Так было и в тот вечер, 5 ноября. Ведь если бы я хоть в малейшей мере руководствовался рассудком, я определенно не переступил бы порог заведения, один внешний вид которого уже наводил на мысль о дурной репутации. Но нет, и вот я сижу в кресле из пластика под розовый мрамор за шатким столом в искусственном гроте, обвешанном рыболовными сетями. Пол и стены выдержаны в омерзительных оттенках морской волны, уничтожающих во мне всякую надежду когда-нибудь снова увидеть землю. Навязчивое ощущение, что тебя со всех сторон окружает вода, усиливает морской пейзаж в бронзовой раме, висящий почти под потолком напротив меня. Изображен, как принято на морских пейзажах, корабль; замерший на самом гребне бирюзово-зеленой волны средь шапок белоснежной пены, он как раз накренился вперед и вот-вот рухнет в раскрывающуюся под его носом зияющую пропасть. Миг непосредственно перед катастрофой. Все сильнее меня охватывало ощущение недомогания. Пришлось даже отодвинуть в сторону тарелку с пиццей, оставив нетронутой почти половину, и схватиться руками за край стола, как хватается за поручни страдающий морской болезнью. Я чувствовал, что лоб похолодел от липкого ужаса, но был не в силах позвать официанта и попросить счет. Вместо этого, только чтобы перед глазами вновь возникла реальность, я вытащил из кармана куртки газету, которую купил под вечер, – это была издаваемая в Венеции «Гадзеттино», – и кое-как развернул ее на столе. Почти сразу мой взгляд остановился на редакционной статье, где сообщалось, что вчера вечером, 4 ноября, они получили написанное странным руническим шрифтом письмо, в котором никому прежде не известная группа под названием
брала на себя ответственность за целый ряд убийств, случившихся в Вероне и других городах Северной Италии начиная с 1977 года. Статья напоминала читателям об этих нераскрытых преступлениях. В конце августа 1977 года в веронском госпитале скончался цыган Гуэррино Спинелли – от тяжелых ожогов, полученных им в результате того, что неизвестные подожгли старый «альфа-ромео», в котором он, как обычно, ночевал на городской окраине. Через год с небольшим в Падуе был найден мертвым официант Лучано Стефанато, с двумя кухонными ножами длиной по двадцать пять сантиметров в затылке, а еще год спустя в Венеции тридцатью девятью ударами ножа был убит двадцатидвухлетний героиновый наркоман Клаудио Коста. Сейчас поздняя осень 1980 года. Официант приносит мне счет. Я разворачиваю его. Буквы и цифры плывут перед глазами. 5 ноября 1980 года. Улица Рома. Пиццерия «Верона». Di Cadavero Carlo e Patierno Vittorio. Патьерно и Кадаверо. [23]
Звонит телефон. Официант вытирает бокал и поднимает его к свету. Мне уже кажется, что звонки никогда не прекратятся, и тут он снимает трубку. Зажав трубку между плечом и склоненной набок головой, он ходит за стойкой туда-сюда, насколько позволяет длина провода. Только когда говорит, он останавливается и возводит глаза к потолку. Нет, говорит он, Витторио нет. Он на охоте. Ну да, конечно, это он, Карло. Кто же еще? Кто должен тут быть, если не он? Нет, никого. Целый день никого. И сейчас только один посетитель. Un inglese[24], говорит он и смотрит, как мне кажется, с некоторым презрением в мою сторону. Ничего, мол, удивительного. Дни-то стали короткие. Наступают убыточные времена. L’inverno è alle porte. Si, si l’inverno, кричит он снова и смотрит на меня. Сердце у меня на миг замирает. Кладу на тарелку 10 000 лир, хватаю газету, пулей вылетаю наружу, перебегаю площадь, на той стороне захожу в ярко освещенный бар, прошу вызвать такси, еду к себе в отель, спешно собираю вещи и бегу ночным поездом в Инсбрук. Готовый к самому ужасному, сижу в купе, неспособный ни читать, ни закрыть глаза, слушаю ритмичный стук колес. В Роверето входит старуха-тиролька с большой сумкой, сшитой из лоскутов кожи. С ней сын, лет сорока на вид. Я безгранично благодарен обоим за то, что, хотя вагон почти пуст, они устроились именно здесь. Сын откинул голову назад, оперся ею о стену. Веки опущены, почти все время он блаженно улыбается чему-то своему. Только время от времени в груди у него что-то судорожно сжимается. Тогда мать успокаивает его, рисуя какие-то знаки на его раскрытой, словно новая тетрадь, ладони, лежащей у нее на коленях. Поезд поднимается в гору. Постепенно мне становится лучше. Выхожу в коридор. Мы в Больцано. Тирольцы, мать и сын, выходят. Держась за руки, идут к подземному переходу. Прежде чем они скрываются из виду, поезд рывком трогается с места. Ощутимо холодает. Ход поезда замедляется, вокруг все меньше огней, гуще тьма. Мимо проплывает станция Франценсфесте. У меня перед глазами встают картины давно прошедшей войны. Взятие перевала – Адская долина, Vall’Inferno, – 26 мая 1915 года. Снопы огня в горах и расстрелянный лес. Полосы дождя штрихуют стекла окон. Поезд на стрелке меняет направление. Бледный свет дуговых ламп заливает купе. Останавливаемся в Бреннере, на перевале. Никто не выходит и не входит. Пограничники в серых плащах расхаживают по платформе. Стоим не меньше четверти часа. Там, по ту сторону, серебристые ленты рельсов. Дождь переходит в снег. Тяжелая тишина висит надо всем, нарушаемая только рычанием неведомых зверей, которые в темноте на запасном пути ожидают перевозки. Ночь времен тянется гораздо дольше, чем их день, и никому неведомо, когда миновало равноденствие. [25]
Летом 1987 года, спустя семь лет после бегства из Вероны, я вновь, поддавшись наконец давно возникшей потребности, совершил путешествие из Вены через Венецию в Верону, чтобы вдумчиво перепроверить свои призрачные воспоминания о том полном опасностей периоде и, может быть, кое-что записать. Ночной поезд Вена – Венеция, в котором тогда, в конце октября 1980 года, я почти никого не встретил – за исключением новозеландской учительницы, – теперь, в разгар отпускного сезона, был переполнен, и почти всю дорогу мне пришлось стоять, лишь ненадолго устраиваясь в крайне неудобных позах среди рюкзаков и чемоданов; в результате вместо того, чтобы погрузиться в сон, я погрузился в воспоминания. Вернее, воспоминания всплывали (по крайней мере, так мне казалось) в некоем внешнем по отношению ко мне пространстве и, достигнув определенного уровня, изливались непосредственно в меня, как вода через затвор плотины. И за этими воспоминаниями время промчалось для меня быстрее, чем я вообще мог предположить: вновь я пришел в себя, лишь когда поезд уже после Местре медленно пересекал по железнодорожной насыпи лежащую по обе стороны ночную лагуну. На вокзале Санта-Лючия я вышел одним из последних и с синей холщовой сумкой через плечо побрел по платформе в здание вокзала, где несметные полчища туристов в спальных мешках расположились на соломенных циновках или прямо на каменном полу, вповалку, словно какой-то нездешний народ на пути через пустыню. Даже и снаружи, на площади, во множестве лежали молодые мужчины и женщины – группами, парами или поодиночке, на ступеньках и на газонах, повсюду. Я сел внизу на набережной, достал письменные принадлежности: простой карандаш и красивую линованную бумагу. В восточной части города крыши и купола уже окрасились красным. В разных точках на поле, где они провели ночь, спящие начинали шевелиться, они приподнимались и выбирались на свет из своего блаженного состояния, чтобы чего-нибудь пожевать или выпить и постепенно заполнить собой все пространство вокруг. Вскоре иные уже брели, согнувшись под тяжестью рюкзаков, часто выше их самих на целую голову, и лавировали между лежащими на земле собратьями, словно им надлежало привыкнуть к изнурительности следующих этапов бесконечного путешествия.
Тем утром я некоторое время сидел на набережной Санта-Лючия, занятый своими набросками. Карандаш легко скользил по бумаге, по ту сторону канала в клетке на балконе одного из домов время от времени кричал петух. Когда я вновь поднял голову от работы, тени спящих на привокзальной площади исчезли или же разошлись, началось утреннее движение. Мимо прошла баржа, нагруженная горами мусора, вдоль борта пробежала крыса, а потом вниз головой рухнула в воду. Не знаю, это ли зрелище подтолкнуло меня к решению не оставаться в Венеции, а без промедления ехать дальше, в Падую, и там разыскать капеллу Энрико Скровеньи, до тех пор известную мне только по описанию, в котором превозносились неувядающая яркость красок на фресках Джотто и необычайная определенность в каждом движении, в каждой черте лиц его персонажей. Когда я действительно оказался внутри капеллы, вступив под прохладные своды с жары, нависшей в тот день над городом с раннего утра, и стоял перед настенными росписями, расположенными в четыре яруса от цоколя до карниза, сильнее всего поразил меня беззвучный вопль скорби, вот уже почти семьсот лет возносимый ангелами, парящими над бесконечным отчаянием. Как гром звучал этот вопль в тишине помещения. Брови у ангелов в их глубоком страдании были сдвинуты так плотно, что можно было подумать, будто у них завязаны глаза. Разве эти вот белые крылья, думал я, с отдельными вкраплениями светлой веронской зелени не самое удивительное из того, что мы вообще способны вообразить? Gli angeli visitano la scena della disgrazia[26] – эти слова вертелись у меня на языке, пока я пробирался сквозь оглушительный грохот движения обратно, к расположенному неподалеку от часовни вокзалу, чтобы сесть на ближайший поезд в Верону, где надеялся произвести определенные изыскания как относительно моего собственного резко прервавшегося пребывания там семь лет назад, так и относительно безысходного вечера, который доктор Кафка, по собственному его свидетельству, провел в Вероне в сентябре 1913 года, следуя из Венеции к озеру Гарда. И когда после примерно часа езды в щедро овеваемом потоками воздуха вагоне, куда открытые окна впускали сверкающие ландшафты, в моем поле зрения возник вокзал Порта-Нуова и внизу открылся город в полукруглой раме гор, я почувствовал, что не в состоянии выйти из поезда. Не в силах пошевелиться, я, к собственному немалому удивлению, остался сидеть и, когда поезд уже покинул Верону, а кондуктор снова пошел по проходу, попросил его оформить мне дополнительный билет до Дезенцано, где, как мне было известно, в воскресенье 21 сентября 1913 года доктор Кафка в полном одиночестве лежал в траве на берегу озера и смотрел на волны в камышах, радуясь, что никто не догадывается, где он сейчас, а в остальном глубоко несчастный.
После того как бесконечно долго удалявшийся на запад поезд съежился до размеров точки, вокзал Дезенцано, завершенный, скорее всего, незадолго до 1913 года и с тех пор, по крайней мере снаружи, не слишком изменившийся, предстал передо мной сиротливым, заброшенным, залитым полуденным светом. Над рельсами, которые, насколько хватало глаз, прямыми линиями убегали к горизонту, мерцая, трепетал воздух. К югу простирались широкие поля. Само станционное здание, несмотря на заброшенность, казалось устроенным разумно и целесообразно. Над дверями, выходящими на платформу, красивыми буквами были выгравированы должностные наименования станционного персонала. Capo stazione titolare. Capo di stazione superiore. Capi stazione aggiunti. Manovratori manuali[27]. Я ждал, что хоть кто-нибудь из представителей канувшей в прошлое иерархии, начальник станции со сверкающим моноклем в глазу или усатый носильщик в длинном фартуке, вот-вот выйдет из дверей, чтобы приветствовать меня, однако ничто вокруг не шелохнулось. В здании тоже было пусто. Я довольно долго бродил вверх-вниз по лестницам, прежде чем нашел писсуар и обнаружил, что в этой части вокзала, как и в остальных, с начала ХХ века мало что изменилось. Деревянные кабинки цвета хаки, массивная фаянсовая сантехника, белая плитка – старая, со сколами и серыми волосками трещин, но в остальном совершенно такая, как раньше, кроме, конечно, бесчисленных граффити последних двадцати лет. Пока мыл руки, я бросил взгляд в зеркало и спросил себя, не мог ли и доктор Кафка, который прибыл из Вероны и, вероятно, вышел на этой станции, смотреться в то же самое зеркало. Я бы не удивился. А одно из граффити рядом с зеркалом, как мне показалось, прямо на это указывало. Il cacciatore[28], было написано корявым почерком. Высушив руки, я мысленно добавил: nella selva nera. [29]
Потом я около получаса провел, сидя на скамейке на привокзальной площади, выпил эспрессо и стакан воды. В полуденные часы было приятно спокойно сидеть в тени. Не видно никого, кроме нескольких таксистов, слушавших радио или дремавших в автомобилях. Подъехал карабинер, бросил машину под знаком «остановка запрещена» у самого входа в вокзал и исчез внутри здания. Когда вскоре он снова появился на улице, все таксисты, будто по команде, вышли из автомобилей, окружили невысокого и щуплого полицейского, знакомого им, вполне возможно, еще со школы, и накинулись на него, упрекая в нарушении правил парковки. Едва умолкал один, как немедленно вступал следующий. Карабинеру не давали вставить ни слова, а если ему это удавалось, сразу же обрывали. Беспомощно, с некоторым даже страхом в глазах, смотрел он на указующие персты, направленные ему в грудь. Но поскольку это была своего рода комедия, затеянная таксистами, чтобы развеять скуку, растерявшийся полицейский не мог привести серьезных аргументов в ходе явно неприятного ему допроса, даже когда они обратили свое недовольство на его внешний облик и, якобы приводя в порядок полицейскую форму, заботливо смахивали пыль с воротника, поправляли галстук, фуражку и даже поясной ремень. Наконец один из таксистов открыл дверцу полицейской машины, и защитнику законности, сурово ущемленному в достоинстве и чести, осталось лишь сесть в нее и, взвизгнув шинами на круговой развязке, умчаться прочь по улице Кавур. Таксисты продолжали махать ему вслед и после того, как он скрылся из виду, и долго еще стояли кучкой, чтобы, изобразив тот или иной момент комедии, вновь воскресить его в памяти и опять посмеяться.
В четверть второго точно по расписанию пришел синий автобус, на котором я собирался доехать до Ривы. Я тотчас зашел в салон и устроился на одном из сидений сзади. Подошли еще несколько пассажиров. Местные жители и туристы вроде меня. Незадолго до отправления, в двадцать пять минут второго, вошел подросток лет пятнадцати, самым невероятным образом, просто невообразимо похожий на фотографии Кафки в школьном возрасте. И, будто одного этого недостаточно, у него оказался брат-близнец, не отличавшийся ни на йоту, насколько я, охваченный подлинным ужасом, мог судить. Линия волос у мальчиков изрядно заступала на лоб, у обоих были те самые темные глаза и густые брови, те самые большие, неодинаковые уши с приросшими к вискам мочками. Мальчики были с родителями и сели наискосок позади меня. Автобус поехал вниз по улице Кавур. Ветви деревьев с бульвара скребли по крыше. Сердце у меня бешено колотилось, голова кружилась, как раньше, в детстве, когда в каждой автомобильной поездке мне делалось дурно. Я прислонил голову к оконной раме, ловя лицом воздушную струю, и долго не решался оглянуться. Только когда мы, давно миновав Сало, стали приближаться к Гарньяно, я смог преодолеть сковавший меня страх и бросил взгляд назад через плечо. Мальчики не исчезли, чего я, признаться, опасался и на что в то же время надеялся, но были теперь наполовину скрыты развернутой газетой, «Сичилиано». Когда чуть позже, собравшись с духом, я попытался завязать с ними разговор, они лишь переглянулись с глупой ухмылкой. И потом, когда я обратился к внешне очень сдержанной паре, отпечатавшейся в моих воспоминаниях как «уважаемые родители», которые с растущей тревогой следили за моим странным вниманием к их сыновьям, мне не удалось даже приблизительно разъяснить им, какова природа моего интереса к непрерывно хихикающим подросткам. История о scrittore ebreo из города Прага, который в сентябре 1913 года проходил в Риве курс лечения и в юности выглядел в точности – [30]esatto, esatto, отчаянно, как мне казалось, твердил я, – в точности, как ваши мальчики, время от времени коварно выглядывавшие из-за газеты. Эта история, насколько я мог судить по мимике и жестам родителей, представлялась им полнейшим безумием и едва ли не самым невероятным из всего, с чем им вообще доводилось сталкиваться. А когда я, чтобы развеять те подозрения, какие они могли испытывать на мой счет, сказал, что меня бы совершенно устроило, если бы, вернувшись из отпуска домой, на Сицилию, они просто прислали мне в Англию, не указывая ни своего имени, ни адреса, фотографию сыновей, им было уже абсолютно ясно, это я уловил, что в моем лице они столкнулись не с чем иным, как с английским педерастом, путешествующим по Италии в поисках сомнительных удовольствий. Они однозначно дали мне понять, что мою неслыханную по своей наглости просьбу не исполнят ни при каких обстоятельствах и что мне следует незамедлительно вернуться на свое место. В противном случае они, я чувствовал, были готовы остановить автобус в ближайшей деревне и передать назойливого туриста властям. И вот, ощущая благодарность за каждый тоннель, встречавшийся на пути вдоль крутого западного берега озера Гарда, я неподвижно сидел на своем месте, раздираемый чувствами невообразимого стыда и одновременно бессильной ярости оттого, что теперь у меня не останется никаких доказательств этой совершенно невероятной встречи. Снова и снова слышал я за спиной хихиканье обоих мальчишек, и оно досаждало мне все сильнее, так что, в конце концов, когда автобус остановился в Лимоне-суль-Гарда, я снял сумку с багажной сетки и вышел.
Было, наверное, около четырех часов дня, когда я, совершенно вымотанный долгой дорогой, которую не смыкая глаз проделал из Вены через Венецию и Падую в Лимоне-суль-Гарда, вошел в отель «Соле» на берегу озера; в холле его в этот час было сиротливо и пусто. На террасе под зонтиком сидел одинокий постоялец, а внутри в полумраке за стойкой стояла хозяйка, Лючана Микелотти, тоже одна; глубоко погруженная в свои мысли, она ковыряла серебряной ложечкой в чашке эспрессо, которую только что допила. Женщина эта, по моим воспоминаниям энергичная и жизнерадостная, в тот день – как выяснилось потом, это был ее 44-й день рождения – казалась печальной, если не безутешной. С необычайной медлительностью она произвела процедуру регистрации, листала паспорт, удивляясь, должно быть, что я одного с нею возраста. Несколько раз сравнила мое лицо с фотографией, при этом надолго устремив взгляд мне прямо в глаза, потом наконец неторопливо положила документ в ящик конторки и вручила мне ключ от комнаты. Я рассчитывал задержаться здесь на несколько дней, чтобы успокоиться и немного поработать. Вечером, раздобыв с помощью Мауро, сына Лючаны, подходящую лодку, я уже плыл на веслах по озеру. Западный берег тонул в пучинах навалившихся сверху густых теней над крутыми скалами Доссо-деи-Ровери, да и на противоположном восточном берегу вечерний свет поднимался все выше, пока не осталось ничего, кроме слабого отблеска розового пламени над вершиной Альтиссимо-ди-Наго. В темном блеске озеро беззвучно расстилалось теперь вокруг меня. Вечерние звуки из баров и дискотек Лимоне-суль-Гарда, из динамиков на террасах отелей доносились до меня лишь глухо пульсирующим шумом и казались ничтожной помехой в сравнении с величием огромной молчаливой темной стены, взмывавшей вверх позади дрожащих огоньков местного порта так круто и высоко, что представлялось, будто она клонится мне навстречу и в следующий же миг может обрушиться в озеро. Я зажег фонарь на носу лодки и греб теперь хотя и в направлении берега, но против бриза, который по ночам дует здесь с севера через озеро. Доплыв до глубокой тени прибрежных скал, я сложил весла. Теперь мою лодку медленно влекло назад, в сторону порта. Я погасил фонарь, лег на дно и устремил взгляд ввысь – туда, где над скалами уже высыпали звезды в столь неимоверном количестве, что казалось, будто им не хватает места, и они задевают друг друга. От гребли в кистях рук пульсировала кровь. Лодку несло мимо террас заброшенных садов, где когда-то выращивали лимоны. Четырехгранные каменные столбы еще стояли там, в темноте, поднимаясь ступенями вверх по склону. В свое время на этих столбах закрепили прочные штанги и зимой растягивали на них рогожу, чтобы защитить от холода вечнозеленую растительность.
Около полуночи, когда я вернулся в порт и пошел обратно к гостинице, повсюду в Лимоне парами и группами гуляли отдыхающие. Плотная разноцветная людская масса своеобразной процессией тянулась по узким улочкам зажатого между озером и скалами городка. Сплошь лики умерших, обожженные и размалеванные, с шумом раскачивались над сплетенными телами. Глубоко несчастными казались они мне, словно их принуждали бродить здесь ночь за ночью. В номере я лег на кровать и скрестил руки под головой. О том, чтобы заснуть, нечего было и думать. Снизу, с террасы, доносились громкая музыка и шум голосов большей частью уже нетрезвых постояльцев, которые, как мне пришлось с сожалением признать, оказались почти без исключений бывшими моими соотечественниками. Я слышал, как швабы, франконцы и баварцы говорят друг другу немыслимые вещи, и их бесцеремонно навязчивые диалекты вызывали у меня отвращение, а необходимость слушать громогласные суждения и остроты, изрекаемые группой молодых мужчин с моей первой родины, была поистине мýкой. В эти часы без сна ничего не желал я так страстно, как принадлежать к какой-нибудь другой нации, а лучше – вообще ни к какой. Около двух часов ночи музыку выключили, но последние обрывки разговоров и крики утихли, лишь когда на небе над противоположным берегом показались первые серые полосы нового дня. Я принял таблетки и уснул сразу, как только боль глубоко в голове за лобной костью начала отступать, подобно тому как после паводка темная влага уходит из постепенно светлеющего песка.
2 августа выдалось спокойным. Я сидел за столиком рядом с открытой дверью на террасу, разложив вокруг свои бумаги, и проводил соединительные линии между отстоящими далеко друг от друга происшествиями, которые, как мне казалось, связаны каким-то общим порядком. Писал я с удивительной для себя самого легкостью. Строчку за строчкой заполнял листы линованного блокнота, привезенного из дома. Лючана хозяйничала за стойкой и то и дело краем глаза посматривала на меня, словно хотела убедиться, что я не потерял нить. Как я и просил, через определенные промежутки времени она приносила мне эспрессо и воду в стакане. А временами еще и завернутый в салфетку горячий бутерброд. Обычно она ненадолго задерживалась возле меня и затевала короткий разговор, в ходе которого взгляд ее скользил по исписанным листкам. Один раз спросила, кто я – журналист или писатель. Когда я ответил, что, мол, и то и другое не вполне верно, она поинтересовалась, что же я тогда сейчас записываю, и я честно признался, что полной ясности на сей счет нет и у меня самого, но есть ощущение, и оно со временем только крепнет, что это может быть детектив. Во всяком случае, действие разворачивается в Северной Италии – в Венеции, Вероне и Риве, а речь идет о нескольких нераскрытых преступлениях и внезапном появлении давно исчезнувшего человека. Лючана спросила, упоминается ли в этой истории Лимоне-суль-Гарда; не только Лимоне, сказал я, но и этот отель, и она сама. После этого она быстро вернулась за стойку, где с присущей ей свободной точностью движений продолжила свою работу. Приготовила капучино или горячий шоколад, потом нацедила пива, налила бокал вина и смешала коктейль с гренадином для одного из немногих постояльцев, сидевших днем на террасе. В промежутках она делала записи в большой конторской книге, наклонив голову набок, будто школьница за партой. Я все чаще поднимал на нее глаза, и, когда наши взгляды встречались, она улыбалась, словно произошло досадное недоразумение. Между разноцветных сверкающих полок с бутылками алкоголя за стойкой на стене висело большое зеркало, и я мог видеть не только саму Лючану, но и ее отражение, что почему-то мне особенно нравилось.
Ближе к обеду постояльцы исчезли с террасы, Лючана тоже покинула свой пост. Теперь писать становилось труднее и труднее, и вскоре все, что я в тот день успел написать, представилось мне бессмысленными, пустыми и фальшивыми каракулями. Поэтому я испытал облегчение, когда появился Мауро и принес газеты, которые я просил его раздобыть. Главным образом, английские и французские, но были там и две итальянские – «Гадзеттино» и «Альто Адидже». Когда я закончил просматривать все газеты, кроме оставленной напоследок «Альто Адидже», которую продолжал перелистывать, день уже клонился к вечеру. Бриз шевелил зонтики на террасе, постояльцы один за другим возвращались, Лючана давно опять возилась за стойкой. Долго ломал я голову над заметкой, чей заголовок – «Fedeli a Riva»,[31] – как мне казалось, указывал на некую тайну, однако речь там шла всего-навсего о супружеской паре по фамилии Хильзе, из городка Люнен под Дортмундом, начиная с 1957 года неизменно проводившей свой отпуск в Риве. Раздел культуры, правда, содержал примечательную для меня новость. Краткое сообщение о предварительном просмотре театральной пьесы, премьера которой, как было написано, состоится завтра в Больцано. Я как раз дочитал эту небольшую заметку и кое-что в ней подчеркнул, когда Лючана принесла мне фернет. И снова она ненадолго задержалась возле меня, стояла рядом и смотрела в развернутую газету. Una fantesca[32], услышал я тихий голос, и мне почудилось, будто ее рука легла мне на плечо. Довольно редко в моей жизни случалось, подумал я тогда, чтобы чужая, по сути, женщина прикасалась ко мне, но каждый раз в этом неожиданном прикосновении было что-то невесомое, призрачное, проникающее насквозь. Помню, например, как много лет назад сидел в полутемном кабинете окулиста при оптике в Манчестере и взгляд мой сквозь линзы причудливых пробных очков был направлен на светящийся экран напротив и буквы на нем, порой едва различимые. Рядом со мной стояла врач-консультант, китаянка, которую, если верить бейджику на форменном халате, удивительным образом звали Сьюзи Ахой. Она была предельно немногословна, но каждый раз, когда наклонялась ко мне, чтобы заменить линзы, я ощущал исходящую от нее освежающую заботливость. Неоднократно она поправляла на мне тяжелые очки, а один раз даже коснулась кончиками пальцев – задержав их, как я вообразил, гораздо дольше необходимого – моих пульсировавших от боли висков, пусть и для того только, чтобы скорректировать наклон головы. Рука Лючаны легла мне на плечо, если вообще легла, скорее по недосмотру, нежели преднамеренно, когда она наклонилась, чтобы забрать со стола чашку из-под эспрессо и пепельницу; но на меня она оказала сходное воздействие: как и тогда в Манчестере, в этот вечер в Лимоне все вдруг поплыло у меня перед глазами, словно я смотрел вокруг через линзы, которые мне не подходят.
Утром следующего дня – я решил все же ехать в Верону – оказалось, что мой паспорт, который Лючана, когда я приехал, положила в выдвижной ящик конторки на стойке администратора, куда-то пропал. Девушка, выписывавшая мне счет и, как она все время твердила, помогавшая в отеле только по утрам, напрасно рылась во всех отделениях и ящиках. В конце концов, она пошла и разбудила Мауро, который, потратив не менее четверти часа на то, что по многу раз вытаскивал все из ящиков и укладывал обратно, перелистывал один за другим все паспорта, хранившиеся у администратора, но так и не обнаружив моего, вызвал вниз свою мать. Появившись за стойкой, Лючана посмотрела на меня долгим взглядом – как мне показалось, он означал: вот так прощаньице! Пока искала пропавший документ, она сообщила, что паспорта постояльцев всегда лежат в одном и том же ящике и за все время существования отеля ни один еще не потерялся. Значит, продолжала она, паспорт должен быть в этом ящике, и все дело только в том, кто и как ищет, но – она повернулась к Мауро – он же никогда не умел искать, может, потому, что вместо него этим всегда занималась она, Лючана. С самого детства он, если не мог найти что-нибудь сразу, утверждал, что этого здесь просто нет – учебника, ручки, теннисной ракетки, ключей от мотоцикла; когда же потом приходила она, Лючана, и смотрела как следует, вещь непременно оказывалась на месте. Мауро возразил, что она, конечно, может говорить что угодно, только паспорта здесь все равно нет – spa-ri-to, сказал он, выделяя каждый слог, словно его собеседница глуховата. [33]Il passaporto scomparso, сыронизировала Лючана. Одна реплика тянула за собой другую, и вот уже перепалка по поводу моего паспорта переросла в семейную ссору. Сам патрон, которого я до сих пор вообще ни разу не видел – он оказался на полголовы ниже Лючаны, – и тот теперь присоединился к нам. Мауро в третий раз изложил всю историю с самого начала. Девушка-служащая молча стояла рядом и от смущения, будто она была причиной переполоха, разглаживала несуществующие складки на фартуке. Лючана отвернулась и только повторяла, качая головой и то и дело ероша рукой курчавые волосы, [34]strano, strano[35], словно не вызывавшее уже сомнений исчезновение паспорта – самое необъяснимое происшествие в ее жизни. Патрон приступил к систематическим изысканиям: собрал вместе все австрийские, все голландские и все немецкие паспорта; австрийские и голландские решительно отодвинул в сторону, а немецкие тщательнейшим образом пересмотрел и в результате этой операции установил, что хотя моего паспорта действительно в наличии нет, зато имеется паспорт некоего господина Долля, который, если патрон не ошибается, вчера выехал из отеля, из чего можно заключить, что этому господину Доллю по недосмотру, inavvertitamente – я и сейчас слышу, как он это восклицает, словно в отчаянии от столь огромной небрежности, и при этом бьет себя ладонью по лбу, – по недосмотру отдали мой паспорт, а господин Долль просто взял его и убрал в карман, не проверив, действительно паспорт его или, может быть, чей-нибудь еще. Немцы, так резюмировал патрон свои выводы насчет неслыханного происшествия, всегда слишком торопятся. Вне сомнений, этот Долль с моим документом в кармане едет сейчас где-нибудь по автобану, и нужно позаботиться о том, как в отсутствие паспорта обеспечить меня бумагой, которая, подтверждая мою личность, позволит мне продолжить путешествие по Италии, а потом и покинуть ее. Мауро, похоже единственный виновник путаницы, в безграничном отчаянии извинялся передо мной, Лючана же, став теперь на его сторону, твердила: он ведь почти ребенок! Ребенок! – воскликнул патрон и возвел глаза к небу, словно в сей час испытания пределов собственного терпения нуждался в поддержке; ребенок! – снова воскликнул он, теперь повернувшись к Мауро, нет, не ребенок, а безответственный человек, и градус его легкомыслия настолько высок, что он ни за грош ставит на карту репутацию отеля. С какими воспоминаниями уедет теперь синьор из Лимоне, из Италии, продолжал патрон, указывая на меня и обращаясь к Мауро. И, оставив вопрос висеть в воздухе неопровержимым свидетельством против Мауро, добавил, что нужно незамедлительно ехать со мной в отделение полиции, начальник которого, Далмацио Орджу, выдаст мне документ, позволяющий, по крайней мере, выехать из страны. Я возразил, что могу обратиться в немецкое консульство в Милане и получить новый паспорт и что им незачем более обо мне беспокоиться, но патрон уже вложил в руку жене ключи от автомобиля, поднял мою сумку и подхватил под руку меня самого. Не успев оглянуться, я уже сидел рядом с Лючаной в синем «альфа-ромео», катившем по крутым улочкам вверх к главной, где чуть в стороне от дороги, за высоким железным забором на бетонном фундаменте, расположилось отделение полиции. Brigadiere, с массивными [36]часами «Ролекс» на левой руке и тяжелым золотым браслетом на правой, выслушал нашу историю, уселся за громадную старомодную пишущую машинку с кареткой почти метровой длины, вставил лист бумаги и без малейшего колебания, проговаривая вполголоса, а местами и напевая текст, составил следующий документ и, когда была дописана последняя строчка, а все в целом еще разок для порядка просмотрено, демонстративным жестом выхватил его из машинки и передал на подпись сначала мне – я молча последовал руководящему указанию, – потом Лючане и только потом поставил собственную подпись, в завершение приложив прямоугольную, а затем и круглую печать. Когда я спросил, уверен ли он, что с этой бумагой я смогу выехать из страны, он, с легким раздражением по поводу звучавшего в моем вопросе сомнения, сказал: Non siamo in Russia, signore. [37]
Со справкой в руке, снова сидя в машине рядом с Лючаной, я чувствовал себя так, словно бригадир только что нас обвенчал и теперь мы можем ехать вместе куда угодно. Однако видение, наполнившее меня блаженством, продлилось недолго, и когда я, скажем так, снова пришел в себя, то попросил Лючану высадить меня на остановке автобуса. Она остановила машину, я вылез и уже с сумкой на плече обменялся с ней несколькими фразами через открытое окно, с опозданием пожелав ей всех благ по случаю сорок четвертого дня рождения. Она просияла, словно получив неожиданный подарок, сказала аddio, тронулась с места и поехала прочь. «Альфа-ромео» медленно покатил по улице и скрылся за поворотом, ведущим, как мне тогда показалось, в другой мир. Между тем настал полдень. Следующий автобус отходил только в три часа. Я устроился в баре неподалеку от остановки, заказал эспрессо, вытащил блокнот для записей и вскоре, глубоко погрузившись в них, настолько выпал из реальности, что ни многочасовое ожидание, ни сама дорога до Дезенцано не оставили в моей памяти ни малейшего следа. Вновь я вижу себя уже на пути в Милан. В косых лучах вечернего солнца мимо тянулись тополя и поля Ломбардии. Напротив сидели монахиня-францисканка лет тридцати или тридцати пяти и молоденькая девушка в наброшенном на плечи жакете из множества разноцветных лоскутов. Девушка вошла в Брешии, монахиня сидела в купе еще в Дезенцано. Сестра-францисканка читала молитвенник, девушка, не менее увлеченно, – роман-комикс. Красота без изъянов, думал я про обеих, находясь здесь и не здесь одновременно, восхищенный той глубокой серьезностью, с какой каждая переворачивала страницы. Вот страницу перелистнула монахиня, теперь девушка в пестром жакете, снова девушка и опять монахиня. Так продолжалось все время, и мне ни разу не удалось встретиться взглядом ни с той, ни с другой. Тогда я попытался проявить такую же скромность и вытащил из сумки «Разговорчивого итальянца» – изданное в 1878 году в Берне практическое пособие для всех, кто стремится к гарантированным и быстрым успехам в разговорном итальянском. В книжечке, принадлежавшей моему двоюродному деду со стороны матери, который в девяностых годах девятнадцатого века какое-то время работал бухгалтером в Северной Италии, все было упорядочено и наилучшим образом организовано, словно мир в самом деле состоит только из слов, а значит, и самое ужасное можно нейтрализовать, сделать безопасным, поскольку все на свете имеет свою противоположность, на всякое зло есть добро, на всякое огорчение – радость, на всякую беду – счастье, на всякую ложь – своя правда. За окном уже показались города-спутники Милана. Кварталы двадцатиэтажных жилых башен. Потом предместья, заводские территории, старые доходные дома. Поезд сменил путь. Почти горизонтальные лучи закатного солнца пронизывали все купе. Девушка в пестром жакете вложила в книгу закладку, сестра-францисканка заложила требник зеленой ленточкой. Обе теперь сидели, откинувшись назад, в вечернем сиянии, одна, как мне представилось, под белым своим чепцом короткостриженая, вторая – в обрамлении чудесных волнистых волос. И вот мы въехали в сумрак вокзала, и все стали тенями. Поезд замедлял ход, визг тормозов нарастал, пока не стал вовсе невыносимым: достигнув пика, он оборвался, мгновенно перешел в полную тишину, а в эту тишину через несколько секунд вернулся бурлящий рев, зарождавшийся где-то среди колес под железными сводами. Безнадежно потерянный, так мне казалось, я стоял на платформе. Девушка в разноцветном жакете, как и монахиня, давно скрылась из виду. Какая связь, – помнится, спрашивал я себя тогда и спрашиваю теперь, – какая связь существует между этими двумя прекрасными читательницами и конструкцией огромного вокзала постройки 1932 года, перещеголявшего все возводившиеся прежде в Европе здания подобного типа; между, так сказать, каменными свидетелями прошлого и неуловимыми стремлениями, что проходят через наши тела, чтобы в них поселиться, наполнить собой запыленные кварталы и заливные луга будущего. С сумкой через плечо я последним из пассажиров спустился по лестнице и купил карту города. Сколько подобных карт я уже приобрел! Все время пытаюсь составить себе достоверное представление хотя бы об окружающем пространстве. Купив карту Милана, я уж точно, как мне казалось, поступил правильно, хотя бы потому, что почти сразу, стоя в ожидании снимков перед тихонько урчащим автоматом, только что меня сфотографировавшим, увидел на первой странице обложки, в которую была вложена карта, изображение лабиринта,
а на обратной стороне – для всякого,
кто про себя знает,
что часто ходит ложными путями, —
перспективное,
даже многообещающее заверение:
Я вышел из здания вокзала на улицу, в тяжелый вечерний воздух. Желтые такси отовсюду слетались сюда, к стоянке на площади, роились и разлетались вновь с усталыми путешественниками на задних сиденьях. Под колоннадой я перешел на восточную, неправильную сторону вокзала. Под аркой, выходящей на площадь Савойя, висела реклама проката автомобилей «Хертц» со слоганом «La prossima coincidenza»[38]. Я еще смотрел вверх, на это, как я думал, адресованное мне послание, когда прямо на меня вдруг двинулись двое молодых мужчин, резко разговаривающих друг с другом. Думать о том, чтобы уклониться, было поздно. Я уже чувствовал на лице их дыхание, видел совсем близко узловатый шрам на щеке у одного, красные жилки в глазах второго, ощущал, как их руки у меня под курткой хватают, дергают, рвут. И лишь когда я, резко повернувшись на каблуке, размахнулся и висящей на плече сумкой врезал обоим, мне удалось высвободиться и вновь обрести опору, прислонившись спиной к стене. [39]LA PROSSIMA COINCIDENZA. Никто из прохожих не обратил внимания на инцидент. А я смотрел, как оба агрессора, странно подергиваясь, как персонажи первых кинофильмов, скрылись в сумраке колоннады. Сидя в такси, я обеими руками держался за сумку. В ответ на мое брошенное вскользь замечание об уличной преступности в Милане таксист лишь выразил жестом беспомощность. Его боковое окошко было зарешечено, а с приборной панели смотрел яркий образ Пресвятой Богородицы. Мы проехали по улице Н. Торриани, пересекли площадь Чинчиннато, свернули налево, на улицу Сан-Грегорио, потом еще раз налево на улицу Лодовико С. и остановились перед отелем «Бостон», на вид каким-то тщедушным и недобрым. В полном молчании водитель взял деньги. На улице не было ни единой живой души. Такси исчезло вдали. Я поднялся по лестнице и, ступив в этот странный приют, ожидал в полутемном холле, когда хозяйка, почти совершенно высохшее создание лет шестидесяти или семидесяти, выйдет из комнаты с телевизором. Птичьим взглядом она недоверчиво смотрела на меня, пока я на своем ломаном языке объяснял, как лишился паспорта и что в Милан приехал для того, чтобы получить в консульстве новый. Едва я закончил рассказ, она позвала мужа, который откликался на имя Орландо и теперь не слишком твердой походкой тоже вышел из комнаты с телевизором, где, как и хозяйка, сидел в потемках. Мне показалось, он потратил невероятно много времени, чтобы пересечь небольшой холл и стать рядом с женой за высокой, доходящей обоим почти до плеч стойкой регистрации. Я начал сначала, но теперь даже для меня самого эта история выглядела весьма сомнительно. С некоторым сочувствием, но не без подозрительности, мне в конце концов выдали старый металлический ключ с номером 513. Комната находилась на верхнем этаже. Лифт, узкий футляр, громыхающий металлическими решетками, шел только до пятого этажа, откуда нужно было еще подняться пешком по двум черным лестничным маршам. Длинный коридор, слишком длинный для узкого здания, шел, как мне почудилось, слегка под уклон, мимо дверей, следующих друг за другом через каждые два метра, не больше. Бедные путешественники, пронеслось у меня в голове, и я тоже бедный. Все время на новом месте. Ключ повернулся в замке. Тяжелая жара, скопившаяся за много дней, а то и недель, ударила мне в лицо. Я поднял жалюзи. Крыши, сколько хватало глаз в надвигающейся ночи, и лес антенн, слегка колеблемых ветром. Внизу открывалась бездна задворков. Я отошел от окна и лег в чем был на кровать, прямо на покрывало из цветастой, напоминающей дамаст ткани с бахромой, скрестил под головой руки, которые почти сразу начали затекать, и уставился в удаленный, как мне казалось, на много миль потолок. Отдельные голоса со двора доносились ко мне в распахнутое окно. Зов, как в открытом море, смех, словно в пустом театре. Становилось все позже, все темнее. Постепенно все смолкло и угасло. Текли часы, нескончаемые часы, а я не мог найти покоя. Среди ночи или уже под утро я поднялся, разделся и встал под душ, косо втиснутый в комнату и скрытый за полиэтиленовым занавесом в пятнах плесени. Долго стоял под струями воды. Потом мокрый, как был, снова улегся на покрывало и теперь ждал, когда рассветные сумерки коснутся верхушек антенн. Наконец как будто появились первые проблески, я услышал, как вскрикнул дрозд, и закрыл глаза. Под сомкнутыми веками возникло свечение. Ecco l’arcobaleno. Глядите, радуга в небе. Ecco l’arco celeste. С колосников над сценой спустился сон. Мне снилось широкое зеленое кукурузное поле, а над ним, словно ничего более естественного на свете не бывает, раскинув руки, парила монахиня, похожая на сестру Маурицию, которую я знал в детстве.
В девять утра я сидел в очереди в приемной консульства Германии на улице Сольферино. В столь ранний час здесь было уже изрядное количество обворованных путешественников и иных просителей, в том числе цирковое семейство, заброшенное сюда, как мне казалось, из времен не менее чем полувековой давности. Глава маленькой труппы – несомненно, это была именно труппа – был облачен в белый летний костюм и обут в чрезвычайно элегантные полотняные туфли с кожаной окантовкой. В руках, вращая ее то влево, то вправо, он держал поистине удивительную, совершенную по форме соломенную шляпу с широкими полями. По его скупым движениям было видно, что приготовить яичницу, зависнув на канате под куполом, как проделывал это в своих сенсационных номерах Блонден, для него – детские игрушки. Рядом с этим воздушным гимнастом сидела молодая женщина, с виду северянка, в костюме, сшитом на заказ, – и она словно тоже явилась из тридцатых годов. Сидела неподвижно, очень прямо, все время с закрытыми глазами. Ни единого движения век я не заметил, ни малейшего подрагивания губ, поворота головы, никакого даже самого крошечного нарушения порядка в тщательнейшим образом завитых волосах. И при этих двоих инопланетянах, которых, как выяснилось потом, звали Джорджо и Роза Сантини, были три очень похожие друг на друга девочки почти одного возраста, в летних платьях из тончайшего батиста, которые то тихо рядком сидели все вместе, то поднимались и чинно прогуливались между креслами и столами большой приемной, словно специально выписывая своими блужданиями красивые петли. У одной в руках была яркая вертушка, у другой – раздвижной телескоп, который она чаще подносила к глазу не тем концом, а у третьей – зонтик от солнца. Иногда все три со своим столь различным символическим реквизитом становились возле окна и смотрели на улицу, на миланское утро, на то, как мерцающий свет силится прорваться сквозь тяжелый серый воздух. Поодаль от Сантини сидела старая женщина в черном шелковом платье, чья привязанность и принадлежность к семейству, однако, сомнений не вызывала. Она вязала крючком, лишь изредка поднимая глаза от работы, чтобы – озабоченно, как мне казалось, – бросить взгляд на неподвижную пару или на трех сестер. В обществе этих людей ожидание давалось мне удивительно легко, хотя прошло еще очень много времени, пока в результате многочисленных телефонных переговоров с Германией и Лондоном личность моя была в конце концов установлена и низкорослый служащий, почти карлик, устроившись на высоком, как в баре, табурете перед громадных размеров пишущей машинкой, начал впечатывать пунктирными буквами в новый паспорт данные, которые я сообщил ему о себе. Выйдя из консульства с новым, только что выданным подтверждением своего права на неограниченные перемещения, я решил, прежде чем продолжить путешествие, несколько часов побродить по улицам Милана. Хотя, конечно, мог бы предположить, что в городе, до такой степени запруженном наводящим ужас транспортом, подобное предприятие, скорее всего, обернется лишь безрадостным блужданием и непрерывной мукой. В тот день, 4 августа 1987 года, я прошел вниз по улице Москова, мимо Сант-Анджело, по парку Джардини Пуббличи, улицам Палестро и Марина, по улицам Сенато и Спига к улице Джезу, немного прошелся по Монте-Наполеоне и улице Алессандро Мандзони, которая привела меня в конце концов на площадь Скала, откуда я вышел на соборную площадь. В соборе я ненадолго присел, ослабил шнурки на ботинках и вдруг – до сих пор отчетливо помню – вмиг потерял всякое представление о том, где нахожусь. Несмотря на невероятно напряженные попытки восстановить в памяти события последних дней, приведшие меня сюда, я утратил всякое представление о том, пребываю ли по-прежнему среди живых или нахожусь в каком-то другом месте. Этот паралич памяти нисколько не ослабел, даже когда я, поднявшись на самую верхнюю галерею собора, преодолевая приступы головокружения и стараясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь плотную дымку, обвел взглядом панораму совершенно чужого мне теперь, мрачного города. В том месте, где должно было всплыть слово «Милан», в моей памяти не шелохнулось ничего, кроме причиняющего боль бессилия. И словно грозный символ постигшей меня внутренней темноты, с западной стороны над городом нависла чудовищная туча, захватившая уже половину небес и накрывшая своей тенью бесконечный океан домов. Поднялся сильный ветер, пришлось держаться за перила, чтобы смотреть вниз – туда, где люди, странно наклонившись вперед, двигались по площади, словно каждый в отдельности бросался навстречу своему концу. Скорее бегите от ветра, пронеслось у меня в голове, и в то же мгновение явилась спасительная мысль, что фигурки, во всех направлениях спешащие через площадь там, внизу, могут быть только миланцами и миланками.
Вечером я опять был на пути в Верону. Сквозь темноту поезд домчал меня в кратчайшие сроки. На этот раз я без колебаний сошел в пункте назначения, выпил в ресторане вокзала бокал розового, изучил городскую прессу и на такси поехал в отель «Золотая голубка», где вопреки ожиданиям мне удалось получить подходящую во всех отношениях комнату и где меня, человека, которого зачастую обслуживают из рук вон плохо, приняли с самой изысканной предупредительностью буквально все, начиная от портье, напомнившего мне Фердинанда Брукнера, до управляющей, которая, похоже, собственной персоной явилась в холл отеля, – словно в моем лице к ним наконец-то прибыл почетный гость, чей визит им давно предвещали, да вот явился он только теперь. Паспорт показывать не пришлось, мне лишь подали книгу регистрации, куда я записался как Якоб Филипп Фальмерайер, историк из Ландекка. Портье взял мою сумку и пошел впереди меня к номеру, где, после того как я вручил ему сверх меры щедрые чаевые, с поклоном распрощался. Ночной покой, которым я наслаждался под крышей «Золотой голубки», представлявшейся мне птичьим крылом в прекраснейшем оперении коричневато-кирпичных тонов, граничил с чудом, как и последующий завтрак, весьма, насколько я помню, достойный. Уверенно, словно отныне никак уже не могу оступиться, я около десяти утра вышел в город и тотчас оказался перед городской библиотекой, где хотел денек поработать. И хотя объявление на дверях уведомляло публику, что в сезон отпусков библиотека не работает, входная дверь была приоткрыта. Правда, внутри все тонуло в глубокой мгле, так что поначалу я мог двигаться вперед только ощупью. На сотрудника библиотеки я наткнулся уже после того, как безуспешно подергал ручки нескольких дверей, приделанные, как мне показалось, до странности высоко, – в освещенном мягким утренним светом читальном зале. Этот пожилой человек с тщательно постриженными волосами и аккуратной бородой расположился за письменным столом и как раз приступил к выполнению ежедневной порции работы. В нарукавниках из черного сатина, в золотых очках с полукруглыми линзами, он линовал на зеленом бюваре листы бумаги. Когда образовался определенный запас, он оторвался от своего занятия, поднял взгляд на меня и поинтересовался, что мне нужно. Гораздо меньше времени, чем заняло путаное изъяснение моего желания, потребовалось, чтобы предоставить мне средства к его осуществлению. И вскоре я сидел у окна, перелистывая тяжелые тома, в которые были переплетены веронские газеты за август – сентябрь 1913 года. Края их уже настолько истончились, что переворачивать страницы приходилось с осторожностью. Перед моими глазами разыгрывались теперь самые разные эпизоды, словно в немом кино. Я видел, как мужчины, шагавшие по улице Альберто Марио, в тот миг, когда, как они думали, их никто не видит, делали резкий прыжок в сторону и скрывались в подъезде дома, где располагалась амбулатория д-ра Ринггера, обучавшегося в Париже и в Вене. Во всех без исключения комнатах амбулатории уже сидел кто-нибудь из тех, кто заскочил сюда с улицы; все они были безупречно одеты, а доктор Ринггер со своей стороны в это время, очевидно, готовился к приему, изучая огромные цветные изображения кожных болезней, подобно картам генерального штаба разложенные на огромном столе в зале бельэтажа. Потом я увидел д-ра Пезавенто, имевшего практику на улице Стелла неподалеку от городской библиотеки, – он осуществлял одну из своих безболезненных операций по удалению зубов. Бледное лицо пациентки, над которой как раз трудился д-р Пезавенто, казалось совершенно умиротворенным, однако тело ее крутилось и изгибалось в кресле, словно в агонии. Были там и откровения другого рода, к примеру, обещание вечной жизни в виде сверкающей и искрящейся на солнце пирамиды из десяти миллионов бутылок железо-хинной столовой воды, восстанавливающей кровь, – пирамиды, которая от внезапного, хоть и беззвучного, львиного рыка неслышно распалась на миллиарды осколков и рассыпалась струящимся каскадом кристаллов. Беззвучны и невесомы были рекламные объявления и новости тех времен, вспыхивали ненадолго и снова гасли, каждое из них – отдельное таинство, отдельное внутреннее пространство. По сообщению из Хартума, гласила заметка, в Омдурмане вот уже несколько недель не могут найти тирольского миссионера Джузеппе Орвальдера. А согласно телеграммам из Данцига, там был взят под стражу по обвинению в шпионаже полковник 6-го полка полевой артиллерии Штерн. Истории без начала и без конца, которые, думал я, хоть раз стоило бы проследить. 1913-й – особенный год. Время тогда совершало поворот, и, как змея по траве, по бикфордову шнуру бежала искра. Чувства повсюду доходили до кипения. Народ пробовал себя в новой роли. Нации отовсюду взывали к священному и праведному гневу. Сообщения веронских газет о первых праздничных представлениях в Anfiteatro Romano[40] соперничали друг с другом в беспредельном воодушевлении. Как я для себя пометил, над одним из материалов газеты «Феделе» готическим шрифтом был набран заголовок Apoteosi dei titani, и статья завершалась уверениями, что взят он отнюдь не из воздуха, поскольку сама арена являет собой исполинский образчик римской архитектуры, а Джузеппе Верди – исполин [41]melopoea italiana. Но подлинным исполином всякого искусства и красоты, как сообщал автор в последнем абзаце, остается [42]il popolo nostro[43], в то время как все прочие – лишь пигмеи. Мой взгляд надолго задержался на шести буквах слова pigmei, увидев в нем предсказание разрушений, которые потом состоялись. Казалось, я слышу глас народа, набирающий силу и скандирующий эти звуки. Pig-me-i, pig-me-i, pig-me-i. Крики бушевали во внутреннем пространстве моего слуха и в действительности были, конечно, лишь шумом кровотока, искаженным и усиленным с помощью воображения. По крайней мере, у сотрудника библиотеки они как будто никакого отклика не находили. Он по-прежнему спокойно сидел, склонившись над бюваром, и аккуратным почерком заполнял теперь промежутки между ранее начерченными линиями. По тому, как он ненадолго отрывал руку в конце каждой строки, можно было догадаться, что, скорее всего, он составляет какой-то список. Причем все единицы, формирующие этот на глазах удлинявшийся перечень, помещаются у него в голове, поскольку продолжал он без малейшего промедления, не обращаясь ни к каким источникам. Наши взгляды встретились, когда он, в очередной раз исписав лист до конца, поднял голову и взял в руку склянку с песком. Этот жест, который изрядно меня удивил, тем не менее показался совершенно уместным и настолько исполненным смысла, что я смог вернуться к прерванному чтению. И в этом затянувшемся до вечера процессе перелистывания и чтения газет обнаружил немало вещей, о которых следовало бы при случае рассказать, среди них, например, озаглавленная «UCCISO SUL BANCO ANATOMICO»[44] заметка, которая начиналась, словно роман или рассказ: Ieri sera nella cella mortuaria di cimitero di Nogara, где речь шла об убийстве карабинера по имени Муцио. История эта, не знавшая недостатка в ужасных подробностях, засела в моей памяти, вероятно, еще и благодаря тому, что в одном из томов, которые я тогда листал, я наткнулся на старую открытку с изображением кладбища Стальено в Генуе. Я сунул ее в сумку и впоследствии подолгу рассматривал через увеличительное стекло, изучая самым тщательным образом. Бледный свет над темными горами; выходящий за пределы изображения и, как мне кажется, ведущий в тоннель виадук и глубокие тени вокруг него; справа многочисленные надгробные сооружения в виде башен и пагод, кипарисовая роща; линии стен; черное поле на переднем плане и светлое здание в левом конце колоннады – все это, в особенности здание, знакомо мне теперь до такой степени, что и с завязанными глазами я мог бы легко обойти изображенную там местность.[45]
Позже вечером я прошелся под деревьями набережной Адидже до замка Кастельвеккьо. Собака светлой масти с черным, будто наклеенным, пятном вокруг левого глаза, которая, как почти все бездомные собаки, в беге ставила лапы как бы под углом к направлению собственного движения, присоединилась ко мне на соборной площади и держалась все время чуть впереди. Стоило мне остановиться, засмотревшись вниз, на реку, как собака тоже останавливалась и рассеянно глядела в течение вод. Стоило мне пойти дальше, продолжала путь и она. Но когда уже возле Кастельвеккьо я переходил проспект Кавур, собака осталась на краю тротуара, а поскольку я на полпути обернулся посмотреть, где она, меня едва не сбила машина. Перебравшись на другую сторону проспекта, я задумался, то ли сразу пойти по улице Рома к площади Бра, где я договорился встретиться с Сальваторе Альтамурой, то ли сделать небольшой крюк через улицы Сан-Сильвестро и Мутилати. Собака, долго смотревшая мне вслед с другой стороны улицы, вдруг пропала, и я свернул на улицу Рома, так и не приняв никакого решения. Я никуда не спешил, заходил то в одну, то в другую лавку и опять шел в потоке прохожих дальше, как вдруг осознал, что стою напротив пиццерии «Верона», откуда ноябрьским вечером семь лет назад едва ли не сбежал. Вывеска над заведением Карло Кадаверо была все та же, однако дверь заколочена фанерой, и все лавчонки в верхних этажах закрыты – собственно, ничего другого, тотчас отметил я про себя, я и не ожидал. Картина, которая закрепилась у меня в голове при тогдашнем поспешном отъезде из Вероны и, прежде чем я смог ее позабыть, снова и снова с невероятной отчетливостью вставала перед глазами, – эта самая картина теперь вновь возникла передо мной как-то странно искаженная: двое мужчин в черных куртках с серебряными пуговицами вынесли из дома немного поодаль носилки, на которых под цветастой шалью, по-видимому, лежал человек. Была ли реальность затемнена мрачным видением всего мгновение или гораздо дольше, я не мог бы сказать и тогда, когда вновь увидел свет дня и прохожих, что без каких-либо признаков тревоги шли мимо пиццерии, закрытой, судя по всему, уже довольно давно. Фотограф из мастерской по соседству, у которого я спросил о причинах закрытия пиццерии, оказался не готов не только ответить на мой вопрос, но и просто сфотографировать меня на фоне этого дома. В ответ на мои вопросы и просьбы он лишь молча качал головой, будто не понимал или не владел речью. Поддавшись воздействию все более отчетливого образа глухонемого фотографа, чрезвычайно занятого чем-то в собственной фотолаборатории, я уже было отвернулся, чтобы уйти, и тут услышал, как он выпустил мне в спину целую очередь грязных ругательств, которые, впрочем, относились, скорее всего, не столько ко мне, сколько к тому, что прежде происходило в соседнем заведении. Побродив в нерешительности по тротуару напротив, я в конце концов обратился к прохожему, показавшемуся мне подходящим для моей цели, – к молодому парню, приехавшему, как выяснилось, из-под Эрлангена, – с просьбой сфотографировать для меня здание пиццерии. Поначалу он колебался, но после того, как я дал ему бумажку в десять марок в возмещение предстоящих расходов по пересылке фотографии в Англию, согласился. А вот вторую мою настойчивую просьбу – сфотографировать для меня еще и стаю голубей, которая, едва лишь был сделан первый снимок, прилетела на улицу Рома с площади и опустилась на балконную решетку и крышу этого дома, – молодой немец, совершавший свадебное путешествие, удовлетворить отказался; предположительно потому, что его новоиспеченная благоверная с самого начала рассматривала меня с недоверием, если не враждебно, не отходила от него ни на шаг и, когда он нажимал на спуск фотоаппарата, даже нетерпеливо дергала за рукав.
Когда я пересек площадь, Сальваторе уже сидел на улице в баре с зелеными креслами под зеленым навесом и, подняв очки на лоб, читал книгу, поднеся ее так близко к лицу, что невозможно было себе представить, как он умудряется хоть что-нибудь различать. Осторожно, чтобы не помешать ему, я устроился рядом. У книги, которую он читал, была розовая обложка с выдержанным в темных тонах изображением женщины. Вместо заглавия под портретом располагалось числовое выражение: 1912 + 1. К столу подошел официант. В длинном зеленом фартуке. Я заказал двойной фернет со льдом. Сальваторе тем временем отложил книгу и посадил очки на место. У него, извинился он, иначе не получается, чтобы в первый же час после работы, вырвавшись, наконец, из дневной суеты, не схватиться снова за книгу, даже если, как сегодня, он позабыл очки для чтения в редакции. И хотя по причине ужасной близорукости он способен без очков разбирать слова не быстрее, чем первоклассник, однако в эту пору дня он просто не в силах дать отпор своей потребности читать. После работы, сказал Сальваторе, я ищу спасения в прозе, словно на необитаемом острове. Целый день сижу среди редакционного гама, а вечером перебираюсь на остров, и стоит начать читать первые фразы, как мне тотчас представляется, будто я уплываю на лодке вдаль. Только благодаря ежевечернему чтению я и ныне хотя бы отчасти вменяем. Жаль, продолжал он, что он не сразу меня заметил, но близорукость вкупе с погруженностью в рассказ Леонардо Шаши, можно сказать, создали непроницаемую перегородку, отделив его от всего вокруг. На самом деле, продолжал он, до некоторой степени вернувшись в реальность, история, которую рассказывает Шаша, дает увлекательнейшую панораму событий, происходивших перед Первой мировой. В центре повествования, развертываемого скорее в стилистике литературного эссе, некая Мария Оджони, nata Тьеполо, супруга капитана Ферручо Оджони, которая 8 ноября 1912 года застрелила, по ее версии, при необходимой самообороне, денщика своего мужа, берсальера Квинтилио Полиманти. Газеты, разумеется, устроили из этой истории настоящий пир и долго ее смаковали, а судебный процесс, несколько недель занимавший все мысли нации, поскольку обвиняемая, о чем пресса без устали упоминала снова и снова, происходила из рода знаменитого венецианского художника, – так вот, процесс этот, как было сказано, державший в напряжении весь народ, высветил в итоге не что иное, как общеизвестную истину, что закон не для всех одинаков, а справедливость не всегда справедлива. Судьи с легкостью – ведь Полиманти не мог уже представлять свои интересы – поддались очарованию таинственной улыбки синьоры Оджони, все чаще именуемой графиней Тьеполо, улыбки, которую, как нетрудно себе представить, газетные писаки тут же уподобили улыбке Джоконды, тем более что тогда, в 1913 году, Джоконда и сама по себе вернулась в заголовки: после того как ее обнаружили под кроватью у флорентийского рабочего, двумя годами ранее освободившего ее из луврской ссылки и вернувшего на родину. Странно, заключил Сальваторе, как в тот год все вообще словно стягивалось в одну точку, где что-то должно было произойти, любой ценой. Но вас ведь интересует совсем другая история, снова заговорил он, совершенно освободившись уже от власти прочитанного и собственных размышлений. И эта история – оговоримся с самого начала – тем временем достигла финала. Процесс состоялся. Преступники приговорены к тридцати годам заключения. Осенью в Венеции назначен кассационный процесс. Не думаю, что следует ждать изменения приговора. Впрочем, я забегаю вперед. По телефону вы сказали, что более или менее осведомлены о событиях, предшествовавших осени 1980 года. Но серия чудовищных преступлений продолжалась и далее. Той осенью в Виченце была забита молотком и топором проститутка по имени Мария Аличе Беретта. Полгода спустя Лука Мартинотти, гимназист из Вероны, умер от ожогов, полученных при пожаре в излюбленном прибежище наркоманов – австрийском каземате на берегу Адидже. В июле 1982 года двум монахам, Марио Ловато и Джованни Пигато – оба весьма преклонного возраста, – во время их обычной вечерней прогулки по тихим улицам неподалеку от монастыря размозжили черепа тяжелым молотком. Одно из миланских новостных агентств получило затем письмо от «Группы Людвиг», которая, как вы знаете, однажды, осенью 1980 года, уже взяла на себя ответственность за преступления. Если не ошибаюсь, продолжал Сальваторе, во втором письме «Группа» утверждала, что цель своего существования видит в смерти всех тех, кто предал Бога. В феврале в Тренто нашли священника Армандо Бисона. Он лежал в луже собственной крови с воткнутым в затылок распятием. Власть «Группы Людвиг», как гласило их следующее письмо, не знает границ. В середине мая того же года в Милане сгорел порнокинотеатр. Погибли шестеро мужчин. Кадры [46]Lyla, profumo di femmina считаются последними, воспринятыми их зрением. «Группа» взяла ответственность за это, как они выразились, сожжение похотливых козлов. В начале 1984 года, на следующий день после Крещения Господня, произошел еще один поджог на дискотеке в привокзальном районе Мюнхена, тоже оставшийся нераскрытым. Только две недели спустя при очередной попытке поджога Фурлан и Абель были схвачены, когда, переодетые клоунами, каждый с открытой канистрой бензина в дырявой спортивной сумке, расхаживали по дискотеке «Меламаре» в Кастильоне-делле-Стивьере, расположенном неподалеку от южного берега озера Гарда, где в тот вечер собрались на карнавал около четырехсот молодых людей. Еще бы чуть-чуть, и обоих линчевали на месте. Таковы основные вехи этой истории. Предварительное расследование представило неоспоримые доказательства их вины, но не выявило ничего, что приблизило бы к пониманию причин преступлений, растянувшихся по времени чуть более чем на семь лет. Заключения психиатров тоже едва ли могли служить объяснению внутреннего мира обвиняемых. Оба из хорошей семьи. Отец Фурлана – известный специалист по ожогам, глава отделения пластической хирургии здешнего госпиталя. Отец Абеля, юрист на пенсии, приехал из Германии и много лет возглавлял здесь дочернее отделение дюссельдорфского страхового общества. Оба молодых человека посещали Лицей Джироламо Фракасторо. У обоих высокий интеллект. Закончив лицей, Абель изучал математику, Фурлан – химию. Больше и сказать-то, собственно, нечего. Я думаю, добавил Сальваторе, они были друг другу как братья и не могли расстаться с невинностью. Абеля, он был изумительным гитаристом, я как-то видел по телевизору. Думаю, в середине семидесятых. Ему было, наверное, лет пятнадцать-шестнадцать. Помню, сказал он, как сильно тронули меня тогда его облик и его игра. [47]
Сальваторе завершил рассказ, и наступила ночь. Группами, как выпускали их туристические автобусы, перед Арена-ди-Верона толпились посетители оперного фестиваля. Опера теперь, сказал Сальваторе, тоже не та, что прежде. Публика отвыкла от театральности. Когда-то вечерами здесь колесили экипажи: по широкой улице к Порта-Нуова, и там, миновав ворота, они поворачивали к западу и мчались под деревьями на насыпи вдоль укреплений, пока не наступит ночь. Потом обратно. Одни ехали в церковь вознести вечернюю молитву Деве Марии, другие останавливались здесь, на площади Бра: кавалеры подходили к экипажам и беседовали с дамами, нередко задерживаясь и после наступления темноты. Никто больше не подходит к экипажам – с этим покончено. То же и с оперой. Нынешние фестивали – просто пародия. Потому-то я и не могу заставить себя пойти в такой вечер в Арена-ди-Верона, хотя опера для меня, как вам, конечно, известно, значит невероятно много. Более тридцати лет, сообщил Сальваторе, я работаю в этом городе и ни разу не был на представлении. Сижу снаружи, на площади Бра, где не слышно звуков. Ни оркестра, ни хора, ни солистов. Ни звука. В каком-то смысле наслаждаюсь беззвучной оперой. La spettacolosa Aida, фантастическая ночь на берегу Нила, будто в немом кино из прошлых времен, перед большой войной. А известно ли вам, продолжал Сальваторе, что декорации и костюмы к «Аиде» в постановке, которая идет в Арене сегодня, в точности воспроизводят изготовленные в 1913 году по эскизам Этторе Фаджуоли и Аугусто Марьетте к открытию оперного фестиваля? Можно вообразить, что время стояло на месте, хотя история ныне движется к своему концу. Иногда мне и вправду кажется, будто человечество так и осталось сидеть в Оперном театре Каира на празднике безудержного прогресса. Рождество 1871 года. Впервые звучит увертюра к «Аиде». С каждым тактом плоскость партера клонится чуть-чуть сильнее. По Суэцкому каналу скользит первый пароход. На мостике стоит неподвижная фигура в белой адмиральской форме и держит в руке подзорную трубу, направив ее в пустыню. Леса увидишь вновь, гласит обещание Амонасро. Известно ли вам, что во времена Сципиона из Египта в Марокко можно было добраться под сенью деревьев? Под сенью деревьев! А сегодня из оперного театра вырывается пламя пожара. Шумное пламя. С треском ряды партера вместе со слушателями исчезают в оркестровой яме. Сквозь клубы дыма под потолком вниз спускается необычная фигура. [48]Di morte l’angelo a noi s’appressa. Già veggo il ciel dischiudersi. Но я откланиваюсь. С этими словами Сальваторе поднялся. Вам, сказал он, прощаясь, конечно, известна моя манера в поздний час читать лекции. А я долго еще сидел в кафе на площади с оставшимся перед глазами после ухода Сальваторе образом вторгшегося к нам ангела и записывал рассказ. Было уже точно за полночь, официант в зеленом фартуке в последний раз обошел заведение, когда мне почудилось, будто я слышу стук копыт по мостовой на площади и скрип колес. Самого экипажа я не увидел. Вместо него во мне выплыло на поверхность другое представление «Аиды» на открытой сцене, которое я в детстве вместе с матерью видел в Аугсбурге, не сохранив о нем никаких воспоминаний. Победное шествие жалких на вид всадников и нескольких тоскливых слонов и верблюдов, которых, как я между тем выяснил, специально позаимствовали тогда в цирке Кроне, сделало несколько кругов перед моими глазами, будто я никогда и не забывал его, что, как и тогда, погрузило меня в глубокий сон, а проснулся я – и до сих пор не могу найти этому объяснения – лишь утром в своем номере в «Золотой голубке». [49]
В заключение добавлю только, что в апреле 1924 года австрийский писатель Франц Верфель навестил в венском Ларингологическом госпитале Маркуса Хайека своего друга Франца Кафку, принес ему букет роз и снабженный посвящением экземпляр своей вышедшей недавно и встреченной с большим воодушевлением книжки. Однако пациент, который к тому времени весил от силы 45 килограммов и которому вскоре предстоял последний переезд в Клостернойбург, едва ли успел ее прочитать, и, наверное, это не самая большая потеря, о какой стоило бы сокрушаться. Так, во всяком случае, показалось мне, когда несколько месяцев назад я пролистал сей роман об опере. По-настоящему впечатлило меня только одно: именно тот экземпляр, который сложными обходными путями попал ко мне в руки, содержал экслибрис некоего д-ра Германа Самсона, по-видимому настолько любившего «Аиду», что собственным именным книжным знаком он избрал пирамиду, символ смерти.
Доктор К. едет в Риву, на воды
В субботу, 6 сентября 1913 года, вице-секретарь Пражского общества страхования рабочих от несчастных случаев доктор К. едет в Вену, чтобы принять участие в конгрессе по гигиене и неотложной помощи. Вся дальнейшая судьба раненого существенно зависит от качества помощи на поле боя, читает он в газете, купленной в Гмюнде, но ведь и при бытовых несчастных случаях влияние первой помощи на последующий прогноз весьма велико. Фраза вселяет в доктора К. неизъяснимую тревогу, как и сам по себе предстоящий конгресс, плотно, будто бинтами, обмотанный общественными мероприятиями. За окном уже станция Хайлигенштадт. Пустая, зловещая, с порожними составами. Осталось лишь несколько остановок. Доктору К. совершенно ясно, что нужно было на коленях умолять директора не брать его с собой. Но теперь-то, конечно, поздно.
В Вене доктор К. разместился в отеле «Матчакерское подворье» из почтения к Грильпарцеру, который всегда там обедал. Жест уважения, который, к сожалению, не принес результатов. Бóльшую часть времени доктор К. чувствует себя отвратительно. Он крайне подавлен, и у него что-то со зрением. И хотя он говорит «нет» почти всякий раз, когда его куда-нибудь приглашают, тем не менее ему кажется, что он все время окружен просто чудовищным количеством людей. Он сидит за столом, будто привидение, жестоко страдая от агорафобии, и каждый скользнувший по нему взгляд пронзает его насквозь. Рядом с ним, некоторым образом почти вплотную, Франц Грильпарцер, уже невероятно старый. Злобно кривляется, а один раз даже кладет руку ему на колено. По ночам у доктора К. припадки. Берлинская история не опускает его. Он без конца ворочается в постели, кладет на лоб холодный компресс, подолгу стоит у окна, смотрит вниз на улицу и желает лишь одного – лежать несколькими ярусами ниже, глубоко под землей. Совершенно невозможно, запишет он на другой день, вести единственно возможную жизнь – жить вместе с женщиной, но так, чтобы каждый был свободен, каждый сам за себя, не состоять в браке ни для видимости, ни по сути, просто быть вместе; совершенно невозможно сделать этот единственно возможный шаг за пределы мужской дружбы, ведь там, стоит лишь пересечь установленную границу, уже занесена нога, которая растопчет его.
Но самое мучительное, наверное, что все как-то еще продолжается. Например, нынешним утром доктор К. позволил Отто Пику уговорить себя поехать с ним вместе в Оттакринг в гости к Альберту Эренштейну, от чьих стихов лично ему, доктору К., как бы он ни старался, ни жарко ни холодно. А вы радуетесь кораблю, оскверняете парусами море, я хочу рухнуть на самую глубину, растаять, ослепнуть, как лед… В трамвае доктор К. вдруг чувствует острое отвращение к Пику, ведь в его характере ощущается некий незначительный изъян, из которого, как доктор К. теперь обнаружил, иногда по всей личности расползается что-то неприятное. Раздражение доктора К. лишь возрастает, когда оказывается, что Эренштейн, в точности как Пик, носит черные усики и вообще с виду мог бы быть его близнецом. Как две капли воды, поневоле думал, наверное, все время доктор К. По дороге в Пратер общество обоих кажется ему все более странным и пугающим, а на пруду, в лодке, он уже ощущает себя прямо-таки их пленником. И то, что они привозят его обратно к берегу, служит слабым утешением. С тем же успехом они могли бы убить его веслом. Лиза Кацнельсон, которая тоже с ними, катается на карусели «День в джунглях». Доктор К. замечает, как она беспомощна, сидя там, наверху, в пышном, хорошо скроенном, но сильно поношенном платье. По отношению к ней, как и вообще часто к женщинам, в нем вспыхивает сострадание, кроме того, у него непрерывно болит голова. Но когда все решают для смеха сфотографироваться, будто они все вместе летят в аэроплане над огромным колесом обозрения и шпилями Обетной церкви, доктор К., к собственному удивлению, оказывается единственным, кто на такой высоте способен еще продемонстрировать некое подобие улыбки.
14 сентября доктор К. едет в Триест. Целых двенадцать часов он проводит один в углу купе поезда Южной железной дороги. Неспособность двигаться разрастается в нем. Пейзажи за окном сплошь лепятся друг к другу, осиянные блеском совершенно неправдоподобного осеннего освещения. И хотя сам он почти не двигается, вечером, в десять минут десятого, доктор К. непостижимым образом и вправду оказывается в Триесте. Город уже объят темнотой. Доктор К. велит прямиком везти себя в отель неподалеку от порта. Сидя в запряженной лошадьми пролетке за широкой спиной извозчика, он представляется себе самому весьма таинственным персонажем. Люди на улице как будто останавливаются и смотрят ему вслед, словно хотят сказать: а вот и он, наконец.
В отеле он ложится на кровать, скрещивает руки под головой и всматривается в потолок. Отдельные крики проникают в комнату снаружи сквозь волнуемые потоками воздуха занавески. Доктору К. известно, в этом городе есть бронзовый ангел, который убивает приезжих с севера, и он мечтает выйти наружу. Находясь на самой границе между звенящей усталостью и дремотой, бродит он по улицам вокруг порта, кожей чувствует, каково было бы ему, человеку свободному, ждать на тротуаре и вдруг подняться и поплыть над землей. Кружащие по потолку световые пятна предупреждают: в любой момент они готовы прорваться, что-то вот-вот распахнется. Уже сыплется штукатурка, а сквозь облако гипсовой пыли, медленно заполняя собой полумрак, на больших, белых, шелково блестящих крыльях спускается сверху фигура в фиолетово-синих одеждах, обвязанная золотой бечевой, в горизонтально вытянутой руке ее зажат меч. Воистину Ангел, подумал доктор К., едва смог снова дышать, весь день летит он ко мне, а я в неверии своем об этом не ведаю. Вот сейчас заговорит он со мной, подумал доктор К. и опустил взгляд. Подняв глаза вновь, обнаружил, что, хотя ангел еще здесь и висит довольно низко под потолком, который уже закрылся, это не живой ангел, а лишь раскрашенная деревянная фигура с носовой части корабля, какие обычно подвешивают к потолку в заведениях, где гуляют матросы. Свечи вставляют в навершие рукояти меча, чтобы, плавясь, сало не капало вниз.
На следующее утро в легкий шторм доктор К., мучимый, хоть и не слишком сильно, морской болезнью, пересек Адриатику. Долго еще после того, как он ступил, если можно так выразиться, на твердую почву Венеции, в его теле одна за другой накатывали волны. В отеле «Зандвирт», где он остановился, в приступе оптимизма, вызванном, вероятно, тем, что недомогание его постепенно успокаивается, он пишет Фелиции в Берлин письмо о том, как в голове у него все сейчас дрожит, но он все равно хочет выбраться в город, испробовать, чтó тот может предложить путнику, такому, как он, доктор К. И даже хлынувший с неба дождь, который равномерно обернул все силуэты серо-зеленой пленкой, не удержит его от осуществления этого плана, нет, как раз наоборот, ведь тем вернее, так он полагает, смоются с него венские дни. Однако ничто не подтверждает, что в тот день, 15 сентября, доктор К. действительно покидал отель. По сути, невозможным представляется уже то, что он вообще находился здесь, и насколько же более немыслимо для него, и без того находившегося на грани растворения, было бы отважиться выйти под эти полные вод небеса, под которыми растекаются даже камни. Итак, доктор К. остался в отеле. Ближе к вечеру, в сумерках холла, он снова писал Фелиции. О желании осмотреть город нет больше и речи. Вместо этого на листе сразу под эмблемой отеля с кораблями и яхтами теснятся заметки его отчаяния. Он, мол, совсем один и, кроме персонала, ему не с кем перемолвиться словом, отчаяние почти захлестнуло его, и он опять, это он может сказать определенно, пребывает в привычном, высшей справедливостью предназначенном ему состоянии, которое сам он преодолеть не властен и выносить которое ему предстоит до конца дней.
Как на самом деле доктор К. провел эти несколько дней в Венеции, мы не знаем. Но мрачное настроение, похоже, не оставляло его. Да, только она одна могла, как он предполагает, дать ему сил в принципе уберечь себя от этого города, от этой Венеции, которая, несмотря на встречающихся повсюду, будто в насмешку именно над ним, молодоженов в свадебном путешествии, явно произвела на него глубочайшее впечатление. Как она прекрасна, пишет он, с восклицательным знаком и в одном из тех лишь слегка смещенных выражений, в которых язык на мгновение позволяет чувствам исчерпать себя до конца. Как она прекрасна и как ее у нас недооценивают! Но вот о частностях доктор К. хранит полное молчание. И мы, как сказано выше, не знаем, что он вообще видел в действительности. Нет даже никаких указаний на то, что он посетил Дворец дожей, хотя в последовавшем всего несколько месяцев спустя воплощении его фантазий о судебном процессе и исполнении наказаний камеры «Свинцовой тюрьмы» займут весьма важное место. Мы знаем только, что в Венеции он провел четыре дня, а затем с вокзала Санта-Лючия отправился в Верону.
По прибытии в Верону он тем же вечером прямо с вокзала по Корсо вышел в город и долго блуждал по улицам и переулкам, пока усталость не привела его в церковь Святой Анастасии. Со смешанным чувством благодарности и раздражения он позволил себе некоторое время отдохнуть в прохладном полутемном помещении, потом снова поднялся и, выходя из церкви, провел пальцами по мраморным локонам карлика – словно это его младший брат или сын, – сотни лет не покидающего свой пост под тяжким грузом чаши со святой водой у основания одной из массивных колонн. Ничто в его записях не свидетельствует о том, что он видел прекрасную фреску Пизанелло со святым Георгием над входом в капеллу Пеллегрини. Но есть основания полагать, что на выходе из-под сводов церкви, когда доктор К. вновь оказался на пороге между темным пространством внутри и светом снаружи, ему на мгновение почудилось, будто вплотную к той церкви, которую он покидает, пристроена другая, точно такая же: произошло своего рода удвоение, знакомое ему по сновидениям, когда все без конца ужасающим образом расщеплялось и множилось.
Ближе к вечеру доктор К. стал замечать, что все больше людей выходят на улицы, очевидно просто для удовольствия, и все они идут под руку по двое, по трое, а то и в еще большем количестве. Возможно, именно афиши spettacoli lirici all’Arena[50], еще с августа развешанные в городе на каждом углу и заставлявшие глаза его вновь и вновь расшифровывать заглавные буквы АИДА, превратили для него устроенную веронским населением демонстрацию не отягощенного ничем бытия и всеобщей сплоченности в театральное представление, затеянное для того только, чтобы указать на собственную его отъединенность и извращенность; причем эта мысль, более не отпускавшая его, возбуждала в нем страстное желание от нее же спастись, сбежав, например, в синематограф, скорее всего в Cinema Pathè di San Sebastiano. Плача, как доктор К. записал днем позже в Дезенцано, он сидел в кинотеатре и следил, как в световом конусе пылинки превращаются в картины. Однако запись, сделанная им, не содержит указаний на то, какой именно фильм он смотрел тогда, 20 сентября, в Вероне. Был ли это действительно, как я разузнал в городской библиотеке, фильм «La lezione dell’abisso»[51], который нигде больше не шел, только в тот день в «Пате», и который сопровождался там кинохроникой парада кавалерии в присутствии Его Величества короля Виктора Эммануила III, или все-таки, как я предполагал с самого начала, картина, которая в тот год имела заметный успех в синематографах Австрии: история о несчастном студенте из Праги, лишившем себя любви и жизни, после того как 13 мая 1820 года он отписал свою душу некоему господину Скапинелли. Доктора К. в этом фильме, наверное, растрогали необычные натурные съемки, кадры, проецировавшие на экран мерцающий контур его родного города, не говоря уже, разумеется, о драме самого Балдуина, заглавного персонажа, в котором он, конечно, не мог не увидеть собственного двойника, подобно тому как тот распознал своего – в неизменно сопровождавшем его близнеце в темных одеждах, от которого он никак не мог отделаться. В одной из первых же сцен Балдуин, лучший фехтовальщик Праги, бросает вызов своему отражению, и оно, к его ужасу, выходит из рамы зеркала, чтобы отныне беспокойным духом следовать за ним. Разве не должна была эта история показаться доктору К. описанием битвы, которая, как и другая, на Петршином холме в центре Праги, предполагает интимные до саморазрушения отношения главного персонажа с соперником – настолько, что загнанный своим преследователем в угол, он, в конце концов, вынужден признаться: я обручен, я это признаю. Что остается такому вот загнанному в угол, кроме как попытаться избавиться от молчаливого компаньона посредством пистолетного выстрела, кстати, зримо изображенного в этом немом кино в виде небольшого облачка дыма. В последнее мгновение, изъятое из хода времени, когда дым рассеивается, Балдуин освобождается от бредового представления. Но, облегченно вздохнув, тут же чувствует, как пуля проходит сквозь его собственную грудь, и умирает внизу экрана демонстративной смертью, а вся эта мерцающая, словно гаснущая свеча, сцена являет собой беззвучную арию погибающего героя. Подобного рода последние содрогания, какие обычно представляют в опере, бестолковые, как выразился доктор К., блуждания голоса по мелодии, вовсе не казались ему смешными, он видел в них выражение нашего, так сказать, естественного несчастья: всю нашу жизнь, как замечает он в другом месте, мы умираем, лежа на театральных подмостках.
21 сентября доктор К. останавливается в Дезенцано на южном берегу озера Гарда. По случаю приезда вице-секретаря пражского Общества страхования рабочих от несчастных случаев большинство жителей городка собрались на рыночной площади. А доктор К. лежит в Дезенцано, на озере Гарда, в траве: перед глазами волны колышут камыш, обзор ограничен сирмионской косой справа и полоской берега до Манербы слева. Просто лежать в траве – в хорошие времена одно из любимых занятий доктора К. Он наслаждается радостями (и, как он пишет, только радостями) нарушения сословных границ, например однажды в Праге, когда некий весьма знатный господин, с которым ему доводилось иметь дело по службе, промчался в экипаже, запряженном парой лошадей. Но в Дезенцано даже и это скромное счастье не рождается. Напротив, он только чувствует себя больным, больным во всех мыслимых смыслах. Единственное утешение, что никто не знает, где он. Жители Дезенцано не сообщают, сколько времени они в тот вечер провели в ожидании пражского вице-секретаря и в котором часу разочарованные разошлись. Кто-то из них якобы заметил, что те, с кем мы связываем надежды, неизменно являются лишь тогда, когда никому уже не нужны.
После такого безрадостного дня – для доктора К. в ничуть не меньшей степени, чем для жителей Дезенцано, – он проведет три недели в курортном заведении доктора фон Хартунгена в Риве, куда доберется паровым катером еще до наступления ночи. Слуга в длинном зеленом фартуке, закрепленном сзади латунной цепочкой, провожает доктора К. в его комнату, с балкона которой он в наступающих сумерках вглядывается в исполненную совершенного покоя даль раскинувшегося перед ним озера. Только синее на синем, ничто, кажется, более не движется, даже катер, который уже изрядно отошел от берега. Завтра начнутся лечебные процедуры по расписанию. Насколько возможно, доктор К. постарается между холодными обливаниями и назначенным ему лечением электричеством полностью погружаться в тишину и покой, однако горечь страдания в его отношениях с Фелицией и в ее отношениях с ним вновь и вновь возвращается, словно сжавшись в комок чего-то живого, и набрасывается на него, особенно при пробуждении или во время еды. В такие минуты ему кажется, будто его разбил паралич и он не способен держать даже столовый прибор.
Кстати, справа от доктора К. за столом сидит старый генерал, который, хотя и молчит почти все время, но если вдруг заговорит, высказывает очень здравые суждения. Так, он однажды сказал, внезапно подняв взгляд от раскрытой книги, что, если не ошибается, между логикой плана битвы и логикой оперативной сводки – а ему ли не знать то и другое – простирается неохватное поле совершенно непрозрачных вещей. Мелочи, ускользающие от восприятия, определяют все! Как и в величайших в истории сражениях. Мелочи весом в 50 тысяч убитых солдат и лошадей в битве при Ватерлоо. В конечном счете все на свете зависит от удельного веса. Стендаль имел об этом более точное представление, чем любой генеральный штаб, и теперь, на старости лет, он бы пошел к нему в ученики, чтобы не помереть так вот, без всякого понимания. Ведь эта безумная идея, будто человек способен одним поворотом руля, только усилием воли повлиять на ход вещей, по сути, смешна, поскольку все уже определено огромным многообразием связей вещей друг с другом.
Слушая изречения соседа по столу, доктор К., хотя и знает, что замечания адресованы отнюдь не ему лично, все же ощущает в себе всплеск убежденности и своего рода молчаливую солидарность. Примечательным образом теперь и молоденькая девушка слева от него, которая, как ему кажется, страдает от того, что по правую руку от нее за столом разместился столь молчаливый господин, то есть он сам, приобретает для него отчетливые черты. Она скорее небольшого роста, приехала сюда из Генуи и выглядит совершенной итальянкой, хотя на самом деле она из Швейцарии, и у нее, как теперь выясняется, очень необычный, с низкими тонами, голос. Каждый раз, когда она таким голосом произносит обращенные к нему слова, что случается довольно редко, доктор К. воспринимает это как знак особенного доверия. Она кажется ему драгоценной в своей болезни, и вскоре в один из вечеров он уже катает ее по озеру на лодке. Скалы вздымаются из воды в изысканном осеннем освещении, почти что зеленоватые, словно вся местность представляет собой альбом, а горы на чистых листах бумаги зарисованы на память его владелице тонко чувствующим дилетантом.
Там, на воде, они рассказывают друг другу каждый свою историю болезни, оба, хочется верить, воодушевлены временным улучшением и пребывают во власти умиротворяющего дурмана. Доктор К. развивает обрывочную теорию бестелесной любви, которая не знает разницы между сближением и отдалением. Если бы мы только раскрыли глаза, говорит он, мы бы постигли, что наше счастье – природа, а вовсе не тела, давно уже к природе более не принадлежащие. В ложной любви (а всякая любовь ложна) любовники закрывают глаза или, что то же самое, широко открывают их от жадности. Никогда люди не бывают беспомощнее и безумнее, чем в таком положении. Представлениями овладеть уже невозможно. Человек побежден постоянным давлением изменений и повторений, а в этом состоянии, как доктор К. достаточно хорошо знает по своему опыту, распадается все, даже образ любимого человека, за который ты все же стараешься ухватиться. Странно, впрочем, что в подобных состояниях, по его мнению, и вправду граничащих с сумасшествием, он способен помочь самому себе лишь тем, что натягивает поверх собственного сознания воображаемую черную наполеоновскую треуголку. Как ему представляется, в данный момент нет ничего более бесполезного, чем такая вот треуголка, поскольку здесь, вдали от берега, они вправду почти бестелесны и естественным образом постигают собственную малозначительность.
В соответствии с приведенными рассуждениями, выдающими желаемое доктором К. за действительное, они условились, что ни один из них никогда никому не назовет имени другого, что ни клочка бумаги, ни одной фотографии, ни единого написанного слова не получит ни один из них от другого и что по прошествии нескольких дней, которые им осталось провести вместе, они спокойно расстанутся и отпустят друг друга. Правда, это оказалось не так-то просто, и, когда пришел час прощания, доктору К. пришлось выделывать разные комические штуки, чтобы девушка из Генуи не разрыдалась при всем честном народе. Когда доктор К. наконец спустился с ней вместе к причалу, откуда отходил катер, и она нетвердой походкой перешла по мосткам на борт, ему вспомнилось, как несколько дней назад они оба сидели в обществе еще нескольких человек и молодая, очень богатая, очень изящная русская дама от скуки и от отчаяния – потому что люди утонченные гораздо сильнее страдают в обществе людей неутонченных, чем наоборот, – раскладывала им карты. Как обычно бывает, при этом не выяснилось ничего важного, все больше забавное и смешное. Только когда подошла очередь девушки из Генуи, выпал расклад, совершенно однозначно, как разъяснила русская, указывающий, что замужества ждать не приходится. Доктора К. в тот миг охватила сильнейшая тревога, поскольку именно этой девушке, которая одна только и вызвала у него симпатию и которую он из-за ее зеленых глаз про себя прозвал – с тех самых пор, как впервые увидел, – морской девой, именно ей карты предсказали безбрачие, хотя ничто в ней не наводило на мысли о старой деве, за исключением разве только прически, как он понимает теперь, когда видит ее в последний раз и она немного неловко чертит ему в воздухе левой рукой – правая спокойно лежит на ограждении – знак, что все кончено.
Катер отчалил и, несколько раз прогудев, двинулся под углом к берегу вдаль. Ундина по-прежнему стояла у ограждения. Ее уже едва можно было различить. В конце концов и судно почти исчезло вдали, виден был лишь белый след, оставленный им на водной глади, которая тоже постепенно выравнивалась. Что касается карт, то ведь и для него, осознал он на обратном пути в санаторий, расклад выпал недвусмысленный, так как все карты, обозначенные не одними лишь цифрами, а человеческими фигурами, каждый раз ложились на максимально возможном расстоянии от него, с самого краю. Да-да, один раз выпало всего-навсего две такие карты, в другой раз – вообще ни одной, и, увидев этот явно весьма необычный расклад, русская дама снизу вверх посмотрела ему прямо в глаза и сказала, что он, несомненно, самый необычный гость в Риве за долгое время.
На следующий день после отъезда русалки, вскоре после обеда, когда, следуя распорядку, доктор К. прилег отдохнуть, он услышал торопливые шаги в коридоре возле своей комнаты, а потом, едва воцарился привычный покой, вновь шаги, теперь уже в обратном направлении. Выглянув в коридор, чтобы уяснить себе причину беготни, идущей вразрез со всеми здешними установлениями, он увидел, как доктор фон Хартунген в развевающемся белом халате, сопровождаемый двумя медсестрами, как раз заворачивает за угол. Ближе к вечеру в общих помещениях царила странно напряженная атмосфера, а во время полдника бросалась в глаза неразговорчивость персонала. Гости переглядывались с некоторой тревогой, как дети, с которыми родители в наказание перестали разговаривать. На ужине отсутствовал также и сосед справа, гусарский генерал в отставке Людвиг фон Кох, к чьему обществу доктор К. успел привыкнуть; к тому же он надеялся найти у него утешение по поводу своей утраты девушки из Генуи. Теперь у него вообще не было соседей, и за столом он сидел в полном одиночестве, будто пораженный каким-то заразным недугом. На следующее утро руководство санатория сообщило, что прибывший из венгерского Нойзидля генерал-майор Людвиг фон Кох накануне скончался после обеда. В ответ на настойчивые расспросы доктор К. услышал от доктора фон Хартунгена, что господин фон Кох сам лишил себя жизни при посредстве своего старого армейского пистолета. Ему удалось, добавил доктор фон Хартунген, нервно передернув плечами, совершенно загадочным образом прострелить себе одновременно сердце и голову. Его нашли в кресле, нависшим над раскрытым на коленях романом, который он всегда в это время читал.
Похороны, состоявшиеся в Риве 6 октября, являли собой безотрадное предприятие. У генерала не было ни жены, ни детей, а его единственного родственника не сумели вовремя известить. Присутствовали только доктор фон Хартунген, одна из медсестер и доктор К. Священник, с большим трудом согласившийся хоронить самоубийцу, исполнил службу в высшей степени формально. Его надгробная речь содержала единственную просьбу к Всевышнему: даровать сей душе, молчаливой и скорбной – quest’uomo più taciturno e mesto, произнес патер, возведя кверху взор, полный укоризны, – вечный покой. Доктор К. присоединился к этому скупому пожеланию и, после того как еще несколькими невнятными словами церемония была завершена, пошел назад, в санаторий, следуя на некотором расстоянии за доктором фон Хартунгеном. Осеннее солнце в этот октябрьский день так пригревало, что шляпу пришлось снять и нести в руке.
В ходе последующих лет длинные тени легли на те осенние дни в Риве-дель-Гарда, которые доктор К. порой называл столь же прекрасными, сколь и ужасными, и из тени мало-помалу выплыл силуэт бота со странно высокими мачтами и темными зарифленными парусами. Целых три года потребовалось, чтобы бесшумно, словно паря над водой, в гавань Ривы зашел этот бот. Причалил он ранним утром. На берег спустился человек в синем кителе и продел канаты в кольца причала; вслед за боцманом двое матросов в темных куртках с серебряными пуговицами спустили на берег носилки, на которых под шелковой цветастой шалью с бахромой, по-видимому, лежал человек. Это был охотник Гракх. О его предстоящем прибытии бургомистр Ривы, Сальваторе, был извещен еще нынче ночью голубем величиной с петуха, который влетел в окно опочивальни, а потом подлетел к самому его уху. Завтра, объявил он, прибудет умерший охотник Гракх, прими его как отец города. Немного поразмыслив, Сальваторе поднялся и исполнил все необходимые приготовления. Теперь, в рассветный час, когда с тростью в левой руке и цилиндром с креповой лентой – в правой, затянутой в черную лайковую перчатку, он входит в здание мэрии, он с удовлетворением отмечает, что его указания должным образом выполнены. С полсотни мальчиков стоят, выстроившись шпалерами, в длинном коридоре, а в одном из залов на верхнем этаже задней части дома, как сообщил встретивший его в прихожей боцман, уложен на надлежащем возвышении охотник Гракх – мужчина с косматыми волосами, всклокоченной бородой и загорелым, чтобы не сказать обветренным лицом.
Правда, мы, читатели, единственные свидетели разговора между охотником и бургомистром Ривы, узнаем о судьбе Гракха довольно мало, разве только что он много, очень много лет назад в Шварцвальде, где его назначили охотником против еще водившихся там тогда волков, преследуя серну – ну разве перед нами не самобытнейший ложный след за всю историю когда бы то ни было рассказанных историй? – преследуя серну, стало быть, сорвался с кручи и разбился насмерть, а челн смерти, который должен был переправить его на другой берег, взял неверный курс – то ли кормчий отвлекся созерцанием его прекрасной отчизны, то ли в минуту рассеянности не туда повернул руль, – в общем, с тех самых пор он, Гракх, по его собственному утверждению, не зная покоя, плавает в земных водах, время от времени то здесь, то там порываясь выйти на сушу. Непроясненным остается вопрос, кто виноват в этом, без сомнения, ужасном бедствии, ну и, конечно, вопрос, в чем, собственно, состоит вина, повлекшая за собой такое несчастье. Поскольку историю эту придумал именно доктор К., мне пришло в голову, что беспрерывным своим плаванием охотник Гракх отбывает наказание за тоску по любви, которая, как доктор К. пишет в одном из бесчисленных своих писем к Фелиции, всегда охватывает его, доктора К., именно там, где ни по видимости, ни по закону наслаждаться совершенно нечем. Чтобы разъяснить это не вполне очевидное наблюдение, доктор К. обращается к эпизоду «позавчерашнего вечера», когда поводом для такого рода противозаконной взволнованности, о которой идет речь в письме, становится его давний знакомый, сын – теперь почти сорокалетний – владельца еврейской книжной лавки в Праге. Этот ничем не привлекательный, чтобы не сказать неприятный человек, которому почти ничего в жизни не удалось и который теперь проводит дни напролет в крошечной лавке отца, вытряхивая пыль из вывешенных таллитов да глядя на улицу через зазоры между книгами, как особо отметил доктор К., большей частью неподобающими, причем, как известно доктору К., он ощущает себя немцем и потому каждый вечер, отужинав, отправляется в «Немецкий дом», чтобы в качестве члена Союза немецких казино провести там последние часы уходящего дня, предаваясь своим иллюзиям; так вот, этот жалкий человек не вполне объяснимым образом очаровал доктора К. в ходе эпизода, имевшего место, как он написал Фелиции, третьего дня. Совершенно случайно, пишет доктор К., позавчера вечером я заметил, как он выходит из дома. Он шел передо мной, словно тот молодой человек, каким он мне запомнился. На удивление широкие плечи, и шел он как-то особенно прямо, непонятно было – то ли распрямился, то ли не может согнуться; во всяком случае, он весьма костляв и у него массивная нижняя челюсть. Понимаешь ли теперь, любимая, пишет доктор К., можешь ли ты понять (скажи мне!), почему я едва ли не с вожделением пошел за этим человеком по Цельтнергассе, свернул на Грабен и с невероятным наслаждением наблюдал, как он скрылся в подъезде «Немецкого дома».
Еще бы чуть-чуть, и в этом самом месте доктор К. мог бы, как следует предположить, признаться в своем так и не нашедшем удовлетворения стремлении. Но вместо этого он поспешно, под предлогом того, что уже поздно, завершает письмо, начинающееся, кстати, замечанием по поводу фотографии племянницы Фелиции, о которой он говорит: Да, это дитя заслуживает, чтобы ее любили. Испуганный взгляд, словно там, в фотоателье, перед ним пронеслись все ужасы мира. Но в какой же любви нуждается это дитя, чтобы его миновали связанные с нею кошмары, составляющие в глазах доктора К. эти ужасы, причем в самую первую очередь? И как устроить таким образом, чтобы не лежать в конце, не имея возможности уйти из жизни, перед бургомистром, страдая от недуга, исцелить который может только постель, и чтобы не пришлось с улыбкой в миг самозабвения класть ему – тому, кто в конце концов должен тебя спасти, – руку на колено, как это делает охотник Гракх.
Il ritorno in patria[52]
В ноябре 1987 года, по прошествии летних месяцев, которые я провел за работой в Вероне, и еще двух или трех недель октября, когда я, устав ждать зимы, перебрался в горы – в отель, расположенный на границе зоны лиственных лесов чуть выше Брунико, – однажды ближе к вечеру гора Гросвенедигер выплыла из пучины свинцовых снежных туч столь таинственно, что я принял решение вернуться в Англию, прежде, однако, заехав на время в В., где не бывал с детства. Поскольку из Инсбрука в направлении Шаттвальда идет только один автобус, причем, насколько мне удалось выяснить, отправляется он в семь утра, мне ничего не оставалось, кроме как – вопреки связанным у меня с ним неприятным воспоминаниям – воспользоваться идущим через перевал Бреннер ночным экспрессом, который прибывает в Инсбрук примерно в половине пятого утра. В Инсбруке, как и всякий раз, когда я оказываюсь там независимо от времени года, погода была ужасная. Никак не больше пяти-шести градусов и тучи, такие низкие, что дома пропадали в них, а рассвет все никак не мог наступить. К тому же без остановки лил дождь. Так что выйти в город и прогуляться, хоть самую малость, по набережной Инна представлялось совершенно немыслимым. Я смотрел в окно на пустую вокзальную площадь. По черным блестящим улицам время от времени медленно проплывали автомобили. Последние экземпляры вымирающего рода амфибий, отступающие обратно в глубины вод. Кассовый зал тоже был пуст, если не считать невысокого, с зобом, человека в дождевике. Прижав к плечу острием вверх, словно карабин, насквозь мокрый сложенный зонт, он расхаживал взад-вперед, каждый раз поворачиваясь кругом точным, выверенным движением, будто нес караул у могилы неизвестного солдата. Затем один за другим стали появляться бродяги, совершенно непонятно откуда. Всего их оказалось двенадцать, и с ними еще одна женщина. Они стояли оживленной группой вокруг ящика с пивом «Гёссер», возникшего внезапно из ниоткуда в самом центре их кружка, не иначе как по волшебству. Сведенные вместе пресловутым тирольским пьянством, известным своими крайними формами далеко за пределами этой земли, инсбрукские бродяги – и только что выпавшие из колеи бюргерской жизни, и те, от кого остались уже лишь руины, – расселись теперь на скамье и, осуществив переход в философское, даже богословское, рассуждали как о повседневных делах, так и об основаниях всех вещей, причем с поразительной регулярностью именно тот из них, кто начинал вдруг говорить особенно громко, в середине фразы внезапно утрачивал дар речи. В высшей степени театральной и точной жестикуляцией подкрепляли они рассуждения о предмете дискуссии, ведущейся в данный момент, и, когда один из них вдруг взмахивал рукой, выражая совершенное презрение, поскольку был уже не в силах словами выразить мысли, по-прежнему теснившиеся в голове, мне казалось, что подобная жестикуляция родом из театра, ориентированного на особую, доселе неведомую манеру актерской игры. Возможно, причина в том, что все без исключения бродяги в правой руке держали бутылку с пивом и оттого играли, так сказать, левосторонне и одноруко. И возможно, думал я, наблюдая за ними, имело бы смысл во всех актерских школах в первый год обучения привязывать студентам правую руку за спиной. За наблюдениями такого рода я провел время до появления обычных ежедневных пассажиров, которые теперь во все возрастающем количестве передвигались по залу, тогда как бродяги внезапно испарились. Ровно в шесть распахнулись двери «Тиролер штубен», и я устроился за столиком этого заведения, своей безотрадностью многократно превосходящего прочие известные мне вокзальные рестораны, заказал себе утренний кофе и принялся перелистывать «Тирольские новости». Как первое, так и второе сказалось на состоянии моего духа скорее неблагоприятным образом. Поэтому меня нисколько не удивило, когда дело приняло еще более неприятный оборот: официантка, к которой я обратился с отнюдь не лишенным дружелюбия, по-моему, замечанием о тирольском кофе из цикория, в ответ обхамила меня прямо-таки с невообразимой злобой.
Мне, насквозь промерзшему, невыспавшемуся, грубость инсбрукской официантки сквозь кожу проникла прямо внутрь, как нервно-паралитический газ. Буквы дрожали и плыли перед глазами, и меня неоднократно охватывало чувство, будто все во мне закостенело. Только когда автобус выехал из города, постепенно стало получше. Дождь изливался с неба потоками, так что видны были лишь контуры домов, стоящих недалеко от дороги, гор же не было видно вовсе. Иногда автобус останавливался, чтобы впустить внутрь очередную пожилую женщину – казалось, они под своими черными зонтами стоят вдоль дороги через определенные промежутки. Вскоре таких тирольских женщин в нашем автобусе собралось уже немало. Они разговаривали друг с другом на хорошо знакомом мне с детства диалекте, по-птичьи артикулируя звуки глубоко в горле, причем говорили исключительно о дожде, который никак не хочет заканчиваться и много где на склонах гор уже привел в движение почвы. О гниющем на полях сене, о пропадающем в земле картофеле, о черной смородине, которой третий год подряд, считай, что и нет, о бузине, зацветшей нынче только в начале августа и тут же залитой дождем, и о том, что вряд ли где вызреет хоть одно пригодное в пищу яблоко. По мере перечисления тяжких последствий совершенно, казалось уже, никудышной погоды, нехватки тепла и света, за окном постепенно, сначала едва заметно, потом все очевиднее, распогодилось. Стала видна река Инн, ее извилистые каменистые берега, а вскоре и красивые зеленые луга. Выглянуло солнце, все вокруг заблестело, и тирольские женщины одна за другой умолкли, созерцая теперь, словно чудо, мелькавшие за окном пейзажи. Я и сам ощущал нечто похожее. Окружающую природу будто заново покрыли слоем лака – мы как раз выезжали из долины Инна в направлении перевала Ферн, – леса в клубах испарений, голубой небосвод; даже мне, прибывшему с юга и промаявшемуся в тирольской мгле всего несколько часов, это явилось как откровение. Мой взгляд выхватил нескольких кур – хотя дождь прекратился совсем недавно, а эти крошечные белые создания находились, как мне показалось, на бесконечном для них расстоянии от дома, где обитали. По какой-то по-прежнему не изъяснимой для меня причине эта картина – стайка кур посреди огромного поля – меня растрогала. Вообще-то я весьма часто не понимаю, что именно порой трогает меня в живых существах или вещах. Постепенно мы забирались все выше. Ярко-рыжие лиственницы пылали на горных склонах, а где-то вдали выпал снег. Мы пересекли перевал. Длинные осыпи, вниз по склонам углублявшиеся в леса, поразили меня сходством с пальцами в волосах; и опять я удивился характерной обычно для киносъемок затуманенной медлительности ручьев, неизменно – по крайней мере, в моем восприятии – падающих со скальных круч. На изгибе дороги из окна поворачивающего автобуса мне удалось бросить взгляд вниз и разглядеть в глубине темно-бирюзовые поверхности озер Самарангер и Фернштайн, с детства – с тех самых пор, как мы впервые ездили в Тироль на старом «мерседесе» шофера Гёля, – казавшихся мне воплощением мыслимой красоты.
Около полудня – тирольские женщины давно уже сошли в Ройте, Вайсенбахе, Халлере, Таннхайме и Шаттвальде – автобус вместе со мной, единственным пассажиром, добрался до таможни в Оберйохе. Погода тем временем снова испортилась. Темный, местами до черноты, облачный покров накрыл всю Таннхаймскую долину, которая производила теперь удручающее впечатление: словно она совершенно непроницаема для света и позабыта богом. Нигде ни малейшего движения. На видимой части растворяющейся бесконечно далеко внизу дороги ни единого автомобиля. С одной стороны вверх взмывают горы, теряясь в тумане, с другой – тянутся влажные болотистые луга, а позади них над долиной Фильса конусом вздымается состоящий сплошь из одних только иссиня-черных сосен лес Пфронтнервальд. Дежурный таможенник жил, как он сказал мне, в Мария-Райне и пообещал завезти мою сумку в «Энгельвирт», когда после работы поедет к себе через В. Так что теперь, обменявшись с ним еще несколькими словами об ужасной погоде, я лишь с небольшим кожаным рюкзаком за плечами мог через заливные луга, граничащие с нейтральной полосой, спуститься вниз по ущелью Альпштайгтобель в Крумменбах, а оттуда – через Унтерйох, Пфайффермюле и Энге-Плетт – выйти к В. В ущелье царила тьма, для дневного времени совершенно невообразимая. Только слева, над не видимым с тропы руслом ручья, мерцал слабый свет. Огромные сосны, по семь, а то и восемь десятков лет от роду, снизу совершенно без веток, вздымались вверх по склонам. Даже те, что росли на самом дне ущелья, распускали темно-зеленые кроны гораздо выше уровня тропинки. Время от времени, стоило воздуху наверху прийти в движение, вниз струйками стекала дождевая вода. Местами, где было чуть светлее, росли одинокие, давно уже сбросившие листву буки, ветви и стволы которых почернели от постоянной влажности. В ущелье ни звука, кроме разве что плеска воды, бегущей по своему руслу, – не вскрикнет ни одна птица, полная тишина. Ощущение давления в груди нарастало, казалось, чем дальше я спускаюсь, тем темнее и холоднее становится вокруг. Дойдя до одного из немногих относительно открытых мест – оттуда, словно с церковной кафедры, можно было бросить взгляд не только вниз, на водопад и небольшое озерцо, но и высоко в небо, причем было совершенно невозможно определить, какая картина мрачнее, – я разглядел вверху сквозь уходившие словно в бесконечные выси кроны деревьев, что в свинцово-серой вышине началась метель, до ущелья, правда, пока не добравшаяся. Когда еще через полчаса ущелье закончилось и передо мной открылись луга Крумменбаха, я надолго застыл под последними деревьями леса, глядя из темноты на серо-белое кружение снега, в беззвучности которого полностью растворились последние блеклые краски заброшенных мокрых полей. Недалеко от леса стоит Крумменбахская часовня, настолько маленькая, что одновременно участвовать в богослужении или возносить молитвы в ней могут никак не более десятка прихожан. Некоторое время я провел в ее стенах. Снаружи за крошечным окошком носились снежинки, и скоро мне уже представлялось, будто я в челне, бороздящем морские просторы. Запах сырой штукатурки превратился в морской воздух, на лбу я уже ощущал дуновение встречного ветра, пол закачался у меня под ногами, и я целиком предался фантазии о морском путешествии прямо с затопленных гор. Но лучше всего там, в Крумменбахской часовне, – если, конечно, не считать волшебного превращения ее стен в корпус деревянного судна, – мне запомнились остановки Крестного пути, изображенные неумелой кистью, скорее всего, примерно в середине XVIII века и наполовину уже разъеденные плесенью. Но даже и на более или менее сохранившихся изображениях удавалось с уверенностью различить лишь немногое – лица, искаженные болью и яростью, вывернутые неловко конечности, руку, занесенную для удара. Выдержанные в темных тонах одежды сливались со смутно угадываемым задним планом. И то, что удавалось разглядеть, можно было принять за своего рода сражение между душами отдельных рук и лиц, свободно плывущих во мраке распада. Я никак не мог и до сих пор не могу вспомнить, бывал ли я в Крумменбахской часовне в детстве, вместе с дедом, который повсюду брал меня с собой. Часовен, подобных этой, в окрестностях В. немало, и отголоски когда-то виденного и перечувствованного в них по-прежнему живут во мне: оттуда идут и страх перед человеческой лютостью, и соседствующая с ним тоска по царящей внутри тишине, совершенно неповторимой. Когда снегопад утих, я продолжил путь – вдоль Крумменбаха добрался до Унтерйоха и там, «У оленя», куда зашел погреться и собраться с силами перед оставшимся, вдвое большим отрезком пути, я уничтожил порцию хлебного супа, сопроводив ее тирольским пивом из пол-литровой кружки. Видимо по контрасту с убогими росписями в Крумменбахской часовне, мне вновь пришел на ум Тьеполо и моя давняя фантазия, что, выехав осенью 1750 года вместе с сыновьями Лоренцо и Доменико из Венеции через перевал Бреннер, в Цирле он вдруг решил продолжать путь не так, как ему советовали – из Тироля через Зеефельд, – а отправиться дальше на запад и, через Тельфс, маршрутом обозов с солью, через перевалы Ферн и Гайхт, перебраться в долину Таннхайма, а уже оттуда через Оберйох и долину Иллера выйти на равнину. Я представлял себе, как мучимый подагрой Тьеполо, которому тогда было уже под шестьдесят, в зимнюю стужу лежит с забрызганным известкой и краской лицом на самом верху строительных лесов в полуметре от потолка лестничной клетки Вюрцбургской резиденции и, преодолевая боль в правом предплечье, уверенно наносит прозрачный лак на мокрую штукатурку, а над ним мало-помалу проступает огромное живописное чудо. Размышляя подобным образом и время от времени еще возвращаясь мыслями к крумменбахскому живописцу, в тот же год зимой, может статься, трудившемуся над своими четырнадцатью миниатюрными остановками, ничуть не менее усердно, чем Тьеполо над знаменитой потолочной росписью, я отправился дальше лугами ниже Зоргшрофена и Зоргальпе – было около трех часов дня – и вскоре, немного не доходя до Пфайффермюле, выбрался на дорогу. До В. оставалось около часа ходьбы. Последние лучи дневного света постепенно угасали, когда я добрался до Энге-Плетта. Слева от меня была река, справа – сочащаяся влагой скальная круча, в которой на рубеже ХХ века пробили дорогу. Выше меня впереди, а вскоре и позади – только недвижный и темный еловый лес. Последний участок пути в реальности оказался столь же немыслимо долгим, каким был в моих воспоминаниях. В апреле 1945 года здесь произошел один из последних боев Второй мировой войны; в нем, как сообщают таблички на железном кресте, достоявшем в В. до наших дней, пали за родину Алоис Тимет из Розенхайма, двадцати четырех лет от роду, Эрих Даймлер из Штуттгарта, сорока одного года, семнадцатилетний Рудольф Ляйтенсторфер, место рождения неизвестно, и Вернер Хемпель из Бёрнеке (год рождения неизвестен). В недолгие годы детства, проведенные в В., мне доводилось слышать разные рассказы об этом бое, и я нередко представлял себе его участников с потемневшими от копоти лицами, с карабинами на изготовку, как они, притаившись, сидят за деревьями или перепрыгивают над бездной со скалы на скалу, надолго зависая в воздухе, пока я не переведу дыхание или не открою глаза.
Когда я вышел из Плетта, была уже почти ночь. От лугов поднимался белый туман; внизу, над изрядно отдалившимся теперь от меня руслом реки, возвышался черный остов лесопилки, которая в пятидесятые годы, вскоре после того как я пошел в школу, сгорела вместе со складом древесины, причем пожар был такой силы, что освещал всю долину. На дорогу тоже спустилась тьма. Мне пришло в голову, что прежде, когда она была засыпана мелким белым гравием, идти по ней было легче. Светлой лентой она бежала вдаль даже в безлунные ночи, думал я, и вдруг понял, что от усталости еле передвигаю ноги. Еще мне вдруг показалось странным, что на всем пути из Унтерйоха ни один автомобиль не обогнал меня и ни один не попался навстречу. Немного не доходя до первых домов В., я долго стоял на каменном мосту, прислушиваясь к равномерному шепоту речки Ах и вглядываясь в сомкнувшуюся вокруг темноту. На пустоши недалеко от моста, где росли ивы, красавка, репейник, коровяк, вербена и полынь, в летние месяцы послевоенных лет табором стояли цыгане. Когда мы ходили в бассейн, который община открыла в 1936 году ради поддержания здоровья жителей, нужно было пройти мимо цыган, и каждый раз в этом месте мама брала меня на руки. Через ее плечо я видел, как цыгане, оторвавшись от своих занятий, коротко взглядывают на нас и тут же снова опускают глаза, будто что-то их испугало. Не думаю, что кто-нибудь из местных жителей хоть словом с ними перемолвился, да и цыгане, насколько я знаю, тоже в деревню не ходили – ни продать что-нибудь, ни погадать на удачу. Откуда они приходили, как удалось им пережить войну, почему на лето они выбирали именно эту пустошь возле моста через Ах – такие вопросы возникают у меня в голове только теперь, например когда я листаю фотоальбом, который отец принес в подарок матери в первое военное, так сказать, Рождество. В нем собраны фотографии так называемой Польской кампании, аккуратно подписанные белыми чернилами. На некоторых можно увидеть цыган – их уже согнали тогда в лагеря. Вот они дружелюбно смотрят в объектив из-за колючей проволоки где-то в глубине Словакии, где отец со своим ремонтным взводом стоял за несколько недель до начала, так сказать, войны.
Тридцать лет, не меньше, не был я в В. И хотя на протяжении всех этих лет – а более длительного периода и не было в моей жизни – самые разные места, связанные для меня с В., вроде болота в старом русле Аха или пасторского леса, аллеи, ведущей в Хаслах, плотины электростанции, чумного кладбища в Петерстале или домика горбатого пьяницы в Шрее, то и дело возвращались ко мне в сновидениях или грезах и потому стали ближе, чем раньше, сама деревня, вдруг пронеслось в этот поздний час у меня в голове, отстояла от меня сейчас дальше любого другого места на земле. В каком-то смысле мне стало спокойнее, когда, обходя ее тускло освещенные улицы, я обнаружил, что все совершенно переменилось. Небольшой дом лесничего, с гонтовой крышей, парой оленьих рогов и годом постройки «1913» над входом, вместе с прилегающим к нему фруктовым садом превратился теперь в кемпинг; пожарного депо с красивой башней, внутри которой в молчаливом ожидании будущей катастрофы висели пожарные рукава, больше не существовало; все без исключения дома были радикально обновлены и надстроены верхними этажами; дом пастора, дом капеллана, школа, мэрия, в которую и из которой с точностью до минуты заходил-выходил однорукий писарь Фюргут, сыроварня, приют для бедных, бакалейно-галантерейная лавка Михаэля Майера – все, что не исчезло вовсе, подверглось основательному переустройству. Даже в «Энгельвирте» я ни на миг не почувствовал, что это место хорошо мне знакомо, хотя мы много лет жили здесь в квартире на втором этаже; все было перестроено начиная от внешних стен и заканчивая стропильной фермой, не говоря уже об интерьере. Заведение это, ныне вычищенное и обставленное в распространившемся по всей Баварии новонемецком альпийском стиле, предлагающее, как и следует из названия, изысканное гостеприимство, в свое время представляло собой сомнительной репутации трактир, в котором крестьяне торчали до глубокой ночи, особенно зимой, и нередко напивались до беспамятства. Но поскольку заведение было удачно расположено и за счет этого всегда находилось в центре событий, помимо дымного кабака, под потолком которого извивался самый запутанный дымоход, какой мне когда-либо приходилось видеть, «Энгельвирт» располагал еще огромным залом, где во время свадеб и поминок ставили длинные столы, и за ними размещалось полдеревни. Раз в две недели в зале показывали кинохронику и какой-нибудь фильм, например «Пиратскую любовь», «Никколо Паганини», «Томагавк» или «Монахов, девушек и пандуров». Мы смотрели, как пандуры мчатся через прозрачные березовые рощи, а индейцы несутся по бескрайним прериям; как скрипач-инвалид виртуозно играет под тюремными стенами, пока товарищ его перепиливает прутья решетки на окне своей камеры; смотрели, как генерал Эйзенхауэр по возвращении из Кореи выходит из самолета, винты которого продолжают медленно вращаться; смотрели, как монастырский охотник с разодранной медвежьими когтями грудью ковыляет вниз, в долину; видели, как политики у здания Парламента вылезают через задние дверцы «фольксвагенов»; и почти в каждой кинохронике мы видели груды руин в больших городах – от Берлина до Гамбурга, – причем долгое время я никак не связывал это с разрушениями последних военных лет, о которых и не знал ничего, а считал естественным, так сказать, состоянием больших городов. Но из всего виденного в зале «Энгельвирта» самое глубокое впечатление произвела на меня постановка «Разбойников» в 1948 или 1949 году, которую, должно быть, повторяли за зиму не один раз. Раз шесть, не меньше, сидел я в полутемном зале среди других зрителей, из которых многие специально приехали из окрестных деревень. Едва ли хоть одна постановка впоследствии вызвала у меня столь же сильное потрясение, как те «Разбойники» – ледяное одиночество старого Моора; наводящий ужас Франц бродит вокруг, одно плечо у него выше другого; блудный сын возвращается из богемских лесов домой; а еще – совершенно необычный поворот корпуса, всегда приводивший меня в экстаз, – исполнив его, смертельно бледная Амалия произносит: «Чу! Скрипнула калитка?» А перед ней уже стоит разбойник Моор, и теперь она может поведать, как ее любовь превращает раскаленную почву в зеленеющий луг, заставляет цвести дикий кустарник, но Амалия не узнаёт того, кто стоит перед нею и от кого ее, как думает она, отделяют моря, горы, целые страны. Каждый раз в этот миг мне хотелось вмешаться, одним-единственным словом объяснить Амалии: для того, чтобы переместиться из пыльной темницы в райские кущи любви, чего она так страстно желает, достаточно протянуть руку. Но поскольку я так ни разу и не отважился на подобное вмешательство, иной поворот, какой, вероятно, могли принять события на сцене, так и остался мне неведом. На исходе театрального сезона, в начале февраля, «Разбойников» один раз сыграли под открытым небом, на лужайке перед домом начальника почтового отделения, – в основном для того, чтобы сделать некоторое количество фотоснимков. И это воплощение зимней сказки стоило посмотреть не только из-за настоящего снега, который покрывал место действия, даже когда оно, по Шиллеру, разворачивалось под крышей, но главным образом из-за того, что разбойник Моор предстал перед нами верхом на лошади, что, конечно, в зале «Энгельвирта» было неосуществимо.
Думаю, именно в тот раз я впервые заметил, что взгляд у лошадей очень часто слегка безумный. Кстати, тогда на лужайке перед домом начальника почтового отделения состоялось не только последнее представление «Разбойников», но и вообще последнее в В. театральное представление. Только перед началом Великого поста актеры еще раз облачились в костюмы, чтобы принять участие в карнавальном шествии и позволить запечатлеть себя вместе со скоморохами и пожарной командой на групповой фотографии.
Ответом на мои звонки в «Энгельвирте» долго была полная тишина, но вдруг за стойкой регистрации возникла немногословная дама. Я не слышал, чтобы где-нибудь скрипнула дверь, не видел, откуда она вошла, она просто возникла, и все. И с нескрываемым неодобрением смерила меня взглядом, то ли из-за моего внешнего вида, в результате долгих скитаний вызывающего сострадание, то ли из-за моей необъяснимой рассеянности. Я попросил комнату на втором этаже, окнами на улицу, пока на неопределенный срок. И хотя удовлетворить мое желание не составляло труда, поскольку в гостиничном деле ноябрь – мертвый сезон, когда заметно сокращенный персонал, оставаясь в пустом заведении, печалится о каждом отъезжающем госте так, словно тот и вправду отъезжает навеки, дама за стойкой долго листала регистрационный журнал, прежде чем выдать мне ключ от комнаты. При этом она левой рукой придерживала вязаную кофту на груди, словно ей было холодно, а все необходимые действия обстоятельно и нерасторопно выполняла одной правой, тем самым, как мне казалось, добавляя себе времени на размышления, что за странный ноябрьский гость к ним пожаловал. Заполненный мною формуляр, где в качестве профессии я указал «иностранный корреспондент» и привел свой запутанный английский адрес, она изучала, подняв кверху брови, ибо когда такое бывало, да и вообще, с чего бы вдруг появиться здесь в ноябре – пешком! – небритому английскому корреспонденту да еще и снять в «Энгельвирте» комнату на неопределенное время. Эта дама, обычно, вне всякого сомнения, весьма уверенная и компетентная, совсем уже растерялась, когда на ее вопрос о багаже последовал ответ, что нынче же вечером его завезет пограничник с таможенного пункта в Оберйохе.
Насколько можно было судить, приняв во внимание реконструкцию, осуществленную в «Энгельвирте», предоставленная мне комната располагалась на том самом месте, где когда-то находилась наша гостиная, обставленная мебелью, купленной моими родителями в тот период жизни, когда стабильный рост отцовской карьеры за несколько лет сообщил им определенную уверенность, что отец, который в последние годы Веймарской республики вступил в так называемую стотысячную армию и как раз ожидал назначения унтер-офицером – военным техником, не только имеет в новом рейхе надежные перспективы, но и представляет собой в определенном смысле величину, не лишенную значимости. И вот, в соответствии с новым положением, с неписаными правилами и вкусовыми предпочтениями типичной для формировавшегося в те годы бесклассового общества супружеской пары, в восприятии моих родителей – оба они были родом из глухой провинции: из В. и из баварских лесов; у обоих за плечами остались непростые во многих смыслах детство и юность, – эта обстановка гостиной, вероятно, ознаменовала момент, когда им показалось, будто на свете все-таки есть высшая справедливость. Обстановка включала массивный буфет, где хранились скатерти, салфетки, столовое серебро и елочные украшения, а выше за стеклянными дверцами – столовый сервиз китайского фарфора, на моей памяти на стол ни разу не выставлявшийся; невысокий сервант, на котором стояли керамическая чаша, покрытая странной расцветки глазурью, и на вышитых салфетках – две симметрично расположенные хрустальные вазы для цветов; раздвижной обеденный стол с шестью мягкими стульями; кушетку с целой кучей подушечек ручной работы; два небольших альпийских пейзажа в черных лакированных рамах, косо висевших на стене; журнальный столик с сигарами и сигаретами в коробках, расписным керамическим подсвечником, пепельницей из латуни и оленьего рога, электрическим очистителем воздуха в виде совы. Помимо занавесок, штор, торшера и люстры, в обстановку гостиной входила еще бамбуковая жардиньерка, на разных этажах которой вели размеренное растительное существование комнатная липа, небольшая белая пихта, кактус-декабрист и зизифус колючий, или «Христовы тернии». Нужно упомянуть и часы, которые равнодушно вели счет времени на буфете в гостиной, и выставленные за стеклом, рядом с китайским сервизом, томики в холщовых переплетах – драмы Шекспира, Шиллера, Хеббеля и Зудермана. Эти недорогие издания Союза народных театров отец, которому вообще-то никогда не приходило в голову сходить в театр, а тем более прочитать пьесу, как-то в порыве культурной жажды приобрел у заезжего коммивояжера. Однако нынешний мой гостиничный номер, из окна которого я теперь смотрел на улицу, отстоял от всего этого невообразимо далеко, чего нельзя было сказать обо мне самом, ощутившем былую атмосферу с такой остротой, что, проснись я ночью от боя тех самых часов, я бы нисколько не удивился.
Как и большинство домов в В., «Энгельвирт» прежде был разделен по всей длине на две части широким коридором на первом и на втором этажах. Внизу с одной стороны находился зал, с другой – трактир, кухня, ледник и туалет. На втором этаже квартировал одноногий Саллаба, он появился в В. после войны, вместе с красавицей-женой, которая явно терпеть не могла наш городишко. У него была целая куча элегантных костюмов и галстуков с самыми разными булавками. Но в моих глазах особую привлекательность сообщал ему не столько действительно весьма примечательный для В. гардероб, сколько его единственная нога в сочетании с поразительной скоростью и виртуозным мастерством, с какими он перемещался на костылях. Саллабу называли рейнландцем; это слово долгое время оставалось для меня загадкой, и я был склонен соотносить его скорее с чертами человеческого характера. Кроме нас и семейства Саллабы, на втором этаже жила хозяйка «Энгельвирта», Розина Цобель, давно уже отошедшая от дел и проводившая дни напролет в своей полутемной комнате. Сидя в кресле, расхаживая туда-сюда или лежа на старомодном диване. И никто в точности не знал, то ли красное вино повергает ее в уныние, то ли именно от уныния пристрастилась она к красному вину. Никто не видел ее за работой: она не ходила за покупками, не готовила, не стирала и не убирала в комнате. Один-единственный раз я видел ее в саду с ножом в руке и пучком лука, она рассматривала грушевое дерево с первыми листочками. Однако дверь в комнату хозяйки «Энгельвирта» обычно бывала лишь притворена, я заходил к ней и часами разглядывал коллекцию открыток, собранную в трех фолиантах. С бокалом вина в руке хозяйка иной раз сидела рядом со мной за столом, но произносила вслух исключительно названия городов, на изображения которых я указывал. С течением времени все сказанные ею слова складывались в длинную жалобу, составленную из топонимов, скажем, Кур, Брегенц, Инсбрук, Альтаусзе, Хальштатт, Зальцбург, Вена, Пльзень, Мариенбад, Бад-Киссинген, Вюрцбург, Бад-Хомбург, Франкфурт-на-Майне. Немало там было и итальянских открыток – из Мерано, Больцано, Ривы, Вероны, Милана, Феррары, Рима, Неаполя. Одна из открыток, на которой изображена дымящаяся вершина Везувия, не знаю уж, каким образом, попала в фотоальбом моих родителей и теперь находится у меня. В третьем томе были собраны виды заморских стран, преимущественно Дальнего Востока – Голландской Ост-Индии, Японии и Китая. Коллекцию, состоявшую из сотен открыток, собрал в свое время муж Розины, старый хозяин «Энгельвирта», который до женитьбы промотал в путешествиях по миру бóльшую часть значительного наследства, а теперь вот уже несколько лет не вставал с постели. По слухам, он лежал в комнате, примыкающей к комнате Розины, и на бедре у него была незаживающая рана. Якобы в юности он, пряча от отца, засунул в карман брюк сигару, которую курил без разрешения. Рана от полученного ожога вскоре почти прошла, но позднее, когда ему было уже около пятидесяти, открылась вновь и теперь вовсе не заживает, наоборот, год от года становится все больше, и он, мол, запросто может вскоре совсем сгореть от антонова огня. Это совершенно непонятное мне утверждение я воспринял тогда как своего рода приговор и в воображении разукрасил мученичество хозяина «Энгельвирта» всеми мыслимыми огненными оттенками. Но вот его самого я не видел ни разу, да и хозяйка, особа неразговорчивая, никогда, по-моему, его не упоминала. Несколько раз, мне, правда, чудилось, будто я слышу, как он сопит в комнате за стеной. Потом, с течением лет мне стало казаться все менее вероятным, что хозяин «Энгельвирта» вообще существовал и не был плодом моего воображения. Однако предпринятые мною впоследствии в В. изыскания не оставили сомнений в его реальности. Они показали также, что дети хозяев, Йоханнес и Магдалена, которые были немногим старше меня, воспитывались вне дома, у тетки, поскольку после рождения Магдалены хозяйка стала крепко выпивать и не могла более заботиться о детях. Впрочем, по отношению ко мне хозяйка проявляла бесконечное терпение, может быть потому, что в остальном ей было незачем обо мне беспокоиться. Довольно часто я сиживал рядом с ней на кровати: она в изголовье, а я в ногах – и рассказывал ей все, что знал наизусть, включая «Отче наш», «Аве Мария» и другие молитвы, от которых губы ее, должно быть, давным-давно отвыкли. Я и теперь вижу ее: вот она сидит, закрыв глаза, прислонив голову к спинке кровати, а рядом с ней, на мраморном ночном столике, стоит бутылка кальтерера и стакан; она слушает меня, и на лице ее, быстро сменяя друг друга, чередуются выражения боли и облегчения. Это она научила меня завязывать шнурки и каждый раз, когда я выходил из ее комнаты, возлагала руку мне на голову. Ощущение ее большого пальца на лбу иногда возвращается ко мне и теперь.
На противоположной стороне улицы был Дом Зеелосов, где жили Амброзеры, и моя мать довольно часто к ним захаживала, поскольку у нее сохранились теплые отношения с детьми старых Амброзеров, лет на десять моложе ее самой, – в детстве ей нередко поручали смотреть за ними. Амброзеры еще в девятнадцатом веке перебрались в В. из тирольского Имста, и впоследствии, когда их поведение, случалось, вдруг вызывало в деревне недовольство, про них всегда говорили «эти тирольцы». В иных случаях их звали по наименованию дома, в котором они жили, то есть не Амброзерами, а Зеелосами: Мария Зеелос, Лена Зеелос, Бенедикт Зеелос, Лукас Зеелос и Регина Зеелос. Мария Зеелос, грузная медлительная женщина, после смерти своего мужа Баптиста год за годом ходила в черном и дни напролет только и делала, что варила кофе по-турецки, возможно в память о Баптисте, который был архитектором и до Первой войны восемнадцать месяцев проработал в Константинополе, откуда, вероятно, и привез искусство приготовления кофе. Почти все важные сооружения в В. и окрестностях – школа, вокзал в Хаслахе, гидроэлектростанция, снабжавшая электричеством всю округу, – проектировались за кульманом архитектора Амброзера и возводились под его наблюдением. Умер он, как твердили люди, слишком рано – от апоплексического удара, в первомайский праздник 1933 года. Когда его нашли, он лежал у себя в конторе, завалившись на светопечатный аппарат, за ухом – простой карандаш, в руке циркуль. Зеелосы жили теперь на те средства, что оставил Баптист, и на то, что приносили поля и два дома, приобретенные им при жизни. Контору Баптиста сдали внаем, причем, странным образом, двадцатипятилетнему турку по имени Экрем, которого, как говорили, бог весть откуда занесло в В. после переворота, и теперь у себя на кухне он в изрядных количествах варил турецкий лукум и продавал его на ярмарках. Нельзя исключить, что именно Экрем научил Марию Зеелос варить кофе по-турецки, и он же по каким-то своим каналам добывал для нее настоящие кофейные зерна – они были у Марии всегда, даже в самые трудные времена. Лена Зеелос однажды родила от Экрема ребенка, который, правда, прожил всего неделю, как все говорили, к счастью. Я отчетливо помню крошечный белый гробик, который везли на кладбище вороные кони крестьянина Эрда на большом черном катафалке, а во время погребения с кучи вынутой глины вниз, в маленькую могилку, стекала дождевая вода. Вскоре после этого, если не еще раньше, Экрем испарился из В., поговаривали, что в Мюнхен, где, по слухам, открыл торговлю экзотическими фруктами, а Лена перебралась в Калифорнию, там вышла замуж за инженера телефонной связи и вместе с ним погибла в автокатастрофе.
Семейство Зеелос включало еще трех незамужних сестер Баптиста, тетушек Бабетту, Бину и Матильду, живших в соседнем доме, и одинокого дядюшку Петера, каретного мастера, чья мастерская располагалась в задней части их дома. В послевоенные годы, когда ему было, наверное, около шестидесяти, он почти все время проводил внизу, в деревне, наблюдая за работой других. Очень редко случалось, чтобы Петер сам с инструментом в руках ковырялся у себя во дворе или в саду. Иным я его уже не застал – много лет назад он стал постепенно терять рассудок. Поначалу он все заметнее избегал своего ремесла и, хотя по-прежнему брал заказы, исполнял их лишь частично, а то и вовсе не исполнял, зато увлекся вдруг сложными псевдоархитектурными проектами, вроде дома прямо над речкой Ах или подобия церковной кафедры посреди леса, которая, поддерживаемая винтовой лестницей вокруг ствола одной из самых высоких елей в пасторском лесу, располагалась бы на уровне вершины и оттуда раз в год, в определенный день, пастор обращался бы с речью к своему лесу. Большую часть этих, к сожалению, утраченных проектов, которые Петер усердно вычерчивал лист за листом, он и сам не принимал всерьез. В реальность воплощена была только так называемая беседка, встроенная в стропильную ферму дома Зеелосов: примерно на метр ниже конька крыши настелили деревянный пол, после снятия черепицы установили на него деревянный каркас и вывели через крышу наружу, а затем сплошь застеклили. В результате получилась стеклянная обсерватория, откуда поверх крыш деревенских домов открывался широкий обзор – панорама болот и полей, вплоть до вздымавшихся на другой стороне долины покрытых лесами гор. Строительство беседки заняло немало времени, и Петер, в полном одиночестве отметив его окончание, целыми неделями пропадал на своем наблюдательном посту, вовсе не спускаясь вниз. Первые военные годы он провел там почти безвылазно, днем спал, а по ночам изучал звезды и воспроизводил их расположение на листах темно-синего картона, измерив все углы и сделав штихелем соответствующие отметки с такой точностью, что, когда он потом закрепил эти синие листы на рамах стеклянного жилища, иллюзия была полной, как в планетарии: казалось, над головой настоящий небесный свод. К концу войны, после того как Бенедикта Зеелоса, который ребенком всегда был робок, отправили в Раштатт в унтер-офицерское училище, состояние Петера заметно ухудшилось. Теперь он порой бродил по деревне в накидке, выкроенной из звездных карт, и твердил, что со дна глубокого колодца, как и с вершины высокой горы, звезды видно и днем, – тем самым вероятно, он утешал себя самого, ибо теперь с наступлением темноты, которого прежде он с нетерпением ждал, его охватывал такой страх, что он затыкал уши и яростно колотил руками вокруг себя. Пришлось соорудить для него из досок на первой лестничной площадке освещаемую снаружи будку, куда поставили его кровать и куда он теперь забирался по вечерам. Беседка с тех пор больше не использовалась. Только когда горела лесопилка, вспомнили о наблюдательном пункте. Все мы тогда набились в беседку – семейство Зеелос и еще добрая половина соседей – и смотрели, как огромный огненный сноп полыхает в небе, освещая снизу уходящее вдаль облако дыма. Только вот дядюшки Петера с нами не было. В тот год, когда сгорела лесопилка, его отвезли в Пфронтен и поместили в больницу, так как вдруг оказалось, что никто из родни, даже Регина, самая красивая из детей и всегда пользовавшаяся у него величайшим доверием, не может заставить его хоть что-нибудь проглотить. Однако в больнице Петер не задержался, в первую же ночь ушел, оставив записку такого, как говорят, содержания: «Глубокоуважаемый господин Доктор! Я ушел в Тироль. Со всем моим уважением, Петер Амброзер». Поисковая экспедиция, отправленная ему вослед, ничего не дала, и по сей день никаких следов его так и не обнаружили.
В первые дни пребывания в В. я не покидал «Энгельвирт». Ночи напролет терзаемый снами, только с рассветом находил я покой и мог даже, чего в иных обстоятельствах никогда со мной не случалось, проспать всю первую половину дня. В послеобеденные часы я работал внизу над своими заметками, глубоко погружаясь в связанные с ними размышления, потом там же, в пустом трактире, в одиночку обедал, а вечерами, когда приходили местные жители – очень многих я знал в лицо еще со школы, и теперь они явились мне почти в том же составе, только враз постаревшими, – жадно слушал их разговоры, усердно делая вид, будто читаю газету, и заказывая один бокал лагрейна за другим. Крестьяне втискивались на скамью – большинство, как в прежние времена, прямо в шляпах – под огромной картиной, изображавшей сцену в лесу. Картина эта висела там еще при старом хозяине и настолько уже потемнела от времени, что не получалось сразу определить, что на ней изображено. Лишь после длительного разглядывания на темной поверхности проступали неясные силуэты дровосеков. Вот они сдирают кору с только что поваленных деревьев, очищают бревна, а их позы свидетельствуют о мощи, силе захвата или замаха и типичны для полотен, героизирующих труд или войну. Художник Хенгге, чьей кисти, несомненно, принадлежала картина, написал целую кучу подобных лесных сюжетов. Пик славы пришелся на 1930-е годы, когда известность его простиралась до самого Мюнхена. В окрестностях В. повсюду можно наткнуться на его выдержанные неизменно в коричневых тонах настенные изображения, героями которых, помимо дровосеков, нередко становились охотники и восставшие крестьяне под знаменем «Башмака», причем отказывался он от любимых персонажей, только когда ему четко говорили, что именно надо изобразить на картине. На доме Зеефельдеров, например, в мансарде которого нанимал квартиру мой дед и где я появился на свет, он изобразил автогонки, поскольку хозяину дома Уре Зеефельдеру, искусному кузнецу, именно такой сюжет показался подходящим, причем не только для заново отстроенного им вскоре после войны магазина автозапчастей, но и в целом для новой эпохи, добравшейся, наконец, и до В., а на трансформаторной будке, стоявшей на краю деревни, можно было даже увидеть аллегорическое изображение водной силы.
Все эти картины Хенгге неизменно вызывали во мне необъяснимую тревогу. В особенности фреска на местном отделении «Райффайзенбанка», где изображена гордо выпрямившаяся жница, в пору уборки урожая стоящая на краю поля, которое всегда казалось мне полем ужасной битвы, и каждый раз, когда я шел мимо, мне становилось так страшно, что приходилось отводить глаза. Иными словами, Йозеф Хенгге запросто мог бы расширить свой репертуар. Однако в тех случаях, когда имел возможность руководствоваться лишь собственным вкусом, он писал исключительно сцены в лесу. Даже после войны, когда его монументальная живопись по разным причинам перестала соответствовать магистральному направлению в искусстве, он не отказался от любимых сюжетов. В конце концов, весь его дом был уже завален лесными пейзажами с дровосеками, так что для него самого почти не осталось места, и смерть застигла его, как писали в некрологе, за работой – перед картиной, изображающей лесоруба на груженых дровнях в момент отчаянно смелого спуска вниз, в долину. Размышляя о художнике Хенгге и его живописи, я вдруг подумал, что ведь лет до семи-восьми за исключением разве что тех картин, какие можно было увидеть в приходской церкви, я, пожалуй, ничьих больше работ и не видел; и теперь мне представляется, что эти пейзажи с дровосеками, сцены распятия да еще огромное полотно битвы при Лехфельде, где архиепископ Ульрих верхом на белом коне наступает прямо на поверженного на землю гунна, а у всех лошадей совершенно безумные глаза, оказали на меня разрушительное воздействие. Поэтому, доведя работу над записями до очередной точки, я покинул свой пост в «Энгельвирте», чтобы еще раз взглянуть на его картины, коль скоро они еще здесь сохранились. И я не стал бы утверждать, что новая встреча с ними как-то уменьшила негативное воздействие. Скорее, наоборот. Стоило только начать странствие от картины к картине, как меня тянуло все дальше и дальше в поля, вверх по склонам, к разбросанным по ним тут и там деревушкам, я поднимался в Бихль, Адельгарц, Энтальб-дер-Ах, поднимался в Беренвинкель, доходил до Юнгхольца, до Фордере- и Хинтере-Ройте, выбирался в Хаслах и Ой, в Эллег и Шрей, – теми дорогами, которыми в детстве ходил вместе с дедом и которые занимали столь важное место в моих воспоминаниях, а в действительности, как я установил, почти ничего для меня уже не значили. Подавленный возвращался я всякий раз с подобных прогулок в «Энгельвирт», к своим непутевым заметкам, в последнее время ставшим для меня в каком-то смысле опорой, несмотря даже на предостерегающий пример художника Хенгге и проблематичность изобразительного искусства в целом.
В результате расспросов я выяснил, что из Зеелосов один только Лукас живет в В. и теперь. Дом Зеелосов перешел в другие руки, а Лукас обитает в небольшом соседнем домике, где прежде хозяйничали Бабетта, Бина и Матильда. К тому времени, когда я все же решился перейти через улицу и заглянуть к Лукасу, я пробыл в В. уже около десяти дней. Он сразу сказал, что много раз видел в окно, как я выхожу из «Энгельвирта», но не мог понять, откуда меня знает. И если хорошенько подумать, то напомнил я ему, конечно, не ребенка, а деда, у которого была такая же походка, как у меня сейчас, и который в точности, как теперь я, выходя из дома, сперва останавливался на мгновение, чтобы понять, какая погода. Мне казалось, я чувствую, что Лукас рад моему приходу, тем более что он, проработав до пятидесяти лет кровельщиком-жестяником, из-за постепенно калечившего его артрита раньше срока удалился, так сказать, на покой и теперь все дни проводит дома на диване, пока жена управляется в писчебумажной лавке, ранее принадлежавшей старому Шпехту. Никогда прежде, тотчас добавил он, не поверил бы, сколь долгими могут казаться дни, время, сама жизнь тому, кто оказался на ее запасном пути. К тому же его угнетало, что за исключением Регины, жившей теперь в Северной Германии с мужем-промышленником, он остался единственным Амброзером на белом свете. Лукас поведал мне историю исчезновения дядюшки Петера в Тироле, рассказал, как вскоре после этого умерла его мать, которая в последние недели жизни потеряла столь значительную часть своего огромного веса, что люди перестали ее узнавать; долго рассуждал о странном обстоятельстве, что тетушки Бабетта и Бина, с самого детства все делавшие вместе, умерли в один день: одна – от сердечного приступа, другая – от ужаса перед происшедшим. Об автокатастрофе в Америке, в которой погибли Лена и ее муж, ничего толком узнать не удалось. Вероятно, они в своем новом «олдсмобиле», с белыми, как известно по фотографиям, боковинами на покрышках, просто вылетели с дороги и рухнули в пропасть. Долго продержалась Матильда, далеко за восемьдесят, наверное, потому, что у нее была самая ясная голова. И умерла она прекрасной смертью – ночью, в своей постели. Жена Лукаса нашла ее на следующее утро в том же положении, в каком она каждый вечер отходила ко сну. Вот Бенедикту, сказал он, явно не желая вдаваться в подробности, не повезло, а теперь на очереди он сам. Завершив таким образом, не без некоторого, как мне показалось, удовлетворения, рассказ о семейной истории Амброзеров, Лукас пожелал узнать, что привело в В. меня, после стольких лет, да еще в ноябре. Мои обстоятельные, хотя местами и противоречивые объяснения, как ни странно, полностью его удовлетворили. Особенный отклик нашло у него признание, что с течением времени в голове у меня все крепче одно связывается с другим, но от этого вещи делаются вовсе не яснее, а только загадочнее. Чем больше картинок из прошлого скапливается в голове, сказал я, тем менее вероятным мне представляется, что события прошлого в действительности могли разворачиваться именно так, и тогда в этих событиях ничто уже не кажется мне нормальным, наоборот, многое представляется забавным или смешным, а то, что не смешно, вызывает ужас. Ему теперь тоже, сказал Лукас, когда он целыми днями лежит вот на этом диване или делает разве что какую-нибудь пустяковую работу по дому, кажется совершенно невероятным, что когда-то он был хорошим вратарем или что он, подверженный сейчас тяжелым депрессиям, в те времена изображал в деревне шута, ну да, как я, возможно, помню, весной, год за годом во время карнавалов он всегда исполнял роль Короля шутов, поскольку нигде в окрестностях не могли найти ему достойной замены. Скрюченные подагрой руки пришли в движение, когда он, вернувшись воспоминаниями в славное прошлое и не гнушаясь преувеличений, показывал, как управлялся с гигантскими карнавальными ножницами, что, по его словам, требовало недюжинной силы и умения удерживать равновесие, или как своей колотушкой задирал женщинам юбки именно тогда, когда они меньше всего этого ждали. А когда женщины, заперев внизу двери, поднимались наверх и вывешивались из окон наружу, чтобы получше рассмотреть уличное шествие, он пробирался к ним в дома через гумно или перелезал через шпалеры и пугал их, чего они, разумеется, только и ждали, хотя никогда бы в том не признались. Часто он просто заходил к ним на кухню, забирал только что испеченные пончики и тут же раздавал на улице, и женщины встречали это восторженными аплодисментами, правда, до тех только пор, пока блюдо не пустело и им не становилось ясно, чьи это были пончики.
Книгопечатника Шпехта, чей магазин канцтоваров перешел теперь к жене Лукаса, мы тоже вспомнили в связи с карнавалом. У него в лавке рождественская елка стояла обычно до масленицы, а то и дольше, сказал Лукас, до самой Пасхи стояло несчастное обронившее все иглы дерево, установленное еще до Рождества в последнюю неделю адвента, а как-то раз пришлось его уговаривать убрать с подоконника елку хотя бы к празднику Тела Господня. Начиная с двадцатых годов Шпехт раз в две недели в одиночку, без чьей-либо помощи, издавал четырехстраничный новостной листок – писал, редактировал, набирал и печатал, – и был он до крайности погружен в себя, что среди печатников вообще-то не редкость. К тому же от постоянного контакта со свинцовым набором он постепенно уменьшился в размерах, что ли, и как-то посерел. Я хорошо помню его – сначала я покупал у Шпехта грифели, потом перья и школьные тетради с листами из древесной массы, на которых перья при письме спотыкались и застревали. Из года в год ходил он в сером миткалевом халате, достававшем почти до земли, на носу – круглые очки в металлической оправе и, когда кто-нибудь заходил к нему в лавку, неизменно являлся на звон бубенчиков с замасленной ветошью в руках, прямо из типографии. По вечерам можно было видеть, как он сидит в круге света настольной лампы за кухонным столом и пишет заметки или статьи, которые напечатает потом его «Сельский курьер». Как говорил Лукас, откуда-то это знавший, многое из того, что Шпехт изо дня в день писал для «Сельского курьера», он сам же потом на стадии редактирования выбрасывал, поскольку, по его мнению, материалы не соответствовали требованиям газеты. Позже вечером, когда бутылка кальтерера закончилась, Лукас провел меня по всему дому, показал, где располагалось кафе «Альпийская роза», в котором хозяйствовали Бабетта и Бина, где был кабинет доктора Рамбоусека, спальни и гостиная трех сестер. На прощание я сказал Лукасу, долго несколько по-птичьи сжимавшему мою ладонь искривленными пальцами, что с удовольствием заглянул бы к нему еще разок-другой, пока я здесь, если, конечно, ему это не в тягость, чтобы опять поговорить о том, что осталось уже так далеко в прошлом. Да, сказал Лукас, странные и вправду дела творятся с воспоминаниями. Когда он лежит на диване и размышляет о прошлом, его нередко охватывает чувство, что пора бы ему, наверное, все-таки прооперировать катаракту.
В тот же вечер за очередной бутылкой кальтерера в «Энгельвирте» я сумел как-то собрать воедино все, что связано в моей памяти с кафе «Альпийская роза». Сами ли Бабетта и Бина пришли однажды к мысли открыть кафе или их брат Баптист догадался таким образом позаботиться о незамужних сестрах, уже кануло в прошлое, живых свидетелей которому не осталось. Во всяком случае, кафе существовало, причем до самой смерти Бабетты и Бины, несмотря на то что в него никто никогда не заходил. В саду перед домом под стриженой липой, листва которой формировала изысканную широкую крышу, стоял зеленый металлический столик и три зеленых садовых кресла с подлокотниками. Дверь в дом была всегда открыта, каждые несколько минут в проеме появлялась Бина и высматривала посетителей, которые однажды все же должны были к ним зайти. Трудно сказать, что удерживало людей от посещения этого кафе. Видимо, дело не только в том, что так называемых дачников, приезжающих на лето, в В. тогда еще не было; полную бесперспективность затеи обусловливал прежде всего некий дух стародевичества, который царил в хозяйстве Бабетты и Бины и, конечно, никак не способствовал привлечению местных жителей мужского пола. Ни мне, ни Лукасу неизвестно, какое впечатление производили сестры в начале своей деловой карьеры. С определенной уверенностью можно лишь утверждать: то, что Бабетта и Бина некогда являли собой или хотели являть, было давно разрушено годами разочарований и вспышками надежд. Несомненно, обеим наносила огромный ущерб и способствовала разрушению вечная их зависимость друг от друга, так что в конце концов все уже видели в них только двух высохших старых дев. И конечно, делу никак не могло помочь то, что Бина каждые несколько минут появлялась на пороге дома, разглаживая руками складки передника, и даже выходила в сад, а Бабетта дни напролет сидела на кухне, складывая посудные полотенца, чтобы тут же развернуть их и складывать снова. С огромным трудом им удавалось кое-как справляться с собственным крошечным хозяйством, а что бы они стали делать, если бы однажды к ним действительно забрел посетитель, представить себе невозможно. Даже в процессе приготовления супа они скорее мешали друг другу, чем помогали, а выпекание воскресного пирога, как рассказывал Лукас, превращалось для них в еженедельное событие исключительной важности, занимавшее всю субботу. Тем не менее всякий раз, когда приближались выходные, Бабетта убеждала Бину, а Бина – Бабетту, что нужно опять печь пирог, причем не такой, как в прошлый раз, а другой – яблочный или же, наоборот, гугельхупф, ромовую бабу. Готовый пирог, посыпав его сахарной пудрой, они не без торжественности несли через коридор в кафе, как они говорили; там, не притронувшись к нему, накрывали стеклянным колпаком и ставили на буфет рядом с испеченным в прошлую субботу яблочным пирогом или же гугельхупфом – так, чтобы гость, который зайдет в субботу после обеда, мог выбрать между двумя пирогами: старым яблочным и свежим гугельхупфом или же старым гугельхупфом и свежим яблочным. К вечеру воскресенья такой возможности уже не оставалось, поскольку в воскресенье после обеда Бабетта и Бина за кофе съедали старый яблочный пирог или же гугельхупф, причем Бабетта поедала его десертной вилочкой, а Бина макала кусок пирога прямо в чашку, от чего Бабетта, к величайшему ее сожалению, так и не смогла отучить сестру. После того как старый пирог был съеден, обе, пресыщенные и молчаливые, еще часа два сидели в кафе. На стене над буфетом висела картина, изображавшая самоубийство влюбленной пары. Зимняя ночь, луна, лишь в этот, последний, миг показавшаяся из-за темных туч. Пара как раз дошла до края длинных деревянных мостков и теперь совершает последний, решительный шаг. Одновременно нога девушки и нога мужчины ступают в пучину, и зритель, затаив дыхание, чувствует, как обоими уже завладела сила тяжести. В памяти у меня всплывает только, что непокрытая голова девушки окутана легкой светло-зеленой вуалью, а темный плащ мужчины терзает ветер. Под картиной и стоял пирог, предназначенный для следующей недели, тикали часы, прежде чем начать отбивать удары, каждый раз издавая столь длительный вздох, словно им совершенно невмоготу указывать, что миновала очередная четверть часа. Летом сквозь занавески в комнату допоздна проникал вечерний свет, зимой – ранние сумерки, на столе в центре комнаты абсолютно недвижно, как и всегда, стоял в горшке огромный тещин язык, и годы шли мимо него, не оставляя следов, и казалось, все в «Альпийской розе» таинственным образом вращается именно вокруг него.
Как правило, раз в неделю дедушка переходил через улицу и шел в «Альпийскую розу» навестить Матильду. Во время этих визитов они обычно играли в карты и вели бесконечные разговоры, никогда, похоже, не испытывая недостатка в темах. Сидели они в помещении кафе, поскольку Матильда не позволяла никому, даже дедушке, подниматься наверх в ее комнату, и как-то вошло в обычай, что Бабетта и Бина, уважавшие в Матильде своего рода высшую инстанцию, во время дедушкиных посещений оставались на кухне. Довольно часто я сопровождал дедушку в «Альпийскую розу», как и почти повсюду, сидел с ними рядом, потягивая малиновую воду, пока они тасовали колоду карт, снимали, раздавали, разыгрывали очередную партию, откладывали взятки, подсчитывали и вновь тасовали колоду. По старой привычке дедушка играл в карты, не снимая с головы шляпу. Только когда игра прекращалась и Матильда уходила на кухню варить кофе, он снимал шляпу и утирал лоб носовым платком. Лишь об очень немногих вещах, обсуждавшихся за кофе, я имел хоть какое-то представление и потому, когда начиналась беседа, чаще всего выходил из комнаты, устраивался в одном из кресел в саду за зеленым железным столом и рассматривал старый атлаc, который Матильда держала для меня наготове. На одном из его листов были соотнесены друг с другом изображения самых больших рек Земли и ее самых высоких гор, упорядоченные по убыванию протяженности и, соответственно, по нарастанию высоты; еще в атласе имелись чудесные, раскрашенные карты даже самых отдаленных, совсем недавно открытых областей планеты, и названия их, написанные крошечными буквами, которые я, подобно картографам прошлого, мог расшифровать лишь частично, заключали в себе, как мне представлялось, все мыслимые тайны. В холодное время года я с атласом на коленях сидел на верхней площадке лестницы, в том месте, куда через окно наверху падал свет, а на стене висела олеография с изображением кабана, в мощном прыжке вылетающего из леса на опушку, прерывая завтрак охотников. С поразительной точностью деталей воспроизведен был не только сам кабан, не только позеленевшие от ужаса охотники, но и внезапно взмывшие в воздух тарелки и куски еды; сцена называлась «В Арденнском лесу», и эта подпись, сама по себе совершенно безобидная, пробуждала в моем воображении нечто куда более опасное, неведомое и глубинное, чем эмоции, вызванные картиной как таковой. Таинственность, исходившая из словосочетания «Арденнский лес», усиливалась тем, что Матильда совершенно недвусмысленно запретила мне открывать двери на верхнем этаже. Но строже всего мне запрещалось подниматься на чердак, где, как со свойственной ей убедительностью сообщила Матильда, обитает Серый Охотник, о котором она больше ничего не сказала. Так что, сидя на верхней площадке лестницы, я, можно сказать, находился на грани дозволенного, там, где дух искушения ощущается крепче всего. И потому я почти всегда с облегчением оставлял насиженное место, когда дедушка вновь появлялся из кафе, надевал на голову шляпу и на прощание протягивал Матильде руку.
В один из следующих моих визитов к Лукасу мы поднялись на чердак. Скорее всего, именно я завел об этом речь. Лукас считал, что за все время там мало что изменилось. Лично он, по его словам, перебравшись в дом после смерти тетушек, ни разу не производил на чердаке уборку, поскольку разгрести сваленную там утварь и всякий хлам и тогда уже было ему не по силам. И действительно, чердак являл собой впечатляющее зрелище. Ящики и короба громоздились друг на друге, мешки, кожаные вещи, хомуты, веревки, мышеловки, рамки для меда, всевозможные чехлы и футляры свешивались со стропильных балок. В одном из углов под толстым слоем пыли матово поблескивала туба, рядом с ней на когда-то красной перине лежало невероятных размеров осиное гнездо, давно покинутое, причем и медная туба, и серое, слепленное из сотен бумажных слоев гнездо претерпевали в царившей на чердаке полной тишине неторопливое разложение. Однако тишина эта почему-то доверия не вызывала. Из сундуков, ларей и комодов с открытыми крышками, дверцами, ящиками жаждали вырваться наружу все мыслимые предметы одежды и обихода. Легко было представить себе, будто весь этот сонм разнообразнейших вещей пребывал в движении, вроде как эволюционировал вплоть до той минуты, когда мы вошли, а теперь, только лишь из-за нашего присутствия, замер беззвучно и неподвижно, будто ничего и не происходило. На одной из полок, куда меня сразу же потянуло, стояли, заваливаясь друг на друга, около сотни томов – перешедшая теперь в мою собственность и все более важная для меня библиотека Матильды. Помимо литературных произведений XIX века, путевых заметок покорителей Крайнего Севера, учебников по геометрии и строительной механике, турецкого словаря и письмовника, когда-то, скорее всего, принадлежавших Баптисту, среди них было немало религиозных книг спекулятивного характера, молитвенников XVII и XVIII веков с весьма наглядными порой изображениями ожидающих всех нас мук.
Вперемежку с духовной литературой там среди прочего, к моему удивлению, обнаружились несколько трактатов Бакунина, Фурье, Бебеля, Эйснера, Ландауэра, а также автобиографический роман Лили фон Браун. В ответ на вопрос о происхождении библиотеки Лукас сообщил только, что Матильда все время что-нибудь изучала и поэтому, как я, может быть, помню, в деревне ее считали чудаковатой. Перед Первой войной, как говорят, она ушла в монастырь в Регенсбурге, но еще до конца войны по какой-то очень странной причине, ему, Лукасу, в точности не известной, оставила монастырь и несколько месяцев, при власти красных, жила в Мюнхене, откуда однажды в полном расстройстве чувств, не в силах произнести ни слова вернулась домой в В. Сам он, сказал Лукас, тогда, ясное дело, еще и на свет не родился, но вот маменька, это он помнит отчетливо, говорила про Матильду в том смысле, что из монастыря и коммунистического Мюнхена она вернулась домой совершенно не в себе. Мама, случалось, в плохом настроении называла Матильду красной ханжой. Однако Матильда, понемногу вернувшая себе душевное равновесие, совершенно не поддавалась на подобные провокации. Наоборот, в своей воздержанности, как выразился Лукас, она явно чувствовала себя все лучше и лучше. В ее манере – в том, как она год за годом под взглядами презиравших ее обитателей деревни неизменно ходила в черном платье или черном пальто, всегда в шляпе и даже в самую прекрасную погоду под зонтиком, – в этой ее манере, как я, возможно, помню и сам, сквозила какая-то светлая радость.
Продолжая исследовать чердак, одну за другой беря в руки то безволосую фарфоровую куклу, то клетку для щегла, то мушкетон, то старинную железную растяжку для телячьих шкур и расспрашивая Лукаса об их истории и происхождении, я сразу выхватил взглядом фигуру в серой униформе, различимую более или менее ясно в косых лучах света, проникающего в чердачное окошко. При более пристальном изучении это оказался старый манекен, облаченный в серо-голубые штаны и серо-голубую форменную куртку, воротник которой, обшлага и канты когда-то были ярко-зеленого цвета, а пуговицы, похоже, желтого металла. На деревянной голове манекена сидела шляпа, тоже серо-голубая, с пучком зеленых петушиных перьев. Из-за того, наверное, что этот серый силуэт располагался позади световой завесы, образованной лучами, проникавшими на чердак сквозь окно в крыше, завесы, в которой непрестанно кружились сверкающие частички постепенно распадающейся в пыль материи, он показался мне в высшей степени таинственным, а еле слышный запах камфары только усиливал это впечатление. Но когда я, не вполне веря своим глазам, подошел ближе и дотронулся до одного из свисавших вниз пустых рукавов униформы, он, к моему неимоверному ужасу, рассыпался в прах. Дальнейшие изыскания показали, что с высокой вероятностью это серо-голубое платье с зеленой отделкой представляло собой форменную одежду австрийских егерей, про которых известно, что около 1800 года они добровольцами участвовали в сражениях против французов. Такова моя версия, правдоподобность которой повышал и рассказ Лукаса, по его словам, восходивший к Матильде: дескать, один из далеких предков Зеелосов, возглавляя тысячный отряд тирольцев, привел его через перевал Бреннер, вверх по реке Адидже, мимо озера Гарда к североитальянской равнине и там вместе со всеми своими тирольскими солдатами погиб в ужасной битве при Маренго. Для меня история о павшем при Маренго тирольском егере важна была еще и потому, что означала, что Серый Охотник, из-за которого мне в детстве запрещалось забираться на чердак кафе «Альпийская роза», существовал в реальности, хотя и не вполне соответствовал образу, какой я себе рисовал, сидя на верхней площадке лестницы. В моем воображении возникал тогда большой незнакомый человек, позже нередко являвшийся мне в снах; на его лоб глубоко надвинут высокий круглый барашковый картуз, а облачен он был в широкий коричневый плащ, подпоясанный широким, похожим на конскую сбрую ремнем. На коленях у него лежала короткая изогнутая сабля в отливающих матовым блеском ножнах. Ноги втиснуты в высокие сапоги со шпорами. Одна нога стояла на опрокинутой винной бутылке, другая – на полу и была чуть приподнята, шпорой на пятке вонзаясь в дерево. Мне снова и снова снилось тогда, а временами снится и теперь, что этот чужой человек протягивает ко мне руку и я, несмотря на страх, осмеливаюсь подойти к нему ближе, ближе, так близко, что в конце концов могу коснуться его рукой. Только вот каждый раз после прикосновения пальцы правой руки становятся грязными, прямо черными, и в этом я вижу знак ничем на свете не восполнимого горя.
В доме, где располагалась «Альпийская роза», на первом этаже через коридор от кафе, до конца сороковых годов держал практику доктор Рудольф Рамбоусек. Вскоре после войны доктор Рамбоусек вместе со своей бледной женой и двумя дочерями-подростками – Фелицией и Амалией – приехал в В. из какого-то моравского города, по-моему, из Никольсбурга, что и для него самого, и для его женщин, вероятно, означало изгнание на край света. В том, что невысокий, полный, всегда одетый по городской моде человек не мог здесь по-настоящему обосноваться и встать на ноги, не было ничего удивительного. Его мрачноватое, чужестранное, лучше сказать, левантийское лицо, темные большие глаза, всегда наполовину прикрытые веками, да и весь его как бы отсутствующий вид почти не оставляли сомнений в том, что его надлежит причислить к роду безутешных. Насколько мне известно, за все годы в В. доктор Рамбоусек так и не сумел сблизиться ни с кем из здешних жителей. Поговаривали, он боялся людей, и вправду я что-то не припомню, чтобы хоть раз встретил его на улице, хотя жил он не в «Альпийской розе», а в доме учителя и, значит, время от времени должен был перемещаться как минимум из «Альпийской розы» в учительский дом и оттуда в «Альпийскую розу». Своим бросающимся в глаза отсутствием он разительно отличался от без малого семидесятилетнего доктора Пьяцоло, которого, однако, можно было видеть в любое время дня и ночи. На своем «цундаппе» он разъезжал по всей деревне или мотался вверх-вниз по склонам в окрестные хутора. Зимой и летом доктор Пьяцоло – в случае необходимости он был готов оказать и ветеринарную помощь и, похоже, не на шутку вознамерился умереть за рулем своего мотоцикла – носил на голове старый летный шлем с наушниками, огромные мотоциклетные очки, кожаную тужурку и кожаные краги. Кстати, у доктора Пьяцоло был еще и двойник – также рассекавший по всей округе и далеко не молодой священник Вурмзер, бог знает сколько лет ездивший на мотоцикле причащать и соборовать свою паству, причем кадило, елей, святую воду, соль, небольшое серебряное распятие и святые дары он возил с собой в старом рюкзаке, как две капли воды, если можно так выразиться, походившем на рюкзак доктора Пьяцоло, и потому как-то раз вышло, что патер Вурмзер и доктор Пьяцоло, сидя рядом в кабачке «Адлервирт», перепутали рюкзаки, и доктор Пьяцоло приехал к следующему своему пациенту с кадилом, а патер Вурмзер, стало быть, заявился к очередному лежавшему на смертном одре прихожанину с медицинскими инструментами. Но не только рюкзаки их были неразличимы, обликом они тоже до такой степени напоминали друг друга, что, завидев где-нибудь в деревне или на одной из окрестных дорог темную фигуру на мотоцикле, было бы, наверное, вовсе невозможно определить, кто это – доктор или патер, если бы не привычка доктора во время езды держать ноги в подбитых гвоздями сапогах не на подножках, а свободно свешивать их вниз – ради безопасности, как он говорил, – и слегка подволакивать по щебенке или по снегу, отчего силуэт его, по крайней мере при взгляде спереди или сзади, отличался от силуэта патера. Можно себе представить, как трудно было, наверное, доктору Рамбоусеку бороться со столь прочно укорененными здесь конкурентами, потому-то в конце концов он, видимо, и предпочел, не в пример обоим в известном смысле вездесущим эмиссарам, по возможности вообще не выходить из дома. Впрочем, нельзя сказать, чтобы доктор Рамбоусек не пользовался уважением у тех, кто к нему обращался. Не раз я лично бывал свидетелем, как мама в самых возвышенных выражениях хвалила его врачебное искусство, особенно в разговорах с модисткой Валери Шварц, которая проживала в доме начальника почтового отделения, а родом была хоть и не из Моравии, как доктор Рамбоусек, но все-таки из Богемии и при своем весьма среднем росте обладала грудью совершенно невероятных размеров, такую впоследствии я видел один только раз, да и то в кино – у продавщицы табачного киоска в «Амаркорде» Феллини. Но сколько бы мама и эта Валери ни расхваливали доктора Рамбоусека, другим обитателям деревни как-то не приходило в голову посетить его в приемные часы. В случае чего приглашали доктора Пьяцоло, и потому доктор Рамбоусек день за днем, месяц за месяцем, год за годом большей частью сидел один в своей приемной в «Альпийской розе». Так или иначе, всякий раз, когда я вместе с дедушкой навещал Матильду, через приоткрытую дверь его просторной, почти без мебели, приемной я видел, как он сидит в своем вращающемся кресле и что-то пишет, читает или просто смотрит в окно. Несколько раз я подходил к самой двери, какое-то время стоял в проеме и ждал, что он поднимет на меня глаза или скажет, чтобы я подошел, но он то ли ни разу меня не заметил, то ли считал для себя невозможным заговорить с чужим ребенком. И вот невероятно жарким летним днем 1949 года дедушка и Матильда обсуждали что-то в кафе, а я давно уже сидел на верхней ступеньке лестницы на чердак и прислушивался к треску стропильных балок и другим немногочисленным звукам, проникавшим снаружи, – вроде визга циркулярной пилы, попеременно то нараставшего, то угасавшего, или редкого петушиного крика. Еще прежде, чем время дедушкиного визита подошло к концу, я спустился в прихожую с твердым намерением спросить доктора Рамбоусека, не может ли он, случайно, вылечить старого хозяина «Энгельвирта» от ожога, который не заживает и даже делается все больше. К моему удивлению, дверь в приемную оказалась закрыта. И все же я решился войти. Внутри все было напоено зеленым солнечным светом, проникавшим в комнату сквозь густую листву липы, что росла перед окном. Тишина, там царившая, показалась мне безграничной. Доктор Рамбоусек сидел, как всегда, в своем вращающемся кресле, только верхняя часть его тела, повалившись вперед, лежала на письменном столе. Левый рукав рубашки был засучен до половины, и на локте как-то неестественно лежала его голова, показавшаяся мне огромной, с заметно выкаченными и неподвижно устремленными в пространство, но по-прежнему очень красивыми темными глазами. Со всей возможной осторожностью я покинул комнату, вернулся на свое место вверху лестницы, сидел там и ждал, пока не услышал, как дедушка с Матильдой выходят в коридор. О том, что я видел в кабинете доктора, я не сказал дедушке ни слова, конечно, от страха, но вдобавок и потому, что сам уже не верил увиденному. На обратном пути мы должны были забрать карманные часы, которые дедушка отдавал в ремонт часовщику Эбентойеру. Звякнул дверной колокольчик, и вот мы стоим в тесной лавке, где наперебой тикает неимоверное количество напольных часов, ходиков, настенных часов для кухни и для гостиной, будильников, карманных и наручных часов, словно один часовой механизм не способен в достаточной мере разрушить время. Пока Эбентойер, как обычно, с лупой в левом глазу разговаривал с дедушкой о том, чтó не так с его карманными часами, я поверх витрины заглянул в комнату, где младший из детей Эбентойера, мальчик по имени Евстахий, с непомерно большой головой, сидел на высоком стульчике и еле заметно раскачивался туда-сюда. А доктора Рамбоусека в тот же вечер бездыханным и холодным нашла в кабинете «Альпийской розы» жена, которая вскоре после этого вместе с дочерями уехала из В. Позднее Валери Шварц в разговоре с моей матерью как-то упомянула при мне, понизив голос, что доктор Рамбоусек был морфинистом и во многом именно поэтому кожа у него была такая желтая. С тех пор я довольно долго пребывал в уверенности, что уроженцев Моравии называют морфинистами, а страна их расположена далеко-далеко, ничуть не ближе, чем Монголия или Китай.
В те годы, когда мы обитали на верхнем этаже «Энгельвирта», к вечеру меня непременно одолевало желание спуститься в трактир и там помочь Романе смахивать грязь со столов и скамеек, подметать пол или вытирать стаканы. Конечно, привлекали меня отнюдь не эти занятия, все дело было в самой Романе, рядом с которой мне хотелось находиться как можно дольше. Романа была старшей из двух дочерей безземельного, по сути, крестьянина, владевшего прямо-таки игрушечным по сравнению с другими хозяйством в Беренвинкеле, на небольшом холме, – у меня этот хутор всегда ассоциировался с библейским ковчегом, поскольку и здесь вроде как всего было по паре: помимо супружеской пары родителей, двух сестер – Романы и Лизабеты, – корова и бык, две козы, две свиньи, два гуся и так далее. Только кошек и кур было по нескольку, и разбредались они далеко в окрестные поля. А еще – множество белых голубей, которые если не использовали конек крыши как взлетно-посадочную полосу, то летали вокруг домика, очень походившего – из-за совершенно необычной для этих мест гонтовой, залатанной во многих местах четырехскатной крыши – на кораблик, пришвартованный к верхушке холма. И каждый раз, когда я шел мимо, отец Романы, человек лукавый, будто Ной из ковчега, выглядывал в крошечное оконце и курил при этом сигару, вставленную в короткую роговую трубку. Романа приходила к нам из Беренвинкеля каждый вечер около пяти, и я часто шел к мосту ей навстречу. Ей тогда было не больше двадцати пяти, и все в ней казалось мне невероятно красивым. Высокая, с широким открытым лицом, светло-серыми глазами и густыми льняными волосами, словно грива у лошадки породы гафлингер. Абсолютно ничем она не походила на женское население В., почти сплошь состоявшее из низкорослых, смуглых, сердитых крестьянок и работниц с тоненькими косичками. Она настолько не вписывалась в окружение, что, несмотря на выдающуюся красоту, замуж ее так никто и не позвал. Если попозже вечером мне разрешали еще разок спуститься в трактир, чтобы принести отцу пачку сигарет «Цубан», я видел, как Романа парит среди лесорубов и крестьян, к девяти вечера неизменно пьяных, с такой легкостью, словно прилетела из другой галактики. Сам трактир поздним вечером производил впечатление пугающее и отталкивающее, и если бы не Романа, я, скорее всего, вообще не рискнул бы сунуться в ужасное помещение, где на скамьях развалилось осоловелое мужичье. Время от времени одна из неподвижных фигур поднималась и, словно ковыляя по сплавляющемуся плоту, направлялась к двери в коридор. На крашеном дощатом полу стояли лужи пролитого пива и талой воды, а густой чад, плотными облаками обволакивавший все вокруг, понемногу стягивался к трескучему вентилятору, смешиваясь по пути с кислыми запахами сырой кожи и шерсти и с горьким запахом горечавки. Вверху выкрашенных коричневой краской стенных панелей притаились чучела куниц, рысей, коршунов, глухарей и других убитых животных, терпеливо ожидающих случая наконец-то за все отомстить. Крестьяне и лесорубы почти всегда сидели большой компанией, все вместе, в одном либо другом конце помещения. А посередине стояла большая чугунная печь, которую зимой нередко топили так, что она раскалялась от жара. Не вызывая у других интереса, в одиночестве сидел только охотник Ханс Шлаг, про которого говорили, будто он нездешний, родом из Косгартена-на-Неккаре, много лет по службе следил за обширными лесными угодьями в Шварцвальде и в точности неизвестно, какие именно обстоятельства привели его из Шварцвальда в окрестности В., где он целый год сидел без работы, пока его не наняло Баварское управление лесного хозяйства. Охотник Шлаг был внушительный мужчина с темными курчавыми волосами и бородой и необычайно глубоко посаженными, скрытыми тенью глазами. Часами, нередко до глубокой ночи, сидел он со своей кружкой, не сказав ни с кем ни слова. У ног его дремал Леший, пристегнутый поводком к висевшему на стуле рюкзаку. Каждый раз, когда я спускался в трактир, чтобы принести отцу пачку «Цубан», охотник Шлаг так именно и сидел за своим столом. Чаще всего взгляд его был направлен на циферблат золотых карманных часов, явно очень ценных, лежавших перед ним на столе, словно ему никак нельзя пропустить важную встречу, но нет-нет он вдруг устремлял свой затененный взгляд на Роману, которая за высокой стойкой непрерывно разливала по стаканам пиво и шнапс. Однажды вечером, который очень ясно запечатлелся в моей памяти – в начале декабря, когда всю долину в первый раз засыпало снегом, – я после ужина спустился в трактир, но охотника за его столом не оказалось, да и Романы, как ни странно, тоже нигде не было видно. Намереваясь раздобыть для отца хотя бы пяток сигарет в «Адлервирте», я вышел через заднюю дверь во двор. Повсюду вокруг меня блестели кристаллики снега, а сверху с небес сверкали несчетные звезды. Безголовый гигант Орион с коротким сверкающим мечом за поясом как раз восходил из-за черно-синих гор. Я надолго замер среди зимнего великолепия, вслушиваясь в звон стужи и песнь рассеянного света небесных светил на их медлительных путях. Потом мне вдруг почудилось, будто в открытой двери дровяного сарая мелькнула тень. Охотник Шлаг, держась одной рукой за внутреннюю перегородку, стоял там, в темноте, в позе человека, идущего против ветра, и всем телом проделывал странные, снова и снова повторяющиеся волнообразные движения. Между ним и перегородкой, в которую вцепилась его левая рука, поверх аккуратно уложенных торфа и хвороста распростерлась Романа, причем глаза ее, как мне удалось разглядеть в снежном сиянии, закатились, точь-в-точь как у доктора Рамбоусека, когда его голова лежала на столе. Сопение и тяжкие вздохи вырывались из груди охотника, пар шел на морозе от его бороды, и раз за разом, когда волна проталкивала вперед его поясницу, он вдвигался в Роману, которая со своей стороны все крепче и крепче придвигалась навстречу, пока оба они не слились в какую-то общую, более не разделимую форму. Не думаю, чтобы Романа или Шлаг ощутили мое присутствие; видел меня только Леший: как обычно привязанный к хозяйскому рюкзаку, он встал и устремил на меня свой взгляд. Той же ночью, около часа или двух, тогдашний хозяин «Энгельвирта» одноногий Саллаба расколошматил все в трактире. Утром, когда я шел в школу, пол был покрыт толстым слоем битого стекла. Картина полного опустошения. Даже новая стеклянная витрина для шоколада «Вальдбаур» – она вращалась и тем напоминала мне дарохранительницу в церкви – была сорвана со стойки и с силой заброшена в другой конец помещения. В коридоре дела обстояли не лучше. На ступеньках, ведущих в подвал, сидела фрау Саллаба и плакала не переставая. Все двери стояли нараспашку, в том числе и огромная, предназначенная скорее для банковского сейфа дверь ледника, в котором голубовато поблескивали сложенные штабелями до лета прямоугольные бруски льда. Заглянув туда в раскрытую настежь дверь, я тогда – как и потом, каждый раз вспоминая об этом, – вдруг подумал, что, спускаясь в ледник вместе с Романой, всегда представлял себе, будто вот сейчас дверь случайно захлопнется, мы с ней останемся внутри и, обняв друг друга, будем медленно и беззвучно, как тает в тепле лед, замерзать, по капле прощаясь с жизнью.
В школе в тот день фройляйн Раух, значившая для меня ничуть не меньше, чем Романа, ровным почерком выписала на доске историческую хронологию несчастий нашего В., а ниже цветным мелком нарисовала горящий дом. Дети сидели в классе, склонившись над тетрадками по краеведению, и списывали с доски, то и дело поднимая глаза и щурясь, расшифровывали далекие бледные буквы, строчку за строчкой, длинный список трагических событий, которые, правда, будучи представлены в такой форме, оказывали, скорее, успокаивающее воздействие. В 1511 году чума унесла 105 человеческих жизней. В 1530 году пожар уничтожил 100 домов. В 1569-м сильный пожар погубил рынок. В 1605-м – сжег дотла 140 домов. В 1633 году шведы спалили всю деревню. В 1635-м 700 жителей умерли от чумы. С 1806-го по 1814-й в войне за независимость Германии пали 19 добровольцев из В. В 1816–1817 годах из-за сильных дождей наступил голод. В 1870–1871 годах на полях сражений полегли пять сыновей общины. В 1893 году 16 апреля снова полностью сгорел рынок. С 1914 по 1918 год за Отечество погибли 68 сыновей деревни. С 1939 по 1945 год – со Второй мировой войны не вернулись 125 наших земляков. Перья тихо поскрипывали по бумаге. Фройляйн Раух в узкой зеленой юбке ходила между рядами. Когда она приближалась, сердце мое, казалось, готово было выпрыгнуть наружу. Рассвет в тот день никак не хотел наступать. Утренние сумерки затянулись до полудня и сразу же плавно перешли в вечерние. Даже днем, за полчаса до окончания уроков, невозможно было выключить в классе свет. В стеклах окон отражались не только круглые белые лампы, но и ряды парт с детьми, погруженными в работу. Почти неразличимые за этими отражениями кроны яблонь напоминали кораллы в морской глубине. Весь день вокруг разрастался какой-то необычайный покой, полностью завладевший и нами. Даже когда сторож в сенях зазвонил в колокольчик, мы не отозвались шумом и гамом, как обычно в конце уроков, напротив, почти бесшумно поднялись со своих мест и, как положено, молча аккуратно собрали вещи. Кое-кому из ребят, втиснувшихся в толстые зимние пальто, фройляйн Раух помогла выровнять на спине ранец.
Здание школы стояло на пригорке с краю деревни, и всякий раз, когда я выходил из него – так было и в тот памятный день, – взгляд мой скользил со дна долины влево вверх над крышами деревни и вдаль, вплоть до поросших лесом предгорий, за которыми вздымался зубчатый гребень Зоргшрофена. Под матовой белизной неподвижно застыли дома и дворы, луга, пустые улицы и дороги. Надо всем этим нависло серое небо, так всеохватно и тяжело, как бывает лишь перед сильным снегопадом. Если, запрокинув голову, достаточно долго вглядываться в его до безумия непроницаемую пустоту, можно поверить, будто и вправду видишь, как из него вырывается снежная вьюга. Путь мой лежал мимо дома учителя и дома капеллана, вдоль высокой кладбищенской стены, в конце которой святой Георгий без отдыха разил копьем глотку распростертого у его ног птицезверя, отдаленно напоминающего грифа. Потом нужно было спуститься от церкви вниз и идти вверх по улице. Из кузницы доносился запах горелого рога. Горн почти погас, инструменты – тяжелые молоты, клещи и рашпили – сиротливо лежали повсюду или стояли у стен. Нигде никакого движения. Полуденные часы в В. – время покинутых вещей. Вода в чане, куда кузнец обыкновенно время от времени опускал громко шипевшее раскаленное железо, была совершенно неподвижна и, отражая слабый отсвет, кое-где падавший на поверхность через раскрытую дверь, блестела столь густой чернотой, словно никто никогда к ней не прикасался и заведомо не коснется впредь. Кресло цирюльника Копфа в соседнем доме тоже пустовало. Бритва лежала раскрытая на краю мраморного столика с раковиной. Ничто не страшило меня сильнее, чем мысль, что Копф, к которому с тех пор, как отец опять был дома, я обязательно ходил раз в месяц постричь волосы, вот этим бритвенным лезвием, только что заточенным на кожаном ремне, станет брить мне затылок. И страх этот укоренился во мне так глубоко, что и много лет спустя, впервые увидев на экране сцену, где Саломея на серебряном блюде вносит отрезанную голову Иоанна, я сразу вспомнил о Копфе. Да и по сей день мне стоит большого труда заставить себя переступить порог парикмахерской. И то обстоятельство, что несколько лет назад на вокзале Санта-Лючия в Венеции я вдруг по своей воле зашел в парикмахерскую побриться, остается для меня совершенно неразрешимой загадкой. Страху, испытанному возле цирюльни, отвечало предвкушение удовольствия у витрины продуктовой лавки, где госпожа Унзинн как раз выложила тогда пирамиду из золотистых кубиков маргарина «Санелла» – предрождественское чудо, которому я дивился почти всякий раз по пути домой, свидетельство новых времен, наконец добравшихся и до В. По сравнению с золотым блеском кубиков маргарина все прочее, что было выставлено у госпожи Унзинн, – ящик с мукой, большая жестянка с обжаренной сельдью, консервированные огурцы, похожая на айсберг гора искусственного меда, пачки цикорного кофе с синим рисунком и завернутый во влажную тряпицу круг эмментальского сыра – безнадежно тонуло в тени. Пирамида «Санеллы», я точно знал, рвется в будущее, и пока я в своем воображении строил ее все выше и выше, так высоко, что она доставала уже почти до неба, в самом низу длинной, совершенно безлюдной, если не считать меня, улицы появился автомобиль, каких я до той поры никогда не видел. Выдающийся во всех направлениях, словно распухший, лиловый лимузин со светло-зеленой крышей. Невероятно медленно и совершенно бесшумно подплыл он ко мне; в салоне за рулем цвета слоновой кости сидел негр, который, проезжая мимо, в улыбке продемонстрировал мне свои такого же цвета зубы, – наверное, потому, что я оказался единственным живым существом, какое он встретил в нашем забытом богом местечке, в стороне от оживленных дорог. Поскольку среди рождественских фигурок были у нас дома и три волхва с Востока, и один из них – с черным лицом, облаченный в лиловый плащ со светло-зеленой отделкой, у меня не осталось сомнений, что водитель автомобиля, проехавшего мимо меня в тот сумеречный послеполуденный час, был в действительности не кем иным, как царем Мельхиором, и в огромном багажнике обтекаемого лилового лимузина вез с собой бесценные дары: несколько унций золота, ладан и полный мирры сосуд из слоновой кости. Уверенность моя основательно подкрепилась еще и тем, что после обеда, когда я во всех подробностях сам себе расписывал происшествие, повалил снег и шел все плотнее и гуще, а я сидел у окна, наблюдая непрерывное падение хлопьев с небес на землю, в результате чего к наступлению темноты все покрылось снегом – поленницы, колода для колки дров, крыша дровника, смородиновые кусты, поилка возле колодца и огород медсестры по соседству.
На следующее утро, когда на кухне еще горел свет, дедушка вошел в дом, только что расчистив от снега дорожку, и рассказал: мол, из Юнгхольца пришло известие, будто охотника Шлага нашли довольно далеко за границами его лесного участка, на тирольской стороне долины, на дне глубокого ущелья. Скорее всего, сказал дедушка, по обыкновению незаметно выплескивая в раковину, стоило маме отвлечься, ненавистный кофе с молоком, специально оставленный для него в тепле на решетке очага, – так вот, скорее всего, пересекая ущелье, опасное даже и летом, зимой же практически непроходимое, охотник сорвался вниз со скалы и разбился насмерть. И совершенно исключено, считал дедушка, чтобы Шлаг, конечно же знавший границы участка как свои пять пальцев, попал на другую сторону ущелья по ошибке. Но никто не мог и сказать, что понадобилось охотнику в это время года при такой погоде на австрийской стороне ущелья, если он сошел с дороги намеренно. Как ни крути, заключил дедушка, история непонятная, что-то здесь нечисто. У меня эта история тоже весь день не выходила из головы. В школе мне было достаточно лишь чуть-чуть прикрыть глаза, и я сразу видел охотника Шлага, как он с остекленевшими глазами лежит на дне ущелья. Поэтому меня совершенно не удивило, что около полудня на обратном пути из школы я и вправду встретил его. Некоторое время я слышал тихий перезвон колокольчиков на лошадиной сбруе, потом из серого воздуха, из пелены медленно кружащих снежных хлопьев выплыли дровни, запряженные серой в яблоках лошадью хозяина Пфайффермюле, а на них под красной попоной, по-видимому, лежал человек. Сани остановились на перекрестке, поскольку в тот же миг, можно сказать как по заказу, навстречу Пфайффермюллеру, правившему санями в сопровождении жандармов из Юнгхольца, вспахивая мотоциклом по колено нападавший снег, выехал доктор Пьяцоло. Доктор, которого, похоже, уже известили о приключившемся несчастье, заглушил мотор и подошел к саням. Он откинул покров, и под ним, в позе, на удивление расслабленной, в самом деле оказалось тело охотника Ханса Шлага, уроженца Косгартена-на-Неккаре. Серо-зеленая одежда, на первый взгляд, совершенно не пострадала и была в полном порядке. В общем, можно было подумать, что Шлаг просто уснул, если бы не пугающая бледность лица и намертво заледеневшие на морозе волосы и борода. Доктор Пьяцоло, сняв мотоциклетные перчатки, с нехарактерной для него робостью ощупал в разных местах тело охотника, жесткое от мороза и давно наступившего трупного окоченения и, поскольку никаких внешних повреждений не увидел, высказал предположение, что, скатившись по лесоспуску, охотник был еще жив. Очень может быть, сказал доктор, в момент падения он от ужаса потерял сознание, но само по себе падение замедлили молодые деревья, растущие на дне ущелья. И смерть, вероятно, наступила лишь некоторое время спустя, от переохлаждения. Жандарм, согласно кивая, выслушал предположения доктора и со своей стороны сообщил, что бедняга Леший, который теперь окоченевший лежит в ногах у охотника, был еще жив, когда несчастье обнаружили. Он лично думает, что перед тем, как идти через лесоспуск, охотник засунул таксу в рюкзак, который в падении с него соскользнул. Ведь рюкзак лежал довольно далеко, и оттуда тянулись следы к охотнику, рядом с которым такса вырыла себе неглубокую ямку в лесной почве, промерзшей только сверху. Странным образом, когда охотника и собаку уже нашли и стали к ним приближаться, пес, хотя и был чуть жив, внезапно взбесился, так что пришлось прямо на месте его пристрелить. Доктор Пьяцоло еще раз склонился над охотником, привлеченный, как мне показалось, тем обстоятельством, что снежные хлопья на его лице не таяли, а, как ни в чем не бывало, оставались лежать. Потом он вновь бережно натянул попону на неподвижное тело, и в это мгновение, словно вследствие бог весть какого едва заметного сдвига, в кармане куртки или штанов Шлага часы с репетиром пропели несколько тактов песни «Всегда будь верен, честен будь…». Мужчины в замешательстве переглянулись. Доктор Пьяцоло покачал головой и уселся на мотоцикл. Сани рывком взяли с места, а я, так никем и не замеченный, продолжил путь домой. Тело охотника, у которого, видимо, не было родственников, как мне случайно стало известно, отправили в окружную больницу на вскрытие, которое, впрочем, показало лишь то, что уже сказал о причине смерти доктор Пьяцоло. Дальнейших заключений не последовало, однако в отчете об экспертизе зафиксировали деталь, которую сочли примечательной: на левой руке покойного, выше локтевого сустава, был вытатуирован небольшой бот.
Буквально через два-три дня после встречи с мертвым уже охотником Шлагом, а значит, совсем незадолго до Рождества, я тяжело заболел: и доктор Пьяцоло, и специально приглашенный им из города специалист сошлись на том, что у меня дифтерит. Поначалу с болью в горле, потом, очевидно, с раной, а потом и вовсе с изодранной в клочья глоткой лежал я в своей постели и метался, каждые несколько минут сотрясаемый с головы до ног жестким кашлем, разрывавшим мне грудь. Когда болезнь уже укоренилась во мне, все мои члены стали необъяснимо тяжелыми, так что я не мог поднять не только голову, руку или ногу, но даже пальцы. В теле ощущалось такое давление, словно по всем органам ездил каток. Не раз посещало меня видение, будто кузнец удерживает железными клещами в ледяной воде мое только что вынутое из кузнечного горна раскаленное сердце, окруженное венчиком голубоватого пламени, словно дуло мушкета после выстрела. Головная боль достигала такой силы, что я едва не терял сознание, но в действительности беспамятство принесло избавление от боли, только когда на пике болезни температура поднялась до критических значений. Мне казалось, я лежу посреди пустыни в обжигающем зное, губы мои в серых лохмотьях кожи, а во рту гнилостный привкус из-за сходящей слоями кожи в горле. Дедушка капал мне в рот теплую воду, и я долго чувствовал, как она медленно стекает вниз по открытым очагам пожара внутри глотки. Снова и снова в забытьи мне представлялось, как я прохожу мимо плачущей фрау Саллабы, спускаюсь по ступенькам лестницы в подвал и в самом темном его углу открываю шкаф, на нижней полке которого в большом глиняном горшке всю зиму хранятся яйца. Я шарю рукой под известковой поверхностью воды, достаю почти до самого дна и, к своему ужасу, ощущаю, что в этом горшке лежат вовсе не покрытые гладкой чистой скорлупой яйца, которые так легко достать со дна, а нечто мягкое, выскальзывающее из пальцев, и вдруг я откуда-то точно знаю: это глазные яблоки. С самого начала моей болезни доктор Пьяцоло устроил из моей комнаты карантинный бокс, куда допускались только дедушка и мама, он велел заворачивать меня с ног до головы в теплые влажные простыни, и поначалу это приносило мне облегчение, однако вскоре стало причиной быстро нараставшего во мне страха. Дважды в день маме было велено протирать в комнате пол водой с уксусом, а окна у меня, по крайней мере днем, почти все время были распахнуты настежь, отчего падавший на улице снег долетал почти до середины комнаты и дедушка сидел возле моей постели в тяжелом пальто и шляпе. Две недели с лишним, захватив и рождественские каникулы, тянулась болезнь, и до самого Крещения, по-нашему, Дня Трех Волхвов, я мог проглотить разве что несколько ложек молока и совсем немного хлеба. Вход в карантинный блок стал чуть-чуть свободнее, и на пороге теперь попеременно появлялись другие обитатели дома – в том числе несколько раз и Романа, – дивившиеся мне, едва избежавшему когтей смерти, словно чуду. Уже начался пост, когда мне разрешили временами выходить на улицу. Но в школу пока что не пускали. Весной я по два часа в день оставался на попечении фройляйн Раух, в школе ее тем временем опять сменил ужасный заведующий, учитель Кёниг, которого она раньше замещала. Фройляйн Раух была дочерью лесничего, и теперь каждый день в десять утра я переходил через улицу, шел к его дому и в плохую погоду сидел там на скамье возле печки рядышком с кроткой претенденткой на должность учителя, а в хорошую – в круглой беседке в дендрарии, самозабвенно заполняя тетради сплетениями букв и цифр, которыми надеялся опутать и навсегда привязать к себе фройляйн Раух. Вообще, тогда я чувствовал себя так, словно очень быстро расту и поэтому очень даже возможно, что уже летом вполне смогу предстать вместе со своей учительницей перед алтарем.
Почти месяц, до начала декабря, я провел в В. и за редким исключением все это время оставался в «Энгельвирте» единственным постояльцем. Лишь изредка объявлялся какой-нибудь одинокий коммивояжер и по вечерам в зале трактира письменно подводил итоги торгового дня, исчисляя проценты и комиссионные ставки. Поскольку я тоже подолгу сидел, склонившись над бумагами, только иногда позволяя себе бросить задумчивый взгляд вдаль, они поначалу, вероятно, и меня принимали за торгового представителя, пока после нескольких оценивающих взглядов на мою совершенно не соответствующую наружность не приходили к выводу, что профессия у меня все же какая-то другая, видимо, куда более сомнительная. Потревоженный не столько их взглядами, сколько приготовлениями к началу сезона, которые с недавних пор здесь ощущались, я решил уехать, тем более что в своих заметках достиг точки, когда следовало либо продолжать без конца, либо все-таки тут и остановиться. На следующий день, после многочисленных пересадок, сопряженных с длительным ожиданием на продуваемых со всех сторон перронах провинциальных вокзалов – ничто из увиденного не запечатлелось в памяти, кроме разве что гротескной фигуры слишком уж большого, прямо-таки огромного человека, который к отвратительному модному народному костюму нацепил широкий галстук с аппликациями в виде разноцветных развевающихся на ветру птичьих перьев, – так вот, на следующий день, оставив В. в бесконечно далеком прошлом, я сидел в скором поезде, несшем меня в Хук-ван-Холланд по немецкой земле, вычищенной и вылизанной до последней дорожки и грядки, что вызвало у меня привычное удивление. Все здесь казалось мне умиротворенным и одурманенным на какой-то нехороший лад, так что ощущение дурмана вскоре захватило и меня самого. Мне не хотелось раскрывать купленные газеты, не хотелось минеральной воды, стоявшей передо мной. Сбоку тянулись мимо поля и пашни, на которых, словно по расписанию, вылезли бледно-зеленые всходы озимых; участки леса, гравийные карьеры, футбольные поля, фабричные корпуса и год от года разрастающиеся в соответствии с планами застройки колонии таунхаусов и коттеджей за невысокими деревянными заборчиками и живыми изгородями. Странным образом, пока я смотрел в окно, меня вдруг поразило, что почти нигде не видно людей, хотя автомобили в тучах брызг колесили по мокрым улицам в немалом количестве. Даже и в городах машин на улицах гораздо больше, чем людей. И вправду складывалось впечатление, будто наш вид уже уступил место какому-то другому или как минимум что наше существование теперь сродни тюремному заключению. Молчание соседей, как и собственная моя неподвижность в этом купе с кондиционером, никак не могли развеять подобные мысли. Впрочем, справедливости ради должен отметить, что мыслей у меня в голове тогда вовсе не было, просто пока я обозревал в окне земли, разделенные без остатка на полезные участки, в сознании у меня – если в тот миг я им вообще обладал – без перерыва повторялись слова «юго-западная Германия», «юго-западная Германия»; и через несколько часов этой все возрастающей муки я пришел к убеждению, что определенная деградация нервных окончаний у меня в мозгу, увы, налицо.
Ощущаемое мной давление отпустило, только когда поезд прибыл на вокзал Гейдельберга, где на платформе стояло так много людей, что я сразу подумал, будто они бегут из гибнущего или уже погибшего города. Последней из новичков в наше полупустое теперь купе вошла молодая женщина в коричневом бархатном берете на вьющихся волосах. И я с первого взгляда без малейших сомнений, сказал я себе, опознал в ней Елизавету Стюарт, дочь Якова I, которая, по сообщениям историков, невестой Пфальцского курфюрста Фридриха приехала в Гейдельберг, где в течение некоторого времени содержала блестящий двор и вошла в историю как «Зимняя королева». Едва эта юная дама из XVII века английской истории расположилась в своем уголке, как тут же глубоко погрузилась в книгу под названием «Богемское море», написанную неизвестной мне писательницей по имени Мила Штерн. Только пока мы ехали вдоль Рейна, она порой поднимала глаза от книги и бросала взгляд в окно, на поверхность воды и крутые склоны противоположного берега. Видимо, дул весьма сильный северный ветер, поскольку флажки на корме грузовой баржи, бороздящей серую реку против течения, развевались не назад, а, словно на детском рисунке, вперед, по направлению движения, что сообщало всей картине нечто столь же абсурдное, сколь и трогательное. Свет снаружи заметно потускнел, и теперь лишь бледное свечение наполняло долину реки. Я вышел в коридор. Будто выгравированные холодной иглой, серые и фиолетовые виноградники кое-где были накрыты сетками цвета морской волны. Когда весь этот ускользающий в беспрестанном движении пейзаж, известный по открыткам и проспектам и, по сути, остающийся неизменным, покрыла тонкой почти горизонтальной штриховкой мало-помалу набиравшая силу метель, мне вдруг показалось, будто мы где-то на севере и уже приближаемся к дальней оконечности острова Хоккайдо. Зимняя королева – а я втайне предполагал, что за описанным превращением долины Рейна стоит именно она – теперь тоже вышла в коридор и уже некоторое время стояла рядом со мной, следя за чарующим зрелищем, прежде чем с едва уловимой английской интонацией, как мне почудилось, лишь для самой себя, произнесла такие строчки:
Белый луг, под снегом он, Чад вдали черней ворон. Руки мех согреет лаской, А лицо укроем маской.То обстоятельство, что я тогда не сумел ей ответить, не вспомнил, как там дальше, в этом зимнем стишке, что вопреки всем своим внутренним устремлениям так ничего из себя и не выдавил, а только глупо молчал, глядя на почти уже канувший в Лету сумеречный мир, позднее не раз пробуждало во мне острое сожаление и печаль. Вскоре долина Рейна расширилась, на равнине показались освещенные многоэтажные дома, поезд въехал в Бонн, где Зимняя королева, которой я так и не сумел ничего сказать, вышла. С тех пор я снова и снова, причем безуспешно, пытался разыскать хотя бы книгу «Богемское море»; но и она, несмотря на то что имеет для меня, безусловно, огромное значение, не упоминается ни в одной библиографии, ни в одном каталоге, вообще нигде.
На следующий день, уже в Лондоне, я первым делом отправился в Национальную галерею. Картина Пизанелло, которую мне хотелось увидеть, находилась не на обычном своем месте: из-за ремонта ее перевесили в плохо освещенную комнату полуподвального этажа, куда спускались лишь немногие из посетителей, ежедневно бродивших по галерее с выражением полной бессмысленности на лицах. Почти всю верхнюю половину этой небольшой картины размером, наверное, тридцать на пятьдесят сантиметров, помещенной, к сожалению, в чересчур массивную золотую раму XIX столетия, занимает сияющий в небесной синеве золотой диск, служащий фоном для изображения Мадонны с Младенцем Спасителем. Ниже, от одного края картины до другого, тянется полоса из темно-зеленых крон деревьев. Слева стоит покровитель скота, пастухов и прокаженных святой Антоний. На нем темно-красная монашеская ряса с капюшоном, а поверх нее – широкий бурый плащ. В руке у него колокольчик. Укрощенный кабан, демонстрируя преданность, распростерся на земле у его ног. Строгим взглядом смотрит отшельник на стоящего напротив славного рыцаря, весь облик которого излучает нечто трогательно мирское. Дракон, крылатое чудище, извивающееся кольцами, только что испустил дух. Искусно сработанные воинские доспехи из белого металла стягивают к себе весь скупой вечерний свет. Ни единой тенью вины не омрачено юное лицо Георгия. Затылок и шея беззащитно на виду. Но самое необычное на картине – широкополая, украшенная большим пером соломенная шляпа невероятно искусной работы на голове у рыцаря. Мне бы очень хотелось знать, как Пизанелло пришло в голову надеть на святого Георгия именно такой, к данным обстоятельствам совершенно не подходящий, экстравагантный даже головной убор. San Giorgio con cappello di paglia – ну очень странно, так думают, наверное, и две благородные лошади, выглядывая из-за спины рыцаря. [53]
Обратный путь от Национальной галереи к вокзалу Ливерпуль-Стрит я проделал пешком. Поскольку шагать по Стрэнду и по Флит-стрит мне не хотелось, я решил пробираться небольшими улочками к северу от этих магистралей. Через Чандос-плейс, Мейден-лейн и Тависток-стрит я вышел к парку Линкольнз-инн-Филдс, а оттуда уже через Холборн-серкус и Холборн-вайедакт – к западным окраинам города. И хотя прошел немногим более трех миль, чувствовал я себя так, словно никогда в жизни не совершал более дальней прогулки, чем в те послеполуденные часы. Правда, усталость я осознал, лишь когда уже под козырьком станции метро ощутил, как изнутри потянуло хорошо знакомым сладковато-пыльным теплом подземного мира, и слабый запах белых, розовых, пурпурных и ржаво-красных хризантем, которыми торговал у входа продавец, похожий на Просперо, я, подобно гребцу, оказавшемуся в открытом море, воспринял как обман чувств. Станция метро, вдруг подумалось мне, была именно та, где я ни разу еще, через нее проезжая, не видел, чтобы кто-нибудь вошел в вагон или вышел из него. Поезд останавливается, двери открываются, смотришь на пустую платформу и обычно даже не замечаешь, но тут совершенно отчетливо слышишь предупреждение «Mind the gap», двери закрываются, и поезд идет дальше. Каждый раз, когда я проезжал через эту станцию, все было именно так, и никто из пассажиров и бровью не повел. Видимо, такое положение вещей, всерьез меня беспокоившее, бросилось в глаза мне одному. И вот теперь я стою на тротуаре у входа на эту сомнительную станцию, и, чтобы избежать чрезмерной усталости, какую повлечет за собой преодоление последнего участка пути пешком, мне нужно только войти в темный вестибюль, где нет ни единой живой души, только очень темная негритянка сидит в некоем подобии кассовой будки. Наверное, излишне сообщать, что в конце концов я так и не спустился на эту станцию. Хотя изрядное количество времени простоял, можно сказать, на пороге и даже обменялся несколькими взглядами с темнокожей женщиной внутри, однако на решительный шаг так и не отважился. [54]
Отъезжая от Ливерпульского вокзала, поезд медленно двигался вдоль закопченных кирпичных стен, которые из-за множества ниш всегда представляются мне частью разветвленной системы катакомб, выходящей здесь на поверхность. С годами в стыках и трещинах кирпичной кладки XIX столетия обосновались буддлеи, известные своей нетребовательностью. Когда летом, направляясь в Италию, я последний раз проезжал мимо этих черных стен, хилые растения как раз понемногу зацветали. И пока поезд стоял перед семафором, я почти не верил своим глазам: с одного растения на другое то выше, то ниже, то левее порхала бабочка-лимонница. Но это было несколько месяцев назад, и, возможно, воспоминание выскочило теперь, как я себе сказал, откуда-то из области фантазии. Зато не вызывала сомнений реальность моих несчастных попутчиков, которые рано утром свежевыбритые, аккуратно одетые и причесанные вышли из дома, а сейчас, словно бойцы побежденной армии, бессильно повалились на свои места и, прежде чем уткнуться в газету, пустыми неподвижными взглядами застревали на предместьях метрополии. Вдали, там, где широко открывалась каменная пустыня, возвышались три многоэтажные башни, снизу доверху опоясанные строительными лесами, окруженные мерцающими на солнце зелеными полями, а еще дальше, на фоне пламенеющей полоски неба на западе у горизонта, из черно-синих туч, накрывших весь город, обрушивался вниз ливень, словно исполинский траурный покров. Поезд сменил пути, и мне удалось бросить взгляд назад, на далеко превосходящие высотой все остальное, в верхней части своей вызолоченные почти уже горизонтальными лучами закатного солнца удивительные сооружения лондонского Сити. Пригороды пронеслись мимо – Арден и Мериленд, – и вскоре мы выехали из города. Горизонт на западе начал гаснуть. На пастбища и поля опускались вечерние тени. Я раскрыл напечатанную на тонкой бумаге книгу – издание «Библиотеки для всех» 1913 года – дневники Сэмюэля Пипса, которые приобрел несколько часов назад. Читал понемногу то тут, то там, наугад выбирая фрагменты из этих более чем полутора тысяч страниц отчета о событиях десятилетия, покуда сон не одолел меня, так что я опять и опять вглядывался в одни и те же строчки, не в состоянии понять, что там написано. Мне приснилось, будто я иду по гористой местности. Длинная дорога, покрытая мелким белым гравием, бесконечными петлями вьется по лесам, постепенно поднимаясь вверх, и, наконец, на высоте перевала через глубокое ущелье переходит на другую сторону горного хребта, причем, как я знал во сне, это были Альпы. Все, что я мог видеть сверху, – лишь светлая, сияющая, известково-серая пелена, в которой мерцали мириады кристалликов кварца. Мне же странным образом казалось, будто все это – излучение камня. С той точки, откуда я смотрел, дорога уже вела вниз, а вдалеке поднимался еще один кряж, по меньшей мере такой же высоты, и его, чувствовал я во сне, мне уже не одолеть. Слева открывалась глубокая, вызывающая головокружение пропасть. Я подошел к самому краю дороги, и мне стало ясно, что в такую глубокую бездну я еще никогда не заглядывал. Нигде не было видно ни единого дерева, ни единого куста, ни коряги, ни клочка травы, всюду – только камень. Тени облаков скользили по обрывистым кручам и ущельям. Ничто не шевелилось. Царила предельная тишина, словно давным-давно уже развеялись последние следы растительной жизни, шуршащий лист или клочок коры, лишь камни недвижно лежали на дне пропасти. Подобно почти угасшему эху, в бездыханную пустоту вернулись вдруг слова – фрагменты описания большого лондонского пожара. Я видел, как он разрастается, захватывая все новые пространства. Света не было, только страшный кровавый злобный огонь, разносимый ветром по всему городу. На мостовой сотни мертвых голубей с опаленными перьями. Толпы мародеров в Линкольнз-инн. Церкви, дома, дерево и кирпич – все горело одновременно. На кладбище занялись вечнозеленые деревья. Они горели быстро, как факелы: треск, разлетающиеся искры и угасание. Могилу епископа Брейбрука разрыли. Настал последний час? Чудовищный глухой удар. В воздухе будто волны. Пороховой склад взлетел на воздух. Мы ищем спасения на воде. Вокруг нас – отсвет, на фоне глубокой черноты небес, изгибаясь дугой вверх по холму, зубчатая стена огня шириной почти в милю. Назавтра лишь беззвучно выпадает пепел – к западу, до самого Виндзорского парка.
– 2013 —
Примечания
1
Сколько миль до Ивреи?.. дурная женщина (ит.).
(обратно)2
Панорама Ивреи (ит.).
(обратно)3
Тайный брак (ит.).
(обратно)4
Дорогая, прочь сомненья: обретем мы утешенье, Небеса нам не враги (ит.).
(обратно)5
Китаец (фр.).
(обратно)6
«О любви» (фр.).
(обратно)7
Сообщник я тайный и верный (фр.).
(обратно)8
Францисканцев-обсервантов (ит.).
(обратно)9
Которую я никогда не любил (фр.).
(обратно)10
За границей (ит.).
(обратно)11
Текст записи Эрнста: «Англия. Англия, как известно, особенный остров. Если кто захочет отправиться в Англию, ему потребуется целый день. 30 октября 1980 года. Эрнст Хербек» (нем.).
(обратно)12
Король Людвиг (ит.).
(обратно)13
Заразный город, проклятая Венеция (ит.).
(обратно)14
«История моего побега из венецианской тюрьмы, именуемой Пьомби, писанная в замке Духцов в Богемии в 1787 году» (фр.).
(обратно)15
«Неистовый Роланд» (ит.).
(обратно)16
Вергилиев оракул (лат.).
(обратно)17
«Между октябрем и ноябрем» (ит.).
(обратно)18
«И здесь мы вышли вновь узреть светила» (ит.).
(обратно)19
Городские мусоросжигатели (ит.).
(обратно)20
Да, продолжается. Сжигают без остановки (ит.).
(обратно)21
Благодаря превосходной акустике… едва уловимое соло скрипки, негромкое, эфирное сопрано, самые интимные стенания Мими, умирающей на сцене (ит.).
(обратно)22
Принцесса (ит.).
(обратно)23
Хозяева – Карло Кадаверо и Витторио Патьерно (ит.).
(обратно)24
Англичанин (ит.).
(обратно)25
Зима на пороге. Да, да, зима (ит.).
(обратно)26
Ангелы посещают юдоль скорби (ит.).
(обратно)27
Заместитель начальника станции. Начальник станции. Помощники начальника станции. Стрелочники (ит.).
(обратно)28
Охотник (ит.).
(обратно)29
В черном лесу (ит.).
(обратно)30
Еврейский писатель (ит.).
(обратно)31
Верные Риве (ит.).
(обратно)32
Служанка (ит.).
(обратно)33
Он исчез (ит.).
(обратно)34
Паспорт пропал без вести (ит.).
(обратно)35
Странно, странно (ит.).
(обратно)36
Бригадир, член младшего командного состава полиции (ит.).
(обратно)37
Мы здесь не в России, синьор (ит.).
(обратно)38
Надежное руководство по организации вашей деятельности. Общий план Милана (ит.).
(обратно)39
* Следующая пересадка / следующее совпадение (ит.).
(обратно)40
Древнеримский амфитеатр (ит.).
(обратно)41
Апофеоз исполинов (ит.).
(обратно)42
Итальянская мелодика (ит.).
(обратно)43
Наш народ (ит.).
(обратно)44
Убитый на секционном столе (ит.).
(обратно)45
Вчера вечером из мертвецкой кладбища в Ногаре (ит.).
(обратно)46
Урожденная (ит.).
(обратно)47
Лила, аромат женщины (ит.).
(обратно)48
Великолепная «Аида» (ит.).
(обратно)49
Ангел смерти к нам спешит. Я вижу, небеса уже раскрываются (ит.).
(обратно)50
Оперные спектакли на Арена-ди-Верона (ит.).
(обратно)51
Урок гибели (ит.). В перен. смысле: урок непостижимого.
(обратно)52
Возвращение на родину (ит.).
(обратно)53
Святой Георгий в соломенной шляпе (ит.).
(обратно)54
Будьте осторожны (англ.).
(обратно)



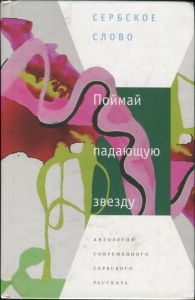








Комментарии к книге «Головокружения», Винфрид Георг Зебальд
Всего 0 комментариев