Леонид Тишков
Взгляни на дом свой
роман-фантазия с рисунками автора
Дорога домой
Что так тянет меня сюда, в мой, собственно, дикий малолюдный край, где зима длинная, как Казанская железная дорога, а лето коротко, как жизнь воробья. Сирое место, убогое, втиснутое в узкую долину извилистой реки, перегороженную плотиной, возведённой для нужд чугунолитейного производства. Сам посёлок вырос вокруг завода, как полип вокруг камня, отовсюду видна высокая кирпичная труба, иногда изрыгающая «лисий хвост», иногда чёрный дым. На эту трубу, как на штырь, насажен посёлок, мой родной городок, где я родился и вырос.
Зачем я еду в этом холодном скрипучем поезде? Увидеть родной дом? Но один, первый, уже сгнил и сломан, второй еле виден из-за сугробов, синея краешком наличника, третий ещё стоит, крепкий, как гриб-боровик, обляпанный тёмно-серым цементом, куски которого отваливаются, как старая короста с кожи больного, оголяя кирпичи. В нём давно живут незнакомые мне люди, даже деревья, растущие рядом с ним, не узнают меня.
В этот раз я еду зимой, в феврале, на поезде «Урал». «Фирменный, дорогой, наверное», — говорила мне моя мама, езжай на проходящих, тюменский или омский… Теперь я еду на фирменном, есть возможность купить билет в купейный вагон, получить слегка влажное, пахнущее хлоркой бельё, заправить полосатый плоский матрас, развести шторки из белой ткани с красной рябинкой, сесть у окошка и смотреть на убегающий пейзаж.
За окном однообразные квадратные строения с узкими окнами, на шиферных замоховевших крышах выросли маленькие кривые берёзы-сироты. Железнодорожные пути заплетаются в масляный жгут, запах тлеющего торфа, выбеленный солнцем забор, станционный туалет, огороженный кирпичной стеной, белённой известью. Я возвращаюсь домой, в маленький посёлок городского типа возле старого демидовского железоделательного завода. Чух-чух-чух, всего лишь сутки — и ты в Дружинино. Эта узловая станция в двух часах до Свердловска. Я схожу на платформу и полтора часа жду на станции местный, который идёт в Михайловск. В руке коричневая картонная пластинка билета, женщина-контролёр, пахнущая углем и машинным маслом, аккуратно её закомпостирует, пробив дырочки.
Тащит паровоз дощатые вагоны. Дымный, чёрный от мазута, могучий, огромный металлический полоз, он прёт сквозь заснеженный лес, пронзая берендеево царство угольной иглой, осыпая сажей искрящийся, самый белый снег в мире, ему всё равно, куда тащить нас, сидящих на отполированных задами до блеска деревянных лавках, тёмных людей, пассажиров, ибо не могу разделить эту массу на мужчин и женщин, на взрослых и детей, на студентов и рыбаков, на рабочих и служащих. Эти сидящие вокруг меня тёмные люди зовутся уральцами, есть такая нация в России, и никак её не спутаешь с какой-нибудь другой, например, с адыгейцами или бурятами. Когда-то, до своего поселения на Урале, они были русскими людьми, обитателями Тульской или Тверской области, но когда притащили тела их на Камень, положили на мох под скалами реки Чусовой или реки Серги, они открыли глаза и вдруг испугались нависших над ними тёмно-зелёных еловых лап, ощутили жгучий холод серых камней, услышали недовольный ропот лесных птиц, да так и остались жить здесь тем первым страхом внутри души, он только со временем стал робостью, канул в бездну памяти, как в Провал, затаился там, но не пропал, он всегда с ними. Тот древний сермяжный страх Камня и есть главная отличительная черта уральского народа. Вроде бы уже давно считают они Урал своей родиной, сколько поколений народилось здесь, не сосчитать, но внутри души, как на дне крынки, лежит липкая многолетняя слизь, есть у каждого из нас этот неизживаемый вечный страх тайги, низких гор, серых камней, духов, некогда обитавших под этими камнями. Говорят: «Урал — страшное дело», не поймёшь, по первости, о чем это, но нутром чувствуешь, так и есть. Ходят-бродят мои земляки по уральской земле, рубят просеки, запруживают ручьи и реки, строят на ней дома-города, заводы и школы, больницы и тюрьмы, рождаются и умирают, и всё под гнётом Камня, как квашеная капуста в бочонке. Даже если кто и вырвется из круга Огневушки-поскакушки, поселится на других землях, всё равно уральская хмурь остаётся с ним навсегда.
Вот такие жители моей сторонки, страны. Страна — странное слово, «странный» ближе к ней по значению, чем «сторона». Когда я слышу, из какой ты страны, я думаю об Урале. Я родился в стране, где главным занятием каждого было сожаление. Прошедшее оставляло сожаление о несбывшемся, об утерянных возможностях. От будущего мои предки ничего не ждали. Настоящее занимало узкую щель, неудобную, тёмную прогалину между прошедшим и наступающим. Вокруг меня жили печальные, недоверчивые, обездоленные люди. И, собственно, я недалеко ушёл от них.
Можно ли освободиться от всего, что накопили в своём теле мои предки и передали мне со своей кровью? Это похоже на содержимое сарая, который достался тебе по наследству — старый, покосившийся сарай на окраине улицы, в котором твои родители хранили множество ненужных вещей среди малого количества нужных. Но эти вещи невозможно выбросить, они срослись со мной нитями воспоминаний, они стали частью меня. Вот я иду по каменистой дороге и несу на спине сарай. Иногда я представлял себя, как я выворачиваю этот сарай наизнанку, выставляя его содержимое на прилюдное обозрение. Стенки сарая смыкаются, внутри вывернутого сарая пусто и темно. Абсолютно темно и тихо.
Особенно становилось темно и тихо, когда приходила зима и начинал падать снег. Падал он, не переставая, днём и ночью, и уральцам приходилось строить высокие дома, перекрывать тёсом дворы, ладить широкие лопаты, чтобы прокладывать дорожки в глубоком и всеобъемлющем снегу.
Снег, иначе говоря — детство, иначе говоря — счастье. Снег сопровождал меня с самого рождения, это была самая дружелюбная материя, окружавшая меня. В наших местах снег лежал больше пяти месяцев, его присутствие ощущалось, даже когда он стаивал весь. Образ снега — самая сильная «вспышка» в памяти, когда я пытаюсь вспомнить свое детство. В моём городке зимы продолжительные и снежные. Огромный замёрзший пруд за огородом, сияющие от лунного света сугробы, невозможность выйти из дома, потому что двери завалил ночной снегопад, февральская пурга, отмороженные уши, заводской гудок ранним тёмным утром — дети могут не идти в школу, слишком холодно. Но уже днём, выходя на улицу, радуешься огромному количеству снега, всё вокруг словно приподнято снегом — дома, деревья, собаки, жители, — все люди вдруг получили ангелическую сущность, временное легковесие.
Под ногами поёт снег, восторженно и нежно, вознося прохожих на небольшую, но всё же высоту. Снег — это овеществлённая поэзия, он примиряет нас с тем, что мир — иллюзия, созданная нашим воображением. Вот сейчас все предметы белы, припорошённые лёгким, слегка влажным снегом, их как бы нет, они все исчезли, но мы узнаём их абрис, как поэтическую сущность. Так поэзия сама спускается к нам с неба, кружась снежинками, хлопьями, снежной крупой.
Снег — слово, содержащее сон, негу, ген. Уснуть в снегу, в сугробе, как в огромной снежной матке, и умереть, это очень русская смерть, испытать негу небытия, хотя бы на краткий миг. Снежный ген — один из редких северных генов, он останется в наших ледяных останках, когда их найдут по весне среди внезапно вспыхнувших подснежников. Но кроме мягкого тёплого снега, пушистых хлопьев, есть грозный острый ледяной ветер, метель, отчаянная сила, сбивающая прохожего с ног. Это открытое пространство, сметённое, покрытое снежными задулинами, голубыми пятнами льдинок, и на этом пространстве видна отчётливая чёрная чёрточка — человек, уходящий за горизонт. Явственность человеческого одиночества ясно проявлена в снежном пейзаже.
На заледеневшем пруду сидит рыбак, открытый ветру, от холода приподнял стойкой овчинный воротник, на ногах пимы с галошами, обшитые брезентом вязаные рукавицы. Удочку в руках не видно, саму лунку не видно тоже, кажется, и не рыбак это вовсе, а какой-то случайный прохожий, пересекавший пруд, присел передохнуть и задремал. А эта лунка, если присмотреться, — не круглая дырка во льду, а окошечко, из которого выглядывает любопытный пруд, разглядывает склонённого над ним человека. Два глаза сверкнули на жидком тёмном лице: это два ерша прошмыгнули вдоль лунки и пропали в чёрной глубине или на миг открыл глаза водолаз и снова уснул глубоководным сном? Может, это горный водолаз пристально смотрит на рыбака со дна пруда, любопытствуя, чей будет тот человек, склонившийся над лункой.
Мрак и холод — спутники водолазов. Ужасен климат тех мест, где обитают водолазы. Практически весь год длится зима, сырая и тяжёлая, с ветром и морозом за тридцать. Весна коротка, пронизана туманами и редкими солнечными днями — один или два дня. Снег лежит долго, слёживаясь в чёрный плотный покров, пропитанный сажей и землёй, случается, что не тает снег по весне, а превращается в твёрдые холодные глыбы — каменный снег, камнеснег. Добыча этого ископаемого — основное занятие горных водолазов.
После короткой весны наступает лето. Сухое и жаркое, оно длится несколько дней, а иногда полторы недели. Короткое лето — счастье для водолазов, длинное — несчастье и гибель. Все ожидают дождя, прячутся в тень, спасаются в ледяных домиках, сидят под лопухами. И вот первые капли ударяют в сухую пыль — начинается дождь. Это пришла осень, любимое время водолазов. Дождь идёт месяцами, земля превращается в жидкую грязь, воздух становится влажным и тёмным, температура падает. Долгая осень переходит в ещё более долгую зиму. Вот какой ужасный климат на земле водолазов. Но это на взгляд чужестранца, случайного путешественника, заезжего коммивояжёра, самим водолазам этот климат привычен, даже дорог. И не смогли бы они жить в других местах, где долгое лето, мягкая зима, много солнца и голубого неба. Они бы умерли от перегрева, от сухости, от тоски, наконец, по жидкой густой грязи, которая налипает на галоши, сочится в разные стороны, хлюпает на размокшей дороге, когда идёшь в свой снежнокаменный дом, еле видимый в тумане. Холод пробирает тебя до костей, руки дрожат, а по запотевшему стеклу наблюдательного окошка бегут и бегут капли дождя, превращая однообразный пейзаж в прекрасную и сказочную страну водолазов.
Леонтий вышел на пруд в цигейковой шубе и шапке, валенки были ему немного великоваты, но штаны, натянутые на раструбы пимов, не давали им соскользнуть. Ветер стелился по гладкой поверхности пруда, наметая снежные заструги, вырывая и унося ветки, которыми пометили свои лунки рыбаки. Пройдя всего несколько шагов, Леонтий встал в такую невидимую лунку и провалился в воду. Шуба не дала ему уйти под лёд целиком, подо льдом оказались его ноги и живот, а грудь и руки остались наверху. Холодная вода проникала под одежду, поднимаясь всё выше, выплескиваясь из лунки, снег вокруг него напитывался водой, становясь тёмным от влаги. Вокруг была ледяная пустыня, прохожих не было, некому было помочь. Леонтий почувствовал себя разделённым на части — он стал не живой и не мёртвый, не сухой и не мокрый, не тёплый и не холодный. Он оказался между двумя мирами: один — вот он, реальный, здесь зима, дует ветер, вокруг пруда стоят дома, за ними — невысокие чёрные горы, зубчато окаймлённые лесом, а второй — влажный, обволакивающий, даже тёплый, необъяснимо привлекающий своей нескончаемой бездной. Это был Нижний мир, тот самый, в который Леонтий потом погрузится в своих фантазиях, станет исследовать его, прицепив на грудь месяц из сияющей михайловской фольги, чтобы он освещал ему дорогу. Он станет мифографом, ему откроются скрытые для обычного человека истории, поверхность бытия треснет, как тонкий ледок, и сквозь трещины засочится тёмная вода, вынося наверх фантастических рыб, серебряная чешуя которых будет покрыта тайными знаками, разгадывать их смысл будет Леонтий всю жизнь, зарисовывая эти криптограммы в свои бесконечные альбомы. Леонтий закрыл глаза и полетел, а чтобы лететь было легче, он оставил наполненные водой валенки, они ушли на дно, легли на ил и в них поселились раки. Они залезли в них, выставив наружу коричневые хитиновые клешни, чтобы разбойники окуни не позарились на их неожиданное жильё.
Внизу остался синеть заснеженный пруд, прорубь, в которую провалился Леонтий, сразу подёрнулась узорным ледком и стала почти незаметна. Со стороны огорода вышел на берег его брат, стал махать руками, кричать: «Леонтий, эй, Леонтий, ты куда полетел, давай домой, мать беляши нажарила, зовёт есть»… Но Леонтий всё летел и летел, всё выше и выше, над улицей Нудовская он сделал круг, потом взмыл над Куканом и только тогда пошёл вниз. Он приземлился прямо у деревянных ворот своего дома, нажал на оловянную ручку со львом, щеколда звякнула, и он быстро забежал во двор. Штаны на нём высохли от мороза, но за потерянные валенки придётся отвечать. Это и будет его первая сказка.
Что это за чёрточка на белом поле? Это я опять, как когда-то на заснеженном пруду, путешествую от угла Загорной и Нудовской на Изволок, навестить моего друга Витю, построившего на окраине, у самого леса дачку, малюсенький домик дядюшки Тыквы. Сейчас он почти не виден из-за бугров наметённого снега, а летом дом сияет на берегу, отражая крышей, покрытой михайловской фольгой, скудное солнце. Там, под крышей, лежит моя луна, месяц, двухметровый световой короб, который я снимаю на фотокамеру — то на голубой лодочке, то под пихтами среди мухоморов. Сейчас вряд ли я туда дойду, а сверну левее, на тропку, осторожно обходя воткнутые рыбаками еловые лапки. Я пойду к Пятой школе, где когда-то работала моя мать, всю свою жизнь, больше сорока лет она проработала в этой школе. Теперь этой школы нет, на её месте заброшенный мусорный пустырь, подчистую снесли здание, построенное ещё до войны из уральских еловых дерев, — сначала выбили личинки окон, оставили ослеплённое здание на две зимы, чтобы сгнила школа от дождя и снега, а потом бульдозером сровняли с землёй. Вместе с партами, досками, покрытыми чёрным линолеумом, голубыми глобусами и другими наглядными пособиями.
В зелёном семейном альбоме лежат фотографии моей мамы, сидящей в окружении учеников, позади цветущая сирень, золотые шары, берёзы, стена школы с высокими светлыми окнами, над школой — горы, поросшие лесом, над лесом — ясное уральское небо, отороченное облаками. Эти фотографии безмолвно повествуют о том времени, когда стены школы были крепки и, казалось, незыблемы, когда мои родители были учителями, а вокруг них сидели-стояли их ученики, много учеников, или сидели-стояли только учителя, — коллектив школы был дружный, вместе ходили по малину и на майские демонстрации, а потом лепили пельмени. Школа исчезла, как исчезла когда-то Атлантида, и с ней все учителя, а, может, ещё раньше исчезли учителя, а потом за ними сама школа канула в вечность.
Три адреса
Когда же дойдём мы до дома
И в нём до утра отдохнём.
Сойдёмся, увидим умерших,
Забытых, далёких вернём.
Когда ж эту смерть вместе с жизнью
Сожгём в яме скорби своей,
И встанем с соломы детями
У матери в доме родном!
Андрей Платонов
Три дома было у меня, три адреса связаны с моим детством в Нижних Сергах. Первая, где я родился и жил до двенадцати лет, — улица Нудовская, так называлась она изначально, что означало бедственность обитателей её, подневольных заводских людей. В 1929 году старинное название упразднили, дав ей имя большевика и металлурга латыша Ивана Ивановича Лепсе, сейчас она носит имя Героя Советского Союза летчика-истребителя Андрея Андреевича Федотова, погибшего зимой 1943 года в воздушном бою над Витебском. Герой родился в доме на два окна почти напротив нашего. Ручка двери во двор изображает льва, выше на столбе прибита жестяная звезда, чёрная, как всё вокруг, и ящик тоже черный, краска давно с него слезла, еле видна на нём рельефная надпись «почта». Улица начинается с поворота пруда и идёт до заводской плотины. Правая её сторона прилепилась к подножию горы Кукан, а левая выходит огородами на пруд. Наш дом-пятистенка, который ещё до Революции построил мой дед по матери, металлург Александр Иванович Тягунов, стоял на правой стороне, выходя огородом к воде.
Узкая тропинка тянулась по берегу пруда между заборами и водой. Берег пруда был усыпан шлаком, оплавленным стеклом, ржавым железом, среди которого иногда виднелся речной песок. На краю нашего огорода стояла косая банька, под её крышей мы с братом Женей хранили металлический четырёхгранный штык, солдатскую каску, пробитую пулей, гильзы от автоматных патронов и кораблики, сделанные из сосновой коры. Прямо за калиткой огорода открывалась ярко-зелёная полянка, на ней можно было валяться в солнечные тёплые дни, бросать камешки в воду или «делать блинчики», у кого больше получится кругов от плоского камешка, запущенного строго параллельно воде. Сидели на траве и ели сладкую морковь, поскоблив её стёклышком. Здесь же стояла наша лодка, прикованная цепью к железной трубе, вбитой в грунт у плотика, рядом — лодка наших соседей Свешниковых, а именно «лодка Вияна», так звали хозяина. Лодка была огромная, плоскодонная, вся просмолённая до такой степени, что в жаркую погоду смоляное облако висело над её чёрным грузным телом. На таких больших лодках возили сергинцы сено со своих покосов, расположенных Вверх пруда в пойме реки Серга. Наши покосы были на горе в лесу, сено возили на лошадях, а лодка служила для прогулок и рыбалки. Лодка была лёгкая на воде, остойчивая, быстрая, с обитым жестью носом, после дождя наполнялась прозрачной водой, которую вычерпывали веслом, сняв кормовую лавочку. Ржавая консервная банка нужна была для воды, которая всё время сочилась из щелей внутрь лодки.
Лодочных мастеров в Сергах было раз-два и обчёлся, делали лодку они обстоятельно, встречались с заказчиком, обсуждали форму и стать судна. Красили в зелёный или голубой цвет. Голубой цвет вообще был в чести у сергинцев: жестяные крыши домов красились ультрамарином, оградки и кладбищенские памятники, сваренные из металлических труб, что на Крутом рву, все как один — голубые.
Мать давно жила в городке, далеко от пруда, но заказала лодку для своих сыновей, прилетавших, как гуси, на лето в Серги. Ставила её на наше родовое место, у моего двоюродного брата Юрки. Но когда он запил «по-чёрному», стал жить бобылём, не заботясь о суетном бытии, перегнала лодку в Загорную к другому племяннику, Мартьянову Сашке, Шурику. Там она и закончила свой век, оставив после себя голубое днище, как небесную прореху в земле, которая постепенно заросла кучерявой травкой, конским щавелем и сырой снытью. Прошлой зимой и сам Сашка умер, покосился, подогнул колени, упал на дворе, опрокинув ведро, полное тяжёлой прудовой водой, взятой из проруби. Это была единственная прорубь на весь пруд, каждую зиму только он один из сергинцев прорезал напротив своего дома отверстие во льду, делал прорубь каждую зиму, может, полвека или больше. Вечером, перед сном, и рано утром разбивал топором свежий ледок, нельзя пропустить, иначе затянется прорубь. Сейчас нет этой проруби, больше не будет.
Загорная была последней улицей после Нудовской, проходя за гору Кукан, обрастая проулками, превращалась в тропку в сыром еловом лесу. Здесь всегда темно в конце дня, — гора заслоняла послеполуденное солнце, а по утрам я там не бывал. А на улице Нудовской между горой и прудом всегда светло, многолюдно, на берегу — купалка, любимое место нижнесергинской молодёжи. Горячие серые доски, настеленные на сваи, огорожены перилами. По утрам здесь сидели рыбаки, забросив удочки на окуньков и плотву. С настила было удобно ловить раков на сетки. Когда купалку сломали, остались гнилые брёвна, торчавшие из воды, как зубы утонувшего дракона. Сейчас и этих брёвен нет. И раков нет. Вообще туда теперь не пройдёшь, нынешние жильцы соседних домов возвели кругом заборы, набросали на берег битое стекло, чтобы случайные купальщики порезали ноги, пройти теперь с улицы через глухие кусты крапивы невозможно даже бродячей козе. А ведь когда-то с Нудовской спускались по заросшему травой проулку к пруду, к полянке на берегу, к лодкам, к плотику, прямо на купалку. Сейчас этот проулок оккупировали косые металлические гаражи и глухие ворота нынешних жильцов. Однажды там за нашим огородом, сидя на зелёной травке летним тихим вечером, я и увидел водолазов.
У водолазов нет родины. Вернее, она есть, но там, где они родились и живут, её нет. Нет её и рядом, нет и за тысячу миль от места их обитания, как бы ни искали сами водолазы внешние признаки родины на земле. Переходя с места на место, гнездясь где попало, обживаясь на косогорах, строя убежище на краю оврага, водолазы не думают о будущем их поселений. Линии горизонтов замыкают страну водолазов со всех сторон, создавая мнимое пространство обитания. Каждую секунду государство водолазов меняет свои очертания. Стоит только пройти два–три шага водолазу — посмотреть в сторону дымчатых сопок, как начинают небесные картографы стирать ластиками прежние границы, наносить новые, потом опять стирать и вымарывать и так бесконечно, превращая карты в грязные лоскуты, в пыль, оседающую на дороги.
У водолазов нет государства, нет границ, которые бы охраняли бодрые пограничники, не стоят деревянные дозорные вышки на окраинах страны, нет пропускных пунктов, шлагбаумов, нейтральных полос. Любой, кто ради любопытства или по неразумению забредёт на территорию водолазов, не будет остановлен гортанным криком часового или предупредительным выстрелом. Здесь так — если хочешь, иди, а решил остаться — живи, тусуйся с водолазами, обосновывайся на пустыре или на болоте, места так много, что твой дом ещё долго будет стоять незамеченный, а тебя самого примут скорее за камушек, за сухой тростник, за потерянную соломинку для коктейля. Как ты ни маячь перед водолазами, ни размахивай на бугре ярким флагом своей страны, ни ори «кричалки» своего футбольного клуба, — никто не обратит на тебя своего внимания. Только потом, по прошествии нескольких лет, ты поймёшь, что тебя видели, о тебе знают, тебя даже полюбили, тростникового человека, чужестранца с болота, странного пришельца, который обосновался здесь. Это понимание придёт как озарение, среди пустых забот, где-нибудь на огороде, у грядок с картошкой, ты вдруг почувствуешь слёзы на своём лице, а в сердце необъяснимую любовь к водолазам, хотя они сами не давали тебе ни малейшего повода для этой любви.
Моя улица начиналась с поворота Загорной и шла к заводской плотине. Огромное деревянное колесо со времён Демидова поворачивалось вокруг своей оси, отпуская на волю уставшую от покоя воду в реку Серга, которая резво устремлялась вниз под стенами заводских цехов, пронзая, как кривая сабля, город до самого Леспромхоза и Курорта, где распадалась на протоки, принимая в себя речку Бардым. В начале улицы на взгорке была кузня, рядом Конный двор. На нём стояли лошади, можно было заказывать гужевой транспорт, брать в аренду лошадь с плугом, как с конюхом, так и без. Вообще, здесь были три постоялых двора: Конный двор, Дом приезжих и общежитие домноремонтников. Глухие голоса незнакомых людей из открытых окон общежития пугали меня, когда я проходил мимо, а вот, напротив, в Доме приезжих было пусто, этот мрачный одноэтажный деревянный дом с огромными окнами был всегда закрыт и безмолвен. Сейчас его нет, он то ли сгорел, то ли его разобрали на дрова. Общагу перекрасили в жёлтый цвет, и теперь там интернат для инвалидов и одиноких престарелых людей. Конный двор превратили в гараж, там давно нет лошадей и телег. Однажды я нашёл на месте кузни старую сношенную подкову. Вот и всё, что осталось от тех лошадиных времён, а ведь было так, что меня подхватывал приветливый кучер, усаживал на телегу и подвозил до школы или домой, когда я возвращался из школы. А недалеко от Дома приезжих прямо посреди улицы рос старый в три обхвата тополь, такого высокого я никогда не видел в своей жизни. Всегда, проходя мимо, я хлопал его по жёсткой тополиной коре, по заскорузлой сухой коже, как бы приветствуя деревянного великана. Сейчас на его месте только еле видимая выбоина, даже пня не осталось. Но иногда я вижу отражение огромного тополя в тихой воде пруда, когда наведываюсь в свою родную сторонку.
Главной приметой моей малой родины были горы: Кукан, Больничная, Кабацкая, Шолом, Орлова гора. Они смыкались в единую горную цепь, окружая городок со всех сторон. Кабацкая гора ложилась своим крутым склоном на улицу Ленина, аккуратно вывалив огромные серые камни прямо на тротуар. Кукан и Больничная соединялись вместе, напоминая человеческую печень с двумя долями. Поднимешься на верхушку Кукана, оттуда виден весь пруд, огибающий гору, крыши домов, бесконечные просторы в конце пруда, скрывающиеся в голубой дымке. Заберёшься на огромный камень, а всё равно не видишь конца леса, только пилят небо острые верхушки елей, как будто положили вокруг великаны-лесорубы огромные двуручные пилы зубьями вверх, сами легли в лощины и спят без задних ног. А над ними летают коршуны, высматривают рыб в пруду, мышей на лужайках и других мелких животных.
Второй адрес — переулок Мастеров. Он шёл вверх от реки Серга в сторону базара и обезглавленного советской властью Крестовоздвиженского храма, преобразованного в пекарню. На нашем берегу реки находилась свалка металлолома, на берегу Средней речки — лесопилка. Переехали мы на этот адрес в начале 60-х годов, когда младший брат матери Александр женился и в доме на Нудовской стало ещё теснее.
Дед мой Александр Иванович Тягунов, рождённый в 1879 году в Нижних Сергах, «робил», как у нас говорят, «на канаве» и, потерявший правый глаз от искры расплавленного металла, давно лежал на Крутом Яру. Умер он в 1949 году, за четыре года до моего рождения. Хотя мы не знали друг друга, мама говорила, что я был схож с ним тихим нравом и похоже сутулился. Хозяйничала в доме бабушка Марья Михайловна Тягунова, кержачка, ничего без её ведома в семье «не деелось». Отец мой был в семье примаком, зятем, принятым в семью на одно хозяйство. А куда ему, влазеню, как звали таких, тягаться с сыновьями тёщи. Поэтому было предложено моим родителям — Рае и её мужику, пришедшему из фильтрационного лагеря, куда он попал после четырёхлетнего германского плена, построиться на верхней улице, под самым Куканом. Но семья молодых учителей с тремя сыновьями, Валерием, Евгением и Лёнькой, встала в очередь на квартиру. За это время старший сын Лёрка, окончив с золотой медалью среднюю школу номер один, уехал в Москву и поступил в МГУ на истфак. Остальные поселились в двухквартирном одноэтажном деревянном доме, по ордеру, выданному им районо, в переулке Мастеров.
Переулок Мастеров
Холодный барак с печным отоплением, разделённый надвое для двух семей, стоял в переулке Мастеров. Рядом ещё пара таких же казённых домов. Мы переехали, отец вздохнул свободно: хоть и тесно, но работы меньше: скота-то нет, а в доме Тягуновых были лошадь, корова (как же её звали, коровушку-то? но помню, что у неё было человеческое имя, даже за глаза никогда не называли «коровой», может, Зойка или Зорька…), овцы и куры, да строгая тёща. Приходилось вставать до школы, кормить животных, доить корову, косить сено — страдовать. А здесь только собака Тобик, рыжая короткошёрстная дворняга, ей отец построил просторную конуру во дворе. Мы играли на крыше сарая, с неё был виден лес над рекой и сама река, а главное, огромная свалка металлолома, привозимого на Завод для переплавки. Именно эта свалка была моим любимым местом на земле. Там найден был станковый пулемёт, не весь, конечно, а ствол и кусок затвора, лента для патронов, фляжка немецкого солдата, ещё одна каска и штык, ржавое лезвие шашки и много удивительных загадочных предметов.
Нравилось мне гулять по берегу Серги, вдоль него проходил заводской локомотив, сбрасывая под откос отходы доменного производства. Обкатанные горной рекой камни соседствовали с голубыми стеклянными сгустками шлака. Зимой над рекой поднимался пар, одевая камни, горы шлака, общипанные кусты в причудливые одежды из инея, создавая фантастические картины мира моего детства.
В доме было очень холодно, тонкие стены промерзали насквозь, дуло в дверные и оконные щели. Отец топил печь «голанку», жар обдавал окна, на стёклах расцветали ледяные цветы, распускались гиацинтами, лилиями, они вились, курчавились, разрастались в кудрявом порядке, как ни старался Леонтий растопить лёд ладошкой, тот не исчезал весь, только появлялись небольшие лунки на стекле. Рука немела от холода, а это ему нельзя, Леонтий зимой по обыкновению болел ангиной, горло замотано шерстяным шарфом, на ногах толстые вязаные из овечьей шерсти носки, подшитые по всей подошве плотной чёрной тканью. Так он сидел на табуретке у окна и смотрел на улицу.
Вот за коричневой незнакомой собакой пробежал соседский полосатый кот, прошла женщина-почтальон в чёрном длинном пальто с большой пузатой сумкой на плече. Она просунула в щель почтового ящика газету «Уральский рабочий» и журнал «Работница». Эх, было бы лучше, если бы она принесла «Технику — молодёжи», там всегда есть какой-нибудь фантастический рассказ. И он дальше глядел в окно. Синий свет сгущался, стелился по переулку, небо стало лиловым, а сугробы сиреневыми. Вдруг в окно что-то стукнуло, Леонтий увидел большую круглую голову снеговика, он царапал по стеклу тонкой веточкой, это были его пальцы, таращил два глаза-уголька, вглядываясь в комнату. Леонтий замер, чтобы не привлекать его внимание, спрятался за шторой. Снеговик не унимался, стучал сучком чёрной веточки, словно зовя Леонтия на улицу. На дворе тявкнул Тобик, и снеговик исчез. Леонтий приблизился к окну, наполненному синевой, сквозь синь шёл снег. Вдруг напротив зажглось окно, жёлтый прямоугольник света упал на белую утоптанную дорогу, на ней чёрной точкой выделялся кусочек древесного угля, который обронил снеговик. Уголёк посмотрел на мальчика и подмигнул ему. В окне, слегка отороченном морозными узорами, стояли башни снежинок, они вились и кружили, не падая, или, может быть, они сразу взлетали, как только касались лучами земли. Не земли, а того же снега, сугробы которого были навеяны ветром ещё вчера. Снежный покров лежал всюду: на улице, на крышах, на ветвях деревьев, даже на птицах, пригибая их крылья к земле, прижимая чёрные тела пернатых к белым спинам сугробов, лежащих перед Леонтием, когда он вышел из дома, надев валенки и полушубок. Ему пришлось долго выбирать дорогу, но всё равно он ошибся и сошёл со вчерашней тропы. В правый валенок насыпался лёгкий, почти невесомый снег, холодом обжёг кожу, сразу растаял и, показалось, исчез.
Когда Леонтий шагнул, что-то кольнуло в подошву. Он снял валенок и, стоя на одной ноге, перевернул его вниз. Из чёрной трубы вылетела маленькая снежинка. Один её лучик из пяти был надломлен у самого конца. Ну вот, теперь надо будет идти домой и доставать занозу, подумал Леонтий и повернул обратно. Но дома не было. Вместо ворот высились огромные столбы падающего снега. Серебристые лучи пронизывали вихрящиеся снежные стены, как бы поддерживающие их в воздухе. Леонтий отодвинул полог снега и вошёл внутрь нового дома. Вместо крыши дома он увидел чёрный прямоугольник неба с россыпью мелких острых, как кончики швейных игл, звёзд. На лицо сразу упало и растаяло несколько снежинок. Леонтий опустил голову. Пол показался ему знакомым — крашеные доски, на них самотканый коврик-«дорожка», но почему-то белого цвета. Леонтий наступил на коврик, раздался хруст свежего снега. Перед ним висел голубой прямоугольник, обрамлённый полупрозрачной занавеской. Это был тюль, сотканный из снежинок. Они медленно кружились вокруг окна, собираясь в оборки, то ниспадали, то поднимались вверх. Какая-то сила удерживала снежинки в воздухе, не давая им упасть. Леонтий подошёл к окну и дотронулся рукой до голубого стекла. Тут же окно зажглось жёлтым тёплым светом, рядом зажглось ещё одно и ещё одно.
Окна висели вокруг него, освещая пространство. За окном кто-то был, Леонтий всмотрелся внутрь окна и увидел свою мать, она стояла над плитой, видимо, жарила шанежки, не замечая его. Леонтий постучал в стекло, тихо, чтобы не напугать, но мать не оборачивалась, продолжая хлопотать над плитой. Он заглянул за раму окна, но за окном никого не было, только стена падающего снега. С другой стороны окно было мёртвым, пустым, стёкла покрылись пушистым льдом, почти не проходимым для света. Сам свет был голубым, не жёлтым, как с другой стороны. Леонтий приложил к стеклу ладонь, лёд стал таять, позволяя увидеть заснеженную улицу, чёрные дома, заваленные по самые окна сугробами, лохматую собаку, бегущую по своим делам…
Есть у меня в альбоме маленькая чёрно-белая фотография, которую сделал мой брат Женя на фотоаппарат «Смена»: я стою на заснеженном дворе дома в переулке Мастеров в длинном тёмном пальто, шапке-ушанке, надеваю варежку на тонкую руку, за мной низкая поленница и маленький домик для собаки. Из конуры торчит что-то, но фокус так размыт, фотография столь мала, что трудно понять, собака ли это или что-то другое. Но это собака, звали её Тобик.
Наш Тобик так и остался навсегда жить по этому адресу, — когда мы переехали на новую квартиру в городке Гагарина, он выдернул голову из ошейника и вернулся навсегда в свой дом в переулке Мастеров, спал у забора, остальное время бродил по переулку, по берегу реки в компании других бродячих собак. Мать навещала его, приносила в кастрюльке суп и кашу, уговаривала вернуться, но он ни в какую, такой вот оказался патриот переулка Мастеров. Тобик собрал таких же принципиальных, твердолобых собак, целую стаю, я видел их даже на противоположном берегу реки Серги, они бродили между елей, питались плотвой, которую им бросали рыбаки, не брезговали мышами. Жизнь их была не сладкой, но вольной. Потом он пропал, может, ушёл искать лучшей доли в Леспромхоз, может, заблудился в лесу за Бардымом, а может, какой рыбак его взял на попечение, и он нашёл себе новый дом. А у нас в дровянушке так и осталась проделанная отцом для Тобика дырка. Из неё уже никто никогда не выглядывал. Больше мы не заводили собак, только кошек.
Можно сказать, что сам водолаз и есть его дом. Дом, который всегда в пути. Как улитка, которая носит свой костяной домик у себя на спине — так и водолаз всегда внутри своего дома передвигается по земле, не выходя за дверь, наблюдая за миром через круглое окошко в своей голове. Переходя с места на место, водолазы переносят свои дома, такие одинокие двуногие избёнки, стоят они на пустырях с круглыми крышами, слегка склонёнными к земле окошками. Дом водолаза — это лодка, отправленная в бессмысленное недолгое плавание, на дне которой прячется, свернувшись калачиком, существо, напоминающее человека.
Есть ещё один дом — куда приходят все дома водолазов. Это Сверхдом, огромное квадратное строение с каменными стенами, с невысоким узким входом, дом без крыльца, окон и наличников. Там всегда много водолазов. Так много, что если приходит какой-нибудь водолаз к этому Сверхдому — то наверняка уже нет ему там места. Приходится ему бродить под стенами этого строения, наматывать километры шлангов, снашивать свинцовые башмаки, вытаптывая дорожки вокруг дома. За сотни лет многих хождений образовались вокруг Сверхдома канавки, заполненные слезами неприкаянных водолазов, дождевой водой, болотной грязью и пустыми пластиковыми бутылками.
Городок Гагарина
В 1961 году наша семья наконец получила трёхкомнатную квартиру в двухэтажном каменном двенадцатиквартирном доме в городке Гагарина. Вот передо мной лежит обтрёпанная бумажка: Ордер номер 40 на право занятия жилой площади. Выдан гр. Тишкову А.И., место работы школа № 2, занимаемая должность преподаватель, на основании решения райисполкома имеет право вселиться на жилую площадь в доме … (нет ещё почтового адреса дома, это был один из первых такого типа, через год их станет больше и все вместе они получат название «Городок Гагарина») кв. № 2 по улице Р. Люксембур (так и написано, без буквы «г», видимо, имя это уже тогда было неизвестно многим, а сейчас и подавно, однако улица существует), состоящую из трёх комнат.
Квартира находилась на первом этаже, под окнами родители насыпали пару грядок для салата, морковки и редиски, огородив садик от овец и коз. Ещё там росла рябина. У нас с Женей была отдельная комната с двумя кроватями с металлическими панцирными сетками, с мягкими матрасами и пикейными покрывалами. Полы, крашенные коричневой масляной краской — «суриком», были устланы «дорожками», ткаными длинными половичками. Тут и там лежали круглые коврики, вязанные крючком из разорванной на ленты старой одежды. Стены и потолок белились каждый год, коридор был покрашен зелёной масляной краской до середины стены с голубой филёнкой по всей длине.
Из коридора проходишь в большую комнату, направо и налево идёшь в комнаты родителей и детскую. На полу в гостиной лежала фабричная «дорожка», а в спальнях — полосатые домотканые и круглые самодельные коврики, на стенах над кроватями — ковры. В первой комнате стоял круглый стол, покрытый яркой скатертью, сверху в центре — кружевная салфетка, на ней пустая хрустальная ваза. Над столом — абажур с бахромой. Слева — огромный диван с валиками, упакованный в чехлы из серой плотной ткани. Над диваном репродукция картины «Незнакомка» Крамского, а может, «Рожь» Ивана Шишкина, одна из двух. Икон в углах не было. У дивана на белёной стене висела газетница, эта плоская штука была сделана из картона, обшита тканью, лицевая часть подбивалась ватой для объёма, на ней — красивые цветы. Внутрь вставлялись газеты: «Уральский рабочий», «Учительская», «Пионерская правда», местная «Ленинское знамя», журналы: «Работница», «Здоровье». Детям также выписывали «Технику — молодёжи» и «Знание — сила». «Огонёк», «Правду» и «Крокодил» получали друзья родителей — Смолины: Антонина Кузьминична работала учительницей с матерью в одной школе и Петр Григорьевич, он был начальником в ОРСе. Они делились с нами журналами, которые переплетались в огромные фолианты по годам. Принято было приносить друг другу интересные книги, журналы, «обмениваться информацией». Справа у окна стояла радиола и сервант или буфет с вазами и посудой, её доставали, когда приходили гости. Тут же на стене — отрывной календарь на искусно выпиленной лобзиком фанерке с силуэтом белочки. Слева — фикус в кадке, потом там будет стоять телевизор.
Окна выходили на улицу Розы Люксембург, на той стороне стояли чёрные старинные деревянные дома, из ворот иногда выезжала телега, запряжённая гнедой лошадью. На окнах висели шторы из тюля и бязи. Мать меняла шторы, соотносясь со временем года. Окна были с широкими подоконниками, крашенные белой масляной краской, на них стояли герань, фиалки, столетник и растение с большими фиолетовыми колокольчиками, кажется, глоксиния. В большой комнате, в крайнем правом углу, в полу была пропилена небольшая дырка для кота, чтобы он не тёрся у двери, не просился на двор, когда ему вздумается, а мог самостоятельно спуститься в подпол, чтобы справить нужду, побродить под комнатами, разгоняя мышей. Обустроенное помещение для хранения овощей, солений и банок с вареньями было только под кухней, прямо в полу была дверка с кольцом, дёрнешь её — и откроется лаз в подпол, там ступеньки, лампочка, всё видно, прохладно, даже уютно.
За окном загромыхало, ухнуло, покатилось по горочкам эхо. Небо вспыхнуло, там, где был свинцовый полог, сверкнуло так ярко, что показалось, лопнуло небо и сквозь небесную трещину вылился расплавленный металл. Внутри Леонтия всё перевернулось, страх сжал сердце, он соскочил с дивана, где читал «Пионерскую правду», спрятался за фикус, осторожно выглянул в окно, отодвинув штору. Из-за Кабацкой горы на Леонтия надвигалась чёрная стена плотных грозовых облаков. Ветер рванулся с верхушки горы прямо в окно, хлопнул форточкой, Леонтий быстро закрутил защёлку, чтобы форточка больше не отворилась, и бросился на кухню, открыл лаз в подпол, спустился на лестницу, щёлкнул выключателем, и закрыл за собой ход. Внутри подпола было прохладно, пахло картофелем, землёй, кошками. Леонтий сидел на лестнице и смотрел на спираль лампочки, которая, мигнув, погасла, потом снова разгорелась. «Не гасни, не гасни! — забормотал Леонтий. — Держись, лампочка!» Наверху затрещала молния ударом пастушьего хлыста, только в тысячу раз сильнее. Гроза нависла над домом, из грузных, одутловатых облаков выплёскивались молнии, разрывая небесную твердь. Но здесь в подполе Леонтию уже был не страшен гром, даже если электричество погаснет, он будет тихо сидеть в темноте, пока гроза не пройдёт, всё стихнет, тучи уйдут и выглянет солнце. Страх грозы всегда был с Леонтием, он, кажется, родился с ним, никто не понимал в семье, чего он так боялся, пытались объяснить ему, что это всего лишь атмосферное явление, гроза высоко, молния не проникнет в закрытые окна, не разрушит дом и не убьёт мальчика. Но Леонтий прятался в платяной шкаф, вставая за пропахшую нафталином каракулевую шубу и драповое пальто, или заползал под кровать. Но по-настоящему он спасался только в подполе, там, только там он был спокоен, что его не убьёт, не испепелит гроза, превратив в бездыханное холодное тело. Наверху с воем проносились облачные бомбардировщики, архангелы смерти, метающие молнии в людей и бродячих коров. Гроза превратила город в развалины, то там, то тут горели деревянные постройки, на улицах лежат обугленные люди, обезумевшая лошадь бежит по улице Ленина в сторону плотины, на берегу пруда перевёрнутые лодки, под одной сидит, скорчившись в три погибели, девочка, прижимая полосатого котёнка к своей груди. Ветер несет по земле пепел сгоревшей библиотеки. Так она и будет стоять, с выбитыми окнами, безглазая, обожжённая, долгие годы, и сберкасса с обрушенной крышей будет стоять, и Дом пионеров с проломленной кирпичной стеной, и раздавленный музей с некогда ажурной деревянной резьбой, и пустой кинотеатр «Авангард», потерявший вывеску. Везде в городе были видны следы грозы, следы войны: на обочинах улиц обрубки тополей, забитые фанерой окна брошенных домов, стёртая с лица земли больница, — остался только фундамент, вход в здание военкомата заложен кирпичами, — дом пуст, за решётками нет никого, все ушли на фронт, так торопились, что забыли забрать государственный флаг. Флаги везде — на школе, на районной администрации, на прокуратуре и нарсуде, на спортивном зале, на психдиспансере. Это даёт успокоение, кажется, что жители города не сдались, а собирают ополчение. Сейчас они спрятались в подпольях и под лестницами, но скоро гроза затихнет, прокатится по улице 22-го Партсъезда последняя шаровая молния и лопнет, догорит автозаправка, завечереет, оставшиеся в живых соберутся у неработающего фонтана в городском саду, у красной стелы «Никто не забыт — ничто не забыто». Надпись ещё читалась, а металлический профиль героя сдали в металлолом, они же и сдали когда-то, а теперь молча стоят, склонив головы.
Понурят голову, постоят ещё немного и разбредутся по своим норам, снимут за дверью обувку, зайдут, сядут на диван, включат телевизор и быстро забудут, что случилось днём, а когда снова громыхнёт где-то за Атигом или за Орловой горой, они вздрогнут, из рук выпадет газета, они побледнеют от страха, а Леонтий опять бросится по зелёному коридору на кухню, откроет дверь в подпол и скатится вниз.
Сам коридор упирался в туалет, там был небольшой предбанник, в котором стояла круглая стиральная машина «Вятка» с резиновыми валиками для выжимания белья, а дальше, за ещё одной дверкой, — дощатый подиум с бетонным основанием, с деревянной крышкой, скрывавшей зловонную дырку. Раз в неделю к дому подъезжала «говновозка» для отсасывания содержимого выгребной ямы. Во время этой «процедуры» вокруг стоял тот ещё запашок. Где-то Юрий Гагарин покорял космос, а у нас в Нижних Сергах канализация явно была не на высоте. Но это казалось нам верхом комфорта после уборных на заднем дворе или на краю огорода. Зимой обледенелая дырка уличного туалета являлась преддверием ада. Но зато летом можно было доставать ковшиком на длинной палке из выгребной ямы опарышей: белых личинок мух. На него очень хорошо клевал лещ.
На крохотной кухне стояла кирпичная печь, которую топили дровами, через пять лет на её место встала газовая плита, работавшая от сжиженного баллонного газа. Откручиваешь сначала ромашковый вентиль на баллоне карминного цвета, потом спичкой поджигаешь форсунку. Пол у печи был обит жестью, на ней всегда лежали сухие дрова, щепки, завиток берёсты и молоток. На ближайшей от печи доске на полу виднелосьмаленькое углубление — в него можно класть косточки урюка из компота и разбивать молотком, чтобы добыть коричневое вкусное ядрышко. Отопление было центральным, завод давал горячую воду в избытке: в каждой комнате висели большие чугунные батареи-«гармошки», крашенные серебряной краской. Отец умудрился врезать в отопительную трубу на кухне краник, так что зимой из него наливали кипяток в ведро для мытья посуды или стирки. Стирала мать дома, а полоскала бельё на улице, у котельной, из стены которой выходила труба, из неё всегда текла холодная вода. Мать надевала чёрные грубые резиновые перчатки и долго, в наклон, полоскала пододеяльники, простыни, полотенца и остальное по мелочи. Зимой от влажного белья шёл пар. Сушили его на общем чердаке, на длинных верёвках, растянутых из угла в угол. Я помогал матери поднимать по металлической лестнице тяжёлый холодный таз с бельём, открывая головой дверку чердака.
Чердак дома был огромный, пустой, так как старые вещи, ремки́ и другое барахло жители хранили в сарайках. Но это надо проверить, поэтому Леонтий поднялся на второй этаж, тихо прокрался по лестнице вверх, приоткрыл головой тяжёлую крышку квадратного люка и вылез на чердак. Он аккуратно закрыл крышку, стараясь не шуметь, вдруг верхние соседи услышат, подумают, кто это бродит по чердаку, может, бельевой вор какой, и шагнул в темноту в сторону полукруглого окна, висевшего в темноте, как картина Вермеера. Солнечный свет еле пробивался сквозь запылённое стекло, но его было достаточно, чтобы уже привыкшие к полумраку глаза различили потолочные балки, деревянный настил двускатной крыши, ряд уходивших вдаль верёвок, на которых висели темно-синие штаны с начёсом, чёрное платье, ряд маек и байковых трусов. В дальнем углу чердака висел целый костюм, пиджак и брюки, совмещённые вместе, как будто брюки были пришиты к полам пиджака. Леонтий пошёл в сторону костюма, ступал аккуратно, чтобы не шуметь и не пылить, но всё равно пыль заклубилась в лучах бледного солнца, засверкала, образуя воздушные гипотенузы. Сердце его ёкнуло от страха, что это не костюм, а висельник, — он увидел бледные ноги, торчавшие из брюк. Но, замерший от липкого страха, пробежавшего холодной змейкой по позвоночнику, он не смог сделать ни шага, продолжая смотреть на повешенного, вытаращив глаза. Видимо, повешенный висел здесь так долго, что весь высох, потому что был чрезвычайно тонок, не образуя объёма, верёвка не провисала под ним дугой. И только сейчас Леонтий увидел, что у повешенного нет головы, вместо неё торчал крючок из деревянных плечиков, на котором висел пиджак, из брюк торчали пустые носки, видимо прицепленные кем-то на прищепки, а из рукавов пиджака — не белые, шелудивые кулачки, а головки чеснока. Это был не висельник, а пугало, которое соорудил сосед сверху Исаев, чтобы отпугивать чертей, которые навещали его порой, когда он погружался в двухнедельный запой. Сосед был подвержен этому частому в посёлке недугу, в начале запоя был буен, шумлив, однажды даже стрелял из окна по собакам, пробегавшим по улице Розы Люксембург, а в конце был смур, чёрен, с опухшими жёлтыми глазами, в которых отражались муравьиного цвета черти, прыгавшие с чердака ему в печную заглушку. Вот он и повесил пугало, оснастив его связкой чеснока, чтобы черти боялись. Леонтий засмеялся своему страху, подошёл к окну и открыл створки. Яркий свет ударил ему в лицо, как из ведра, синева неба полилась сверху через проём окна, заливая чердак, как вода моря в пробоину судна. Синий свет пронизывал солнечный тоннель, в котором танцевали мириады пылинок. Леонтий выглянул в окно и увидел тысячи стрижей, сновавших перед глазами, они с яростным криком кроили ножницами крыльев синее предвечернее небо. Иногда некоторые бесстрашные стрижи устремлялись далеко вверх, чтобы задеть крылом облако, чтобы вспороть его мягкий белый живот, но не каждому это удавалось. Вот один, очень сильный, могучий стриж поднялся на недосягаемую высоту, превратившись в крестик, полоснул обоюдоострым крылом по облаку и сразу устремился вниз. Из облака, разрезанного пополам, хлынул дождь, его капли стали догонять стрижа, чтобы наказать наглеца, но стриж летел быстрее, чем могло подумать облако. Несколько капель упали на светлый шифер крыши и тут же высохли, облако укатило восвояси, стрижи затихли, солнце медленно садилось за гору. Леонтий собрался было закрыть окно, как что-то толкнуло его в спину, дёрнуло и приподняло. Он взмахнул руками, схватился за рамы чердачного окна, но невероятная сила подхватила его и вытащила на крышу. За спиной захлопали крылья, два пёстрых, огромных крыла крепко держали Леонтия за спину, вонзив зубы в лопатки. Мальчик попытался удержаться на краю стрехи, ухватился за ворох тонких проводов, протянутых перед чердачным окном, но гнилые телеграфные провода, истлевшие от времени и ненужных слов, порвались, как паутина. Через мгновение Леонтий летел, поднимаемый крыльями, над домом, а потом всё выше, над горами, под облаками. Несколько стрижей сопровождали его первое время, но потом отстали, поняв тщетность своих усилий. Леонтий превратился в чёрную точку и скоро исчез в яркой позолоченной солнцем синеве небес. Его видел только один человек — сосед Исаев смотрел в окно, злорадно улыбаясь: его пугало сработало, вот как лешак напугался, наложил в штаны, не будет шастать по нашему чердаку...
Через некоторое время крылья опустили Леонтия на землю у одного из пустующих дровяников, аккуратно поставив у приоткрытой двери, разжали зубы и прыгнули во тьму строения. Там под крышей они зацепились за доски, безжизненно повисли, замерли. Так они будут висеть до поры до времени, пока кто-нибудь случайный не зайдёт в этот сарай, не повернётся к ним спиной, не замрёт от случайной думы, от налетевшего воспоминания, размечтается о чём-то, потеряет бдительность, — вот тогда крылья снова оживут и прыгнут этому человеку на спину, вцепятся в пиджак, вытащат на улицу, и вздёрнут в небо, и полетят с ним под облака, где резвятся ласточки, бороздят просторы стрижи, где можно испытать в полной мере радость полёта, свободы, преодолевая ужас высоты.
Между домами стояли ряды сараев или дровяников. В нашем сарае, кроме дров, хранились инструменты, вёдра, мешки, велосипеды, старая обувь, три зелёных разновеликих деревянных сундука, обитых жестяной лентой, — приданое моей матери. В них лежали дорожки, старые коврики, другие вышедшие из употребления вещи. В те времена почти ничего не выбрасывалось, мусорки были маленькие и пустые. Вещи чинились, одежда штопалась, перешивалась, каждый гвоздь, винтик и шпунтик складывался в коробочку на будущее.
Изношенную одежду мать рвала или разрезала на ленты-махорики, скручивала в клубочки. После, купив чёрных и белых ниток, относила клубки ткачихе, та на станке ткала «дорожки», длинные полосатые коврики, которые расстилались по дому. А круглые коврики мать вязала сама металлическим крючком, сделанным каким-то слесарем, бывшим учеником Пятой школы, специально для неё. Этот крючок сейчас у меня, стоит рядом с кисточками и карандашами на моём рабочем столе. Мать научила меня вязать в конце своей жизни. Я слышал, что художник Владимир Татлин увлекался этим делом. Так что я не один такой.
Первый телевизор появился у нас здесь, это был «Рекорд-64», стильный, на тонких деревянных враскорячку ножках, которые можно было откручивать, чтобы поставить прибор на тумбочку. У него белая пластиковая ребристая панель, чёрная ручка для переключения каналов. Хотя канал у нас в Сергах работал только один. На экран прикреплялась плёнка, окрашенная в голубой, зелёный и коричневый цвет, чтобы нам казалось, что изображение цветное.
Телевизор был куплен какой-то особенно суровой зимой, привезён отцом из магазина на санках. Почему-то в глазах стоит картинка вечернего городка, отец тянет за лямки санки, мы с Женей помогаем ему сзади, оберегая от падения на снежную дорогу картонную коробку с телевизором. Эта коробка долго хранилась в сарае, даже после окончательного выхода из строя «Рекорда», она всё время попадалась мне на глаза. Все коробки электроприборов хранились на случай, если надо будет сдать их в гарантийный ремонт. Срок бесплатного ремонта заканчивался, а коробки всё равно не выбрасывались, так и лежали горой в сарае.
Телевизор был особо ценной вещью в доме. Перед грозой отец вытаскивал антенну из гнезда, чтобы, если ненароком ударит шальная молния в антенну, прибор не сгорел. Для продления жизни кинескопа старались включать каким-то особенным образом, не щёлкая выключателем, — выдёргивать вилку из розетки, а также использовался стабилизатор энергии — большой чёрный ящик, издававший противное гудение. Из-за разницы времени с Москвой в два часа все интересные передачи и фильмы шли поздно. Отец и мой средний брат часто ссорились, иногда доходило до рукоприкладства, когда Евгений перетаскивал в нашу комнату телек, чтобы посмотреть что-то интересное после полуночи, отец запрещал, матерясь и отвешивая подзатыльники. Мать обычно вставала на защиту сыновей, разрешая конфликт.
Евгений после окончания 11-го класса устроился лаборантом во Вторую школу, на следующий год он собирался поступать по стопам старшего брата в институт, ему был необходим рабочий стаж. Сразу после школы поступить было сложнее, преференции давались тем, кто работал, или дембелям. По пятницам после бани он ходил вечером в свою школу слушать «Голос Америки». Иногда брал меня с собой. Шагал брат быстро, я отставал, но, видимо, это была его стратегия, чтобы не идти с малолеткой в один ряд. В школе он открывал личным ключом радиорубку, включал серый металлический радиоприёмник военного образца. Так на суровый дикий Урал через ельники и каменистые берега рек и озёр пробивался к нам сквозь шум глушилок низкий голос Уиллиса Коновера, ведущего передачи о джазе, долетали вскрики «йе-йе» «Манкиз», затекала «Желтая река» группы «Кристи» в «Музыке для записи». Женя с того момента полюбил джаз на всю жизнь, я увлёкся вокально-инструментальными группами. Тогда я со своим одноклассником Мишей Зобниным организовал вокально-инструментальный банд под наглым названием «The We». Своими руками сделал из древесно-стружечной плиты нечто похожее на электрическую бас-гитару, прикрепив звукосниматель из осколка магнита, выкрасив деку в красно-белый цвет. Нашим хитом, который мы с грехом пополам разучили, была песня «Катюша», однажды исполненная на школьном мероприятии. И всё, больше ничего.
Мишка обладал переносным катушечным магнитофоном «Романтик» на зависть всей компании. У нас магнитофона не было, зато старший брат Лёрка привёз из Москвы настоящие американские пластинки кларнетиста Бенни Гудмана и певца Гарри Белафонте, белозубого метиса в красной шёлковой рубашке. Чёрную тяжёлую пластинку Женя называл «диском», брал аккуратно, зажимая ладонями с краёв, растопырив пальцы, протирал бархатной тряпочкой, в радиоле «Волга» для этого было специальное круглое приспособление для сбора пыли, его прикладывали к вертящейся пластинке, насаженной на металлический шпенёк, шпиндель. Брат никому не доверял вытаскивать диски из конвертов и ставить на проигрыватель, только он сам. Выставлялась скорость, 33 оборота, для долгоиграющих пластинок. Вот диск насажен, звукосниматель поднят, всё закрутилось, и он ставит иглу на край, голос Гарри звучит на всю квартиру, вырывается из открытого окна на улицу, летит над синими крышами Нижних Серёг прямо вверх, в сторону Кабацкой горы негритянский спиричуэлс «Farewell to Jamaica». Ещё брат привёз «сорокопятку» с двумя песнями «Битлз» — «Yesterday» и «Can’t Buy Me Love». Кроме этой пластинки брат подарил мне шариковую ручку и пачку с пятью пластинками жвачки «Wrigley’s Spearmint». Кажется, что вкус её и сейчас такой же, как в те времена. Шариковую ручку я принёс в школу, но писать ею не разрешили, чтобы не портить почерк: все пользовались перьевыми ручками, очень простыми, с резиновыми пипетками для зарядки синими чернилами.
В 1966 году убрали Хрущёва, Генеральным секретарем ЦК КПСС назначили Леонида Ильича Брежнева, в Ташкенте случилось землетрясение, во Вьетнаме шла война с американцами, Гвиана стала свободной. Я читал запоем фантастику, набирая полную авоську книг из трёх библиотек города, рассматривал журналы «Знание — сила», удивлялся картинам «Я видел пятёрку из золота» и «Карлик» художника Уильяма Базиотса в журнале «Америка», который оставил у нас дома старший брат, когда в очередной раз приезжал на каникулы из Москвы.
Моими друзьями были соседские ребята: Лёня Бандурин, Серёжа Колмаков и Витя Кривошеев. Все мы жили в городке Гагарина, но в разных домах. Лёня Бандурин, светлый смешливый паренёк, жил у бабушки Клавдии Дмитриевны на птичьих правах, мать наезжала временами из Свердловска. Колмаков учился в одном классе вместе со мной. Их давно уже нет в живых: Серёжа сошёл с ума и как-то тихо умер на Агафуровских дачах, так звали областную психиатрическую больницу. Лёня с матерью переехал в Город, после окончания школы учился в ювелирном техникуме, работал на фабрике, но не справился, там его обвинили в растрате драгметаллов, после смены надо было тщательно собирать всю пыль после шлифовки золотых деталей и сдавать под расписку, а он то чихнёт, то смахнёт рукавом. Его уволили, на другие работы не принимали. Витя звал его в Серги, хотел устроить у себя в оформительской мастерской, у него был талант к рисованию, но Лёнина бабка ни в какую не хотела поселить его у себя, живя одна в двухкомнатной квартире в городке Гагарина. Потом она умерла, квартиру продали, Лёня продолжал жить в Свердловске с матерью. Писал письма мне в общежитие на Малой Пироговской в Москву. На обороте открытки «Слава отличникам военно-морского флота!» такой текст: «Привет Лёня! Хочу оправдать себя этой открыткой. И так практика у нас закончилась, а сейчас учёба. Успехи неважные, т.к. нет у меня изюминки, как сказал мастер. 14-го у нас экзамен по минералам. Ну ни пуха, ни пера мне, к чёрту. А ты, значит, до самого лета не покажешь носа в Серги? У меня каникулы в июле и августе. Пока. Леонардо». Присылал эскизы ювелирных изделий, исполненных на чёрном фоне разноцветной гуашью, сопроводив их такой фразой: «Живу и творю на ниве, пока не каменной, но на золотой и серебряной (запонки и серьги), и отнюдь не малоплодородной... У меня сейчас практика. Одни муки. Никакого творчества для художества. Сейчас в городе ужасная грязь… Извини, что так мало и коряво. Ещё напишу. Пока. Леонард… У нас в Свердловске уже весна и даже немножко лето. Я уже хожу без шапки и даже кепи! Скоро надену свой серый «пинджак» из пальтового материала типа драп-дерюга и начну ходить по улицам Свердловска и выпендриваться. Жаль, что ты не увидишь меня».
Мать решила обустроить свою одинокую жизнь, нашла себе жениха, сын стал помехой, и она убедила врачей, что у Лёни не в порядке с головой, и отправила лечиться в Берёзовский психоневрологический интернат, приписав ему душевную болезнь, оформив инвалидность. В этой богадельне он и скончался от неизвестной болезни через некоторое время. Похоронили его на кладбище при учреждении, как одинокого бесправного гражданина. Я и по сей день не могу понять, как могло так случиться, почему он ушел так рано, так несправедливо.
С Виктором Ивановичем Кривошеевым мы продолжаем общаться, он с рождения живёт в Нижних Сергах, закончил Пятую школу, после армии устроился на Завод в прокатный цех, потом там же работал художником-оформителем. Сдружила нас общая любовь к чтению, у моего друга великолепная библиотека, которую он собирал всю жизнь. Сейчас он заботится о моей маленькой квартирке на улице Розы Люксембург, в которую мы перетащили часть вещей из старой квартиры моей матери и где я останавливаюсь, когда возвращаюсь на родину, чтобы дыхнуть воздухом Урала, взобраться на верхушку Кукана, пройти на лодке в верховье Пруда или на Плоский камень, как в далёком детстве.
Квартирка эта располагается в кирпичном доме, в котором когда-то взорвался газ, один подъезд совсем обвалился, погребя под обломками одинокую старушку с первого этажа, никто не помнил, как её звали. Может, Августина Пегасьевна, нет, так звали бабушку Серёжи Колмакова, маленькая, как старый воробей, она всегда сидела у окна кухни напротив трансформаторной будки, сложенной из серого кирпича, как все дома в Городке, и смотрела на перепутанные электрические провода, на которые иногда садились голуби и сороки. Взорвавшийся дом отремонтировали, залатали трещины, он стал почти как новенький, вот сюда я и переехал. Этот дом так и зовут — «взорвавшийся», можно не говорить адрес, а просто сказать: тот дом, что когда-то взорвался, — и все знают, о каком доме ты говоришь. Стоит он на краю городка Гагарина, на улице Розы Люксембург, недалеко от того дома, где я провёл своё детство и откуда уехал искать лучшей доли в Москву.
Городок Гагарина сейчас не тот, всё пришло в нём в упадок, а ведь когда-то это был лучший жилой район в Нижних Сергах. Водолазы строили городок Гагарина долго, резали камнеснег на блоки и складывали из них угловатые серые дома, простые перпендикуляры, похожие на коробки для спичек. Никаких пилонов, флеронов, балясин, завитушек, колонн, бельведеров, только четыре стены и перегородки. Удивительно, что назвали они свой Городок именем первого космонавта, видимо, самая главная мечта водолаза — это полететь когда-нибудь в космос, а не бродить в глубоких мутных водоёмах, путаясь в склизких водорослях. Сейчас, когда водолазы покинули Городок, а вместо них в облезлых домах поселились люди, всё вокруг пришло в упадок. Люди не смогли сохранить простую гармонию и ясную чистоту, присущую водолазному царству. У домов сейчас лежат огромные кучи глинистой земли, зарастающие крапивой и лопухами, асфальт вспучился, прошитый тополиными корнями, тут и там металлические бледно-синие, красно-коричневые разнокалиберные гаражи, расставленные где попало, ряды дровяников покосились, у многих провалились крыши, двери скривились. Перед окнами стоят железные мусорные баки, наполненные полиэтиленовыми пакетами со зловонными пищевыми отходами, их было так много, что баки не вмещали их все сразу, поэтому жители бросали их вокруг помойки на землю. Бродячие собаки рылись в мусоре, вытаскивая, урча, огромные обсосанные мослы, рёбра, длинные бедренные кости, черепа коров и копыта свиней. Тут же лежали разорванные диваны, обоссанные матрасы, сломанные стулья, засаленная одежда, сношенная обувь, разбитые лампы дневного света, сожженные сковородки, собрания сочинений Шиллера и Лескова, перевязанные бечёвкой, почти новые, один раз использованные презервативы и прокладки, лосиные рога, самовары, фарфоровые статуэтки Данилы-мастера и Огневушки-поскакушки, какие-то шкатулки и туески, пустые вёдра и чемоданы, уйма пластиковых бутылок, и пакеты, пакеты из «Пятёрочки» и «Монетки»…
Иногда у домов можно встретить скамейки, но не те, поставленные водолазами, с боковинами в виде улиток и лап грифонов, а только грубо сколоченные сидушки с металлическими ножками из водопроводных труб и спинками из разломанных шифоньеров, прикрученные проволокой. На них тихо сидели пожилые женщины, вдыхали сирый воздух городка, выдыхали с ним последние дни, а может, и часы своих жизней. А по крышам гаражей бродили дети, громыхая ржавым железом, бросали вниз камни, кричали матерные слова, словно были не дети совсем, а рабочие-кровельщики. Но этот бесконечный шум не прерывал оцепенение старух, он был их тишиной, покоем, вечным покоем, в котором они жили, как старые ракообразные существа.
Баня была единственным архитектурным шедевром городка водолазов. Четыре пилястра поддерживали скромные подковообразные арки над входом в баню, посетители входили в аттик торжественно, неся перед собой полиэтиленовые пакеты с полотенцами, чистым бельём, мочалками и мылом. Это было почти сакральное место, где все они собирались по пятницам и субботам, чтобы смыть с себя недельную нечистоту, натереться мочалкой до красноты, погрузиться в клубы влажного горячего пара, со всей мочи похлестать себя и своих соседей берёзовыми вениками. Леонтий разделся в предбаннике, большом полутёмном зале, уставленном вертикальными ящиками для одежды, открыл запотевшую дверь в мыльню и вошёл, переступая через лужи мутной, покрытой белёсой пенкой воды, в помывочную.
Склизкие от плесени бетонные низкие полки были почти все заняты сидящими водолазами, они молча тёрли мыльными мочалками свои узловатые свекольного цвета ляжки, резиновые обвислые животы, безволосые подмышки, одутловатые чресла. Водолазы не подняли голов, не посмотрели на вошедшего, они были заняты своим банными делами, кто-то стоял у кранов и ждал, когда его железная оцинкованная шайка наполнится до краёв, кто-то намыливал свою лысую голову. Леонтий нашёл пустую шайку, здесь её называли тазиком, сполоснул его кипятком и стал искать место. Около входа в душевую нашёл пустой полок, обдал его кипятком, положил мыльницу и мочалку, чтобы место не заняли, и пошёл наполнить водой тазик. Воду надо было смешивать в тазу, из одного крана текла холодная подземная вода, из другого — кипяток, так что надо быть осторожным. Рядом с кранами стоял грузный водолаз, он кистью руки закручивал в своём тазике воду, смешивая горячую и холодную. Вода текла уже давно, переливаясь через край, а водолаз всё не выключал краны, он, казалось, задремал. Его шлем упал на грудь, кожа шеи сложилась в гармошку, спина колесом. Леонтий закрыл краны и легко толкнул водолаза, тот очнулся, взял таз и пошёл к своей скамье. Пол бани, покрытый плиткой, был неровный да к тому же скользкий. Водолаз споткнулся о выпавшую плитку и упал плашмя на пол, таз опрокинулся, загромыхал железом. Никто не обратил внимания на упавшего, никто не повернул головы, словно ничего не случилось. Все продолжали мыться под монотонное бормотание лежащего водолаза, Леонтий помог ему подняться, придерживая за локти. Водолаз медленно встал и, не благодаря, пошёл опять наливать воды в таз.
Леонтий стыдился своей наготы, его белое нежное тело светилось среди водолазов перламутром нутра жемчужницы. Красное распаренное лицо, слипшиеся от воды волосы, розовые ноги, белые ягодицы, мягкий живот, вторичные половые признаки казались неуместными среди этих живых скафандров, поэтому он старался передвигаться по мыльне, закрывшись тазиком, как краб-бокоход, полок выбирал в стороне, у окна, торопясь намылиться, сполоснуться, сбегать в душ и скорее покинуть баню. Вдруг один из водолазов повернулся к Леонтию, протянул ему свою мочалку и жестом показал на свою спину. Это был простой и понятный банный жест, единственный в своём роде, налаживающий коммуникацию мывшихся обособленных посетителей бани. На широкой спине водолаза полно мелких ракушек, полипы, мох, маленькие розеолы цветущей камнеломки. Леонтий взял огромную жёсткую мочалку и потёр ею по выступающему хребту водолаза, ракушки и полипы со стуком посыпались на пол, мох отрывался клочьями, под ним открывалась тонкая красная кожа скафандра, гладкая, сияющая от света солнца, пробивающегося сквозь закрашенные белилами окна мыльни. Внутри кожи Леонтий разглядел тонкие бледно-розовые веточки сосудов, еле заметно пульсирующие, сеть нежных веточек капилляров. Леонтий поднял глаза, ему показалось, что за окном зима, а не лето, краска на стёклах была похожа на иней, пар от горячей воды покрывал верхнюю прозрачную часть окна мелким ажуром капелек, похожих на морозные узоры. Было лето, когда я сюда пришёл, почему за окном зима? — подумал Леонтий.
Хлеб
А вот и край пруда появился в заледеневшем окне вагона, в котором я ехал домой. Мелькнул и пропал, всё вдруг застили чёрные могучие ели, иногда среди них светлыми пятнами мелькали берёзовые рощи. Осенью в этом лесу, прозванном Ельней, сыром, трудно проходимом из-за валежника, собирали грузди, белые, отороченные бахромой со слёзками на кончиках, еловые грузди или просто — «еловые», как называл их отец. Он ходил за ними с вёдрами, как по воду, причаливал лодку на берегу, прятал вёсла в кустах и поднимался к железной дороге, там и собирал. А выше Ельни в березнике — ломали белые, красноголовиков, — это чистые грибы, синявок не брали. Эти грибы сушили, жарили, варили губницу. А еловые шли на засол. У нас в подполе была деревянная кадка, в неё и закладывали грузди. Мать готовила для грибов сладкий маринад со смородиновым листом, заливала им очищенные цельные грибы. Еловые к «белой» — первейшая закуска, и, конечно, квашеная капуста и огурцы. Когда мой дядя Ваня приходил опохмелиться к своей старшей сестре Рае, моей матери, садился на корточки в коридоре, закуривал «беломорину», она всегда наливала ему немного самодельной настойки и подавала к ней солёные грузди. Потом, когда Вани не стало (не дожил он до пятидесяти лет, умер «от сердца», да и средний брат его Александр умер от него же, не дожив до шестидесяти), приходил к матери мой двоюродный брат Юрка Тягунов, тоже сядет в коридорчике под зелёную стенку с голубой филёнкой, вроде рассказывает что-то, а сам ждёт, когда тётя Рая поднесёт ему стаканчик и грибочков на тарелочке.
Вот промчался поезд мимо елового леса, выскочил на железный мост через реку Серга, от слияния её и речки Тиг образовался Нижнесергинский пруд. Справа остался посёлок Атиг, знаменито это поселение было своим машиностроительным заводом, выпускавшим велосипеды. У брата Жени был такой атигский велик, назывался он «Спартак», на раме жестяная эмблема с красным крылатым конём, летящим над голубыми горами и косыми буквами «АМЗ». Под сиденьем кожаная сумка для инструментов, на руле никелированный звонок, багажник c пружиной, сам он катался, а меня не научил. Почему так случилось, ума не приложу.
В окне показались домики, засыпанные снегом, среди них несколько многоквартирных домов, этот район называли «Черёмушки», здесь поезд притормозил, и несколько человек сошло, в вагон вскорабкалась женщина с большой хозяйственной сумкой, в которой лежал свежий белый хлеб, две или три буханки, она купила его здесь, в Атиге. Запах хлеба вырвался из сумки на волю, и все дружно посмотрели на новую пассажирку. Она уселась на лавку, поставила сумку на колени, прислонившись к ней всем телом, греясь хлебным теплом, поджала ноги и закрыла глаза. Раздался сиплый простуженный паровозный свисток, и поезд двинулся дальше.
В Нижних Сергах были только два сорта хлеба: белый и чёрный. Третий, серый, появлялся изредка, то ли это был пекарский брак, то ли его выпекали из озорства или как кулинарный изыск, потому что все любили белый и чёрный. Серый покупали мало, неохотно, весь его не съешь, оставил на второй день, он либо сразу засохнет и раскрошится под ножом, либо подёрнется плесенью, даже если хранишь его в хлебнице. Хлебница — это металлический контейнер с крышкой, у нас она стояла на холодильнике и страшно дребезжала, когда компрессор «Бирюсы» вздрагивал на передышку, раскачивая холодильник.
Хлеб имел форму кирпича, мы звали его — буханка, а вот батоны я впервые увидел в Городе, когда попал туда почти взрослым человеком. Батон напоминал личинку какого-то огромного насекомого. В своей настольной книге «Детская энциклопедия» в томе о животных я когда-то увидел и запомнил на всю жизнь рисунок жилища термитов: в центре толпы мелких муравьёв лежал батон, это была матка термитов, огромная муравьиная мать. И вот батон белого хлеба напоминает мне эту муравьиную матку, даже сейчас, хотя прошло с того времени около полувека.
Мать покупала в булочной обычно белый, просила с поджаристой корочкой, золотистый, свежий хлеб пах божественно. Пекли хлеб в бывшей полуразрушенной Крестовоздвиженской церкви, поэтому, наверное, он источал такой аромат. Можно было насытиться двумя ломтями этого хлеба, положив сверху несколько ложек варенья. А уж если смазать маслом, а сверху — варенья смородинового или малинового, да запить стаканом молока, то можно вообще было без обеда до ужина дотерпеть.
Если белый покупался каждый день, все предпочитали свежеиспечённый, то чёрный — через день, и ели его вместе с супом или, посыпав солью, как пирожное. Чёрствый хлеб не выбрасывали, а резали длинными палочками, складывали на противень, сушили в духовке и собирали в матерчатый мешочек. А если хлеб пропадал, мать собирала его для соседей, которые держали скот. Ни разу не видел я брошенный хлеб в помойном ведре.
Кирпичи ржаного хлеба напомнили мне домики, обветренные, почерневшие от времени и сажи, они лепились по склону гор вокруг заледенелого, заваленного снегом, пруда. Осталось только прорезать окошки в них, вытащить мякиш, просушить и вставить внутрь электрические диоды. А из нутра хлеба слепил я фигурки людей, обитателей домов.
Домики с горящими окошками стояли на санях, запорошённых солью, как снегом, из домиков тянулись провода к электрической батарее. На одних санях сидели-стояли люди, столпившись под фонарным столбом. Сани выстроились друг за другом, такой санный поезд, на каждом по два или три домика, они были похожи на балки, это такие домики лесорубов, путеукладчиков или нефтяников. Их привозили в пустые безлюдные места, ставили в рядок и заселяли рабочими. Эти домики были всегда черны от холода и ветра, без дворов и ворот, просто четыре стены, маленькое окно, невысокая крыша. Это не те дома, которые строили мои сергинцы, чтобы поселиться в них семьёй, рожать и растить детей, эти дома были времянками, но, бывало, они оставались единственным домом на всю жизнь для этих людей.
Сами люди были слеплены из нутра этих домов, из чёрного влажного мякиша, когда я лепил их, запах хлеба стоял вокруг, хлебное облако висело надо мной. И потом мои руки долго хранили этот запах, казалось, я сам был сделан из хлеба, из земляного коричневого мякиша, тёплого и живого.
Куда эти люди собрались со своими домами, куда их понесло? Это неважно для них, самое главное было с ними: хлеб. Значит, будут живыми, их не одолеет зима, не занесёт снегом, внутри хлеба всегда теплится свет. Хлеб всегда тёплый, даже если от него осталась сухая корка.
Александр Давыдович, за которого моя мать вышла замуж после смерти отца, рассказывал, как вывезли их из немецкого посёлка в родном Поволжье в казахстанские степи. Это было поздней осенью 1941 года, поезд прибыл на какую-то маленькую станцию в степи, вокруг снег и ветер, солдаты прогнали их из вагонов и уехали. И остались они с чемоданами и тюками своего скарба в пустом пространстве, лишённые домов и надежды. Те, у кого не было тёплых вещей и хлеба, не выжили в первые дни изгнания.
Сарайка
После переезда в городок Гагарина у нас появился дровяник, или сарайка, так называли деревянные помещения, выстроенные рядком во дворах каменных двухэтажных домов. Наша сарайка была вторая с краю, по номеру квартиры. В ней у нас хранилось много чего разного: переехали мы из одноэтажного деревянного дома, всё это барахло, что во дворах стояло-лежало, висело-валялось, не потащишь в цивильную квартиру, что-то выбросили, а важное для хозяйства разместили в дровянике.
Сарайка служила нам верой и правдой, отец поставил рядом с дверью козлы для пилки дров. В сарае стоял синий велосипед с облупившимся никелированным рулём, на котором отец возил картошку в мешках, несколько пар лыж, лопаты, топор-колун и обычный топор. Там же отец хранил свои вещи для турпоходов: резиновые сапоги, ветровку, палатку в коричневом брезентовом мешке, закопчённый чайник. В центре сарайки зиккуратом выстроились три маминых сундука, зелёные, обитые жестяными лентами: огромный, на нём можно было спать, если подстелить телогрейки и тулуп, второй средний, а третий маленький. Там хранились старые одежды, коврики, не подшитые дорожки, в маленьком — инструменты. Рядом стоял ларь с мешочками муки, сахара и крупами. На полках — сломанные утюги, чайники, кастрюли, вёдра, бидоны и консервные банки с гвоздями. Всё, что в доме ломалось, выходило из строя, не выбрасывалось, а приносилось в сарай на вечное хранение. К примеру, очень много обуви, резиновых и кирзовых сапог, рваные китайские кеды братьев «два мяча», боты «прощай молодость», сандалии пионерские, лаптей только не хватает. Стопки журналов «Работница», «Здоровье», «Знание — сила», «Техника — молодёжи», «Крокодил» и даже редкий журнал «Рабоче-крестьянский корреспондент». На этот журнал подписали отца в школе в качестве награды за успехи на педагогическом поприще. Коробки с пыльными мешками, верёвками, дырявыми вязаными ковриками, кепками, рядом «гаги», коньки на ботинках, сваренные из железных прутьев кустарным способом санки, запчасти велосипедов, насосы, на гвоздях висели плащ-палатка отца, два плаща «болонья», огромный жёсткий тулуп, три ватника, удочки и старый матерчатый зонтик с деревянной ручкой. В картонной коробке лежали новогодние игрушки, переложенные ватой: стеклянные шары, фонарики, плоские картонные фигурки животных, раскрашенные «серебрянкой», бусы, звезда наконечная, самолётик из стеклянных палочек и бусин, дождь из фольги, бахрома. Рядом с коробкой — старая крестовина для ёлки. В углублении, куда вбивали ствол, я увидел сухие еловые иголки, с какой ёлки они осыпались, какого года?
Новогодняя ёлка высохла, сегодня её вынесли на дрова, весь пол был усыпан иголками, Леонтий загружал ими кузов железного грузовичка и вывозил в коридор. Там он набивал ими карманы зимнего пальто. Теперь ему предстояло вынести их в лес, на ёлочную родину, найти живые деревья и положить у их подножия, чтобы иголки вспомнили: когда-то у них была сестра, которая отдала свою жизнь людям ради праздника, для радости и счастья детей, ради Нового года. Леонтию ездить одному в лес запрещалось, он и сам не поехал бы без отца, но сейчас тихо взял лыжи, подвязал верёвочками валенки и по отцовой лыжне поехал в сторону леса по улице Титова, мимо котельной и бани. За безымянным переулком начались серые заборы, безмолвно охранявшие от леса огороды. За огородами вглубь леса тянулась длинная лыжня, если никуда не сворачивать, то можно взойти по ней на гору Шолом. Лыжню проторил его отец уже после того, как он разгрёб снежные заносы вокруг дома. Нужно было прокопать траншею в снегу, по которой могли выйти женщины и дети, пройти почтальон, участковый или случайный гость. После, немного остыв, он надевал чёрные лыжные ботинки, брал подмышку лыжи и шёл в лес, где на ощупь находил свою лыжню, погребённую ночным снегопадом. Это была его каждодневная зимняя работа. Эту лыжню отец торил после первого глубокого снега, ещё в ноябре, а потом после каждого снегопада проходил ещё раз, утрамбовывая путь. Мать говорила ему: не тори, сам кашляешь, а сам торишь. А он уже не мог не торить, много лет каждую зиму он готовил лыжню для своих учеников, которые шли потом за ним, ускоряя шаг, подлаживаясь под ход своего учителя. Уйдя на пенсию, после каждого снегопада он выходил на окраину улицы Титова и, если видел, что лыжни нет, надевал лыжи и шёл по высокому снегу, прокладывая колею. Отец продвигался вглубь леса, всё больше и больше погружаясь в снег, пока тот не останавливал его своей глубиной и тяжестью. Отец двигался медленно, раскидывая руками верхний слой снега, грудью раздвигая всю толщу снежного покрова. Так он шёл до высоковольтной, там, где ветер выдул ложбины, было легче, но после высоковольтной опять начинался глубокий снег, и отцу казалось, что здесь снег поглотит его с головой и он останется в толще снега умирать. Поэтому у подножия Шолома он поворачивал назад, утрамбовывая, как мог, свою лыжню, от этого она становилась ясно видимой и вполне проходимой даже для младших школьников.
На этот раз лыжня была безлюдна, отец давно вернулся домой и спал на диване, утомлённый борьбой со снегом, накрывшись газетой «Уральский рабочий». Если этой ночью не будет снегопада, то он будет спать до вечера следующего дня, чтобы накопить силы на торение своей лыжни. Леонтий легко шёл по отцовской дорожке, снег не прилипал к лыжам, угадал с мазью, — взял синюю «висти», растёр пробкой. После высоковольтной линии надвигался густой плотный лес без просветов, он стоял огромной стеной, вздымаясь вместе с горой Шолом. Ели были покрыты снегом по самые макушки, снежный покров укутывал деревья почти целиком, пригибая их к земле, превращая в замысловатые снежные скульптуры, которые ярко выделялись на фоне свинцово-серого неба. Вдруг на небольшой поляне он увидел белую глыбу, формой похожую на огромный человеческий желудок.
Весь белый, со вздёрнутым вверх пищеводом, раздутый, грузный, с пузатой кишкой, похожей на хвост, желудок казался каким-то древним животным. Леонтий сошёл с лыжни, проваливаясь по колени в снегу, чтобы подойти ближе и рассмотреть его, но не успел приблизиться, как желудок ожил, на его слизистой надулись и покраснели сосуды, из верхнего конца пищевода выкатилась светлая капля внутренней слизи, из нижнего конца появилась тёмная вонючая кашица. Леонтий испугался, быстро развернул лыжи и, отталкиваясь палками, резво помчался вниз, не оглядываясь, домой на улицу Розы Люксембург. Он оставил в коридоре лыжи, вбежал на кухню, скинул валенки, поставил их на батарею, забрался с ногами на табуретку и стал наблюдать, как тают на полу комочки снега. За окном смеркалось, синий сумрак заливал окно. Леонтий сидел на табуретке и думал о великом желудке, увиденном им в лесу, забыв о сухих иголках, которые так и остались лежать у него в карманах.
После смерти отца через несколько лет мать вышла замуж за почтенного пожилого немца Александра Давыдовича, он был вдовцом: его жена Эмма лежала на том же кладбище, где и Александр Иванович, мой отец. Наши могилки ближе к реке, на задах кладбища, на светлой зелёной полянке, окружённой соснами, а Эмма лежала на краю центральной дорожки, пересекающей погост. Там, конечно, не так уютно, как у нас, да места свободного нет. Мать была очень довольна нашим участком, огороженным металлической оградкой, крашенной голубой масляной краской, рядом участок её старшего брата, Василия Александровича Тягунова, со столиком, обитым фольгой, всегда усыпанным сосновыми иголками, за ним — Мартьяновы. Там лежали сестра матери Катерина и её муж Василий. Там же Николай, мой двоюродный брат, и его сын Серёжа, разбившийся молодым на мотоцикле. У них большой стол был с лавками: на Троицу за ним сиживало до двух десятков гостей, детей кругом бегало без счёта, сюда же приходили все Тягуновы, особенно с могилки младшего брата мамы дяди Вани и среднего — дяди Шуры, и самого основателя династии Тягуновых — Александра Ивановича Тягунова. Участок их был удобный, недалеко от выкрашенного извёсткой Иоанно-Предтеченского храма, но там сейчас стало сыро и темно, заросло огромными пихтами за несколько столетий. Поэтому не так весело, как у нас, на зелёной полянке, между сосен и берёзок. Кстати, остановка автобуса рядом с кладбищем называется «Улица Отдыха».
Александр Давыдович Гильгенберг, бывший инженер Леспромхоза, сосланный на Урал в годы Войны из Казахстана, давно дружил с родителями. Он был немногословный, вежливый высокий немец, родился в многолюдной лютеранской семье в селе Филиппсфельде Немецкой республики Поволжья. На русском он говорил с акцентом, смягчая букву «л», видимо, его первым, родным был немецкий, а уж потом — русский. Осенью 1941 года всю его семью выслали на спецпоселение, всех выслали, отца, мать, дедушку, братьев и сестёр, его самого в Новосибирскую область или Казахстан, не могу сейчас сказать точно. Одна сестра тогда оказалась в Таджикистане. Мать с Александром Давыдовичем ездила туда навещать новых родственников, оттуда привезла шёлковое полосатое платье, типичное для тех мест. Выходить в нём во двор Городка она стеснялась, так оно и висело новое в платяном шкафу. После её смерти я его порезал на «махорики», как все остальные платья, скрутив в клубки для вязания ковриков.
Из ссылки зимой 1941 года Александра Давыдовича призвали в «трудармию» в Ивдельлаг (п/я 240), на реку Лозьву, самый север Урала. Там он с другими трудармейцами выкладывал берега реки огромными брёвнами, закрепляя их речным камнем, чтобы сплавляемый лес не застревал по берегам и поймам реки. Река Лозьва, холодная, как смерть, берёт начало у подножия горы Отортен хребта Поясовой Камень. После Лозьва сливается с ледяной Сосьвой и становится широкой рекой Тавда. Эта страшная и утомительная работа не убила его, он выжил, там познакомился с трудармейкой Эммой Маерле, женился, а после окончания войны они были переведены в колонию-поселение Ушма, родовое место народа манси, там родились их дети — Лилия и Вера. После семья Александра Давыдовича переехала в посёлок Вижай Чердынского района Пермской области, можно ли найти более дикое место на Земле? Там Гильгенберг жил и работал до середины 60-х годов, и только потом его перевели в Нижние Серги, — в 1968 году его назначили директором леспромхоза. Узнал я всё это из почётных грамот, которые нашёл в шкафу рядом с грамотами моего отца и матери, они лежали отдельно от семейного фотоальбома Гильгенберга в картонной папке с тиснёным гербом Советского Союза. Если бы не эти грамоты, я бы так бы ничего не узнал о его жизни. Бархатный красный альбом с сизыми страницами и щёлочками для фотографий был пуст. Вот Гильгенберг Александр Давыдович награждён за проявление инициативы и новаторства в обеспечении выполнения плана марта и плана первого квартала 1952 года. В 1962 году — за проявленную инициативу и находчивость при выполнении служебных обязанностей, подписана министром охраны общественного порядка неким Тикуновым. Другая грамота — за активное участие в пропагандистской работе за подписью начальника политотдела п/я 240 Г. Брусникина, это уже 1963 год. Выполнение плана и принятых социалистических обязательств в честь Всесоюзного праздника «Дня работника леса» и за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, это уже 1970 год. Александр Давыдович остался жить в Нижних Сергах, а его родители, братья и сёстры, как камешки, были рассыпаны по Сибири и Средней Азии, не все выжили в изгнании, не всем повезло, как ему. Здесь, в Сергах, он и проводил в последний путь свою Эмму. После смерти отца, года через два, Александр Давыдович начал наведываться домой к моей матери Раисе с астрами и гвоздиками, оказывая внимание. И всегда приносил с собой торт и шампанское, чем поражал обитателей городка Гагарина. Две его взрослые дочери давно вышли замуж и разлетелись кто куда: одна в Волжск, другая — в город Реж Свердловской области. Через некоторое время он предложил моей матери объединить хозяйства, мы не возражали, дочери Александра Давыдовича тоже. Поменяв свои квартиры на двухкомнатную на улице Розы Люксембург в пятиэтажном панельном доме, мать и Александр Давыдович стали жить вместе. В маленькой кухоньке встали рядком два холодильника «Бирюса», купленные когда-то по записи в местном Райпо. А в два кресла в комнате сели Раиса Александровна и Александр Давыдович, новоиспечённые супруги. Тетка Казюка из первой квартиры в предыдущем доме в городке Гагарина, злая на язык, сидя на скамейке, заявила вечером соседкам, — муж у Раи с фашистами воевал, а она за немца вышла…
Очередь на покупку холодильника длилась годами, холодильник был роскошью, зимой мясо и масло хранили в деревянном ящике под окном, а всё остальное — в подполе. Отец вырыл его, положил доски на землю, понастроил полки, он очень гордился подполом, когда мы жили в городке Гагарина. Там у нас стояли бочка с квашеной капустой, бочонки с солёными груздями, волнушками, банки с малиновым и рябиновым вареньем. Конечно, картошка хранилась там, капуста, морковь. А холодильник «Бирюса» был куплен родителями так же, как и Александром Давыдовичем с Эммой, где-то в 1966-м или, может, на год позже. Стояли эти два белых близнеца плечом к плечу на моей кухне. После смерти матери я отдал один двоюродному брату Саше в Загорную, чей он был, не могу сказать. Моя «Бирюса» работает исправно, правда, чуть подрагивает по-стариковски, когда останавливает свой компрессор, но что вы хотите, всё-таки полвека стукнуло этому чуду бытовой советской техники, произведённой в Красноярске.
Из нажитого Александр Давыдович привёз ещё люстру «Каскад» и торшер с пластиковыми висюльками под хрусталь, да пару ковров. У матери уже были два ковра, они висели над кроватями. Тогда было решено — над одной кроватью повесили ковёр Александра Давыдовича, а над другой — матери. А остальные два ковра положили на пол, что вообще-то было неправильно. На пол клались тканые дорожки и круглые коврики, вязанные крючком из старой одежды, а фабричным коврам место всегда на стене. Во-первых, это было нужно, чтобы не пачкаться об извёстку, да и теплее зимой, во-вторых, это красиво.
Мать каждый год «садила» картошку на заброшенном огороде на улице Сибирская, осенью копала, укладывала в вёдра, относила в погреб к тете Поле на зиму. Как ни приедешь на каникулы, мать: возьми с собой в Москву мешочек картошки, такой рассыпчатой, ароматной, ты там никогда не попробуешь. И действительно, картошка была хороша. Синеглазка и белуха, белого цвета, так, кажется, мы её звали. Копать огород, сажать картошку и белить потолок и стены каждую весну — первостепенные задачи жителя Нижних Серёг. Мать сильно огорчалась, что старость не позволяла ей белить квартиру каждый год. А вот сажать картошку она не прекращала до самой смерти.
Прошло время, умер Александр Давыдович, умерла мать, я поменял их пустую двухкомнатную квартиру на маленькую «однушку» на той же улице Розы Люксембург, в пятиэтажном «доме, который взорвался», обставил старыми вещами матери, кое-что отнёс в сарай.
Он стоял, как стоял, немного покосился, напоминая Невьянскую башню. Но дерево было сухим и чистым, внутри уютно и светло от лучей заходящего солнца. Весь сарай от солнца казался красно-коричневым, на тёмном шифере крыши зеленели комочки мха. Такой мох растёт только на уральских камнях, а тут он вырос на моём сарае. Я любил это закатное солнце, в его лучах сияли пылинки, все предметы становились теплее и от этого ближе сердцу. Вот мамин утюг, а это мои валенки, это колесо велосипеда брата Жени. Я рассматривал журналы, разворачивал пожелтевшие газеты, разглаживал поблёкшие коврики, перебирал новогодние игрушки. Этот сарай казался мне последним оплотом безвозвратно ушедшей жизни, куском моего детства, музеем прошлого. Возникла мысль разобрать его и вместе со всем содержимым вывезти на какую-нибудь выставку. Я даже начал фотографировать хранимые в нём предметы, обдумывать, как их перевозить.
В начале лета 2012 года мне в Москву позвонил мой друг Витя Кривошеев и сказал, что мой сарай исчез. Там, где он стоял, ничего нет, сказал он, — ни досочки, ни кусочка шифера, ни тряпочки, ни худого ведёрка. В одночасье его сломали и вывезли куда-то в неизвестном направлении вместе со всем содержимым. Через два дня на этом месте был установлен металлический гараж. Тем летом я приехал в Нижние, и мы узнали, что это гараж местного начальника МЧС, который жил напротив, и, видимо, ему очень мешал этот сарай, и он мобилизовал местные коммунальные службы, чтобы они «ликвидировали пожароопасную постройку». Всё было выброшено на свалку, не только стены и крыша, но и содержимое сарая, в ближайшем карьере.
Я завил горе верёвочкой, решив, что небесные силы и всё, что свершилось, — свершилось. Осталось только смиренно принять эту потерю, как череду других жизненных потерь, как смерть родителей и друзей детства. Ведь осталась память о них, о том времени, когда весь мир вокруг меня был освещён ярким утренним солнцем, пронизан любовью и новизной. Когда все вещи разговаривали с тобой как родные, приоткрывали свои тайны и предназначения. Это время уже не вернётся, но есть другое время, которое здесь и сейчас. И надо жить дальше. И хранить память обо всех, кто жил когда-то, как ты здесь и сейчас.
И главное я понял о самой жизни, это когда, разбирая вещи матери, перебирая в шкафу одежду, я обнаружил в пустой коробке из-под заграничного печенья, которое когда-то привёз в Серги старший сын, её маленькую записную книжицу-дневник в зелёной ледериновой обложке. Этот дневник заставил меня посмотреть на жизнь как на очень ясное и чистое действие, простодушное существование человека во времени. Год за годом, месяц за месяцем, день за днём почти ничто не меняется, но огромный космос вдруг начинает просвечивать сквозь аккуратный почерк моей матери, бывшей учительницы начальных классов. Медленный ток времени проник в меня, когда я дотронулся до этой ветхой бумаги, остановил поток мелочей, и вечность приоткрыла надо мной своё окно. И послышалась мне песня «Домик окнами в сад», которую пела когда-то мать, и я увидел алые георгины и золотые шары, парящие над моей головой.
На обороте обложки тонкий листок из блокнота, на котором записана молитва:
Ангела встречу
господь на пути
Николай чудотворец
дорогу святи
О, матерь божья
иди впереди
свою рабыню Раю
храни и спаси.
На обороте: «баралгин кеторол» и цифры «2-10-39»
На страницах дневника, некоторые записи:
1992 г.
Резала капусту у Поли 2 октября
У себя 4 октября
Вытащили лодку
11 октября t — +8 проглядывало солнце с утра.
С обеда мелкий дождь.
На пруду тихо вода как зеркало
1993 г.
18 мая целый день дождь
19 мая горох, бобы, морковь
20 мая пахали у Поли
21 мая у Поли посадила картошку и у себя досадила
22 мая ходила на кладбище
Смолили лодку 3 июня t +24
Копали картошку с Ниной август 28 большую грядку 10 в
29 маленькую 5 в. с обеда начали копать у Поли — 3 ведра
Помогла ей 1 грядочку 1 сентября свезла картошку Поле и копали с Т.И. ей грядку 2 сентября сложила картошку в подпол (дождь)
1995 г.
Полола грядки 5 мая
10/V сеяла рассаду
11/V копала грядку у дверки
16/V Дождь
24 мая — дождь со снегом ночью
25 мая холодно
26 ходила на кладбище
6 июня снег +3
Капусту садили 14 и 15 июня
Ремонт телевизора 30 сентября
(заплатила 300 р и четвертушку)
Коврики
Здесь, среди голубей и голубок,
Меж амбаров и мусорных куч,
Бьются по ветру тысячи юбок,
Шароваров, рубах и онуч.
Отдыхая от потного тела
Домотканой основой холста,
Здесь с монгольского ига висела
Этих русских одежд пестрота.
И виднелись на ней отпечатки
Человеческих выпуклых тел,
Повторяя в живом беспорядке,
Кто и как в них лежал и сидел.
Николай Заболоцкий
Меня интересует ткань. Но не просто ткань, которая продаётся отрезами в магазинах, новая, пахнущая чистыми нитями, недавно скрученная станком и пропитанная свежей краской. Мое сердце принадлежит ткани той, которая прожила долгую жизнь, ношенной без меры, прошедшей в тесной близости с человеком. Для наших холодных мест, когда ещё в мае не сходит снег, а в октябре уже надевай телогрейку, одежда была главной вещью в доме. Её берегли, зашивали, перелицовывали, укладывали в сундуки и комоды, пересыпая нафталином. Особо крепкую, не сношенную до дыр, передавали по наследству, от отца — сыну, от старшего брата — младшему.
Ветхость ткани обладает удивительной силой жизни. Смотришь на проношенные насквозь штаны, и перед тобой встает судьба их владельца. Берешь в руки серый пуховый платок, в котором дыр (не уберегли от моли!) больше, чем целого, пух по краям стёрся, от этого узор виден ещё отчетливей, а веса почти нет, — лежит у тебя на руках не платок, а его душа. Едва живая душа, ещё теплая от головы своей хозяйки.
Однажды, бродя по берегу Эгейского моря, на греческом островке Скопелос я нашёл в гальке кусок чёрной шерстяной ткани, почти съеденный временем и солёной водой, похожий своим очертанием на чёрный огород с пятнами тающего снега, если смотреть на него с горы. Назвал его — «Моя земля». На другой день поднял алый прямоугольник тончайшего шёлка, пробитый солью сотнями мелких дырочек, будто звёздами. Назвал — «Небо». Спустившись с греческих небес к себе, вернулся домой, добавил к этим находкам «Дом» — кусочек домашней наволочки, оборвав его так, что проявились стены, крыша с трубой и окно. Хлопок был так тонок и ветх, что расползался под пальцами, словно бумага. Моя земля, небо, дом. И всё из найденных клочков материи, истощённых временем и жизнью, но впитавших силу моря и матери. Всё здесь едино: море, мать, материя, maris, matris, materia…
Из обветшалой ткани, из лоскутов разорванной, много лет ношенной одежды вяжутся крючком круглые коврики, которые раскидывались по деревянному полу крытого двора наряду с «дорожками». Более новые, яркие раскладывались внутри дома, у входной двери, на стульях, на диване, в подножьях кресла и у кровати, чтобы ступать на них босыми ногами. Деревянные доски, крашенные гладкой коричневой масляной краской, были прохладны, а зимой холодны до дрожи. Без таких ковриков можно было совсем застудить ноги, так было холодно в наших домах. Тёмным зимним утром меня будила мать, ей скоро на работу в Пятую школу, что на другом берегу пруда. Я старался одеться прямо под одеялом, а уж потом вставал и шёл умываться. Коврики, как пёстрые тёплые островки под ногами, с одного на другой, шагаешь до порога, где ждут тебя в дорогу два валенка.
Сквозь сон Леонтий услышал тихий, далёкий заводской гудок. Протяжный гудок, тягучий, тревожный, нет, обнадеживающий, ласковый его звук, несущий покой, избавление от похода в школу, ведь теперь можно было не вставать в темноте, не умываться холодной водой, не выходить из дома в зимний утренний мрак. Гудок означал, что температура воздуха такова, что Леонтий освобождён сегодня от школы, как и все ученики младших классов. В кирпичных двенадцатиквартирных, в деревянных на три или пять окон, лежали под стёгаными ватными одеялами дети, прислушиваясь к нежному звуку гудка из завода, над которым мерцало красное зарево и поднимались пары градирен, застилая созвездия Большой Медведицы и Малого Пса. Леонтий лежал под своим одеялом, будто в сугробе, в ногах спал кот Вася, тяжёлый, как гиря. Вместо Леонтия в школу пойдёт кот, возьмёт портфель и отправится в Первую школу, прямиком с улицы Розы Люксембург по мостку через речку Заставка, на улицу Ленина, во второй класс «А». Уши у Васьки были неровные, без кончиков, отморозил в прошлую зиму, когда ходил учиться вместо Леонтия. Кот недовольно мяукнул и спрыгнул с кровати, панцирная сетка скрипнула, Леонтий совсем проснулся. Мать позвала из кухни есть молочную лапшу и пить какао. Он взял со стула синие тренировочные штаны, носки и рубашку, засунул под одеяло, чтобы согреть. Потом все это надел на себя прямо под одеялом и только тогда поднялся с кровати. Даже в носках он почувствовал холодный пол, сразу встал на пёстрый круглый коврик, лежащий у кровати. Так с коврика на коврик, как с кочки на кочку, Леонтий перешёл на кухню, где облаком висело тепло над плитой, да и мать надышала... Окно кухни подёрнулось белой наледью, которая медленно таяла, с оконной рамы вода стекала по тряпочке в банку, стоящую на полу. Вдруг дыхнуло холодом из коридора, это кот вышел из квартиры, дверь хлопнула, и опять стало тепло.
С коврика на коврик, с коврика на коврик… Последний, у самой двери коврик был красный, пронизанный фиолетовыми лентами, скрученными в жгуты. Из центра коврика выползала похожая на толстого червяка пуповина, на конце которой висел шерстяной младенец. Леонтий чуть не встал на этот коврик, но вовремя остановился, склонился над младенцем. Тот был сделан из красной шерсти, волокна которой были спутаны, сплетены между собой так, что казались колтунами, распутать которые невозможно даже матери. Младенец медленно покачивался на украшенной бисером и золотой нитью розовом стебле пуповины, как георгин. Леонтий заворожённо, не мигая, смотрел на коврик-плаценту, пуповину и младенца, боясь даже дышать. Этот коврик — детское место, послед, поэтому и лежит на полу, встречает и провожает гостя, — подумал он. Вдруг открылась дверь, и в избу зашла невысокая старуха в пуховом сером платке, в ватной кацавейке, отороченной бархатом, в коротких пимах. Лицо её было сморщено временем, а маленькие глаза слезились от мороза. Похоже, она не заметила Леонтия, её интересовал только младенец. Из правого кармана кофты старуха вытащила стальные ножницы и ловко отрезала стебель младенца-цветка, предварительно ухватив его за подмышки левой рукой. Сдернула с вешалки белую рубаху отца и быстро завернула в него младенца, положила на пол, наклонилась над ним и завязала конец пуповины суровой ниткой. Другая половина пуповины лежала на коврике, из её отрезанного кончика тихо сочилась кровь, окрашивая ткань темного, свекольного цвета пятнами. Ребенок лежал на белой рубахе, открыв глаза. Видел ли он что-нибудь, хотя бы свет коридорной лампочки? То, что он видел, было перевёрнуто, старуха висела над ним вверх ногами, раскачиваясь, как на качелях. Младенческий разум был чист, и всё, что он увидел перед собой, навсегда отпечаталось в его памяти: крашеный коричневый деревянный пол, пёстрые коврики, тканая дорожка, чёрные резиновые галоши с красным нутром, пара шерстяных носков, несколько берёзовых поленьев, оцинкованное ведро с холодной колодезной водой, старуха в бархатной кацавейке. Все парило над ним, летело, кружилось… Вода в ведре блестела круглой луной, рядом пролегала, как Млечный Путь, тканая дорожка, а коврики — это галактики, галактики, галактики…
Возможно, тогда на нашу Землю упал огромный болид или ярчайший метеор. Или ледяная комета, пролетая по своим делам из созвездия Кассиопеи в созвездия Пса, задела земную атмосферу своим хвостом. Многие думали так. Ведь тогда над огородами зажглось удивительное перламутровое зарево, несколько ночей подряд переливалось ночное небо серебряными и золотыми вертикальными лучами, сворачиваясь наподобие сухой берёсты. Северное сиянье у нас, на Урале, красота-то какая! — говорили сонные жители, выходя на улицы, на окраину леса, задрав головы. Но это был всего лишь атомный взрыв, обыкновенный атомный взрыв. Никто из жителей наших мест, да и не наших, не знал тогда, что недалеко от Челябинска взорвался какой-то химкомбинат «Маяк» по обработке радиоактивного топлива. Все жили и работали, как обычно: ходили в лес, собирали обабки, как раз было время опят и груздей. Отец приносил из леса по два ведра еловых, бело-жёлтые, влажные, с нежной опушкой вокруг шляпки. Засаливали в кадушке, клали сверху метёлки укропа, смородиновый лист, накрывали деревянной крышкой, а сверху камень — гнёт. Как раз поспели картошка, морковь, капуста. Правительство нашего государства не предупредило жителей о возможной опасности. Все домашние несли на своих ногах радиоактивную пыль — и она оставалась на ковриках, что лежали при входе в дом. Мне тогда было четыре года, и я был ближе всего к заражённой земле, к тем коврикам, на которых оседала ядовитая пыль. Через месяц пришла зима, всю землю, уличный сор, жухлую траву и пустые грядки засыпало снегом. Снег все шёл и шёл, покрывая поля и ели по самые верхушки, всё кругом стало белым, чистым, пронизанным свежестью. Мать вынесла коврики и дорожки на снег и выбила из них накопившуюся за лето пыль. На снегу отпечатались серые прямоугольники, но ненадолго, снег не останавливался, и всё вокруг опять стало белым, сияющим и чистым. Нам так казалось…
Стронций был невидим, он был везде и остался с нами на долгие годы. Стронций, разлитый в чистоте небес, растворённый дождями, вошёл в землю, проник в деревья и травы, бабочек, муравьёв, в кровь зайцев и лосей. Кто населяет сейчас те края, огороженные от людей, какие организмы? Возможно, животные о трёх головах, драконы и птица Сирин с человеческим лицом, леший с добрыми глазами, муравьи величиной с палец, собирающие самоцветы, как еловые шишки, в свои закрома, только водолазам всё нипочём, они рождаются и живут до самой смерти в скафандрах, предохраняющих от радиоактивного заражения. Так что тот огромный желудок, живущий своей отдельной жизнью, возможно, появился через несколько лет благодаря стронцию, которого стало тогда в достаточном количестве.
Вязаник
Через несколько дней Леонтий на лыжах пришёл по старой лыжне в лес на то самое место, где видел желудок. Теперь там был огромный сугроб, напоминающий своими очертаниями некогда виденный им великий желудок среди снегов. Он подошёл очень близко к сугробу и ткнул его лыжной палкой. Посыпался снег, обвалились края сугроба, под снегом ничего не было, кроме снега, ничего, кроме чистого белого снега. И часто после Леонтий представлял себе, как великий желудок приходит к нему домой, ест с ним еду, играет в карты и шахматы, смотрит телевизор, спит на его кровати.
В карты я научился играть довольно рано, лет в девять. Средний брат Женя с двумя друзьями собирались у нас дома играть в кинга. Им нужен был четвёртый игрок, без него никак, вот они и звали меня. Раздавалось по восемь карт на каждого, не брали «мальчиков» или не брали «девочек», брали или не брали Кинга — короля червей. Играли, собственно, на деньги. Тогда карты считались азартной игрой, советские школьники, играющие в карты, — это самый позор, могли и из школы исключить. И вот в доме учителей, пока они на работе, идет игра в Кинга, слышится над круглым столом, покрытым кружевной скатертью: заказать «бескозырку», «мизер», «девочек» не берём… Теперь уже никогда не собраться всем четверым за круглым столом, только если мы с братом сыграем в «двадцать одно» или «дурака» вдвоём, остальных нет на свете. Но не помню, когда мы с ним играли в карты или шахматы. В шахматы я играл с Лёней Бандуриным, это, конечно, сложно назвать игрой, так, переставляли фигуры. А ещё любили построить из книг пару крепостей друг перед другом, расставить шахматные фигурки за «стеной» и пулять чем-нибудь, пока не порушатся потешные городки, не завалятся фигурки. Простые игры простых детей. Водолазы из пластилина, кораблики из сосновой коры, меч из деревяшки, чтобы рубить крапиву, которая наступала на наш огород, как басурманское войско. Ты входишь в жгучие заросли и рубишь зелёных супостатов, обжигая руки.
На краю огорода, совсем недалеко от воды стояла баня, скатанная из еловых брёвен, покрытая щепой, с небольшим предбанником со старым продавленным креслом, над ним висели сухие берёзовые веники и пучки зверобоя. Леонтий дёрнул скобу тяжёлой двери, пришлось приподнять угол, дверь поддалась, заскрипела, отворилась. Запах берёзовых листьев, горячей смолы, горький воздух, пропитанный паром, вырвался наружу. Леонтий шагнул в сумрак, справа виднелся очаг, сложенный из камней, на нём стоял квадратный металлический бак с водой. На полке в пару сидел бородатый худой голый старик, длинными костлявыми руками он закрывал обвислый живот, обросший седыми волосами, ступни кривых ног у него были огромные, с длинными шишковатыми пальцами, на которых росли, завиваясь улитками, коричневые ногти. Он открыл глаза, приподнял моховые брови и сказал:
— Вот, батюшка пришёл, а то сижу здесь втородня, некому спинку шоркнуть, на-ка вехотку! — и протянул мальчику лыковую мочалку, огромную, растрепанную и совершенно сухую.
Леонтий быстро выскочил из бани, захлопнув за собой дверь. Сердце его бешено колотилось, ноги дрожали от страха. Это ведь банник, самый что ни на есть банник, бабка про него рассказывала, и он побежал между грядками капусты в дом. Из капусты выглядывали любопытные лица детей, из крайнего кочана высунулась тонкая длинная рука, схватила за штанину, да так крепко, что чуть не сдёрнула шаровары. Леонтий развернулся, ударил кулаком по капусте, рука отцепилась, вилок пискнул, съёжился, захлопнув листья. Уже во дворе Леонтий замедлил шаг, оглянулся и посмотрел на баню. Над трубой поднимался белый дымок, маленькое окошко светилось. Бабка шла по меже с полными вёдрами прудовой воды, позвала пить чай с конфетами. Над лесом ещё краснел закат, облака розовыми телесами наваливались на солнце, не давая ему светить в полную силу, за горой было уже темно, холодно, наступал вечер.
Долгий зимний вечер чёрной ниткой затягивает окна, сматываясь с заводской трубы, как с тюричка. Мать живёт давно одна, нет отца, нет Александра Давыдовича. Ей за восемьдесят, уехать к сыновьям не хочет, что мельтешить у них под ногами, да и куда уезжать, здесь родилась, здесь и умру, — говорит она. Иногда ходит в гости к Поле, вдове старшего брата Василия Александровича, или к Нине, вдове младшего, Ивана Александровича. Голубая снежная дорога вдруг наклонится, закачается Раиса, чуть не упадёт, — это даёт знать недостаток мозгового кровообращения. Дома тепло, Завод не скупится на жар, гонит по батареям кипяток. Мать вяжет Вязаника по просьбе младшего сына. Приехал осенью, постелил газеты на пол, склеил клейкой лентой, лёг на них плашмя, закрыл глаза, попросил обвести его толстым синим карандашом, вырезал силуэт. Вот это и будет тебе работа долгими зимними вечерами — вязать мне костюм, — сказал он. Цвета подбирай сама, сочетай, как считаешь нужным, чтобы баско было. Пошла мать собирать махорики у Поли, Нины и Антонины Кузьминичны. Та сидит больше дома, после операции на кишке, у неё трубочка из живота торчит, ходить не сподручно, тяжело. У неё она взяла ситцевый фартук, блузку, дырявую наволочку, у Поли — юбку с борами, ещё девушкой она её носила, у Нины рубашку клетчатую Вани, пионерский галстук Миши, старшего сына, у себя нашла отцов физкультурный костюм, два платка, чулки дырявые, штопаные-перештопаные, фуфайку Лёрки ношеную-переношеную… Разрезала одёжу на ленты, разорвала на махорики, все пуговицы сложила в коробочку. Мать вязала крючком, тяжёлым, выточенным из металла слесарем Васей Чекасиным, он когда-то был её учеником, маленьким мальчиком, сейчас он белобородый старик, ходит, прихрамывая, но руки — золотые, вот он и сробил этот крючок. Он стоит у меня в стакане между кистями и ручками. Серебристо-серый, отполированный руками вязальщицы до блеска, памятный подарок покойной матери. Я сейчас им вяжу, лучшего крючка не встречал в своей жизни. Но всё-таки самый главный подарок от матери — как раз Вязаник. Этот неуклюжий длинный костюм из порванной одежды моей родни стал мне как оберег, оденешься в него, весь скроешься в пестрых лентах, посмотришь на мир сквозь переплетения ткани — и мир станет совсем другим, каким-то нездешним, будто ты — это уже не ты, а существо, рождённое из вечности, из уральских легенд и россказней созданное.
Внутри Вязаника, слившись с его теплом, впитываешь своим телом древнюю память ветхой ткани, теряя свою, забываешь сегодняшнее и становишься ненадолго бессмертным, потому что бессмертные ничего не помнят, они живут здесь и сейчас, память тянет в землю, заставляя умереть. И потом идёшь по незнакомому лесу, оставляя следы на тонком осеннем снегу, запутываясь в травинках и мхе, оставляя в лунках маленькие золотые самородки, которые потом подберут случайные грибники, посмотрят на них, повертят у подслеповатых глаз и выбросят: откуда здесь золото, давно его нет в тутошних краях, это пластмасса, наверное, мусор, который тут в лесу под каждой ёлкой. Золота здесь не бывает…
Из пихт выглядывает вязаное существо, Вязаник, наблюдет за жизнью странных людей, за их неразумными поступками. И никто не видит его. Должно пройти много лет, чтобы его заметили, обозначили и назвали, а пока он — матерчатое поношенное существо с ткаными ногами, головой-мешком, руками-варежками, весь в льдинках, запорошённый снегом, невидимый для человека.
Вязаника Леонтий встретил первый раз в октябре, недалеко от домов, в тёмном еловом лесу за рекой Серебрянка. День был холодный, везде — на ещё зеленой траве, на ветвях деревьев, на камнях — лежал рано выпавший влажный снег. На ветке дерева увидел Леонтий висевшую на ниточке самодельную куклу: тряпичный клубок — вроде как голова, два сучка — ручки. Леонтий бережно снял куклу с ветки и, когда оставил её у разожжённого костра, отлучась за дровами, вдруг увидел, как цветное неуклюжее существо выскочило из зарослей, схватило куколку и бросилось бежать назад под еловые заснеженные лапы, путаясь в буреломе, споткнулось о корягу, упало, выронило куклу в снег. Леонтий побежал за ним, подобрал куклу, поклонился пришельцу и протянул куклу, но тот испуганно метнулся под ёлки.
Это был тот самый Вязаник, про которого ему рассказывала бабка, что он живёт в лесу, иногда забредает в огороды, ночует в заброшенных баньках. У него разноцветное матерчатое тело, пахнет сырыми тряпками, руки и ноги как будто в варежках, но без большого пальца, лица не видно, оно не доброе не злое, надобно быть с ним всегда дружелюбным и всегда здороваться первым. Через какое-то время Вязаник вернулся, подошёл к Леонтию, протянул руку, жестом предлагая что-то у него за куклу. Леонтий раскрыл ладонь, Вязаник положил в него маленький сияющий золотой самородок, взамен забрал куколку, прижал её к себе и побежал в лес, сбивая с еловых ветвей снег, который ещё долго сыпался на лунки следов, оставленных существом. Летом, в тех местах, где проходил Вязаник, находил Леонтий маленькие, как слезинки, золотые самородки и складывал в шкатулку, где лежали пуговицы, самые красивые пуговицы, которые отрезала мать от старой одежды, когда рвала её на ленты для вязания ковриков.
Когда моя мать оставила земные пределы, я вернулся в её опустевшую квартиру на улице Розы Люксембург, стал перебирать вещи, что-то решил вынести на помойку, что-то отдать родственникам. Позвонили в дверь, это пришла тетя Нина, я предложил ей что-то из одежды, она взяла чёрные валенки, почти новые, не подшитые. Ушла. Она ещё не была слепой, могла гулять, вот и пимы ей пригодились. Я вышел на балкон, там в шкафчике стояли банки с вареньем, литровые, трёхлитровые, со смородиновым, с малиновым и рябиновым. На них были приклеены бумажки: 1997, 1999, 2000, 2001… Года, когда варилось варенье, для памяти. Банок было около десятка, что же с ними делать, варенье старое, засахаренное. Мать варила его в надежде, что приедут сыновья, будут лакомиться, увезут с собой в Москву. Однажды мать уговорила меня взять с собой малиновое варенье, я завернул двухлитровую банку в два полиэтиленовых пакета и положил в рюкзак. Домой я привёз варенье в пакетах и со стеклом, стеклянная банка разбилась в дороге. Пришлось всё выбросить, но матери я не стал рассказывать об этом случае. На шкафчике стояла корзина, закрытая серенькой ширинкой, под ней множество матерчатых клубочков, которые мать загодя намотала для вязания ковриков. Да, их она звала мотками, моточками. Маленькие, разноцветные, они лежали в корзинке, как молодые грибочки, как полевые цветы, собранные для любования.
Вязаник вернулся на следующее лето, в начале августа. Он поманил своей варежкой-рукой Леонтия, приглашая в лес. Идти было недалеко, тропинка из верхнего огорода упиралась в Маленький Лесок, два шага в гору — и ты в тёмной чаще. Куда идём? По грибы идём, вот смотри их сколько, — как бы говорит Вязаник и машет рукой в траву. Там уйма кульбиков, все разноцветные, круглые, крепкие, а если поближе посмотреть, не кульбики это, а мотки матерчатые, то там, то тут, разбросаны по травке. Берёшь один моток, а он выскользнет из руки, размотается, покатится куда-то между кустами, пнями и ёлками. Леонтий за ним, а он крутится, убегает, оставляя махорик. В конце махорика тень лежит на земле, раскинула руки, ноги вместе сложила, чёрная, как обычная послеполуденная тень. Это не дедушка твой, Александр Иванович, не дед Иван Григорьевич-Савватеевич? — спрашивает Вязаник у мальчика. Нет, не похож, хотя откуда мне знать, я никогда своих дедушек не ведал, не знал, умерли они до моего рождения. Ну ладно, говорит Вязаник, придёт время, встретишься с ними, поговоришь. Взял тень на руки и ушёл в ёлки. Другой клубок дальше бежит, раскручивается. И за ним стремится мальчик, ищет ниточку. Вдруг поляна светлая, на ней дом стоит, в дверь ниточка ведёт, в доме большая комната, стол посередине, за столом сидит Вязаник, приглашает отобедать, показывая на большую миску пшённой каши с изюмом. Вокруг миски лежат ложки алюминиевые, много, все разломаны пополам, но починены, соединены тряпочками, возьмёшь за ложку, а она висит на махорике, ко рту не поднесёшь. Напрасно Леонтий поднимает ложки, то одну, то другую, все они не годятся для еды, падают из рук на стол. Взял Леонтий одну ложку, положил в карман и вышел из дома в сумрачный лес.
Клубочки, пуговки
Я забрал домой клубки, смотанные матерью, вместе с двумя, обтянутыми зелёным плюшем, семейными альбомами. Уложил в чемодан. Туда же положил грамоты, очки матери, отцовы часы «Победа», которые давно остановились, но я надеялся починить. А урну с прахом мамы поставил на трюмо, между лаковой шкатулкой, пластмассовой туфелькой, внутрь которой можно вставлять иголочки, там специально был положен поролон, сигаретницей, которая играла какую-то известную советскую мелодию, когда открываешь в ней похожие на книги ящички. Урну я привёз из Москвы, где мать тяжело болела, сначала она жила у нас дома, жалуясь на нестерпимые боли в пояснице. Рентген показал рак позвоночника. Это было неизлечимо, никакие операции уже не могли помочь. Мы положили её в хоспис, где ей постоянно давали обезболивающие препараты, она постепенно угасала, от морфия почти всё время спала. Потом санитарки вывезли её прямо с кроватью из общей палаты в специальное помещение, большое, светлое, с полом из плитки, совершенно пустое, только рядом с кроватью стоял стул. Умерла она на моих глазах, я сидел рядом, держал её за руку, слёзы текли из моих и её глаз. Так получилось, что отец умер рядом со мной, когда я навещал его в районной больнице в Сергах, и мать умерла при мне в хосписе Южного района. Братья работали, были чаще заняты, а я свободный художник, вот и ездил, навещал наших заболевших родителей. Как заболеет кто в Сергах, братья мне: «Давай езжай, ты же не работаешь, позвонишь оттуда, всё расскажешь, если что, на врача учился, поможешь, лекарства пришлём, то да сё»… Вот я и ездил.
Так и теперь, после кремации матери забрал урну с пеплом домой, купил билет на поезд и поехал на родину. Дома раскрыл чемодан, а там на дне мамин пепел, плохо я упаковал, видимо, урну. Пепел был серовато-белый, крупяной, никогда не думал, что он должен быть таким светлым. Я собрал крупинки своей матери в ладонь как мог и высыпал обратно в урну. После организовал поминки-похороны, поставил на комод портрет матери, который когда-то сделал на фоне ковра, рядом урну, цветы. Всё, что мать приготовила для своих похорон, не пригодилось: отрез тёмно-красной материи для обивки гроба, белый платок, чистое бельё, алюминиевые ложки. Всё это я вообще нашёл уже позже в шкафу, рядом с грамотами и облигациями государственного займа, которые в 50-е годы отец и мать покупали по принуждению, так как работали в школе и должны были подавать пример.
В дом пришли в большинстве своём старые одинокие женщины, всё больше бывшие учительницы, несколько родственников, были и ученицы матери. Мы погрузились в машину и отвезли урну на кладбище, там была протоптана узкая тропинка в глубоком снегу, хотя весна уже наступила, но снегу было полно, к могиле отца. Летом я заказал памятник, объединив отца и мать под одной стелой из ревдинского мрамора, фотографию поместил их общую, в горизонтальном овале, а вокруг резчик изобразил веточку рябины. Вот такая же веточка на шторке вагонного окна фирменного поезда «Урал», красные ягоды, нежные листочки. Рябина да черёмуха, ну, ещё сирень, это самые уральские цветы, другие нечасто встретишь в наших холодных краях. Нет, конечно, встретишь, например, георгины, астры, золотые шары. Но именно цветущая черёмуха и сирень — это наша весна на Урале, другие не выживают в ночной мороз в конце мая. А рябина — самая наша красота. И, конечно, варенье. В банке, тёмно-янтарного цвета, с наклеенной бумажкой с годом изготовления, стоит в холодильнике, долго будет потом стоять, я так и не открыл её, после того, как нашёл на балконе вместе с матерчатыми клубочками моей матери.
Эти клубочки с вставленными в них фотографиями моих ушедших родственников и стали моими «небесными водолазами». Сейчас они, как в детской сказке, ведут меня по дороге в Тот Самый Дом на небесах, в котором обитает сейчас моя родня, теперь птицы небесные. Бегут клубочки по невидимым дорожкам, взлетают вверх, ласточкиными гнёздами лепятся к стенам и потолку новой обители, в самих гнёздах спрятались мои близкие, теперь далёкие люди-ангелы, смотрят на нас, взыскуя сострадания и любви, подобно всем существам этого мира. А здесь, в тёмной пучине бытия, водолазы забросили, как якоря, души свои на сумрачное дно океана жизни. Тяжёлыми чугунными крыльями раскинули руки водолазы, качаются головы под водяным ветром, тоненькая струйка души летит вверх, истончается в поднебесье, где-то там вверху сворачиваясь в прозрачный лёгкий клубочек. Миллионы сияющих клубочков составляют созвездия, а внизу, как «ваньки-встаньки», колеблются их тела-водолазы, обживаясь во мгле, сначала на ощупь, потом навсегда. И по этой дымной струйке, тропке, устланной сосновыми иглами, холодной снежной лыжне, я иду, всматриваясь ввысь, напрягаю зрачки, закинув слёзные мешки за плечи, силюсь увидеть их, тех, которых не рассмотрел, не любил, как надо было любить, при жизни.
Одинокие платья висели в шифоньере, пустые, молчаливые, на деревянных плечиках, одно за другим. Вот тёмно-коричневое строгое шерстяное платье учительницы начальных классов. Другое, из крепдешина, цветастое, она надевала на праздники. Что мне делать со всем этим, что осталось после её ухода. Памятуя о том, как моя мать разрывала на ленты старую одежду, чтобы вязать коврики, я разрезал её платье на ленты, на одну бесконечную ленту, скручивая клубок за клубком. Все разрезал, разорвал на «махорики», платья, блузки, чулки, майки, всё, что резалось и рвалось, а рвалось легко, было у матери всё «ношено-переношено», надрезал край и тяни… «Какая красивая материя, сошью как-нибудь из неё платье», — говорила когда-то мать. Теперь и материи совсем нет, пять клубков. Остались тени платьев на стене, голые плечики на гвозде, память в сердце, сердечная печаль и бархатный альбом с фотографиями. И множество пёстрых клубков-атомов, из которых теперь строится теперешняя реальность, дом мира, укреплённый памятью и любовью. Этому всему я научился у матери, она у своей матери. Так уральцы превращали тоску по ушедшему в нечто новое, то, что становилось знаком памяти, памятью памяти, мягкий круглый коврик на деревянном полу дома.
Однажды мой незабвенный, ныне покойный друг, коллекционер Саша Заволокин рассказал, что, когда умерла его мать, он собрал её одежду и сжёг во дворе родного дома в Нижегородской области. Не мог понять, что ему теперь делать с её одеждой, свалить в кучу и вынести на обочину, побросать в мусор, это было невозможно представить, хранить в доме, который опустел без хозяйки, не было никакой возможности, не вернётся никто за ними, сам он тоже уже туда не вернётся. Раздать редким соседям — но кто возьмёт старые платья, бельё, цигейковую шубу и кофты. Вот и сжёг всё Саша, сложил в костёр и сжёг.
А я сел под лампой, разложил по цветам клубочки, достал мамин крючок и стал вязать. Через несколько дней появился то ли свитер какой, то ли мешок, но я-то знал, что вяжу я матку, огромную женскую матку, моё медицинское образование и здесь пригодилось. Матка получилась шёлковой, крепдешиновой, сатиновой, хлопковой, мягкой и яркой. Большая и красивая. В неё можно было смело спрятаться мальчику десяти–двенадцати лет, свернуться «калачиком» и уснуть беззаботно и счастливо. Мне же туда не поместиться, а хотелось бы, очень хотелось.
А пуговицы все, что отрезал от блузок, платьев, рубашек и наволочек, сложил я в ту же деревянную коробку, раскрашенную в Хохломе, в которой уже лежали пуговицы, собранные моей матерью за всю её долгую жизнь. Среди пуговиц также я нашёл пионерский значок, солдатскую пуговицу с отцовой гимнастёрки, пуговиц было много, самые разные. И эта коробка долго стояла на моём столе, пока к ней не встала рядком коробка моей тёщи Люси. И через год после этого я взялся сделать что-то из этих пуговиц, что-то, что бы было чем-то заключительным, то, что венчает историю. Время как толща воды, чем больше проходит, тем неразличимей дно, на котором лежат камушки. И я поднял горсть пуговиц, как со дна пруда камушки, поднёс к своим глазам, и они стали как близки мне, потому что каждая стала рассказывать историю. Так появилась «Великая Панагия, или Ярославская Оранта», сложенная мной из этих пуговиц, как мозаика. Долго выклеивал, подбирая пуговку к пуговке, чтобы светилось вся, переливалась красками. Висит она на стене, как память о наших матерях, а под ней круглый коврик с шерстяным младенцем. Это и есть я, кулёма, комок шерстяных ниток, связанный-сделанный моими родителями.
У дома было безлюдно. Огромные сугробы лежали, как белые киты, выбросившиеся на берег. Леонтий прошёл по узкой снежной траншее, выкопанной отцом ранним утром. Отец знал, как рыть траншеи, его научили этой науке на фронте, главное, траншея или окоп должен быть глубоким и узким, извлечённая из недр земля выкладывалась только с одной стороны, с той, откуда полетят пули. Поэтому снежные траншеи были с одной стороны выше, чем с другой. Война закончилась пятнадцать лет назад, но кто знает, не начнётся ли она снова. Леонтий тоже любил копать, у него была острая жестяная лопата с деревянным черенком, она легко резала лезвием снег, без всяких усилий, лишь только тяжело было поднимать снежные глыбы, чтобы отбрасывать их в сторону. Сейчас он копал в одном из сугробов горизонтальный ход, это будет пещера, схрон, убежище, снежный погреб или подснежная комната, назови, как хочешь. Узкий ход расширялся в центре сугроба, там уже можно было сидеть, обхватив колени руками. Потолок светился тусклым серо-синим светом, видимо, толща снега была небольшой. Он сидел там уже больше получаса, как услышал голоса, его искали: «Леонтий, Леонтий, ты куда пропал?»... А он не пропал, он спрятался, схоронился, здесь, в снежной пещере, очень уютно, снег окружал его со всех сторон любовью и заботой, не отпускал его, снег обнимал его белыми мягкими рукавицами.
Над головой зажглось круглое розовое пятно, оно увеличивалось, набухало красным и пульсировало, из центра круглого, как коврик, завихрения вылезла гибкая, сплетенная косой, розовая трубка, она прикоснулась к руке мальчика, как бы приветствуя его. Леонтий прижал её к своему животу и вдруг почувствовал, как живое тепло заполнило его тело, проникло в каждый сосудик, окутало сердце. Захотелось спать. Леонтий закрыл глаза и провалился в яркий, залитый золотым сиянием сон. В этом сне он был лёгким, как облако, он парил в тёплом густом пространстве, его живот поддерживал гибкий стебель, исчезающий внизу в розовом мареве. Руки, ноги, голова казались ему лепестками, а сердце — глазом цветка, которым он себе приснился.
Вязать меня научила мать, это оказалось проще, чем я думал. Вот, говорила, будешь ходить в Вязанике, спотыкаться о коряги, порвётся он, материя ветхая вся… А меня не будет, я — далеко, возьмёшь крючок и подвяжешь, где будет прореха. Так я и научился этому простому делу. Сидишь себе, вяжешь, а перед этим разрезаешь тряпицы. Приходит в голову, что если собирать всю жизнь по носку в месяц или два, то можно набрать их для новой художественной работы. Обычно же, когда один носок прохудится, второй, целый, вместе с ним выбрасывают люди, не штопают первый, как раньше. Это когда-то было трудно с носками, сидели женщины, натянув носок на деревянную чурочку, тонкой иголкой стежок за стежком затягивали, как паутинкой трудолюбивый паучок, дырку на пятке, чтобы у испугавшегося мальчика душа не ускользнула, не улетела восвояси. Да ведь ещё: каждый носок хранит воспоминание о душе, некогда обитавшей в нём. Поэтому я стал собирать порванные, «отжившие» носки, сохраняя их как «следы», по которым можно узнать прошедшее. Оно же прошло, значит, оставило следы. Носок ближе всего к следу, значит, он хранит прошлое. Собрал за много лет порядочное число носков, разрезал и связал чехол для души. Сижу тихо жду, когда придёт время — душа заберётся в него и улетит в космическую даль. А когда сплю, души мои покидают меня и висят вокруг, как взлетевшие к потолку тени, прибитые гвоздями к стене. Их я связал из тёмной «мужской» материи, из сонмища чёрных маек, сатиновых трусов, коричневых носков, тёмно-синих «треников» с вытянутыми коленками, мешков для второй обуви, с вышитыми белыми нитками буквами «Л. Тишков 4а». Тёмное прошлое вытянулось в струнку, завилось пеньковой верёвкой, тащит меня назад, а я зацепил его жилу стальным крючком и плету тёмные коконы прошлых теней.
Память овеществлённая со временем становится неподъёмным грузом для моих слабых плеч. На излёте жизни стараешься освободить тело и душу для полёта. Начинаешь понимать опыт моей матери разрывания-разрезания старых одежд, вязание из «махориков» цветных ковриков. Память отпускает тебя, когда вдруг из ясно очерченного предмета, хранящего очертания близкого человека, которого уже нет с тобой, возникают лишь бесконечные ленты и нити. Потом долгое скручивание их в клубки, это как бы сотворение новых атомов, из которых строится после нечто новое, обладающее формой бесконечности: концентрические окружности, закручивающиеся во вселенную. Дальше начинается вязание коврика.
И вот лежит на коленях тихий, уютный коврик, в котором растворена, закручена память памяти, тихая, почти прозрачная, лёгкая, растворённая на элементы. Память памяти почти неуловима, она не держит тебя на земле, с ней легко взлететь, преодолевая земную тяжесть, когда придёт время.
Фотографии из семейного альбома проявлены мной на батисте, лёгкой ткани, которую очень любила моя мать, в её шкафу когда-то висели два ярких платья из этой материи. Я взял ножницы и приступил к работе: мои родные, я сам, кто-то, кого я не помню или забыл, стали исчезать, разрезанные, разорванные, разделённые на ленты, чтобы потом свернуться в клубки. Вот висят под потолком все мои уральцы, вниз спускаются дорожки, нити, связующие их с землёй, на ней лежат клубки, из которых будут вязаться будущие коврики, вяжутся коврики. Так начинается бесконечная работа, простой домашний труд, чтобы в нашем доме не зябли босые ножки детей.
Завод и заводь
Леонтий сидел на берегу за камышами и смотрел, как водомерки вышивают зелёными крестиками воду. Выше по берегу стояла в заводи большая чёрная лодка с водолазами. Они что-то сосредоточенно делали, ловко работая пальцами, кажется, они перебирали зерно в решете, то один, то другой откидывали правые руки и что-то вытягивали из решета. Но, приглядевшись, Леонтий понял, — они плели короба из камышовых хлыстов, которые лежали на днище лодки. На корме были сложены квадратные плетёные сумки, пестели, он когда-то видел подобные, но берестяные. В старом доме их было немало, с ними ходили по грибы, по малину, складывали пойманную рыбу. Закончив плести пестель, водолазы кинули его на корму. Один из них встал и начал дёргать камыш, вытаскивая круглые зелёные стебли из воды, и складывать на лавку. Стебли были изящной формы, побег острый, с небольшой метёлочкой, внизу они расширялись, светлели до жёлтого, заканчиваясь ровно, как отрезанные. Зачем им столько коробов, не продавать же они их повезут, да и кто купит всё это, из камыша, неуклюжие влажные огромные пестели. Видимо, они их плели для своих же водолазов, которых много в этих местах, вот из-под воды показалась большая чёрная голова, новый водолаз подошёл к лодке, опутанный зелёными водорослями, потом ещё один, он схватился за цепь у носа лодки, потянул за собой, другой стал толкать корму. Те, что сидели в лодке, не поднимая головы, продолжали работать. Вдруг тот водолаз, что был у кормы, повернулся в сторону Леонтия, посмотрел на него чёрным оком окна, но через секунду отвернулся, и они побрели по мелководью, медленно волоча лодку в сторону зелёного мыса.
Жители города, а раньше он был рабочим посёлком, в большинстве своём работали на Заводе. Трудно было представить себе иную судьбу: если ты не уехал из города после окончания школы, вернулся из армии домой, то все пути тебе заказаны, с давних времён все шли на Завод. Почётно быть металлургом, плавить сталь, огонь, железо, искры и грохот — вот настоящее дело для мужика. И всем находилось место, кто-то робил у «канавы», это красный поток расплавленного металла течёт по лотку, вокруг стоят рабочие, укутанные в войлок, смотрят через тёмное стекло, как бежит рукотворная лава, управляют процессом.
Мой дед был слеп на один глаз — последствие случайной капли металла, которая вылетела из ковша, когда наклоняли его, чтобы вылить в канаву железо. Завод давал жизнь городу и забирал её, просто, как бы невзначай, люди приходили через проходную, попадая в гремящий, раскалённый, чудовищный мир, чтобы заработать деньги, а получали болезни и травмы, усталость и нищету. Это случалось не сразу, поначалу всё было окрашено энтузиазмом, социалистическим соревнованием, словами о славном труде металлургов, были грамоты, премии, смех над отстающими, — не все справлялись с таким тяжёлым трудом, ломались, уходили с Завода или переходили на работу полегче, где-нибудь на обочине «настоящего мужского дела».
Собственно, жители моего городка так и оставались рабами Завода, как было это во времена Акинфия Демидова. Другой работы здесь почти не было, все местные трудились на огромного железного колосса с огнедышащей головой, чугунного спрута, опутавшего своими ржавыми щупальцами улицы, дома и огороды местных жителей. Этот труд высасывал жизнь из них, питался их жизнями. Многие мои ровесники умерли рано, большинство от рака, лёгочных болезней, от водки и безысходности. Из горячего цеха уходили на пенсию раньше обычного, но и это не спасало их от недугов и преждевременной смерти. Адова работа — раздувать огненные печи, только дьяволу это по плечу, но ведь он бессмертный, а люди сгорают от нестерпимого жара преисподней. Но в коллективе, плечом к плечу стояли у печей, выдерживали, одержимые безответным тяжёлым трудом. Называли их металлургами, каждый, кто попадал на стан 750, кому давали в руки клюку, становился частью рабочего братства. Все работали на износ, в бесконечном грохоте проката, в синей дымке, день и ночь по рольгангу текла раскалённая река, нанизывая тела рабочих, унося их останки далеко от Варанаси...
Последние тридцать лет Завод медленно теряет свою силу, ушли в небытие герои пятилеток, опустели цеха, трубы не дымят, как раньше, изрыгая сажу, окалину, канцерогены. Лежит Завод полумёртвым гигантом между Кабацкой и Больничной горами, раскинув вокруг отсыхающие щупальца. Он ещё цепляется за свою жизнь, вдруг загромыхает ночью, закашляется дыханием Чейн-Стокса, потом замрёт, крякнет, вылезет из его прямой кишки чёрный поезд-котях, проковыляет пару километров, встанет где-нибудь на окраине у реки перевести дух, так и останется там на долгое время. И вместе с собой он уносит в могилу всё вокруг, так как связаны Завод и Город единой корневой системой, единой судьбой. А люди, как сухие листья, опадают с дерева, кружась, на землю, и каждый лист — это лицо человека, с тех фотографий, что лежат передо мной. Это большие чёрно-белые фотографии работников завода, снятые неизвестным фотографом для заводской Доски Почёта. Они так и не были вывешены, Доски Почёта отменили, стоят они пустые, не только здесь, по всей стране. Завод потерял в одночасье главное — память о прошлом и веру в будущее, всем вдруг показалось, что чтить теперь некого, все ждали новую жизнь, в которой, возможно, будут другие герои, а может, вообще не будет героев. Местную газету даже переименовали из «Ленинского знамени» в «Новое время». И в этом новом времени не было места этим людям, вместе с Доской Почёта фотографии сложили в гору мусора в дальнем углу оформительской мастерской Завода.
Однажды я взял эти фотографии и повёз в Непал. Я слышал, что Урал и Гималаи — это одна горная цепь, одного происхождения. Только Урал старше, поэтому ниже, как-то сгорбленней, что ли. Поэтому я решил поднять своих уральцев на Аннапурну, пусть они увидят мир с высоты облаков, а мы увидим их, восходящих на третью вершину мира. По пути на базовый лагерь мы встретили вереницу индийских альпинистов, которых я попросил взять в руки портреты уральских трудящихся и сфотографироваться на фоне гор. И вот стоят чёрные лицом индусы и гурунги и держат в руках Антипина Михаила Ивановича, Стенина Сергея Фёдоровича, Екенина Владимира, Бодрова Николая, Тихонову Антонину и ещё десяток людей, которые должны были висеть на Доске Почёта, но не пришлось. И вот теперь они поднялись выше Уральских гор, на гору Аннапурна. И бездонный космос в их глазах растворился в космосе Гималаев, в космосе вечности. А в глазах альпинистов, держащих фотографии, я увидел неловкость, даже страх. Что за люди здесь на этих карточках, вопрошали индусы, что попросил подержать этот странный русский, живы ли они, не утащат ли они их души туда, в этот дикий и древний край, может, этот Урал вообще не существует, да и эти люди давно уже в загробном мире? Иногда мне кажется, что они правы. Урала нет, это всего лишь морок, сон, прошедшее время, метафора небытия…
Небольшой городок, порождённый когда-то Заводом и Заводом же убиваемый, скоро станет призраком, руины его будут множиться, а люди исчезать в небытии, как некогда исчезла чудь, населявшая дикие леса Урала, вытесненная русским работным людом. Эти низкорослые, косолапые, одетые в шкуры охотники ушли в тайгу за Камень, на север, и ещё дальше, а потом и вовсе вымерли. Так и сейчас, гамаюны уходят, кто в Город, кто ещё дальше, а некоторые тихо тлеют в бетонных квартирках МЖК, наблюдая растущую из щелей половиц мокрицу, вслушиваясь в бесконечный шум прокатного цеха за окном. А кто в деревянных избах, те смотрят, задрав тёмные лица, на звёзды в прорехи крыш, и души их утекают тонкими ручейками на Алголь, Бетельгейзе, Альдебаран и Юпитер. По улицам теперь ходят иноземцы, смуглое племя пришельцев, которым безразличен Завод и его жизнь, да и, по большому счету, безразлична жизнь аборигенов. Племена приехали сюда из южных земель, чтобы поселиться здесь навсегда, а местные, скажут они на ломаном русском, они могут пока не уходить, они им нужны, чтобы обменивать пахнущие гнилью помидоры и кабачки, мятые сливы и терпкую траву на рублёвые деньги. Иноземцы эти размножаются почкованием, детей уже никто не считает, они жужжат и мерцают чёрными головами в сером дневном свете, а по дорогам катятся их родители на старых починенных авто, из них разносятся по городку варварские караоке, стучат барабаны, бряцают сабли, летят воображаемые стрелы… Теперь можно и не везти уральцев в Гималаи, Гималаи сами пришли к ним.
Откуда могли знать водолазы, что пора уходить, ведь они покинули нас до наступления тёмных племён, за несколько лет, а если бы они остались, то смогли бы, конечно, воспрепятствовать пришлым издалека людям? Теперь уже поздно, процесс необратим, медицина бессильна, земля наша потеряна.
Леонтий покинул посёлок и уже давно жил в другом городе, огромном мегаполисе, среди высоких домов и потоков машин шёл он с портфелем в институт изучать медицину. Зима казалась ему сырой и очень холодной, он никак не мог привыкнуть к новой зиме, хотя температура здесь не падала ниже двадцати градусов. Снега этой зимой в столице было так много, что Леонтий добирался до своего института на лыжах. Однажды он забыл в «анатомичке» свои лыжи, и когда вернулся за ними через несколько дней, то под лыжами на сером кафельном полу всё ещё была лужа от растаявшего снега. После вскрытия тела умершего обычно студенты разрезали желудок. Почти всегда там находилась непереваренная пища, но однажды Леонтий нашёл там часы, они были золотые и тикали, через два дня он подарил их своему другу на день рождения. И вот однажды ночью приснился Леонтию великий желудок, вскрытый им, как обычный желудок мёртвого, но вместо непереваренной пищи он был полон драгоценных камней: сапфиры, изумруды, рубины и опалы, бирюза, яшма, лунный камень и другие самоцветы посыпались на мраморный стол, ослепив своим сиянием. Проснувшись, Леонтий подумал: на февральские каникулы я поеду домой и найду ту поляну, где лежал когда-то великий желудок. Но февраль прошёл, наступила весна, Леонтий так и не поехал к себе на родину, он женился, прописался в столице, жил в Коломенском у своей жены. Иногда он брал лыжи и катался неподалёку на пустырях, на пологих берегах Москвы-реки, у старого шлюза. Тонкий слой снега, отсутствие леса, бесконечные заборы и огромные дома — всё говорило ему: здесь и сейчас, никогда ты не встретишь великий желудок.
Зелёный фотоальбом
Из немногих вещей, которые сохранились у меня от родителей, главное место занимает альбом с фотографиями. Страницы сизого цвета пробиты двойными закруглёнными дырочками-скобками для крепления фотографий, сам альбом обтянут зелёным плюшем, по сей день не потерявшим яркости. На передней сторонке альбома — круглый рельеф с изображением печально сидящей девушки. Альбом этот был у нас всегда. Помню, что, когда приходили гости, мать доставала альбом и все листали его, рассматривали фотографии, передавая из рук в руки.
Есть в этом альбоме фотография родителей, сделанная весной 1941 года перед их свадьбой в городке Белая Церковь на Украине, куда отец был призван на военную службу. Отец в форме младшего лейтенанта артиллерийских войск, мать в белой блузке и тёмном жакете, и вторая фотография, того же времени, мать одна, с той же причёской, но в берете. Фотография матери вся в заломах, один уголок оторван, а на обороте её рукой написано: «Эта фотография прошла всю войну 1941–1945 г.». И не только войну, она побывала вместе с отцом в немецком плену, прошла несколько концлагерей, потом проверочно-фильтрационный лагерь НКВД, где отец оказался после того, как его лагерь освободили американские войска. Он вернулся с войны только с этой фотографией, без орденов и медалей, в старой гимнастёрке с чужого плеча, без погон и звания: военнопленных не награждали. Возвращение его случилось только зимой 1945 года, когда все уже решили, что он пропал без вести. С поезда не решился идти домой, пошёл к дяде Ване, младшему брату матери, спросить, как Рая, ждёт ли его, вдруг вышла замуж, раз он пропал на пять лет. Ваня побежал в дом Тягуновых в Нудовскую, к моему деду и бабке с вестью, что Саша вернулся. У бабки отнялась рука. Мать в школе, за ней побежал мой двоюродный брат Борька. В общем — всё обошлось, бабка пришла в себя, ещё долго жила, дед умер в 1948-м. Свою бабушку помню, но смутно, а деда только по рассказам. Отец ходил в военкомат, отмечался там, как все бывшие военнопленные. Смотрели на них косо, считалось, что они предатели, раз попали во вражеский плен, тем более так говорил товарищ Сталин. Ветеранское удостоверение он получил только в 60-х годах. В партии не восстановился. О войне нам ничего не рассказывал, молчал. Всю историю его войны я узнаю, когда отца уже не будет.
Я жалею, что не расспросил мать о других старых фотографиях, теперь уже поздно, почти всех, кто смотрит с этих фотографий, уже нет на свете. Иногда я открываю этот зелёный плюшевый альбом и перебираю фотографии, и они начинают говорить со мной. Я вижу себя маленьким мальчиком среди многочисленной родни: она окружает меня, мать стоит рядом, в строгом тёмном платье, отец немного в стороне, в белой рубашке и фуражке. Вот мои старшие братья Лёрка и Женька, дядя Саша, дядя Ваня, дядя Вася, тётя Катя, тётя Поля, тётя Нина и тётя Лёля, двоюродные братья Борис, Юрка, Мишка, Шурик, сестра Рита… Всех не перечесть. Всех надо вспомнить.
Фотоальбом мягкий и тёплый, как плюшевый мишка, лежит в моих руках, и в нём бьется птицей сердце памяти. Нет в нём только фотографии моего деда по отцу. Звали его Иван Григорьевич Тишков, был он крестьянином в деревне Коркино, там и родился у него в 1912 году сын Саша, мой отец. Не сохранил он фотографию отца, то ли потерял, то ли по умыслу не сберёг, так как утаивал судьбу своего отца, чтобы его, как сына «врага народа», не выгнали из педучилища города Ревда, куда он уехал после того, как отца сослали в Ханты-Мансийский край, посёлок Ягодное. В 1937 году Ивана Григорьевича увезли оттуда в Тюмень и расстреляли по приговору Омской тройки НКВД.
Это я всё узнал уже после смерти моих родителей, совсем случайно, нашёл имя своего деда в списках невинно убиенных, обнародованных в Интернете. И вот всё собираюсь поехать в Тюмень, пойти в эти самые органы, чтобы затребовать его дело, найти его фотографию, но что-то удерживает меня, не пускает, где-то внутри звучит голос: нет, не найдёшь ты ничего, пусто, голо там, бессмысленно. Ты теперь здесь на земле, ты его побег, так и живи, как живёт ветвь дерева, не знающая, как выглядит корень её дерева. Только чувствует сердцевиной, что есть этот корень, а она — продолжение дерева.
Безымянная
Осенью семнадцатого года меня пригласили принять участие в выставке, посвящённой тюменскому ковру. Они как будто знали, что Тюмень для меня была тем рубежом, куда я собирался. Я сразу согласился, и не только по причине странной любви к коврам: в моей мастерской на Южной хранится много ковров. Один я забрал из общего домового коридора — Валя Волков, сосед, сын гениальной наивной художницы Елены Андреевны Волковой, выбрасывал огромный, безумной раскраски ковёр, прибирал маленькую свою квартирку-студию для сдачи — новые жильцы не одобрят «пылесборник», раскинувшийся на всю комнату. Дворник Алим уже уносил ковёр, свёрнутый в трубу, я остановил, забрал и поставил его в угол, сам не знаю зачем. Положить мне его некуда, повесить — тем более. Три ковра моей матери, один был Александра Давыдовича, два — из дома в Нижних Сергах, помню их рисунок с самого раннего детства. Эти ковры были квадратными экранами, порталами, через которые я мог уйти в сказочный потерянный мир, узоры этих ковров тогда, в детстве, завораживали меня своими волшебными цветами, кружили голову, манили другой жизнью. Эти три ковра вместе с торшером я положил в деревянную лодку-плоскодонку, которую вёз из Серёг в музей Екатеринбурга. Лодка была сделана местными плотниками для луны, вот и приехали эти ковры в Москву, как выставка совершила долгое турне по городам Урала, Сибири, вернулась на Урал в Пермь, оттуда в Нижний Новгород, а уже из Нижнего — в Москву. И ковры приехали с ней. Выставочным был только один, на фоне которого я когда-то лет тридцать назад сфотографировал мать, и теперь, напечатав эту фотографию на батисте, приколол его булавками прямо на этот же ковёр. Остальные так и путешествовали, как багаж, завёрнутые в плёнку, аккуратно переносимые из одного музея в другой. И потом они приехали ко мне на Южную.
Места для них нет, они стоят, как случайные гости в прихожей, опершись на косяк, наклонившись, вот-вот упадут, иногда, когда мне надо зайти в туалет, я передвигаю их, переношу в другой угол коридорчика, какой-то из них валится, как пьяный или вдруг задремавший человек, я поднимаю его, ставлю опять, ну что мне делать с ними, не выгонишь, они уже пришли, они здесь, это те самые три ковра, три товарища, которые были со мной в начале жизни, они старые мои друзья, даже родственники, очень жалко, что я не могу им найти места в комнате, держу их у двери, как будто я жду, спрашиваю, что вам нужно, ну что вы стоите, не пора вам уйти, заходите же, что вы топчетесь в прихожей, как будто вам не рады…
Когда-то они висели в комнате моей матери, один слева, другой справа. А ещё раньше один висел над моей кроватью, другой над кроватью моего брата Жени. Третий — из квартиры Александра Давыдовича. Ковры всегда висели на стенах, чтобы удерживать тепло в доме, извёстка зимой дышала холодом, иногда в углах дома появлялся иней, у дверей, у окон. Орнамент того самого, который висел над кроватью моей матери, состоял из бордюра красно-коричневых прямоугольников, который окаймлял алое поле с белыми и сиреневыми шестиугольниками — большими и малыми, складывающимися в башни, между ними были вытканы крестики, строго по линии. Откуда возникали эти орнаменты, какому народу они принадлежат, это всегда остаётся загадкой, если мы возьмём турецкие ковры или дагестанские, то орнаменты, вытканные на коврах, имеют узнаваемую стилистику, которую можно понять, как принадлежащую культуре этих народов. Но вот эти ковры, советские, послевоенные, 50-х и 60-х годов, когда их ткали квадратными километрами для новых квартир, домов и бараков новосёлов, откуда они пришли, культура какого народа ответственна за их замысловатый дизайн?
Леонтий проснулся, открыл глаза и увидел ковёр, возвышающийся над кроватью. Красные, чёрные, жёлтые геометрические фигуры шевелились как в калейдоскопе, разбухали, ковёр пузырился, как будто дышал. Вдруг в центре ковра появилась щель, она пробежала по краю бордюра, остановилась внизу, внутренняя часть ковра отделилась от стенки и упала на одеяло. За ковром была чёрная, глубокая дыра, лаз, уходящий вдаль и немного вниз, так показалось Леонтию. Он быстро встал, натянул треники, клетчатую фланелевую рубашку, отошёл от ковра и стал осматривать открывшийся тоннель. Никогда раньше он не заглядывал за ковёр, его как повесили, так и не снимали пару лет, но ведь когда белили, то снимали же, и этого тоннеля не было, родители бы обратили внимание на дыру в стене! Значит, она появилась недавно, может, этой ночью. Из чёрной пустоты тянуло сыростью, запахом прелых листьев, табаком. Леонтий вышел из комнаты в коридор, надел галоши, взял китайский жестяной фонарик, в квартире никого не было, отец ушёл в лес, мать в школу, часы на комоде стучали громко, за окном кричали дети, лаяла собака. И он решил вернуться, войти в дыру за ковром, чтобы проверить, куда ведёт этот лаз. Вниз шла деревянная лестница, как в подпол, но более основательная, широкая, дальше фонарик высветил цементный пол и железную дверь. Дверь была приоткрыта, за ней — решётка, дальше — ещё одна дверь. В двери было маленькое окошечко, Леонтий ткнул его, оно открылось внутрь, превратившись в полочку. В окошко он увидел узкое полутёмное помещение с небольшим окном. Окно было закрыто решёткой, за ней — рама, за рамой ещё одна решётка. Справа у голой стены, закрашенной зелёной масляной краской, стоял топчан на двух крестовинах, на нём лежал ворох тряпья. Леонтий зашёл внутрь, чтобы посмотреть, что за одежда, чья, лежит на досках. Глаза мальчика привыкли к полумраку, он приподнял за ворот ватник и увидел под ним старого худого человека, он полулежал на топчане, подвернув под себя ноги. Человек был стар, бородат, тёмен лицом, зелёные глаза его смотрели прямо на Леонтия, он тихо произнёс:
— Это ты, Леонтий? Ну, здравствуй, внук. Не пугайся, я дед твой, отец твоего отца, но ты меня не знаешь… Садись…
От старика пахло гнилой одеждой, немытым телом, от пола и стен — плесенью, всё вокруг было пронизано ужасом, слабая лампочка, сороковаттка, висевшая над дверью, отбрасывала решётчатую тень на стены и старика. Леонтий не понимал, как мог здесь быть его дедушка, мать рассказывала, что его дед умер за пять лет до его рождения, это что, другой его дед, про которого он вообще ничего не слышал? Отец никогда не рассказывал о своём отце, не было и фотографий его в семейном альбоме.
— Леонтий, я дед твой Иван Григорьевич, ты не пужайся, я здесь не живу, это на время… вот и увидел внука, радость-то! Ты чё, навестить меня пришёл? Отец жив, Сашка мой? Значит, вот и свиделись, а то, как же так, я ведь дед твой, а никогда не виделись. Ты в Коркино был, не знаешь, как там моя родня, как бабка моя, Анфиза..?
— Я был в Коркино, когда мне было шесть лет, родители брали меня, знакомили с бабкой, я помню — деревянный дом на берегу реки Тура. Река вся жёлтая была, текла быстро и вся жёлтая… Но бабушку звали Александра, баба Шура…
— Это от глины, размывает река берег, один глинистый, другой — каменный… Вот что, Леонтий, тебе надо идти, пока сюда не пришли… Не говори отцу, что ты меня видел, не расстраивай его, зачем ему знать, что меня этой ночью… А ты знай, твоя участь такая, всё знать, мы тебя выбрали…
Дед закрыл ладонью лицо, чтобы Леонтий не видел его слёз, и легонько толкнул в его сторону двери.
— Беги, сынок, беги… Не оглядывайся, беги…
Леонтий быстро вышел из подвала, побежал вверх по тоннелю, проскочил в два шага деревянную лестницу, вышел из стены, а когда обернулся, то увидел, как ковёр захлопнулся, щели быстро затянулись шерстяными нитями, ещё миг — и всё стало, как прежде. Затхлый запах ещё чувствовался, Леонтий понюхал рукав рубашки, снял её и повесил на спинку стула, надел синюю футболку. Галоши поставил на место, засунул ноги в резиновые сапоги, накинул куртку и вышел на улицу. Закрыл ключом дверь, бросил его в почтовый ящик с цифрой 2, и побежал. Он остановился только у самого конца улицы Розы Люксембург, там, где начинался лес. В лес он боялся ходить один, поэтому повернул назад. Сзади шумели огромные чёрные ели, плыли громадные серо-сизые облака, кричали вороны. За горой Шолом ударила молния, сам раскат грома Леонтий услышал позже, но не обернулся, он бежал обратно.
Тюмень, там, где расстреляли моего деда Тишкова Ивана Григорьевича, звала меня, мне нужно было попасть туда, чтобы выяснить детали его гибели в 1937 году. Скупые строчки в книге памяти Ханты-Мансийского округа сообщали только год рождения и место рождения, дату смерти и дату реабилитации. Ничего больше у меня не было, не было его фотографии, я не знал о нём ничего, и я должен был поехать в Тюмень, разыскать какие-то свидетельства, найти могилу. Поэтому я согласился принять участие в выставке, посвящённой тюменскому ковру и ткачеству. Я набрал в «Яндексе» слова «тюменский ковёр» и увидел необычные по колориту ковры: в большинстве своём чёрные, с яркими красными и жёлтыми цветами, в виде клумб или букетов. Георгины, розы, маки, сирень… Бордюры красные, без геометрических орнаментов, только цветы на чёрном фоне. Все ткётся вручную, на станках, есть заслуженные мастерицы, каждую вещь создают не один месяц. Я смотрел на эти ковры и видел чёрную землю, на которой растут яркие цветы, а потом увидел холмик в центре лежащего ковра, это как могилка, в которую воткнули яркие искусственные цветы, здесь на Урале на кладбищах плохо растут цветы, поэтому люди украшают их ненастоящими цветами. Только нарисовал чертёж скамеечки, которую должны мне сделать, чтобы поставить рядом с ковром, рядом с холмиком, чтобы можно было сесть рядом и посмотреть на этот ковёр. Я назвал эту работу «Безымянная», хотя ещё надеялся, что, приехав в Тюмень, найду могилу своего деда.
Перед моим приездом куратор выставки Света Усольцева связалась с музеем в Тюмени, сотрудники музея обратились в местное ФСБ, и в архиве мне нашли дело моего деда. Осталось приехать и ознакомиться. Однажды я коротко был в Тюмени, но это было так давно, что я не помню, почему я там был и зачем, помню только проспект с бело-жёлтыми торжественными домами с полуколоннами, тонкие берёзы вдоль тротуаров… и всё. В этот раз я прилетел сюда надолго, на неделю, меня поселили в шикарный отель, на улице Республики, музей был через дорогу. Я позвонил в ФСБ и договорился о встрече. Когда уже вышел из гостиницы, понял, что я не взял ни бумаги, ни ручки. Искать канцелярский магазин не было времени, я зашёл в огромный дом, на котором было написано «Россия — моя история», что-то типа музея, там должен быть ларёк, где я смогу купить ручку. Ручка в ларьке была, но только в виде гусиного пера с портретом Пушкина на оперенье. Других не было, не было и карандашей, даже простых, деревянных с грифелем. Зато я купил за сто рублей блокнот ядовитого синего цвета с белой надписью «Россия — моя история» с клетчатой бумагой. Навстречу мне шли колонны школьников, ведомые учителями. Я посмотрел описание этого мульти-мединского, извините, медийного, комплекса и не нашёл ни строчки про то, что меня интересует сейчас, словно не было 37-го года, не было Гулага, не было сталинских репрессий. Видимо, современные историки так берегут психику народа, рассказывают только про царей и полководцев, про достижения и победы…
День был пасмурный, серый, как и все остальные дни, шёл мелкий снег, который сразу таял, упав на дороги, превращаясь в коричневую грязь. Областное управление ФСБ на улице Советской было окружено высокой металлической оградой, выкрашенной в тёмно-серый цвет, за ней — ни души, нажал кнопку, и сразу калитку дистанционно открыли. Дежурный в застеклённой будке спросил, кто мне нужен — я сказал: Оксана Ивановна Колосова, мне велели ждать в комнате справа. Комната очень просто обставлена: стол, несколько стульев, вешалка, справа в углу ещё один стол, письменный, на нём компьютер. И всё. Я сел на металлический стул на серое полумягкое сиденье и стал ждать. Коричневый стол был необыкновенно чистый, без царапин и пятен, как будто до моего прихода его вымыли с мылом и протёрли десять раз сухой тряпкой. Дверь открылась, зашла какая-то женщина, по-видимому, почтальон, она вытащила из большой сумки сотни конвертов разного формата, положила на стол. В дверь зашёл служащий конторы, в тёмном костюме, забрал всю корреспонденцию у почтальона и удалился. Почтальон сразу ушла. Я сидел и ждал. За окном пошёл снег. Вот ведь, думал я, пишут ещё письма, да так много, как в стародавние времена…
В комнату вошла ещё одна женщина средних лет, внесла большую, тёмно-коричневую книгу, я понял, что это ко мне, встал, представился, передал ей паспорт, она переписала мои данные в тетрадь учёта и положила передо мной папку — дело моего деда, потом я понял, это были дела целой группы осуждённых, тридцати человек, их объединили в одно расстрельное дело, главное обвинение: что эти люди осуждали советский строй и верили в успехи японских войск. Я поставил подпись в книге учёта и подписал дополнительно бумагу, что ничего не буду предпринимать против тех лиц или их родственников, которых увижу в делах, тех самых уполномоченных лиц, которые вели допросы, подписывали приговоры и исполняли их. Сотрудник архива заложила обрезками бумаги те страницы, которые касались дела спецпоселенца Тишкова Ивана Григорьевича, 1879 г. р., уроженца с. Коркино, Туринского района. В 1930-м его лишили всего добра, скотины, сослали вместе со старшим сыном на север в Кондинский район, в посёлок Ягодный, что недалеко от Леушинского Тумана. Там он построил дом, обжился, завёл корову, работал на момент ареста рядовым членом неуставной сельхозартели. В августе 37-го все снова нажитое конфисковали, арестовали по обвинению в антисоветской деятельности, привезли в Тюмень, где судили в составе группы из тридцати человек. Протоколы допроса, исписанные аккуратным почерком дознавателей, лежали передо мной, но я не мог их читать, строчки прыгали, наезжали друг на друга: «…являлся активным членом к/р повстанческой организации. Вел к/р пораженческую агитацию в пользу капиталистических держав». То, что удавалось понять, было абсурдно: «обсуждал с членами артели японское вооружение, отмечал превосходство его перед советским… сомневался в крепости Советской власти…». Под протоколами стояла подпись деда, такая разборчивая, чёткая, почему-то похожая почерком на записи протокола, я посмотрел протокол допроса в другой день, там уже писал другой опер, подпись была немного иная, сделанная тем же пером, которым писался протокол. Бумага жёлтая, потемневшая от времени, но всё было в сохранности, однако не было фотографии, я хотел найти фото Ивана Григорьевича, но там её не было. Ни одной фотографии всех тридцати человек, которых допрашивали по этому делу. И вот где-то в конце этой пухлой папки — машинопись приговора: всех к расстрелу. По приговору тройки УНКВД по Омской области все были расстреляны здесь, в Тюмени, дата смерти 15 декабря 1937 года. Фотографировать нельзя, смотреть желательно только то, что заложено архивариусом, можно делать выписки, но что мне было выписывать, пара строчек, когда был убит мой дед, всё остальное — за что, кто, где — по прошествии стольких лет не важно. Я только спросил Оксану Ивановну, где может быть похоронен мой дед, где их закапывали после расстрела? Это может быть два места — Текутьевское кладбище, восточная часть, или в районе Асфальтового завода, сейчас — улица Полевая, 109. Я поблагодарил и вышел из комнаты, из здания на двор, потом на улицу Советскую через металлическую калитку, которую опять дистанционно открыл мне дежурный.
Взяв такси, я поехал по первому адресу на улицу Республики, вход с улицы Холодильной. Старинное тюменское кладбище имело вид неухоженный, сиротливый, из-под снега беспорядочно торчали металлические кривые кресты, ограды поломаны, валялись упавшие деревья. Я зашёл в контору, поднялся по тёмной шаткой лестнице, спросил какую-то мрачную толстую женщину в голубой кофте, как можно найти могилу по имени, меня отправили к директору. Это был молодой человек, которого я встретил ещё раньше на лестнице. Он развёл руками, сказав, что все книги учёта погребённых сгорели в 90-е, так что найти что-то не представляется возможным. Да и вообще от старого кладбища осталась малая часть, на его месте разбили сквер, построили жилые дома, а что осталось — перед вами.
Картина перед моими глазами открывалась ужасная: казалось, что живые объявили мёртвым войну, они гнули и ломали кресты, срывали звёзды и полумесяцы, рушили оградки, разбивали памятники, валили деревья, забрасывали мусором тропинки. Где-то иногда стояли редкие памятники, на которых можно было увидеть надписи, но и они читались с трудом. Может, я найду хоть одно из имён тех людей, что увидел в деле моего деда. Я пошёл наугад по заснеженному кладбищенскому пустырю, не выбирая дороги, да её и не было, никто здесь и не ходил зимой, кому в голову взбредёт посетить сей чертог запустения, умирающий погост, покрытый снежный саваном. Хотя за оградой шумел многолюдный город, проезжали машины, зажглись фонари. Я повернул обратно, сел в своё такси и назвал новый адрес: Полевая, 109, там где-то должно находиться Затюменское кладбище.
Снег резко усилился, пошёл почти сплошной стеной, смазывая пейзаж за окном автомобиля: серые многоквартирные дома, потом — двухэтажные и одноэтажные домики, с косыми, залепленными грязью воротами. Через пятнадцать минут остановились у авторемонтной мастерской, я вышел, не понимая, где же здесь может быть кладбище. Через дорогу деревянный дом на два окна, справа — магазин, за автосервисом — новый многоквартирный комплекс, он возвышался горой над двумя чахлыми берёзами, передо мной был пятачок земли с кирпичной стенкой, на которой висела табличка:
Здесь на этом месте захоронены
2194 человека
из них
из Тюмени 588
Ялуторовского района — 209
Нижнетавдинского района — 193
Юргинского района — 150
Заводоуковского района — 147
Омутинского района — 142
Исетского района — 109
Тюменского района — 102
Упоровского района — 89
Армизонского района — 4
Ямало-Ненецкого округа — 121
Ханты-Мансийского округа — 263…
И отточие, что означает — и так далее, потому что когда я сложил эти цифры, то не получилось 2194 человека, всё как-то наугад, приблизительно, как будто не люди они были, а как эти кирпичи, из которых сложена эта мемориальная стенка. Так что и тут я не нашёл могилы моего деда, где-то здесь в овраге у речки Бабарынка, закопаны кости всех невинно убитых людей, в этой песчаной болотистой земле, на которой сейчас стоит новенький жилой кооператив «Олимпия». А сначала на этом месте построили асфальтный завод, сровняв могилы с землёй, потом — жилые дома. И это не единственное кладбище в Тюмени, которое уничтожили, чтобы возвести жилые дома. Только люди без памяти и разума могут жить на могилах, строить дома, заводить потомство. Мёртвые не прощают живым уничтожение их могил, хилым будет дом, возведённый на костях предков, разверзнется когда-нибудь земля и поглотит беспамятное племя.
Так и не найдя следов дедовой могилы, я велел таксисту везти меня в ближайшую церковь, по карте это была Всехсвятская, что на улице Свердлова. Таксист, молодой паренёк, явно сочувствовал мне, когда я стал расплачиваться, у него не было сдачи с пятисотки, так он перевёл эти деньги мне на карточку по номеру телефона, пожелал удачи в поисках дедушки. Улица Свердлова, раньше она звалась Кладбищенской, там тоже было кладбище, которое снесли, закатали в асфальт и построили дома. Вся Тюмень стоит на могилах, скособоченная, поникшая, промозглая, нанизанная на Туру, песчаные берега которой укрепляли могильными плитами с разрушенных кладбищ. Церковь теперь зажата со всех сторон домами, как последний форпост умерших, последняя крепость памяти, которую живущие люди не смогли осилить, взять приступом, а ведь хотели, когда сносили всё вокруг, чтобы возвести свой город.
Всехсвятская церковь, крашенная в белое, имела круглую форму с маленькой зелёной маковкой, входная дверь деревянная, зелёная, открывалась легко. Я зашёл в храм, чтобы заказать службу о упокоении своего деда, — почему-то был уверен, что чекисты не отпевали расстрелянных, наверняка не отпевали, разве это возможно? И когда я взял у служки длинный листочек, разлинованный для вписания имён, я подумал, что надо перечислить всех, кто был расстрелян в тот день вместе с моим дедом, кто ещё это сделает, кто их помянет? И я позвонил в ФСБ, моему архивариусу Оксане Ивановне, и попросил опять об аудиенции. На следующий день я переписал из огромного гроссбуха всех, кто шёл по общему делу с Иваном Григорьевичем Тишковым. И вернулся во Всехсвятскую церковь. Взял уже не один листок о упокоении, а три.
Упокой, Господи, Усопших рабов Божиих
Степана
Анны
Якова
Екатерины
Якова
Ивана
Марии
Марфы
Михаила
Никифора
Федора
Михаила
Клавдии
Павла
Антониды
Анисии
Порфирия
Михаила
Ивана
Алексея
Евдокии
Афанасьи
Коронада
Ольги
Александра
Матрёны
Анны
Марфы
Отдал листки и какие-то деньги, женщина в ларьке предложила мне совершить сорокодневное поминовение деда Ивана. Да, спасибо, сказал я и вышел из храма. Двор был весь чистый и белый от выпавшего снега, дворник собирал его фанерной лопатой, обитой жестью, в холмики у забора. Много холмиков, сотни и тысячи холмиков вокруг, десятки тысяч могилок без имени, без фамилии, без крестов и камней, просто холмики, запорошённые снегом, по всей России окружают меня, под каким из них лежит мой дед Иван Григорьевич, разве возможно понять. Может, этот, или тот, малая вероятность, но всё же, всё же…
Выставка открылась вовремя, моя работа «Безымянная» расположилась в дальнем правом углу. Для «могилки» мне выдали огромный ковёр с ярко-красными георгинами на чёрном фоне и чёрно-красной каймой по краям. Автора ковра звали Тюменцева, так было написано на белом кусочке ткани, пришитом к изнанке ковра, тюменский ковёр работы Тюменцевой… тридцать лет прошло с того времени, как он был соткан. Хранитель коллекции ковров, невысокая женщина в голубом халате и очках, посмотрев на мою инсталляцию, попросила сделать холмик побольше, чтобы ковёр не потерял своей формы. Я подложил ещё какие-то тряпки под середину ковра, что, собственно, ещё больше увеличило сходство его с могильным холмиком. И тихо присел на деревянную скамеечку рядом. День закончился, и подходило к концу моё путешествие на край ночи, в Тюмень, куда я уже никогда не вернусь.
Через какое-то время я всё-таки решил развеять свои сомнения, может, и не дед вовсе это был мой, чью могилу я так упорно искал, летал в Зауралье, бродил по тюменской чёрной земле. В Туринске в архивах мне сообщили, что все документы отправили в областной архив, туда особо не достучишься, хотел выяснить имена родителей отца, может, в каких-то гроссбухах от 1912 года есть запись о его рождении. Наконец, мне удалось найти мою родню в селе Коркино, у матери в записной книжке были какие-то имена, телефоны, адреса — не все они были перечёркнуты. И, благодаря изысканиям сотрудницы администрации села Коркинское Марии Дёминой, нашлась «похозяйственная книга» за 1941 год, где записана моя бабушка и её дети, они помогли найти мою двоюродную сестру. И та рассказала, что деда нашего звали Иван Савватеевич Тишков, а бабушку — Александра Степановна Малкова, жили они на улице Береговой, на высоком берегу реки Тура. Тот самый дом, который я помню, на три окна, и реку, жёлтую от глины. Умер мой дед рано, сам, по болезни, ещё до войны, погребён на старом коркинском кладбище. Так что оказалось, что сослан и расстрелян в Тюмени был другой Иван Тишков, житель нашей маленькой деревни Коркино, дворов-то там было всего десятка два, вот ведь совпадение какое, два Ивана Тишкова жили в деревне Коркино. Да разве это что-то меняет, что это был не мой дед, а кого-то другого — дед, отец, брат или однофамилец? Он тоже мой дед, отец моего отца, и я буду чтить память о нём в моей душе. Нет его могилы на этой земле, как не осталось могилы и моего настоящего деда — старое коркинское кладбище снесли в своё время, раскатав в пыль, обратив место последнего пристанища умерших в пустырь без крестов и плит, даже без холмиков.
Безымянная земля, без памятных знаков, вешек и кенотафов, пустая земля простирается передо мной. Я иду по этой земле, а из чёрных глубин её сквозь дёрн, сквозь листья травы, сквозь пыль и асфальт слышится невнятная людская речь, тихие стоны, даже пение. И я начинаю различать в этом подземном хоре явственные слова: не забудь, что мы были, помни нас, помни, что мы были когда-то, мы были живы и тоже шли, как ты, по земле, пока не упали ниц, истощённые, безжизненные, измученные; и земля поглотила нас, оставленных жизнью, опутав корнями травы, растворив навсегда в чёрной почве. Все мы, в сущности, идём по кладбищу, кто-то смотрит в небо, не замечая крестов, кто-то, как я, немного сутулясь, смотрит в землю, безымянную землю, повторяя про себя имена, бесчисленные имена некогда живших людей. И тем самым, возможно, воскрешаю их на этой земле.
Часы под камнем
В памяти возникают острова, так туман открывает чёрные горы, в них загораются созвездия лиц, объединённые островом-семьёй. Тягуновы, Мартьяновы, Тишковы и другие уральские фамилии становятся теперь сгустками памяти, кластерами. Как абажуры моего детства, они черны-цветны и матерчаты, одевают свет изношенной одеждой, колышутся немыми колоколами. Тёмные кластеры памяти, затины погасшего света, уходящие уральские горы. И в этих глубинах, как серо-зелёные окуни, мелькают тени моих ушедших родных. Мать была ближе ко мне, её утрату я переживал тяжелее и дольше, чем потерю отца. Но сейчас всё больше думаю о невозвращённом долге моему отцу — рассказать о нём больше, чем я знал, что получил в наследство от него: нервическую конституцию, беспокойство опоздать на поезд, страх замкнутого пространства, боязнь конфликтов, мягкотелость и отчуждённость от человеческой общности.
Больница находилась почти на самой вершине горы. Так она и называлась, эта гора — Больничная гора. Большое трёхэтажное здание из белого кирпича стояло у самой кромки леса, окружённое берёзовой рощей, рядом находился длинный барачного типа деревянный двухэтажный дом, в нём была поликлиника, в ещё одном похожем жили приезжие врачи и фельдшеры. Леонтий понимался по тропинке, ведущей в больницу, далее шла лестница с перилами, грубо сваренными из металлических труб. Дорога наверх была долгой и утомительной. Больные с узелками шли рядом, останавливались, тяжело дыша, держась за перила, чтобы не упасть от усталости. Некоторые сидели прямо на ступеньках, уронив голову на колени, казалось, они спали. С берёз падали стрижи, резко сворачивали у земли и взмывали вверх, громко вереща, но спящие не поднимали голов, им снилось, что они бегут по огромному цветущему колокольчиками полю, держась за руки, совсем юные, здоровые и счастливые. Леонтий поднимался уже несколько часов, наконец, он увидел больницу, здание нависло над ним, огромное, как дворец, шесть колонн образовывали портик, обрамляющий центральный вход. Ему предстояло взойти ещё по торжественным мраморным лестницам, истоптанным тысячами посетителей приёмного отделения. По бокам лестницы стояли гипсовые вазоны с чахлыми кустиками неразличимых цветов. Над высокими, крашенными белой масляной краской дверями красовался гипсовый барельеф с врачом, возложившим руку утешающим жестом на плечо сидящего на койке печального больного. Над ними был изображён кубок, обвитый змеёй. У самых дверей стоял отец Леонтия, он приложил ко лбу козырьком руку, всматриваясь в даль. Наконец он увидел своего сына и протянул к нему руки:
— Что так долго шёл, Леонтий? — произнёс отец.
Они прошли внутрь здания, присели на деревянную скамью, Леонтий молча вытащил из сумки уже остывшие пирожки с капустой, которые испекла мать, треугольный пакет молока и отдал отцу. Они посидели ещё минут десять, потом встали, и отец обнял Леонтия, прощаясь.
— До свидания, сын, — отстраняясь от Леонтия, сказал отец и вдруг покачнулся, закрыл глаза и медленно опустился на пол.
Ноги его сложились, как будто в брюках было пусто. Отец раскинул руки и упал навзничь на застеленный мраморными плитками пол залы. Стоящие по углам пациенты и посетители обернулись на упавшего, разговоры смолкли, в тишине громко слышалось тиканье больничных часов, отмеряющее вечность. Эти часы здесь были всегда, даже когда ещё не было больницы, говорят, что само здание построили здесь, потому что нашли их на вершине этой горы под серым камнем. Грибники нашли, ходили вокруг и около, собирали рыжики, услышали тиканье из-под земли, подняли край мха и увидели большие часы, лежащие в ложе из прелых сосновых иголок. Вот и заложили здесь больницу, а гору назвали — Больничной горой. Это рассказал Леонтию врач, который выдал справку о смерти его отца.
— Ваш отец, Леонтий, умер, скорее всего, от обширного инфаркта, у него не было шансов, его время было отмеряно ещё тогда, достаточно много времени ему было выделено нашими часами, даже удивительно, как много времени…
Врач замолчал, его глаза закрылись, и он быстро уснул, уронив на грудь голову. Леонтий тихо вышел, затворив за собой дверь ординаторской. Ему предстоял долгий спуск с горы, позади него всё стучали и стучали часы, отмеряя путь.
Когда водолазы умирают, из шлемов их вылетают яснокрылые птицы и исчезают во мраке ночи. И тогда гаснет свет из головы Длинного Отца Водолазов, и земля погружается во тьму. А птицы присоединяются к стае таких же яснокрылых птиц, которая без устали кружит в высоте, не нужно этим птицам еды и воды, только иногда уставшие присядут на облако, отдохнут чуток и снова кружат и кружат, как небесный снег, который никогда не падает на землю. И кричат эти птицы о домах своих, оставленных на земле.
В поле моего отца
10 августа 1941 года мой отец, будучи командиром артиллерийского взвода, или, коротко, командиром пушки, был взят в плен германскими войсками у села Подвысокое на Украине и пропал на всё время Войны. Потом он вернулся на Урал к своей семье из Сибири, из советских фильтрационных лагерей, куда попал после освобождения американцами из плена. Всю войну он был заключённым в Германии, его перевозили из лагеря в лагерь, пока не закончилась война. Почти ничего отец не рассказывал об этом периоде его жизни. Только однажды он обмолвился, что попал в окружение в первые дни войны, и все были вынуждены выходить из «котла» самостоятельно. Рано утром он шёл по огромному полю, надеясь перейти линию фронта, но, судя по самолётам противника, летящим на восток, сделать это было невозможно. Приближаясь к исходу поля, он увидел неясные фигуры людей, скрытых утренним туманом, они показывали на него руками и что-то кричали на незнакомом языке. Он поднял руки и медленно пошёл к ним. Дальше был плен. И вот однажды, проезжая те украинские земли, я вглядывался в даль, в сырую дымку, в мелкий дождь, силясь разглядеть одинокую фигурку моего отца, медленно бредущего по полю с поднятыми руками навстречу неизвестности. Мне показалось, что это поле, которое мы проезжали, именно то, где это случилось. Я вышел из автобуса и побрёл по колено в мокрой траве в сторону леса. Влажный туман окутывал моё тело, перенося в прошлое. Этой земле, траве и влаге было всё равно, кто находится здесь и сейчас. Может, это был я или мой отец. Время остановилось и понеслось вспять. Всё вокруг обернулось бесконечностью. Мой путь по этому полю стал вечным возвращением, символом пути и памяти. Когда я увидел туманные очертания деревьев вдали, то ощутил тот самый страх, который испытывал мой отец, когда увидел тёмные деревья и немецких солдат с оружием, направленным в его сторону. На какое-то время я стал своим отцом, потеряв себя, как теряет своё обозначение человек, оказавшийся в глухой степи, на пустырях, в лесу, без дороги. Всё осталось только в памяти, но и она уже не нужна в этих местах, а есть только твоё пустое тело, невесомое, как стебель сухой кукурузы, и почти незаметная тропинка, ведущая куда-то в туман. Наверное, ожидание смерти сродни ходьбе по такой дороге. На чёрно-белой фотографии виден человек с поднятыми руками. Он приходит к нам без оружия, без нажитого скарба, потерявший всё, один как перст. Невозможно различить его лица. Приближаясь к нему, мы всё равно не можем понять, кто же это. Он так далёк, что, кажется, сейчас он растворится в тумане, исчезнет как дым. Он — это я, мой отец, твой отец, ты сам, стоящий в поле, между землёй и небом, в пустоте, как частичка немой вечности, сама вечность…
Больше всего Леонтий любил пустыри, окраинные поля, пустоши и заброшенные огороды. Протоптанные тропинки внушали страх, ходят здесь люди, а кто они, леший знает… лучше не встречаться. А на пустых плоских пространствах можно идти в разные стороны, огибая только заросли крапивы и сырые овраги. На пустырях всегда найдёшь тихую, поросшую нежной травой полянку, окружённую высокими лопухами, ревенем, иван-чаем, золотыми шарами, видимо, недалеко стоял домик или баня. За пустырём возвышалась огромная свалка металлического лома, через заброшенный огород вела к ней тайная тропинка, к забору, в котором была сделанная кем-то дырка. На свалке лежали в беспорядке ржавые спинки кроватей, панцирные сетки, скрученные трубы, рельсы и путевые костыли. Среди всего этого металла было много военного лома: гусеницы танков, пробитые каски, детали пулемётов и винтовок, фляжки, штыки. Леонтий после каждой вылазки на свалку приносил домой что-то из оружия, в этот раз им был найден четырёхгранный игольчатый штык. Штык был тяжёлый, длинный, кончик походил на отвёртку, он легко входил в землю, чуть нажал — и вот он уже весь в земле. Ночью штык приснился Леонтию, только он уже был не ржавый, а глубоко чёрный, отполированный до блеска, огромный, он летел по небу, пронизывая облака. Облака разъезжались, разваливались на ломти, обнажая внутренности, те вываливались, клубясь, извиваясь, как кишки, розовые то ли от крови, то ли от закатного солнца, шлёпались на землю и медленно таяли, оставляя красные клочья на траве. Некоторым облакам удавалось увернуться от злобного штыка, но он разворачивался и гнался за ними, пока не настигал, и погружал иглу прямо в небесное тело. Леонтий пытался кричать, махал руками, требовал от штыка прекратить убийство облаков, но тот не слушал его, а всё метался по небосводу, разрезая облачные толпы, которые всё редели и редели, пока не осталось одно-единственное маленькое облачко над горой Кукан. Штык разогнался что есть силы и молча вонзился прямо в центр кудлатого облака, из него брызнули капли то ли дождя, то ли крови, облако охнуло, вскинуло крылья и рухнуло за гору. Леонтий попробовал побежать туда, куда упало облако, но ноги не слушались его, он не мог преодолеть плотность воздуха, помогал себе руками, однако сон удерживал его, тогда Леонтий решил закричать, но только открыл рот и зашлёпал губами, как рыба, — сон навалился на него всей своей влажной тяжестью, немотой и бесконечностью. Утром Леонтий вытащил штык из сундука и отнёс его обратно на свалку, бросил рядом с другим железом. В тот же день огромный магнит забрал его вместе с остальным ломом, и локомотив увёз штык в доменный цех. Там штык растворился в огне, превратился в горсть горячего металла, а потом слился с другими металлами, чтобы снова застыть, но уже не оружием, а просто куском бесформенного железа. Облака тихо проплывали над головой Леонтия, то скрывая солнце, то открывая синее небо. Война закончилась и долго ещё не будет.
А вот когда пожил немного, повзрослел водолаз, — провожают его в армию, собираются всем селом, не то чтобы горюют, но как-то кручинятся — надолго уходит водолаз из семьи, куда именно, точно не знают, куда-то на запад, где стоит глинобитная Крепость, форпост страны Водолазов, от стен которой простирается бесконечная пустыня, растворённая в мареве тёплого воздуха до полной неразличимости, до боли в глазах.
Этот форпост для водолазов — что обсерватория для людей. Сидят водолазы у маленьких окон и смотрят вдаль, напрягают зрение, изучают мерцание песка и пыли, завихрения тёплых струй то ли воздуха, то ли воды, поднимающихся над горизонтом. Силятся водолазы различить, обозначить силуэты существ вдалеке, зарисовывают грифельком всяческие артефакты, описывают непонятные явления. Каждый месяц посылают водолазы отчёты, что они видели, реально всё то, что они наблюдали, или это лишь знаки и символы бесконечности, а не воображаемый противник водолазов. А так как противник воображаемый, сама армия водолазов вооружена воображаемым оружием, — каждый водолаз представляет себе, что есть у него пушка или автомат, кто-то мечтает о сабле или кортике, кто-то о самурайском мече. В центре форпоста стоит длинная казарма с нарами, длинной в двести метров, на них лежат водолазы и мечтают. Основное занятие солдат — возлежание на полатях и мечтание, после сон, а по пробуждении — наблюдение, вахта у окон крепости. После вахты — сон и мечта. О чём только не мечтают водолазы! Ну, вы можете себе представить, если когда-нибудь сами мечтали. Не зря говорят, что армия — это школа жизни. После армии водолаз не нуждается в суетном, чём-то мелком, всё у него перед глазами, как только он включает силу своего воображения. Цветным, как экран телевизора, становится его наблюдательное окошко, шлем наполняется звуками, голосами и пением. Иногда можно слышать тихую музыку, шорох прибоя, шёпот звёзд, шелест шёлка, запах фиалок.
Умань
Что осталось от отца? Коричневое большое пальто, чехословацкий тёмно-синий плащ, полосатый галстук, шляпа из синтетической сеточки, пустой картонный чемодан, обтянутый чёрным ледерином, в углу которого я нашёл маленькую металлическую пуговицу от гимнастёрки. Эта почерневшая от времени, пришедшая с войны пуговица со звездой и серпом и молотом единственная «награда», которую оставил мне вместо боевых наград, которых не получил, мой отец. И начинает расти эта пуговица, становится огромной, заполняя комнату, оставаясь со мной надолго. Кто может изменить что уже совершилось, как изменить совершённое время, да и нужно ли? Для меня самого и для настоящего я копаюсь в прошлом, вытягивая новые и новые факты, которые превращают маленькую пуговицу с гимнастёрки отца в огромную сферу, в ней отражается моя судьба, на которую натягивается моё существование, как худой носок, и я сажусь с тонкой иглой, чтобы штопать множественные дырки прошлого.
Совсем недавно я нашёл в Интернете справку НКВД, касающуюся военной судьбы моего отца, которого нет на свете уже более тридцати лет. В ней было указано, что командир взвода политрук Александр Иванович Тишков, 1912 г. р., попал в немецкий плен 10 августа 1941 года у села Подвысокое. И тогда я узнал, что это место в Кировоградской области вошло в историю как Уманский котёл, в котором были окружены 6-я, 12-я и 26-я армии Южного и Юго-Западного фронта, погибли десятки тысяч, а сотни тысяч советских солдат и офицеров были пленены наступающими немецкими войсками. Все, кто выжил в этом аду и вернулся из плена, были обязаны не рассказывать о тех событиях.
Отец был тогда командиром взвода, на фотографии у него три «кубаря» на петлице, вверху звезда и пушки крест-накрест. Окружение началось 1 августа, в плен мой отец попал 10 августа, значит, в течение десяти дней он со своим взводом и тремя пушками пытался обороняться и прорвать окружение. Окружённые войска сконцентрировались в Зелёной браме, обширной дубовой роще, куда были загнаны остатки советских армий, а когда кончились боеприпасы, еда и вода, они выходили из леса в поля, уничтожив технику и документы, сорвав отличительные знаки, пытались пройти через немецкие кордоны в тыл, но тыла не было, везде были враги. Отовсюду: из дубрав, глубоких оврагов, сёл и неубранных полей медленно выходили небольшие группы и брели к просёлочным дорогам. Оторванные от своих частей, брошенные командованием, голодные и зачастую раненые, они поднимали руки вверх, когда их окружали немецкие войска. Среди них шёл и мой отец.
«Захваченные в плен наши товарищи томятся в загонах, в колхозных конюшнях, на скотных дворах. Постепенно свою добычу — раненых и обессиленных бойцов — конвойные команды гонят в Умань, в то страшное место, которое останется в истории под именем Уманьской ямы. В воздухе стоял смрад, с полей ветер приносил запах смерти, вокруг Зелёной брамы, на берегах Ятрани и Синюхи, действительно выросли холмы трупов. Для сбора погибших советских военнослужащих немцы и местные полицаи сгоняли женщин с грубыми домоткаными ряднами. Трупы не считали, не опознавали, а сбрасывали в воронки от разрывов бомб и снарядов или в окопы и ровняли их с землёй». Это из книги поэта, тогда военного журналиста Долматовского, бывшего среди военнопленных.
Я нашёл фотографию этого лагеря. Несметное количество людей (в докладах немецкого командования фигурировала цифра 103 тысячи советских пленных), скученное, спрессованное в глиняном карьере недалеко от Умани, серая безликая масса, без конца и края, снятая немецким фотографом с немым безразличием, как пейзаж. На ней написано: «Негатив № 1. 13/22. Умань, Украина, страна — Россия. Дата съёмки 14 августа 1941 г. 50 тыс. русских собрано в лагере военнослужащих в Умани».
Я всматриваюсь в эту фотографию, увеличиваю на экране компьютера каждого человека, пытаюсь разглядеть лицо, вдруг я увижу своего отца среди пленных, я наверняка узнаю его, я видел фотографии его в военной форме ещё до войны, но нет, это другие люди, его никак не могу найти. Я хочу разыскать этот негатив и увеличить фотографию до такой степени, чтобы люди на нём стали в рост наш, чтобы этот документ вырос до небес, окружил меня, и я бы оказался внутри него. И тогда я бы ходил от человека к человеку, заглядывал бы им в лицо и нашёл бы своего отца, хотя вряд ли смог бы ему помочь и забрать его оттуда.
Сколько времени немцы продержали там отца, я не знаю, полгода, год, есть факты, что эта Уманьская яма была полная людьми ещё два года. Пленных не кормили, а просто сбрасывали им трупы лошадей, и они варили в ржавых консервных банках конину, пили дождевую воду из луж, жевали глину, копали норы, чтобы спастись от холода. Каждое утро конвой заставлял выносить трупы умерших из ямы, и так много дней. Немцы были не готовы принять столько пленных, поэтому эвакуация из Умани шла медленно, может, они ждали, что все просто-напросто умрут от холода и голода.
Позднее из лагеря под Уманью отец был перемещён в колонне, пешим порядком, без пищи, без воды, то изнывая от жары, то коченея от холода, на станцию, потом в товарных вагонах в кандалах несколько дней везли на место заточения, в «Шталаг 326» (Stalag-326 VI-K или Stalag Kriegsgefangenen Mannschatsstammlager), Германия, Форелькруг-Зенне Штукенброк. Про этот лагерь я буду ещё долго помнить, отец почти ничего не рассказывал, но мне стало известно, что когда пленных привезли в землю Северный Рейн-Вестфалия, рядом с городком Штукенброк, то выгнали всех в чистое поле и заставили рыть землянки, потому что лагерные бараки ещё не были построены. Эта земля была более щедра, чем глина Умани, в ней пленные находили червей и ели их, чтобы утолить голод. Там им пришлось работать на угольных шахтах под окрики и избиения конвойными, несколько лет, пока шла война. Отец рассказывал, что носили они деревянные башмаки, колодки, что иногда немки приходили к изгороди с хлебом и давали им. Когда 4 апреля 1945 года их освободили американские войска, открыв ворота, все пленные, исхудалые, немощные, вышли в ближайший городок и стали забирать продукты из лавок, консервы, шнапс и другую пищу, а потом возвращались в свои бараки, ведь это был их единственный дом. К вечеру некоторые умерли от водянки, почки и печень не выдержали обилия пищи после нескольких лет голода. Через три дня пришли советские войска, всех загнали обратно в лагерь и постепенно вывезли бывших пленных на проверку. Сейчас этого лагеря нет, но осталось кладбище на его месте, на котором покоятся больше 60 тысяч советских солдат и офицеров, умерших в «Шталаге 326».
Домой на Урал он вернулся в декабре 1945-го из спецлагеря НКВД «Борисенко» во Франкфурте-на-Одере, где проходил «фильтрацию» и дал подписку о неразглашении Уманьской трагедии. Долгое время после окончания войны его не звали на торжественные собрания в честь Победы. Я помню, что только в начале 60-х годов он получил первую памятную медаль за победу над Германией, для него это было огромное счастье. Всю свою послевоенную жизнь он работал в Нижне-Сергинской школе № 2 учителем географии, военного дела и физкультуры, не восстановился в партии, вырастил с матерью, тоже учительницей, троих сыновей и умер от инфаркта, прожив семьдесят лет. На вопросы о войне ничего не отвечал, но словно тени падали на его лицо. Теперь я понимаю, что это были тени Уманьской ямы, призраки неволи и вечное присутствие страха и боли, долгое ожидание смерти, которая была всегда рядом.
Тени эти преследуют и меня, ведь я сын своего отца, я всегда знал, что что-то со мной не в порядке, что-то прячется неявленное внутри моей памяти. Думаю, это было то, от чего берёг меня мой отец, не рассказывая нам все ужасы, которые настигли его во время войны, — что ворошить былое, угли ещё тлеют под золой. Видимо, это всё передаётся с кровью. Вот я, уже рождённый после войны, через семь лет после возвращения отца, всё продолжаю нести эту страшную ношу памяти, ношу своего отца через его поле, хотя руки мои, вздернутые к небу, пусты, я только немного сутулюсь, как будто что-то висит у меня за спиной. А на левом предплечье проявились синие цифры 128479, номер военнопленного Тишкова Александра Ивановича.
Леонтий поднял один из камней и увидел дождевых червей, они вздрогнули от света и поторопились скрыться в мягкой чёрной земле, но мальчик схватил одного и ловко вытянул на поверхность. Через полчаса он собрал целую жестяную банку червей, вышел на окраину огорода, открыл калитку и спустился к пруду. Здесь, на кромке берега, он сделал из песка небольшую площадку, утоптал её, из глины построил заборчик, который быстро затвердел на солнце. Справа в углу из палочек возвёл сторожевую башню с крышей из щепок. Потом высыпал червей в утрамбованный песок. Черви расползлись по периметру площадки. Они не могли спрятаться в землю, если один из них пытался перелезть через преграду, то Леонтий сбрасывал его палочкой внутрь огороженного пространства. Это был «концлагерь» для червей, здесь они должны томиться и умереть. Полуденное солнце грело вовсю, черви сворачивались, соединяясь в кубки, потом тихо ползли вдоль ограды и замирали, высушенные жарой. Мальчик собрал их в банку и выбросил в пруд. Они медленно тонули, белые, неживые, как верёвки, падая на илистое дно, пропадая из виду. Леонтий растоптал площадку, разломал вышку, сровнял с землёй остатки своего «концлагеря», сел на мягкую прибрежную траву и долго смотрел на тёмную воду, которая то становилась зелёной, то синей, то вдруг серебрилась от порыва ветра. Что-то заскрежетало, ухнуло за плотиной, из красной заводской трубы пошёл чёрный дым, рваная тень набежала на воду, на маленького мальчика, одиноко сидящего на берегу, потом побежала дальше, на Изволок, за Дунай, в сторону Атига.
Я приехал осенью в деревню Уваровка на западе Московской области в наш деревенский дом, купленный много лет назад моей тёщей у жительницы Можайска, мать которой прожила в деревне, в этом доме на улице 2-я Ленинградская всю жизнь. Мы оставили все её вещи, табуретки, шкафчики, скамейки, занавески и икону с тремя святыми мучениками Гурием, Самоном и Авивом. За окном рос яблоневый сад. Под одной из яблонь, самой старой и покалеченной, с забинтованным стволом, но всё ещё с полными «антоновкой» ветвями, я обнаружил в земле заржавевшую немецкую каску с пулевым отверстием, пуля задела край железа, и, видимо, этот выстрел стал смертельным для солдата. Вокруг на траве лежали упавшие с ветвей яблоки, огромные, яркие, жёлто-зелёные, они наполняли яблочным запахом весь сад. Я набрал в каску яблоки, принёс в дом и положил на кровать. Яблок было так много, что я ходил в сад и долго собирал их, складывая на покрывало. Под вечер в избе стемнело, и мне показалось, что на кровати кто-то лежит. Да это же яблочный человек, как я не узнал его сразу.Имя его, наверно, нет, точно — Apfelmensch. Во время войны в этом саду или где-то рядом проходила линия фронта, и погиб какой-то немецкий солдат, его похоронили неглубоко под этой яблоней. Теперь частичка плоти, ставшая землёй сада, питает дерево и яблоки уже много лет. И в каждом антоновском яблоке есть что-то от этого человека. Я собрал яблоки в корзину, переложив каждое сухим мхом, и стал ждать, когда можно будет увезти яблочного человека на его родину. Пусть хотя бы малая частица, маленькое яблочное семя вернётся на землю, где он родился человеком, вырос, но началась война, его призвали в Вермахт, отправили в Россию, где он нашёл свою смерть. Когда-нибудь я повезу яблоки от своей уваровской яблони в Германию или может быть в Пруссию, раздам случайным посетителям моей выставки ароматную жёлто-зелёную «антоновку». И каждый съест яблоко, в котором живут атомы безымянного немецкого солдата. Так вернётся на родину солдат Apfelmensch и, может быть, мы все на нашей и на той земле забудем ту войну, которая была так безжалостна к нашим отцам.
Прошлым летом в июле, никак на Троицу не попадаю, я навестил наше кладбище, рядом с моими родителями появилась свежая могилка. Здесь покоится Полина Алексеевна Тягунова, 96 лет, по метрике — Пелагея Алексеевна, пусть земля будет ей пухом. Прожила длинную-длинную жизнь, родилась в Нижних Сергах, здесь же и умерла. На жестяном столе Тягуновых красной скатертью лежат иголки стройной сосны, что выросла из могильной земли. И у Александра Ивановича с Ираидой Александровной повсюду лежат иголки, выросла пижма, зеленеют кустики земляники. Я сорвал красную ароматную ягодку, вкус её был такой же, как в детстве. Только печальней, какой-то предвечный незабываемый вкус.
В один из холодных дней декабря, катаясь на лыжах возле разрушенной церкви села Дьяково, Леонтий увидел помороженного ангела. Он лежал с закрытыми глазами у деревянного поваленного забора, припорошённый снегом, еле шевеля заиндевелыми крыльями. Одет он был бедно, в какую-то старую рваную хламиду, ноги босые, с длинными чёрными ногтями. Вокруг не было ни души, и Леонтию пришлось самому отнести его на дорогу, взвалив на плечи, как мешок с картошкой. Хотя ангел был пожилым и крупным, его тело казалось невесомым. Когда Леонтий нёс ангела, он прошептал ему: «Возьми мой желудок». Показалось, подумал Леонтий. На проспекте Андропова он увидел «скорую помощь» и передал помороженного ангела врачам.
Через три дня в институте, где учился Леонтий, в Абрикосовском переулке проходило очередное занятие по патологической анатомии. Как всегда в аудиторию на каталке привезли умершего, — и какое было удивление и печаль — на мраморный стол положили того самого ангела. Вскрытие показало, что многие органы ангела были отморожены, а умер он от сильного переохлаждения. Когда собрались зашивать труп, бросил внутренности в полость ангелова тела и хотел положить туда же для наполненности крылья, Леонтий остановил, попросив крылья отдать ему. И тут вспомнил, что ангел сказал ему тогда, у забора, когда он нёс его: «Возьми мой желудок». Леонтий отыскал среди внутренностей желудок ангела, завернул в кусок марли вместе с крыльями и унёс органы помороженного ангела домой. Дома он завернул крылья в старую газету и спрятал на дне чемодана. Когда же Леонтий обмыл желудок под струёй тёплой воды в ванной, то увидел, что он был из хрусталя. Весь хрустальный, желудок ангела излучал небесный свет. Где-то в глубине гранёной слизистой мерцала голубая душа, освещая вокруг предметы. Леонтий аккуратно положил желудок рядом с крыльями, прикрыл старой фланелевой рубашкой, закрыл чемодан и лёг спать.
Иногда, когда дома никого нет, Леонтий достаёт хрустальный желудок и крылья ангела и смотрит в прозрачную глубь хрусталя, и ему кажется, что он видит тень души ангела, заключённой внутри желудка. Леонтий знал: если привязать крылья к спине и разбить хрустальный желудок, то можно будет увидеть очертания самого ангела в хрустальных осколках, и душа ангела вселится в него. Тогда он прицепит свои деревянные лыжи к ботинкам, откроет окно, оторвав уже ненужные бумажные ленты, которыми обклеили когда-то рамы, оттолкнётся палками от подоконника и прыгнет в небесную даль. Люди внизу поднимут головы и скажут: «Смотри, небесный лыжник! Смотри скорей, там над крышами!». «Где? — спросит зазевавшийся. — Не вижу…». Только две белые полоски останутся на голубом небе на короткое время, а после медленно исчезнут, размытые весенним ветром.
Гора Кукан
Мне не нравится что я смертен,
мне жалко что я не точен,
многим многим лучше, поверьте,
частица дня единица ночи.
Ещё есть у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия.
Ал. Введенский
Чёрный дым поднимался над Больничной и Кабацкой горами. Это разжигали домну. Или мартеновскую печь. В чём их различие, я не знал. Детей не водили на завод, не пускали в «горячий» цех. Это опасно, повсюду горит металл, шихта, шлак, грязь и копоть, говорили взрослые. Днём и ночью шумели печи, грохотало железо, из кирпичной трубы время от времени вырывались клубы дыма, который рассеивался над городком, прудом и горами. Плотный запах сажи стоял в воздухе, такой родной, сладкий запах моего детства. Сейчас, приезжая, я не чувствую его в воздухе, давно не топят доменные печи углём, да и самих этих печей уже нет. Чёрные деревянные дома на улице Федотова хранят в срубах стен и досках ворот столетнюю копоть, ту самую, что летела годами из труб завода. Всё покрывалось ею — и дома, и дороги, и сами люди. Зимой выходишь на улицу, а снег весь в чёрной пудре! Если разрежешь лопатой сугроб — будет тебе обгорелый слоеный торт. Весной, когда стаивал снег, эта сажа покрывала землю плотным чёрным ковром, пока дожди не смывали, не уносили её в пруд. Может быть, поэтому гора Кукан над моей улицей стояла двести лет лысой, покрытая лишь травяной шалью. Тихо рос один маленький кривоватый еловый лесок на склоне, да серые в пятнах лишайников камни-валуны то тут, то там. Мать рассказывала, что она ещё девочкой играла с подружками в этом леске. И мы с братьями любили подниматься на Кукан, валяться в сухой тёплой траве среди колокольчиков под куполом голубого неба, обрамлённого кудрявыми облаками.
А сейчас за последние несколько лет вдруг стал Кукан зарастать ёлками, рябинками, берёзками, иргой и боярышником. Теперь зимой в Сергах белым-бело, воздух чист и прозрачен, пахнет морозной хвоей, а я всё вспоминаю дым из красной кирпичной трубы, от которого снег становился чёрным. И тоскую о сладком, родном запахе моего детства, который исчез навсегда.
Леонтий причалил лодку к берегу недалеко от Плоского камня, затащил нос на песочек, вёсла спрятал в кустах малины. Поднялся по сухому склону, покрытому бесчисленным количеством сосновых иголок, пересёк тропу и пошёл сквозь заросли иван-чая на верхушку горы, где стояли серые, поросшие мхом скалы, одна из них выделялась своей мощью, целенаправленностью в небо, на макушке этого огромного камня росли маленькие берёзы и сосенки. Леонтий карабкался по скале, преодолевая небольшие зазоры между каменистыми уступами, долго искал путь наверх, он был скрыт еловыми ветвями, поднырнул под них и, наконец, взошёл на самую верхушку скалы. Это был округлый, с углублением посередине, могучий камень, заросший с одной стороны мхом, камень был тёплый, прогретый солнцем, серо-синий, в пятнах серого лишайника с красной каймой. На камне за многие годы образовался островок почвы, на нём росли нежная берёзка, небольшая рябина, трава-мурава. Камень возвышался над другими камнями, казалось, он парил над лесом, с него можно было видеть красные верхушки сосен, сквозь которые просвечивало огромное зеркало пруда. Пруд раскинулся крыльями, местами ветер взъерошивал перьями гладь воды, рябь то застывала, то бежала куда-то, замирая в зарослях водорослей. На выглаженной ветром поверхности пруда размеренно плыли отражения облаков, бокастых, окрылённых завитушками, плотных, как сугробы залежалого снега, вода окрашивала их в зеленоватый цвет, хотя сами они были белые до рези в глазах, на фоне синего неба они казались ещё белее, чем были на самом деле.
Леонтий стоял на камне, укрытый верхушкой огромной сосны, слева от ветра его заслоняла рябина, впереди, ухватившись корешком, росла берёза, искривлённая ветром, она не сдавалась, тянулась ввысь, питаясь мягкой землёй из каменной горсти, которую держала высоко над прудом серая могучая скала-камень. Солнце скользило по ярко-зелёным берёзовым листьям, по ветвям рябины, падало на серый камень, на мох, на тёплую траву, разбиваясь на сотни осколков. Леонтий почувствовал, как внутри живота загорается солнечный свет, солнечное сплетение вдруг распустилось огненными лепестками, вверх, вниз, окутал пах, наполнил кровью его фаллос. Горячая волна приподнялась вверх, толчками стала рваться в небо, в облака. Леонтий расстегнул брюки, и яркий столб вырвался из темноты и устремился вверх, как бы продолжая движение скалы. Ослепительная вспышка нового солнца озарила Леонтия, волна радости захлестнула его, дрожь пронеслась по телу, и вверх вырвалась матово-янтарная жидкость, прямо в облака, оросив скалу, мох, горсть земли на скале. И камень принял её, легко, просто, впитав огненные капли, которые вышли из его тела. Мир замер вокруг, ветер стих, облако нашло на солнце, голубая чаша неба опрокинулась, Леонтий стал лёгкий, как лист, опустился на мягкий тёплый мох, закрыл глаза и замер. Земля поглотила его дар, сотни тысяч жизненных искр, исторгнутых Леонтием, вошли в неё. И земля ответила ему любовью, той самой любовью, которая потом вырастет цветами, деревьями, грибами, мхом, бабочками, кузнечиками, ящерицами и всем живым, что исходило всегда из земли. И ещё она одарит Леонтия своей силой, той самой родной силой, из которой он сам произрос, откуда он появился со всеми своими живыми и мёртвыми.
Есть среди водолазов те, кто хранит в себе кроме тепла свет. Внутренний свет водолазов обитает внутри скафандра, пронизывая органы водолаза вдоль и поперёк, умножаясь в бесчисленных отражениях от внутренней оболочки водолаза. Почти всегда он вырывается наружу, как свет солнца, если бы вы спрятали солнце за пазуху своего тяжёлого драпового пальто. Обладающие светом водолазы излучают его через голову, освещая мир, который у них перед глазами. Этот свет, льющийся из наблюдательного оконца, преображает тёмный и одноцветный мир. Куда ни повернёт светоносный водолаз свою голову, куда ни посмотрит, — всё там другое, камни начинают отражать свет, искриться и переливаться всеми цветами радуги, веточки и пылинки становятся драгоценностями, встречные водолазы отливать красной медью голов и поражать красотой бархата своей кожи. Даже во время осеннего серого дождя такой водолаз может создать саму радугу перед собой, такую маленькую личную радугу, которая будет сопровождать его на прогулке. Обычно радужные водолазы не одиноки, вокруг них собираются другие водолазы, лишённые возможности светиться, кто-то из праздного любопытства, а кто-то из искреннего желания увидеть радужный мир хотя бы краешком глаза, со стороны, чтобы почувствовать красоту мира и, может быть, когда-нибудь научиться выращивать световое существо внутри своего существа.
Водолаз, который хоть однажды начал светиться, не останавливается. Чем сильнее свет выходит из его сердца — тем ярче и прекрасней мир вокруг, тем могущественней радуги, окружающие водолаза. А само тело водолаза, производящее свет, становится тенью своего света. Сам свет становится объёмным и густым, в нём начинают образовываться световые органы — немного похожие на те, что были когда-то в теле водолаза. Последней в световое тело перемещается душа, она легко покидает тело водолаза, ставшее тенью, которая плавно падает на землю. И вот уже стоит световой столб с очертаниями водолаза, а рядом с ним на земле лежит его чёрная оболочка — тень, похожая на тонкий скафандр, который когда-то был водолазом, ходил в тяжёлых башмаках, тянул за собой длинный шланг, вертел медным шлемом в разные стороны. В общем, жил, как все.
Иногда водолазы видят, как где-то вдалеке, вдруг образуется комета, но не падающая, как обычно, а возносящаяся вверх, от тёмной земли куда-то в небеса, за облака. Она становится высокой башней, столбом белого света, вершина которого теряется в космосе. Не пропадая, не уменьшая свечение, не колеблясь, стоит во множестве этот свет на земле водолазов, освещая всё вокруг, как небесный лес огромных лучезарных сосен, манящий водолазов миллионами радуг, приглашающий к преображению.
Пейзаж за окном замедлился, дёрнулся и замер. Поезд остановился, можно сходить, но я так и сижу на скамье, не выхожу, смотрю в окно, за которым видны край облезлого станционного здания, чёрные голые деревья, за ними огромная скала с крошечным силуэтом безрогого оленя. Все пассажиры уже вышли, а я, похоже, не выйду из поезда, а дождусь, когда свистнет паровоз, пустит пары и поедет обратно. Потому что того города, где я родился и вырос, уже нет, он провалился в гигантскую яму, которую вырыли экскаваторы на Кабацкой горе. Они рыли её многие годы, бессмысленно и страшно уродуя тело горы, как белые медведи, отрывающие куски мяса со спины мёртвого кита, лежащего на берегу арктического острова. Со временем котлован приобрёл ужасающие размеры, подкопанные края его рушились, увлекая деревья и кусты, за ними сползала внутрь ямы зелёная кожа горы вместе с колокольчиками, ромашками, луговой травой, всё поглощала эта красная дыра, похожая на вход в Аид.
Но когда люди дорыли до настоящего входа в преисподнюю, они не сразу поняли, почему земля под их ногами дрогнула и разверзлась, недоумевая, они рухнули в яму вместе со своими грейдерами, бульдозерами и экскаваторами, посыпались, как горох, побиваемые камнями. Глина забивала им рты и уши, сланцевые камни давили на грудь, они обречённо смотрели на синий лоскуток неба, который становился всё меньше и меньше, потому что они падали вниз, туда, где черти готовили для них огромные чёрные сковородки, смазывая перьями ворон, пропитанных подсолнечным маслом.
Дыра всё росла и росла, захватывая в свою воронку окрестности. Камни, которые вытащили из неё за много лет, посыпались с улиц назад, да и сами улицы устремились вниз, увлекая прохожих с тяжёлыми сумками, набитые картошкой и макаронами. Вот и центральная улица Ленина с бетонными урнами и фонарными столбами поползла в яму, топорщась кусками старого асфальта, таща за корни, сросшиеся с асфальтом, гнилые пни спиленных когда-то тополей, полетели туда и авто, разнообразные иномарки, лады приоры, всякие колымаги, купленные на грабительские кредиты Сбербанка. Да и само здание Сбербанка тихо крякнуло, сложилось, как карточный домик, и посыпалось туда же вместе с банкоматами для выдачи денег и пенсионерами, стоящими в очереди для оплаты коммунальных повинностей.
За Сбербанком пришла очередь кинотеатра «Авангард», превращённого ушлыми коммерсантами в кафе, он рассыпался в труху, только и осталась целой вывеска, и она канула в вечность, за ним разрушилась заводская столовая «Сказка». Кто половчее, помоложе — успел выбежать из столовой, но там их накрыла огромная стена Завода, стан «250» рухнул, подняв клубы цементной пыли, огромная кирпичная труба повалилась набок, кусок трубы с цифрами 1975 упал на крышу Первой школы, проломив три этажных перекрытия.
Дыра стала такой огромной, что занимала уже полгорода. Трещины в земле с грохотом разбегались в разные стороны, одна прошла под Домом культуры металлургов, разломив его, как пирог с капустой, облезлые колонны повалились, как пьяные, сшибая пивные ларьки и щиты с афишей футбольного матча команд «Металлург» — «Арти» и объявлением о покупке волос. Другая трещина подошла близко к берегу пруда, к мостику у самого края плотины, с которого когда-то стартовали лодки на День металлургов, в советские времена здесь соревновались гребцы, кто быстрее пересечёт пруд и получит премию: сапоги, фуфайку или утюг. Трещина ткнулась в камешек, на котором сидел одинокий задумчивый рыбак, камень кувыркнулся и провалился вместе с рыбаком внутрь земли. И сразу вода хлынула туда же, загудев, закрутившись, как будто Левиафан схватил из-под земли синюю скатерть водохранилища и потянул с чудовищной силой вниз.
Лодки, стоявшие на приколе, плотики, колышки, осока и прибрежные ивы-берёзы были затянуты вмиг потоком воды и грязи в яму, поплыли избы, стоявшие на улице 22-го Партсъезда, разлетаясь по брёвнышкам, всё, что было вокруг пруда, было смыто безжалостной водой. Некоторое время какой-то отчаянный лодочник обречённо боролся с потоком, высоко вскидывая вёсла, направляя судно по направлению Вверх пруда, но увлекаемый водой сдался, упал на дно лодки, свернувшись в горошек, и канул в трещину.
К вечеру весь пруд ушёл под землю, оголив илистое дно, заваленное мёртвыми сучковатыми деревьями, ржавым железом, ещё живыми лещами, окунями и дохлой плотвой. Небольшая группа разнополых и разновозрастных людей, которым удалось спастись на горе Кукан, стояли на огромном сером ледниковом камне с бледными лицами, искажёнными страхом, печалью и отвращением. Они молча смотрели вниз на циклопическую яму, занимавшую почти всё пространство, где когда-то был их город. Всё, что составляло их жизнь, было в одночасье поглощено землёй, уничтожено беспощадной стихией, сметено, вырвано с корнями, навсегда умерло, превратилось в каменный прах и никогда не вернётся.
Среди этих людей, но немного с краю, стоял Леонтий, до этого локального Армагеддона он был здесь на Кукане, валялся в сухой траве, считал колокольчики, любовался причудливыми формами пробегающих облаков, ждал появления радуги после краткого дождика. Каждый день он поднимался на верхушку горы, чтобы гулять здесь до вечера. И в этот трагический день он был здесь. Леонтий видел разверзающуюся яму, поглощающую город, исчезающий пруд, видел, как карабкались вверх убегающие от гибели люди, помогал детям подняться на камень. На верхушке горы стало многолюдно, человек тридцать–сорок, те, кто успел покинуть рушащиеся дома и улицы, они молча смотрели вниз, где разворачивалась страшная картина гибели города.
Леонтий отвернулся от людей, вышел на край камня, раскрыл рюкзак и достал свои крылья. Бросил под камень ненужные вещи: курточку, заплечный мешок, айфон, кроссовки, так легче подняться в воздух, и закинул крылья за плечи. Крылья тут же вцепились маленькими острыми зубами в спину, напряглись, широко развернулись, наружная часть их изогнулась волной, перья раздвинулись и затрепетали. Леонтий оттолкнулся от замшелого края камня и прыгнул. Крылья налегли на воздух, зашлепали быстро и широко, как вёсла того самого лодочника, что пытался избежать гибели. У самых верхушек елей северо-западный ветер мягко подхватил летуна, раздувая рубашку, легко поднял под самые облака, и крылья плоско легли на воздух, ухватив волну. Сверху Леонтию открылась долина с чёрной бездной, она простиралась от Шолома до Больничной горы, шла по краю высокого берега реки до высоких скал курорта. На одной из них он увидел маленький силуэт безрогого оленя. И улыбнулся ему, как своему другу. В голове Леонтия зазвучала песня:
Умчи меня, олень,
В свою страну оленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живёт и небыль,
Умчи меня туда, лесной олень…
Этой зимой я закончил писать эту книгу. Вышел прогуляться под звёздами, снег хрустел под ногами, как яблоко. Вернулся домой и поставил валенки на батарею. На тёплых чёрных шерстяных волосках зажигались капельки чистой воды. В капельках отражались окно, герань на подоконнике, я сам, сидящий на табуретке. Я склонился к одной из капель и увидел лицо Леонтия, смотревшего на меня внимательно и отрешённо одновременно. Похоже, он не узнал меня, да и как он мог меня узнать, когда мы были незнакомы. Он жил в другие дни-ночи, он был ковёр и гортензия, я же всего лишь приблизительный человек, опустошённый временем и беспамятством, случай свёл нас на несколько минут, пока капля не высохнет, вот она высохла, и я остался один. Зима, как бы длинна и сурова она ни была, закончилась. Снежный покров сошёл, только в прохладных низинках ещё лежали голубые кристаллические островки снега, рядом с ними на мокрой чёрной земле белыми огоньками зажглись подснежники.
Нас там не было, уже не будет, но когда-нибудь придут туда другие люди. Возможно, придёт Леонтий, приду я, но мы этого никогда не узнаем, потому что свет — это река, которая течёт всегда в одну сторону.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






![Короткая лесбийская проза [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/490338/primary-medium.jpg)
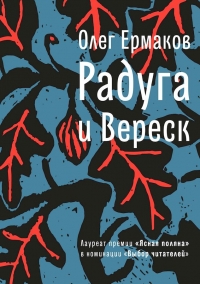

Комментарии к книге «Взгляни на дом свой», Леонид Александрович Тишков
Всего 0 комментариев