Моника Хессе Девушка в голубом пальто
Monica Hesse
Girl in the Blue Coat
© Фрадкина Е., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Моей сестре Пейдж и ее сестре Пайпер
Это было задолго до того, как умер Бас. Мы с ним поспорили: кто виноват в том, что он в меня влюбился? «Это твоя вина, – сказал он. – Потому что ты привлекательная». Я ответила, что он не прав: несправедливо обвинять меня в том, что он влюбился.
Я помню весь этот разговор. Мы сидели у него дома в гостиной и слушали радио. А еще я натаскивала его к экзамену по геометрии, который не особенно нас волновал. Американская певица Джуди Гарленд пела: «Ты заставила полюбить тебя» – и с этого начался наш спор. Бас сказал: «Ты заставила полюбить тебя». Я подняла его на смех, поскольку мне не хотелось, чтобы он заметил, как сильно бьется мое сердце. Это было от того, что он поставил рядом слова «полюбить» и «тебя».
Затем он обвинил меня в том, что хочет поцеловаться. А я сказала, что если позволю, то виноват будет он. И тут в комнату вошел его старший брат и заявил: «Вы оба виноваты в том, что у меня вянут уши от ваших разговоров».
И только позже, по дороге домой (тогда можно было идти домой, не опасаясь, что остановят солдаты, или что я пропущу комендантский час, или что меня арестуют), я вспомнила, что ничего не ответила. Он впервые признался в любви, а я забыла ответить.
Мне следовало это сделать. Если бы нам было известно все, что случится, и все, что мне откроется о любви и войне, я бы обязательно ответила.
Это моя вина.
Январь 1943
Глава 1
Вторник
– Привет, красотка. Что там у тебя? Есть что-нибудь хорошее для меня?
Я останавливаюсь, потому что солдат молод и красив, и у него приятный голос. А еще потому, что с ним было бы очень весело на дневном сеансе в кино.
Это ложь.
Я останавливаюсь, потому что от этого солдата может быть польза; потому что он может достать вещи, которые теперь нигде не достанешь; потому что ящики его комода, наверное, набиты плитками шоколада и носками без дырок на пальцах.
Но на самом деле и это неправда.
Впрочем, порой я игнорирую правду, поскольку легче считать, что я принимаю решения по разумным причинам. Легче притворяться, будто у меня есть выбор.
Я останавливаюсь, потому что на солдате зеленая форма. Да, вот единственная причина, по которой я останавливаюсь. Потому что его форма зеленая. А это значит, что у меня совсем нет выбора.
– Как много пакетов для такой хорошенькой девушки!
Он говорит по-голландски с легким акцентом, но меня удивляет, что он так хорошо владеет языком. Некоторые солдаты из Зеленой полиции совсем не владеют голландским. Их раздражает, когда мы не совсем бегло говорим по-немецки. Как будто мы должны были всю жизнь готовиться к тому дню, когда они оккупируют нашу страну!
Я останавливаюсь, но не слезаю с велосипеда.
– Пакетов как раз столько, сколько нужно.
– А что в них? – Он запускает руку в корзину, прикрепленную спереди.
– Вам бы хотелось взглянуть? Вам бы хотелось открыть все мои пакеты? – Я издаю смешок и опускаю ресницы, чтобы он не заметил, что это хорошо отработанная фраза. Я принимаю такую позу, что платье поднимается выше колена. И солдат это замечает. Платье темно-синее и поношенное. Ему немало лет – оно еще довоенное. Теперь оно стало мне тесновато. Я слегка изгибаюсь, и подол едет еще выше, обнажая бедро, покрытое гусиной кожей.
Было бы хуже, если бы солдат был старше, с морщинами или с испорченными зубами, или с обвислым животом. Да, было бы хуже, но я бы все равно с ним флиртовала. Я проделывала это много раз.
Он наклоняется ниже над рулем. У него за спиной темнеет Херенграхт[1], от которого воняет рыбой. Я могла бы столкнуть его в канал. И успела бы проехать полпути до дома на своем старом велосипеде, прежде чем он бы оттуда выбрался. Я люблю играть в такую игру с каждым Зеленым полицейским, который останавливает меня. Как мне тебя наказать? И как далеко я бы уехала, прежде чем ты меня бы поймал?
– Это книга, которую я везу домой, моей маме. – Я указываю на первый пакет, завернутый в бумагу. – А это картофель нам на ужин. А это свитер, который я только что забрала из починки.
– Hoe heet je? – спрашивает он. Он спрашивает мое имя небрежным тоном. Так спрашивает самоуверенный парень на вечеринке имя у некрасивой девушки. Мне становится легче, потому что я предпочитаю, чтобы он интересовался мной, а не пакетами в корзине.
– Ханнеке Баккер. – Нет никакого смысла лгать: ведь теперь все мы в обязательном порядке имеем при себе удостоверение личности. – А как ваше имя, солдат?
Он выпячивает грудь, когда я называю его солдатом. Молодые влюблены в свою форму. Солдат обрадовался, и я заметила, как у него на шее блеснуло золото.
– А что в вашем медальоне? – интересуюсь я.
Он перестает усмехаться, и его рука взлетает к медальону, который вылез из-под воротника. Медальон золотой, в форме сердечка. Вероятно, в нем фотография немецкой девушки с лицом, как яблочко, которая живет в Берлине. Она поклялась ему в верности. Это рискованный вопрос, но если я угадала, все кончится хорошо.
– Фотография вашей матери? Должно быть, она очень вас любит, раз подарила такой красивый медальон.
Его лицо заливается краской, и он засовывает медальон под накрахмаленный воротник.
– Или вашей сестры? – настаиваю я. – Или вашей любимой маленькой собачки? – Тут важно не переборщить. Мои слова должны быть достаточно наивными (чтобы он не разозлился), но в то же время достаточно наглыми (чтобы он предпочел не рыться в моей корзине). – Я не видела вас прежде, – продолжаю я. – Вы каждый день стоите на посту на этой улице?
– У меня нет времени на таких глупых девчонок, как ты. Езжай домой, Ханнеке.
Я кручу педали, и руль лишь слегка дрожит. В основном я сказала ему правду насчет моих пакетов. В первых трех действительно книга, свитер и несколько картофелин. Но под картофелем – на четыре талона сосисок, купленных на продуктовую карточку покойника; а под ними – помада и лосьоны, купленные на промтоварную карточку другого покойника. А еще ниже – сигареты и алкоголь, купленные на деньги, которые господин Крёк, мой хозяин, выдал мне сегодня утром для этой цели. Ни одна из этих вещей мне не принадлежит.
Большинство людей назвало бы меня торговкой с черного рынка. Я же предпочитаю считать себя искателем. Я нахожу разные товары: картофель, мясо и лярд. Вначале мне удавалось находить сахар и шоколад, но в последнее время с этим стало труднее, и я могу лишь изредка раздобыть их. Я нахожу чай. Я нахожу бекон. Богатые люди Амстердама благодаря мне не худеют. Я нахожу вещи, без которых нас заставили обходиться. Нужно только знать, где искать.
Жаль, что солдат не ответил на последний вопрос. Потому что, если это его новый пост и он стоит на углу каждый день, придется либо подружиться с ним, либо изменить маршрут.
Моя первая доставка сегодня была к фрёкен Аккерман. Она живет вместе с дедушкой и бабушкой в одном из старых зданий возле музея. Лосьоны и помада предназначены для нее. На прошлой неделе это были духи. Она одна из тех немногих женщин, которых все еще весьма интересуют такие вещи. Правда, как она мне однажды сказала, она надеется, что бойфренд сделает ей предложение еще до ее следующего дня рождения. Люди тратили деньги и на более странные вещи.
Фрёкен Аккерман открывает дверь. Ее мокрые волосы накручены на бигуди. Наверное, сегодня вечером у нее свидание с Тео.
– Ханнеке! Зайдите, я сейчас возьму кошелек. – Она всегда находит предлог, чтобы пригласить меня в дом. Наверное, ей скучно – ведь она проводит целый день со своими стариками, которые очень громко говорят и от которых пахнет капустой.
В доме спертый воздух и слабое освещение. Дедушка фрёкен Аккерман сидит за завтраком на кухне – его видно в открытую дверь.
– Кто пришел? – кричит он.
– Это доставка, дедушка, – бросает через плечо фрёкен Аккерман.
– Кто-кто?
– Это ко мне. – Она понижает голос. – Ханнеке, вы должны мне помочь. Тео придет вечером, чтобы спросить у дедушки с бабушкой разрешения на мой переезд в его квартиру. Мне нужно решить, что надеть, и я хочу с вами посоветоваться.
Я не могу вообразить такое платье, которое убедило бы стариков одобрить решение внучки жить вместе с бойфрендом до свадьбы. Правда, война не впервые заставляет молодую пару пренебречь традициями.
Когда фрёкен Аккерман возвращается в прихожую, я притворяюсь, будто внимательно рассматриваю два платья, которые она купила. Но на самом деле я смотрю на часы на стене: у меня нет времени для светского общения. Посоветовав надеть серое, я протягиваю пакеты, которые так и держу в руках.
– Это ваши. Вы не хотите убедиться, что все в порядке?
– Я уверена, что все хорошо. Выпьете кофе?
Я и не думаю спрашивать, настоящий ли он. У нее мог быть настоящий кофе, только если бы его принесла я. Но я не приносила, так что она имеет в виду молотые желуди. Эрзац.
Я отказываюсь от кофе по той же причине, по которой не соглашаюсь называть ее Ирен, несмотря на неоднократные предложения. Дело в том, что я не хочу, чтобы она путала наши отношения с дружбой. Мне не хочется, чтобы она однажды не заплатила и считала, что это не важно.
– Я не могу. У меня еще одна доставка до ланча.
– Вы уверены? Вы могли бы поесть со мной – я как раз собираюсь готовить. А потом мы бы решили, какую прическу мне сделать на вечер.
У меня с моими клиентами странные отношения. Они полагают, что мы товарищи, так как нас связывает секрет. Ведь мы делаем вместе что-то незаконное.
– Я всегда возвращаюсь к ланчу домой и ем с родителями, – говорю я.
– Конечно, Ханнеке. – Она смутилась от того, что слишком далеко зашла. – Ну что же, тогда до встречи.
Снаружи пасмурно, небо покрыто облаками. Я еду по узким улочкам зимнего Амстердама. Амстердам построен на каналах. Земля в Голландии низкая – даже ниже уровня океана. Столетия назад фермеры создали сложную систему водных путей – просто чтобы не дать голландцам утонуть в Северном море. Мой старый учитель обычно сопровождал этот кусок нашей истории популярной пословицей: «Бог создал мир, а голландцы создали Нидерланды». Он говорил об этом с гордостью, но для меня эта пословица была и предостережением: «Не надейся, что кто-нибудь придет и спасет нас. Мы здесь одни».
Два с половиной года назад, в начале оккупации, немецкие самолеты бомбили Роттердам, который находится в семидесяти пяти километрах к югу от Амстердама. Они убили девятьсот гражданских лиц и разрушили много зданий. Через два дня немцы прибыли в Амстердам пешком. Теперь приходится мириться с их присутствием, но нам нужно сохранить свои дома. Это никудышный обмен. В эти дни все обмены никудышные – если только вы, в отличие от меня, не знаете своей выгоды.
До моей следующей клиентки, фру Янссен, совсем близко. Она живет в большом синем доме. Раньше она жила там вместе с мужем и тремя сыновьями. Но потом один сын переехал в Лондон, другой в Америку, а третий, самый младший в семье, отправился на фронт. Там было убито две тысячи голландских военнослужащих при безуспешной попытке защитить наши границы. Страна пала в течение пяти дней. Мы больше не говорим с фру Янссен о Яне.
Интересно, был ли он рядом с Басом во время вторжения.
Меня интересует все, что связано с последними минутами мальчика, которого я любила. Был ли Ян с Басом или Бас умер один?
Муж фру Ханссен исчез в прошлом месяце, как раз перед тем, как она стала моей клиенткой. Я никогда не спрашиваю ее об этом. Он мог участвовать в Сопротивлении или просто оказался не в том месте не в то время. Впрочем, может быть, он и не умер, а пьет «большой чай»[2] в Англии вместе со своим старшим сыном. В любом случае это не мое дело – я только кое-что достаю для фру Янссен. Я немного знала ее сына Яна. Это был поздний ребенок. Он родился через двадцать лет после своих братьев, когда Янссены уже были седыми и сгорбленными. Ян всегда казался милым мальчиком.
Сейчас я решаю, что Ян был возле Баса, когда немцы вторглись в нашу страну. Да, я поверю, что Бас не умер в одиночестве. Обычно я не позволяю себе такие оптимистичные мысли.
Фру Янссен ждет у двери, и это сердит меня. Что бы вы подумали о старухе, поджидающей девушку на велосипеде, если бы были немецким солдатом, который обязан замечать все подозрительное?
– Доброе утро, фру Янссен. Вам не следует стоять здесь и ждать меня. Как у вас дела?
– Прекрасно! – звучно отвечает она, как будто произнося театральную реплику на сцене. Она нервно теребит белые пряди, выбившиеся из узла. Фру Янссен всегда закручивает волосы узлом, а очки вечно соскальзывают у нее с носа. Ее одежда вызывает у меня ассоциации со шторами или обивкой дивана. – Вы не зайдете?
– Мне не удалось раздобыть такое количество сосисок, как вы хотели, но немного есть, – сообщаю я, как только за нами закрывается дверь.
Фру Янссен передвигается очень медленно. Она опирается на палочку и теперь редко выходит из дома. Говорит, что «завела палочку», когда умер Ян. Не знаю, в чем тут дело. То ли это физическое недомогание, то ли ее сломило горе, и от этого она захромала.
Передняя комната кажется более просторной, чем обычно. В чем же дело, думаю я. Обычно между горкой с фарфором и креслом стоит маленькая opklapbed[3], скорее похожая на книжный шкаф. Ее можно раскладывать, когда кто-нибудь гостит. Я полагаю, что ее смастерил господин Янссен, как и все вещи в их доме. Мы с мамой обычно останавливались перед его мебельным магазином, чтобы полюбоваться вещами в витринах. Однако мы никогда не могли себе позволить что-нибудь у него купить. Куда же делась opklapbed? Если фру Янссен так скоро продала ее после исчезновения мужа, наверное, у нее туго с деньгами. Впрочем, это не мое дело. Если только это не значит, что она не сможет мне платить.
– Кофе, Ханнеке? – Фру Янссен направляется на кухню, и я следую за ней. Я собираюсь отказаться от приглашения, но она уже поставила две чашки. И выставила хороший фарфор, синий с белым, с знаменитым узором города Делфта. Тяжелый стол сделан из древесины клена.
– Так как насчет сосисок…
– После, – перебивает она. – Сначала мы выпьем кофе со stroopwafel[4], а потом побеседуем.
На столе жестяная коробка для кофе, покрытая пылью, от которой пахнет землей. Настоящие кофейные бобы. Интересно, как давно она их хранит? Да еще stroopwafel! Люди не делают вафли из муки по карточкам – из нее пекут только хлеб. И опять-таки ими не кормят девушек с черного рынка. Но фру Янссен наливает мне кофе в фарфоровую чашку и кладет сверху stroopwafel. От пара вафли стали мягче, и сахарный сироп между ними просочился через края.
– Садитесь, Ханнеке.
– Я не голодна, – говорю я, хотя урчание в животе выдает меня.
На самом деле я проголодалась, но здесь что-то не так: и эти вафли, и настойчивое желание фру Янссен усадить меня за стол, и необычность всей ситуации. Уж не вызвала ли она Зеленую полицию, пообещав выдать торговку с черного рынка? Мало ли на что способна женщина в таком отчаянном положении, что пришлось продать opklapbed мужа.
– Всего на минутку!
– Простите, но сегодня у меня миллион других дел.
Она смотрит на красиво накрытый стол.
– Мой младший, Ян. Это его любимые вафли. Я обычно готовила их к возвращению сына из школы. Вы были его другом? – Она с надеждой смотрит на меня и улыбается.
Я вздыхаю. Нет, фру Янссен не опасна – просто одинока. Она скучает по сыну, и ей хочется угостить его друга вафлями, которыми он любил полакомиться после школы. Это против моих правил, и мне становится не по себе от ее умоляющего тона. Но на улице холодно, и кофе настоящий. Хотя я сослалась на миллион дел, на самом деле родители ждут меня к ланчу только через час. Поэтому я кладу пакет с сосисками на стол и приглаживаю волосы. Заодно я пытаюсь вспомнить правила поведения во время светского визита. Когда-то я их знала. Иногда мы с Басом вместе занимались, и его мать угощала меня горячим шоколадом на кухне. А затем под разными предлогами к нам заглядывала, чтобы убедиться, что мы не целуемся.
– Я давно не ела stroopwafel, – говорю я, пытаясь поддерживать светскую беседу. – Моими любимыми были banketstaaf.
– С миндальной пастой?
– М-м-м.
Кофе фру Янссен крепкий и очень горячий. Он обжигает горло. Когда я ставлю чашку на блюдце, она наполовину пуста. Фру Янссен сразу же снова наполняет ее доверху.
– Хороший кофе, – замечаю я.
– Мне нужна ваша помощь.
Ах, вот оно что.
Теперь понятно, почему меня угощают кофе. Это взятка – а взамен она хочет услугу. Увы, она не понимает, что меня бесполезно умасливать. Я работаю за деньги, а не из любезности.
– Что вам нужно? Еще мяса? Керосин?
– Мне нужно, чтобы вы помогли найти одного человека.
Моя чашка застывает на полпути. Какую-то долю секунды я не могу сообразить, взяла ли я ее или собиралась поставить на место.
– Мне нужно, чтобы вы помогли найти одного человека, – повторяет она, так как я не отвечаю.
– Я не понимаю.
– Для меня это особый человек. – Она смотрит через мое плечо, и я следую за ее взглядом. Он устремлен на портрет семьи, который висит рядом с дверью кладовой.
– Фру Янссен. – Как бы повежливее ответить? Ваш муж умер – вот что я должна бы сказать. Ваш сын умер. Остальные ваши сыновья не вернутся. Я не умею искать призраков. У меня нет таких продовольственных карточек, которые умели бы возвращать мертвого ребенка. – Фру Янссен, я не ищу людей. Я ищу вещи: еду, одежду.
– Мне нужно, чтобы вы нашли…
– Человека. Вы уже говорили. Но если вы хотите найти какого-то человека, следует обратиться в полицию. Вот кто вам нужен.
– Вы. – Она наклоняется через стол. – Мне нужны вы. Я не знаю, кого еще попросить.
Вдали бьют часы на Вестеркерк[5]. Половина двенадцатого. Мне пора.
– Мне надо идти. – Я встаю из-за стола. – Моя мать уже приготовила ланч. Вы бы хотели сейчас заплатить за сосиски или господин Крёк добавит их к вашему счету?
Она тоже поднимается. Но вместо того чтобы проводить гостя до двери, она хватает меня за руку.
– Вы только взгляните, Ханнеке. Пожалуйста! Только взгляните, прежде чем уйти.
Поскольку даже я не настолько очерствела, чтобы вырвать свою руку у пожилой женщины, я послушно следую за ней к кладовой. Здесь я останавливаюсь, чтобы взглянуть на портрет ее сыновей на стене. Все трое сидят в ряд, и у них одинаковые большие уши и длинные шеи. Но фру Янссен не задерживается перед фотографией. Она распахивает дверь кладовой.
– Сюда. – Она жестом приглашает следовать за ней.
Спиритизм. Черт возьми, она еще безумнее, чем я предполагала. Значит, сейчас мы будем сидеть в темноте, среди пикулей в банках, и общаться с ее покойным сыном. Вероятно, здесь она хранит его одежду, переложенную нафталиновыми шариками.
Внутри все как в обычной кладовой. Это маленькая комната с полками на стене, на которых стоят банки со специями и консервами. Правда, их меньше, чем было бы до войны.
– Извините, фру Янссен, но я не знаю…
– Подождите.
Она протягивает руку к полке со специями и отстегивает маленький крючок, который я не заметила.
– Что вы делаете? – шепчу я.
– Минутку. – Она возится с задвижкой. И вдруг вся стенка с полками отъезжает, открывая темное пространство за кладовой. Оно длинное и узкое, но достаточно большое. Там так темно, что почти ничего не видно.
– Что это? – спрашиваю я шепотом.
– Хендрик построил это для меня, – отвечает она. – Еще когда дети были маленькие. Эта комната не очень-то годилась для кладовой: она слишком глубокая, а потолок скошен. Поэтому я попросила отгородить часть для кладовой, а из заднего помещения сделать чулан.
Мои глаза привыкают к темноте. Мы стоим в клетушке под лестницей. Потолок действительно скошен, и в задней части высота не более нескольких футов. В передней части, на уровне глаз, имеется полка. На ней свеча, сгоревшая наполовину, расческа и журнал о кино, название которого мне знакомо. Основная часть этой крошечной комнаты занята исчезнувшей opklapbed фру Янссен. Кровать разложена, словно в ожидании гостя. На ней стеганое одеяло с узором из звезд и одна подушка. Окон нет. Когда закрыта потайная дверь, лишь из-под двери пробивается узкая полоска света.
– Вы видите? – Она снова берет меня за руку. – Вот почему я не могу обратиться в полицию. Полиция не может найти того, кого не должно быть.
– Пропавшего человека.
– Эта пропавшая девушка – еврейка, – говорит фру Янссен. – Мне нужно, чтобы вы нашли ее раньше, чем нацисты.
Глава 2
Фру Янссен ждет моего ответа, стоя в темноте. Воздух здесь затхлый, и слегка пахнет старым картофелем.
– Ханнеке?
– Вы кого-то прятали?
Она возвращает на место потайную дверь с полками, закрывает кладовую и ведет меня обратно к столу. Я шокирована и испугана. Да, я знаю, что такое случается. Люди прячут евреев в своих подвалах, чтобы их не отправили в трудовые лагеря. Но это так опасно, что никто никогда не признается вслух.
Фру Янссен кивает:
– Прятала.
– Здесь? Вы кого-то прятали здесь? Как долго?
– С чего же мне начать? – Она берет салфетку и вертит ее в пальцах.
Я вообще не хочу, чтобы она начинала. Десять минут назад я боялась, что фру Янссен вызвала полицию, чтобы меня арестовать. Но теперь я знаю, что это ее могут арестовать. Наказание за укрывание людей – тюрьма. Холодная сырая камера в Схевенингене. Я слышала, что люди надолго исчезают, и их дело даже не слушается в суде. Наказание для лиц, которые прячутся, – onderduiker – депортация.
– Не важно, – поспешно произношу я. – Я не стану ничего слушать. Я просто уйду.
– Почему бы вам снова не присесть? – молит она. – Я ждала вас все утро. – Она берет в руки кофейник. – Еще кофе? Вы можете пить сколько хотите. Просто посидите. Если вы мне не поможете, придется найти кого-нибудь другого.
Я застываю посреди кухни. Мне не нужна ее взятка в виде кофе, но нельзя уходить, не узнав всю историю. Если фру Янссен попытается найти кого-нибудь другого, она может подвергнуть себя опасности. Да и меня тоже.
– Расскажите мне, что случилось, – наконец говорю я.
– Деловой партнер моего мужа, – начинает фру Янссен, и дальше слова льются потоком. – Деловой партнер моего мужа был хорошим человеком. Господин Родвелдт. Давид. Он работал вместе с Хендриком десять лет. У него была жена, Роза. Она казалась такой застенчивой! Слегка шепелявила и стеснялась этого. Но она умела вязать такие красивые вещи! У них росли две дочери. Лия, которой только что исполнилось двенадцать лет, была любимицей семьи. А старшей дочери стукнуло пятнадцать. Она ценила свою независимость. Всегда где-то пропадала с друзьями. Мириам. – Когда она произносит последнее имя, у нее перехватывает дыхание. Она сглатывает слюну, прежде чем продолжить.
– Родвелдты были евреями. Они не очень-то соблюдали религиозные обряды, и вначале казалось, что это поможет. Но, конечно, не помогло. Давид сказал Хендрику, что у них все будет хорошо. У них была одна знакомая за городом, которая собиралась приютить их. Но все сорвалось, так как эта женщина очень испугалась. В июле, после большой облавы, когда забрали так много евреев, Давид пришел к Хендрику и попросил спрятать его с семьей.
– И Хендрик привел их сюда? – спрашиваю я.
– Нет, он не хотел подвергать меня опасности. Он отвел их в мастерскую. Построил для Родвелдтов потайную комнату в столярной, за фальшивой стеной. Я не знала об этом.
– Не знали? – Я не могу себе представить, чтобы мои родители были способны скрывать друг от друга такой секрет.
– Хендрик стал проводить в магазине больше времени, но я думала, у него теперь больше работы. Ведь теперь Давида не было рядом, и муж трудился один. Я думала, Родвелдты уехали в какой-то дом за городом и находятся в безопасности. И я понятия не имела, что все они здесь, в убежище.
– Когда он сказал вам?
– Он так и не сказал. В прошлом месяце я была в доме одна, когда кто-то постучал в дверь. Стук был отчаянный. Это было после комендантского часа. Я подумала, что Хендрик забыл свой ключ. Но когда я открыла дверь, то увидела эту девушку – бледную девушку в голубом пальто. Она так выросла! Я не видела ее несколько лет и не узнала бы, если бы она не представилась. Она сказала, что мой муж прятал их, но теперь ей нужно новое безопасное место. Сказала, что все остальные мертвы.
– Мириам Родвелдт?
Фру Янссен кивает.
– Ее трясло от страха. Она сказала, что нацисты пришли в мебельный магазин ночью и сразу же направились в столярную мастерскую. Кто-то выдал Хендрика – служащий или покупатель. Хендрик не хотел показывать им убежище. Он притворился, будто понятия не имеет, о чем они говорят. Поскольку он отказывался сотрудничать, офицеры начали ему угрожать. Давид услышал это и попытался помочь. Но у офицеров было оружие.
Она судорожно вздыхает.
– Когда закончилась стрельба, Хендрик был мертв. Давид, Роза и Лия тоже были убиты. Только Мириам удалось сбежать.
Наверное, это был настоящий кошмар. Я слышала о том, что людей сажают в тюрьму, что их забирают и они не возвращаются. Но хладнокровно застрелить четырех людей, включая женщину и ребенка?
– Как же удалось сбежать Мириам? – спрашиваю я. – Всех остальных застрелили. Как сумела юная девушка сбежать от вооруженных нацистов?
– Туалет. В передней части мастерской есть туалет. Родвелдты могли им пользоваться, когда закрывали этаж, на котором находится торговый зал. Перед тем как появились нацисты, Мириам как раз туда зашла, чтобы умыться перед сном. Услышав выстрелы, она выбежала через парадный вход и помчалась в ближайшее безопасное место. В мой дом. Это было три недели назад. Я прятала ее до прошлой ночи.
– Что же случилось прошлой ночью?
Фру Янссен достает из кармана свитера сложенный лист бумаги.
– Я кое-что записала, чтобы показать вам, в какое время что происходило.
Она водит указательным пальцем по первой строчке:
– Она была здесь вчера в полдень. Я заходила к ней в это время. Принесла хлеб и экземпляр Het parool[6]. Она любила перечитывать новости о подполье и запоминала даже рекламу.
– Вы уверены, что это было в полдень?
– Я как раз услышала, как бьют часы на Вестеркерк. Люди выходили на улицу, отправляясь на ланч. – Фру Янссен снова заглядывает в свои записи и продолжает: – Она была здесь в четверть пятого. В это время я зашла предупредить, что должен заглянуть Христффел, мой посыльный, и ей нужно сидеть тихо. Она была здесь в пять тридцать: я спросила, не хочет ли она пообедать. Она ответила, что у нее болит голова и она собирается прилечь. Сразу после этого моя соседка, фру Венстра, попросила меня зайти. Ее сына, Коса, не было дома, и она волновалась из-за этого. Я посидела с ней час, и тут на улице показался Кос. У него спустило колесо велосипеда, и пришлось пройти пешком двадцать пять километров. Я вернулась домой и спросила Мириам через дверь, не лучше ли ей. Она не ответила. Я решила, что девочка заснула. Позже я открыла дверь, чтобы узнать, не принести ли чего-нибудь.
– Ее не было?
– Она исчезла. Ее кровать была пуста. Пальто исчезло. Туфли исчезли. Ее не было.
– В котором часу это было?
– Около десяти. После комендантского часа. Мириам исчезла примерно между половиной шестого (когда уверила, что собирается прилечь) и десятью. И нет никакого объяснения.
Закончив свой рассказ, она складывает лист бумаги и собирается положить в карман. Возле плиты фру Янссен есть спички. Я беру одну, чиркаю о коробок – и крамольные записи фру Янссен превращаются в пепел.
– Что вы делаете? – спрашивает она.
– А что вы делаете, храня записи о девушке, которую незаконно прятали?
Она трет лоб.
– Я не подумала об этом. Мне неизвестны эти правила. Вот почему мне нужна ваша помощь, Ханнеке.
Часы на Вестеркерк снова бьют. Прошло еще четверть часа. Теперь мне действительно пора. Я скрещиваю руки на груди.
– Вы пробыли у соседки час. Не могла Мириам уйти в это время?
– Фру Венстра живет через дорогу от меня. Мы сидели на крыльце, так как вчера было не слишком холодно. Сидели лицом к моему дому. Если бы Мириам вышла с парадного входа, я бы ее заметила.
– У вас есть черный ход?
Не следовало обнадеживать ее подобными вопросами, если я не собираюсь помочь. Но ситуация, которую она описала, такая странная и неправдоподобная. Мне кажется, она что-то путает.
– Дверь черного хода плохо закрывается, уже много лет. Я так сердилась на Хендрика! Подумать только: столяр не может выкроить время, чтобы починить собственную дверь! В конце концов мне надоело просить, и в прошлом году я сама поставила засов. Когда я заметила, что Мириам исчезла, то проверила эту дверь. Она была по-прежнему закрыта. Мириам не могла выйти с черного хода и задвинуть засов изнутри.
– Окно? – Но я сразу же отметаю эту мысль. Это район состоятельных людей, и соседи заметили бы девушку, вылезающую через окно.
– Здесь нет ни одного окна. Разве вы не видите? Она никак не могла отсюда выйти. Да и причин не было: ведь здесь она была в безопасности. А если бы за ней пришли нацисты, они бы увели и меня.
Однако должно же быть какое-то рациональное объяснение. Наверное, фру Янссен отвлеклась на крыльце у фру Венстра и не заметила, как ушла девушка. А может быть, в ее хронологические записи вкралась ошибка и Мириам исчезла, пока фру Янссен дремала днем.
Впрочем, не стоит искать объяснения. Я не могу ей помочь, как бы печальна ни была эта история. Это слишком опасно. Главное – выжить. Таков мой девиз на время войны. Он появился после смерти Баса. Я вела себя легкомысленно – и вот до чего это меня довело. Теперь я доставляю товары с черного рынка, но только чтобы прокормить семью. Я флиртую с немецкими солдатами исключительно ради своего спасения. А поиски пропавшей девушки лично мне ничего не дадут.
На кухне слышно, как со скрипом открывается парадная дверь. Затем юный мужской голос произносит: «Вы дома?» Где-то лает собака. Кто там? гестапо? НСД[7]? Мы ненавидим гестапо и Зеленую полицию. Но больше всего мы ненавидим НСД. Это голландские нацисты, которые предали свой народ.
Глаза фру Янссен расширяются, и наконец она отвечает:
– Христоффел, я на кухне. Я забыла, что он должен сегодня зайти, – шепчет она мне.
– Продолжайте пить кофе. Ведите себя естественно.
У посыльного Христоффела кудрявые белокурые волосы, большие голубые глаза и нежная кожа. По-видимому, он совсем недавно начал бриться.
– Фру Янссен? – Он смущенно теребит в руках шапку. Ему неловко, что он помешал нам. – Я пришел за opklapbed. Вы сказали прийти в это время?
– Да, конечно. – Она начинает приподниматься, но Христоффел просит ее не беспокоиться.
– Я могу справиться сам. У меня тележка, а на улице ждет друг, чтобы помочь. – Он кивает в сторону окна. Высокий плотный парень машет с улицы.
И посыльный уходит к своей тележке. Фру Янссен, заметив мое встревоженное лицо, успокаивает меня.
– Это не та кровать – не кровать Мириам. Он забирает opklapbed из офиса Хендрика. Я теперь почти не захожу туда. Спросила Христоффела, не сможет ли он найти покупателя. Я собиралась использовать эти деньги, чтобы помочь Мириам.
– А теперь?
– Теперь я заплачу эти деньги вам, если вы поможете. – Я качаю головой, но она продолжает: – Вы должны ее найти, Ханнеке. Мои старшие сыновья… Наверное, я никогда больше их не увижу. Младший сын погиб. Мой муж умер, защищая семью Мириам. А ее семья погибла, пытаясь защитить моего Хендрика. Теперь у меня никого нет, и у нее тоже. Мы с Мириам должны стать семьей друг для друга. Не дайте мне потерять ее. Пожалуйста!
Скрип колес ручной тележки Христоффела избавляет меня от необходимости отвечать. Они с другом привязали к ней opklapbed фру Янссен. Эта кровать красивее той, что в кладовой. Гладкое дерево покрыто лаком, и от него еще исходит слабый запах лимонной жидкости для мебели.
– Фру Янссен? Я ухожу, – говорит посыльный.
– Подождите, – останавливаю я. – Фру Янссен, может быть, вам не нужно прямо сейчас продавать эту кровать? Подождите день-другой, подумайте. – Таким образом я даю ей понять, что отказываюсь от ее предложения.
– Нет, я продаю ее сейчас, – решительно возражает она. – Христоффел, сколько я должна тебе за труды?
– Ничего, фру Янссен. Я с радостью это сделаю.
– Нет, возьми. – Она берет со стола кошелек и начинает отсчитывать монеты. – О господи! Я думала, у меня есть…
– В этом нет необходимости, – настаивает Христоффел. Он снова краснеет и с несчастным видом смотрит на меня в ожидании поддержки.
– Фру Янссен, – тихо говорю я. – У Христоффела есть еще и другие доставки. Почему бы нам его не отпустить?
Она прекращает рыться в кошельке и со смущенным видом закрывает его. Как только Христоффел уходит, она снова опускается в кресло. У нее очень усталый вид.
– Вы поможете мне? – спрашивает она.
Я допиваю остывший кофе. Какой же помощи она от меня ждет? Я понятия не имею, с чего начать. Как далеко могла уйти пятнадцатилетняя девочка с Jodenster – желтой звездой на одежде? И я без всяких денег фру Янссен знаю, что случится с такой девушкой, как Мириам. Если уже не случилось. Ее схватят и отправят в трудовой лагерь в Германии или Польше. В лагерь того типа, из которого еще никто не вернулся. Но как же она все-таки вышла?
Должно же быть рациональное объяснение, снова говорю я себе. Люди не растворяются в воздухе.
Но на самом деле это ложь. Во время оккупации люди растворяются в воздухе каждый день. Сотни людей, которых забирают из дома.
Как же может фру Янссен ожидать, что я найду ей одну-единственную пропавшую девочку?
Глава 3
Когда я добираюсь до дома, на пороге меня встречает мама. Наверное, она увидела мой велосипед из окна. Ее губы плотно сжаты.
– Ты опоздала.
– Сейчас двенадцать пятнадцать.
– Двенадцать девятнадцать.
– Всего на четыре минуты, мама.
В нашей квартире, судя по запаху, жарятся сосиски с пастернаком, которые я принесла вчера. Это маленькая квартирка на втором этаже пятиэтажного дома: гостиная, две крошечные спальни, кухня и туалет. У нас уютно.
Папа читает книгу, сидя в кресле. Переворачивая страницы здоровой левой рукой, он пользуется держателем для страниц, который смастерил сам. Его усохшая правая рука лежит на коленях.
Я наклоняюсь, чтобы поцеловать его.
– Ханни! – произносит он мое уменьшительное имя.
Папа стал калекой еще до моего рождения, во время Великой войны. Он жил на фламандской стороне, отделенной от голландской стороны проволочной оградой с электрическим током – Додендрад[8]. Она была установлена, чтобы отделить оккупированную Бельгию от Голландии. Моя мать жила на голландской стороне. Папа хотел перепрыгнуть через ограду, чтобы произвести впечатление на нее. Он уже проделывал это один раз. Когда он впервые рассказал мне эту историю, я не поверила. И тогда отец показал одну книгу. Люди ухитрялись перебираться через Проволоку смерти разными хитрыми, порой идиотскими способами. Они использовали высокие стремянки или набивали карманы фарфором, чтобы не ударило током. Когда отец попытался перепрыгнуть во второй раз, туфля зацепилась за проволоку, и он рухнул на землю. Вот каким образом мой отец эмигрировал в Голландию.
У него парализовало всю правую половину тела и частично лицо. Поэтому речь у папы замедленная и искаженная. Она смущала меня в детстве, но теперь я едва это замечаю.
Папа ласково притягивает меня и шепчет на ухо:
– Мама волнуется, потому что сегодня пришли за господином Бирманом и искали его. Будь с ней поласковей.
Господин Бирман – владелец зеленной лавки через дорогу. Уже несколько месяцев евреи лишены права владеть предприятиями. Но его жена – христианка, и он перевел лавку на ее имя. У них нет детей – только любвеобильный белый кот по имени Снежок.
– Кто пришел? – спрашиваю я. – Это отребье из НСД?
Папа прикладывает палец к губам и указывает на потолок:
– Ш-ш!
Сосед над нами – член НСД. Его жена когда-то заплетала мне косички и угощала печеньем в День Синтаклааса[9]. У меня за спиной мама гремит подносом, перекладывая блюда для ланча на наш маленький столик. Поцеловав папу в щеку, я занимаю свое место.
– Почему ты опоздала, Ханнеке? – осведомляется мама.
– Чтобы приучить тебя не паниковать, когда я прихожу всего на четыре минуты позже обычного времени.
– Но ты же никогда не опаздываешь.
Меня никогда не просили искать пропавших девушек. Перед моим мысленным взором возникает расстроенная фру Янссен в пустой кладовой.
Мама кладет мне полную ложку пастернака. Мы питаемся лучше многих семей. Если бы они с папой почаще выходили наружу, то, вероятно, удивились бы, что мне удается приносить домой так много продуктов.
– Ничего особенного. Меня остановил немецкий полицейский. – Это правда. Я просто не уточняю, что это случилось рано утром, когда я еще не знала о Мириам.
– Надеюсь, ты его не провоцировала, – резко произносит мама.
Я не единственная в семье, кого изменила война. Раньше мама давала уроки музыки у нас дома, и из окон лились мелодии Шопена. Ни у кого больше нет денег на уроки музыки и на переводы, которыми занимался папа.
– Он говорил по-голландски, – продолжаю я, увиливая от прямого ответа. – Довольно бегло.
Папа фыркает.
– Мы откормили его после прошлой войны, чтобы он вернулся и морил нас голодом в эту войну.
Германия была очень бедной после Великой войны. Многие немецкие семьи посылали своих детей в Голландию, чтобы те набирались сил, питаясь местным сыром и молоком. Без нас они бы умерли. А теперь некоторые из этих мальчиков выросли и вернулись сюда.
– Когда тебе нужно на работу? – спрашивает мама.
– У меня еще есть двадцать минут.
Официально я служу секретаршей в похоронном бюро. Это не идеальное место работы, но у меня было мало вариантов. Никто не хотел нанимать молодую девушку, не имеющую опыта и не умеющую печатать на машинке. Господин Крёк тоже не хотел, но я не оставила ему выбора. Мне уже отказали в семи других местах, когда я увидела в его окне объявление: «Требуется секретарша». И я отказывалась уходить, пока он не принял меня на работу.
Господин Крёк – хороший человек. Он платит по справедливости. И он дал мне мою вторую, тайную работу, которая еще лучше оплачивается.
В Голландии – как, вероятно, во всей Европе – немцы ежемесячно выдают населению продовольственные карточки с талонами на еду, одежду, керосин, резиновые изделия. Газеты извещают, что вы можете купить: пятьсот граммов сахара, два литра молока, два килограмма картофеля. Вот тут-то и приходит на помощь господин Крёк. Он использует продовольственные карточки покойников: отоваривает их, а потом продает эти продукты по более высоким ценам. По крайней мере, так я это себе представляю. Я не задаю вопросов. Несколько месяцев назад господин Крёк пришел ко мне с пачкой продовольственных карточек и спросил, не схожу ли я за покупками.
В первый раз мне было страшно, но еще больше я боялась потерять работу. Через какое-то время я наловчилась, и теперь у меня хорошо получается. А еще позже я решила, что занимаюсь благородным делом. Потому что это фашисты навязали нам продовольственные карточки. И если я насмехаюсь над их системой, то также насмехаюсь и над ними. Для меня дорогая ветчина – единственный способ отомстить тем, кто убил Баса. И я цепляюсь даже за этот маленький шанс.
То, чем мы занимаемся, незаконно. Это называется «наживаться на войне». Но господин Крёк небогат, и я, конечно, тоже. Как мне кажется, то, что мы делаем, – попытка реорганизовать бессмысленную систему.
– Ханни! – Мама давно пытается привлечь мое внимание. – Я спросила, что ты сказала Зеленой полиции.
Она все еще зациклена на этом? Если бы только она знала, сколько солдат я встречаю каждую неделю!
– Я сказала, чтобы он убирался из нашей страны и никогда не возвращался. И предложила, чтобы он засунул луковицы тюльпанов себе в…
– Ханни! – Мама в ужасе прикрывает рукой рот.
Я вздыхаю.
– Мама, я поступила как всегда. Убралась оттуда как можно скорее.
Но мама уже отвлеклась от меня.
– Йохан… – Понизив голос до шепота, она вцепилась в здоровую руку отца. – Йохан, они вернулись. Послушай!
Я тоже прислушиваюсь к крикам на другой стороне улицы. Подбежав к окну, я осторожно выглядываю из-за портьеры.
– Ханни! – предостерегает мама. Но я не отхожу от окна, и она сдается. Три офицера НСД в своих черных формах колотят в дверь, приказывая господину Бирману выйти.
Дверь открывает его жена. У нее так сильно трясутся руки, что это заметно даже на расстоянии.
– Ваш муж должен был на прошлой неделе явиться для депортации, – заявляет офицер постарше. Наша улица узкая, и он говорит так громко, что мне слышно почти все.
– Он… его здесь нет, – отвечает фру Бирман. – Я не знаю, где он. Не видела его несколько дней.
– Фру Бирман!
– Клянусь, я его не видела. Я ходила за покупками, а когда вернулась домой, его не было. Я обыскала весь дом.
– Отойдите, – приказывает офицер. Женщина не подчиняется, и он протискивается мимо нее. Мама подошла к окну и стоит теперь рядом со мной. Она так крепко хватает меня за руку, что ее ногти впиваются в мою кожу через свитер. Пожалуйста, пусть господин Бирман действительно исчезнет, молю я. Пусть бы он действительно сбежал, пока фру Бирман ходила за покупками.
Мама шевелит губами. Наверное, молится, думаю я. Правда, мы теперь больше не молимся. Офицеры снова появляются в дверях. На этот раз они волокут за собой мужчину. Это господин Бирман. У него идет кровь из носа, правый глаз подбит и распух.
– Хорошие новости, фру Бирман, – говорит солдат. – Мы в конце концов нашли вашего мужа.
– Лотта! – кричит господин Бирман, когда его тащат к грузовику.
– Питер! – вопит она.
– Мне бы следовало забрать и вас за компанию, чтобы ему не было скучно, – предлагает офицер. – Но, думаю, не стоит наказывать добрую христианку, которая так глупа, что даже не знает, где ее муж. – Ко мне обращена его спина, так что я не вижу лица. Но я улавливаю в тоне издевку.
– Лотта, все в порядке, – доносится из грузовика голос господина Бирмана. – Скоро я вернусь домой.
Фру Бирман не плачет. Она только качает головой, словно говоря: Нет, ты не скоро вернешься домой.
Грузовик уезжает, а фру Бирман все стоит на пороге. Я как бы подглядываю, и это нехорошо. Но я не могу отвести глаз. В День Сантаклааса она дарила мне подарки. А когда я заходила в их лавку, позволяла пробовать клубнику, даже если мы не собирались ее покупать.
Мама оттаскивает меня за рукав от окна и ведет к столу.
– Доедай, – холодно говорит она. – Это не наше дело. Мы ничего не можем сделать.
Я стряхиваю ее руку. Мне хочется напомнить маме о Бирманах и об их клубнике. Но она права. Я ничего не могу сделать, чтобы исправить то, что случилось.
Мы заканчиваем ланч в молчании. Мама делает несколько неудачных попыток завести разговор. Еда кажется безвкусной и не лезет в горло. Извинившись, я встаю из-за стола. Я ссылаюсь на то, что должна кое-что сделать до возвращения на работу.
– Только не опаздывай. У тебя хорошая работа, – напоминает мама. Ей нравится моя работа. Ведь в нашем доме только у меня стабильная зарплата. – Ты же не хочешь, чтобы господин Крёк пожалел, что взял тебя к себе.
– Он не пожалеет.
Мне просто нужно немного побыть одной – без моих родителей и без моей работы. Одна минута вдали от всего мира. В спальне я задергиваю шторы и открываю нижний ящик бюро. Затем роюсь в нем и нахожу выцветший дневник, который мне подарили в девятый день рождения. С неделю я аккуратно делала записи о друзьях, которые мне нравились, и учителях, которые были несправедливы ко мне. Потом я забросила дневник на пять лет и вернулась к нему, только когда встретила Баса. Тогда я превратила его в альбом для вырезок.
Вот школьная фотография, которую мне дал Бас. Небрежным тоном он попросил взамен мою. Вот записка, которую он сунул в книгу. В ней говорится, что зеленый свитер подходит к цвету моих глаз. Он подписался буквой Б, и я тогда впервые поняла, что он предпочитает «Бас» «Себастьяну». Это прозвище, взятое из середины его имени. Многие голландские мальчики предпочитают середину имени началу.
Вот билет с нашего похода в кино. Тогда мы впервые смотрели фильм вместе. Я попросила лучшую подругу, Элсбет, пойти с нами. Дело в том, что я опасалась онеметь от смущения в присутствии Баса. Эта памятная вещь причиняет двойную боль, так как Элсбет я тоже потеряла – но по-другому.
Вот билет со второго фильма.
Вот бумажный платок, которым я стерла помаду в тот вечер, когда Бас впервые поцеловал меня.
Вот бумажный платок, которым я вытирала слезы в тот вечер, когда он сказал, что собирается поступить добровольцем в армию. Ему тогда исполнилось семнадцать. Вот его локон, который он дал мне за день до того, как отбыл. Это было на его прощальной вечеринке. Я тоже ему кое-что дала. Это был медальон с моей фотографией внутри. Вот почему я догадалась, что так делают и немецкие девушки. Я была тогда такой глупой.
Быстро закрыв дневник, я засовываю его подальше в ящик и прикрываю сверху одеждой. Я думаю о Басе. И мои мысли невольно возвращаются к Мириам Родвелдт. Я злюсь на себя за это. К чему впустую тратить время на размышления о пропавшей девушке? Я ничего о ней не знаю, и она только может довести меня до беды.
Правда, одну вещь я знаю: журнал о кино лежит на полке в кладовой. Я почти уверена, что фотография, на которой она открыта, – кадр из «Волшебника из страны Оз». Это фильм о девочке, которую унесла буря и которая проснулась в сказочной стране. Мне ужасно хотелось его увидеть, но фильм еще не дошел до Голландии, когда началась война. Поэтому я так и не посмотрела «Волшебника из страны Оз». Но сейчас мне вспомнилось, как Джуди Гарленд пела в гостиной Баса, когда мы сидели на диване. Бас говорил, что любит меня, и мы смеялись и повторяли слова ее песни.
Бас согласился бы помочь фру Янссен, я в этом абсолютно уверена. Бас сказал бы, что это наш шанс сделать что-нибудь важное. Бас сделал бы из этого целое приключение. Бас добавил бы: «Ты, конечно, тоже решишься помочь ей. Девушка, которую я люблю, соглашается со всем, что я говорю». Потому что Бас ничего бы не знал о той девушке, которой я стала теперь.
А что бы я ответила? Я бы сказала: «Ты думаешь, я бы согласилась со всем, что ты говоришь? Ты так поглощен собой!» Или: «Мои родители зависят от меня, и я должна сделать так, чтобы все мы выжили». Или: «Теперь все изменилось, Бас. Ты не понимаешь».
Я бы все отдала, чтобы сказать ему хоть что-нибудь. Что угодно.
Не в моем стиле заниматься поисками пропавшей девушки. Пусть этим занимаются идеалисты – я же практична. Для такого поступка нужна надежда, а у меня ее давно нет. Мир безумен, и я не могу его изменить.
Так почему же я все еще думаю о Мириам Родвелдт?
Почему я уверена, что сегодня днем вернусь к фру Янссен? Если только мне не удастся отговорить себя?
Глава 4
Что же изменилось в моей стране за прошедшие два года? Всё – и ничего.
После ланча я выхожу на улицу и сажусь на велосипед. Продавец Бирманов отпускает овощи покупателю. Как будто владельца лавки не посадили только что в грузовик и не увезли. Как будто мир фру Бирман не рухнул.
Когда я возвращаюсь на работу, у господина Крёка есть для меня задание, связанное с официальной службой. Завтра похороны, и мне нужно написать объявление в газету и договориться в цветочной лавке. В половине второго господин Крёк подходит к моему столу и показывает черновик объявления. Я неправильно указала адрес церкви.
– Вы себя хорошо чувствуете? – Господин Крёк – маленький пухлый человечек; круглые очки придают ему сходство с черепахой. – Обычно вы не делаете ошибки. – Он мигает и пристально смотрит на свои туфли. Мы знаем друг друга почти год, но он чувствует себя неловко. Иногда мне кажется, что он стал владельцем похоронного бюро, поскольку ему легче проводить время с мертвыми, нежели с живыми.
– Извините. Наверное, я немного отвлеклась.
– Почему бы мне самому не заняться объявлением и цветами? – предлагает он. – У меня для вас несколько поручений на сегодня: мясник, а потом фру де Врис. – Он морщится, произнося это имя. Теперь понятно, почему он так легко спустил мне ошибку с газетой. Это компенсация за предстоящее общение с фру де Врис.
– Благодарю вас, – отвечаю я и хватаюсь за пальто, опасаясь, как бы он не передумал. Разберусь с фру де Врис позже, а сначала заеду к фру Янссен.
Так, это что-то новенькое. На здании через дорогу появилась надпись: «Да здравствует фюрер!» Она сделана белой краской, которая еще не высохла. Теперь я буду видеть ее каждый раз, выходя с работы. Хотел ли владелец магазина продемонстрировать, что он на стороне нацистов? Или эта пропаганда – дело рук самих нацистов? Никогда не знаешь навярняка.
С начала оккупации прошли акции протеста. Забастовка рабочих была быстро подавлена, и на улицах остались трупы. Папа считает, что нужно побольше таких акций. Ему легко говорить: ведь больная нога не позволяет в них участвовать. Мама считает, что нацисты – звери. И они были бы ей безразличны, если бы оставались в Германии. Она лишь хочет, чтобы они убрались из ее страны. После войны люди будут сидеть и вспоминать, как храбро они боролись с нацистами. Но эта «борьба» ограничивалась тем, что они носили красную гвоздику в честь королевской семьи в изгнании. А может быть, люди будут сидеть и говорить по-немецки, потому что немцы победят. И найдутся такие, кто будет ликовать по этому поводу. Это те, кто верит в нацистов или считает разумным поддерживать оккупантов. Как Элсбет. Элсбет, которая…
Ладно, не важно.
По пути к фру Янссен я дважды чуть не повернула назад. Первый раз – когда проезжала мимо солдата, допрашивавшего на улице девушку моего возраста. Второй раз – перед тем как позвонить в дверной звонок. При виде меня фру Янссен улыбается с таким облегчением, что я чуть не поворачиваю назад в третий раз. Потому что я все еще не совсем уверена.
– Вы осмелились мне помочь. – Она распахивает дверь. – Я знала, что поможете. Знала, что приняла правильное решение, доверившись вам. Я увидела это по вашему лицу. Хендрик всегда говорил…
– Вы больше никому не рассказали, не так ли? – перебиваю я фру Янссен. – Только мне?
– Нет. Но если бы вы не вернулись, не знаю, что бы я сделала. Я сижу здесь и все время волнуюсь.
– Фру Янссен, погодите. Давайте зайдем в дом. – Я хватаю ее под локоть и веду в гостиную. Мы садимся на кушетку с выцветшим цветочным узором. – Во-первых, я не соглашалась помочь, – заявляю я, потому что мне хочется полной ясности. – Я здесь для того, чтобы просто побеседовать. Сейчас мы только поговорим о Мириам, и я все обдумаю. Но я не детектив, и ничего не обещаю.
Она кивает:
– Я понимаю.
– Хорошо. Тогда почему бы вам не рассказать побольше?
– Все что угодно. Что бы вам хотелось узнать?
Что бы мне хотелось узнать? Я понятия не имею, какие вопросы задала бы полиция. Но когда я отыскиваю для клиентов товары с черного рынка, то начинаю с внешнего описания. Если им нужны туфли, я спрашиваю, какого размера и какого цвета.
– Если я решу помочь вам, мне нужно знать, как выглядит Мириам, – говорю я. – У вас есть фотографии? Мириам принесла их с собой? Какие-нибудь семейные карточки?
– У нее не было времени что-нибудь захватить с собой.
– А как она была одета, когда исчезла?
Фру Янссен прикрывает глаза, припоминая.
– Коричневая юбка. Кремовая блузка. И пальто. В мастерской мебельного магазина такие сквозняки, что приходится все время быть в пальто. На ней было пальто. Голубое пальто.
– Вот такое? – Я указываю на ярко-синий цвет на блюдцах фру Янссен в горке с фарфором.
– Скорее как небо в солнечный день. И два ряда серебряных пуговиц. Я одолжила ей другую одежду, пока она была здесь. Но когда она исчезла, пропали только те вещи, в которых она пришла сюда.
Продолжая задавать вопросы о разных деталях, которые приходят в голову, я мысленно рисую портрет девочки. Кудрявые темные волосы до плеч, тонкий нос, голубовато-серые глаза.
– Возможно, у соседей Родвелдтов есть фотография, – предполагает фру Янссен. – После исчезновения Родвелдтов они могли попытаться спасти какие-то вещи из квартиры.
– Вы что-нибудь знаете об этих соседях?
Она качает головой. Это значит, что я не могу пойти в ту квартиру и задать вопросы. Ведь жилище Родвелдтов, вероятно, заняла какая-то семья члена НСД. Амстердам – многолюдный город, и даже в нормальные времена здесь трудно найти жилье. А теперь, после исчезновения еврейской семьи, в ее квартиру сразу же вселяются сторонники нацистского режима. Они ведут себя так, будто всегда там жили. Война делает друзей врагами. Быть может, именно соседи донесли о тайном убежище Родвелдтов.
Где же еще можно найти фотографию?
– Вы заходили в убежище в мебельной мастерской? – осведомляюсь я.
Она кивает:
– Назавтра после того, как Хендрик был… Назавтра после того, как это случилось. Там все перевернули вверх дном во время обыска. Немцы забрали почти все. А может быть, просто Родвелдты захватили с собой мало вещей. Секретарша Хендрика могла бы попытаться что-нибудь спасти, но она отправилась в свадебное путешествие на следующий день после налета. Я могу ей написать. Но я не знаю точно, когда она вернется.
– В какую школу ходила Мириам?
– В еврейский лицей. С тех пор как изолировали еврейских учеников. Я не знаю, где он.
А я знаю. Он на берегу реки Амстел. Это здание из красного кирпича, с высокими окнами. Я постоянно проезжаю мимо него. Итак, теперь мне есть куда поместить девушку, мысленный портрет которой я создала.
– Что дальше? – спрашивает фру Янссен. – Вы собираетесь обсудить это с друзьями?
– С друзьями?
– С теми, кто будет вам помогать? Кто разбирается в таких вещах?
Теперь я понимаю, почему фру Янссен обратилась ко мне. Дело в том, что она понятия не имеет, как осуществляется незаконная деятельность. Она считает, что Сопротивление и черный рынок – это единая сеть, которая обменивается информацией и устраивает заговоры против немцев. Но я – лишь маленькое звено в цепи господина Крёка. Если бы меня схватили и начали допрашивать об операциях господина Крёка, я сказала бы, что не знаю, работает ли на него еще кто-нибудь. И это было бы чистой правдой.
Я не связана с Сопротивлением. Торговцы, занимающиеся спекуляцией, с которыми я имею дело, не имеют никакого отношения к Сопротивлению. И вообще у меня нет ничего, кроме воображаемого портрета девушки, которую я никогда не видела. И я еще не обещала фру Янссен, что найду ее.
– Мне нужно снова взглянуть на потайную комнату, – говорю я.
Фру Янссен впускает меня, откинув спрятанный крючок.
– Вчера вечером я там уже все осмотрела.
Я жду, пока глаза привыкнут к полумраку. Ширина помещения примерно четыре фута. Почти все оно занято разложенной opklapbed. Я откидываю одеяло, осматриваю простыню, затем матрас и подушку. На узкой полке журнал, который я заметила раньше. Это старый номер, еще довоенный. Вероятно, он был среди вещей Яна, и фру Янссен дала его Мириам, чтобы той было что почитать.
На страницах журнала нет никаких записей или пометок. Но под ним – последний выпуск Het Parool. Фру Янссен упоминала, что дала Мириам эту газету. Люди жадно читают газеты Сопротивления, а потом дарят другим. Наверное, либо сосед фру Янссен, либо посыльный передал ей этот номер Het Parool.
Я складываю opklapbed и, отвернув тонкий коврик, осматриваю пол.
Ничего. Совсем ничего.
Но что же я ожидала найти? Письмо от Мириам, объясняющее, куда она ушла? Дверцу люка, через которую сюда могли проникнуть нацисты и увести бедняжку? Когда я возвращаюсь на кухню, щурясь от яркого света, фру Янссен снова ставит кофе.
– Ваша соседка через дорогу сейчас дома? – спрашиваю я. – Фру Венстра? Та, у которой задержался в дороге сын?
– Я так не думаю. – Она хмурится. – Вы хотели с ней побеседовать? Она не знает о Мириам.
Я качаю головой.
– Оставайтесь у двери в течение следующих пяти минут. И в какой-то момент откройте ее и выходите. Только не предупреждайте меня заранее.
Обхватив себя руками, чтобы согреться, я перехожу через дорогу, к дому, принадлежащему фру Венстра. Теперь я стою на ступенях, спиной к дому фру Янссен. Через минуту до меня доносится звучный щелчок, за которым сразу же следует пронзительный собачий лай. Когда я оборачиваюсь, фру Янссен в недоумении смотрит на меня.
– Я не понимаю, – говорит она, когда мы возвращаемся. – Что вы делали?
– Я заметила это, когда Христоффел увозил opklapbed. Ваша дверь такая старая и тяжелая, что ее нельзя открыть бесшумно. И как только собака по соседству…
– Фрици, – поясняет фру Янссен. – Шнауцер соседского мальчика.
– Как только собака слышит щелчок, она начинает лаять. Даже если бы вы смотрели совсем в другую сторону, то услышали бы лай собаки и заметили, как Мириам выходит через парадную дверь.
– Именно это я и сказала, – раздраженно произносит она. – Я уже говорила вам вчера. Она не могла уйти через эту дверь. И я осмотрела потайное помещение Мириам. Вы зря тратите время, повторяя то, что я уже сделала.
– Вы ее уже нашли? – резко спрашиваю я. Я изображаю уверенность, чтобы скрыть отсутствие опыта в таких делах. – Вы все время твердите, что я делаю то, что вы уже сделали сами. Но если вы еще не нашли ее, мне нужно увидеть все собственными глазами. А теперь проводите меня к двери черного хода.
Фру Янссен открывает рот, вероятно, желая сказать, что Мириам не могла сбежать с черного хода: иначе внутренний засов был бы открыт. Но, передумав, не произносит ни слова.
Задняя дверь сделана из тяжелого дуба. Сразу становится ясно, почему она не закрывается как следует. От старости и оседания дома дверь сильно деформирована, так что верхняя часть ее перекосилась. Вот почему фру Янссен поставила засов. Он тяжелый, из железа, так что благодаря ему дверь остается закрытой. А когда он не задвинут, сверху просачивается тонкая струйка воздуха.
Фру Янссен права. Невозможно выйти через эту дверь и закрыть за собой засов.
Она пристально смотрит на меня. Я так и не сказала, что помогу ей, однако не ухожу. Это очень опасное предприятие, гораздо опаснее всего, что я проделывала до сих пор.
Но фру Янссен обратилась ко мне – так же как в свое время господин Крёк. Я очень хорошо умею находить вещи.
Я чувствую, что меня уже увлекла эта тайна. Может быть, это из-за Баса. Или потому, что это еще один способ наплевать на правила нацистов. Или же потому, что в мире, в котором я ничего не решаю, это то немногое, что я могу сделать. Мне нужно сходить в школу Мириам. Там может быть ее фотография, и, возможно, удастся что-нибудь разузнать об этой девушке. Потому что если фру Янссен не ошиблась с хронологией событий, и если собака всегда лает, когда кто-то выходит из дома, и если Мириам не могла уйти через черный ход… Словом, если все это правда, то эта девушка – привидение.
Глава 5
Я уже почти целый час отлыниваю от работы. Если я немедленно не займусь доставками, фру де Врис пожалуется.
Очередь в мясной лавке выплеснулась из дверей на улицу. Усталые домохозяйки обмениваются сведениями о том, где удалось купить какой-нибудь дефицитный товар. Я, как всегда, не становлюсь в очередь. Как только мясник видит меня, он падает знак и исчезает в задней части лавки. Мне потребовалась по крайней мере дюжина визитов, чтобы завязать отношения. Когда я зашла в первый раз, мясник рассказывал покупательнице, что его дочь любит рисовать. В следующий раз я принесла цветные карандаши и заявила, что они старые и я нашла их в глубине шкафа. Они были совсем новенькие. Я понаблюдала за его реакцией. Примет ли он ложь ради того, чтобы получить желаемое? Позже я рассказала басню о больной бабушке и ее богатых друзьях, которые хотели бы купить мясо из-под прилавка.
Когда мясник возвращается, у него в руках белый бумажный пакет.
– Это несправедливо, – говорит женщина у меня за спиной. Она права. Другие покупатели не очень-то меня любят. Я бы им больше нравилась, если бы была такая же голодная, как они. Но я предпочитаю не голодать.
– Ее бабушка больна, – объясняет мясник. – Ей приходится заботиться обо всей семье.
– Мы тоже заботимся о своих домашних, – возражает женщина. У нее плохой вид. Все устали от бесконечного стояния в очередях. – Нет, дело в том, что она хорошенькая девушка. Вы бы отпустили товар без очереди мальчику?
– Только не такому мальчику, который похож на вашего сына.
Люди в очереди смеются. То ли они находят эту шутку смешной, то ли хотят подольститься к человеку, который снабжает их едой. Мясник поворачивается ко мне и с улыбкой шепчет, что положил в пакет немного лишнего мяса для моей семьи.
Пока я была в мясной лавке, начался дождь. Сверху падают большие капли, смешанные со льдом. Дороги темные и блестящие. Я кладу мясо в корзину и прикрываю пакет газетой, которая быстро промокает. Когда я добираюсь до дверей фру де Врис, у меня стучат зубы, а вода стекает с юбки прямо в туфли. Правда, я все равно уже промочила ноги. Подошвы проносились насквозь, и туфли стали бесполезными в дождливую погоду. Я стучу в дверь фру де Врис. Изнутри доносится звон фарфора.
– Вы дома? – спрашиваю я.
В конце концов фру де Врис открывает дверь. Как всегда, она разодета в пух и прах. На ней шелковое синее платье и чулки с прямыми швами. Ей за тридцать, и у нее царственный вид. У фру де Врис два несносных близнеца и муж, который издает дамский журнал. Он так много времени проводит на работе, что мне удалось увидеть его только раз.
– Ханнеке, входите. – Фру де Врис небрежным жестом приглашает в квартиру. Однако и не собирается освобождать меня от пакетов. И, конечно, ей в голову не приходит поблагодарить за оказанную услугу. А ведь я вышла на улицу в такой дождь только для того, чтобы доставить ей говядину! – Мы с соседкой пьем чай. Вам же никуда больше не надо, не так ли? Вы можете подождать на кухне, пока мы закончим.
Она кивает в сторону женщины постарше, расположившейся на диване, но не знакомит нас. Фру де Врис явно не собирается прерывать беседу, чтобы уделить мне внимание. Она из тех, кто ведет себя так, будто война – всего лишь досадная помеха, не влияющая на жизнь. Сегодня я игнорирую ее предложение подождать на кухне, которое она определенно считает приказом. Нет, я не позволю тебе забыть обо мне! Поставив пакеты на стол, я упорно стою в прихожей. Вода стекает с обуви на пол.
Соседка, седовласая женщина, бросает на меня взгляд, приподняв бровь. Затем она откашливается и снова поворачивается к фру де Врис.
– Как я говорила, они исчезли. Я услышала о них только сегодня утром.
– Просто не верится, – произносит фру де Врис. – Кто-нибудь знает, куда они ушли?
– Откуда? Они незаметно ускользнули ночью.
– Ханнеке, вы не принесете нам еще печенья с кухни? – обращается ко мне фру де Врис. Она берет со стола тарелку, полную крошек, и протягивает мне.
На кухонном столе стоит коробка с покупным масляным печеньем. Она наполовину пуста. Я отправляю в рот две штуки и наполняю тарелку. Из-за угла на меня пристально смотрит пара глаз. Это один из близнецов. Я никогда не помню, как их зовут, и не могу отличить одного от другого. Оба очень избалованы. Вместо того чтобы дать мальчику печенье, я нарочно отправляю в рот еще одно и слизываю крошки с губ.
– Значит, вы думаете, что они спрятались в тайном убежище? – спрашивает фру де Врис. – Они попали в засаду?
– Нет, определенно не попали. Я бы знала: у меня друзья в НСД. Я уже говорила им несколько раз, что в моем здании живет еврейская семья. Если бы их забрали, я бы это поняла. Они удрали среди ночи, как воры.
Я несу печенье в гостиную, производя как можно больше шума, чтобы привлечь внимание фру де Врис. Она прихлебывает кофе.
– Просто не могу поверить, что их никто не видел! Вы уверены?
– Я надеялась, что мне удастся заглянуть в их квартиру. Мой сын с женой ищут более просторное помещение. Знаете, она ждет ребенка. Было бы так славно, если бы они жили в моем здании.
Эта соседка – низкая тварь. Обе они подлые прихвостни нацистов. Но они богатые, а господин Крёк вряд ли обращает внимание на моральные качества при выборе клиентов. Если они могут заплатить, этого довольно.
– Фру де Врис. – Я наконец прерываю их беседу, указывая на окно. Небо затянуто тучами, но дождь прекратился. – Простите, но я действительно должна идти. Раньше лило как из ведра, а сейчас как будто прояснилось. Могу я оставить ваши пакеты?
Если бы здесь не было любопытной соседки, фру де Врис обязательно проверила бы их содержимое. А сейчас она только поднимает бровь.
– Я не знала, что у вас такое плотное расписание, Ханнеке. Возьмите мою сумочку в шкафу в прихожей.
Она вручает мне несколько банкнот, и я даже не даю себе труда их сосчитать. Я кладу деньги в карман и удаляюсь, оставляя на паркете мокрые следы.
Еврейский лицей. Следует ли мне туда зайти? Сейчас четвертый час. День начался с доставки помады женщине, которая живет вместе с дедушкой и бабушкой, затем произошло так много событий. Этот бесконечный день сильно утомил. Меня утомило то же, что и всегда: немецкие солдаты, объявления, вывешенные на улице, все эти секреты, хитрые уловки и затраченные усилия. Я так вымоталась, что, пожалуй, не стоит сейчас заходить в лицей. Потому что усталость помешает быстро соображать на ходу. Я узнала это благодаря работе на черном рынке.
С другой стороны, сейчас идеальное время для проникновения. Началась перемена, и из-за сутолоки никто не заметит постороннее лицо, которое бродит по коридорам. Лицей всего в нескольких кварталах от моего дома, и обычно мне приходится проезжать мимо него по пути с работы. Когда нужно отыскать какие-то вещи, лучше сделать это как можно быстрее. Иначе они достанутся другому. Этому меня тоже научил черный рынок.
Я останавливаю велосипед перед входом в лицей. Архитектура этого здания напоминает мне школу, которую я посещала.
Три года назад мы с друзьями сидели бы в это время на ступенях и спорили о том, куда сходить после занятий. Элсбет объявила бы, что у нее не хватит на это денег. А потом наблюдала бы, как два или три мальчика сражаются за право заплатить за ее кофе или пирожные. Затем она подмигнула бы мне, намекая, что на самом деле у нее достаточно денег. Просто ей нравился этот спектакль. Некоторые отказались бы пойти, сославшись на то, что им надо заниматься. В конце концов Бас сказал бы, что мы все идем в «Коко». И добавил бы, что нарочно завалит контрольную, чтобы те, кто так озабочен учебой, выглядели рядом с ним отличниками.
Теперь Элсбет больше нет, и мне не хочется думать о том, как это произошло.
У «Коко» были еврейские владельцы. Через девять месяцев после начала оккупации в кондитерской произошла драка. Последствия – самая первая облава и сотни трупов.
А Басу никогда больше не придется учиться.
Моя жизнь была разрушена два с половиной года назад. Но сейчас, у входа в лицей, мне кажется, будто это случилось всего две недели назад. А может быть, кирпичи все еще продолжают сыпаться каждый день.
В школе тихо и пусто. В коридорах не видно учеников, из классов не доносится ни звука. Сначала я подумала, что ошиблась и учебный день уже закончился. Но, заглянув в один класс, я вижу учеников. Просто их очень мало: всего пять. Наверное, остальные исчезли: либо их забрали немцы, либо они прячутся в убежище, либо случилось что-нибудь похуже. Вся школа опустела. Это был мир Мириам. Она ходила сюда каждый день, пока ей не пришлось скрываться. Надеюсь, здесь остались ее следы.
Две девочки лет двенадцати-тринадцати поднимают глаза, когда я прохожу мимо их класса. Я машу им, чтобы показать, что у меня нет дурных намерений. Однако на лицах учениц написан страх, и они следят за мной, пока я не скрываюсь из виду.
В следующей классной комнате худой человек в очках читает лекцию, стоя у доски, а девушка в углу прилежно конспектирует. Я тоже всегда сидела в правом углу, впереди. Бас старался привлечь мое внимание, проходя мимо моего кабинета. Он прижимал к стеклу нос или указывал на учителя, беззвучно произнося: «Занууу-да». Мальчик, который сидит в другом углу, ловит мой взгляд и подмигивает мне. Он смеется, и учитель, резко повернувшись к нему, делает замечание. У этого мальчика темные волосы и круглое, как луна, лицо. Он не похож на Баса, но этот жест так напоминает его! Я сразу же отхожу от стеклянной двери, борясь с нахлынувшими воспоминаниями.
Да, зря я сюда пришла. Весьма неудачная идея. Не знаю, почему я не прислушалась к интуиции. Это небезопасное и плохо спланированное предприятие. Меня может увидеть кто угодно, а я не подготовила легенды. Нужно вернуться за фотографией позже. Я приду с взяткой: с настоящим кофе.
«Занууу-да», обычно говорил Бас через стеклянную дверь классной комнаты. Снова это воспоминание.
Эта школа похожа на лабиринт. Никак не могу вспомнить, куда поворачивала, войдя в здание. Прямо передо мной выход – правда, не тот, через который я вошла. Я направляюсь к нему.
– Могу я вам чем-нибудь помочь? – На пороге школьной канцелярии стоит женщина. Она выше меня и всего на несколько лет старше. У нее острый, настороженный взгляд. Волосы уложены узлом на макушке. На желтый кардиган нашита желтая звезда. – Вы заблудились?
– Я уже ухожу.
Она загораживает выход.
– Но зачем вы здесь? Вы же не школьница.
– Я… – Вопреки обыкновению, мне не удается что-нибудь придумать на ходу. – Я искала фотографию.
– Чью?
– Учеников.
– Учеников, – повторяет она. – Каких именно учеников?
– Не важно. Я зайду в другой раз. Не хочется зря вас беспокоить. – Я пытаюсь обойти женщину, но она снова загораживает мне путь. Чтобы выйти, пришлось бы ее оттолкнуть. Судя по всему, она проверяет, действительно ли мне так нужно то, за чем я пришла.
– Какие еще фотографии? – настаивает она. – Зачем вы здесь на самом деле? – тихо произносит она.
– Бас, – вырывается у меня.
От моего спокойствия не остается и следа. Всё в этой школе напоминает о нем: запах мела, парты, школьные коридоры. Я изучала его расписание, чтобы с точностью до минуты знать, когда смогу столкнуться с ним в вестибюле. Бас не был прилежным учеником, но ему все сходило с рук. Его все любили – и ученики, и учителя.
Женщина качает головой и крепко берет меня за руку.
– У нас нет учеников по имени Бас. Кто такой Бас?
Мне больше не удается сдерживать эмоции.
– Бас умер. Я любила его.
Выражение ее лица смягчается, но она по-прежнему смотрит с подозрением.
– Мне жаль, но у нас нет его фотографий. Кем бы ни был Бас. У нас совсем нет ничего. Наши архивы сгорели несколько недель назад при пожаре.
– Я пойду.
Она не отпускает мою руку.
– Я думаю, следует отвести вас к директору. Это незаконное вторжение.
Ко мне медленно возвращается способность соображать. Я выдергиваю руку и протискиваюсь мимо женщины.
– Мне нужно идти.
– Остановитесь. Как ваше имя?
Нет, она не станет на меня доносить. Еврейка не захочет привлекать к себе внимания, даже если нужно сообщить о преступлении. Ей некуда обратиться за помощью.
– Остановитесь, – нерешительно повторяет она. Я продолжаю идти к выходу, и женщина меня не удерживает. Правда, я чувствую на себе ее взгляд: она наблюдает, как я выхожу из здания. Лицей пробудил во мне воспоминания, вызывающие боль.
Я кручу педали, направляясь домой, и холодный ветер дует в лицо. Ко мне возвращается самообладание, и я злюсь на себя. Мне нужно было всего-навсего найти фотографию, а я с этим не справилась. Следовало прийти с взяткой в виде кофе и с хорошо отработанной историей. Я могла бы сказать, что ищу одну девочку, у которой была приходящей няней. Или, допустим, она жила в соседнем доме. Я сочиняю подобные истории каждый день. Да, мне следовало это сделать, а я не сделала. И теперь я уничтожила один из немногих шансов, которые у меня были. Глупо. Непрофессионально. Опрометчиво.
Выполнив несколько поручений мамы, я отправляюсь домой. Но солдаты заблокировали улицы, по которым я обычно езжу. Они маршируют колоннами. Для них это шанс порисоваться, вышагивая в касках и черных сапогах. При этом они поют. Сегодня это «Эрика» – песня о немецких девушках и немецких цветах. Эти чуждые слова и музыка застревают у меня в мозгу.
К тому времени, как я наконец добираюсь до парадной двери, я едва стою на ногах. Заходя в квартиру, я чувствую бархатный аромат. Мама варит горячий шоколад. Зачем? Я же говорила ей, что у нас осталось совсем немного и лучше приберечь к празднику. Мама не из тех, кто любит устраивать импровизированные праздники. По крайней мере теперь.
– Горячий шоколад? Я забыла, что у кого-то день рождения?
Я разматываю так и не просохший шарф и вешаю на крючок у двери. Будь я юной девочкой, я бы уютно свернулась в клубок на диване, с чашкой шоколада в руках, и рассказала маме о трудном дне. Если бы этот дом не держался на мне, я бы поведала родителям, что меня попросили выполнить непосильную работу. И позволила бы маме погладить меня по головке.
– У нас гость, – сообщает мама. Трудно сказать, настоящая это улыбка или фальшивая, потому что ее губы разучились улыбаться естественно. Улыбка кажется почти настоящей.
И только тут я замечаю фигуру в кресле, сидящую напротив отца. При виде этих волос, веснушек и носа сердце выпрыгивает из груди.
Бас.
Но, конечно, это не он. Я так одинока, что на секунду позволяю себе поверить в чудо. Однако у меня не осталось никакой надежды, и я сразу же отказываюсь от иллюзии. Это не Бас. Это Олли.
Глава 6
Олли. Оливье. Лоренс Оливье – в честь британской кинозвезды. Так называл его Бас, когда на него находило настроение подурачиться. Серьезный старший брат Баса, который удивительно похож на него. Правда, у Олли не такие рыжие волосы и не такие голубые глаза. Теперь я вижу, что он совсем не похож на Баса. Это просто обман зрения и обман сердца.
Когда умер Бас, Олли был на первом курсе университета. Сейчас он, наверное, уже оканчивает учебу. Братья никогда не были особенно близки. Бас всегда подтрунивал над Олли, а тот воспринимал его слишком серьезно. Субботними вечерами в их доме Олли издавал театральные вздохи, считая, что мы с Басом мешаем ему заниматься. Я не видела его с заупокойной службы, во время которой фру Ван де Камп цеплялась за Олли и плакала. А мне тогда было совсем плохо. Очень хотелось плакать, но я считала, что не имею на это права. Однажды я зашла в их дом, но фру Ван де Камп ясно дала понять, что не хочет меня видеть. И, честно говоря, я не могу ее в этом винить.
Но сейчас Олли Ван де Камп сидит в гостиной, проигрывая моему отцу партию в шахматы.
– Что привело тебя сюда? – осведомляюсь я, когда он встает и официально целует меня в щеку.
– Моя мать. Она интересовалась, как у тебя дела. Я обещал, что когда в следующий раз окажусь в твоем районе, зайду к вам.
– И это чудесный сюрприз, – говорит отец. – Потому что Олли ужасно играет в шахматы. И он согласился играть на деньги!
Да, Олли не только внешне не похож на Баса. Бас разбил бы наголову моего отца, весело поддразнивая его, а папа притворялся бы расстроенным. Олли проигрывает методично и с достоинством. Олли – эрзац Баса.
– Ты приготовила шоколад, – замечаю я, чтобы что-нибудь сказать. К тому же мне хочется подчеркнуть из вредности, что визит Олли не повод для шоколада.
– Она не собиралась. – Отец шутливо грозит пальцем маме. – Я настоял.
– Я говорил, что не нужно, – вмешивается Олли. – Ведь я ненадолго. Ни к чему зря тратить шоколад. – Наверное, он не слишком сопротивлялся: его чашка почти пуста.
– Вы останетесь на обед, Оливер? – спрашивает мама. – Правда, у нас только шпинат и картофель в мундире. – Отец морщится при упоминании меню. Бюро образования в области питания выпускает бесконечные брошюры, призывающие есть картофельную кожуру, пить снятое молоко и отведать коровьи мозги. Мать свято следует рецептам, приведенным в этих брошюрах. Это ее способ реагировать на войну. – Я буду рада поставить еще одну тарелку. Правда, мы сегодня поздно обедаем, и вы можете не успеть домой до комендантского часа.
Теперь я точно знаю, что у мамы натянутая улыбка. Сейчас самое начало седьмого, а комендантский час начинается в восемь. У Олли полно времени, чтобы добраться домой. Просто дело в том, что приглашение Олли к обеду – отклонение от привычного порядка, а мама этого не любит.
– Благодарю вас, фру Баккер, но я уже поел. Вообще-то я надеялся, что Ханнеке немного прогуляется со мной. – Он с озабоченным видом трет шею. – Я почти весь день просидел, сгорбившись над книгами. Мне было б полезно пройтись. – Мама смотрит на часы на стене. – Мы бы просто немного прошлись по улице, – заверяет он. – Я приведу ее домой до комендантского часа. – Олли указывает на пальто, которое я так и не сняла. – И ты уже одета. Впрочем, возможно, ты хочешь, чтобы мы остались и побеседовали с твоими родителями?
Что-то в последней фразе наводит на мысль, что это вовсе не приглашение. Он предлагает поговорить наедине во время прогулки, но если я откажусь, выложит все при моей семье.
– Я скоро вернусь, – обещаю я маме, потом бросаю взгляд на Олли. – Очень скоро.
Хотя дождь прекратился, на улице еще мокро. От влажного холода кажется, будто я заледенела и насквозь промокла.
Олли и не собирается предложить мне помощь. Сунув руки в карманы, он идет вперед. По-видимому, не сомневаясь, что я последую за ним. И поскольку у меня нет выбора, я так и делаю.
– Мы давно не виделись, – замечает он. – У тебя теперь длиннее волосы. Ты выглядишь старше.
– Это лучше, чем второй вариант, – сразу же отвечаю я. Это любимая шутка моего отца. Так он отвечает, когда кто-нибудь говорит, что он постарел. Олли склоняет голову набок.
– Что за вариант? – спрашивает он.
И теперь я не знаю, что сказать. Дело в том, что единственная альтернатива в данном случае – смерть. А после гибели Баса мы с Олли больше так не шутим.
– Куда мы идем? – осведомляюсь я, не ответив на вопрос.
Он пожимает плечами, как будто на самом деле не думал об этом.
– Площадь Рембрандта?
Это одна из моих любимых площадей Амстердама, со статуей художника в центре. Вокруг площади расположены кафе, куда мама водила меня, когда хотела побаловать. Кофе для нее, горячее анисовое молоко для меня. Уже два с половиной года я не выношу вкус молока с анисом. Я пила его, когда услышала по радио, что Голландия сдалась.
Олли спрашивает о работе, я его – об учебе. Он говорит, что переехал из родительского дома и снимает квартиру вместе с приятелем, поближе к университету. Но оба мы слушаем вполуха, и когда доходим до угла, я перестаю притворяться.
– Зачем мы здесь на самом деле, Олли? Сомневаюсь, что твоя мать действительно думает обо мне.
– Держу пари, что она думает о тебе каждый день, – возражает он. – Потому что ты связана с Басом.
Не знаю, намеренно ли он причинил мне боль.
– Но ты права, – продолжает он. – Я здесь не из-за этого. – Впереди медленно идет другая пара. Они склонили головы друг к другу – сразу видно, их любовь только начинается. Олли останавливается, притворяясь, будто читает плакат на стене. Я сама часто использую этот прием. Он не хочет, чтобы та пара нас слышала. – Что тебе понадобилось в еврейском лицее, Ханнеке?
– Где?
Он повторяет вопрос.
Я сглатываю слюну.
– С какой стати мне ходить в еврейскую среднюю школу?
– Зачем ты лжешь?
– Я свою окончила. Правда, не с такими отметками, как ты. Но мне все-таки выдали аттестат.
– Ханнеке, перестань притворяться дурочкой. Меня-то не ждет мама, волнуясь из-за комендантского часа. Я могу болтать с тобой хоть до рассвета. Или, возможно, нас арестуют. Смотря что ты предпочитаешь.
Он ехидно улыбается, и я сдаюсь.
– Если я там и была, откуда ты это знаешь?
– Моя подруга Юдит – секретарь лицея. Она заходила ко мне час назад, чтобы рассказать о странном происшествии.
Юдит. Должно быть, это та еврейская девушка с острым взглядом и узлом волос на макушке.
– Юдит поведала, что заходила одна девушка. Она утверждала, что ищет фотографии мальчика по имени Бас, которого любила и который мертв. Это напугало Юдит. Она подумала, что, возможно, ты нацистский шпик, и в ужасе прибежала ко мне.
Парочка впереди нас тоже останавливается. У женщины сердитый вид. Значит, я ошиблась, и это не первое свидание. Эти люди знают друг друга достаточно долго, чтобы ссориться.
– Но как ты понял, что это была я?
– Я попросил Юдит описать эту особу. Она сказала, что это была высокая девушка лет восемнадцати, с волосами цвета меда и сердитыми зелеными глазами. А еще она сказала – цитирую дословно: «Девушка, которую Гитлер с радостью поместил бы на арийские плакаты». – Он делает паузу, давая мне возможность оправдаться. Но нет никакого смысла лгать. В доме Ван де Кампов имеются мои фотографии. Олли может показать их Юдит, и она подтвердит, что видела именно меня.
Мы дошли до статуи в центре площади. Олли тянет меня за рукав в тень памятника. Затем, повернув лицом к себе, наклоняется совсем близко.
– Так что ты там делала?
– Я кое-что искала. Вот и все.
– Я это знаю. Но уж точно не фотографию Баса, который не был евреем и не ходил в эту школу.
– Я не могу тебе сказать.
Он закатывает глаза.
– Не можешь? Думаешь, мне будет так трудно понять?
Меня раздражает строгий тон Олли. Что он знает о жизни? Пусть я на три года моложе, но это он далек от жизни. Этот студент университета ничего не знает о реальном мире.
– Если только ты не… – снова начинает он, и его глаза блестят. – Ханнеке, ты же не была там по заданию НСД, не так ли? Я слышал от нескольких людей, что ты работаешь на черном рынке. Но ты же не сотрудничаешь с НСД?
Хорошо бы ответить «да», потому что тогда Олли оставил бы меня в покое. Он прекратил бы задавать вопросы, и я бы никогда больше его не увидела. Но гордость не позволяет мне так нелепо солгать.
– Конечно, нет.
Я смотрю в глаза Олли. Они не такие голубые, как у Баса. Еврейский лицей – единственный ключ, до которого я смогла додуматься.
– Ты можешь представить меня Юдит?
– Так тебя интересует Юдит?
– Нет. Я просто… Я ищу одного человека. Быть может, Юдит могла бы рассказать о нем побольше.
Теперь Олли отвернулся от меня, притворяясь, будто читает надпись на пьедестале статуи Рембрандта. Но он смотрит на нее гораздо дольше, чем требуется. Когда он наконец нарушает молчание, то произносит очень тихо:
– Ты спрашиваешь о het verzet?
– Нет. Я же не сумасшедшая. – Я удивлена, что Олли вообще упоминает Сопротивление. Он же никогда не нарушал закон. – Это другое.
– Ханнеке, я не стану тебе помогать, если ты не скажешь, для чего требуется моя помощь.
– Я не собираюсь делать ничего плохого, Олли. Но я не могу сказать, потому что это слишком опа… – Я резко обрываю фразу. Если бы я произнесла слово «опасно», он бы наотрез отказался помочь. – Потому что обещала одному человеку.
– Потому что это слишком опасно? Вот что ты собиралась сказать?
Я поджимаю губы и отвожу взгляд.
– Ханнеке. – Он говорит так тихо, что я едва слышу. – Что бы ты ни делала, прекрати. Сейчас же прекрати.
– Пожалуйста, отведи меня к Юдит. Мне нужно всего несколько минут. У нее не будет из-за меня неприятностей.
– Пора домой, Ханни. Твоя мама будет волноваться из-за комендантского часа.
У него деловой тон, и он закрывает тему. В конце концов я решаюсь, потому что не вижу выхода. Мириам пропала почти двадцать четыре часа назад. И хотя Олли педант и зануда, он никогда не смог бы стать нацистом и предателем.
– Олли, мне нужно поговорить с Юдит, потому что я ищу одну девушку по имени Мириам. Ей всего пятнадцать. Она ровесница Пии.
Я намеренно упоминаю Пию. Это младшая сестра Олли и Баса, любимица семьи. Я любила эту девочку. Она говорила, что мечтает, чтобы я вышла замуж за ее брата. Тогда я стану ей настоящей сестрой. «Он сделает тебе предложение, после того как окончит университет, уверяла меня Пия. Он безумно в тебя влюблен.
– Зачем ты приплетаешь сюда Пию?
Его светлые глаза сверкают. Ладно, пускай злится. Мне приходилось говорить и кое-что похуже, чтобы получить желаемое. Вероятно, я буду так поступать, пока не кончится война. Судя по тому, как у Олли ходят желваки, мои слова сработали.
– Десять минут, – заверяю я. – Мне нужно поговорить с Юдит всего десять минут. В случае необходимости я могу зайти к ней в школу. Но я не думаю, что ей этого хочется. Я делаю доброе дело, Олли. Честное слово.
Он отворачивается и теребит свои белокурые волосы с земляничным оттенком. Когда он снова поворачивается ко мне, его голос звучит немного громче.
– Как жаль, что ты не поступила в университет, Ханнеке. Там можно познакомиться с очень милыми людьми. Я вступил в студенческий обеденный клуб. Там я и встретил Юдит. Мы собираемся пару раз в неделю.
– Когда?
– Следующая встреча завтра.
– Где?
Он не успевает ответить, так как слышится громкий гортанный смешок. Немецкие солдаты. Двое. Я улавливаю, что у них разговор о Рембрандте. Один из них заявляет, что его любимая картина – «Ночная стража». Этому солдату не повезло: когда началась война, хранители забрали «Ночную стражу» из Рейксмузеума. Они скатали полотно и увезли в какой-то замок за городом.
– Рембрандт. – Любитель искусства указывает на статую, затем на нас. – Хорошая художник, – продолжает он на ломаном голландском. – Рембрандт.
Этот солдат немолодой. С ним следует вести себя как дочь, а не флиртовать. Я собираюсь похвалить его вкус, но меня опережает Олли.
– Рембрандт! Один из наших лучших художников, – отвечает он по-немецки. Его голос звучит спокойно, и у него безупречное произношение. – Вы знаете Ван Гога?
Солдат зажимает нос и отмахивается от воображаемого запаха. Таким образом он ясно дает понять, что невысокого мнения о Ван Гоге. Его друг смеется, и Олли тоже смеется.
– Никакого Ван Гога! – шутит он.
Как приятно, когда в кои-то веки не надо беседовать самой! Можно не напрягаться, с притворной бодростью ведя разговор с немецкими солдатами. Через несколько минут Олли обнимает меня за плечи и уводит от статуи.
– Доброй ночи, – прощается он с солдатами, и они весело отвечают.
Покинув площадь, он всю дорогу не произносит ни слова. И я тоже.
Теперь я часто ощущаю вину, порой злость и постоянно страх. Но обычно я не сомневаюсь в себе. Я тщательно выстроила свою новую жизнь так, чтобы наилучшим образом защищать семью и себя. Однако за прошедшие двенадцать часов я взялась за опасное задание, утратила самообладание в присутствии незнакомки и снова разбередила рану от потери Бака, которая никогда не заживает. И теперь у меня остались только сомнения. Поступаю ли я правильно?
Олли провожает меня до дома, и я по настоянию мамы допиваю горячий шоколад. И только тогда осознаю, что он так и не сказал мне, где будет проходить встреча студенческого клуба. Но когда я готовлюсь ко сну, то нахожу в кармане пальто салфетку Олли, испачканную шоколадом. На ней записан адрес. Это возле кампуса Муниципального университета Амстердама.
Как я познакомилась с Басом.
Ему было пятнадцать, мне четырнадцать. Я уже видела его в школе. Мне нравились глаза Баса, любопытные, как у котенка, и упрямый локон, падавший на лоб, сколько бы он ни поправлял его. Элсбет на год старше меня, так что она училась в одном классе с ним. Она знала двух его друзей. Однажды, когда мы выходили из здания, друг Баса, который был брюнетом, задал вопрос Элсбет:
– Кого предпочитают девушки? Блондинов или брюнетов?
Элсбет рассмеялась. А поскольку она не собиралась упускать шанс пофлиртовать с обоими мальчиками, то ответила, что ей одинаково нравятся и те, и другие.
– Спроси мою подругу, – посоветовала она. Элсбет всегда старалась, чтобы я не оказывалась обделена вниманием. Это раздражало меня, но в то же время я была ей благодарна. – Спроси Ханнеке.
– Как насчет тебя? Кого предпочитаешь ты? – обратился ко мне блондин.
Я и теперь не знаю, как набралась храбрости. Не обращая внимания на обоих мальчиков, я посмотрела на Баса, сидевшего на скамейке. Солнечный свет падал на его темно-рыжие волосы.
– Мне нравятся рыжие, – ответила я и покраснела.
Как я первый раз поцеловалась с Басом.
Ему было шестнадцать, мне пятнадцать. Это случилось после нашего первого настоящего похода в кино, когда я не взяла с собой «дуэнью» Элсбет. За одну улицу до моего дома я предложила слезть с велосипедов и пойти пешком. При этом я сослалась на чудесную погоду. Однако на самом деле мне хотелось какое-то время побыть с ним наедине – там, где мои родители не могут увидеть нас из окна.
– У тебя что-то в волосах, – сказал он.
Я позволила ему коснуться моих волос, хотя знала, что в них ничего нет. А когда он поцеловал меня, то уронил свой велосипед. Велосипед с грохотом упал на землю, и мы оба засмеялись.
Как я видела Баса в последний раз.
Ему было семнадцать, мне шестнадцать.
Наступил вечер. Мои родители тоже были приглашены на его прощальную вечеринку, но они уже ушли. Мама сказала, что я могу побыть еще один час, так как мы с Элсбет пойдем домой вместе. Мы с Басом без конца целовались в темном углу столовой, пока не кончился мой час. Я никогда не забуду его руку на стекле, когда он смотрел на меня из окна…
На самом деле все было не так.
Я не готова вспоминать о том, как видела Баса в последний раз.
Глава 7
Среда
– Как же так! – Фру де Врис с разочарованным видом качает головой. – Я просила «Аматерз».
Я смотрю на зеленую с белым пачку сигарет, пытаясь изобразить скорбь. На самом деле мне хочется дать фру де Врис пощечину. Я достала для нее две пачки сигарет. Да, в 1943 году, в нашей стране абсурда, мне удалось достать две пачки сигарет. Сигареты, а не просто папиросную бумагу и табак для самокруток. Настоящие сигареты! А она еще недовольна, что они не того сорта!
– Я не смогла достать этот сорт, фру де Врис. Мне жаль. Я пыталась.
– Честно говоря, у вас такой вид, словно я попросила луну с неба. Не понимаю, в чем проблема. Я записала, что именно мне нужно.
Она действительно хочет луну с неба. Мне пришлось обратиться к четырем контактам. В конце концов я раздобыла сигареты у женщины, получившей их у немецкого солдата. Она говорит, что он ее бойфренд и дает ей сигареты. А думаю, что она их украла. А еще я думаю, что он вовсе не ее бойфренд и просто платит ей за услуги в постели. Но я не задаю вопросов. Я обращаюсь к этой женщине, только когда нет других вариантов.
У меня пульсирует кровь в висках. Огорчения фру де Врис вызывают только смех: они такие пустяковые по сравнению с проблемами других людей. Один из близнецов отчаянно тянет фру де Врис за юбку. Другой, у которого весьма шкодливый вид, пытается сунуть голову в сумку, чтобы посмотреть, что еще я принесла.
– Прекрати! – строго говорит фру де Врис тому, что тянет ее за юбку. – Мы будем пить чай, как только уйдет Ханнеке.
– Фру де Врис! – Я хочу вернуть ее к теме и применяю одну уловку. – Если вы не хотите эти сигареты, я легко найду того, кто захочет.
Минутная стрелка на высоких напольных часах переходит на следующее деление. Мне пора быть в другом месте.
– Нет! – Она хватает сигареты и прижимает к груди. Только теперь она осознала, что я не обязана их отдавать и она может остаться без них. – Я возьму. Я просто думала… Если бы были какие-нибудь другие…
Что она думала? Что я хлопну себя по лбу и воскликну:
– Ну, конечно! Я совсем забыла, что у меня есть тот сорт, который вы хотите. Просто я прятала их от вас.
– Мама, здесь слишком много народу, – говорит шкодливый близнец, пристально глядя на меня и показывая язык. – Мне не нравится, что здесь столько народу.
– Я уже ухожу, – заверяю я. Ужасный ребенок!
Я могла бы поступить в Муниципальный университет Амстердама, если бы не началась война. Но я бы не стала серьезно относиться к занятиям. Я бы просто проводила в университете время, пока мать Баса не решилась бы наконец отдать ему обручальное кольцо его бабушки. Бас тоже поступил бы в этот университет. Что бы он изучал? Он никогда не говорил о своих мечтах относительно карьеры. Он был не из тех, кто заглядывает вперед. И я не могу представить себе взрослого Баса. В моей памяти ему всегда будет семнадцать. Это и беспокоит меня, и успокаивает.
Здания университета разбросаны по всему городу. Но все знают Агнитенкапел[10]. Это одно из самых старых зданий в Амстердаме – часовня пятнадцатого века. Адрес, который дал мне Олли, на той же улице.
Я собиралась переодеться перед тем, как отправиться на встречу. Туманные воспоминания подсказывали, что на вечеринку нужно прийти нарядной. Но фру де Врис задержала меня, и теперь уже нет времени. На мне розовато-лиловое шерстяное платье, доставшееся от Элсбет. Оно хорошо сидит, но цвет такой мерзкий, что мы с Элсбет называли его просто «Миндалины». Это платье ей подарила бабушка. Элсбет обрадовалась, когда оно стало ей мало, и сразу же отдала мне. Оно служило нам постоянной темой для шуток. Но наконец это платье пригодилось, так как сейчас трудно купить новую одежду. Я ношу все, что нормально сидит. Даже самые уродливые вещи. Даже те, что напоминают о лучших временах.
В клубе ужинов будет полно мальчиков, которые, как и Олли, изучают архитектуру. Их карманы окажутся набиты огрызками карандашей. А еще там будут девушки, цитирующие философов, о которых я никогда не слыхала. Изредка я сталкиваюсь с кем-нибудь из старых друзей, которые поступили в колледж. И тогда у меня возникает комплекс неполноценности. Но, в отличие от меня, ни один из них не выжил бы в тяжелых условиях. Я принимаю боевую стойку, перед тем как постучать в дверь клуба Олли.
Олли наблюдает из окна за входной дверью. Когда он ее открывает, я предъявляю банку с пикулями. Я собиралась принести что-нибудь посущественнее, но не хватило времени. Поэтому я захватила с собой консервированные пикули, которые тайно преподнес мне сегодня бакалейщик. В любом случае никто в моей семье их не любит.
Вопреки моим ожиданиям, Олли не в пиджаке и не при галстуке. У него еще менее презентабельный вид, чем у меня. Рубашка с закатанными рукавами испачкана графитом, как будто он провел весь день за кульманом.
– Добро пожаловать, – сдержанно произносит он, и это заставляет меня усомниться, действительно ли мне рады.
Он жестом приглашает войти в маленькую холостяцкую квартиру. В одном конце комнаты – диван и пара стульев. Напротив – кухонька, в которой сушатся на прилавке разномастные чашки. В комнате всего два человека. У одного юноши полные губы и тяжелые веки; второй красив, с волнистыми волосами. Последний похож на американскую кинозвезду Уильяма Холдена. Оба пьют чай или эрзац из надтреснутых чашек.
– Знаменитый обеденный клуб, – говорю я. – А я-то боялась, что не смогу найти тебя в толпе.
Олли не оценил шутку. Он протягивает руки за моим пальто и вешает его на шаткую вешалку. Не знаю, почему я съязвила – ведь он оказывает мне услугу. Наверное, я просто нервничаю. Если бы он был новым знакомым, на которого нужно произвести впечатление, я бы вела себя иначе. Но это же Олли, которого я знаю сто лет.
– Здесь нет Юдит, – замечаю я громко. – Она придет, не так ли?
– Придет. – У Олли усталые глаза, как будто он занимался всю ночь. – Но не набрасывайся на нее прямо с порога. Дождись, пока закончится заседание клуба. Она не горит желанием с тобой беседовать. Постарайся проявить немного сдержанности и доказать, что ты не совсем спятила.
– Спятила наполовину?
– Обещаешь?
– Обещаю, – сдаюсь я.
– Я старался для тебя и не хочу, чтобы ты подвела.
– Олли, ты собираешься представить меня присутствующим? Или мне тихонько сидеть в углу, стараясь не дышать?
Он корчит гримасу, затем, смягчившись, поворачивается к мальчикам.
– Да, Олли… – добавляю я.
– Что?
– Спасибо, что пригласил.
Олли кивает и ведет меня к кофейному столику.
– Это Лео. – Он указывает на юношу с полными губами. – Он здесь живет, это его квартира. – Затем поворачивается к тому, который похож на Уильяма Холдена. – А это Виллем, мой сосед по комнате. – Уж это имя я точно не забуду: «Виллем» – голландский вариант «Уильяма». У него даже имя такое же, как у американского двойника, кинозвезды.
Лео с шумом роняет чашку на блюдце и вытирает руку о брюки. Затем устремляется ко мне, споткнувшись о кофейный столик. Виллем непринужденно целует меня в обе щеки и предлагает место на диване. Сам он пересаживается на стул, который выглядит менее удобным. У него приветливое, открытое лицо. Не сомневаюсь, что всем, кто встречает его впервые, кажется, будто это старый знакомый.
– Вы были девушкой Баса, верно? – спрашивает он, когда я, усевшись, расправляю платье на коленях. – Я видел его всего раз, но он рассмешил меня. Олли говорит, что он умел всех рассмешить.
– Он действительно умел всех рассмешить. – Меня бы должно рассердить, что какой-то друг Олли якобы знает что-то о Басе. Но у Виллема такая искренняя улыбка, что он не может не нравиться.
– Я рад с вами познакомиться. Мы ожидаем еще двоих. Чай?
Я качаю головой, отказываясь.
– Этот клуб меньше, чем я ожидала. Уютный.
– Вообще-то нас больше. Мы стараемся собираться маленькими группами, а не все сразу, – объясняет Виллем. – Не хочется, чтобы в случае облавы поймали всех. Единственный раз мы собрались все вместе, когда была свадьба нашего друга Пита. Но обычно только маленькие группы. Так лучше для работы.
– Работы?
– Мы много чего делаем, – вмешивается в разговор Лео. При этом он открывает банку пикулей, которую я поставила на стол, и вылавливает один. – Сейчас пытаемся решить…
– Давай подождем, – обрывает его Олли. Он все еще стоит на посту у окна, наблюдая за входной дверью. – Подождем Юдит и Санне.
– Извините, что я не принесла побольше еды, – обращаюсь я к Виллему и Лео. – Я пришла прямо с работы.
Лео хмыкает, доставая второй пикуль.
– Но разве кто-то из нас принес пирожки? Мы пришли с пустыми руками, не так ли?
– Значит, еду доставят остальные? Вы делаете это по очереди, или…
У Лео по подбородку стекает тонкая струйка уксуса, и он стирает ее.
– Что-что?
– Еда. Кто-то один выступает в роли хозяина и приносит всё – или вы делаете это по очереди?
Лео озадаченно смотрит на меня. Он явно понятия не имеет, о чем я вещаю. Я бросаю взгляд на Олли, который определенно прислушивался к нашему разговору. Лео ждет, чтобы я пояснила свой вопрос.
– Прошу меня извинить, – чопорно произношу я. – Я что-то перепутала. Простите, я забыла кое-что спросить у Олли.
Он не поворачивается ко мне, хотя только глухой не услышал бы, как я топаю. Приблизившись вплотную, я тихо шепчу:
– Олли, куда ты меня привел?
– Что ты имеешь в виду? – Он поднимает брови.
– Ты знаешь, что я имею в виду. Что это за заседание? Юдит не собирается приходить, не правда ли? – Мое сердце колотится. – За кем ты там наблюдаешь?
Сделала ли я глупость, доверившись Олли? Он казался надежным. Однако нацистского осведомителя невозможно опознать по виду. Я направляюсь к вешалке, но в этот момент Олли кивает на дверь. На другой стороне улицы появляются две фигуры, и одна из них – определенно Юдит.
– Что это за заседание? – снова спрашиваю я.
– Оно сейчас начнется, – отвечает он. – Если собираешься уйти, будь осторожна на выходе. Дверь быстро захлопывается.
Значит, он не станет меня удерживать. Но если я уйду, то упущу единственный шанс поговорить с Юдит о Мириам. Я должна принять решение в долю секунды. Насколько сильно мое желание найти пропавшую девушку?
– Это мы, – шепотом произносит резкий голос. – Юдит и Санне.
Олли открывает дверь.
Юдит действительно впечатляет: бледная пергаментная кожа, черные как смоль волосы, острый взгляд, которым можно резать стекло. Вторая девушка, Санне, приветливая, пухленькая и хорошенькая. У нее белокурые, очень светлые волосы.
– Простите, что мы опоздали. Дороги перекрыты, – объясняет Санне. Потрепав Олли по плечу, она идет здороваться с Лео и Виллемом.
Прежде чем я успеваю обратиться к Юдит, она проходит мимо и усаживается на диване, между Лео и Виллемом. Она даже не взглянула на меня. То ли погружена в свои мысли, то ли намеренно игнорирует.
– Юдит, – начинаю я, но в этот момент Олли откашливается. Позже, беззвучно говорит он мне. После заседания. Ты обещала.
Он садится на краешек дивана, а Санне занимает один из стульев. Заметно, что она делала это миллион раз. Здесь у каждого свое привычное место.
– Ханнеке? – Олли смотрит на меня. Я единственная осталась стоять, застыв между дверью и диваном. – Ханнеке, ты садишься?
Передо мной только одно незанятое место: низенькая скамеечка для ног, обитая вельветом. Я медленно иду к ней и сажусь.
– Это Ханнеке, – обращается Олли ко всем и больше ничего не добавляет. Значит, меня ждали. Наверное, было голосование или хотя бы дискуссия на эту тему. – Как я всем вам говорил, я за нее ручаюсь.
Своей последней фразой он ставит меня в ужасное положение. Потому что теперь поздно заявлять, что ему не следовало ручаться за меня. Разве Юдит станет беседовать со мной о Мириам, если я скажу, что мне нельзя доверять? И все же… Во что он меня втягивает?
– А теперь, – продолжает Олли, – первый пункт повестки. Мы должны обсудить проблему с продовольственными карточками. Немцы все строже и строже…
– Неправильно, – перебивает Виллем. – Первый пункт повестки – что именно мы празднуем. Давайте договоримся. Мой день рождения отмечали в этом месяце уже дважды.
– А у нас с Лео уже несколько раз была помолвка, – добавляет Санне.
Виллем поворачивается ко мне и объясняет:
– Мы всегда притворяемся, будто у нас какое-то торжество. Все мы ссылаемся на это, если нас останавливают на улице.
– А еще мы говорили, что изучаем Библию, – почти шутя произносит Санне. – Но однажды меня остановили, и солдат спросил, какую часть Библии мы читаем. Я ответила, что мы изучаем Книгу Бытия. Потому что это единственное, что я помнила. И тогда мы решили, что никто из нас не знает Библию достаточно хорошо, чтобы прикрываться этим.
– Пусть сегодня будет мой день рождения, – предлагает Лео. – На самом деле он на следующей неделе, так что недалеко от истины.
– Как я уже говорил, – продолжает Олли, – у нас проблема с карточками. Поддельные изготовляются недостаточно быстро. С последнего месяца мы взяли на себя заботу еще о шестнадцати людях. Одному человеку невозможно справиться с таким количеством карточек. Нам нужно подыскать еще кого-нибудь, кто будет подделывать их. Или найти другое решение. – Мне не нравится, что при этом его взгляд останавливается на мне.
– В Утрехте есть свой человек в конторе, занимающейся продовольственными карточками, – замечает Виллем. – Они инсценировали кражу. Один служащий доложил, что кто-то проник в контору. На самом деле он сам украл карточки и передал их группам Сопротивления.
Я стараюсь сохранять спокойствие во время этого разговора. Мошенничество с продуктовыми карточками… Я сама этим занимаюсь. Но вместо того чтобы использовать карточки для продажи товаров с выгодой для себя, они передают их Сопротивлению. Для чего? Продукты и товары для участников Сопротивления? Или для людей, которые прячутся в убежищах?
– Юдит, возможно, твой дядя кого-нибудь знает? – спрашивает Олли. – При его связях в совете?
Еврейский совет. Значит, готовность Юдит выходить из дома поздно вечером и смелое поведение в школе объясняются тем, что ее дядя в совете? Этот совет создан для связи с нацистами, он передает приказы немцев. У его членов немного больше свободы, чем у других евреев.
Юдит качает головой.
– Даже если и знает, я не могу его просить. Он убил бы меня, если бы обнаружил, что я хожу на эти собрания.
– Я могу что-нибудь разузнать в Утрехте, – говорит Виллем. – Возможно, их человек в конторе, ведающей карточками, знает кого-нибудь в нашей конторе.
Значит, эти пятеро в Амстердаме – часть большой сети, которая, быть может, раскинулась по всей стране. Хотя мне страшно от того, что я здесь нахожусь, я не могу не ощущать профессионального любопытства. Должно быть, их операции имеют большой размах. Как они находят продавцов, которые сотрудничают с ними? Насколько качественно работает специалист, подделывающий карточки? А в Утрехте солдаты патрулируют более небрежно, чем в Амстердаме?
Я несколько отвлеклась, но меня заинтересовал конец фразы Юдит:
– …а потом они приносят карточки в Холландше Шоубург[11].
– В театр? – перебиваю я. Что же из их беседы я пропустила? – Почему карточки попадают туда?
– Ты не знаешь о Холландше Шоубурге? – Олли впервые за все время обращается ко мне. По-видимому, я разочаровала его.
Конечно, я знаю этот театр. Неужели он не помнит, как я ходила туда вместе с ним? В ту зиму мне было пятнадцать, и Ван де Кампы пригласили меня на рождественскую премьеру в Шоубург, старый театр. Мама позволила по этому случаю надеть ее жемчуга. Ван де Кампы отправились в театр всей семьей. Я сидела рядом с Олли, а с другой стороны Бас держал меня за руку. Олли только что поступил в университет. Он был в новых очках, очень серьезный и важный.
– Это театр, – говорю я. – Или был им раньше. Сейчас он закрыт, не так ли?
Олли кивает.
– Да, это был театр. Они переименовали его в Еврейский театр, и теперь это центр депортации. Евреев хватают во время облав и доставляют в Шоубург. Там их держат несколько дней, а затем увозят. Главным образом в Вестерборк[12], но иногда и в другие пересылочные лагеря.
Значит, этот чудесный театр с бархатным занавесом теперь стал огромной камерой для арестантов. У меня есть клиенты, которые живут в том районе. Это отвратительно! Немцы превращают самое прекрасное в нашем городе черт знает во что!
– Я не знала, – признаюсь я.
– А куда, по вашему мнению, посылают евреев? – обращается ко мне Юдит.
– В трудовые лагеря. Или переселяют в другую страну.
Трудовые лагеря – вот что нам всегда твердят. Я просто никогда не думала о том, каким образом туда попадают еврейские арестанты.
– Трудовые лагеря? – с издевкой произносит Юдит. – У вас это звучит так, будто евреи просто отправляются на работу. Вы понятия не имеете о садизме и жестокости в этих местах.
Я хочу попросить Юдит, чтобы она объяснила подробнее, но тут вскакивает Санне. Она пытается разрядить обстановку.
– Вполне понятно, что вы об этом не знаете, – обращается она ко мне. – Нацисты тщательно скрывают свои зверства. В Шоубурге они держат всех взаперти до самой отправки. Совет заботится о еде и одеялах для пленников. Это все, что он может сделать. Юдит работает там волонтером, несколько раз в неделю, а ее кузина – в детских яслях.
– Там есть ясли?
Юдит корчит гримасу.
– Немцы считают, что возник бы беспорядок, если бы дети находились в театре вместе с родителями. Малыши ждут в яслях, пока не приходит время отправки их семей.
Я не знаю, что сказать. Олли снова откашливается и берет бразды правления в свои руки.
– Итак, Виллем займется переговорами с Утрехтом, – говорит он. – Как ты думаешь, Виллем, когда сможешь с ними пообщаться?
– Подождите, – перебиваю я.
– А после того, как Виллем и Юдит проконсультируются с… – начинает Лео.
– Подождите! – Все умолкают и смотрят на меня. – В Шоубург попадают все или только те, которым велено явиться?
У Лео озадаченный вид.
– Что вы имеете в виду?
– Допустим, кто-то не намечен к депортации, и его просто схватили на улице. При нем документы, сидетельствующие о том, что он еврей. Так вот, его доставят в театр или в какую-нибудь другую тюрьму?
На мой вопрос отвечает Олли.
– Существует несколько менее крупных центров депортации в других районах города. Но в основном людей доставляют в Шоубург. Если лицо еврейской национальности исчезло, он или она, то, скорее всего, ее доставили в Шоубург.
Я заметила, что он употребил местоимение «ее». Таким образом намекнув, что меня интересует не сам процесс, а лишь одно конкретное лицо. Дискуссия о продовольственных карточках невольно напомнила мне о цели моего визита.
– Мириам может быть в Шоубурге? – спрашиваю я.
Юдит и Олли переглядываются.
– Теоретически да, – осторожно отвечает Олли.
– Как мне выяснить, там ли она?
– Это сложно.
– Насколько сложно?
Олли вздыхает.
– Есть один еврей, которого назначили ответственным в Шоубурге. Мы так часто к нему обращаемся, что я не могу просить о личной услуге. Нужно заботиться о благе максимального количества людей.
– А не могла бы я просто передать ей сообщение? Ведь это возможно, не правда ли?
Олли проводит рукой по глазам.
– Можно нам сначала закончить с вопросами, которые входят в повестку? А потом, в конце вечера, поговорить об этом?
– В повестку?
Конечно, мне не стоило настаивать. Кому захочется помогать той, что ведет себя как капризный ребенок? Но в эту минуту я не в состоянии сдерживаться. Олли притащил меня сюда, не сказав толком, куда мы идем. И я наконец-то узнала информацию, которая может быть полезной. И тут он заявляет, что мне невозможно помочь. И даже толком не объясняет почему.
Собравшиеся возобновляют беседу о карточках и фальшивых удостоверениях личности. Но это не имеет никакого отношения к поискам Мириам. Ей всего пятнадцать лет. Откуда ей знать, что Сопротивление может помочь с фальшивым удостоверением личности? Она понятия не имеет, что делать. Вероятно, сейчас совсем одна и очень напугана. Уже сорок восемь часов, как она пропала. Возможно ли, что за это время пятнадцатилетнюю девочку не схватили на улице?
Когда официальная повестка исчерпана, я, пристально взглянув на Юдит, отвожу ее в сторону.
– Юдит?
– Да?
– Могу я побеседовать с вами одну минуту?
– Мы уже беседуем, – сухо произносит она. Но в каждом слоге слышится: Не знаю, зачем Олли позволил тебе прийти.
– Я хотела извиниться за то, что пробралась в школу и напугала вас.
– Вы никого не напугали, – лукаво говорит она. – Теперь меня не так легко испугать.
– Ну тогда удивила, – соглашаюсь я. – Простите, что не сказала о своей истинной цели.
– Я могла попасть из-за вас в беду.
– Но я была в отчаянии.
– Все мы в отчаянии.
Если бы Юдит оказалась немецким солдатом, я бы опустила глаза и тихо сказала, что она совершенно права. Но Юдит не немецкий солдат. Вероятно, она презирает подхалимов.
– Я извинилась. И сделала это искренне. Могу снова извиниться, если хотите. Но я пришла сюда, потому что мне нужна помощь в поисках девочки. Она была ученицей вашей школы. – Я стараюсь смотреть не в глаза Юдит, а на переносицу. Мне хочется, чтобы она заговорила первой, и я молчу из упрямства.
– Мириам Родвелдт, – наконец произносит Юдит. – Она перестала ходить в лицей несколько месяцев назад.
– Вы знали ее. Значит, вы солгали? Когда сказали, что фотографии сгорели во время пожара. Это правда?
– Я не солгала. Фотографии действительно сгорели. Я сама устроила пожар. – Она с вызовом смотрит на меня. – Мне не хотелось, чтобы у немцев был список оставшихся учеников. Правда, это не имеет особого значения. Они всегда всех находят.
У меня в мозгу раздается щелчок. Когда началась война, немцы сжигали дома, и мы ненавидели их за это. Но недавно я услышала о пожарах в зданиях, в которых хранятся документы и архивы. Может быть, их поджигают участники Сопротивления, чтобы защитить людей?
– Но вы ее знали? Темные волосы? Маленькая? Возможно, на ней было голубое пальто?
Юдит закусывает губу.
– Я помню, когда у нее появилось это пальто. Она споткнулась и зацепилась за ржавую ограду. Вырвала из пальто большой клок ткани и сильно поранила колено. Помню, я еще подумала, что у нее останется шрам на всю жизнь. Через несколько дней она вернулась. Со швами на коленке и в новом пальто. В то утро шел дождь, и она попросила у меня разрешения зайти внутрь до того, как откроют двери школы. Ей не хотелось, чтобы вымокло пальто.
– Что еще вы о ней помните? – Я с трудом выговариваю слова. Вообще-то я не ожидала, что найду кого-нибудь, кто знал Мириам. Мне уже начинало казаться, что Мириам Родвелдт – привидение, созданное фру Янссен. Но оказалось, что она реальна.
– Почему вы так о ней беспокоитесь? – Юдит пристально на меня смотрит. – Она ваш друг?
– Нет. Я… мне заплатили, чтобы я нашла ее. – Формально это правда, и сейчас мне легче объяснить дело таким образом. Не стану же я рассказывать о себе и Басе. И рассуждать о том, что поиски Мириам – задача, с помощью которой я наведу порядок в мире. Мне все еще неловко от того, что Юдит так напугала меня в школе.
– Только ее? – У нее скептический вид. – Вы здесь потому, что разыскиваете одного человека?
– Пожалуйста, не можете ли вы вспомнить что-нибудь еще?
Юдит вздыхает.
– Немного. Красивая девочка. Наверное, у нее было много поклонников.
– Она была с кем-нибудь особенно близка? Был ли кто-то такой, к кому она могла бы пойти? Или рассказать, где собирается спрятаться?
– Я всего лишь секретарь. Мне приходилось беседовать с учениками, только если они опаздывали на занятия, или им нужен был пропуск, или что-нибудь в этом роде. Мне жаль.
– Вы больше ничего не знаете?
– Я захватила для вас кое-какие вещи. Правда, я сомневаюсь, что они помогут. – Она вытаскивает из сумочки прямоугольный белый конверт без адреса и без штемпеля. – Это просто какие-то старые школьные задания из ее парты. Когда ученики исчезают, они не успевают забрать книги и бумаги. Я их храню на тот случай, если кто-нибудь вернется… Я просмотрела свою коллекцию. Вот что у нас осталось от Мириам.
Она подает мне конверт, и я быстро перебираю его содержимое. Три верхние страницы – задания по математике, следующие две – контрольные по биологии. Никаких фотографий, ничего, что могло бы помочь. Я пытаюсь скрыть разочарование. Ведь со стороны Юдит это было большой любезностью.
– Олли говорит, у вас есть связи, – замечает она.
– Это зависит от того, что вы подразумеваете под словом «связи».
– Олли говорит, вы можете доставать разные вещи. Нам нужно больше продавцов, которым мы можем доверять. И нужны люди, которые могут нас с ними познакомить.
– Я пришла сюда не для этого, – отсекаю я.
– Понятно.
Она смотрит на меня в упор, и мне с трудом удается не ответить ей вызывающим взглядом. Я возвращаюсь к школьным работам Мириам, но в этот момент Олли кладет мне руку на плечо. Я с облегчением поднимаю на него глаза.
– Скоро комендантский час. Я провожу тебя домой. Юдит, Виллем и Санне выйдут через несколько минут.
Юдит встает и надевает шарф.
– Благодарю вас за попытку мне помочь, – произношу я официальным тоном.
Она останавливается.
– Возможно, моя кузина лучше знает Мириам. Она не приходит на эти собрания, потому что еще ребенок. Но иногда кузина нам помогает. Она еще учится в школе. Возможно, я могла бы организовать вашу встречу.
– Пожалуйста! – взволнованно прошу я. – Мне прийти в школу завтра утром? – Я наверняка смогу получить поручение у господина Крёка, для выполнения которого понадобится побывать в этом районе.
– Приходите днем в Шоубург. Мы обе работаем там волонтерами. Ждите нас снаружи. Вы сможете увидеть, чем мы все занимаемся.
Мне вовсе не хочется видеть, чем они все занимаются. Юдит это знает, и именно поэтому предложила встретиться в Шоубурге. Она готова оказать мне помощь, но я должна за это заплатить.
Олли дотрагивается до моего плеча.
– Готова? – спрашивает он.
Я засовываю конверт за пояс, чтобы не пришлось нести по улице в руках.
– Будьте осторожны, – напутствует Олли друзьям.
– Удачи, – отвечает Виллем.
Глава 8
– Ты не имел права.
– Права на что? – Олли окидывает взглядом обе стороны улицы, затем закрывает за нами дверь.
– Ты в Сопротивлении. – Это не вопрос, а утверждение. На улице зверский холод, давно не было так холодно. От моего дыхания поднимается белый пар. Мы торопливо шагаем вдоль канала.
– Давай не будем говорить об этом сейчас.
– Ты в Сопротивлении. Но ты же просто пригласил меня в обеденный клуб.
Он останавливается.
– Раньше это действительно был обеденный клуб. Мы беседовали о книгах и политике. Я вступил в него вместе с Виллемом и Юдит. А потом Юдит пришлось уйти из школы из-за того, что она еврейка. И мы решили, что наша группа не может только обедать и сидеть сложа руки. Нужно было бороться с тем, что неправильно.
Олли снова идет вперед, а я следую за ним. Он такой самодовольный и так бесцеремонно втянул меня во все это.
– Я не могу тебе верить, Олли. – Все мои эмоции последних двух дней – страх, печаль, сомнения, горечь – выливаются на голову Олли. – Как ты мог сделать такое? Почему не сказал, куда приглашаешь меня?
– А если бы кто-нибудь остановил тебя на улице? – возражает он. – Я хотел, чтобы ты могла спокойно ответить, что идешь повидаться с друзьями. Я же не знал, умеешь ли ты лгать.
Я очень хорошо умею лгать – лучше, чем думает Олли. Он никогда не видел, как я кокетничаю с солдатами, в то время как к горлу подступает тошнота. Или как убеждаю родителей, что моя работа заключается исключительно в том, чтобы заказывать цветы и утешать скорбящие семьи. Как искусно я делаю вид, будто осталась невредимой после смерти Баса! Нет, это Олли не сумел бы солгать.
– Ты – и в Сопротивлении? – говорю я. – Но ты же всегда был таким законопослушным.
Он издает безрадостный смешок.
– А ты не думаешь, что именно законопослушные лучше всех борются с нацистами? Ведь борьба – это не только рискованные подвиги и взрывы. У нас много нудной бумажной работы.
– Олли, зачем ты меня туда привел? – повторяю я. – Я же не напрашивалась. Зачем было втягивать меня во все это? Ты просто мог организовать встречу с Юдит в кафе. И вообще, почему ты мне доверяешь? А если я расскажу полиции обо всем, что видела?
Он резко оборачивается, и его взгляд становится холодным.
– Ты собираешься это сделать? Пойдешь в полицию? По твоему мнению, мы поступаем неправильно?
– Ты знаешь, что я так не думаю.
Однако в этом мире можно либо поступать правильно, либо быть в безопасности. По сравнению с опасностью, которой подвергает себя Олли, моя работа – ничто. Торговля товарами с черного рынка или поиски Мириам не бесконечны, тогда как работа Олли бесконечна. Борьба – бездонная пропасть, которая поглотили бы меня целиком. Нацисты могут посадить в тюрьму торговца с черного рынка. Они могут посадить в тюрьму людей, которые прячут евреев, или отправить их в трудовые лагеря. Но участников Сопротивления, пойманных на краже продовольственных карточек и подрывающих нацистский режим, могут расстрелять. По крайней мере, тех, кому повезет. А невезучих сначала будут пытать. Зачем переворачивать вверх дном мой тщательно налаженный мир?
– Мне просто не хочется присоединяться, – говорю я. – Я девушка с арийского плаката – помнишь, Олли? Я не собираюсь участвовать в Сопротивлении. Я достаю сыр с черного рынка.
– Нам нужен сыр с черного рынка! Нам нужна еда для onderduikers в тайных убежищах. Нам нужны фальшивые удостоверения личности. Нам нужны хорошенькие девушки. Солдаты заглядятся на них и не заметят, как они действуют против…
– Юдит уже указала мне на мою вину. Она ясно дала понять, какие вы все альтруисты. А я нет.
Он внезапно хватает меня за плечи, и я чуть не теряю равновесие.
– Ханнеке, тебе когда-нибудь приходило в голову, что ты лучше, чем кажешься? – От нас обоих пахнет мокрой шерстью. Даже сквозь ткань пальто я чувствую, какие у него холодные пальцы. Я пытаюсь сбросить его руки, но он лишь крепче сжимает мои плечи. – Ты не думаешь, что именно поэтому я привел тебя?
– О чем ты, Олли?
– О том, почему привел тебя. Тебе не может нравиться то, что происходит в этой стране. И у тебя есть возможность помочь нам.
– Но это не означает, что я готова рисковать жизнью. На мне лежит забота о родителях. Если со мной что-нибудь случится, они умрут с голоду. Я и так уже ищу пропавшую девочку и таким образом оказываю сопротивление. Разве недостаточно спасти одну жизнь? Ты слишком многого от меня хочешь. Я не готова сделать больше, и с твоей стороны нечестно просить об этом.
Голос Олли теперь звучит мягче, и взгляд спокойных голубых глаз становится теплее.
– А я думаю, ты хочешь рискнуть своей жизнью. Ты очень давно осуждаешь происходящее вокруг. Тебе было всего четырнадцать, а ты уже рассуждала о том, какой гнусный Адольф Гитлер. Помнишь тот обед?
Я не могу отвести от него глаз. Тот разговор за обедом у Ван де Кампов имел место четыре года назад. Я все говорила и говорила о Гитлере, а фру Ван де Камп пыталась отвлечь меня. Она просила передать то горошек, то булочки. Наконец она не выдержала и сказала, что воспитанные люди не обсуждают политику за столом. Бас даже не обратил внимания, а вот Олли меня слушал. Кажется, он даже кивал. Но это было несколько лет назад. С тех пор прошла целая жизнь, и теперь Олли ничего обо мне не знает. Так что зря он произносит вдохновенные речи. Он не понимает, что Бас погиб из-за…
Олли в последний раз встряхивает меня и отпускает. Затем ерошит свои волосы.
– Мы несем потери, Ханнеке, – тихо произносит он. – Исчезает все больше людей, и их посылают в какое-то адское место. Вот, например, одна из партий, которых отправили первыми. Семьи депортированных мужчин получили открытки от сыновей и братьев, в которых говорилось, что с ними хорошо обращаются. А потом они же получили извещения от гестапо, в которых сообщалось, что все эти мужчины умерли от болезней. Что, по-твоему, это значит? Здоровые молодые люди. Сначала они присылают открытки, уверяя, что у них все прекрасно – и вдруг оказывается, что они мертвы! А теперь вообще никто больше не присылает открытки.
– Ты думаешь, всех евреев убивают? – спрашиваю я.
– Мы не знаем, что и думать. Единственное, что мы знаем – фермы и чердаки трещат по швам от onderduiker. В стране почти не осталось мест, где можно спрятать евреев. Нам срочно требуется помощь от тех, кто располагает ресурсами. От таких, как ты.
– Ты же меня не знаешь, – шепчу я. – Если бы знал обо мне побольше, то не стал…
– Ш-ш-ш, – шипит он.
Он прижимает палец к губам. Все его тело напряглось, и он к чему-то прислушивается. Теперь я тоже слышу – и мы оба застываем на месте. Издали доносятся крики на немецком, которые постепенно приближаются. Приглушенные крики и топот ног по булыжникам. В эти дни такие звуки означают только одно.
Олли нервно сообщает:
– Облава.
Звуки становятся все ближе. Мы с Олли встречаемся взглядом, мгновенно забыв о споре. Он поднимает запястье и резко отдергивает рукав. Сначала я не понимаю, зачем он это делает. Но он щелкает по часам, обращая мое внимание на время. Мы так долго спорили на улице, что можем пропустить комендантский час. Сегодня мы оба без велосипедов, и до моего дома еще целая миля.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы нас задержали в самый разгар облавы, когда солдаты упиваются властью!
– Сюда! – рявкает солдат. Гулкое эхо отражается от булыжников. – Шевелись! – Он уже за углом. Этот солдат с пленниками в любую минуту может появиться на нашей улице.
– Нам нужно… – начинает Олли.
– Следуй за мной. – Схватив парня за руку, я тащу его к маленькой глухой улочке. Мы быстро идем по ней, затем сворачиваем в другую, потом в следующую. Я впервые радуюсь, что в Амстердаме такие извилистые, запутанные улочки.
Мы шагаем рядом, обмениваясь жестами и игнорируя крики, которые все еще слышатся в нескольких кварталах от нас. Я не хочу видеть людей, которых уводят солдаты. Мне не хочется напоминания о том, что меня не забирают, потому что белокурые волосы лучшее спасение.
Сейчас мы идем по проулку. Он такой узкий, что если я вытяну руки, то, кажется, смогу дотронуться до зданий. Здесь безопаснее, чем на главной улице, так как меньше шансов, что нас увидят. Но, с другой стороны, здесь опаснее: если нас увидят, то отсюда не убежать. Я так сильно сжимаю руку Олли, что завтра будут синяки.
Местность становится знакомой. Мы проходим мимо книжного магазина, закрытого на ночь. Иногда я достаю кофе для его владельца. Проходим мимо оптометриста, сапожника, занимающегося починкой обуви. Он чинит мне обувь в обмен на пиво. Я знаю, где кончается эта улица: возле танцевальной студии. Нас с Элсбет заставляли брать там ужасные уроки вальса.
Отсюда рукой подать до моего дома. В случае необходимости можно постучаться в соседскую дверь, притворяясь, будто хотим одолжить яйцо. Кто-нибудь из соседей, вероятно, впустил бы нас. Мы почти в безопасности. Издалека все еще доносится шум облавы. Я ускоряю шаг, чтобы увеличить расстояние между нами и этим ужасом. И вдруг Олли еще сильнее сжимает мою руку.
В конце улицы стоят два человека, отбрасывая длинные тени от винтовок.
Нам нужно продолжать идти. У нас нет выбора. Его никогда нет. Я знаю, что у них зеленая форма, так что мы должны идти вперед. Нам придется пройти мимо них. Если бы мы повернули назад, это выглядело бы подозрительно. Жаль, что со мной Олли. Немецким солдатам не нравится, когда ты подмигиваешь им, идя под ручку с другим парнем. Вероятно, это напоминает о том, что может происходить у них дома.
Дула их винтовок направлены вниз. Они беседуют друг с другом по-немецки, и у них такая быстрая речь, что я не все понимаю. Один из них хлопает второго по плечу и смеется. Непохоже, что они пришли с облавы. Наверное, совершают обычный обход. Нам просто не повезло, что мы выбрали эту улицу.
Я тесно прижимаюсь к Олли, стараясь занимать как можно меньше места.
– Добрый вечер, – говорит Олли по-немецки. Мы осторожно протискиваемся мимо них. Я киваю и улыбаюсь.
Мы проходим мимо, и мое тело начинает расслабляться. Через несколько секунд мы уже будем в конце проулка. Олли тоже идет мерным шагом, делая вид, будто никуда не торопится.
– Подождите!
У нас нет выбора, так что мы останавливаемся. Один из Зеленых полицейских направляется в нашу сторону. Я бросаю взгляд в конец проулка, но Олли дергает меня за руку. Не пытайся бежать, шепчет он. Ведь у них винтовки.
– Подождите, – повторяет полицейский. – Погодите, я же вас знаю. – Он наклоняется, вглядываясь в мое лицо.
Знает? При таком свете трудно его вспомнить. Откуда он меня знает? Может быть, это один из тех солдат, с которыми я флиртовала? Или господин Крёк посылал меня к нему за товаром? И я смеялась над его плоскими шутками, пока совершалась сделка? Или он видел меня недавно, когда я входила в еврейский лицей?
В окне соседнего дома шевельнулась портьера. Обитатели домов по этой улице затаились, безмолвно наблюдая за нами.
– Я действительно вас знаю! – гогочет он.
– Не думаю, – бормочу я с приветливым выражением лица. – Уверена, вас бы я запомнила.
– Да, – говорит он. – Вы та парочка. Романтическая парочка!
– Верно! – соглашается Олли. Он отвечает по-немецки. У него безукоризненное произношение, но он глотает слова, словно подвыпил. – Рембрандт!
– Рембрандт! – подтверждает немец, и теперь я узнаю его. Это тот, кого мы встретили прошлым вечером на площади.
Олли обнимает меня за плечи.
– А как ваш добрый друг, любитель искусства? Мы с невестой любим Рембрандта. Не так ли, дорогая? – Он многозначительно смотрит на меня, и хотя сердце выпрыгивает из груди, я нежно пожимаю руку Олли.
– Наш любимец, – выдавливаю я.
– Если когда-нибудь приедете в Германию, то увидите, что у нас великолепное искусство.
– Непременно, – обещаю я с дружеской улыбкой. – После того как все закончится.
Его глаза сужаются.
– Что закончится?
После войны – вот что я имела в виду. После того как мы вернемся к нормальной жизни. Вряд ли в моих словах был оскорбительный намек, но они явно не понравились солдату.
– После, – повторяю я, лихорадочно пытаясь что-нибудь придумать.
– После нашей свадьбы! – восклицает Олли. – После всей этой безумной свадебной суматохи!
Господь тебя благослови, Олли, Лоренс Оливье! Я впервые вижу человека, который при беседе с нацистами не хуже меня соображает на ходу.
– Как приятно видеть влюбленную парочку! – Солдат щиплет меня за щеку холодными пальцами. – Это напоминает мне о моей жене. Там, дома – когда мы были молодыми.
– За вашу жену! – Олли поднимает в воздух воображаемый бокал.
– За мою жену!
Олли плотоядно подмигивает мне.
– Может быть, пойдем домой, моя будущая женушка?
– За вашу жену! – вопит Зеленый полицейский.
– За мою жену! – вторит ему Олли.
– Поцелуйте ее! – восклицает солдат, и Олли выполняет его просьбу.
Олли целует меня при немецком полицейском и при людях, затаившихся за портьерами. У него мягкие, полные губы, его ресницы трутся о мою щеку. И только мы с ним знаем, что наши губы трясутся от страха.
Что изменилось в моей жизни за последние два дня? Все и ничего.
Я по-прежнему лгу родителям. Они по-прежнему беспокоятся обо мне. И я по-прежнему езжу по городу на стареньком велосипеде, цепенея от страха.
Но теперь моя ложь касается гораздо более серьезных вещей. Я случайно вступила в ряды Сопротивления. Если меня поймают, все кончится хуже, чем если бы меня застукали за продажей пива с черного рынка. Немцы могут убить меня.
А еще я целовалась с братом моего погибшего возлюбленного.
Как я видела Баса в последний раз.
Я пошла на эту грустную прощальную вечеринку, которую устроили родители. Его мать проплакала почти все время, а отец стоял в углу. Он был такой молчаливый и тихий, что люди натыкались на него и говорили: «Простите, я вас не заметил». Я подарила Басу медальон со своим портретом. Он подарил мне свой локон.
Я целовала его в столовой.
А когда я ушла, он побежал за мной и сказал, что у него есть для меня кое-что еще. Это было письмо. Письмо на тот случай, если он умрет. Я должна вскрыть его, если начальство военно-морского флота свяжется с семьей Баса. Наверное, в письме говорилось, как он всех нас любит и скучает и как счастлив был с нами.
По крайней мере, так я себе представляю подобные письма. Впрочем, не знаю. Я так и не вскрыла письмо Баса. Когда он отдал мне конверт на улице, я сказала, что письмо может накликать беду. И добавила, что собираюсь уничтожить его, как только доберусь до дома.
Я уничтожила это письмо. Порвала в клочки и выбросила вместе с мусором.
Поэтому я никогда не узнаю, какими были последние – самые последние слова Баса. Иногда я думаю, что он написал о том, как любит меня. Иногда мне снится, что я вскрываю письмо, а внутри слова: «Я так и не простил тебе то, что ты заставила меня сделать».
Глава 9
Четверг
– Приятно видеть, что ты снова ведешь светский образ жизни, Ханнеке, – говорит папа.
Сегодня днем мамы нет дома. Это тот редкий случай, когда она совершает экскурсию во внешний мир. Мама поехала за город навестить сестру. Вероятно, из-за комендантского часа она там заночует. Так что мы с папой одни. Я забежала домой с работы, чтобы приготовить ему ланч. Сейчас он читает в своем кресле. Я сижу с пакетом школьных бумаг Мириам, пока не пришло время еще одной дневной доставки. Затем я отправлюсь в театр, на встречу с Юдит и ее кузиной. Позже у господина Крёка будут похороны. Надеюсь, он не заметит, если я не вернусь за свой письменный стол.
– Светский образ жизни? – рассеянно повторяю я слова папы.
– Общаешься с друзьями. Как, например, вчера вечером. Не помню, когда ты в последний раз куда-то выходила.
Он прав. Кажется, это было сто лет назад. У нас имелась компания. Бас был заводилой, Элсбет – «плохой девчонкой», а я просто принадлежала к кругу избранных. Однако я не была ни такой дерзкой, ни такой блестящей, как они. Я грелась в лучах чужой славы. Остальные друзья двигались, как маленькие луны, вокруг Баса, Элсбет и меня. Эти двое были моими любимыми. А вчера вечером меня обманом завлекли на встречу участников Сопротивления. И они вовсе не кажутся мне компанией друзей.
– На самом деле Олли вовсе не друг, папа. Он просто… – Я с некоторым опозданием понимаю, что это заявление лишь вызовет подозрения. – Нет, пожалуй, он все-таки друг. Приятно, когда есть с кем побеседовать.
– Ты молода. Приятно, когда есть тот, с кем можно не только побеседовать. – Он подмигивает, и я швыряю ему в голову подушку. – Ты нападаешь на инвалида?
Я бросаю следующую подушку.
– Что бы сказала мама, если бы услышала, как ты подначиваешь меня допоздна гулять с мальчиками?
– Она не возражала, когда ты допоздна гуляла с Басом. Правда, мы всегда думали, что вы двое…
Папа вовремя спохватывается и обрывает фразу. Мне нужно что-то сказать, чтобы нарушить тишину. Но я не могу подыскать слова и только молча смотрю на бумаги Мириам у меня на коленях.
– Что читаешь? – осведомляется папа.
– Старые письма и школьные работы, – отвечаю я. И это правда. Я просто не уточняю, что это не мои старые письма и школьные работы. – Может быть, включим радио?
Папа радостно кивает. Я знаю, мое предложение отвлечет его от дальнейших вопросов. Информация, связь с внешним миром – это бесценно. Нацисты уже отключили большинство частных телефонных линий. У нас больше нет нашей линии. А вот у людей в богатых районах, где живут сторонники нацистов, телефонные линии еще работают. Ходят слухи, что немцы потребуют, чтобы мы сдали наши радиоприемники. Мы с папой уже вытащили из шкафа старый сломанный приемник, чтобы сдать его вместо хорошего.
Предполагается, что мы должны слушать только санкционированную пропаганду. Закон запрещает настраиваться на Би-би-си. Теперь, когда закрыли голландские газеты, это наш единственный источник информации – кроме подпольных газет. Голландское правительство в изгнании иногда ведет передачи на этом канале. Мы называем его Оранжевым радио. Мама запрещает слушать Би-би-си, боясь, что нас поймают. Но мы с папой все равно слушаем. При этом мы закрываем все окна и подсовываем полотенца под двери, чтобы звук не проникал наружу. Папа слушает английских радиокомментаторов. Я не так хорошо, как он, знаю английский и с грехом пополам улавливаю смысл. Позже папа помогает разобраться с тем, что я пропустила.
Под монотонное бормотание радио я возвращаюсь к бумагам Мириам. Судя по датам, школьные работы относятся к позднему лету или ранней осени. Значит, они написаны за несколько недель до того, как она отправилась в убежище. За все работы она получила высшие баллы. Она постоянно вела учет своим отметкам, сравнивая их с отметками одноклассников. Мириам была хорошей ученицей. Ее успеваемость гораздо лучше моей. Кроме школьных работ, здесь несколько вырванных из журналов страниц с изображениями модных платьев и фешенебельных домов.
Тихое жужжание радио заглушается храпом: папа уснул в своем кресле. Я продолжаю разбирать бумаги и обнаруживаю еще одну, поменьше. Она замысловато сложена звездочкой. Когда-то я, забросив математику, потратила два дня на то, чтобы научиться складывать записки звездочкой. Девочки в моей школе именно так складывали бумагу перед тем, как передать ее. Первой научилась Элсбет, а потом обучила всех остальных.
С минуту я вспоминаю, как разворачивается звездочка. Но как только я берусь за правильный угол, остальное получается легко. Это единственная записка, написанная печатными буквами: школьные задания полагается выполнять прописью. Буквы совсем крошечные. Мы с Элсбет передавали друг другу точно такие же. Писали тайком, укрывшись за учебниками, и обменивались ими, выходя в коридор.
Дорогая Элизабет!
Я сижу на математике. У учителя оторвалась подошва на туфле, и каждый раз, как он делает шаг, она издает пренеприятный звук. Этот звук в высшей степени неприличен, и все смеются. Хотелось бы мне, чтобы ты была в классе! Я думаю, Т. заметил меня сегодня, по-настоящему заметил. Это совсем не то, что поднять с пола мою ручку (которую я уронила возле его парты) или извиниться, случайно столкнувшись со мной в коридоре. (Элизабет, я говорила, что прибегала ко всем этим уловкам? Я даже дошла до того, что подкарауливала его у дверей. Дорогая, это чистая правда. Да, я буквально из кожи лезу, чтобы он обратил на меня внимание. Поверить не могу, что в детстве он приходил ко мне домой после школы и ел тосты. А теперь я перед ним робею и не могу сказать и двух слов.) Но сегодня все было иначе! Сегодня на уроке литературы меня вызвали к доске, и я сострила. А Т. засмеялся очень искренне, а потом признался, что это была смешная шутка. Смешная шутка! Значит, я не такая жалкая, как мне казалось. (Или все-таки жалкая?)
Я скучаю по тебе, мой дорогой утенок. Отвечай поскорее, как можно скорее!
С любовью и обожанием,
Маргарет.Я перечитала письмо, потом прочла еще раз. Забытое тепло дружбы согревало страницы.
Разве я не рассказывала Элсбет точно в такой же записке, как в первый раз рассмешила Баса? Сколько таких записок я писала! В них было полно секретов и историй, и они были идеально сложены звездочкой. А сколько записок я получила в ответ! Однажды Элсбет подарила мне для них коробку. Это была старая коробка из-под сигар, обклеенная цветной бумагой и покрытая лаком. Я спросила, сделала ли она эту коробку сама, и она засмеялась: «О господи, нет! Я не собираюсь пачкать руки. Просто увидела ее и подумала, что она тебе понравится, моя дурочка. В нее можно складывать записки». Это так похоже на Элсбет. Щедрая и беззаботная. Она делала подарки так небрежно, что я никогда не чувствовала себя обязанной. «Ты должна соврать Басу, что тебе подарил ее другой мальчик, – сказала она. – Чтобы он приревновал».
Сохранилась ли у меня эта коробка? И узнаю ли я себя в этих письмах?
Моя жизнь – словно неряшливая комната, в которой выключен свет. Смерть Баса – темнота, и ее замечаешь первым делом. Сразу понятно, что что-то не так. Это горе заслоняет все остальное. Но если включить свет, станет заметно, что в этой комнате многое не в порядке. Вся посуда грязная. В раковине плесень. Коврик положен косо.
Элсбет – мой коврик, положенный косо. Элсбет – горе, которое я бы почувствовала, если бы все не было скрыто тьмой.
Дело в том, что Элсбет не умерла. Элсбет живет в двадцати минутах от меня, вместе с немецким солдатом. Она говорит, что любит его. Вероятно, любит. Я однажды встретилась с ним. Рольф красивый и высокий, с приветливой улыбкой. Он сказал, что все мальчики хотят Элсбет, и ему очень повезло, что она выбрала его. Говорил, что работает на какую-то шишку в гестапо, и я должна дать знать, если мне что-нибудь понадобится. Потому что друг Элсбет – его друг. Я пожала Рольфу руку, и меня чуть не вырвало.
Сейчас, когда я смотрю на эту школьную записку, кажется, будто включили свет в неряшливой комнате. В эту минуту меня не отвлекает Бас, и я снова вижу Элсбет.
Эта записка такая жизнерадостная! Точно такие мы писали задолго до войны. Мы гадали тогда, кто может нас полюбить, а кто нет.
Кто такие Элизабет и Маргарет? Может быть, бумаги другой ученицы случайно попали в конверт с работами Мириам? По-видимому, эти девочки – близкие подруги, но учатся в разных классах. Как мы с Элсбет. Я добавляю этот пункт к списку вопросов, которые нужно задать фру Янссен и кузине Юдит. Что еще я узнала о Мириам с тех пор, как впервые нарисовала ее воображаемый портрет? Это было у фру Янссен, почти сорок восемь часов назад. Мириам пользовалась популярностью у мальчиков. Она была хорошей ученицей, требовательной к себе и достаточно честолюбивой. Ведь она следила за своей успеваемостью и сравнивала с успехами одноклассников. Может быть, она была избалованной? В конце концов, родители подарили ей новое голубое пальто, когда порвалось старое. А ведь многие семьи просто починили бы старое пальто. Она… мертва? Или жива?
Она покинула дом, из которого невозможно было незаметно выйти: черный ход был закрыт, а за парадной дверью наблюдали.
Мириам, куда же ты ушла?
Глава 10
Юдит и ее кузине повезло: у них есть дядя, который помог им получить место в Шоубурге. Евреям почти нигде не разрешается работать. Работа в театре, наверное, так же высоко котируется, как работа в еврейской больнице. Я слышала, там ставят особый штамп в удостоверении личности, позволяющий евреям находиться на улице после комендантского часа. А еще их не депортируют. Повезло. Теперь это слово означает лишь то, что в твоем родном городе тебя не хватают, как преступника.
Театр белый, с высокими колоннами. Когда я была здесь в последний раз, с семьей Баса, на фасаде висела цветная афиша рождественской пантомимы. Я подъезжаю к театру на велосипеде. Теперь фасад голый. Снаружи стоят два часовых, которые останавливают меня у двери и спрашивают удостоверение личности. Я не знаю, не навредит ли Юдит, если сказать, что я пришла на встречу с ней. Поэтому говорю, что принесла лекарство для соседки, которую прошлой ночью забрали во время облавы. При этом я указываю на свою сумку.
– Я всего на минутку. Мама сказала, что вы ни за что меня не впустите, – импровизирую я. – Она считает, что у вас нет таких полномочий и вам придется спросить у своего начальника.
Они обмениваются взглядами. Один явно собирается мне отказать – об этом говорит язык его тела. Я наклоняюсь с заговорщическим видом и понижаю голос:
– Сыпь в самом деле отвратительная. Я видела ее своими глазами.
Остается лишь надеяться, что часовые, как и все нацисты, безумно боятся бактерий. Я прикладываю руку к животу, словно от одной мысли о сыпи мне становится дурно. В конце концов один из солдат отступает в сторону.
– Большое спасибо! – благодарю я его.
– Только недолго, – приказывает он, и я прохожу с весьма деловым видом. Нужно запомнить эту новую уловку.
Первым делом меня оглушает запах.
Это пот, моча и экскременты, к которым примешивается еще что-то непонятное. Он окружает меня стеной, через которую не пробиться.
Что случилось с этим театром? Кресла вырваны из пола и сложены штабелями. На сцене нет занавеса – только веревки, с помощью которых его поднимали. Они свисают с блоков, покачиваясь. Вокруг темно, и лишь лампочки дежурного освещения светятся, как красные глаза. А люди! У стен – старухи на тонких соломенных матрасах. Вероятно, они спят здесь, потому что больше тут ничего нет. Молодые женщины примостились рядом с чемоданами. Здесь невыносимо жарко.
В двух шагах отсюда, по другую сторону двери, часовые беседуют о пустяках на свежем воздухе. Мой желудок сжимается – вот-вот вырвет прямо в бывшем фойе. Так вот куда привезли наших соседей! Вот куда забрали господина Бирмана и всех остальных, кто исчез!
– Пожалуйста.
Я поворачиваюсь и вижу пожилого мужчину, который обращается ко мне тихим голосом.
– Пожалуйста, – повторяет он. – Нам не разрешается разговаривать с часовыми. Но я видел, как вы только что вошли, и… Вы не знаете, меня могут послать в Вестерборк? Вчера туда отправили мою жену и детей. Говорят, меня собираются послать в Вюгт[13], но… Я сделаю что угодно, я все отдам, только бы меня послали в Вестерборк.
Я не успеваю ответить, так как меня хватают за рукав. Это женщина, которая подслушала наш разговор.
– Вы можете вынести отсюда письмо? – спрашивает она. – Мне нужно послать записку сестре. Я прибыла сюда вместе с матерью, и она умерла в комнате для больных. Просто мне хочется, чтобы сестра знала. Всего лишь письмо, пожалуйста.
– Я не могу… – начинаю я, но все новые голоса просят о помощи. Здесь темно, и лица людей скрывает тень. – Я не могу, – повторяю я. Но тут меня грубо хватают и тащат в сторону.
– Что вы здесь делаете? – шипит чей-то голос. Я пытаюсь вырваться, но руки крепко вцепились в мое пальто.
– Отпустите! – кричу я, но чья-то ладонь прикрывает мне рот. – Черт… – Ладонь соскальзывает.
– Заткнитесь, Ханнеке! Это я.
Юдит. Это же Юдит! Я узнаю голос, но собственные руки продолжают молотить воздух. Она тащит меня к двери и, взмахнув удостоверением перед часовыми, выходит из театра. Юдит стоит передо мной, скрестив руки на груди. Я жадно вдыхаю воздух, пытаясь вытеснить вонь из легких.
– Нате. – Юдит подает мне белый носовой платок. – А то вас вырвет прямо на улице.
Двое часовых за спиной у Эдит, которые меня впустили, вытягивают шеи. Их интересует, что случилось с девушкой с лекарством. Я вытираю рот, с трудом удерживаясь на ногах.
– Простите.
– Что случилось?
– Я не ожидала увидеть такое, – говорю я наконец.
– А что же вы ожидали увидеть? Отель? Кафе? Толпы людей держат взаперти много дней, и почти ни один туалет не работает. Вы думали, на сцену выйдут актеры и разыграют пантомиму?
Я не даю себе труда ответить. Что бы я ни сказала, это прозвучит наивно. Да, я была наивной. Я знала, что это центр депортации, но эти слова были абстрактными, пока я не увидела, что они значат. Сейчас я могу думать только о море лиц, окруживших меня в здании, которое когда-то было красивым театром.
Теперь я верю всем слухам, которые поведал мне Олли. Слухам о том, что происходит с людьми, которых увозят из Шоубурга и которые не возвращаются. Верю в открытки, написанные пленниками в трудовых лагерях. Их пишут, полагая, что все будет прекрасно, а потом умирают. Я воображаю одну из таких открыток – она написана детским почерком Мириам Родвелдт. Девочку заставили ее сочинить.
– Ханнеке? – Голос Юдит звучит уже не так резко. – С вами все в порядке?
– Я только пыталась найти вас и вашу кузину. – Я выплевываю слова, давясь от отвращения. – Вы сказали, чтобы я встретилась с вами здесь.
– Но я же сказала, что мы встретимся не в театре, а снаружи. – Юдит кивает на красивое каменное здание через дорогу. – Ясли при театре – на другой стороне улицы. Вы можете идти?
Все еще пошатываясь, я следую за ней через дорогу и вхожу в это здание. Я пытаюсь выкинуть из головы все, что видела. Только так я смогу сосредоточиться на цели. Мой мозг жадно впитывает все окружающее. Быть может, новая информация вытеснит увиденное в театре.
У входа в здание нет часовых. Снаружи это похоже на настоящие ясли. Мы заходим внутрь. Юная девушка в белой шапочке медсестры разгуливает по вестибюлю. На руках у нее плачущий малыш, и она пытается его успокоить. Она как-то странно на нас смотрит. Должно быть, я очень бледная и неважно выгляжу. Но, заметив Юдит, девушка улыбается.
– Ты сегодня работаешь? Я не думала, что твоя смена.
– Я просто зашла повидать Мину. И моя подруга тоже.
Юдит ведет нас в комнату, похожую на обычную палату для младенцев в больнице. В плетеных колыбелях спят или возятся малыши. Одна девушка, стоящая к нам спиной, склонилась над колыбелью. Юдит окликает ее по имени, и она выпрямляется. Рядом с высокой Юдит Мина кажется еще миниатюрнее. Но у них определенно есть сходство. У Мины такие же блестящие глаза, как у ее родственницы.
– Кузина! – Она целует Юдит в щеку. – Я как раз думала о тебе. Ты получила…
– Разрешение. Да, получила. Но они спрашивают имя и адрес – на будущее.
– Мы всегда их сообщаем. Но они должны понимать, что имя может измениться. Мы не можем обещать, что проследим…
Юдит кивает, явно понимая этот код. Вероятно, он имеет отношение к фальшивым продовольственным карточкам для еврейских семей. Она дотрагивается до моего плеча:
– Мне нужно заняться делами. Я оставлю вас с Миной и вернусь через час. Ладно? Если получится, попрошу дядю заглянуть в картотеку и узнать, нет ли здесь Мириам.
Когда Юдит уходит, Мина с улыбкой говорит:
– Мне тоже нужно работать. Я должна прогулять малышку Регину на свежем воздухе. Было бы приятно пройтись вместе с вами. Я могла бы ответить на ваши вопросы на ходу. Теперь я осталась без компании. И хотя я люблю малышей, было бы приятно иногда побеседовать с тем, кто умеет говорить. Что вы хотите узнать о Мириам?
Речь Мины льется непрерывным ручейком, и она не делает паузы, чтобы перевести дух. Мне приходится приспосабливаться к веселому журчанию ее речи. Как же ей удается сохранять жизнерадостность? Ведь она работает через дорогу от того здания.
– Я немного знала Мириам, – продолжает Мина. – У нас были совместные занятия по некоторым дисциплинам. Вы не поможете мне с Региной?
Она кивает на кипу стираных одеял, и я начинаю заворачивать одного из спящих младенцев в розовую фланелевую ткань.
В конце концов мне удается придать Регине форму неуклюжего узла. Мина берет сумку с пеленками и припасами.
– Вы не понесли бы вот это? – спрашивает она. Ремень сумки врезается мне в плечо. Кто бы мог подумать, что младенцам требуется столько разных вещей?
– Ну вот. – Мина укладывает Регину в детскую коляску. – Нам хорошо и уютно, не так ли? – Она закатывает глаза. – У меня три брата, и все они младше. Я меняла пеленки, когда сама еще была в пеленках. Ну что, пошли?
Мина ведет меня через черный ход в маленький двор. Затем мы выходим через ворота, принадлежащие соседнему зданию.
– Кратчайший путь. – Мина подмигивает мне, и мы наконец оказываемся на улице, мощенной булыжником.
Пара пожилых женщин улыбаются при виде детской коляски.
– Можно нам заглянуть? – спрашивает одна из них, и Мина останавливается. Женщины воркуют над спящим младенцем. Но как только одна из них протягивает руку к коляске, Мина быстрым шагом отходит от них. Мы снова пускаемся в путь.
– Нужно, чтобы коляска все время двигалась, – поясняет она. – Регина совсем не спала этой ночью. Она проснется, если я буду останавливаться.
Когда мы добираемся до конца квартала, она обращается ко мне:
– Итак, расскажите о себе. Откуда вы знаете Юдит? Вы учитесь в университете? Что изучаете? У вас есть парень?
Я решаю ответить сразу на второй вопрос.
– Нет, я не учусь в университете. У меня есть работа.
Ее глаза радостно вспыхивают.
– Как мне хочется иметь работу! Я хочу быть фотографом и путешествовать. Я уже посещала занятия.
Мина такая… Я подыскиваю правильное слово. Ее энергия и радость бьют через край. Она словно целый мир, полный возможностей.
– Мы можем поговорить о… – Я умолкаю, так как Мина останавливается, чтобы поправить одеяльце Регины. Затем я продолжаю: – Мы можем поговорить о Мириам?
– Что вы знаете о ней?
Я колеблюсь.
– Она была способная. Первая ученица в классе. Может быть, немного честолюбивая.
– Ну это еще слабо сказано. Она была просто помешана на отметках. Правда, тут дело в родителях. Они награждали ее за хорошие результаты. Что до самой Мириам, то, по-моему, ей это было безразлично.
Я улыбаюсь. Теперь эта прилежная девочка, которая пропала, представляется мне совсем в ином свете. У меня было так же: мама с папой говорили, что если бы я постаралась, мои отметки могли бы быть выше. Но Родвелдтам удалось сделать Мириам отличницей, тогда как мои родители в конце концов сдались.
– А что ей не безразлично? – спрашиваю я.
Мина поджимает губы.
– Наверное, домашний очаг? Она все время говорила об узорах на фарфоре, о том, сколько детей ей хотелось иметь и как бы она их наряжала. И все в таком духе.
Мина произносит это с таким удивленным видом, как будто в желании заниматься домашним очагом есть что-то странное. Ее рассказ вызывает у меня сочувствие к Мириам. Я знаю, каково это. У тебя простые желания, а потом отнимают даже их.
– Вы были подругами?
Мина отвечает не сразу.
– Школа оказалась небольшой, так что все друг друга знали. В прошлом году я пригласила ее на свой день рождения: родители хотели, чтобы пришли все девочки. Я даже не помню, пришла ли она. Нельзя сказать, что мы стали подругами. Она была популярнее меня.
– У тебя есть фотографии той вечеринки?
– У меня тогда сломалась камера. Мне подарили на день рождения новенькую, но пленку, которую я заказала, еще не доставили. Урси лучше знала Мириам. Урси и Зеф были ее лучшими друзьями в школе.
– Где я могу найти Урси и Зеф?
– Их нет. Урси покинула школу чуть раньше Мириам, а Зеф – после нее. Я видела Урси здесь, в Шоубурге, перед тем как отправили ее семью.
Весь класс Мириам исчез – один ученик за другим. Все они либо прятались в убежище, либо прошли через Шоубург. Это какое-то безумие, и новая информация только усугубляет бессмыслицу. Я пытаюсь найти девушку, которая исчезла из запертого дома. О ее исчезновении нельзя сообщить в полицию. Если полиция ее найдет, будет только хуже. И все, кто видел Мириам перед ее появлением у фру Янссен, мертвы. Только друзья могли бы догадаться, куда она направилась, но они тоже исчезли.
– Была ли у вас в классе девочка по имени Элизабет? Или Маргарет? Может быть, не в вашем классе, а в каком-нибудь другом?
Мина хмурится.
– Нет, не думаю.
– Просто… – Я перемещаю тяжелую сумку, которуя мне дала Мина, и вытаскиваю из кармана письмо. – Я нашла это в вещах Мириам. Это письмо к Элизабет от Маргарет. Я пытаюсь выяснить, кому оно принадлежит или как оно туда попало.
Прочитав письмо, Мина смеется.
– Что?
– Это Амалия, – говорит она.
– Кто это?
– Лучшая подруга Мириам. Мириам знала ее по прежней школе – еще до того, как всех евреев заставили перейти в один лицей. Амалия всегда писала в классе записки. Несколько раз она попадалась, и ей приходилось читать их вслух.
– Но ее имя было Амалия? Не Элизабет?
– Мириам рассказывала, что им нравится в шутку воображать себя сестрами. Причем королевской крови. Честно говоря, это слегка раздражало.
– Маргарет и Элизабет. Английские принцессы. – Теперь с письмом все ясно. Наверное, Мириам написала его в классе, но вынуждена была спрятать и так и не передала Амалии.
– Ты знаешь, где живет Амалия? Или ее фамилию? Где ее искать?
Мина снова наклоняется, чтобы поправить одеяльце ребенка.
– Я не знаю фамилию, – отвечает она. – И не думаю, что она еще в Амстердаме. Она не еврейка. Мириам говорила, что родители Амалии собирались отправить ее из города.
– Куда? – спрашиваю я.
Мина пожимает плечами.
– В какое-то место возле Гааги. Не в Схевенинген, где тюрьма, а туда, где маленький пляж.
– Кийкдуин?[14] – гадаю я.
– Правильно. Как-то раз Мириам показала нам открытку с отелем, принадлежащим тете Амалии. Это уродское здание цвета морской волны в Кийкдуине. Дайте-ка мне еще раз взглянуть на письмо.
Мина вытягивет шею, напряженно вглядываясь в крошечные буквы.
– Гм-м. Т. – это, возможно… – Она наклоняется, чтобы вынуть камешек, попавший в колесо коляски.
– Ты знаешь, кто такой Т.? Мальчик, который нравился Мириам?
– Может быть, это Тобиас?
Тобиас. Тобиас.
– Он был любимым Мириам?
– Тобиас Розен был любимым каждой из нас. В наших мечтах. Это самый красивый мальчик в школе. На прошлой неделе он мне улыбнулся, и я все еще не могу прийти в себя.
– На прошлой неделе? – Я насторожилась. – Значит, он где-то здесь?
– По крайней мере, был еще несколько дней назад. Его какое-то время не было видно, но я слышала, что он просто болел. Его отец – дантист. Вот и все, что мне известно о Тобиасе. А еще он слишком популярен.
– Ты думаешь, Мириам ему нравилась?
– Кто-то прислал Мириам цветы в ее день рождения. Продавец доставил их на школьный двор до занятий, и ей пришлось взять эти цветы в здание. Она была красная как рак. В цветах не было карточки. Все мы поддразнивали ее, кроме Тобиаса. Он не отрывал взгляда от своей парты. Если он вернется в школу, я могу его расспросить.
– Спроси, не может ли он встретиться со мной. Так было бы еще лучше.
– Ладно. Может быть, я смогла бы побеседовать и с другими одноклассниками. Было бы хорошо, если бы вы снова зашли. У меня осталось не очень-то много друзей. – Она бросает на меня взгляд из-под темных ресниц. – Вы зайдете? О, погодите!
Мина так резко останавливает коляску, что я чуть не налетаю на нее.
– Мы пришли, – сообщает она. Я не следила за нашим маршрутом, но мы прошли большое расстояние и сейчас находимся возле Амстердам Сентрал[15].
– Пришли? – повторяю я. – Зачем мы сюда пришли? Я думала, мы просто гуляем.
– Здесь моя доставка.
О, черт возьми! Мне следовало обратить больше внимания на ее разговор с Юдит. Мина взяла меня с собой на дело. Вот почему сумка, которую она дала, такая тяжелая. Наверное, прикрыла одеялами то, что переправляет: документы или продовольственные карточки. А возможно, и деньги, чтобы кого-то подкупить. Наверное, у меня на плече целое состояние в незаконных бумагах. Я заставляю себя сохранять спокойствие.
– Ну не совсем здесь. – Мина поднимает глаза к небу, чтобы сориентироваться. – Мы должны встретиться у флюгера. – На вокзале Амстердам Сентрал две башни с часами. На одной из них – настоящие часы, на другой – флюгер, который похож на часы. Его стрелки колеблются на ветру. Мина подталкивает коляску к башне с флюгером, вглядываясь в толпу. – Вот она. – Она машет рукой кому-то на площади.
К нам приближается хорошо одетая женщина в дорогом костюме, с аккуратно причесанными белокурыми волосами. Судя по всему, это контакт Мины. Эта дама немного похожа на фру де Врис.
– Я опоздала? – спрашивает она.
– Нет, нет, – отвечает Мина. – Вы как раз вовремя.
– Я ничего не принесла. Мне следовало что-нибудь принести? Кажется, кто-то сказал…
– Не нужно было ничего приносить. Я была счастлива вам помочь. Вы готовы?
Женщина кивает и протягивает руки. Я окидываю взглядом толпу, чтобы убедиться, что никто не смотрит. Затем снимаю с плеча сумку, собираясь передать ее Мине. Она должна вынуть то, что предназначается этой даме. Мина не обращает внимания на мою протянутую руку. Она наклоняется над детской коляской и плавным, привычным движением поднимает Регину.
– Ее зовут Регина, – говорит Мина. Она целует ребенка в лобик, что-то тихо шепчет и передает белокурой даме.
– О! – Женщина откидывает одеяльце и дотрагивается до носика Регины. – Какое красивое имя! Мне его сохранить? Муж всегда говорил, что если у нас будет дочь, он хотел бы назвать ее в честь своей матери.
Мина сглатывает слюну.
– Теперь у вас есть дочь, – заключает она. – Так что позаботьтесь о ней, как сочтете нужным. Чтобы ей было хорошо. Вас ждет автомобиль?
– За углом.
– Значит, у вас все готово.
Кажется, женщине хочется что-то еще спросить, но она молча уходит. Мина смотрит ей вслед, пока та не исчезает в толпе.
Глава 11
– Значит, это и была доставка? – шепчу я. – Ты должна была доставить это? – Мина кивает, затем пускается в обратный путь. – Подожди… Мина, что сейчас произошло?
Она останавливается и смотрит на меня с неуверенным видом. Потом снимает с моего плеча сумку и кладет в коляску.
– Мы никогда не делаем подобное, если у нас нет разрешения от родителей. Некоторые отказываются расставаться. Мы прячем только тех детей, чьи семьи считают, что там они будут в безопасности. Я думала, ты знаешь.
Значит, диалог между Юдит и Миной, который я подслушала раньше, не был шифрованным. И он не имел никакого отношения к фальшивым документам, в которых указаны не те имена, которые были даны людям при рождении. Мина просто предупредила Юдит, что родители, которые отдают своих детей, могут не найти их после войны.
– Сколько? – Мине всего пятнадцать лет, и она едва достает мне до плеча. Неужели она делает это регулярно, при свете дня? – Сколько детей ты пристроила?
– Я? Более сотни. Юдит работает внутри Шоубурга. Она общается с семьями и получает разрешение. Ребенка спрятать легче, чем взрослого, потому что до четырнадцати лет людям не требуются документы. У нас есть свой человек в театре, который подделывает документацию. Как будто этих детей никогда не было в яслях.
Значит, малышка Регина не была прикрытием для незаконного груза. Она сама незаконный груз.
Мина проделывала это более ста раз. Сто нарушений, которые караются расстрелом! А на следующее утро она встает и проделывает это снова. И эта девочка еще щебечет о школе и мальчиках, и о том, чем хочет заниматься после войны! А один раз я ей помогла. Один раз из ста.
Мина искоса смотрит на меня.
– Я думала, вы знаете, – повторяет она. – Юдит вам не сказала?
– Юдит мне не сказала.
– Вы сердитесь?
Не знаю. Эта прогулка – один из множества поступков, которые я вовсе не собиралась совершать. Но Шоубург так ужасен, и Регина такая крошечная, и мы можем сделать так мало. Все мы. Что же мне ответить? Разве я хочу, чтобы Регину оставили в яслях и чтобы ее депортировали? Во что же мне верить? В то, что стоит рисковать ради спасения одной Мириам? Только потому, что меня попросили ее найти? Разве я смогу забыть все, что видела в центре депортации?
– Не знаю… – начинаю я. – Я чувствую…
– Позвольте мне посмотреть на малыша!
Этот голос принадлежит мужчине, который говорит по-голландски с сильным немецким акцентом.
– Добрый день, юные дамы! Прекрасное утро в прекрасном городе!
Я знаю этого солдата – точнее, не его, а этот тип. Это тип солдата, который пытается выучить голландский и раздает детям конфеты. Он добрый – и это самый опасный тип из всех. Добрые в глубине души сознают, что они делают что-то порочное. Сначала они стараются с нами подружиться. Потом их одолевает чувство вины, и они начинают свирепствовать гораздо больше остальных. Потому что им нужно убедить себя, что мы – всего лишь сброд.
– Продолжай идти, – бормочу я Мине. Он не может знать наверняка, что мы его видели. Возможно, он говорит вовсе не с нами.
– Дамы! – повторяет он. – Позвольте мне взглянуть! Я только что узнал, что моя жена родила дочь! Позвольте посмотреть, что меня ждет!
Он направляется к нам с взволнованным видом. Нельзя, чтобы солдат увидел, что в коляске нет ребенка. Он попросит показать наши документы. И заберет нас обеих. Мина приведет их к малышке Регине. Ясли тщательно обыщут. Обычно мне приходится беспокоиться только о себе. Но когда работаешь вместе с кем-то, то отвечаешь за общую безопасность.
Мина непринужденно поправляет шарф. Я вижу, что таким образом она прикрывает желтую звезду Давида на пальто. Я сочиняю в уме историю. Ребенок заболел, и солдату не следует подходить: он может заразиться. Да, что-нибудь отвратительное, с рвотой.
Как ни странно, Мина улыбается.
– Поздравляю! – говорит она по-немецки приближающемуся солдату.
Ей бы следовало понимать, как опасно разгуливать с пустыми детскими колясками! Это может привлечь внимание к тем, кто работает в яслях. Когда немец подходит, она наклоняется над коляской и открывает сумку. Что у нее там? Ружье? Фальшивые документы? Почему я до сих пор не убежала?
Но в сумке – я не верю своим глазам – полно дров! Ветки деревьев, куски досок, щепки и даже скомканная бумага.
– К сожалению, у нас нет ребенка, – поясняет Мина. – Только растопка. Нам не хватает того, что мы получаем по карточкам. Однако примите мои поздравления.
– Очень плохо, – разочарованно тянет он.
Мы наблюдаем, как солдат удаляется. Его поздравляют прохожие, слышавшие наш разговор. Я обращаюсь к Мине только после того, как он оказывается вне пределов слышимости:
– Я всю дорогу несла эту сумку.
– Да.
– Ты знаешь, какая она тяжелая?
– Я много раз таскала ее сама. Ношу с собой одни и те же дрова месяцами. Но это срабатывает. Если меня остановят, то увидят, что я, как и все граждане Голландии, собираю дрова. В этом нет ничего противозаконного.
– Зачем?
– Зачем мы это делаем? Это объясняет, почему я разгуливаю с пустой детской коляской.
– Но тогда зачем вообще брать с собой коляску? – спрашиваю я. – Почему просто не отнести ребенка на вокзал?
– Потому что.
– Почему?
Мина смотрит на коляску и сразу же отводит взгляд. Кажется, она не хочет, чтобы я это заметила.
– Это не важно. Давай вернемся, – говорит она.
– Мина, в коляске что-то еще? – осведомляюсь я.
– Нет. С чего ты взяла?
Я ей не верю. Она столько раз останавливалась, чтобы поправить одеяльце Регины. Не могли же они все время сползать! Нет, тут что-то другое.
Прежде чем Мина успевает меня остановить, я наклоняюсь к коляске и шарю под сумкой с дровами. Наконец я нащупываю под тканью что-то твердое и квадратное. Похоже, там карман. Как же он открывается?
– Не надо! – просит Мина, утратив свою жизнерадостность.
– Что это?
– Пожалуйста, не надо. Я скажу тебе всё. Но если ты вынешь это здесь, нас могут убить.
Убить? И это говорит девушка, которая только что тайком протащила еврейского младенца по улицам оккупированного Амстердама?
– Что значит «всё»? Что в коляске? Оружие? Взрывчатка?
У Мины несчастный вид.
– Камера.
– Камера?
Мина понижает голос.
– Я прочитала в подпольной прессе о некоторых фотографах. Они делают снимки во время оккупации; впоследствии это будут документы. Когда война закончится, немцы не смогут солгать про то, что здесь вытворяли.
– Это группа? И ты в нее входишь?
Мина краснеет.
– Нет, все они профессионалы. Но многие фотографы – женщины. Они могут прятать камеры в сумочках. И когда они фотографируют, никто об этом не подозревает. Это и подало мне идею.
– А вместо сумочки ты использовала детскую коляску, – говорю я. – Но как же объектив?
– Я прорезаю крошечную дырочку спереди для объектива. Ее почти невозможно заметить. И теперь каждый раз, как я беру ребенка на прогулку, можно незаметно делать снимки. У меня на пленках вся война.
– И что же на этих снимках?
– Облавы. Солдаты. Евреи, которых сгоняют в театр. Люди, которых забирают из дома, тогда как соседи и не думают им помочь. Но я фотографирую и хорошее, – продолжает она. – Это кадры Сопротивления. Пусть люди знают, что некоторые из нас боролись. Фотографии убежищ, в которых прячутся onderduikers. А еще я делаю снимок каждого ребенка из Шоубурга. Это поможет воссоединению с семьей после войны.
– Сколько у тебя фотографий?
Это целый пласт Сопротивления, о котором я никогда не слышала. Нам запрещено фотографировать оккупантов. Но в любом случае очень трудно достать пленку. Это один из тех товаров, которые мне труднее всего раздобыть на черном рынке.
– Сотни, – отвечает Мина. – Я всегда просила дарить в день рождения только фотопленку. С тех пор как мне исполнилось восемь лет. У меня большой запас.
– А что думает по этому поводу Юдит?
Мина мрачнеет.
– Она не знает. И не говорите ей, пожалуйста. И ей, и Олли, и всем остальным. Они не поймут. Потому что они считают, что нужно рисковать только для того, чтобы спасти как можно больше жизней. Но я думаю, что эти фотографии тоже важны. Мне кажется, что таким образом я тоже помогаю.
Я не отвечаю. Да, что-то действительно может быть важным для тебя, даже если остальные так не считают. Именно так было со мной, когда я согласилась помочь фру Янссен. Но все же коллекция фотографий может навлечь опасность на всех.
– Я подумаю над этим. Пока что я не скажу Юдит.
Да и что бы я сказала? Целый день я неверно истолковывала то, что творилось у меня под носом. Все ключи были передо мной, но я их не замечала.
Юдит ждет нас в яслях.
– Все прошло хорошо?
– Прекрасно, – заверяет Мина. – Эти приемные родители – хорошие люди.
– Да, неплохие, – вздыхает Юдит. Она откидывает голову и трет затылок – наверное, очень устала. Ведь она работает в школе с раннего утра, а потом приходит сюда. Юдит смотрит на меня. – Для тебя новости. – Она ждет, пока Мина уйдет в палату, и проверяет, не слышно ли ее остальным девушкам. – Я беседовала с моим контактом. Он просмотрел документацию за последние три дня. Согласно записям, через театр не проходил никто по имени Мириам Родвелдт.
– Твой контакт уверен?
Она корчит гримасу.
– Нацисты требуют идеальных записей. Все, кто проходит через театр, имеют при себе документы.
– Спасибо. Спасибо тебе за то, что проверила.
– Тебе ни к чему меня благодарить. Я сказала, что она пока не проходила. Но это всего лишь вопрос времени.
Глава 12
Когда я возвращаюсь домой, Олли ждет на крыльце. Мы не беседовали с прошлой ночи. Ночи пьяных солдат. Так я запечатлею это в своей памяти. «Ночь пьяных солдат» гораздо легче запомнить, чем «ночь отчаянного поцелуя».
После поцелуя немец засмеялся и поздравил нас, хлопнув обоих по спине. А потом он ушел вместе со своим другом. Мы с Олли остались на месте, и нас била дрожь. Мы наблюдали за удаляющимися спинами, пока они не скрылись за углом. Потом мы, не сговариваясь, возобновили свой путь. На этот раз мы были осторожнее: а то вдруг кто-нибудь еще вынырнет из-за угла.
Мы ничего не обсуждали. Когда добрались до крыльца парадного входа, черные шторы на окнах затрепетали. Значит, родители стоят у окна, поджидая дочь домой.
А сейчас Олли поднимается со ступеней, приветствуя меня.
– Я доставил обратно велосипед твоей матери, – говорит он. Мама одолжила ему велосипед вчера ночью, чтобы Олли как можно быстрее добрался до своей квартиры. Он поклялся, что знает маршрут, который солдаты редко патрулируют. – И я видел Юдит, когда ты гуляла вместе с Миной. Я не знал, что они собираются тебя подключить. Зря они это сделали. Еще слишком рано брать тебя на дело, да еще без твоего согласия.
Я поднимаю брови.
– Я совсем забыла. Ты же единственный, кому позволено подключать меня к работе Сопротивления без моего согласия.
Олли краснеет.
– Я думал об этом. Наверное, следовало тебя предупредить. Прости.
Прости. Извинения – это единственное, что плохо удавалось Басу. И дело даже не в том, что он терпеть не мог извиняться. Скорее ему не нравилось прекращать сражение. Больше всего он любил спорить. Бас втягивал меня в глупые дебаты и заставлял страстно защищать позиции, которые на самом деле были мне безразличны.
– И что ты думаешь обо всем этом? – осведомляется Олли.
– Пока что размышляю. – Мне бы хотелось сказать ему больше, но я еще не сформулировала мысли.
– Понятно, – говорит он.
– Юдит и Мина очень храбрые.
– Ты бы тоже могла быть храброй. Просто подумай над этим. Приходи на следующую встречу.
Я отвожу взгляд.
– Ты пришел только для того, чтобы вернуть велосипед? Или хочешь зайти?
Олли скрещивает руки на груди. Интересно, он тоже чувствует смущение из-за того, что произошло вчера ночью?
– Хорошо, – к моему удивлению, соглашается он. – Я зайду, но только ненадолго. Сегодня моя очередь готовить обед. Я не могу оставить Виллема голодным.
Наверху он не снимает пальто до тех пор, пока я не предлагаю. Тогда он раздевается и вешает одежду в шкаф. На нем униформа архитектора: рубашка с закатанными рукавами, испачканная возле манжет. Папа оставил на столе записку. В ней говорится, что какие-то соседи пожалели его, так как мама в отъезде, и пригласили на обед. Грустно, я не знала, что дома никого нет. Тогда бы не пригласила Олли подняться.
– Чай? – предлагаю я и поспешно добавляю: – Он не настоящий.
– Нет, спасибо.
Я уже направлялась на кухню и теперь останавливаюсь посреди комнаты. Если он отказывается от чая, что же нам делать и о чем беседовать?
Олли расхаживает по квартире, рассматривая книги отца. Вытягивая шею, он читает названия, но не снимает ни одну из них с полок.
– У меня когда-то была вот эта. – Он указывает на собрание эссе. Это моя книга, которая случайно затесалась между папиными иностранными словарями. – Не знаю, куда она подевалась.
– Наверное, это и есть твоя книга. Ее дал мне Бас.
– Вероятно, чтобы произвести на тебя впечатление. Не думаю, что он ее читал.
– Я слышала, что немецкой армии несладко приходится под Сталинградом, – говорю я тихо, чтобы не услышали соседи. Я всячески стараюсь поддержать беседу. – Сказали по Би-би-си.
– Ты говоришь по-английски?
– Немного. Папа меня учит.
А потом мы снова умолкаем. Как странно, что из-за какого-то поцелуя Олли кажется незнакомцем.
– Олли… Насчет вчерашней ночи. – Он молчит. Неужели он не помнит, как мы целовались на потеху пьяным солдатам на улице? – Тогда, при солдатах… Ну, то, что мы делали… Когда мы…
– Когда нам повезло, – быстро вставляет он. – Повезло, что мы так быстро сообразили на ходу.
– Ты хорошо справился с ситуацией. Лучше, чем я.
Он пожимает плечами.
– Эта сноровка приобретается с опытом.
– А ты устаешь, когда приходится притворяться и актерствовать? – спрашиваю я.
– Нет. Ведь благодаря этому я остаюсь жив.
Я чувствую облегчение от того, что он так небрежно отмахнулся от инцидента с поцелуем. Но в то же время это вызывает у меня досаду. Получается, я как бы придаю слишком большое значение этому поцелую. А на самом деле он ничего не значит.
– Мина помогла тебе с Мириам? – спрашивает Олли, меняя тему, как джентльмен.
– Мне нужно найти мальчика по имени Тобиас. Его отец – дантист. Завтра я собираюсь обойти практикующих дантистов. – Олли молча кивает. – У меня такое чувство, что нужно успеть, пока не зазвонил будильник. Но я даже не знаю, на какое время он поставлен. Как только я до чего-нибудь докапываюсь, возникает новая проблема. Мне кажется, я участвую в скачках.
– У всех нас так, – говорит Олли. – Для нашей маленькой группы, для всего Сопротивления эта война – скачки. Скачки, от исхода которых зависит, сколько людей нам удастся спасти. И мы должны успеть, прежде чем их не схватят нацисты.
– Если Мириам попадет в Холландше Шоубург, ей оттуда не выбраться. Я это знаю. Там пахнет… – Я не могу подыскать правильное слово.
– Как?
– Не важно.
Олли останавливается перед семейной фотографией, которая засунута за стекло одной из книжных полок. На ней мы втроем на каникулах, за городом. Мы с мамой справа и слева от папы, и обе положили руку ему на плечо. На фотографии не видно, как сильно обгорел мой нос на солнце. Но я хорошо помню тот день. Нос горел, и кожа потом шелушилась несколько дней.
– Это платье как будто мне знакомо, – замечает Олли, указывая на фотографию. – Почему же мне запомнилось это платье?
Это платье из полосатой бумажной материи, с пуговками у воротника. Я чувствую, мое лицо заливается краской. Мне известно, почему он помнит это платье. Но я предпочитаю солгать:
– Не знаю. – Олли берет фотографию, чтобы получше рассмотреть. При этом у него на лбу появляется маленькая морщинка, знакомая до слез. – Ты похож на него, – вырывается у меня. – Похож на Баса.
Он чуть заметно морщится, прежде чем ответить.
– На самом деле нет.
– При таком освещении похож, – настаиваю я. – При свете в моей квартире ты похож на него.
– Может быть, нашим семьям следует поменяться квартирами. Родители, вероятно, заплатили бы много денег за это освещение. – В его голосе слышится печаль. – Они так скучают по нему. Все мы скучаем. Вот почему… – Он обрывает фразу.
– Что?
Он вздыхает.
– Когда я пришел сюда в тот вечер, то надеялся, что уговорю тебя вступить в Сопротивление. А еще мне нужно было убедиться, что ты не работаешь на НСД и Юдит не угрожает опасность. Мне было грустно: Юдит передала твои слова о Басе. Я подумал, что тебе в самом деле тяжело.
– Тяжело, – повторяю я, испытывая облегчение от слов Олли. Хорошо, что не я одна втайне размышляю об этом.
– Но скучать по нему – это нормально, – продолжает Олли. – Мы с Пией все время говорим о нем, о его несносных шуточках, о его смехе. А еще о том, кем бы он стал.
В квартире вдруг становится очень тихо. Я ловлю каждое слово Олли.
– А кем бы он стал? – шепотом спрашиваю я.
– Адвокатом. И политиком городского уровня. У него был бы офис, где он мог бы встречаться со всеми своими избирателями. Он бы спонсировал балы. Он бы любил свою семью. – Глаза Олли увлажняются. У меня перехватывает дыхание. Нам было бы легче, если бы мы могли горевать вместе.
– Это платье из тех времен, – шепчу я. – Вот почему ты его помнишь. Оно было на мне в тот день.
Тот день. Больше мне ничего не нужно говорить. Олли прижимает руку к сердцу, как будто я нанесла удар. Это платье было на мне в тот день, когда мы узнали о Басе. Пия пришла ко мне, чтобы рассказать. Я побежала к Ван де Кампам, и фру Ван де Камп сильно ударила меня по лицу. Олли тогда замер в центре гостиной. Как будто мир рухнет, если он шевельнется. Я пошла домой. Слезы текли по моим щекам много часов, а мама гладила меня по спине. А когда я перестала плакать, внутри словно все высохло. Тогда я плакала в последний раз.
– О, я забыл, – говорит Олли.
– Я приготовлю чай, – предлагаю я. – Тебе не обязательно пить, если не хочешь.
Олли следует за мной на кухню. Он стоит у меня за спиной, и я чувствую: парень следит за каждым моим движением. Мои руки трясутся, когда я беру чайник, и Олли помогает поставить его на горелку.
– Холландше Шоубург, – шепчет он наконец.
– Что?
– Он пахнет смертью. – Таким образом Олли заканчивает фразу, которую я начала. – Вот чем там пахнет. Смертью и страхом.
Страх. Это верно. Да, это именно тот запах, который я не могла определить в театре. Так пахнет моя прекрасная поруганная страна.
Вспоминая бумажный носовой платок с моими слезами, я щадила себя. Я плакала после того, как Бас сказал мне, что вступил в армию.
Мне не нравится вспоминать, что это были слезы гордости.
Нидерланды пытались оставаться нейтральными. Мы хотели быть как Швеция. Хотели, чтобы нас оставили в покое. Гитлер сказал, что оставит нас в покое. Он говорил так до того дня, как оккупировал нашу страну.
Именно я заявила, что вступление в армию было бы символическим жестом против нацистов.
Именно я твердила, что нельзя позволять немцам делать все, что им хочется, и оккупировать одну страну за другой.
Именно я сопровождала Баса в офис военно-морского флота и наблюдала, как он записывается в армию. Офицер все время спрашивал, уверен ли он. Ведь в армию берут только с восемнадцати лет. В армию не принимают добровольцев, не достигших этого возраста. Офицер предлагал Басу отправиться домой и подождать год. На случай, если он передумает.
Именно я сказала офицеру, что Бас хочет вступить в военно-морской флот. Ему необходимо поскорее проявить храбрость. Я уговорила этого офицера записать Баса.
Бас не вступил бы в армию, если бы не думал, что это принесет мне радость.
И это действительно принесло мне радость. А потом – горе.
Тогда я считала, что очень много знаю. Я полагала, что весь мир черно-белый. Гитлер плохой – следовательно, мы должны смело встретить его. Нацисты аморальны, и поэтому они в конечном счете проиграют. Если бы я хорошенько подумала, то поняла бы: у нашей крошечной страны нет абсолютно никакой надежды защитить себя. Ведь даже такие страны, которые больше – например, Польша, – уже пали. А когда Гитлер сказал в своем обращении по радио, что не планирует оккупировать нашу страну и нам нечего бояться, мне бы следовало догадаться. Ведь на самом деле это означало, что его солдаты уже укладывают парашюты и нам очень даже есть чего бояться. Вступление в армию не было символическим жестом. Это было бесплодной затеей.
Вот почему я не говорила с Олли более двух лет. Вот почему Бас приходит в моих снах и сердится из-за того, что я не прочитала его письмо. И вот как я узнала, что быть храбрым иногда очень опасно. Храбрость нужно расходовать экономно. Я одержима желанием найти Мириам во имя справедливости. Загубив одну жизнь, я должна спасти другую.
Это я виновата в смерти Баса. Бас сделал глупость, полюбив меня. Он погиб из-за меня. Это моя вина.
Глава 13
Пятьдесят два часа. Я узнала об исчезновении Мириам Родвелдт пятьдесят два часа назад. Две бессонных ночи. Три столкновения с немецкими солдатами. Один спасенный младенец. Одна пропавшая девушка, которая так и не нашлась. Я не видела фру Янссен с тех пор, как согласилась помочь. Как только Олли уходит, я еду к ней на велосипеде в сумерках, незадолго до комендантского часа. Мне нужно рассказать все, что произошло. Она сразу же усаживает меня за кухонный стол и угощает настоящим кофе и маленькими круассанами. Когда я надкусываю один, рот наполняется миндальной пастой. Это мои любимые. Фру Янссен запомнила это с прошлого раза и поджидала меня с этим лакомством.
– Я размышляла еще о некоторых вещах, – говорит она после того, как я делюсь с ней новостями. – Насчет Мириам. Вряд ли они могут помочь, но я все время об этом думаю. – Она достает лист бумаги и прищуривается. – Номер один. Вы сказали, что было бы опасно идти к соседям. Но Мириам однажды упомянула имя одного славного человека, который занимается ремонтом в ее здании. Может быть, вы могли бы с ним побеседовать? Номер два. Она очень любила кино и знала всех звезд. Кинотеатры еще открыты? Вы могли бы поспрашивать. Может быть, кто-нибудь ее там видел. Номер три. Ханнеке, она была спокойной девочкой. Не любила говорить о семье: это слишком ее расстраивало. Но она не боялась спрашивать о моей семье. Даже о Яне. Некоторые боятся спрашивать о нем, но Мириам задавала много вопросов. Я заходила к ней с чашкой чая, и мы все говорили и говорили до позднего часа. А еще она была вежливая. Терпеть не могла свеклу, но ела без единой жалобы. Она вообще никогда не жаловалась.
Фру Янссен смотрит на меня:
– Мне продолжать?
– Нет. Хотя то, что вы сказали, очень поможет.
Сегодня столько всего случилось: спрятанная камера, и Олли, и ужасное красное мерцание голой сцены в театре. У меня почти не было времени, чтобы разобраться в своих чувствах. И когда я вспоминаю об этом сейчас, мне становится стыдно.
Потому что когда я обещала фру Янссен найти Мириам, все было иначе. Пропавшая девочка – загадка. Способ навести порядок в своем уголке мира и отомстить нацистской системе. Пропавшая девушка, словно пропавшая пачка сигарет. Казалось, я смогу таким образом вновь обрести ту личность, которой была прежде. Но в том ужасном театре, а теперь на кухне фру Янссен… Она рассказывает, как Мириам без единой жалобы ела свеклу – и я наконец-то представляю себе просто напуганную девочку. Одну из многих.
– Мне сжечь эту бумагу? – спрашивает фру Янссен, указывая на записи.
Я колеблюсь, затем киваю:
– Да, вероятно.
– Хорошо.
Она ищет спички возле плиты, но не видит их, хотя они совсем рядом.
– Фру Янссен, где ваши очки?
Ее пальцы взлетают к носу. На переносице еще обозначены две глубокие отметины.
– О, я уронила их. Они за шкафчиком.
– Когда?
– В то утро. После того как вы ушли.
– Это было пару дней назад.
– Я в основном знаю, что где находится в этом доме.
Мне становится дурно при мысли о том, как она, полуслепая, ковыляет с палочкой по дому, натыкаясь на мебель. Да еще запасает миндальные круассаны на случай моего прихода! Ей так хочется, чтобы кто-нибудь задавал вопросы о ее сыне! Она теперь очень одинока.
Я стряхиваю крошки с пальцев.
– Отведите меня к шкафчику. Я достану очки.
Она ведет меня в спальню, приговаривая:
– Я привыкаю жить одна. Мальчики или Хендрик помогли бы мне с очками. А потом Мириам… Она бы тоже помогла. Всегда кто-то был рядом. Знаете, ведь я когда-то была девушкой, мечтающей о карьере, – как вы. Сорок лет назад, когда большинство женщин еще не работало, я встретила Хендрика. Он нанял меня продавщицей в магазин. Я считала себя такой независимой! Но потом моя жизнь изменилась. Я привыкла заботиться о других, и теперь мне не хочется быть одной. Никогда бы не подумала.
Дубовый шкафчик фру Янссен выглядит громоздким и тяжелым. Мне не сдвинуть его одной. Я вижу под шкафом очки, но там такое узкое место, что мне не подсунуть руку.
– Я собиралась попросить Христоффела, когда он придет в следующий раз, – говорит она. – Он должен вернуться завтра.
– Обойдемся без Христоффела. У вас есть длинная палка? Что-нибудь очень тонкое? Может быть, палка, которой вы закрываете портьеры?
После нескольких минут бесплодных поисков фру Янссен уходит в сад за домом и возвращается с плоским деревянным шестом. Он слегка испачкан снизу; сверху прикреплен пакетик с семенами, на котором написано «свекла».
– Это подойдет?
С помощью шеста я вытаскиваю из-под шкафчика очки фру Янссен. Она горячо меня благодарит и, стерев с них пыль, водружает на нос. Через минуту мы уже снова сидим за столом.
– Возможно, все это не имеет значения, – начинаю я. – Но я узнала несколько имен. Это люди, которые могли хорошо знать Мириам. Не говорила ли когда-нибудь Мириам о своей подруге Амалии?
Фру Янссен поджимает губы.
– Не думаю.
– А Урси? Зеф?
– Урси? Может быть. Нет, наверное, я путаю ее с портнихой. Ее тоже зовут Урси.
Я приберегла самое многообещающее имя напоследок:
– А Тобиас? Возможно, он был ее парнем?
– Она действительно говорила о мальчике, который ей нравился, но я не помню… Дайте-ка подумать.
Довольно странно, что Мириам говорила о каком-то мальчике. Ведь она в это время пряталась в убежище, оплакивая родную семью и опасаясь за свою жизнь. Но, наверное, любовь не прекращается даже во время войн. В дне содержится столько часов, что хватает времени и на страхи, и на нормальные эмоции.
– О! – Взгляд фру Янссен проясняется. Она тянется за палочкой и отодвигается от стола. – Я кое-что вспомнила.
Она поднимается и идет к кладовой. Я слышу звяканье. Наконец она возвращается с несколькими банками в руках.
– Я не голодна, – смущенно произношу я, но фру Янссен качает головой. Она принесла банки по другой причине.
– За день до того, как Мириам исчезла, я попросила ее помочь протереть пыльные банки в кладовой, – объясняет фру Янссен. – Мне пришлось отпустить женщину, которая обычно делала в доме уборку. Я боялась, как бы она не услышала Мириам. Мириам уже почти закончила вытирать банки, когда зашла моя соседка. Девочке пришлось прекратить работу и спрятаться. Вот как выглядят те, которые она протерла. – Фру Янссен придвигает ко мне чистую банку. – А теперь посмотрите на эти.
На первый взгляд они кажутся такими же, как те, которые протерла Мириам. Но затем я замечаю, что кто-то рисовал на пыли – вероятно, указательным пальцем. Это напоминает мне рисунки, которые я делаю на окнах, прежде чем вымыть их.
Фру Янссен поворачивает две банки. На первой написано «М», на второй – «Т».
– Я заметила их вчера и подумала, что это просто какие-то закорючки, – говорит она. – Но это не так. Это буквы «М» и «Т».
– Мириам и Тобиас, – предполагаю я.
– Вы думаете, это что-то означает?
Означает ли это что-то? Например, что Мириам убежала из безопасного места, чтобы отыскать мальчика, который ей нравится? Что Мириам рискнула своей жизнью ради отношений, единственным доказательством которых служит загадочная записка и буквы на пыльных крышках банок? Да еще цветы, которые, по словам Мины, Мириам получила однажды в школе? Но разве я не сделала бы то же самое? Даже если бы не видела Баса несколько месяцев, я бы думала о нем каждый день и писала его имя на всем, что подвернется под руку. И разве я не делаю это и сейчас?
Разве любовь – не полная противоположность рациональному?
В ожидании моего ответа фру Янссен снова протирает очки. Она стряхивает частички пыли, приставшие к ним, и что-то шепчет о садовом шесте.
– Гм-м? – рассеянно бормочу я.
– Я подумала, мне следует держать в доме под рукой садовый шест. Тот, с помощью которого вы достали очки. Его можно использовать, когда нужно добраться до недоступных уголков.
Я резко выпрямляюсь, словно меня дернуло током.
– Что вы сказали?
– Простите! Я мешаю вам сосредоточиться.
– Нет, нет. Вы помогли мне, – возражаю я. – Этот шест был в вашем саду за домом?
– Да. У меня небольшой огород: я выращиваю овощи. Конечно, не сейчас, когда зима, а летом. А что?
– Мне нужно снова осмотреть дверь черного хода.
– Зачем?
Я протискиваюсь мимо нее и иду к черному ходу по узкому, тускло освещенному коридору. Все точно так же, как в прошлый раз. Когда дверь не заперта на засов, появляется большая щель, и ветер распахивает ее. Засов тяжелый и черный – по-видимому, он сделан из железа. Пожалуй, мой замысел может сработать. Я приподнимаю засов и отпускаю его. Он тут же падает, но дверь остается незапертой. То же самое происходит и в следующий раз.
Фру Янссен, стоящая у меня за спиной, теряет терпение.
– Я не понимаю, – наконец говорит она.
– Ш-ш-ш. – Я снова поднимаю засов.
Мне уже начинает казаться, что это бессмысленно. Но на четвертой попытке засов запирается со щелчком.
Обернувшись, я вижу, что фру Янссен это заметила.
– Видите? Вы это видели?
– Но вы стоите прямо перед ним, – возражает она. – Мириам не смогла бы это сделать с другой стороны запертой двери.
– Дайте мне садовый шест. Я на минуту выйду наружу. – Огород фру Янссен – всего лишь маленький квадрат замерзшей грязи. В середине зимы здесь, конечно, ничего не растет. Из земли торчат шесты с пакетиками семян, на которых надписаны названия трав и овощей. Одна ямка пустая – там был шест с семенами свеклы.
– Фру Янссен, осторожно! – предупреждаю я через закрытую дверь. – Я собираюсь просунуть в дверь палку.
С помощью огородного шеста я нащупываю железный засов с внутренней стороны двери и пытаюсь вернуть его на место. В первый раз он падает с глухим звуком, но с пятой попытки со щелчком опускается на место.
Итак, мне удалось запереть дверь снаружи.
Фру Янссен открывает дверь и удивленно смотрит на меня. Я стою в огороде, держа в руках грязный шест. С его помощью мне только что удалось сделать то, что она считала невозможным.
– Как вы додумались до этого?
– Влюбленные девушки отчаянны и изобретательны.
Сегодня был очень долгий день, но я решила две задачи. Во-первых, я узнала, кто такой Т. из письма Мириам. Во-вторых, теперь я хотя бы знаю, что она не прошла сквозь стену.
Глава 14
Пятница
Тобиас еще не появлялся в школе. Об этом мне сообщает Мина, когда на следующий день я захожу к ней в ясли.
– Болен? – спрашиваю я. – Или исчез? Кто-нибудь знает?
Ей известно только то, что его не было в школе. Это может означать, что он простудился, или спрятался в убежище, или мертв. Это может означать, что Мириам также мертва. После вчерашнего дня с фру Янссен у меня был очень бодрый настрой. Но сегодня я провела все утро, нанося визиты одному дантисту за другим. И пока что мне не удалось найти ни Тобиаса, ни его отца. Сколько же времени я ищу Мириам? С момента ее исчезновения прошло четыре дня. Чем больше дней проходит, тем труднее отыскать ее след. Когда же я поставлю точку, решив, что Мириам убита? Либо так хорошо спряталась, что мы никогда больше ее не увидим? Нет, пока до этого еще не дошло.
Она не умерла, говорю я себе.
Через несколько минут после моего прихода звонит Юдит, чтобы обсудить дела с Миной.
– У меня есть два фунта эрзац-кофе, – сообщает Мина по телефону. – Я думала устроить маленькую вечеринку, если кто-нибудь из твоих друзей свободен вечером.
– Все, кого я знаю, предпочитают чай, – отвечает Юдит, голос которой я слышу. – Никто не хочет кофе.
Мина уже объяснила мне шифр, которым они пользуются в телефонных разговорах. «Чай» – это белокурые, беленькие дети, а «кофе» – темноволосые, смуглые. Приемные семьи хотят светловолосых малышей, которые похожи на голландцев. Такие дети не вызовут подозрений у нацистов.
Мне нужно идти, шепчу я наконец. У меня хватит времени посетить еще одного дантиста.
Мина прикрывает рукой телефонную трубку.
– Юдит сказала, что сегодня вечером будет сбор у Лео. Она хочет, чтобы я передала тебе приглашение.
– Я подумаю. – Знаю, что им нужна моя помощь, но сначала мне нужно найти Мириам.
– Как бы мне хотелось туда пойти! Если бы была старше, – сетует Мина.
– Может быть, приду.
– Она говорит: «Может быть, приду», – сообщает Мина Юдит. – Я знаю, знаю! Но это все, что она сказала.
Представляю, что думает Юдит на том конце провода. Они с Миной еврейки, с еврейскими именами и желтой звездой, нашитой на одежду. Но при этом они каждый день рискуют своей жизнью. А я, белокурая и зеленоглазая, с безупречными документами, не соглашаюсь помочь им. Да, вот что думает Юдит, и она права. Но я просто еще не готова.
Мина вешает трубку. У нее слегка смущенный вид.
– Юдит намекнула, что, если ты не придешь к Лео, она больше не станет узнавать о Мириам через свои связи в театре. Она говорит, что у группы слишком важная работа, чтобы попусту тратить время на помощь людям, которые ничего не предлагают взамен.
– Я приду.
Сегодня утром я отпросилась у господина Крёка, чтобы сходить к дантисту. И я обошла шестерых дантистов. Я притворялась, что у меня болит зуб, и спрашивала в каждом офисе о докторе Розене. Начала с тех двух, что поближе к еврейскому району, затем двинулась дальше. Я договорилась о встрече с одним перспективным контактом – булочником в северной части Амстердама. Поэтому я пересекаю на пароме реку, чтобы пообщаться с ним. Затем я отправляюсь в офис дантиста, расположенный в приятном жилом районе. Когда я захожу, секретарша в приемной уже стоит в пальто.
– Доктор собрался уходить, – сообщает она. – Уже почти пять.
– У меня очень болит зуб. Разве у доктора Розена не найдется нескольких минут?
Сейчас она скажет, что это не доктор Розен – именно так происходило во всех других кабинетах.
Она вздыхает.
– Доктора Розена нет, он хворает. Вам нужно показаться его компаньону, доктору Циммеру.
– Кому?
– Доктор Розен болен. Но я попрошу доктора Циммера заняться вами, если вы уверены, что в этом есть необходимость.
Как только секретарша исчезает из виду, я устремляюсь к ее столу. На нем лежит большой журнал для записи пациентов. Справа лоток для почты, в котором полно счетов. Я их быстро просматриваю, надеясь узнать адрес доктора Розена. Одним ухом я прислушиваюсь к передвижениям секретарши в соседней комнате. Домашнего адреса доктора нет: на всех счетах адрес клиники. Я перевожу взгляд на стену и принимаюсь рассматривать дипломы. В одном углу – фотографии. На них темноволосая пара – наверное, это Розены, – а рядом с ними… Я подхожу ближе, чтобы убедиться, что не ошиблась. Да, это тот самый мальчик с круглым лицом, который подмигнул мне в лицее. Развязный, самоуверенный мальчишка, который напомнил мне Баса. Тобиас.
– Что вы делаете? – Секретарша сердито смотрит на меня, стоя на пороге.
– У вас есть лишний носовой платок? Я тоже секретарша. Иногда я держу их в своем столе.
Нахмурившись, она вытаскивает платок из кармана и подает мне.
– Доктор Циммер не может принять сегодня. У него после работы личная встреча. Он попросил записать вас на завтра. Обычно он никого не назначает на субботу, но вы можете прийти в час дня.
– А как насчет… – Я импровизирую на ходу. – Может быть, доктор Розен мог бы принять меня у себя дома? У вас есть его адрес?
Я слишком далеко зашла. Секретарша смотрит на меня с явным подозрением. И тогда я прижимаю руку к сердцу.
– Боже мой, не знаю, что на меня нашло! Надо же – спросить домашний адрес доктора Розена! Наверное, люди готовы сделать что угодно, когда разболятся зубы. Значит, завтра, в час.
Когда я добираюсь на велосипеде до порта, как раз прибывает паром. С него сходят пассажиры – главным образом бизнесмены, возвращающиеся домой с работы. Но есть здесь и молодые парочки, и матери с маленькими детьми. Рядом со мной группа мальчиков ждет, когда можно будет подняться на паром. Они подталкивают друг друга и отпускают шуточки о школе и кинофильмах. А еще о каком-то фермере, мимо которого они проходили во время загородной прогулки. Может быть, мне бы следовало остаться в офисе доктора Розена? Или открыться секретарше Циммера? Или притвориться, будто я волнуюсь о захворавшей семье Розенов, и спросить, по какому адресу принести им кастрюльку с супом?
А ведь я знаю один голос в этой веселой компании! Окинув мальчиков взглядом, я вижу знакомую белокурую голову. Это посыльный фру Янссен, который прибыл с тележкой за opklapbed. Это было в тот день, когда она попросила меня найти Мириам.
– Христоффел!
Христоффел поворачивается, и его лицо заливается краской, когда он узнает меня.
– Ханнеке, верно?
Его товарищи сразу же умолкают, подталкивая друг друга локтями. Их интересует, кто я такая и откуда меня знает Христоффел.
– Правильно. Ты видел меня у фру Янссен, – отвечаю я, игнорируя любопытную компанию.
– Мистер Тоф… Мистер Крутой… Вы не собираетесь представить меня вашей подруге? – кричит худой мальчишка с длинным носом за спиной у Христоффела.
Христоффел краснеет, услышав свое прозвище. Он красив, но еще не знает этого. Держу пари, девочки уже заметили, как он хорош. Через год-два он утратит мальчишескую угловатость, и все девчонки будут бегать за ним.
– Я увижу фру Янссен сегодня вечером, – говорит он. – Отец привез ей маленький подарок из Гааги. Он ездит туда и обратно в связи с работой. Я обещал занести ей этот подарок.
Гаага? Туда и обратно на поезде? Это впечатляет. Должно быть, у его отца важная служба. Сейчас трудно достать билет, так как поезда захватили немцы для своих перевозок. Голландские мужчины избегают поездов, потому что солдаты рыщут в общественном транспорте в поисках рабочих, а потом отправляют тех на военные заводы. Так что отец Христоффела либо влиятельный бизнесмен, либо член Красного Креста, у которого имеется офис в Гааге. А может быть, он член НСД.
– У вашей школы была загородная прогулка? – осведомляюсь я. – Вы хорошо повеселились?
– Чудесно. Вообще-то я не люблю выезжать большой компанией. И не люблю ездить на велосипеде, но опасаюсь в этом признаться.
– Да, голландцу зазорно в этом признаваться.
– А как насчет вас? – спрашивает Христоффел. – Что вы делали в северной части Амстердама?
– Ничего особенного. Ходила к дантисту.
– Надеюсь, все прошло хорошо? Обычно я вопил благим матом в кабинете дантиста.
– Дантистов боятся только маленькие дети, – замечаю я.
– Маленькие дети? Но в прошлом году я был не таким уж маленьким. – Христоффел еще больше краснеет, когда я смеюсь над его шуткой. Он милый застенчивый ребенок. – Ну что же, я должен вернуться к группе, – в конце концов говорит Христоффел. – Они и так уже дразнятся из-за того, что меня не будет с ними сегодня вечером. Папе нужно рано уезжать: завтра он должен быть в Гааге.
– Было приятно повидаться, – замечаю я.
Он поворачивается, собираясь уходить. Однако что-то в его последних словах зацепило меня. Второе упоминание о Гааге. Почему же меня заинтересовал этот город? Он как-то связан с Мириам? Или о нем что-то говорила Мина?
– Погоди, Христоффел, – окликаю его. Мальчик оборачивается. – Не мог бы твой отец сделать небольшой крюк и зайти в отель в Кийкдуине? Мне нужно передать письмо одному человеку, который там живет. По почте оно будет идти веками. А раз твой отец все равно туда едет…
– Что за письмо? – спрашивает он.
Я уже вынула ручку и, пристроив блокнот на коленях, строчу записку. Христоффелу будет труднее отказаться, если я вручу ему в руки письмо.
– Ничего особенного, – отвечаю я. – Просто в наши дни почтовая система так ненадежна. Я пытаюсь отыскать старого друга через общего знакомого. Мне нужно точно знать, что письмо попало по назначению.
Письмо должно быть безупречным. Если Олли я знаю много лет, то о Христоффеле мне практически ничего не известно. Независимо от того, является ли его отец членом НСД или нет, Христоффел может быть сторонником нацистского режима. Ему всего шестнадцать, но я видела, как члены Nationale Jeugdstorm[16], которые были гораздо моложе Христоффела, маршировали на площадях, занимаясь строевой подготовкий.
Дорогая Амалия!
Мы никогда не встречались. Но, насколько мне известно, у нас есть пара общих знакомых. Это Мириам и Тобиас. Не получали ли Вы от них вестей в последнее время? Мне бы хотелось познакомить их с друзьями, которые сейчас гостят у меня в Амстердаме. Пожалуйста, ответьте как можно скорее, так как я ограничена временем.
Приписав внизу имя, я упоминаю, что ответ можно передать через того же человека, который доставит это письмо. Затем я перечитываю свою короткую записку, раздумывая, не добавить ли еще что-нибудь. Ручка застывает над страницей. В конце концов я решаю добавить всего одну строчку:
Я друг.
Однокашники Христоффела кричат, чтобы он поторопился. Я складываю бумагу замысловатой звездочкой – именно так было сложено письмо Мириам к Амалии. Это чтобы Амалия поняла, что мне можно доверять. Пусть думает, что я такая же девочка, как она. А еще я делаю это для того, чтобы Христоффел не рискнул прочитать письмо. Ведь он никогда не сможет снова сложить его звездочкой. Я надписываю письмо печатными буквами: «ЗЕЛЕНЫЙ ОТЕЛЬ, КИЙКДУИН. ВЛАДЕЛИЦЕ ОТЕЛЯ ДЛЯ АМАЛИИ». Надеюсь, там всего один зеленый отель.
– Спасибо, – говорю я. Паром уже почти добрался до другого берега реки. Пассажиры выстраиваются со своими велосипедами, чтобы быстрее сойти на берег.
– Христоффел! Пошли! Вперед, мистер Крутой!
Он снова краснеет, услышав прозвище. По-видимому, это какая-то шутка в их узком кругу. Я протискиваюсь в самое начало очереди, чтобы Христоффелу не вздумалось вернуть мне письмо.
Глава 15
Когда я вхожу к Лео, там уже собрались все, кроме Юдит. Я сажусь рядом с Санне на табуретку, на которой сидела в прошлый раз. Девушка в восторге оттого, что я снова появилась. Она сразу же просит меня закрыть глаза и протянуть руки. Затем Санне дает мне крошечную рюмочку, наполненную жидкостью, которая пахнет можжевельником.
– Джин? – Я уже и не помню, когда в последний раз пила хорошее спиртное.
– Пять месяцев назад я купила маленькую бутылочку к своему дню рождения и припрятала ее. Да так хорошо, что не могла найти до сегодняшнего утра. Все получат по два наперстка.
Откинув голову, я выпиваю джин одним глотком. Он обжигает горло, и у меня выступают слезы на глазах.
– И ты здесь! – Ко мне подходит Олли и присаживается на корточки. У него усталые глаза, но он удивлен и явно рад меня видеть.
– Юдит сказала Мине, что я должна прийти.
– Я рад. – Он быстро проводит костяшками пальцев по моей щеке. Этот ласковый жест принят в семье Ван де Кампов. Господин Ван де Камп обычно так гладил своих детей. А Бас – меня. Но я немедленно выкидываю это из головы.
Юдит не появляется в назначенное время. Виллем шутливо замечает, что она утратила право на один из своих наперстков, и выпьет ее джин. Когда же она не приходит и десять минут спустя, Лео заявляет, что второй наперсток Юдит выпьет он.
Но когда проходит еще десять минут, шутки прекращаются. Все молча обмениваются взглядами.
– Вероятно, задержалась в школе или в театре, – предполагает Виллем. – Или перекрыли еще какие-нибудь улицы.
– Держу пари, она уже идет по улице, – говорит Санне с деланой улыбкой, подходя к окну. – Когда мы собирались куда-нибудь вместе, она всегда сердилась, что опаздывает из-за меня. Но на этот раз я не виновата. Я ей скажу, что сегодня она опоздала не по моей вине! – Несколько минут девушка с надеждой смотрит в окно, затем возвращается на свое место. В комнате так тихо, что кажется, будто часы громче тикают.
Услышав шаги, мы с облегчением вздыхаем. Но, дойдя до двери, они удаляются. Это просто какой-то прохожий спешит домой.
Олли спрашивает, стараясь сохранять спокойствие:
– Кто-нибудь знает, где живет дядя Юдит? Может быть, нам пора…
Он не успевает закончить фразу, так как распахивается дверь и в комнату вваливается Юдит с чемоданом. Она принимается стряхивать снег с пальто. Санне взвизгивает от облегчения и бросается на шею подруги. Затем произносит строгим тоном:
– Мы волновались.
– Простите. – Юдит обнимает Санне, пытаясь улыбнуться.
– О, ты вся потная.
Капли пота стекают по лицу Юдит. Мне показалось сначала, что это растаявший снег.
– Я бежала сюда. Знала, что опаздываю.
Она бледна, и у нее измученный вид. Виллем тоже это замечает. Не спрашивая, он наливает ей двойную порцию джина. Юдит молча принимает рюмку.
– Сядешь на мое место? – предлагает Виллем, усаживая ее.
Лицо Олли снова порозовело. Он откашливается, чтобы привлечь внимание собравшихся.
– Давайте пообщаемся после собрания. Пора начинать, – произносит он с деловым видом. – Лео говорит, что у нас проблема. Не хватает еды для onderduikers, особенно мяса. Я рад, что Ханнеке снова пришла. Я надеялся, что она может знать…
– Подожди, – перебивает его Юдит. – Мы же еще не решили насчет предлога для сегодняшней встречи.
– Это не важно, Юдит, – возражает Олли. – Мы и так поздно начинаем. Сейчас это уже не имеет значения.
– Нет, имеет. – Ее глаза как-то странно блестят.
– Прекрасно. Ты…
– Это имеет значение. У меня есть идея, что именно мы будем праздновать. Это моя прощальная вечеринка.
– Что? – сдавленным голосом спрашивает Санне. – О чем ты говоришь?
Юдит вытирает слезы тыльной стороной ладони.
– Начали отлавливать членов семей Еврейского совета, – сообщает она. – Дядя больше не в силах меня защитить. Сегодня, во второй половине дня, я получила извещение. Там сказано, что я должна явиться в Шоубург для отправки. – У нее потерянный вид.
Олли реагирует первым, нежно обняв Юдит. Я никогда его таким не видела. Санне берет ее за руку, а Виллем и Лео одновременно достают из кармана носовые платки. А я не знаю, что мне делать. Мы с Юдит знакомы не больше недели. Кроме того, я не заслужила права горевать вместе со всеми. Она попросила помочь, а я не захотела. Она повторила свою просьбу, и я снова не захотела. Я ничего не сделала, хотя у меня есть связи и я бы рисковала меньше, чем Юдит и Мина. Да и пришла я сегодня только потому, что она меня заставила. И даже если бы когда-нибудь я сделала это добровольно, это уже не имело бы значения. Я не пришла вовремя.
– Держу пари, что у нацистов с самого начала был этот план, – говорит Санне со злостью. – Привлечь в совет влиятельных евреев и создать иллюзию, будто у них есть реальное влияние. И гарантировать, что вступление в совет позволит помочь своим семьям. А потом депортировать и самих членов совета – после того как получат от них все, что хотели. А ведь предполагалось, что совет в безопасности.
– Какая мерзость, – тихо произносит Виллем.
– Просто отвратительно! – возмущается Санне. – Неслыханная подлость!
– Ладно. – Олли снова пытается взять бразды правления в свои руки. – Мы знали, что это может случиться. – Он переводит взгляд на Юдит. – У тебя есть все, что нужно?
Юдит глубоко вздыхает, прежде чем ответить.
– По крайней мере, самое необходимое. Я взяла с собой один чемодан с вещами и надела почти всю свою одежду. – Ничего удивительного, что она так вспотела. Как же я не заметила, что Юдит стала не такой тонкой? Пуговицы чуть не отрываются, и пара юбок выглядывает из-под той, что на ней. – Ты подготовил мне место?
Олли кивает.
– Скоро будет комендантский час, так что сегодня я не отведу тебя. Ты переночуешь у нас с Виллемом. Мы отправимся туда завтра или послезавтра, в зависимости от того, как будет безопасней.
– Куда ты ее отведешь? – спрашивает Санне.
– Он не может сказать, – отвечает Юдит, а Олли кивает. – До тех пор, пока я не буду в безопасности. Чем меньше людей знает, тем лучше. Тебе же известны правила.
– Юдит, а как насчет Мины?
Я в первый раз вмешиваюсь в разговор, задав этот ужасный вопрос.
Как насчет кузины? Этой девочки с журчащим смехом и ямочками на локтях, которая тайно фиксирует на фотопленке нацистские зверства? Ее схватили и держат в том самом театре, где она так отважно спасала людей?
– Мина в безопасности. Она тоже получила извещение, которое ждало дома. Я проводила ее в тайное убежище, прежде чем прийти сюда. Олли заранее все подготовил. Ее родители и братья отправятся в свои убежища завтра. Это было спланировано много недель назад. Просто так, на всякий случай.
– Простите, – говорю я. Я как бы прошу прощения за многое, но Юдит и не смотрит на меня.
Очень скоро будет комендантский час. Нам нужно расходиться. Санне и Лео подходят к Юдит, обнимают ее и что-то шепчут на ухо. Затем Олли берет чемодан и подходит к двери.
– Ты готова? – тихо спрашивает он.
– Готова, – отвечает Юдит.
И Олли уводит ее в ночь.
Глава 16
Когда я просыпаюсь на следующее утро, у меня болит челюсть. Кажется, будто я всю ночь крепко сжимала зубы. Я знаю, что мне снились Юдит и Мириам Родвелдт. «Почему ты не стала настоящим другом?» – спрашивала меня Юдит. Но когда я пыталась ответить, это была уже Элсбет. «Почему ты меня не нашла?» – спрашивала Мириам. Но когда я сказала, что ищу ее, то это был Бас. Я снова и снова просыпалась. И у меня все перепуталось: где я, что со мной и кто жив, а кто умер.
Когда я выхожу из спальни в ночной сорочке, то слышу удары. Значит, мама затеяла генеральную уборку. Это бывает несколько раз в год. Сегодня утром мама стоит на балконе, выбивая ковер. Папа сидит за столом, с тряпкой в руке, и чистит наше серебро. Оно аккуратно разложено перед ним на столе.
– Она отказывается меня кормить, пока я не закончу, – шепчет он. – Меня, инвалида! Мне нужно уйти в подполье.
С бесстрастным лицом я беру тряпку и сажусь рядом с папой. Подполье. Юдит. Папа с улыбкой смотрит на меня. В воздухе чувствуется острый запах серебра. А Юдит и Мину загнали в амстердамское подполье. Они исчезли.
Папа ждет моего ответа, но сейчас мне нелегко даются обычные шуточки.
– Жестокая женщина, – наконец выдавливаю я, начищая один из подсвечников. – Как она может так плохо с тобой обращаться!
Сейчас девять часов утра. Обычно мне дают подольше поспать в субботу. Остается еще более трех часов до встречи с доктором Циммером. И бог его знает, когда я узнаю, добралась ли Юдит до убежища. Утро будет долгим и ужасным.
Я успеваю закончить с двумя подсвечниками, когда мама втаскивает ковер с балкона. Увидев меня, она говорит:
– Хорошо, Ханни, что ты уже проснулась. У меня для тебя есть работа.
Я застываю с тряпкой в руке.
– Мне не нужно чистить серебро?
– Разбери шкаф, – просит мама. – Так много бумаг, и, наверное, тебе нужны не все. Разбери их, а ненужные пойдут на растопку.
С каким-то странным облегчением я принимаюсь разбирать бумаги. Это знакомое, будничное занятие. Оно требует сосредоточенности и отвлекает от того, что произошло вчера вечером. Через несколько минут мама стучит в дверь: она принесла хлеб с вареньем.
– Вот видишь? Не такая уж я жестокая женщина. – Она притворяется суровой, но глаза у нее добрые.
Мама опускается на колени рядом со мной и берет поздравительную открытку, которую я только что отложила в сторону. Мне подарили ее на шестнадцатый день рождения.
– Ты помнишь этот день рождения? Мы все пошли кататься на коньках. На Элсбет была короткая юбочка, помнишь? А Бас вызвал меня на состязание. Потому что считал, что это будет смешно: он против твоей сорокалетней мамы…
– Но ты победила его. А он заявил, что ты поставила ему подножку, когда никто не видел.
Она перечитывает открытку. Становится тихо, и только шуршат бумаги, которые я раскладываю стопками.
– Наверное, ты иногда думаешь, что я стала жестокой, – тихо произносит мама. – Вероятно, тебе надоело, что я все время волнуюсь.
– Ты о чем?
– Ты знаешь о чем. Я свожу тебя с ума своими волнениями. Тебе так докучают мои вопросы, что ты смотришь на отца в поисках поддержки.
Да, мама бывает несносной, и я иногда говорю ей об этом. Но только не сейчас, когда у нее такое потерянное лицо. Она так беззащитна и уязвима!
– Просто я видела ужасное, Ханнеке, – продолжает мама. – Я знаю, что может случиться во время войны. И я пытаюсь защитить тебя. Я не хочу, чтобы ты испытала столько горестей, как я. Для меня нет в мире ничего дороже тебя. Ты понимаешь?
Я киваю, взволнованная и растроганная. Но прежде чем я успеваю найти ответ, мама кладет поздравительную открытку и поднимается на ноги. Стряхнув пыль с юбки, она небрежно целует меня в макушку.
– Хватит прохлаждаться. За работу! – Через несколько минут с балкона снова доносятся удары.
Мама права: в шкафу действительно ужасный беспорядок. Некоторые бумаги копились годами. Мы с папой барахольщики – он из-за своей сентиментальности, а я просто не люблю выбрасывать то, что может пригодиться. В эти дни мы находим применение многим старым вещам. Часть моих бумаг пойдет на растопку. Остальные мама использует для мытья окон или сделает из них стельки.
– Мама, где твои портновские ножницы? – кричу я, вспомнив, как на днях промочила ноги в дождь. – Я хочу сделать стельки.
Вооружившись ножницами, я кладу туфли на лист бумаги. Но прежде чем обвести их, я замечаю, что это газета с маминого дня рождения. Папа не разрешил бы мне ее использовать. Он хранит все газеты с наших дней рождения. Под этой газетой я обнаруживаю номер Het Parool. Я припоминаю, что мне дал его клиент. Это было несколько недель назад, и следовало давно уничтожить этот номер. Вот эту газету я и использую для стелек. Мне нравится идея этого маленького восстания: буду носить в туфлях кусок газеты Сопротивления.
Мамины ножницы недавно наточены, и они превосходно режут газетную бумагу. Я уже наполовину вырезала вторую стельку. Но тут я вижу такое, что выпускаю из рук ножницы, и они с шумом падают на землю.
Я глазам своим не верю.
Это игра моего воображения? Но нет: вот оно, случайно обведенное место. Я перечитываю текст, и слова плывут у меня перед глазами.
– Ханни, что за шум?
Я слышу мамин голос как бы из-под воды: он приглушен и доносится издалека.
– Что? – спрашиваю я наконец, не в силах оторвать взгляд от бумаги.
– Мой паркет! – восклицает мама, входя в комнату. Я тупо смотрю вниз. Ножницы торчат из пола, и в мамином кленовом паркете появилась выбоина. – О, Ханни! Я принесу мастику, и посмотрим, что можно сделать…
– Мне нужно уйти. – Я поднимаюсь на ноги и роюсь в шкафу. Затем снимаю ночную сорочку, хотя обычно не люблю ни при ком переодеваться.
– Уйти? Куда?
Блузка совершенно не подходит по цвету к юбке. Я схватила первое попавшееся под руку.
– Ты пойдешь в этом? – Мама хмурит брови. – И вообще, зачем ты одеваешься?
– Мне нужно идти.
– Но мы же только начали уборку! Ханнеке, блузка в самом деле не подходит!
Я протискиваюсь мимо мамы и достаю из шкафа пальто.
– Я вернусь как только смогу.
– Ханни! – кричит она мне вслед.
Сбежав вниз по лестниц, я сажусь на велосипед.
Я бешено кручу педали, выбирая дороги с рытвинами. Обычно я их избегаю, но сегодня так будет быстрее. То, что я увидела в газете – совпадение? Нет, я знаю, что это не так.
Моя бывшая одноклассница что-то покупает в магазине фру Бирман, который через дорогу. Она машет мне, но я не останавливаюсь. Не останавливаюсь я и когда клиент господина Крёка окликает меня по имени. Он хотел договориться о заказе на следующую неделю.
Добравшись до дома фру Янссен, я оставляю велосипед у входа. Как только она открывает дверь, я протискиваюсь мимо нее в прихожую.
– Что-то случилось? – спрашивает она.
– Мне нужно снова попасть в тайник.
– Зачем? Что вы нашли?
На кухне я открываю кладовую и отодвигаю банки в сторону. Фру Янссен, прихрамывая, идет за мной. Сегодня она без палочки.
– Вы думаете, мы что-то упустили? – Она наблюдает, как я открываю задвижку потайной двери и вхожу в маленькую комнату. – Ханнеке, что именно мы упустили?
Ничего мы не упустили. Мы осмотрели каждый квадратный дюйм этой пустой, стерильной комнаты. Фру Янссен – своими подслеповатыми глазами, а я – своими зоркими. Мы обследовали все в этой комнате, но просто видели мир неправильно.
Уж не выбросила ли фру Янссен то, что я ищу? Но нет, он здесь – этот старый номер Het Parool, который Мириам читала в день исчезновения. Газета уже слегка пожелтела по краям.
Я быстро разворачиваю газету, принесенную из дома. Как я и думала, это тот же самый номер, изданный в прошлом месяце. Хотя мне известно, что в этих двух газетах все одинаково, я несу номер Мириам на кухню, где светло. Там я изучаю то место, которое случайно вырезала из своей газеты, делая стельки.
– В чем дело?
– Тс-с! Я пытаюсь думать.
Я поднимаю палец, призывая к молчанию. Фру Янссен очень тщательно составила расписание того дня, когда исчезла Мириам. Незадолго до того, как девушка пропала, фру Янссен принесла ей номер Het Parool. Прежде я считала, что эти два события – чтение газеты и исчезновение – совершенно не связаны друг с другом. А что, если это цепная реакция, при которой одно событие повлекло за собой другое? Может быть, Мириам увидела в этой газете что-то такое, что побудило ее бежать?
Когда фру Янссен рассказывала мне об исчезновении Мириам, она заметила, что та любила читать Het Parool от корки до корки, включая даже объявления.
Я смотрю на те строчки, которые обвела дома в газете. Это простое объявление из трех строчек, расположенное в середине страницы:
Элизабет скучает по своей Маргарет.
Но она рада, что проводит каникулы в Кийкдуине.
Это не может быть простым совпадением. Все это время я думала, что нужно связаться с Амалией: ведь она может догадаться, куда направилась ее подруга. Но я не подозревала, что Мириам попытается сбежать к ней. Села ли Мириам на поезд, направлявшийся в Кийкдуин?
– Ханнеке, очнитесь, – просит фру Янссен. Я совсем забыла, что все еще сижу у нее на кухне. – Вы смотрите в пространство. Скажите же, что происходит?
– Мне кажется, я знаю, что случилось.
Как я познакомилась с Элсбет.
Ей было семь, мне шесть. Я плакала, потому что это был мой первый день в школе и я никого не знала. Никого – кроме одного мальчишки, который жил этажом ниже и любил дергать меня за волосы.
Элсбет спросила:
– Как тебя зовут?
Я ответила:
– Ханнеке.
Она сказала:
– А меня Элсбет.
У Элсбет была хорошенькая лента в волосах. Она сняла эту ленточку и завязала мою косу.
– Ты должна оставить ее себе. В любом случае эта лента больше подходит к белокурым волосам, – заметила она. – И ты не должна плакать из-за этого мальчишки. Мальчики глупые. Прежде всего тебе нужна лучшая подруга.
Глава 17
Дура! Какая же я дура! Из-за воспоминаний о Басе я вообразила, будто Мириам сбежала к Тобиасу. Почему мне не пришло в голову, что она могла убежать к тому, кого любила так же сильно, но по-другому?
Холодный ветер забирается за воротник блузки. Наверное, я не застегнула пуговицы пальто. Когда я кручу педали, оно бешено развевается у меня за спиной. Пытаясь запахнуть его одной рукой, я чуть не наезжаю на старика. Он бежит на другую сторону улицы, осыпая меня проклятиями.
Что же произошло? Родители Амалии собирались послать ее к тетке – об этом я узнала от Мины. А что потом? Уже живя у тетки, Амалия поместила в газете объявление для подруги. Знала ли она, что Мириам прячется в мебельном магазине? Был ли у подруг какой-то тайный способ общения? Договорились ли они поместить сообщение в отделе объявлений подпольной газеты? Было ли это для Мириам сигналом к бегству? Или она просто увидела весточку от подруги, расчувствовалась и решила бежать?
Но почему же она ничего не сказала фру Янссен? Она не могла не знать, как та расстроится.
Бешено крутя педали, я мчусь по улицам. Теперь, когда у меня есть ключ, колесики в мозгу начинают вертеться. Мне нужно найти Христоффела и выяснить, заехал ли его отец в Кийкдуин и привез ли ответ от Амалии. Если он не побывал в отеле, придется отправиться туда самой и обыскать каждую комнату. В любом случае нужно поехать на вокзал и попытаться найти проводника, который регулярно ездит по этому маршруту. Пятнадцатилетняя девочка в ярком голубом пальто, путешествующая в одиночестве, не могла не привлечь внимания. Но как же ей удалось сесть на поезд? Кассирам на вокзале не разрешено продавать билеты лицам еврейской национальности. Я должна спросить у господина Крёка, можно ли взять несколько выходных. А еще следует узнать, существует ли какой-нибудь подпольный транспорт, который мог доставить Мириам в Кийкдуин. В таком случае ей не пришлось бы садиться на поезд. Но сначала я должна заехать домой и переодеться. И еще нужно придумать какую-нибудь правдоподобную историю для мамы. Я настолько поглощена своими мыслями, что в квартале от дома чуть не наезжаю на Олли. Он стоит посреди улицы и машет мне.
Что-то случилось.
Что-то явно пошло не так, раз он стоит посреди улицы и машет как сумасшедший.
Нет, Олли машет не как сумасшедший, а совсем вяло. Кажется, ему не хочется, чтобы я увидела его. Когда я останавливаюсь, он опускает руки.
– Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я. – Я как раз думала о тебе. У меня есть новая информация, и мне требуется помощь.
Олли хватается за бок. По-видимому, он очень быстро бежал.
– Я только что заходил к тебе домой. Твоя мама сказала, что ты поехала в эту сторону. Нам нужно поговорить.
– Хорошо – вот она я.
– Это серьезно.
– Я знаю, что это серьезно. Я кое-что нашла в доме фру Янссен. Точнее, у себя дома, но не понимала, что это значит, пока не… – Я тараторю без умолку. Потому что, пока я не замолчу, Олли не сможет рассказать, отчего у него трясутся губы.
– У меня плохие новости, – говорит он. – Думаю, нам нужно найти какое-нибудь место, где можно присесть.
– Я не хочу сидеть, у нас нет времени рассиживаться. Я кое-что обнаружила сегодня. Олли, отдышись – и пойдем.
– Нет, Ханнеке. Кое-что произошло.
– Да, произошло. Я знаю, где Мириам. Пошли.
Олли больше не пытается меня убеждать. Он просто стоит, позволяя мне выговориться. Воздух вокруг нас сгущается.
– Я могу проводить тебя домой, если хочешь. Или мы можем пойти ко мне.
– В чем дело, Олли? Это… – Даже теперь я не решаюсь произнести эти слова. Потому что пока они не сказаны, можно воображать, что ничего не случилось. – Это Юдит? Что-то случилось по пути в убежище?
– Юдит все еще у меня дома. Нет, с ней все в порядке.
– Это Виллем? – Я называю имена, словно отрывая присохший к ране бинт. Начинаю с тех, за которых боюсь больше. Пусть это будет Лео, думаю я. Пусть это будет тот, кого я меньше всех знаю. Нет, нехорошо желать Лео зла. Но я знаю, что за все в жизни приходится платить.
– Ханнеке, послушай меня. Я пошел в театр, чтобы поговорить с дядей Юдит. Прошлой ночью Мириам забрали в Холландше Шоубург.
Глава 18
– Что? – Я отталкиваю от себя Олли, как бы отмахиваясь от его слов. – Ты ошибаешься.
Конечно, он ошибается. Мириам не в Шоубурге. Я бью его, чтобы заставить взять слова обратно.
– Ханнеке, вчера ночью была большая облава. – Схватив меня за руки, он прижимает их к своей груди. – Искали людей, чьи имена значатся в списках. А когда им не удалось выполнить норму, начали хватать всех, у кого в документах указана еврейская национальность. В Шоубург доставили много людей, которых пока не собирались отправлять. Одно из имен в списке – М. Родвелдт. Мириам в театре, и ее должны отправить через два дня.
– Но я же знаю, что она отправилась в Гаагу, – настаиваю я. – Мириам не могли схватить, потому что ее уже нет в Амстердаме. Она бы не…
– Может быть, она выбралась из города, но ее поймали и привезли обратно. Или был налет на временное убежище, и она не успела уехать. Мало ли что могло случиться. Единственное, что мы знаем, – в театре сейчас находится кто-то с ее именем.
Облава. Налет. Родвелдт. Эти слова плавают в воздухе вокруг, но в них нет смысла. Сердце Олли бьется у меня под рукой.
– Нам нужно решить, что делать дальше, – наконец говорю я. – Для начала мы должны пойти в театр. Ты отвлечешь часовых. Нужно вытащить ее оттуда.
– Ханнеке, что ты несешь!
– Ты прав. Сначала мы найдем дядю Юдит и попросим помочь. Он…
Олли сжимает мои руки.
– Нет.
– Отпусти. Тебе не обязательно идти со мной. Но ты должен меня отпустить.
– Нет, – твердо произносит он. – Ханнеке, ты хочешь, чтобы погибли люди? Нельзя рисковать сетью Сопротивления, которую мы создавали целый год – рисковать ради одной девушки. У нас теперь не осталось своего человека в театре. Юдит и Мина в тайном убежище. Дядя Юдит нам не поможет, так как боится за собственную жизнь. У совета нет того влияния, на которое мы рассчитывали. Если ты сейчас ворвешься в театр, то поставишь под угрозу всю операцию.
– Но…
– Нет.
Он прав. Несмотря на свое состояние, я понимаю, что он прав. Я сама рассуждала бы так же логично, если бы речь не шла о девочке, которую я так старалась найти. Почему я не пошла в Шоубург вчера? Я поздравляла себя с тем, что напала на след отца Тобиаса, тогда как мне нужно было идти в Шоубург.
– Все, что я делала, было впустую. И визиты к дантистам, и беседы со школьными друзьями. Мне просто нужно было занять позицию напротив театра и ждать. Может быть, я бы увидела Мириам и смогла помочь ей.
Олли отпускает меня и пристально смотрит в глаза.
– Ты не знала, что нужно делать. Амстердам большой город, и Мириам могла прятаться где угодно.
– Но, Олли, а вдруг в театре не она?
– Ханнеке, мне бы хотелось, чтобы это была не она. Но это не так.
– Нет, послушай! М. Родвелдт? Может быть, это другое имя. Марго, или Мориц, или… Олли, множество имен начинается с «М». Есть ли в театре кто-нибудь, кто видел ее или говорил с ней? Кто-то, кто может сказать наверняка?
– Я не могу выяснить это, не задав вопросов, которые выдадут нас. Мы приняли решение сделать паузу и перегруппироваться. Это необходимо теперь, когда нацисты депортируют семьи членов совета.
Думай, говорю я себе, думай как следует. Если в театр не попасть, как еще я могу получить информацию?
– Может быть, мне удастся найти кого-нибудь, кто живет через дорогу или работает поблизости. А вдруг они видели, как она вошла в театр?
Олли открывает рот, но тут же закрывает.
– Что?
– Ничего, – отвечает он. Но я вижу, что он хотел что-то добавить.
– Олли, в чем дело? Ты знаешь кого-то, кто мог что-то видеть?
– Я не могу тебе сказать, – упорствует он. – Это против правил.
– К черту правила! Просто скажи: кто-нибудь что-то видел? Пожалуйста, Олли.
– Ханнеке, у нас существуют правила, потому что мы должны думать о более важных вещах.
Но я чувствую, что он начинает сдаваться.
– Я знаю эти ваши «более важные вещи», Олли. Но если они не могут спасти пятнадцатилетнюю девочку, то какой в них смысл? Кого именно вы пытаетесь спасти?
В конце концов он сердито вздыхает.
– Мы не станем вытаскивать Мириам из театра, – говорит он. – Потому что не можем. Но я сделаю одну вещь – всего одну, – чтобы проверить, действительно ли это она. Иначе ты до самого конца войны не будешь знать наверняка. И я делаю это для того, чтобы ты не расспрашивала окружающих, не видели ли они ее… Это навлечет опасность на всех нас.
Я глубоко вздыхаю от облегчения.
– Спасибо, Олли. Спасибо тебе.
– Я сделаю это, но не проси больше ничего.
Он оглядывается, чтобы убедиться, что за нами никто не наблюдает. Потом вынимает из кармана клочок бумаги и что-то пишет. Это адрес.
– Запомни его и уничтожь, – говорит Олли. – Это место, где прячется Мина. Возможно, она смогла бы помочь.
– Почему Мина…
Олли бросает взгляд на часы.
– Мне пора. Я должен проводить Юдит в тайное убежище, и нельзя опаздывать. Я встречусь с тобой, когда смогу.
– Но…
– Позже, Ханнеке. – Он уже жалеет о том, что решил помочь. Я пытаюсь улыбнуться, чтобы показать, как благодарна ему.
После того как Олли уходит, я направляюсь в глухой проулок. Я хочу в укромном месте изучить адрес и запомнить его, как велел Олли. Но, увидев записку, я сразу же понимаю, что Олли ошибся. Этого не может быть! Я бывала там раньше. Бываю каждую неделю.
Глава 19
Я звоню, но никто не идет открывать дверь. Кажется, никого нет дома. Но я прижимаю ухо к двери и слышу какие-то звуки: словно стулья отодвигают от стола. В конце концов кто-то приоткрывает дверь и накидывает цепочку. В щели появляется голубой глаз.
– Фру де Врис, – начинаю я.
– Ханнеке? – Она поднимает бровь. – Но я же ничего не заказывала. Я вас не ждала.
– Я не с заказом, а по другому поводу. Может быть, вы меня впустите? Нужно поговорить.
– Нет, сейчас неподходящее время.
Она смотрит с подозрением, явно желая, чтобы я ушла. И тут до меня доходит, в каком я виде: блузка и юбка, совершенно не подходящие по цвету, растрепанные волосы и спустившаяся петля на чулке.
– Все в порядке, фру де Врис, – успокаиваю ее я. – Я знаю.
– Вы знаете? Что вы знаете?
Может быть, Олли все-таки дал неверный адрес? Фру де Врис надменна, как всегда. Не человек, а какая-то ледышка. Я понижаю голос до шепота:
– Я друг Мины.
В ее глазах появляется блеск, и она поправляет брошь.
– До свидания, Ханнеке. Мне ничего не нужно.
– Пожалуйста, впустите меня.
– Нет, это уж слишком, – шипит фру де Врис. – Я побеседую об этом с господином Крёком, когда увижу его в следующий раз.
– Мы можем позвонить ему прямо сейчас, если желаете. Но я собираюсь стоять здесь, пока вы меня не впустите. Буду здороваться со всеми вашими соседями.
В конце концов фру де Врис откидывает цепочку. Я сразу же вхожу в квартиру, пока она не передумала. На полу сидят близнецы, играя с игрушечными автомобилями. Все выглядит нормально, все как всегда. Никаких подозрительных звуков, ничего необычного.
Фру де Врис пристально смотрит на меня и достает сигарету. Она не предлагает мне снять пальто. Мы стоим в прихожей, не зная, что сказать друг другу.
– Я пришла повидать Мину, – наконец говорю я. – Где она? Это важно.
– Что-нибудь случилось? Полиция подозревает мою квартиру?
– Нет, это личное дело.
Фру де Врис выпускает струйку дыма, затем поворачивается ко мне спиной. Может быть, она все-таки хочет выставить меня из своего дома? Но потом я понимаю, что это просто знак следовать за ней. Меня никогда не приглашали дальше кухни. Я иду по длинному коридору, по обе стороны множество дверей. Семья де Врис еще богаче, чем я думала. Обстановка в комнатах, мимо которых мы проходим, изысканная. Роскошные обои, на стенах картины. Фру де Врис останавливается на пороге детской. В углу две лошадки-качалки, на полках полно книг и игрушек.
– Ханнеке, нужна помощь. – Подойдя к одной из полок, она с раздраженным видом оглядывается на меня. Она ждет, чтобы я помогла сдвинуть полку.
Я откатываю полку в сторону. За ней – стена, в которой имеется маленькая дверь шкафа. Через нее можно пролезть, но только на четвереньках. Фру де Врис кивает, разрешая мне открыть дверь, и я вижу пару оксфордских туфель. Мина быстро опускается на колени и высовывает голову.
– Ханнеке! Я узнала твой голос!
Выбравшись из шкафа, Мина обнимает меня.
– Я и не думала, что кого-нибудь здесь увижу. Юдит сказала, что это слишком опасно. Олли отвел ее в убежище? Что произошло с тех пор, как я здесь? Кажется, прошел целый год – а на самом деле всего один день.
Прежде чем я успеваю ответить хотя бы на один из ее вопросов, в убежище кто-то скребется. Мина тоже слышит этот звук.
– Все в порядке, – говорит она.
– Ты не одна? – вырывается у меня.
Там, откуда только что вылезла Мина, появляется пара ног в коричневых мужских туфлях. Они принадлежат пожилому мужчине с белой бородой, который быстро моргает от яркого света. За ним следует женщина с безупречной прической и макияжем. Она явно нервничает.
– Господин Кохен и фру Кохен, – поясняет Мина. Оба приветствуют меня, нерешительно кивнув. – Это моя подруга Ханнеке Баккер.
– Рада с вами познакомиться, – бормочу я. Почему же эта фамилия кажется мне знакомой?
– Все в порядке, Доротея? – спрашивает фру Кохен у фру де Врис. – Внутренние стены в этом здании всегда были такие тонкие, что мы невольно подслушали.
Я поворачиваюсь к фру де Врис.
– Кохены…
– Мои соседи. Да, они живут у меня уже несколько дней.
Господин Кохен протягивает руку. От него исходит слабый запах сигарет и кожи. Этот запах успокаивает меня, напомнив о моем дедушке.
– Но когда здесь была другая ваша соседка…
Я обрываю фразу. Когда здесь была та женщина в накидке из лисьего меха, фру де Врис притворялась, будто довольна, что Кохены исчезли. А что же ей было делать?
Кохены вежливо кивают. Фру Кохен намекает мужу, что, возможно, мы с Миной хотим побеседовать наедине, и они удаляются. Но фру де Врис остается. Очевидно, она не допускает в своем доме разговоров, в которые не посвящена.
– Я покажу тебе тайное убежище, – предлагает Мина и тащит меня к двери шкафа.
Тут пахнет краской. Это единственное свидетельство того, что тайник построен недавно. Он сделан с безупречным мастерством. Снаружи тайник выглядит так, словно был построен одновременно со всей квартирой. На плинтусах даже имеются потертости. По сравнению с ним потайная кладовка фру Янссен – любительская поделка.
– Мы должны прятаться, только когда приходят незнакомцы, – объясняет Мина. – В остальное время мы можем передвигаться по квартире. – Она снова закрывает дверь шкафа, и вход становится почти незаметен. – Когда я пришла сюда вчера, меня заставили практиковаться. Хотели проверить, насколько быстро мы соберем вещи, спрячемся и убедимся, что не оставили ничего, что могло бы нас выдать. Тебе нужно посмотреть одну из наших тренировок.
– С удовольствием, но не сейчас, – бормочу я смущенно. Когда Мина закрывает дверь тайника, возникает сквозняк. Он треплет портьеру, и я вижу в окне большое знакомое здание.
– Шоубург, – шепчу я. – Жилой дом – через дорогу от Шоубурга!
Раньше я видела только окна кухни семейства де Врис: дальше меня не приглашали. И я никогда не задумывалась, какой вид открывается из окон задней части квартиры. Теперь я знаю, почему Олли дал мне этот адрес.
– Мина, ты… – У меня пересыхает во рту. Я сглатываю слюну и начинаю снова: – Ты видела группу, которая прибыла вчера после облавы?
Мина кивает.
– Это было как раз после того, как я сюда пришла. Там так кричали! Я стояла за портьерой и видела все. И чувствовала себя такой виноватой, что я в безопасности.
– Ты видела Мириам? Видела, как ее ввели в театр вместе с остальными людьми?
– Мириам была в той группе?
– Я не знаю. Там оказался кто-то с ее фамилией. Значит, ты ее не видела? Ты уверена?
– Прости! Мне так жаль! – Ее глаза наполнились слезами. – Я не знала, что нужно высматривать в этой группе…
Еще одна дверь захлопнулась. Еще одна надежда растаяла.
– Я делала снимки.
– Ты делала снимки?
– Я взяла с собой мало одежды, чтобы камера поместилась в чемодан. Мне хотелось продолжать что-то делать. Даже если я здесь застряла, можно фотографировать все, что там происходит.
– Я могу их увидеть? Твои фотографии?
Ее лицо вытягивается.
– Они еще не проявлены. Я же сняла их всего день назад.
– Тогда давай найдем кого-нибудь, кто проявит. Уверена, мы отыщем человека, которому можно доверять.
Я мысленно прокручиваю список своих клиентов с черного рынка. Может быть, среди них есть художники, у которых имеется темная комната для проявки? Был один владелец художественной галереи… Но когда я пришла к нему домой, то увидела на кофейном столике брошюры с лицом Адольфа Гитлера на обложке.
Мина качает головой.
– Не получится. Они на особой цветной пленке. Я попросила подарить мне ее на день рождения. Большинство фотографов никогда не имели с ней дела. Она немецко-американская.
– Но, может быть, учитель в художественной школе или кто-то, работающий в газете…
– Нет, обычные фотографы могут испортить пленку.
– Да… – произношу я в замешательстве. Я могу достать почти все – но только не фотографа, способного проявить пленку, о которой я никогда не слыхала.
– Дайте мне камеру, – приказывает фру де Врис. Я даже забыла, что она все еще в комнате. Она стоит в углу со скрещенными на груди руками. – Дайте мне, – повторяет она с ноткой раздражения в голосе. – Я отнесу ее к одному из деловых контактов моего мужа.
– Деловых контактов? – тупо повторяю я.
– Он издает журнал, – напоминает фру де Врис. – Журнал мод, в котором полно фотографий.
– Но Мина же сказала, что это особая пленка.
– А у него особые контакты. – Она поднимает бровь. – Он знает самых разных людей, которые имеют дело с современными технологиями. У них есть частные темные комнаты. Я ничего не обещаю, но попытаюсь. Дайте камеру.
Мина вопросительно смотрит на меня, и я киваю. Тогда она вручает камеру фру де Врис.
– Пожалуйста, будьте осторожны, – просит Мина. – Она такая дорогая, а эти фотографии опасны.
Фру де Врис удивленно смотрит на нее. Уж ей ли не знать об опасности! Ведь она прячет трех евреев в собственном доме.
– Вы можете пойти прямо сейчас? – спрашиваю я. – Олли сказал, что следующую партию пленников отправят через два дня. Мне нужно как можно скорее узнать, находится ли в театре девушка, которую я ищу. Пожалуйста! Вы можете пойти сейчас?
Возможно, фру де Врис мне подчиняется, так как я знаю ее секрет. А может быть, ей просто хочется поскорее с этим покончить, чтобы я убралась из ее квартиры. В любом случае она поспешно выходит из комнаты, стуча каблуками по паркету. Когда я выхожу в прихожую, она уже прикалывает булавкой к волосам темно-синюю шляпу.
– Я скоро вернусь, – говорит она. А потом – поскольку она все-таки фру де Врис – добавляет: – Пожалуйста, постарайтесь трогать поменьше вещей в мое отсутствие.
Надев пальто, она выходит из квартиры. Теперь мы с Миной вдвоем. И нам остается только ждать.
Глава 20
Мина и я удобно расположились в детских креслах в комнате для игр. Господин Кохен развлекает детей. Он опустился на колени и позволяет им возить крошечные автомобили по его рукам и ногам. Фру Кохен моет посуду на кухне и готовит нам эрзац-чай.
– Вы будете второй горой, – сообщает один из близнецов, катая автомобиль по моей туфле. – Тогда у нас обоих появится собственная гора.
Господин Кохен улыбается.
– А может быть, лучше я расскажу вам историю? В ней много автомобилей, быстрых лошадей и высоких гор. – Он так терпелив с ними! Может быть, у него есть внуки?
– Ханнеке, я волнуюсь из-за одной вещи, – говорит Мина, придвигая ко мне кресло.
– Что такое?
Бросив взгляд на господина Кохена и близнецов, она понижает голос.
– Это та вещь, которую я показала тебе, когда мы гуляли. Она все еще там. – Мина видит, что я не понимаю, и, подняв руки к лицу, делает характерный жест. Другая камера. Она осталась в коляске. У Мины не было времени забрать ее. – Ты думаешь, все в порядке?
Даже если бы я так не думала, что можно сделать? И какой смысл заставлять ее дергаться еще больше?
– Я уверена, если одна из твоих коллег найдет ее, то сохранит для тебя, – заверяю я. Во всяком случае, нацистская охрана как будто оставила ясли в покое.
Спустя какое-то время дети заявляют, что они голодны. Мина находит в кладовой картофель и пастернак и варит их вместе с листьями капусты. Мы молча едим. Дети начинают зевать, и господин Кохен идет укладывать их спать.
– Ханнеке, вы пропустите комендантский час, – предостерегает фру Кохен. – Вам нужно идти.
Но уже слишком поздно. Кроме того, мне хочется остаться, чтобы поскорее услышать новости. Правильно ли я поступила, надавив на фру де Врис? Фру Кохен берет несколько носков из тех, что фру де Врис отложила, и принимается спокойно их штопать. Господин Кохен читает книгу. Вечер тянется бесконечно долго. Небо делается из фиолетового черным.
Мои родители начали волноваться час назад. Мама не находит себе места, а папа отпускает шуточки, чтобы скрыть беспокойство. Потом волнение уступит место гневу. Мама будет сердиться от того, что я такая эгоистка и не слежу за временем, папа – потому что я разволновала маму. А еще он будет злиться на себя за то, что не может выйти и отыскать меня. Я не знаю, какие эмоции сменят гнев, поскольку никогда не испытывала терпение родителей до такой степени. Но сегодня вечером придется.
Вдали бьют часы на церкви. Мы все обмениваемся тревожными взглядами. Меня уже гложет чувство вины. Почему мы не спросили адрес фотографа, к которому отправилась фру де Врис? Или хотя бы его имя? Зачем я настояла, чтобы она пошла сегодня? Вполне можно было пойти утром. Хотя мне не нравится фру де Врис, я не хочу, чтобы с ней что-нибудь случилось.
– Она не делает ничего незаконного, – говорит Мина. – Закон не запрещает навестить друга.
– Я надеюсь, если ее остановят, это произойдет не на обратном пути, – замечает фру Кохен. Помада слегка стерлась с ее идеально накрашенных губ. – Непроявленная пленка вряд ли их заинтересует, но если…
– Замолчи, Ребекка, – перебивает ее господин Кохен. – Разве ты не видишь…
Он не успевает закончить фразу. В дверном замке поворачивается ключ, и мы застываем на месте. Входит фру де Врис. У нее раскраснелись щеки, но она целая и невредимая. За ней следует Олли.
– Я вернулась час назад, – объясняет фру де Врис. – Но на углу слонялись солдаты, и было небезопасно проходить мимо них. Поэтому я пряталась в переулке, как уличная попрошайка, пока они не ушли.
– А я еще раньше спрятался в переулке по другую сторону улицы, – почти шутя произносит Олли. Мина подбегает, чтобы обнять его. – Я видел фру де Врис в тени, но не рискнул окликнуть. Это был настоящий абсурд! Как будто мы актеры, разыгрывающие на сцене фарс. Я думал, солдаты никогда не уйдут.
– Ты отвел Юдит в убежище? С ней все в порядке? – спрашивает Мина.
Олли кивает и начинает рассказывать подробности. На ферме, куда он ее отвез, полно народу. Там уже прячутся шесть человек, они спят в амбаре. Но там безопасно, так как этот район патрулируют всего несколько солдат.
Фру де Врис снимает шляпу и приглаживает рукой волосы.
– Дети в постели?
– Они спят, – отвечает фру Кохен.
Фру де Врис достает из кармана пальто маленький конверт. Как же в нем поместились фотографии с целой пленки?
– Это слайды, – поясняет она. – Насколько я понимаю, из этой пленки получаются слайды? – Она вопросительно смотрит на Мину, и та кивает. – У меня нет проектора. Коллега мужа сказал, что одолжит свой. Но не могла же я тащить его по улицам вечером! Можно пока что взглянуть на слайды и попытаться найти вашу подругу.
Она не ждет благодарности и говорит, что ей необходима горячая ванна. Кохены тоже откланиваются. Сейчас так поздно, что небо уже становится светлее. Оба старика шатаются от усталости. После того как все уходят, Мина, Олли и я собираемся вокруг письменного стола в пустом кабинете господина де Вриса и вынимаем слайды из конверта. Они полупрозрачные, шириной всего в дюйм. Квадратики такие маленькие, а людей так много, что почти невозможно разобрать кого-нибудь в толпе.
– Если мы поднесем их к лампочке, то сможем разглядеть получше, – предлагает Мина. Прежде чем включить лампу на столе господина де Вриса, она проверяет, хорошо ли задернуты шторы. Она осторожно, кончиками пальцев, берет слайды один за другим.
– Они цветные! – восклицает Олли.
Мина с гордостью кивает.
– Я уже говорила Ханнеке. Родители купили пленку на черном рынке. Даже представить себе не могу, сколько она стоит.
Я тоже. Меня никогда не просили достать цветную фотопленку, но она должна стоить бешеных денег.
– Они идут в правильном порядке? – спрашиваю я.
– Да. По крайней мере, я снимала их так.
Мы втроем склоняемся над слайдами. Вопреки моим ожиданиям, фотографии начинаются не с той облавы, в которую попала Мириам. На первом слайде – летний день в общественном парке, трава, цветы. На переднем плане мужчины с желтыми звездами на пиджаках. Они подняли руки вверх, на их лицах написан ужас. Это заметно даже при таком мелком изображении.
– В тот раз я использовала новую камеру, – шепчет Мина. – И это первая облава, которую я видела. Я просто проходила мимо по улице. Позже кто-то сказал, что этих мужчин казнили.
– Все фотографии, которые ты снимаешь, такие? – спрашиваю я.
– Я экономлю цветную пленку, потому что она очень дорогая, – отвечает Мина. – Но на черно-белых фотографиях показано то же самое.
Хотя я знала, что фотографии будут цветными, я не ожидала такого потрясающего эффекта. Они показывают те стороны войны, о которых мы никогда не говорим. Голодный ребенок. Два солдата, издевающиеся над испуганным евреем. Подвал, полный onderduikers, которые улабаются перед камерой, чтобы показать, что у них все в порядке. Цвет делает все таким ярким, таким реальным. Когда смотришь на черно-белые снимки, то кажется, будто это что-то историческое. Но то, что изображено на этих слайдах, – не история. Все это происходит прямо сейчас. Теперь до меня доходит смысл работы Мины. Каждая фотография – ее собственное маленькое восстание.
В конце концов мы доходим до вчерашних фотографий. В них целая повесть в миниатюре. На первом слайде только что прибыл трамвай. Это обычный трамвай, который теперь используется для транспортировки арестантов. В нем полно людей с желтыми звездами на одежде. В руках у них чемоданы или хозяйственные сумки. Женщина в розовой шляпке держит под руку мужчину в фетровой шляпе желтовато-коричневого цвета. Две ссутулившиеся дамы в сиреневом – возможно, они сестры. Цвета красивые, и от них режет в глазах.
На втором кадре люди из трамвая стоят у заднего входа в театр. Солдат вытянул руку – очевидно, он строит их в ряды. На переднем плане я вижу мальчика-подростка в пальто шоколадного цвета. Он показывает солдату язык. Это его тайное восстание.
Мы рассматриваем кадры, и на каждый уходит несколько минут. Повесть продолжает разворачиваться. Неорганизованная толпа превратилась в аккуратные ряды. Супружеские пары держатся за руки.
Персиковый и красный. Зеленый и черный.
Только дойдя до четвертого кадра с конца, я вижу то, что искала. На нем запечатлена все та же сцена: испуганные люди с чемоданами. Арестованные уже заходят в театр, по трое-четверо в ряд.
На этой фотографии, в нижнем углу – Мириам.
Глава 21
Когда-то у нас в доме завелась мышь. Она шуршала под полом, только когда я была в комнате одна. Папа и мама никогда ее не слышали. Когда я заговаривала о ней, они переглядывались и произносили: «Ах да, твоя мышь». Мне было тогда лет девять. В конце концов даже я начала думать, что никакой мыши нет. Просто это мой товарищ по играм, которого я выдумала. Но однажды пришла Элсбет, и мышь появилась возле ее стула. Элсбет громко завопила. В эту минуту мышь стала реальной, по-настоящему реальной. Ведь ее увидел кто-то еще, кроме меня.
– Это она. – Я указываю на слайд.
– Что? – спрашивает Мина. – Где?
– В углу. Справа.
Она смотрит из-за моего плеча.
– Ты уверена? Все так мелко и неясно.
У самого края снимка – девушка с кудрявыми волосами, в пальто небесного цвета. Лицо вышло нечетко. Правда, я в любом случае знаю ее лишь по описаниям. А вот ярко-голубое пальто вышло отлично, и если прищуриться, можно разглядеть два ряда серебряных пуговиц. Вот она, эта девушка, сбежавшая из безопасного убежища. Девушка, которая немного избалована. Девушка, которая любила мальчика. Девушка, у которой имелась лучшая подруга. Девушка, которая была отличницей, чтобы угодить родителям. Может быть, ее лицо получилось нечетко, потому что она делает именно то, что сделала бы я: ищет возможность удрать.
– Как ты думаешь, у фру де Врис есть лупа? – спрашивает Олли.
Мина находит в ящике письменного стола господина де Вриса старинную лупу с резной деревянной ручкой. Я пристально изучаю фотографию, миллиметр за миллиметром, но больше ничего не нахожу.
– Все равно мало что видно, – говорит Мина.
– Это она, – произношу я с уверенностью.
Да, это она: я почувствовала острую боль в сердце, когда взглянула на фотографию. Все остальные люди, которых согнали в театр, прибыли сюда с кем-то – с родственниками или соседями. А она совсем одна.
– Она точно там, Олли, – утверждаю я. Из окна кабинета я вижу здание, в котором ее держат. Отсюда до него около ста метров.
– Итак, это она, – ровным голосом заключает Олли. Он наблюдает за мной, ожидая, что я сделаю дальше. – Так мы и думали.
– Нам нужно вызволить ее оттуда.
Именно это он от меня и ожидал. Он качает головой.
– Олли, посмотри на нее, – продолжаю я. – Должно быть, она в ужасе.
– Ханнеке, я уже сказал тебе, что мы не можем ей помочь. Ничего не изменилось за это время.
– Нет, изменилось. У нас есть безопасное место – прямо здесь, через дорогу. Мина и Юдит знают театр. Почему ты не хочешь мне помочь, Олли?
– Я тебя не понимаю, Ханнеке, – отрезает он. – Последние четыре дня мы ждали от тебя помощи в деле, которое важно не только для одного человека, а для сотен людей. А теперь ты заявляешь, что я должен рисковать жизнью друзей, чтобы помочь тебе? Нет, ты действительно…
– Ну что я? – Я в ярости, но не повышаю голос. – Не в своем уме? Рехнулась?
– Я очень сочувствовал тебе, Ханнеке. Ведь оплакивать Баса в одиночестве было невыносимо. Мне было так жаль тебя! Но я надеялся, что ты будешь сотрудничать с нами в Сопротивлении. Если бы я знал, какая ты упрямая, то не привел бы тебя на собрание.
– Бас помог бы мне. – Жестоко сравнивать Олли с братом, но что же делать, если это правда? – Да, он бы помог. И удивился бы, почему мы все еще спорим, хотя знаем, где она находится. Он бы сказал, что мы должны пойти и вытащить ее оттуда. Ты помнишь, как однажды летом он устроил вечеринку, а я болела, и мои родители не пустили меня? Позже он забрался по водосточной трубе с пирогом для меня. Бас не вынес бы, если бы мы отказали в просьбе отыскать Мириам.
– И он бы погиб.
Я впиваюсь глазами в Олли.
– Что ты сказал?
– Ханнеке, Бас был замечательный, просто замечательный. Но он отличался легкомысленностью. Он никогда не думал, перед тем как действовать. А ты знаешь, что случилось в ту ночь, когда он принес пирог? Ты-то была довольна, а его наказали. Родители очень рассердились, что его так поздно нет дома. А сейчас Бас попытался бы спасти эту девушку, и нацисты поймали бы его, и он бы умер.
– Ты не знаешь это наверняка, – возражаю я.
– Разве ты не понимаешь, как мне хочется тебе помочь? Разве не знаешь, как больно мне думать об этой девушке, которая совсем одна? Мне все время хочется быть таким, как Бас, очаровательным и остроумным. Но он вовсе не был идеальным. Кому-то нужно быть осмотрительным. Кто-то должен думать о том, каким опасным может оказаться один-единственный промах.
Его волосы растрепались, под глазами мешки. Наверное, он совсем вымотался. Не знаю, сколько миль ему пришлось проехать на велосипеде, чтобы отвезти Юдит за город, в ее тайное убежище. А прямо оттуда он приехал сюда. Измученный вид Олли напоминает мне о том, как я устала. Столько всего произошло с тех пор, как мы оба отдыхали в последний раз.
– Ханнеке! Олли! – Мина сидит у письменного стола, со слайдами в руках. Очевидно, она не прислушивалась к нашему разговору.
На ее лице написан ужас.
– Мина, в чем дело? – спрашиваю я. Она показывает снимки, которые мы еще не посмотрели. – На этих тоже есть Мириам? – Я возвращаюсь к столу, чтобы взглянуть на слайды. – Дай-ка мне посмотреть.
– Дело не в этом. Ясли… Они закрывают ясли. – Передав мне лупу, она продолжает: – Посмотри на этот. Всех детей забирают в театр. Их никогда не водят такой большой группой. Они собираются закрыть ясли и отправить детей вместе с партией Мириам. – Прищурившись, я вижу вереницу маленьких детей и двух молодых женщин, которые работали в яслях вместе с Миной.
– Мне так жаль, – говорю я. – Ты же их хорошо знала. – Но она, покачав головой, снова указывает на слайд.
– Не в этом дело. Посмотри, – просит она. – Посмотри.
Я смотрю – и в конце концов понимаю, о чем идет речь. Дети постарше идут в театр сами, двух самых маленьких везут в колясках. И одна из них – та самая. В этой коляске фотографии, на которых запечатлены жестокости войны. А еще там снимки членов тайной группы Сопротивления, с которыми я недавно познакомилась и успела полюбить.
– Нацисты сразу же обнаружат камеру, – сокрушается Мина. – Как только коляска попадет в пересыльный лагерь. И тогда они найдут нас всех.
Олли недоумевает, так как никогда не слышал о камере и понятия не имеет, о чем идет речь. Но я понимаю. Несколько минут назад, когда мы увидели на фотографии Мириам, Олли сказал, что ничего не изменилось. Он ошибался. Изменилось всё.
Воскресенье
– Что же нам делать? – в пятый раз спрашивает Санне, и снова ни у кого нет ответа.
Олли промчался по городу на велосипеде, чтобы собрать всех в доме фру де Врис. Сначала он заехал к себе, но оказалось, что Виллем уже ушел на занятия. Затем он отправился к Лео. Тот обещал зайти за Санне и вместе с ней прибыть сюда. Теперь все в сборе, кроме Виллема и Юдит. Она знает о театре больше других, но никогда не сможет прийти на собрание.
– Просто не могу поверить, что ты так глупа! – рычит Лео на Мину. – Я понятия не имел, что ты фотографируешь. Мы пытаемся спасти жизни, а ты порхаешь с камерой! А я предупреждал, что она слишком юная.
– Не кричи на нее, – одергивает его Олли. – И вообще прекрати орать.
Он многозначительно кивает в сторону закрытой двери кабинета. Фру де Врис в ярости от того, что мы здесь собрались. Она стоит у окна неподвижно. А еще она пригрозила, что немедленно выдворит нас, если услышит шум из кабинета.
– Лео, это уже произошло! Правильно? – вмешивается в беседу Санне. – Ничего нельзя изменить. Сейчас нужно решить, что делать.
– Давайте это обдумаем, – говорит Олли. – Может быть, никто не обнаружит камеру. Мина месяцами фотографировала, а волонтеры в яслях понятия об этом не имели. Может быть, обойдется?
Мина с несчастным видом опускает голову.
– Ты же знаешь, что не обойдется. Когда арестованные прибывают в пересыльный лагерь, обыскивают личные вещи каждого. Иногда люди пытаются зашить драгоценности в пальто или в чемоданы. Охранники раздерут коляску по швам, и тогда…
Мы все знаем, что тогда случится. Фотографии участников Сопротивления, тайных убежищ, спасенных детей…
– Но откуда ты знаешь, что коляска прибудет на станцию? – спрашивает Санне. – Когда кого-нибудь вызывают для отправки, обычно разрешается брать с собой всего один чемодан на человека. С какой стати охранникам позволять еще и коляску? Может быть, ее просто оставят в театре.
– А разве это лучше? – отрезает Лео. – Ты думаешь, там не обнаружат камеру?
– Я не говорю, что это лучше, – отвечает Санне. – Просто мы не знаем наверняка, что коляску будут обыскивать. Неизвестно, когда это случится. Мы даже не знаем наверняка, отправят ли всех детей с этой партией. Обычно отправляют в том порядке, в каком прибывают арестованные – а иногда нет. Можем ли мы каким-то образом пробраться в театр?
Олли качает головой.
– Они знают всех, кто там работает. И не станут нарушать правила, чтобы впустить новых людей. Все изменилось с тех пор, как членам совета и их семьям стали присылать извещения с приказом явиться.
– А не попросить ли нам Вальтера? – предлагает Лео. Мне известно, что Вальтер – тот человек, который надзирает за порядком в театре и помогает подделывать документы для детей в яслях.
Олли решительно возражает:
– Нет! Это не входит в задачи Сопротивления. Мы не станем втягивать в это дело Вальтера. Раз мы сами напортили, то должны все исправить своими силами.
– Коляску обязательно возьмут на вокзал, – сокрушается Мина. – Я знаю это. Они никогда не оставляют вещи в театре. В Шоубурге слишком тесно, и туда стараются втиснуть побольше людей. Коляска отправится на станцию, уж поверьте мне.
Санне морщится, потом делает глубокий вдох:
– Хорошо. Значит, нам нужно вернуть камеру не в театре. Мы должны забрать ее, когда колонна арестантов покинет театр. По пути на вокзал. И это надо сделать незаметно, чтобы никто нас не увидел. Правильно?
– Нам придется задержаться на улице после комендантского часа, – говорит Лео. – Поэтому понадобятся особые бумаги.
– Или маскировка, – добавляет Санне. – Лучше всего форма гестапо. Какого-нибудь высокого чина. Тогда можно будет ходить по городу после комендантского часа, не опасаясь быть задержанными.
– Нам негде взять такую форму, – отрезает Олли. – Но если раздобыть, план мог бы сработать. Другие группы Сопротивления похищали немецкую форму для своих операций. Чтобы достать форму, нам понадобилась бы еще одна секретная операция. Нет, у нас нет на это времени: осталось всего два дня до отправки арестованных. Придумайте что-нибудь другое.
– Вы все такие глупые! – Мина качает головой. – Разумеется, есть один способ попасть в театр. Я должна там сейчас быть. Мне же нужно явиться в Шоубург для отправки. Именно так я и поступлю. Явлюсь в театр, сразу же найду камеру и уничтожу ее.
– А потом тебя отправят в лагерь, – тихо произносит Олли.
– Ну и что?
– Мина… – начинает Санне.
– Что? – У Мины дрожит голос. – Это моя вина! Лео только что сказал. И вы всегда утверждали, что миссия важнее любого из нас. Вот я и сделаю это. Пойду туда сегодня днем.
Санне открывает рот и снова закрывает. Олли опускает голову на руки. Лео не отрывает взгляда от письменного стола. Все молчат. Предложение Мины ужасно, но это лучший вариант из всех, что имеются.
Я откашливаюсь.
– Я могу раздобыть форму.
За все это время я впервые заговорила. Все поворачиваются ко мне. На моей совести столько неправильных поступков в эту войну – начиная с Баса. Я знала, что поступаю неправильно, но старалась это игнорировать.
– Мине не нужно идти в театр. Я могу помочь вам вернуть камеру. Но при этом я также хочу вызволить Мириам Родвелдт. Я не прошу вашей помощи и возьму весь риск на себя. Если меня схватят, я скажу, что действовала одна.
Никто не произносит ни слова.
– Вы говорите, что нужна немецкая форма, – продолжаю я. – Я знаю, где ее раздобыть.
Как я видела Элсбет в предпоследний раз.
Ей исполнилось восемнадцать, мне семнадцать. Баса не было в живых. К тому времени она уже познакомилась со своим солдатом. Ее мать не возражала против их отношений. Родители Элсбет поддерживали немецкую оккупацию, хотя и не открыто. Они были тайными, раболепными сторонниками.
Прошло шесть месяцев после вторжения. Мои отметки понизились. Все остальные в школе пытались со скрипом продолжать учиться, как будто все было нормально. Элсбет была единственной из друзей, с кем я виделась. Она приходила каждый день, хотя я не отрываясь смотрела на стену и молчала. Она сооружала мне разные прически, рассказывала последние сплетни или приносила забавные подарки, чтобы вызвать хоть тень улыбки. Заводная игрушка. Смешная открытка. Помада уродливого кораллового цвета. Элсбет размазывала ее вокруг рта и с гордым видом расхаживала по комнате. А потом, выпятив губы, требовала, чтобы я ее поцеловала.
Однажды Элсбет пришла и, усевшись на пол, принялась листать журнал. Она принесла его, чтобы подбодрить меня. На этот раз она была спокойнее, чем обычно. Я смотрела на кончики своих туфель, а Элсбет улыбалась, как сфинкс. Казалось, что-то случилось, и она хочет, чтобы я угадала. Наконец она не выдержала:
– Рольф любит меня. Он признался мне вчера, и я ответила, что тоже люблю его.
– Нет, не может быть, – автоматически произнесла я. – Ты не любишь его. Ты же флиртуешь со всеми.
Элсбет поджала губы, прежде чем ответить. Я видела, она старается взять себя в руки.
– У меня было немало флиртов, так что я знаю разницу. Я люблю Рольфа. Он хочет жениться на мне. После войны я уеду вместе с ним в Германию.
– Но ты не можешь! – упорствовала я. Выйти замуж за немца? Покинуть страну? И у нее будет кто-то – а у меня никого? Ее слова были как удар дубиной. Как она может выйти замуж за одного из них? – Ты не можешь, Элсбет. Ты хочешь, чтобы я порадовалась за тебя. Но я не могу радоваться. Я не могу простить, что ты любишь одного из тех, кто убил Баса.
– Рольф не убивал Баса, – возразила Элсбет. – Рольф даже не хочет находиться в этой стране. Он мечтает, чтобы война закончилась и он мог вернуться домой. Он не согласен с тем, что делает Германия. Его послали сюда. Ты просто сейчас расстроена.
– Конечно, я сейчас расстроена! – взрываюсь я. – Ты хотя бы себя слышишь? Что ты несешь? Ты хочешь выйти замуж за нациста после того, что они сделали с Басом!
– Мне жаль, Ханнеке, что я не могу вечно сидеть и плакать вместе с тобой! – выпалила она. – Прости, но жизнь продолжается.
– Мне тоже жаль. Жаль, что умер не твой, а мой любимый. Надеюсь, он скоро умрет.
С минуту она смотрела на меня, затем снова заговорила:
– Пожалуй, мне лучше уйти.
– Уходи, – сказала я. – И никогда больше не возвращайся.
Глава 22
Когда я ухожу от фру де Врис, на улицах еще тихо. Несколько школьников, продавцов молока и подметальщиков – вот и все. Наше утреннее собрание закончилось раньше, чем я обычно отправляюсь на работу. Я пребываю в состоянии легкой эйфории, но смертельно устала. Если я долго на что-нибудь смотрю, перед глазами плавают черные мушки.
Может быть, родители еще не проснулись. А вчера ночью легли спать, оставив для меня дверь незапертой. Они делали так прежде, хотя и не часто. По крайней мере два раза они рано легли спать, предварительно не убедившись, что я вернулась до комендантского часа. Я снимаю туфли на крыльце и на цыпочках поднимаюсь по внутренней лестнице.
Когда мне остается три ступеньки до двери, она распахивается.
– Где ты была? – Мама крепко прижимает меня к груди. – Где ты была?
– Прости. Я задержалась у одних людей. И я не отдавала себе отчета, что уже так поздно. Начался комендантский час, и мне пришлось остаться.
– Что за люди? – ледяным тоном спрашивает отец. Он за спиной у мамы, в кресле. Папа почти никогда не сердится. Но уж когда он разозлится, то это пострашнее, чем гнев мамы. – Какой друг допустил, чтобы твои родители волновались?
– Это связано с работой, – импровизирую я. – Нужно было помочь господину Крёку с похоронами. Он попросил меня сходить и побеседовать с семьей. Я почти забыла об этом поручении и потому так стремительно убежала вчера из дому. Люди были в таком горе… А потом начался комендантский час, и я там застряла.
– Господин Крёк? – говорит мама.
– Он тоже приносит извинения.
– Я хочу увидеться с ним прямо сейчас. И я скажу ему…
– Конечно, – перебиваю я. – Разумеется, тебе следует повидаться с господином Крёком. Я только надеюсь, он не наймет кого-нибудь на мое место. Зачем я ему, если он не может рассчитывать, что в случае необходимости я буду работать ночами? – Я молюсь про себя, чтобы мама не отправилась к господину Крёку. Но она вряд ли захочет поставить под угрозу мою службу.
– Ты хоть представляешь, что заставила нас пережить этой ночью? – спрашивает отец.
– Представляю. Но со мной все в порядке. В полном порядке.
Мама выпускает меня из объятий и поворачивается к отцу, что-то смахивая с лица. Она плачет? Нет, слез не видно, но лицо в красных пятнах.
– Простите, – повторяю я, но мама качает головой:
– Ступай переоденься, а потом приходи завтракать.
– Что?
– Переоденься. Я приготовлю еду. Сейчас ты будешь завтракать. И никогда больше не проводи ночь вне дома, не предупредив нас. Никогда! Ты переоденешься и причешешься, и мы больше не будем об этом говорить.
Я не знаю, почему она предлагает мне перемирие. Может быть, просто вымоталась не меньше меня? Возможно, ей не хочется ссориться. В любом случае я с благодарностью принимаю это предложение.
В спальне я провожу гребнем по волосам и надеваю платье из шотландки. Мама его любит, а я терпеть не могу. Это как бы моя оливковая ветвь мира. Она так это и поймет. Моя постель не застелена со вчерашнего утра, и мне отчаянно хочется в нее забраться. Но я иду в ванную, брызгаю в лицо холодной водой и щиплю щеки, чтобы они разрумянились. Мне хочется повидаться с Олли и с остальными членами группы, чтобы составить план. Но мы так долго бодрствовали, что решили передохнуть и переодеться. Олли сказал, что позже найдет меня.
Когда я выхожу из спальни, мама хлопочет на кухне. На завтрак у нас обычно только каша, но сейчас она достает из буфета разную всячину. Я и не подозревала, что она сберегла остатки яиц и кусок ветчины. Вместо того чтобы экономить, как всегда, мама готовит такой завтрак, как будто нет войны и все нормально.
– Хлеб? – спрашивает она, услышав, как я вошла. – Если я нарежу его тонкими ломтиками, ты будешь есть?
Я смотрю на папу, пытаясь понять, как мне следует ответить. Однако он предпочитает не встречаться со мной взглядом.
– Если хочешь, нарежь. Я съем все, что ты приготовишь.
Мы садимся за стол, на котором больше еды, чем мы съедаем за неделю. Я вижу: папа не поверил ни единому моему слову. Он сверлит меня взглядом, пока я болтаю обо всем, что приходит в голову: о погоде, об оторвавшейся пуговице на юбке, о дешевой репе, которую видела в лавке. И все время я думаю о том, долго ли придется ждать Олли. Может быть, он сначала свяжется с Юдит, чтобы посоветоваться? Он сказал, что придет ко мне – или это я должна его найти? Я так устала, что мысли путаются. Следует ли мне отправиться к Олли и ждать?
Сегодня воскресенье, и у меня выходной. Поэтому я не знаю, под каким предлогом вырваться из дома. Мама зорко следит за мной, как ястреб. Я помогаю с домашней работой, которая не была закончена. Мы моем окна, подметаем полы и чистим серебро. Когда у нас заканчивается чистящее средство, я предлагаю сходить к соседям и одолжить его. Но мама с торжествующим видом достает новую баночку. Тогда я предлагаю сбегать на улицу за газетой, но на этот раз меня останавливает папа. Он говорит, что у него есть идея получше, чем чтение новостей.
– Почему бы тебе что-нибудь не сыграть, Герда? – спрашивает он маму.
– Но сосед, наверное, дремлет. И мне нужно почистить свеклу для ланча, – возражает мама.
– Нет, сыграй что-нибудь, мама. Я почищу свеклу.
Сначала я предлагаю это в надежде на то, что музыка улучшит ее настроение. Но когда мама садится за рояль, мне ужасно хочется, чтобы она сыграла, как прежде. До войны я слышала музыку за полквартала от нашего дома. Сначала мелодию играла мама, а потом ее неуверенно повторяла ученица.
Мама какое-то время сидит, положив руки на клавиши. Наконец начинает играть. Это этюд для начинающих. Когда-то ей удалось научить меня играть эту мелодию. Но потом она признала, что я бездарный ученик. Это простое произведение – не из тех, которые играют, чтобы блеснуть. Я застываю с ножом для чистки овощей в руке. Эта песенка напоминает мне о том времени, когда я была беззаботной. Мама играет ее снова и снова, каждый раз добавляя новую вариацию. В конце концов первоначальная простенькая мелодия едва слышна за трелями и аккордами. Но если внимательно прислушаться, она никуда не исчезла.
Проходит час. Мама поглощена музыкой, а папа дремлет в кресле. Я думаю, что мое прегрешение почти забыто. Через час я попытаюсь уйти. Скажу, что у меня запланирована встреча с Олли. Он нравится родителям. Обдумывая этот план, я слышу какой-то шум, который примешивается к звукам рояля. Мама тоже его слышит и останавливается. Ее пальцы застывают в нескольких сантиметрах от клавиш.
– Ханнеке! – Голос доносится снизу, с улицы. Он такой тихий, что трудно разобрать, кому он принадлежит.
Я распахиваю окно руками, испачканными свеклой, и высовываюсь, чтобы посмотреть, кто на крыльце.
– Олли? Это ты?
– Нет, это я. – Высокая фигура, стоящая рядом с велосипедом, снимает шляпу.
– Виллем? Что ты здесь делаешь?
– Прости, – произносит он громким шепотом, стараясь не потревожить соседей. – Олли дал твой адрес, но не сказал номер квартиры. Я не знал, в какой звонок звонить.
– Я сейчас спущусь.
Как только я закрываю окно, мама встает с табурета.
– Кто это?
– Друг. Он не знал номер нашей квартиры. – Я начинаю надевать пальто. – Я сказала ему, что сейчас спущусь.
– Нет, не спустишься. Я не знаю этого мальчика.
– Это Виллем. Он снимает комнату вместе с Олли. – Миска с начищенной свеклой так и стоит на полу. – Поставить свеклу на плиту?
– Нет. – Мама захлопывает крышку рояля, и дерево издает ужасающий скрип. – Я запрещаю. Тебя не было дома всю прошлую ночь.
– На этот раз я не собираюсь отсутствовать столько времени, – терпеливо объясняю я. – Я просто хочу немного побеседовать с Виллемом.
Мамин подбородок дрожит, взгляд безумный.
– Я запрещаю тебе покидать этот дом. Ты все еще мой ребенок, Ханни.
– О, я уже не ребенок! – Обычно я выкрикиваю такое в гневе. Но сейчас мне грустно, и я очень устала. – Я приношу в дом деньги. Я покупаю продукты и выполняю все поручения. Мама, это я забочусь о тебе.
Лицо мамы сморщивается. Перемирие, заключенное во время завтрака и игры на рояле, больше не действительно.
– Моя дочь никогда бы не стала спорить со мной в таком тоне.
Она говорила это много раз, но сейчас я чувствую себя уязвленной. Мне надоели сравнения с той девушкой, какой я была до войны. Надоело перечисление моих прежних добродетелей.
– Этой дочери больше нет, – заявляю я. – Она исчезла и никогда не вернется.
Глава 23
– С тобой все в порядке?
Я выхожу на улицу, и Виллем берет меня под руку. Интересно, слышал ли он нашу ссору через открытое окно? А может быть, он просто читает по моему лицу.
– У меня все прекрасно.
– Значит, именно так ты выглядишь, когда у тебя все прекрасно? – весело поддразнивает он.
– Нет, именно так я выгляжу, когда не хочу говорить на эту тему.
Если бы я сказала это Басу, он бы изобразил, как котенок выпускает когти. А потом шипел бы и когтил воздух, пока я не засмеялась бы. А если бы я сказала это Олли, он бы ответил что-нибудь саркастическое. Око за око. Но Виллем лишь кивает с озабоченным видом.
– Прости. Мне не хочется вспоминать, какое потрясенное лицо было у мамы, когда я выходила из квартиры. – Тебя прислал Олли?
Виллем объясняет, что Олли собирался прийти ко мне сам. Но он попросил дать ему поспать двадцать минут.
– Вместо этого я дал ему поспать несколько часов, – говорит Виллем. – Он будет в ярости, когда проснется. Но он так устал, что не мог связать и двух слов. Если бы я позволил ему ехать на велосипеде к тебе, то нам бы пришлось выуживать его из канала. Он слишком много работает. Итак, вот почему к тебе поехал я. И если ты поможешь, мы справимся вдвоем.
– Справимся с чем?
– Санне и Лео сейчас относят еду детям в тайное убежище. Когда Олли проснется, то отправится к Юдит. Ему нужно расспросить о солдатах, которые обычно сопровождают колонну при отправке. Ты вызвалась достать немецкую форму. Я надеюсь, что ты также поможешь мне выполнить мое задание.
– И какое у тебя задание?
– Я должен разработать маршрут бегства.
Я знаю Виллема не так хорошо, как Олли, но его доброта действует успокаивающе. Кажется, будто знаешь его сто лет. Он склоняет ко мне голову, словно у нас интимный разговор. Но на самом деле он рассказывает о Шоубурге.
Кое-что из этого мне уже известно. Театр всего лишь перевалочный пункт: евреев держат там несколько дней или недель. Следующее место назначения после Шоубурга – пересыльный лагерь в Нидерландах. В нем пленники остаются недолго, объясняет Виллем. Затем их вывозят из страны в другие лагеря с иностранными названиями. Именно там здоровые молодые мужчины умирают от таинственных болезней.
Но сначала евреев сажают в поезда на станции, которая находится на окраине города. Иногда солдаты везут туда арестантов на трамваях или грузовиках, но чаще заставляют идти пешком.
Это недалеко, всего два километра. Улицы не перекрывают, и не делается особых приготовлений к отправке. Иногда это происходит ночью, когда город притворяется, будто спит за шторами. Но порой они делают это средь бела дня.
Вот тут-то у нас и появляется шанс. Где-то по пути из Холландше Шоубурга к станции нужно забрать камеру из коляски. Вероятно, в ней будет ребенок. А я должна отыскать Мириам, отвлечь стражу и сбежать в безопасное место. Все это надо проделать так, чтобы никто не заметил. Вот и все.
– А солдаты?
– Этим занимаются Олли и Юдит, – отвечает Виллем. – Это их задача на сегодня. А наше с тобой задание – просто топография. Мы это сможем. Все будет хорошо.
В его голосе звучит уверенность. Не то чтобы я считала, будто он прав, но хочется ему верить. Просто приятно, когда тебе говорят, что все будет хорошо.
Виллем смотрит на часы и ускоряет шаг.
– Нам нужно торопиться. – Он берет меня за руку и тянет вперед. – Обычно в Вестерборк отправляют в том порядке, в каком прибывают люди. Арестованные во время облавы, когда схватили Мириам, будут отправлены завтра ночью. И коляска уедет с ними. Хотелось бы потренироваться в побеге, наблюдая за аналогичной ночной отправкой. Но сегодня ее не будет, так что нам придется следить за колонной днем. Таким образом мы узнаем маршрут, которым она следуют.
– А что, если в маршруте не будет никаких слабых мест? – спрашиваю я.
– Есть, по крайней мере, одно.
– А именно?
– Вряд ли им придет в голову, что какой-нибудь сумасшедший станет выдавать себя за нациста и останавливать колонну. Они не ожидают ничего подобного.
Мы останавливаемся достаточно близко от Шоубурга. Нам виден вход в театр, и мы незаметно наблюдаем. Виллем наклоняется над велосипедом. Он снял цепь и сейчас притворяется, будто прилаживает ее обратно, на цепное колесо. Это дает нам повод болтаться поблизости. Пока он возится, я посматриваю на тяжелую дверь театра.
Сейчас почти четыре часа. Ровно в четыре дверь открывается. Я подталкиваю Виллема, и он с легкостью возвращает цепь на место. При этом вздыхает, словно извиняясь за неисправность своего велосипеда. Сначала появляются солдаты. Их двое – один помоложе, второй постарше. Последний напоминает мне старшего брата отца, который живет в Бельгии. Дядюшка всегда присылает мне деньги в день моего рождения.
Затем выходят арестанты с чемоданами. Они взъерошенные и усталые, как будто не спали несколько дней. Толпа большая, человек семьдесят. Солдаты гонят их по середине улицы. В Амстердаме чудесный зимний день, многолюдно. Есть тут и такие парочки, как мы с Виллемом. Все ведут себя так, словно в колонне, которую гонят, нет ничего необычного. Наше представление о том, что такое нормально, слишком сильно изменилось.
Мириам здесь нет, но есть девушки ее возраста или моложе. Они идут в окружении пар и мужчин среднего возраста. Один проходит мимо. На нем зеленое пальто из твида и фетровая шляпа. В нем есть что-то знакомое – что-то связанное с мелом. Это мой преподаватель, у которого я училась в третьем классе. По средам он обычно приносил в класс коробочку леденцов и раздавал нам, когда мы выходили из класса. Я не могу вспомнить его имя. Не знала, что он еврей.
Солдат, похожий на моего дядю, что-то выкрикивает по-немецки. У него такая быстрая речь, что я не понимаю слов. Однако я угадываю их значение: он указывает на конец квартала. Прямо передо мной спотыкается пожилая женщина. Мужчина рядом с ней (судя по всему, ее муж) пытается ей помочь. Солдат вскидывает винтовку и делает ему знак не останавливаться. Но тот снова делает попытку помочь жене. Тогда солдат подталкивает мужчину прикладом, подгоняя его. Пожилой человек идет вперед неуверенной походкой, и теперь уже жена помогает ему. Я стараюсь не смотреть.
– Хотелось бы мне, чтобы их маршрут не проходил по открытой местности, – замечает Виллем, медленно ведя велосипед. Мы по-прежнему притворяемся, будто поглощены беседой и не замечаем насилия, творящегося вокруг. – Это плохо для нас.
Да, маршрут не самый удачный для нашей цели. Это кратчайшее расстояние до железнодорожной станции. Он проходит по широким улицам и мимо сплошного ряда длинных домов, который не прерывается переулками. Здесь почти негде укрыться, а нам нужно хорошее укрытие. Немецкая форма лишь частично решит нашу проблему.
– Пока мы идем вперед, думай о том, что видишь. – Виллем украдкой бросает взгляд налево, затем направо. – В каком месте будет больше шансов, что никто не увидит, как ты удрала?
– Когда они будут проходить мимо Остерпарка, – предлагаю я. Это большой муниципальный парк, и с наступлением темноты в нем легко затеряться.
Виллем обдумывает мои слова.
– Но у нас нет никаких контактов возле этого парка. Никто из группы там не живет. Куда ты пойдешь дальше?
Он прав. Кроме того, по пути к Остерпарк нужно пересечь два канала. Это плохо: мосты слишком легко перекрыть.
– Это нужно сделать до канала Плантаге Муидграхт, – размышляю я вслух. – Оттуда недалеко до фру де Врис. Мы постараемся как можно скорее забрать Мириам и коляску после их выхода из Шоубурга.
– Думаю, ты права. Если дойдем до моста, у нас не будет шансов.
Сосредоточься на деталях бегства, говорю я себе. На близком спасении Мириам. На одной этой жизни. Нужно сосредоточиться на Мириам, чтобы не думать об учителе, которого я не спасу, или о господине Бирмане, которого я тоже не спасу, или об одноклассниках Мириам. Не думать обо всех этих людях, которые сейчас идут совсем рядом с нами. Я не смогу помочь ни одному из них.
– Как насчет этого места? – Виллем останавливается, указывая на здание. Он делает вид, будто ему просто хочется блеснуть познаниями в архитектуре.
Мы добираемся до перекрестка, от которого расходятся три улицы. Если мы с Мириам сбежим здесь, то через пять секунд уже скроемся из виду. А двое солдат (предположим, их будет двое) не смогут проследить, в каком направлении мы побежали.
Рассматривая здания, которые тянутся по обе стороны улицы, я замечаю мясную лавку. Над входом большой навес. Он оранжевый, цвета нашей монархии в изгнании. Почему-то это кажется мне добрым знаком.
– Вон та мясная лавка, – киваю я в ту сторону. – Под навесом.
Лавка стоит от улицы дальше, чем соседние магазины, так что там можно укрыться. Под навесом – большая пластмассовая корова в натуральную величину. За ней вполне могут спрятаться один-два человека.
Виллем громко вздыхает и присаживается на корточки. Он изображает шутливую досаду на несносную велосипедную цепь. Но на самом деле ему требуется время, чтобы осмотреть мясную лавку.
– Хорошо, – одобряет он. – Если не знаешь, что за коровой кто-то спрятался, ни за что не заметишь.
Он действительно считает, что это хорошая идея? А я-то сама так считаю? Или мне просто хочется, чтобы это сработало? Не понимаю. Этот перекресток, который выбрали мы с Виллемом, этот навес, эта пластмассовая корова… Отсюда больше километра до станции Муидерпорт[17]. Это большое расстояние. Но достаточно ли его, чтобы спасти одну жизнь?
Теперь колонна опережает нас. Ряды угрюмых людей, которых гонят неизвестно куда. Мы стоим, глядя им вслед и ощущая свое бессилие. Мы с Виллемом одни.
– У тебя получится? – спрашивает он. – Я имею в виду военную форму.
– Я не подведу.
– Если понадобится, чтобы я связал тебя с кем-нибудь… Правда, я не уверен, что знаю нужных людей, но я мог бы…
– Все в порядке, Виллем.
Кивнув, он не сразу решается задать следующий вопрос.
– Ханнеке, я надеюсь, ты не поймешь это превратно, – начинает он. – Просто дело в том, что мы бы планировали операцию с немецкой формой заранее, за несколько недель. Ты мне нравишься. Я думаю, ты сильный человек. Но Олли… Он мой лучший друг. И я не могу допустить, чтобы с ним что-нибудь случилось. С любым из нашей группы. Я хочу, чтобы ты сказала, что мы можем на тебя положиться.
Вот уже два года у меня ни разу не возникало желания, чтобы кто-нибудь на меня положился. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь зависел от моей воли. Но теперь я видела колонну, видела центр депортации, видела детский почерк испуганной девочки, видела храбрых людей, вынужденных прятаться. Поэтому я отвечаю Виллему:
– Вы можете на меня положиться. Я сделаю все, что в моих силах.
У меня комок в горле, и я отвожу взгляд. А когда снова смотрю на Виллема, то замечаю, что он сильно обеспокоен.
– Надеюсь, у тебя все в порядке, Ханнеке. Если хочешь о чем-нибудь поговорить, я ничего не расскажу остальным, – предлагает он.
Виллем так искренне это произносит, что я закусываю губу до крови. Все случившееся за последние сутки давит на меня.
– Нет, ничего такого. У меня все прекрасно. Просто я… я плохо сплю, – признаюсь я в конце концов. – Я плохо сплю с тех пор, как умер Бас.
Это неполное объяснение, но я впервые затрагиваю эту тему при ком-то.
Виллем берет меня за руку.
– Баса этим не вернешь, Ханнеке. Да ты и сама знаешь. И вот что я тебе скажу: ты можешь спасти Мириам – и по-прежнему не спать по ночам.
Глава 24
У звонка другой звук. Раньше это было слабое дребезжание, а теперь он звучит чисто, как колокольчик. Сначала я подумала, что забыла этот звук. Но как же я могла забыть, если слышала его сто раз, двести, пятьсот?
Наверное, Элсбет купила новый звонок, когда родители переехали к бабушке. Они с Рольфом остались в квартире, в которой она выросла. Странно думать о ней как о жене, занимающейся хозяйством в доме. Интересно, содрала ли она обои в гостиной? Она всегда считала их уродливыми, а теперь у нее есть на это деньги.
Никто не идет открывать дверь, и я снова звоню, прижимаясь лицом к стеклу. Та же самая гостиная. Те же самые обои.
Я знала, что буду нервничать, придя сюда. Но я не ожидала, что мне будет так страшно. И придется делать такие усилия, чтобы не убежать.
Ничего – ни звуков изнутри, ни бликов света от настольной лампы. Дома никого нет. Так лучше, говорю я себе. Безопаснее. Легче. Я обдумала миллион непредвиденных обстоятельств: она дома, он дома, оба дома. А этот сценарий – лучший для меня. Вот почему я пришла сейчас: семья Элсбет всегда устраивает грандиозный воскресный обед в доме ее бабушки. И я держу пари, что эта традиция продолжается и во время войны. Так почему же я так разочарована, не увидев лица Элсбет?
И еще одно не изменилось в доме: запасной ключ, как всегда, на верху дверной коробки. Он слегка ржавый и холодит руку.
Да и запах тот же самый: пахнет гвоздикой и стиральным порошком. Это запах, присущий семье Вос. Он так хорошо мне знаком, что действует успокаивающе. Но на этот раз я не гость, напоминаю я себе. На этот раз я работаю.
Я проскальзываю в квартиру. Спальня родителей наверху, в конце холла. Я почти никогда не заходила внутрь. Элсбет иногда прокрадывалась туда и возвращалась с румянами мамы, и мы учились краситься. Как только я захожу в эту комнату, мне становится ясно, что я ошиблась. Спальня выглядит необитаемой. На постели валяется какое-то недошитое платье.
У меня замирает сердце. Если Элсбет и Рольф не перебрались в спальню родителей, значит, придется зайти в ее комнату. А я так надеялась этого избежать! Нужно вернуться к лестнице. Первая дверь направо.
Я открываю дверь, и меня сразу же обступают призраки. Я провела столько дней в комнате Элсбет! Мы упражнялись в танцах, притворяясь, будто делаем домашние задания, и болтали о наших любимых кинозвездах. Мечтали о том, как вырастем, как у нас одновременно родятся дети, и в конце концов мы вместе состаримся и будем гулять по площади, поддерживая друг друга под руку. Прекрати. Немедленно прекрати!
У двери висит халат. На рукаве дырка. Элсбет прожгла халат, когда мы тайно курили сигареты на балконе.
Чтобы не поддаваться эмоциям, я цепляюсь за реальные детали. Элсбет делила эту комнату со старшей сестрой. Шкаф Нелли был слева, а шкаф Элсбет – справа. Поселившись с мужем в доме, где провела детство, она наверняка отдала ему шкаф Нелли. Это так похоже на Элсбет: посоветовать мужу просто отодвинуть вещи сестры в сторону, чтобы освободить место для своих. Может быть, он обнаружил один из забытых бюстгальтеров Нелли, и Элсбет хохотала при виде его смущения.
Я открываю левый шкаф. Да, я права. Внутри аккуратно выглаженная мужская одежда (брюки, рубашки) висит на плечиках. Это вещи, которые носит муж Элсбет. Рольф. Ее новая жизнь, в которой мне не нашлось места.
Но формы здесь нет. Я проверяю дважды. У него должно быть по крайней мере две: одну носит, вторая в стирке. Но в шкафу ничего. Формы не видно ни на стульях, ни на кровати, застеленной наспех. Где же она может быть?
Вернувшись в коридор, я открываю кладовку для белья. Внутри плетеная корзинка, в которой полно измятых полотенец и простынь, отложенных для стирки. Я роюсь в ней в поисках серого и черного – цвета смерти, цвета гестапо. В самом низу я замечаю что-то темное и вытаскиваю эту вещь.
Как же я могла забыть? Бабушка Элсбет дарила все в двух экземплярах. «Миндалины» не понравились Элсбет, и она отдала платье мне. Как она хихикала, когда я надела это ужасное нечто! Но ей пришлось оставить близнеца – второе платье унылого цвета.
От него пахнет Элсбет, пудрой и духами. И я сразу же вспоминаю подругу в этом платье. Она строила гримасы, когда мать настаивала, чтобы она надела его на вечеринку. Приходилось подчиняться, но она старалась «нечаянно» пролить на него пунш. При этом она щебетала о том, как хорошо целуется Хенк, и с умудренным видом говорила мне, что первый поцелуй не идет ни в какое сравнение со вторым.
Я целовалась с Олли, Элсбет. Я целовалась с Олли – а Бас мертв – как у тебя дела? – разве не глупо, что наша дружба закончилась из-за того, что ты полюбила мальчика? – или именно так и бывает?
Я засовываю платье в корзинку для грязного белья и хватаюсь за черный воротник, который вдруг высунулся. Рубашка Рольфа. И как раз когда я начинаю вытаскивать брюки того же цвета, открывается парадная дверь.
Не раздумывая, я ныряю в кладовку, втискиваясь рядом с плетеной корзинкой. В руках я сжимаю мятую форму Рольфа. Я прикрываю скрипучую дверцу шкафа, оставляя щель. Если ее закрыть полностью, раздастся громкий щелчок. Сердце громко колотится, и я уверена, что этот звук слышен всем. Я приказываю сердцу успокоиться, но оно не слушается.
– Поверить не могу, что ты забыл пирог. Какой же обед без пирога!
И еще одно не изменилось: голос Элсбет, веселый и насмешливый. Он наносит мне удар под ложечку. Всхлипнув, я прижимаю к губам форму Рольфа.
– Какая жизнь без пирога и без моей жены? – поддразнивает он.
– Значит, мы с пирогом – самое сладкое в жизни? – смеется она.
– Вспомни, не нужно ли тебе еще чего-нибудь, пока мы здесь? – спрашивает Рольф.
– Могу заодно захватить с собой свитер. Дом бабушки – настоящий холодильник.
Они так естественно общаются друг с другом! Этого я не ожидала. Болтают так, будто нет войны. Сплошные шутки и поцелуи. Я слышу шаги на лестнице. Четвертая ступенька скрипит. Дверь ее комнаты как раз перед кладовкой для белья. Я слышу, как она открывает шкаф и перебирает плечики с одеждой, что-то мурлыча себе под нос. Элсбет никогда не умела петь.
– Ты не видел желтый свитер? – кричит она.
– Разве ты не положила его в корзину для грязного белья?
Я замираю от страха, видя, как приближаются лодыжки Элсбет. Ближе, ближе… Запах пудры щекочет мне нос. Она берется за ручку кладовки. Что делать, если она меня обнаружит? Я мысленно прокручиваю сценарии, которые срабатывают с нацистами. Но сейчас они не годятся. Я могла бы ударить ее. Могла бы обнять, как будто и не прошло этих двух лет. Но они прошли, и сейчас я не только ненавижу и люблю Элсбет. Сейчас мне нужно ее бояться.
– Элсбет, он здесь, – кричит Рольф. – Твой свитер был на стуле.
Она удаляется, стуча каблучками по паркету. Сердце колотится в груди как молот, от волнения, гнева и горя. И она снова уходит. Моя бывшая лучшая подруга.
Когда я возвращаюсь домой в тот вечер, мама и папа уже в постели. Еще слишком рано, и они, конечно, не спят. Но они не выходят из спальни. Годами я просила их именно об этом: ложиться спать и не ждать меня. Но сейчас я представляю, как они, в ночных рубашках, прислушиваются – и мне становится неуютно. Что-то изменилось между нами во время последней ссоры, когда я ушла с Виллемом. Я по-прежнему их дочь, но больше не ребенок.
На моем ночном столике – письмо, прислоненное к книге. Я не узнаю почерк на конверте. Когда я его вскрываю, выпадает маленькая записка, сложенная звездочкой. Наверное, это принес Христоффел, когда меня не было. Значит, его отец уже вернулся из Гааги. Это ответ от Амалии. Как он был мне нужен пару дней назад! Но теперь он не имеет никакого значения.
Я читаю, развернув хрустящую бумагу.
Дорогая Ханнеке! Я не знаю, где она. Как бы мне хотелось это знать! Я скучаю по моей подруге.
Я воображаю радостное воссоединение Мириам с подругой. Они делятся журналами, а также мыслями и чувствами, накопившимися за неделю. У нас с Элсбет никогда не будет такого воссоединения.
Когда я засыпаю, мне снова снится давний кошмар. Кошмар, который постоянно преследует меня после смерти Баса. Бас приходит ко мне в военной форме, с письмом, которое я разорвала. В этом сне он складывает клочки бумаги и сердится, что я не прочла письмо. «Это значит, что ты меня забыла», – говорит он. «Нет, – пытаюсь я возражать. – Вовсе не значит. Я думаю о тебе каждый день».
«Смотри, – уверяю я. – Я прочту его прямо сейчас. Прочту немедленно, раз это так важно для тебя». Но с каждым словом, которое я пытаюсь прочесть, Бас все больше бледнеет. К тому времени, как я добираюсь до середины письма, передо мной стоит мертвец. Я не могу дочитать до конца, так как заливаюсь слезами. Когда я просыпаюсь, у меня сухие глаза, но простыни перекручены и пропитаны потом.
На следующий вечер, как раз перед комендантским часом, в дверь стучится Олли. Мама открывает, и он пускается в объяснения. Его мать плохо себя чувствует, и ему с отцом нужно сходить к ней в больницу. Пия боится оставаться дома одна. Не могла бы я пойти к ним и провести эту ночь с ней?
Моя мать ничего не отвечает и даже не смотрит на меня.
– Делай что хочешь, Ханнеке, – говорит она.
– Значит, мне нужно пойти к Олли, – заключаю я.
Правда, с матерью Олли все хорошо, а Пия, вероятно, сейчас делает уроки. Отправка Мириам должна начаться через два часа.
Глава 25
Понедельник
Нам приходится очень тихо стоять под навесом мясной лавки. Место выбрано удачно: как я и рассчитывала, навес и смешная корова скрывают нас. Две пары солдат прошли мимо, не заметив нас. Я надеюсь, что небо останется ясным. Если начнется дождь или пойдет снег, не исключено, что один из немцев захочет укрыться под навесом.
Я знаю, что Виллем неподалеку, в нескольких кварталах от нас. Он прячется там, со сменной одеждой для Олли.
Потому что Олли, Оливье, Лоренс Оливье (как шутливо называл его Бас), сейчас в серой форме гестапо, принадлежащей мужу Элсбет. Она широковата в плечах. Если внимательно приглядеться, станет ясно, что что-то не так.
Вот каков план: мы с Олли должны ждать под навесом появления колонны. Ему нужно остановить солдата, конвоирующего арестантов. Он должен сказать, что у него приказ обыскать детскую коляску в связи с контрабандой. Олли заберет камеру. Затем встретится с Виллемом и переоденется, чтобы соседи не увидели его в военной форме. Наверное, Олли нервничает, но не показывает этого. Он смотрит на людей, которые торопятся домой. У нас есть по крайней мере полчаса. Мы заняли позицию незадолго до комендантского часа. И сейчас убиваем время, напоминая друг другу о деталях операции.
– У тебя всего минута, чтобы увести ее, – резко говорит Олли. – Я буду расспрашивать их о коляске и покажу фальшивый приказ, который сделал Виллем. Буду тянуть время, сколько смогу. Но у тебя нет ни одной лишней секунды. И никто не должен тебя видеть.
– Я знаю, Олли.
– А потом вы побежите по улице и завернете за угол. Там я с тобой встречусь и…
– Олли?
Мы снова замолкаем. Я знаю все, что он может сказать, потому что мы сто раз повторили детали плана. И меня сто раз предупреждали: нужно найти Мириам и увести, пока Олли будет забирать камеру из коляски. Иначе девушку не удастся спасти.
И тогда я подведу ее.
– О чем ты думаешь? – спрашивает Олли.
– Ни о чем, – отвечаю я. – А ты?
Он отворачивается, и ночные тени скрывают его лицо.
– Я думаю о Басе.
– Да?
– А разве ты не думаешь о нем?
Думаю. Я думаю о нем всегда. Бас катается на коньках вместе с мамой. Бас приносит мне пирог. Бас сводит меня с ума. Бас живой. Бас мертвый.
– Сегодня я думаю о… – Он останавливается и сглатывает слюну. – Я думаю о том, что случилось с Басом в момент вторжения. Когда он понял, что, скорее всего, умрет.
– Было ли ему страшно? – Мне легко закончить мысль Олли, потому что я сама часто об этом думала.
– Он мучился? – продолжает Олли.
– Сердился? – предполагаю я.
– Или просто чувствовал себя одиноким?
– Это моя вина, – шепчу я. Слова падают на землю и разбиваются у нас на глазах. – Бас умер по моей вине.
В полумраке невозможно прочитать выражение лица Олли.
– Что ты сказала? – переспрашивает он.
– Это я виновата в том, что умер Бас.
Теперь, когда я произнесла вслух эту ужасную вещь, я раздавлена ее чудовищностью. Когда произносишь что-то ужасное, с души должен свалиться камень. Но когда я озвучила эту мысль, камень стал еще тяжелее.
– О чем ты говоришь? В том, что случилось с Басом, нет твоей вины. Ты была за много миль от него. Ты не спускала курок. Ты не сбрасывала бомбу.
– Я знаю, что не спускала курок. – То же самое говорили мои родители после того, как погиб Бас. Что меня там не было, что я не стреляла в него, не сбрасывала бомбу, не топила. Словом, не делала ничего, что принесло погибель Басу. – Но я подвела его. Я сказала, чтобы он вступил в армию.
– Ханнеке, ты же знаешь Баса. Ты знала его так же хорошо, как я. Ты действительно думаешь, что он не хотел идти на войну? Неужели считаешь, что он бы записался, если бы не хотел этого?
Олли пытается меня утешить, но становится еще хуже. Я собираюсь поделиться с ним ужасным секретом.
– Он сказал мне, что не хочет. Во время своей вечеринки. Я ушла, и он догнал меня и сказал, что не хочет идти на войну. А я сказала, что он должен. Сказала, что это его долг. И он дал мне письмо, чтобы я прочитала его в случае… Но я не стала читать. Я принесла это письмо домой и выбросила, так как была уверена, что он вернется. Но я так ошибалась! Он не вернулся. Ты понимаешь, Олли? Я заставила его пойти.
У меня дерет в горле, словно слова причинили физическую боль. Теперь я выдала все. Я отвожу взгляд, потому что мне очень стыдно. Олли стоит неподвижно. Когда он снова заговаривает, голос звучит хрипло.
– Мой последний разговор с Басом тоже состоялся после той вечеринки. Было поздно, все уже разошлись. Он пришел в комнату, и я спросил, почему он еще не лег. Ведь ему нужно рано вставать и отправляться на учения.
– Ты говорил с ним после меня?
Странно, что это никогда не приходило мне в голову. Конечно, члены семьи Баса говорили с ним. Ведь он жил вместе с ними. Но я почему-то считала, что говорила с ним последней. Вот как я себе это представляла: я поговорила с ним – а потом он умер. Именно это не дает мне спать по ночам.
– Несколько часов спустя. Уже начало светать.
Я стараюсь не дышать.
– О чем вы беседовали?
– Я спросил, что он чувствует. Не боится ли? Сказал, что не стану осуждать, если боится: я бы в его положении боялся. Он признался, что ему страшно. Но затем добавил, что если бы не боялся, то это нельзя было бы считать настоящей храбростью. И назвал меня нежным цветком за то, что я не пошел добровольцем. А я спросил, какой именно цветок. И он ответил, что определенно незабудка. Потому что я собранный и ничего не забываю.
Сейчас Олли улыбается, вспоминая о храбром Басе, который так любил дурачиться. И, как ни странно, я тоже улыбаюсь, хотя нам обоим очень грустно.
– Мне он тоже дал письмо.
Я застываю на месте. Олли достает из брючного кармана письмо. Оно написано на бумаге, вырванной из блокнота. Школьники пишут на такой грамматические упражнения. А мы с Элсбет, и Амалия с Мириам, и другие девочки использовали ее, чтобы делиться секретами. Он протягивает мне письмо:
– Читай.
Письмо сложено несколько раз, и его так долго носили в кармане, что края обтрепались. Так темно, что приходится поднести его к самому носу. Я с трудом разбираю буквы.
Прости, что казался таким насмешником. Ты был хорошим старшим братом. Скажи маме, чтобы она берегла своего хорошего старшего сына. Вероятно, сначала она не воспримет это всерьез (кто стал бы ее осуждать?). У меня под матрасом немного денег, и ты можешь их взять. Правда, я написал Пие то же самое. Так что посмотрим, кто из вас окажется более проворным. Передай Ханнеке, что я люблю ее. И чтобы она двигалась вперед. Но не сразу. Скажем, через два-три месяца.
Сейчас я смеюсь, прикрывая рот рукой. Письмо такое забавное и так похоже на Баса: торжественное и смешное, покаянное и милое.
– Почему ты не показывал мне его раньше?
– Потому что считал, что у тебя есть собственное письмо. И потому что ты никогда к нам не приходила после заупокойной службы. Я думал, ты не хочешь иметь ничего общего с моей семьей.
– А я думала, что вы ненавидите меня.
– Я не ненавидел.
– Олли, ты считаешь, он искренне сказал тебе, что боится? Но рад, что идет?
– А ты думаешь, он искренне сказал тебе, что не хочет идти?
Я не знаю. Хотя два с половиной года считала, что знаю.
– Не уверена.
– Может быть, Бас тоже не был уверен, – говорит Олли. – Возможно, ему хотелось идти, а в следующую минуту хотелось остаться.
Передай ей, чтобы она двигалась вперед, написал Бас. И это тоже я не смогла для него сделать.
Олли обнимает меня, и теплая щека прижимается к моей. Я ощущаю его дыхание на своих волосах и, закинув голову, смотрю прямо в глаза. Он улыбается, и я тянусь к нему. Не то чтобы Олли мне нравился… Просто наконец-то, впервые за два с лишним года, с меня свалилось бремя вины. Я касаюсь его губ своими…
– Ханнеке, что ты делаешь? – Олли пятится и поднимает руки, чтобы я не подходила ближе.
– Прости, Олли. Я… я неверно истолковала ситуацию.
Он качает головой, и даже в темноте я чувствую, как он заливается краской.
– Ханнеке, просто я не думаю о тебе в этом плане.
– Да, конечно. Ты просто был очень милым. Ведь я девушка твоего брата.
– Не в этом дело. – Он мучительно ощущает всю неловкость положения. – Я люблю кого-то другого.
Мне ужасно стыдно. Олли был так добр ко мне всю прошлую неделю, а я ответила попыткой его поцеловать. Он любит кого-то другого. Почему же не сказал раньше?
– Юдит? – догадываюсь я. – Ты любишь Юдит?
– Юдит? Нет. – Олли качает головой. – Я не люблю Юдит.
– Тогда кого?
Он вздыхает.
– Как мне объяснить? Вот ты помогла Сопротивлению из-за одного человека. Я тоже стал членом Сопротивления из-за одного человека, Ханнеке… Потому что евреи не единственные, кто страдает от нацистов. Я не люблю Юдит. Я люблю Виллема.
– Ты любишь… Виллема? – Мой мозг отказывается понимать. – Ты любишь Виллема?
– Больше никто этого не знает.
Я пытаюсь собраться с мыслями. Мне известно, что нацисты устраивают облавы на гомосексуалистов. Но я никогда не знала никого из таких.
– Ты уверен? Ты же поцеловал меня несколько дней назад, при Зеленых полицейских.
– Да, поцеловал. А после этого ты сказала, что я хороший актер. Я действительно хороший актер. Вероятно, лучше, чем ты. Ты притворяешься только перед немцами, во время войны. А я притворяюсь перед всеми, каждый день. Я никому не говорил об этом. Я тоже obderduiker. Только мое подполье – весь мир.
– Но я не понимаю. Как ты узнал? Как ты узнал, что ты… с Виллемом?
– А как ты узнала, что любишь Баса?
– Потому что любила, – отвечаю я.
– И я знаю, потому что люблю. Я знаю это давно.
– Ты в опасности?
– Ты кому-нибудь расскажешь?
– Конечно, нет.
– Тогда мне не грозит опасность. До тех пор, пока никто не узнает. – Он напрягается. – Колонна. Они здесь.
Глава 26
Топот множества ног. Он такой громкий – особенно когда от него зависит твоя жизнь. Мысль о том, что Олли рядом со мной, сначала успокаивает, затем пугает. Так много людей подвергают себя риску. Виллем, который затаился в тени. Фру де Врис, которая приютит Мириам, пока мы не переправим ее к фру Янссен. Фру Янссен, которая молится дома.
– Голубое пальто, – шепчу я, как будто нуждаюсь в напоминании. – Мне нужно искать голубое пальто.
А если она не в нем? Может быть, она решила, что ночь слишком теплая? Или отдала кому? Или кто-нибудь его украл? А коляска? Что, если ее нет в колонне? Возможно, ее оставили в театре? Олли не может бесконечно носить гестаповскую форму и останавливать каждую колонну. Все риски, которые мы не предусмотрели, роятся у меня в голове. Как ненадежен план, на который мы возложили все наши надежды!
Арестованных сопровождают два охранника. Это те же, что сопровождали колонну вчера. Солдат постарше с морщинистым лицом, который похож на моего дядю, идет впереди. Молодой солдат замыкает шествие. Пленники идут, ряд за рядом. У меня мороз пробегает по коже. Я не вижу ее. Мне видны лишь те, что находятся совсем близко. А дальше все сливается, и их лица можно разглядеть только при свете полной луны.
Но в одном из задних рядов я замечаю детскую коляску. Она большая и заметная и катится по булыжникам, производя шум. А в следующем ряду – еще одна.
Две. Которая же из них коляска Мины? Если бы я находилась поближе, то узнала бы. Но Олли никогда ее не видел. Что он будет делать? Может быть, мне описать ее? Но прежде чем я успеваю это сделать, он уходит. Его сапоги резко стучат по камням.
– Подождите! – кричит он со своим идеальным немецким выговором. Молодой солдат с растерянным видом озирается. – Подождите, – повторяет Олли, размахивая поддельными бумагами с приказом. – Возникла проблема с этой колонной.
– Halt![18] – приказывает старший солдат. Пленники нерешительно останавливаются посреди улицы. Солдат светит электрическим фонариком в сторону Олли. – Мы не слышали ни о какой проблеме, – говорит он.
– Не думаю, что гестапо станет сообщать охранникам театра о разведывательных операциях, – отрезает Олли. – Этот приказ – прямо от главы Шрайдера.
При упоминании высокого чина солдаты обмениваются взглядами и поспешно подходят к Олли.
– Не трогать! – рявкает Олли, когда один из них тянется к бумагам. – Еще не хватало, чтобы вы испачкали мне приказ!
Я обвожу взглядом арестантов, отчаянно ища небесно-голубую материю. Сейчас оба солдата изучают фальшивый приказ Олли, и ни один не смотрит в мою сторону. Я бегу.
Бегу прямо к колонне.
Втиснувшись в задний ряд, я обращаюсь к одной женщине. Она вздрагивает, когда я сжимаю ее плечо.
– Мириам Родвелдт? – бормочу я. – Голубое пальто? – Она качает головой, и я начинаю протискиваться вперед, в следующий ряд. – Пятнадцатилетняя девочка? Темные волосы?
Я повторяю имя. Большинство людей игнорирует меня. «Мириам Родвелдт?» Некоторые качают головой, взглядом умоляя меня не привлекать к ним внимание.
– Мама, это значит, что мы сейчас пойдем домой? – спрашивает мальчик неподалеку от меня, дергая мать за пальто. – Ведь этот мужчина сказал, что есть проблема? Мы можем идти?
– Тишина! – кричит старший солдат, отвлекаясь от разговора с Олли. – Успокойте ребенка, или я сам его успокою.
– Он шутит, – тихо шепчет сыну испуганная женщина, но прикрывает мальчику рот рукой.
– Мириам, где ты, – шепчу я, переходя в следующий ряд. Теперь мать мальчика смотрит на меня. «Прекратите», – беззвучно приказывает она.
Рядом с Олли спорят солдаты, которые разошлись во мнениях. Один из них хочет подчиниться Олли, другой считает, что нужно вернуться в театр и получить подтверждение. Проблеск голубого – небесно-голубого цвета. Я вижу его и сразу же теряю в темноте. Он мелькнул позади женщины в розовой шляпке – прямо перед отцом, который держит на руках спящую девочку.
– Мириам! – говорю я, затем повторяю немного громче: – Мириам!
– Пожалуйста, тише, – шепчет женщина в шляпке.
– Нас всех убьют из-за вас, – дрожащим голосом произносит мужчина рядом с ней.
– Тишина! – снова приказывает солдат постарше. – Курт, – обращается он ко второму солдату, – стреляй в следующего, кто заговорит.
Все пленники застывают на месте. Ночь холодная, заметен белый пар от дыхания.
Но когда я в последний раз назвала ее имя, то заметила какое-то движение. Впереди, через несколько рядов от меня, девушка слегка повернула голову. Даже в темноте видно ее пальто цвета неба. Кровь шумит в ушах, когда я перебираюсь в следующий ряд. Еще один ряд – и теперь я прямо за ней. Сердце громко колотится. На этот раз не только от страха, но и от радости, что я почти у цели. Я нашла ее. Скоро она будет в безопасности.
Слева от меня какое-то движение. Солдаты уладили вопрос с Олли, и теперь все трое целенаправленно идут к женщине с коляской. Они делают ей знак вынуть ребенка. Свет их электрических фонариков направлен на эту женщину, и Олли лихорадочно ищет меня в толпе. Уходи, беззвучно приказывает он, поймав мой взгляд. Скорее.
Я дотрагиваюсь до спины Мириам, и она резко оборачивается.
– Мириам. – Я едва шевелю губами. – Пойдем со мной.
Мириам в страхе отшатывается. В нескольких метрах от нас Олли говорит охранникам, что это не та коляска. Ему нужно взглянуть на другую. Я слышу, как его каблуки стучат по камням. Он старается идти медленно, чтобы дать мне несколько лишних секунд. Спасибо тебе, Олли.
– Мириам, все в порядке. Я знаю, кто ты.
Нет, шепчет она.
Вторая женщина с коляской вынимает ребенка. Малыш начинает пронзительно плакать, так что теперь я могу спокойно дать инструкции Мириам.
– Нам нужно бежать. Следуй за мной. Люди нас ждут. – Я беру Мириам за руку. У нее очень маленькая ручка, хрупкая, как птичья лапка. Она совсем юная.
Олли достал камеру – камеру, в которой заключены сотни жизней. Он проходит мимо нас, и при лунном свете я вижу его лицо, на котором написан ужас. Взглядом он умоляет меня бежать. Бежать немедленно, оставив Мириам, если она не последует за мной. Но я не могу. Я слишком далеко зашла. И я продолжаю стоять, держа ее за руку.
– Сейчас. – Я тащу Мириам в сторону, но она сопротивляется. – Сейчас, – молю я.
Солдаты снова занимают свои места.
– Поторапливайтесь, – говорит один из них. – Вперед.
Все опять пускаются в путь, и я иду вместе с ними. Что я сделала не так? Почему Мириам не послушалась? Олли отступает в тень с ценным грузом, за которым пришел. А я неуклонно приближаюсь к мосту, где раскинулось широко открытое, смертельно опасное пространство. Если мы пройдем весь путь до железнодорожной станции, они могут насильно посадить меня в поезд. Мы должны попытаться бежать.
До моста остается сорок шагов. Тридцать пять. А вот и последний переулок. Это единственный шанс сбежать до того, как мы доберемся до моста. Я тяну Мириам к этому переулку. Почему же она упирается? Что-то не так. Она вырывает руку.
Мириам бежит – но в другую сторону. Она несется прямо к мосту. О господи, что же она делает? Она выбрала самое неудачное направление. Голубое пальто развевается, хлопая на холодном ветру, а она все бежит и бежит от меня.
– Стой! – кричу я одновременно с солдатом, который орет: «Halt!»
– Halt! – кричит он снова, и его сапоги стучат по булыжникам мостовой. Что мне делать? Попытаться их отвлечь? Бежать за ней? Призвать всех пленников?
– Стой! – повторяю я, остановившись на полпути между переулком и колонной арестантов.
И вдруг пара сильных рук хватает меня за талию и тащит к переулку. Я в ужасе прошу:
– Отпустите!
– Отпустить? – яростно и громко рычит Олли. – Ну уж нет! Я видел, как вы пытались сбежать.
Мириам мчится по улице, вымощенной булыжником, затем по мосту с толстыми железными перилами. У нее длинные, тонкие ноги. Ее туфли стучат по деревянному настилу, и громкий топот солдатских сапог заглушает этот слабый звук. Я вцепляюсь в руки, обхватившие мою талию, и пытаюсь их разжать. Мне в бедро врезается камера, а Олли еще крепче держит меня.
– Солдаты должны передать вас мне. Вы, несомненно, участвуете в заговоре! Я забираю вас немедленно, чтобы допросить!
– Пожалуйста! – Никогда еще мой голос не звучал так отчаянно.
– Нет, – шепчет он. Сейчас со мной говорит настоящий Олли, а не тот, что притворялся гестаповским офицером. – Тебе туда нельзя.
– Пожалуйста! – молю я. – Они же собираются…
Раздается звук выстрела.
Они действительно делают это – стреляют в Мириам, которая сейчас уже на середине моста. Пуля попала в затылок, и из горла хлынула кровь, которая блестит при лунном свете.
– Нет! – кричу я, но мои слова заглушает следующий выстрел.
У Мириам подгибаются колени, руки взлетают к шее. Но я знаю, что она мертва – еще до того, как она падает на землю. Это ясно по тому, как она, не пытаясь удержаться на ногах, рухнула на землю, ударившись головой.
Арестанты в безмолвном ужасе смотрят на тело на мосту, некоторые вскрикивают от потрясения. Мальчик, который раньше говорил с матерью, плачет. Она все еще зажимает ему рот рукой, и приглушенные рыдания прорываются сквозь пальцы.
Молодой охранник, который застрелил Мириам, возвращается на свое место.
– Это предупреждение, – поясняет он прерывающимся голосом. Он не ожидал ничего подобного и теперь не знает, что делать.
– Пошли, – приказывает он. – Быстро.
Охранник и не собирается убирать Мириам с дороги и заставляет остальных пленников обходить ее тело. Она так и останется лежать на мосту. Утром ее обнаружат продавцы молока и подметальщики.
Олли тащит нас подальше от моста. Одной рукой он держит меня за талию, во второй у него камера.
Из-за слез я не вижу, куда он меня ведет. Рыдания сотрясают мое тело. Это первые слезы с тех пор, как умер Бас. Они слепят, и я ощущаю на губах непривычный соленый вкус.
Я плачу о Мириам – девочке, которую не смогла спасти и которую даже не знала. Плачу о матери, которая зажимала рот сыну, и о мужчине в колонне, который умолял меня замолчать. Плачу о фру Янссен, у которой никого нет и которую я подвела. Плачу о Басе. Плачу об Элсбет, которая предпочла немецкого солдата лучшей подруге. Плачу об Олли, который не может быть с Виллемом. Плачу обо всех своих согражданах, которые видели появление танков в начале оккупации и которым еще только предстоит увидеть, как эти танки выкатятся из нашей страны.
Глава 27
Олли ведет меня глухими переулками и темными улицами. Я даже не знаю, безопасен ли выбранный им маршрут и идем ли мы к Виллему. И известно ли кому-нибудь еще, что произошло. Или же все ждут нашего возвращения, полагая, что план сработал? Я механически шагаю рядом с Олли. Наконец мы спускаемся по короткой лестнице. Наверное, здесь квартира, которую Олли делит с Виллемом.
– Чай? – лаконично спрашивает он.
Это первая фраза, которую он выговорил. Его руки трясутся, когда он открывает дверцы буфета. Затем он их с шумом закрывает, забыв, где чашки. Олли все время посматривает на дверь. Виллем все еще там. Виллем и Мириам.
– Виллем еще… – начинаю я.
– Я знаю, – резко перебивает Олли. Его глаза сверкают: он явно не хочет об этом говорить. В конце концов он прекращает рыться в буфете и прислоняется к стойке. Он так вцепился в ее края, что костяшки пальцев побелели. – С тобой все в порядке? – спрашивает он.
Я не отвечаю. Что я могу сказать? Олли так сильно ударяет по стойке, что я вздрагиваю.
– Черт возьми! Черт возьми!
– Куда ты идешь? – спрашиваю я, когда он направляется к двери.
– Я должен убедиться, что с Виллемом все в порядке.
– Олли, ты же не знаешь, где он.
Он надевает пальто и застегивает пуговицы, чтобы не была видна гестаповская форма.
– Не могу же я просто сидеть здесь! Нет, я не брошу его. Я должен найти Виллема.
– Я пойду с тобой. Я тоже не могу бросить Мириам. Я должна забрать ее тело.
– Нет. – Он берется за дверную ручку. – Тебе нельзя возвращаться. Все видели, как тебя уводил офицер гестапо.
– Но я же обещала найти ее. Она там совсем одна. Я могу отнести ее к господину Крёку. У меня есть ключ. Я заберу ее. – Голос мой какой-то чужой.
Олли прижимается лбом к двери.
– Я заберу ее, – тихо произносит он. – Это сделаем мы с Виллемом.
– Но с какой стати вам это делать? – Мои глаза снова наполняются слезами. – Я была легкомысленной и эгоистичной. Зачем вам это делать за меня?
– Когда она упала на мосту… Я вспомнил о Басе.
Как же мне ответить на такое великодушие?
– Будь осторожен, – говорю я. – Возвращайся целым и невредимым.
– Дай мне ключ, – просит Олли и добавляет: – Жди здесь. Никуда не уходи.
– Не уйду, – обещаю я.
Мне приходится ждать очень долго.
Вторник
Я просыпаюсь. Но почему-то не на диване Олли. Последнее, что я помню, – это как сидела на этом диване. Сейчас я в постели, и в окна льется солнечный свет. Олли сидит в кресле на другом конце комнаты. Я резко приподнимаюсь. Не могу восстановить, как заснула. Ненавижу свое тело за то, что это случилось. Наверное, я вырубилась от волнения, печали и усталости, пока Олли прокрадывался в ночи.
– Олли, – шепчу я. У меня дерет в горле от того, что я столько плакала в прошлую ночь.
– Доброе утро.
– Что случилось? Где Виллем?
Я успокаиваюсь, когда в дверях появляется Виллем.
– Я здесь. Со мной ничего не случилось.
Ничего не случилось. Никто больше не умер в прошлую ночь, кроме Мириам. Это случилось только с ней.
– Вы забрали… – Я не знаю, как закончить эту фразу. Вам удалось забрать Мириам с моста?
– Мы это сделали, – отвечает Олли. – Было нелегко. Но все сделано.
– Она у господина Крёка?
– Да. И фру де Врис знает, что произошло. Мы думаем, нацистам известно только то, что две девушки попытались сбежать. Одну застрелили, а вторую схватили.
Я обвожу взглядом комнату. Здесь два бюро, на одном из которых фотография родителей Олли.
– Ты отдал мне свою кровать.
– Это Виллем отнес тебя в кровать, – объясняет Олли. – Мы спали на полу.
– Простите меня. Простите, что вам пришлось забирать Мириам. Простите, что мне не удалось с ней убежать. Простите… – Мне нужно извиниться за очень многое. За свое безрассудство, за то, что могла всех погубить.
– Мы забрали камеру. Мы сделали хотя бы это, – произносит Виллем очень мягко.
– Что вы будете с ней делать? Вернете Мине или уничтожите пленку?
Они переглядываются.
– Мы еще не решили, – говорит Олли. Он передает мне кружку, которая стояла на подлокотнике его кресла. – Выпей. – Я механически отхлебываю, даже не поняв, что именно пью. За последние двенадцать часов я перечувствовала столько, что теперь не чувствую ничего.
– Мне нужно идти.
Одежда, в которой я была прошлой ночью, измялась и запылилась. На чулке спустилась петля. Это моя последняя пара. Когда я пытаюсь подняться, начинает кружиться голова.
Виллем с озабоченным видом смотрит на Олли:
– Ей нужно позавтракать. Не так ли?
– Я должна пойти к фру Янссен. Мне нужно ей рассказать о случившемся.
Все мое существо противится этому визиту. Но если оттягивать, будет только хуже. Иногда надежда может принести вред, поэтому необходимо как можно скорее избавить фру Янссен от мучений.
Виллем приносит мои туфли, уговаривая повременить с уходом. В конце концов он понимает, что это бесполезно. Тогда он заворачивает хлеб и яблоко в салфетку, чтобы я взяла с собой. Представить не могу, как смогу сейчас есть, но не хочу его огорчать. Я положу еду в сумку, как только выйду из квартиры.
Мой велосипед… Но я понятия не имею, где мой велосипед. Наверное, все еще в коридоре у фру де Врис. Я оставила его там перед тем, как мы с Олли заняли позицию у мясной лавки. Если бы у этой истории был счастливый конец, я бы уехала на нем сегодня утром, оставив Мириам в безопасности.
За неимением велосипеда мне приходится идти к фру Янссен пешком. На это уходит почти целый час. У меня в кармане несколько монет, и я могла бы сесть на трамвай. Но я считаю, что заслужила мучения. По дороге я размышляю, как рассказать правду. Может быть, лучше просто войти и сразу сообщить: «Она мертва, фру Янссен…» Или начать с самого начала, объяснив, что произошло и как провалился наш план.
Но, оказывается, мне не нужно ничего говорить. Фру Янссен сразу все понимает по моим опущенным плечам, измятой одежде и по походке. Она ждала у окна и видела, что я иду одна.
– Как это произошло? – спрашивает она, открывая дверь. Неправильно будет сообщать такую новость на ступеньках лестницы. Впрочем, в этой истории вообще все неправильно.
Я мучительно выдавливаю слова:
– Она убежала. Я тянула ее за собой, но она убежала. Ее поймали. Она мертва. – Я добавила последнюю фразу, потому что слово «поймали» могло означать, что ее просто схватили. Мне не хочется объяснять дважды, что Мириам никогда больше не вернется.
Фру Янссен тяжело опирается на свою палочку. Я безмолвно беру ее под руку и веду в дом. Мы вместе садимся на уродливый диван в гостиной.
– Что случилось? – спрашивает она. – Почему она убежала от вас?
Ее горе тихое и сдержанное, и почему-то от этого мне еще хуже. Наверное, было бы легче, если бы она бурно рыдала, как я прошлой ночью. Олли пришлось меня тащить, потому что я ничего не соображала. Но фру Янссен несет свое горе с достоинством. Как тот, кто привык к потерям.
Почему же Мириам убежала от меня? Если она хотела сбежать от нацистов, почему не следовала за мной? Ведь я сказала, что хочу ей помочь.
– Я не знаю, – признаюсь я. – Вы только представьте себе: в середине ночи к ней вдруг приближается незнакомый человек, хватает за руку и велит следовать за собой. Может быть, она просто испугалась. Там была такая неразбериха, и все мы перепугались.
– Вы думаете, она приняла вас за ищейку, работающую на нацистов? А может быть, она не поняла, в какую сторону нужно бежать?
– Я не знаю. Не знаю.
– Нужно было пойти мне, – произносит она с потерянным видом. – Она не знала вас, но знала меня.
– Вы бы не смогли помочь, – твердо говорю я. – Ни я, ни вы ничего не смогли бы сделать. – Впрочем, я в этом не уверена. Может быть, мне следовало упомянуть имя фру Янссен? Помогло бы это? Почему Мириам не последовала за мной? В конце концов я пытаюсь утешить фру Янссен. Правда, это слабое утешение.
– У нас есть тело. Моим друзьям удалось забрать его. Оно у господина Крёка.
– Кто с ней?
– Сейчас никого. Господин Крёк обычно приходит в восемь тридцать. Когда он появится, я попрошу позаботиться о ней. Попрошу подыскать участок для могилы.
– Я заплачу, – сразу же говорит она.
– Лучше я. Я заплачу деньгами, которые дала мне фру Янссен, чтобы я нашла Мириам. Это единственное, что я могу сделать. Этих денег хватит и на надгробный камень. Простой, но хороший.
– Вы должны пойти в похоронное бюро прямо сейчас.
– Я могу остаться, чтобы составить вам компанию.
– Вы должны идти, Ханнеке, – настаивает она. – Я не хочу, чтобы она была одна.
* * *
Но сначала я отправляюсь к фру де Врис. Там уже знают, что случилось прошлой ночью.
– Ханнеке, мне так жаль, – говорит фру де Врис, открывая дверь. В ее голосе слышится искреннее сочувствие. Наверное, она видела, как я вхожу в здание, и поэтому onderduikers не прячутся. Кохены сидят на диване, держась за руки. Мина подбегает и обнимает меня.
– Мы видели прошлой ночью, как колонна выходила из Шоубурга. – Она уткнулась мне в шею. – Больше мы ничего не видели. Мы все ждали и ждали, когда ты ее приведешь. А несколько часов спустя к нам пришел Виллем, который искал тебя. И только тогда мы узнали, что что-то случилось.
Дети уже проснулись. Они стоят за спиной у матери с ошеломленным видом, в пижамах. Близнецы наблюдают за нами с Миной, пытаясь понять, в чем дело. Фру де Врис замечает их и гонит обратно в детскую. Кохены бросаются ей на помощь.
Мы с Миной долго стоим в коридоре, сжимая друг друга в объятиях. Из глубины квартиры доносится детский смех. Я закрываю глаза, пытаясь избавиться от этого звука, столь неуместного сейчас. Мне хочется заползти в кровать и не вылезать оттуда много дней. Хочется сдаться.
Даже Мина плачет. Храбрая, жизнерадостная Мина, которая борется даже в тайном убежище. Но какой в этом смысл? Что мы можем сделать чудовищной машине, которая стреляет в спину юным девушкам, убегающим в страхе?
Кто-то осторожно прикасается к моему плечу. Это фру Кохен. В руках у нее что-то, похожее на сложенную белую скатерть. Извинившись за то, что побеспокоила, она протягивает мне этот предмет.
– Для вашей подруги, – объясняет она. – Не знаю, известно ли вам, что людей нашей веры обычно хоронят в традиционном погребальном одеянии. Это всего лишь скатерть. Увы, сегодня мы не можем соблюдать традиции. Но я подумала, что, возможно, вам понадобится что-нибудь, чтобы завернуть вашу подругу перед погребением. Только если вы не возражаете. Я не хочу ничего навязывать.
Я молча принимаю скатерть, и мягкая ткань струится между пальцами.
– У нас также принято, чтобы кто-то находился при теле. Тогда усопший не будет в одиночестве. Конечно, мы не сможем присутствовать на погребении, – продолжает фру Кохен. – Но если вы скажете, на какое время оно назначено, мы с мужем начнем в эту минуту поминальную молитву.
– Спасибо. – От этих слов я чуть не начинаю плакать. Я едва знаю Кохенов. Интересно, что именно им поведали о моих поисках Мириам? – Спасибо, – повторяю я, не зная, что еще сказать.
Глава 28
Господин Крёк не задает никаких вопросов ни о Мириам, ни о том, почему я хочу позаботиться о ее теле. И я благодарна ему за это. Наверное, это ответный жест с его стороны. Ведь я не задала ему ни одного вопроса за все время нашего знакомства. В офисе он только треплет меня по плечу, а потом аккуратно закатывает рукава рубашки. Он всегда так делает перед тем, как приступить к работе. Несколько часов спустя он извещает меня, что тело одето. Не хватает только носков и туфель.
Покинув квартиру фру де Врис, я забежала домой. Там я просмотрела свою одежду, чтобы выбрать что-нибудь для Мириам. Родителей нет: они наносят регулярный визит доктору папы. Я выбираю платье, которое мне подарили несколько лет назад, в день рождения. Оно все еще впору. Это одна из моих немногочисленных хороших вещей. Я кладу это платье в сумку, вместе с любимыми лакированными туфлями.
– Можно мне? – шепотом спрашиваю я господина Крёка. – Можно мне самой это сделать?
У него изумленный вид, поскольку я впервые захотела войти в комнату, где находится тело. Обычно покойников вносят туда с черного хода, омывают, обряжают, а затем кладут в гроб. Я никогда даже не заходила в ту комнату.
– Вы уверены?
Я киваю.
– Это важно для меня. – Потому что я подвела Мириам. Потому что нашла ее слишком поздно. Потому что ее голубое пальто испорчено и все в крови.
Он ведет меня в маленькую белую комнату. В руках моих туфли и носки, а также льняная скатерть, которую дала фру Кохен. Нужно было спросить у нее, что делать с этой скатертью. Я должна завернуть в нее Мириам или просто накрыть? И следовало ли мне приносить одежду? Может быть, на ней должно быть погребальное одеяние? И имеет ли все это значение? Фру Янссен сказала, что Родвелдты не соблюдали религиозные традиции.
Господин Крёк стоит у меня за спиной, несколько поодаль. Я смотрю на тело Мириам, лежащее на холодном столе. До сих пор я видела мертвых лишь дважды: на похоронах дедушки и бабушки. В первом случае мне было одиннадцать, во втором – двенадцать. Но тогда тусклое освещение и музыка спасали; а сейчас – только тишина и Мириам. Она такая маленькая.
Я в первый раз по-настоящему вижу ее. У нее лицо в форме сердечка, темные волосы, непокорный локон, упавший на лоб, а на подбородке слева – маленькая родинка. Ресницы густые и длинные. Описывая Мириам, никто не говорил мне, какие у нее бархатные ресницы. Нос немного коротковат. Этого мне тоже никто не говорил. Из-под воротника платья из атласа выглядывает край белого бинта. Он скрывает сквозную рану от пули, убившей ее. Я поправляю воротник, чтобы не виден был бинт.
– Вы… вы прекрасно поработали. Спасибо. Она выглядит как… – Нужно бы сказать, что она выглядит как живая. Когда люди благодарят господина Крёка, они обычно делают такой комплимент. Но я понятия не имею, как выглядела Мириам при жизни. – Она выглядит безмятежной.
– Могу я сделать для вас что-нибудь еще? Или для вашей подруги?
– Не думаю.
– И насчет погребения. Вам понадобится обычный участок или… или особый?
Вероятно, он хочет знать, следует ли похоронить Мириам на еврейском кладбище. Я понимаю, как трудно ему будет найти такой участок.
– Просто в каком-нибудь красивом месте. Заупокойной службы не будет. Только погребение.
Он колеблется, словно хочет что-то сказать, но в конце концов молча уходит.
Пока что я не могу заставить себя дотронуться до нее. Я поворачиваюсь к ее голубому пальто, аккуратно сложенному на столе. Воротник и верхние пуговицы испачканы засохшей кровью. Кровь забрызгала все пальто. Она ржавого, коричневого цвета. Господин Крёк уже проверил карманы и выложил на пальто личные вещи. Это удостоверение личности, простреленное насквозь и также испачканное кровью, и письмо. Наверное, письмо было в боковом кармане: бумага чистая и белая.
Если бы можно было вернуться назад и никогда не встречать Т., я бы обязательно так поступила. Между нами встала такая ерунда! Я собираюсь с тобой помириться, когда снова увидимся.
Последняя записка Мириам о ее школьной драме. Почему она ее написала? Может быть, Амалия расстраивалась из-за того, что Мириам проводит слишком много времени с Тобиасом? Возможно, Амалия встретилась с Тобиасом и он ее разочаровал? Боже мой, какое значение все это имеет сейчас?
Как и говорил господин Крёк, Мириам одета, только ноги босые. Я беру в руки белый носок и начинаю его натягивать. Какие у нее холодные ноги! А всего несколько часов назад они бежали по улицам, вымощенным булыжником. Слезы вдруг хлынули у меня из глаз. Как бессмысленны все эти игры, в которые я играла, убеждая себя, что Бас не умер в одиночестве! Но на самом деле все мы умираем в одиночестве.
Туфли, которые я принесла, – мои лучшие. Они украшены атласными бантиками. Это туфли для вечеринок, на которые я больше не хожу. Мой размер немного больше, чем у Мириам, так что туфли ей великоваты. Но ей уже все равно. Закончив с носками, я складываю руки Мириам на груди. Затем поправляю выбившиеся волосы и одергиваю подол платья, задравшийся при возне с носками. У меня все время льются слезы. От того, что у нее потрескавшиеся губы – такими они бывают у всех зимой. От того, что ее красивые белые коленки кажутся беззащитными, пока я не прикрываю их.
Я говорю господину Крёку, что плохо себя чувствую и мне необходимо пойти домой. Он знает, что это ложь, но выражает надежду, что я скоро поправлюсь. И добавляет, что ему нужно знать, сколько людей будет присутствовать на погребении Мириам.
– Только я. И хорошо бы сделать это как можно скорее.
Господин Крёк сообщает, что у него уже есть участок на кладбище. И обещает позаботиться, чтобы могилу выкопали к завтрашнему утру. Он также говорит, к которому часу мне нужно прибыть на кладбище. Не знаю, как ему удалось так быстро найти участок. Разве что этот участок принадлежал кому-то другому, и то лицо лишилось места для погребения.
Прежде чем я покидаю офис, господин Крёк что-то сует мне в руку. Это большая плитка шикарного бельгийского шоколада. Такого шоколада я не видела с начала войны. Он мог продать эту плитку на черном рынке по цене, в двадцать раз превышающей ее стоимость. Таким образом господин Крёк выражает мне сочувствие. Отдать товар с черного рынка даром – это величайшая жертва со стороны любого спекулянта.
Я направляюсь домой. Мне бы следовало забрать велосипед у фру де Врис, когда я была там, но я этого не сделала. В то утро я ходила повсюду пешком, миля за милей, и даже едва заметила это. Холод проникал через пальто, и булыжники терзали мои ноги. Но это была благословенная физическая боль, которую гораздо легче вынести, чем щемящую боль в сердце. Когда я наконец добираюсь до дома, мой велосипед ждет меня там вместе с Олли. Усталым голосом он ведет банальный разговор с моими родителями.
– Я просто собирался оставить велосипед, – поясняет он. – Но твоя мама случайно увидела меня из окна. Я как раз рассказывал, как ты одолжила его. Мы с папой должны были поехать в больницу к маме. Пия благодарна, что ты смогла побыть с ней.
– Было приятно снова увидеть ее. И я рада, что болезнь твоей мамы оказалась ложной тревогой.
Мне кажется странным, что родители так никогда и не узнают, что случилось. Все это вранье о том, где я была, кто заболел и в какой больнице мать Олли, такая глупость. Я сажусь рядом с Олли, и мама накрывает стол к ланчу. Его рука касается моей под столом. Она теплая и действует успокаивающе. Я пожимаю его руку, и он сжимает мою.
– Господин Крёк организовал все для похорон, – шепотом сообщаю я Олли, пользуясь тем, что мама возится на кухне, а папа читает в передней комнате. – Спасибо, что забросил мой велосипед.
– Когда похороны? Я приду.
Я говорю, что в этом нет необходимости. Ведь он даже не знал Мириам. Впрочем, я тоже ее не знала, хотя и казалось, что это не так. Однако сейчас это не важно. Олли настаивает на том, чтобы прийти. Он говорит, что встретится со мной на кладбище завтра утром.
Олли приходит вместе с Виллемом. Фру Янссен тоже здесь. Я впервые вижу ее вне дома. Она идет, тяжело опираясь на палочку. Христоффел приехал вместе с ней в такси и помог выйти. Он предлагает ей руку, когда она медленно бредет по густой траве и камням.
Господин Крёк подыскал для Мириам простой сосновый гроб и привез ее на катафалке. Это самый простой гроб из всех, что мы продаем. И тем не менее его цена равна моему жалованью за неделю.
Мы собираемся вокруг пустой могилы, когда гроб ставят на землю. У нас нет ни священника, ни реббе – только мы вшестером и два могильщика. Они стоят поодаль, под деревьями, опираясь на лопаты.
Фру Янссен произносит про себя молитву. Мне кажется, что Виллем тоже молится. Мы с Олли молчим. Наконец гроб опускают в могилу. Через десять минут почтительного молчания приближаются могильщики и начинают засыпать могилу.
Глава 29
Среда
Когда похороны завершаются, господин Крёк уезжает с катафалком. На прощание он предлагает мне взять несколько выходных. Он уговаривает вернуться на работу, только когда я буду чувствовать себя лучше. Следующей отбывает фру Янссен, опираясь на Христоффела. Усаживаясь в такси, она просит меня поскорее навестить ее. Я обещаю, хотя сейчас мне трудно это вообразить.
Мы с Олли и Виллемом стоим у ворот кладбища. Оба пристально смотрят на меня.
– Не проводить ли тебя домой? – предлагает Виллем. – У нас сегодня нет дневных занятий.
– На самом деле мне вовсе не хочется домой. – Родители считают, что у меня обычный рабочий день. Придется придумывать, почему я рано вернулась. А потом сидеть с ними, скрывая горе. Эта мысль просто невыносима. Можно вернуться на работу, но туда тоже не хочется. На сегодня с меня хватит смертей. – Не могли бы мы что-нибудь придумать?
– А чего бы тебе хотелось? – спрашивает Олли.
– Что угодно – только не идти домой и не оставаться здесь. Что-нибудь нормальное.
Он беспомощно смотрит на Виллема. Никто из нас больше не знает, что такое нормальный день. День, когда не нужно вызволять детей из Холландше Шоубурга, подыскивать убежище для onderduikers или торговать на черном рынке. Что бы мы делали, если бы не случилось войны и мы были нормальными молодыми людьми?
– Как насчет… – Виллем кусает губы. – Как насчет поездки на велосипедах?
– Поездка на велосипедах? – Олли издает смешок: ведь сегодня один из самых холодных дней зимы. Всем нам приходится ездить по городу на велосипедах, чтобы куда-нибудь добраться. Но теперешняя погода не располагает к приятной прогулке. – Прости, – извиняется он. – Я и не думал смеяться.
Но предложение Виллема мне нравится. Причем по той же причине, по которой я вчера проделала пешком столько миль по холоду. Эта поездка достаточно неприятная, и от нее мало радости. Мы замерзнем – и это хорошо.
– Да! – с воодушевлением произносит Виллем. – Мы отправимся в Рансдорп. И устроим пикник за городом.
Теперь он нарочно дурачится. Рансдорп – деревня на другом берегу реки. Фермерские дома и несколько маленьких магазинов, которые тянутся вдоль широких улиц, мощенных гравием. Идея устроить увеселительную поездку в такое место абсурдна.
Но мы пускаемся в путь и переправляемся через речку на пароме. И высаживаемся в том самом месте, где несколько дней назад я встретила Христоффела и попросила передать письмо. Мы делаем остановку и запасаемся в дорогу хлебом. Виллем и Олли засовывают буханки в глубокие карманы пальто. Я подтыкаю подол платья, чтобы он не цеплялся за спицы велосипеда.
Светит солнце, но очень холодно. Мы согреваемся, крутя педали. Должно быть, у нас странный вид. Олли и Виллем в темных костюмах, а я в своем единственном черном платье. Вытянувшись в линию, мы едем по дороге, которая проходит рядом с ручьем. У меня колет в боку от напряжения, но мне хорошо. Увеличив скорость, я догоняю мальчиков, а потом перегоняю.
– Кто за тобой гонится? – кричит Олли мне вслед.
У него веселый тон, но мне не смешно. За мной действительно гонятся, и мне не убежать. Не убежать от Мириам, рухнувшей на мосту, от звука выстрела в тишине ночи, от горестного лица фру Янссен. Гравий летит из-под колес.
– Помедленнее! – кричит Олли. Он добавляет что-то еще, но я не слышу.
– Что?
– Помедленнее! Там…
Велосипед скользит по черному льду, и колеса выходят из-под контроля. Я пытаюсь затормозить, но ничего не получается. Мне никак не остановиться. Велосипед кренится и падает в канаву, и я лечу на промерзшую землю. Мои руки проезжаются по мерзлой грязи, которая царапает их. Но еще хуже обстоит дело с левым коленом: в него врезалось что-то острое.
– Ханнеке! – зовет Олли.
Я лежу на земле, жадно хватая ртом воздух.
– Со мной все хорошо, – с трудом произношу я и машу грязной ладонью. Пусть не сомневается, что я могу о себе позаботиться. Я медленно встаю на четвереньки, но мне не удается выпрямиться. В конце концов я разрешаю Олли усадить меня на мерзлую траву. Я осторожно приподнимаю юбку. Левое колено – просто кровавое месиво. В центре торчит большой камень, который окружают мелкие частицы гравия.
Виллем наклоняется, чтобы взглянуть на рану.
– Нужно промыть ее, – говорит он. – Не знаю, насколько она опасна.
Он бежит к ручью, чтобы смочить носовой платок. Выжав воду на колено, он смывает ручейки грязи. Мы втроем осматриваем рану. Большой камень вошел не так глубоко, как я опасалась. Но когда Виллем вытаскивает его, голень заливает кровь.
– Больно? – спрашивает Виллем.
– Да, – отвечаю я и вдруг начинаю хихикать. Потому что после всего случившегося поцарапать колено, упав с велосипеда, – это так прозаично!
Он как-то странно смотрит на меня:
– С тобой все в порядке?
– Да, – говорю я, подавив смешок.
– Прижми вот это. – Виллем подает носовой платок. – Похоже, рана не слишком глубокая. Главное – этот камень вытащили, а остальное лишь царапины. Вероятно, у тебя останется маленький шрам. Если перевязать ногу платком, сможешь доехать домой на велосипеде? Как думаешь?
Колено забинтовано, и я, ухватившись за руки Виллема и Олли, поднимаюсь на ноги. Олли вытаскивает мой велосипед на дорогу. Вскочив на него, он проезжает несколько кругов, чтобы проверить, все ли в исправности. Я смотрю на забинтованное колено. Когда я наклоняюсь, ногу пронизывает боль, но ее можно терпеть.
– Ты уверена, что все хорошо?
– Да. – Однако, забравшись на велосипед, я теряю уверенность. И дело не в боли: меня беспокоит что-то другое. Но я не могу определить, что именно.
– Нам ни к чему спешить, – говорит Олли. – Если хочешь, один из нас может поехать вперед. Он найдет кого-нибудь с машиной, чтобы отвезти тебя.
Что же все-таки меня беспокоит? Я медленно кручу педали. Боль то тупая, то острая – в зависимости от того, какое колено сгибается. В чем же все-таки дело?
– Или ты могла бы сесть на велосипед позади одного из нас. А позже мы бы вернулись за твоим велосипедом, – предлагает Виллем.
– Я могу ехать сама.
Мое колено. Мое поврежденное колено, на котором скоро будет шрам.
Колени Мириам. Голые белые ноги, которые я видела, надевая ей носки и туфли.
– Ханнеке? – обращается ко мне Виллем. – Я спросил, хочешь ли ты ехать первой или последней? Ханнеке?
Юдит вспомнила, когда именно у Мириам появилось красивое голубое пальто. Это был не просто подарок. Его купили, потому что прежнее пальто так порвалось, что его невозможно было починить. Тогда она поранила колено, и навсегда остался шрам.
На коленях у девушки, лежавшей в подвальной комнате господина Крёка, не было шрамов. Они были белые и гладкие.
Олли едет передо мной, все время оглядываясь, чтобы убедиться, что я не упала снова.
– Олли, ты не собираешься сегодня наведаться к Юдит? – спрашиваю я.
Он останавливается.
– А что?
– Если собираешься, то не мог бы ты спросить у нее насчет родинки на подбородке Мириам? Спроси ее… Нет, это все. Просто спроси о родинке.
Олли и Виллем переглядываются.
– Ханнеке, может быть, тебе лучше подождать здесь с Виллемом? А я бы поехал вперед и нашел доктора? – предлагает Олли.
Я качаю головой. Что-то действительно не так. Но это не то, о чем думает Олли.
– Мне нужно поскорее вернуться. Если ты поговоришь с Юдит, потом найди меня. Я буду… – Я пытаюсь сообразить, где буду. – Позвони к фру де Врис. У нее пока еще не отключили телефон.
– О чем ты? Ханнеке, остановись!
У меня горят ноги, но я заставляю себя еще сильнее крутить педали. Наконец я перегоняю Олли и устремляюсь по гравиевой дороге к парому. Олли и Виллем привстали на своих велосипедах, пытаясь решить, нужно ли следовать за мной. Но я не могу больше тратить время на объяснения.
Я знаю, что именно увидела, когда одевала вчера Мириам на столе. У нее гладкие колени.
Становится трудно дышать. Не думаю, что это из-за быстрой езды, из-за холода или из-за падения с велосипеда.
Уже виден паром, с которого сходят пассажиры. Колено сильно болит, но мне не до него. Сейчас, в этом рушащемся на моих глазах мире, единственное, что важно, – это тело. Тело, которое я вчера обряжала, над которым плакала. Теперь это просто тело. Потому что та девушка, которую я обряжала, – не Мириам Родвелдт.
Глава 30
Как же это может быть? Девушка, лежавшая на столе, – не Мириам Родвелдт?
Возможно, из Шоубурга вышла еще одна девушка в небесно-голубом пальто, которую я просто не заметила? И я пыталась помочь сбежать не той несчастной?
К тому времени, как я добираюсь до фру де Врис, множество вопросов вертится у меня в голове. Фру де Врис не открывает дверь, но я знаю, что Мина там. Постучав три раза, я тихо произношу:
– Это я. И я одна.
– Что случилось? – спрашивает Мина, чуть приоткрыв дверь. – Ты же знаешь, что я не должна… Меня могут увидеть соседи.
– Где фру де Врис?
– У своей матери, вместе с мальчиками.
– А Кохены?
– Они дремлют в комнате для гостей. Что случилось?
Взяв Мину за руку, я веду ее в кабинет господина де Вриса.
– Мне нужно взглянуть на слайды. Те, которые ты снимала на прошлой неделе. Пожалуйста, перестань спрашивать, что случилось, – прошу я, предчувствуя, что она повторит свой вопрос.
– Так что нужно?
– Фотографии Холландше Шоубурга. Друг фру де Врис принес проектор?
– Принес, – неуверенно отвечает она. – Только вчера. Мы еще не установили его.
– Давай сделаем это сейчас.
Проектор в дорожном футляре стоит у письменного стола. Я выключаю свет и закрываю дверь, а Мина вынимает тяжелый черный проектор из футляра. Она ставит его на письменный стол таким образом, чтобы линза была обращена к стене. Когда она включает его и нажимает на красную кнопку, на стене появляется белый квадрат света.
– Ты хочешь увидеть тот снимок, на котором Мириам? – спрашивает Мина. Я киваю, и она принимается перебирать слайды. Наконец она находит нужный и вставляет его в проектор. Белый квадрат на стене исчезает.
Когда мы рассматривали этот слайд с помощью лупы, Мириам была всего лишь небесно-голубым пятном в нижнем углу кадра. А теперь, на стене, она ростом несколько дюймов. Я вижу ее ясно, но детали трудно различить. Она в голубом пальто, в профиль.
Я указываю на девушку в углу кадра.
– Это Мириам? – Я произношу это спокойно, без эмоций, чтобы не воздействовать на Мину.
Едва взглянув на слайд, она поворачивается ко мне.
– О чем ты? Конечно, это Мириам. Ты же сказала…
– Забудь все, что я сказала. Я хочу, чтобы ты посмотрела на картинку и ответила, та ли это девочка, с которой ты ходила в школу. Посмотри внимательно.
Мина изучает картинку, опершись на локти. Проектор издает тихое жужжание. Я замираю, стараясь не шуметь.
– Итак? – спрашиваю я наконец, почувствовав, что не в силах больше ждать.
– Честно говоря, я не уверена. Это ее пальто. По крайней мере, точно в таком Мириам ходила в школу. Но снято издалека, и она слегка повернула голову. Слишком нечетко, чтобы я могла сказать наверняка. А почему ты спрашиваешь об этом сейчас?
– Мина, посмотри внимательнее. Эта девочка – Мириам? Или нет?
– Ханнеке, я не могу сказать с уверенностью. – В ее голосе звучит легкая досада. – Если бы меня спросили: «На этой фотографии есть твои бывшие одноклассники?», то я вряд ли указала бы на кого-нибудь. Но если бы мне приказали: «Укажи на Мириам Родвелдт», то я бы указала на девочку в голубом пальто. А теперь ты наконец признаешься, в чем дело?
– Я не знаю. Что-то не так, но я пока не поняла. Ты можешь сделать порезче? Придвинуть проектор поближе к стене или что-нибудь еще?
Я изучаю картинку слева направо, как будто читаю книгу. Вот солдаты. Вот испуганные люди. Слева пятно – это девушка, работавшая в яслях. А в правом нижнем углу – девочка, похожая на Мириам.
Тишину нарушает телефонный звонок, от которого я подпрыгиваю. Это может быть Олли. Ведь я сказала, чтобы он позвонил мне сюда.
– Ты подойдешь к телефону? – спрашиваю я Мину.
– Я не могу. Ты забыла, что меня здесь как бы нет?
Выбежав из комнаты, я бросаюсь к телефону в прихожей и успеваю снять трубку на четвертом звонке. Это действительно Олли. Он набрал откуда-то, где шумно.
– Ханнеке, я только что говорил с подругой за городом. – У него официальный тон, и голос звучит сдержанно. – У нашей общей знакомой из школы, которую ты пыталась вспомнить, нет родинки на подбородке.
Я отвечаю таким же сдержанным тоном:
– Интересно. Возможно, мы имеем в виду разных людей. Она уверена?
– Абсолютно уверена. У этой девушки маленькая родинка на шее и шрам на колене, но на подбородке нет никакой родинки. – Следует долгая пауза. – Ты бы хотела, чтобы я пришел сегодня к обеду? – спрашивает он. Этот вопрос означает: Что случилось?
– Нет, спасибо. – Я стараюсь держать себя в руках. – Я скоро с тобой свяжусь.
Разъединившись, я сразу же набираю номер фру Янссен. При этом у меня дрожат пальцы. Я надеюсь, что ее телефонную линию еще не отключили. Раздается звонок.
Что я делаю? Эта девушка мертва. Мы похоронили ее утром. Кем бы она ни была, случившееся печально и ужасно. Все кончено. Может быть, мне следует смириться с мыслью, что все кончено. Разве фру Янссен недостаточно вынесла?
Она подходит к телефону после четвертого звонка. Судя по голосу, я ее разбудила. Я извиняюсь за то, что потревожила. Но мне нужно задать один вопрос, который может показаться странным.
– Ханнеке? Это вы?
– Я поспорила с друзьями из-за нашей знакомой, фрёкен Р. – Я делаю паузу, чтобы убедиться, что она поняла. – Мы поспорили о том, есть ли у нее родинка на подбородке. Вы не помните?
– Почему вы меня об этом спрашиваете?
Я закрываю глаза.
– Пожалуйста, просто ответьте. У нее была родинка?
– Я не помню. Может быть. Но я не уверена. Вы можете сказать, что происходит?
– Я зайду к вам позже, – обещаю я, прежде чем разъединиться. – Не знаю когда, но обязательно зайду.
У Мириам Родвелдт не было родинки на подбородке, но были шрамы на колене. У девушки на столе господина Крёка определенно была родинка, а шрамов не было. А у девушки, прятавшейся в кладовой фру Янссен, то ли была родинка, то ли нет. Фру Янссен не помнит точно. Теперь эта девушка в могиле, и слишком поздно просить подтверждения у людей, которые могли бы ее опознать.
Была ли я права, когда сказала Олли, что в театре, возможно, не Мириам? И есть ли у меня еще шанс ее спасти?
Когда я возвращаюсь в кабинет, Мина сидит на том же месте. Она не спрашивает, кто звонил. Очевидно, она уже не надеется получить ответы на свои вопросы. Проекция слайда все еще на стене. Все так же, как было пять минут назад. Вот солдаты. Вот испуганные люди. Коричневые пальто. Бледно-лиловые шляпы.
Я вижу это с третьего раза. Сейчас это кажется таким очевидным! Я не могу поверить, что не заметила ничего раньше.
– С этой картинкой что-то не так, – шепчу я.
– Что ты имеешь в виду? Возможно, что-то не так с цветом. Ведь пленку проявляли в спешке.
– Не в этом дело. Посмотри внимательно и скажи, если заметишь что-то в лице этой девушки.
Мина морщит лоб.
– Я уже говорила тебе: ее лицо вышло нечетко, и его трудно разглядеть. Но я думаю, что у нее испуганный вид. Как и следовало ожидать.
– Дело не в выражении лица, а в направлении взгляда. – Кончиком пальца я черчу в воздухе линии, пытаясь объяснить. – Вот солдат, слева. Видишь? Он дает инструкции арестованным. А впереди него – второй солдат.
– Ну и?
– Все остальные люди на картинке боятся солдат. Видишь, в какую сторону указывает этот солдат? По-видимому, он объясняет всем, каким путем они должны войти в театр.
Я вижу, что до Мины начинает доходить.
– На что смотрит Мириам?
Лицо ее повернуто в другую сторону. Она совсем не обращает внимания на солдат. Того, на что она смотрит, нет в кадре. Возможно, это случайность: она смотрела на солдат, а ее отвлек какой-то шум или движение. Это самое логичное объяснение, но меня не оставляет другая мысль.
Двойник Мириам – кем бы ты ни был! Может быть, ты боялась не только нацистов?
Глава 31
Я стучу в дверь фру Янссен, но она не открывает. Тогда я снова стучу, на этот раз громче. Однако не слишком громко, чтобы не привлечь внимание соседей.
– Фру Янссен, это я, Ханнеке, – тихо говорю я.
– Она вышла, – сообщает мне женщина средних лет, которая стоит на крыльце дома через дорогу. Это фру Венстра. Та самая соседка, которая беспокоилась о сыне, задержавшемся за городом. Это случилось как раз в тот день, когда исчезла Мириам. (А может быть, вовсе и не Мириам.)
– Фру Янссен никогда не выходит из дома одна.
– Я знаю. Но на этот раз она вышла, минут десять назад. Я предложила сходить за тем, что ей нужно, но она ответила, что должна пойти сама.
– Она не сказала, куда пошла?
– Нет. Но у нее был расстроенный вид. Как я поняла, ей сообщили плохие новости об одном из ее сыновей. Не хотите подождать у меня, пока она вернется?
– Нет, спасибо, я подожду… – Я хотела сказать, что подожду на крыльце. Но тут мне приходит в голову, что я не пыталась войти внутрь. Я поворачиваю ручку, и дверь приоткрывается. В соседнем доме начинает лаять Фрици. – Я подожду внутри. Она ожидает моего прихода.
Фру Венстра смотрит на меня с сомнением.
– Мне хотелось непременно прийти сегодня, – щебечу я. Нужно что-нибудь придумать, чтобы убедить соседку, что я свой человек в доме. – Вы знаете, сегодня день рождения Яна. Вероятно, поэтому она расстроена. Держу пари, что она в церкви. – Я понятия не имею, когда день рождения Яна, но фру Венстра тоже вряд ли это знает. Надеюсь, она не замечает моего смущения. – Передать фру Янссен ваши соболезнования? – осведомляюсь я.
В конце концов она уходит в свой дом, оставив меня в покое. В доме фру Янссен тишина. Тикают часы. На кухонном столе – недопитая чашка эрзац-чая рядом с недоеденным куском хлеба. Это единственные признаки человеческого присутствия. На всякий случай быстро обхожу весь дом. Спальни сыновей фру Янссен. Спальня самой фру Янссен, в которой пахнет духами с ароматом розы, а еще чем-то затхлым. Кабинет господина Янссена, которым не пользуются со дня его смерти. Фру Янссен нигде нет.
У меня болит колено, перевязанное носовым платком Виллема. Сквозь белую ткань просочились красные капли. Сполоснув платок в кухонной раковине, я снова завязываю его. Интересно, есть ли у фру Янссен порошок аспирина и где она его хранит? Моя мать держит лекарства в кладовой. Дверь в кладовую фру Янссен приоткрыта, задвижка не задвинута. За рядами банок с пикулями и редиской видна потайная комната. Одеяло на opklapbed измято, в середине – небольшая вмятина. Должно быть, фру Янссен приходила сюда прошлой ночью.
Хронология событий ничего не дает, сколько бы раз я ее ни повторяла. Четыре недели назад у парадного входа этого дома появилась девочка. То ли Мириам Родвелдт, то ли нет. Неделю назад эта девочка исчезла, и фру Янссен наняла меня, чтобы отыскать ее. Два дня назад девочка попала в облаву, и ее забрали в Холландше Шоубург. Я пыталась помочь ей бежать. В нее стреляли, и она была убита. Была ли эта девочка той самой, что постучалась в дверь фру Янссен? Или это другая и к ней просто попали одежда и документы Мириам?
И какое значение все это имеет теперь, когда девочка умерла?
– Вы дома? – Я слышу, как со скрипом открывается парадная дверь. Кто-то спрашивает: – Вы дома, фру Янссен?
Я выскакиваю из кладовой, захлопнув за собой дверь. В гостиной стоит молодая белокурая женщина, которую я никогда не видела прежде.
– Могу я чем-нибудь помочь?
– О! – Она театральным жестом прижимает руку к груди. – Где фру Янссен?
– Кто вы? И что вы здесь делаете? – спрашиваю я, решив, что лучший способ защиты – это нападение.
– Я Тесса Костер. Я работаю… работала… у господина Янссена в мебельном магазине. Дверь была открыта. Вы… вы компаньонка фру Янссен?
– Да. Фру Янссен нет дома. Могу я вам чем-нибудь помочь?
– О нет. Я пришла, чтобы кое-что занести. Но я зайду позже, когда она будет дома.
Тесса Костер с натянутой улыбкой направляется к двери. Я складываю два и два. Это секретарша, которая служила в мебельном магазине. Та, что отбыла на медовый месяц назавтра после того, как в магазин нагрянули нацисты.
– Фотографии, – неожиданно заявляю я. – Вы принесли фотографии для фру Янссен. Те, что были в задней комнате господина Янссена.
Женщина явно занервничала от того, что мне известно про фотографии. Уж не ищейка ли я, посланная сюда, чтобы устроить засаду?
– Фру Янссен скоро вернется? Мне действительно нужно с ней поговорить.
Но я качаю головой с сочувственным видом. Я хочу, чтобы она отдала фотографии мне.
– Я не знаю, когда она вернется. Может быть, зайдете завтра? Но вы очень смелая, если разгуливаете с этими фотографиями. Ведь они как бы… – я понижаю голос до шепота, – …незаконные.
– Я… со мной все будет в порядке.
– Вы когда-нибудь видели семью, которая там пряталась? – спрашиваю я, давая ей понять, что мне многое известно. – Дочь? Мириам?
– Нет, не видела. А вы про них знали? – Она снова смотрит в сторону двери.
– Вы уверены, что никогда их не видели? Они прятались там несколько месяцев. Наверное, вы что-то подозревали. – Фру Костер отводит взгляд и принимается изучать обручальное кольцо на своем пальце. Мне в душу закрадывается ужасное подозрение.
– Фру Костер, это вы сообщили полиции, что господин Янссен прячет людей в комнате за магазином? Вы донесли нацистам?
– Послушайте! – Ее взгляд блуждает по комнате. – Хотя я не одобряю то, что делал господин Янссен, я не доносила на него. Я даже ничего не знала. Пришла на работу уже после налета. Фотографии лежали в задней комнате. Они были испачканы кровью, и я взяла их домой, чтобы почистить. А потом фру Янссен написала мне в письме, что они ей нужны. И я не хочу больше иметь никакого отношения к этому делу. Можно отдать их вам? Тогда мне не придется снова приходить.
Она роется в сумочке, и белокурые локоны падают ей на лицо. Наконец она достает бумажный конверт.
– Вот, возьмите.
Я притворяюсь, будто колеблюсь.
– Вы уверены? А вы не хотите подождать?
Она сует мне в руку конверт:
– Возьмите.
Я провожаю ее до двери и сразу же иду с фотографиями на кухню. На этот раз я не спешу. Мои движения предельно точны. Я неторопливо усаживаюсь за стол и кладу перед собой конверт. Трудно сразу определить чувство, охватившее меня. Страх.
С фотографий почти полностью стерта кровь. Остались лишь небольшие следы, из-за которых склеились края снимков. Я раскладываю фотографии на столе, и передо мной разворачивается повесть о семье, о жизни и смерти.
Вот господин и фру Родвелдт. Они сидят за столом, на который водружен праздничный пирог. На руках у одного из них ребенок в белом платьице. День рождения. А вот снимок, сделанный несколькими годами раньше. Это свадебный портрет фру Родвелдт. Глаза опущены, волосы невесты покрывает кружевная фата, в руках – маленький букет сирени.
Фотографии разложены не в хронологическом порядке. Со снимков разных лет мне лучезарно улыбаются члены семейства в свои самые счастливые минуты. Вечеринки. Каникулы. Новая квартира. Еще один ребенок – не тот, что на первой фотографии.
Снимой двух обнявшихся девочек-подростков. У той, что слева, темные кудрявые волосы, небольшая родинка на подбородке и длинные густые ресницы. У нее большие выразительные глаза. Я их видела закрытыми, на столе у господина Крёка.
Девочка справа немного выше, она тоже темноволосая. Она смеется, на голове – бумажная корона. Я никогда не видела эту девочку.
Трясущимися руками я переворачиваю снимок: «Амалия и Мириам на четырнадцатом дне рождения Мириам».
Мне хотелось бы многое забыть. Это тайные раны, от которых остались шрамы. О них стараешься не думать, как будто от этого они могут исчезнуть.
Как я в последний раз видела Элсбет.
Это было через несколько месяцев после того, как я сказала ей, что хотела бы, чтобы умер Рольф, а не Бас.
Элсбет снова пришла ко мне домой. Она принесла два приглашения на свадьбу: одно для меня, второе для моих родителей. Неловко приняв чашку чая, она отвечала на вопросы мамы о подвенечном платье и цветах в церкви. Затем мама оставила нас наедине, чтобы мы могли «наверстать упущенное». Элсбет повернулась ко мне:
– Моя мать сказала, что я должна тебя пригласить. Она считает, что свадьбы все улаживают. Но я думаю, ты не захочешь прийти. – Что в ее глазах? Надежда? Гнев? Хочет ли она, чтобы я пришла? Или ясно дает понять, что надеется на отрицательный ответ?
– Нет, – ответила я. – Я вряд ли приду.
– Ну что же, – прошептала Элсбет. – Вероятно, это наше прощание.
Это было сказано с большим достоинством, и мне стало очень грустно. Вот так закончить двенадцатилетнюю дружбу… Элсбет на моей кухне, со свадебным приглашением в руках… Весь прошлый год я ломала голову над тем, что ужаснее: гибель дружбы – или жених Элсбет? И кто из нас двоих должен просить прощения?
Оказывается, есть много способов убивать. Немцы убили Баса снарядом. Мы с Элсбет убили нашу дружбу словом.
Глава 32
Сердце чуть не выпрыгивает у меня из груди.
Амалия. Амалия.
Значит, та девушка, которую Олли принес ночью к господину Крёку, – Амалия. Это Амалия лежит в могиле. И это ее я искала все время. С фотографии, сделанной на дне рождения, на меня смотрят две девушки. Одна из них умерла, вторая исчезла.
Я слышу, как открывается входная дверь, впуская порыв ветра. Фру Янссен? Но нет, я не различаю тихого постукивания палочки. Наверное, это вернулась Тесса Костер.
– Я здесь, – кричу я.
– Фру Янссен? Это Христоффел.
– О, Христоффел, это Ханнеке.
Я сметаю со стола фотографии и засовываю в конверт. И как раз успеваю сунуть его под сахарницу, когда Христоффел входит в кухню. На нем строгий костюм, в котором он сопровождал фру Янссен на похороны.
– Где фру Янссен? – Он вытирает рукавом пот с лица. – Я заходил недавно, и она попросила куда-то ее проводить. А я ответил, что быстренько выполню одно поручение и сразу же вернусь.
– Фру Янссен… – Мне сейчас трудно заканчивать фразы. В голове крутятся тяжелые мысли. Так это Амалию притащили в Холландше Шоубург? Амалию, лучшую подругу Мириам? Амалию, которая должна быть в Кийкдуине? Христоффел ждет, чтобы я закончила фразу. – Когда я сюда пришла, фру Янссен уже не было. Она сообщила, куда ты должен ее проводить?
Он морщит лоб.
– Сказала, что ей нужно повидаться с вами. По-видимому, это срочно. Она огорчилась, когда я признался, что не могу пойти сразу.
– Ладно. Наверное, мы с ней слегка перепутали, кто к кому должен прийти.
Черт возьми, мне следовало попросить фру Янссен по телефону, чтобы она оставалась на месте. Куда же она отправилась? Ведь она не знает ни мой адрес, ни даже фамилию. Если бы не Христоффел, я могла бы пройтись по дому и посмотреть, не оставила ли она мне записку.
– Ее явно что-то расстроило, – говорит Христоффел. – Я подожду здесь ее возвращения.
– Я уверена, что у тебя есть другие дела. Почему бы мне не дать тебе деньги за хлопоты? И тогда ты сможешь заняться чем-то полезным.
Но он, как назло, исполнен сознания долга. Он усаживается за стол и начинает вертеть в руках чашку. Минуты проходят за минутами. Что станет делать фру Янссен, когда не найдет меня? Попытается разыскать господина Крёка? Или Олли? Рассказала ли я ей что-нибудь о нем и о Сопротивлении?
– Вы думаете, я в самом деле могу уйти? Мне нужно быть в другом месте, – в конце концов признается Христоффел.
– Конечно, ступай. Я скажу фру Янссен, что ты заходил. – Я поднимаюсь, чтобы проводить Христоффела. Даже скрип стула передает мое нетерпение.
– Где же я оставил свою кепку? – спрашивает он, озираясь.
– Вот она, – отвечаю я раздраженно и сую ему в руки серую кепку, которую он положил на стол.
Мы уже выходим из комнаты, когда из кладовой доносится жалобный скрип. Я вспоминаю, что, когда пришла Тесса Костер, закрыла только наружную дверь кладовой. А потайную дверь с полками оставила незапертой. Должно быть, это она раскачивается со скрипом.
– Старые дома издают странные звуки, – замечаю я.
Сейчас мы у входной двери, и мне осталось лишь вытолкать Христоффела вон. Тогда я смогу спокойно разобраться с фру Янссен. Нужно начать с господина Крёка. Вообще-то это он нас познакомил. Господин Крёк проводил тогда заупокойную службу по ее мужу.
Я открываю входную дверь, и Христоффел говорит:
– В следующий раз я захвачу с собой масло. Эта полка всегда скрипит, когда открыта задвижка.
Так!
Он даже не сознает, что именно сейчас сказал. Для него это просто фраза. Набор слов. Христоффел надевает кепку.
Медленно, словно во сне, я закрываю перед его носом дверь.
– Ханнеке?
Эта полка всегда скрипит, когда открыта задвижка. Я прокручиваю предложение в уме. Может ли оно иметь какое-то иное значение? Полка. Он не сказал «дверь кладовой». Нет, он сказал «полка». Значит, ему известно, что полка открывается с помощью задвижки. Всегда. Это означает «много раз». Ему известно, как функционирует эта потайная полка, которая заржавела.
– Ханнеке, вы, кажется, настаивали, что я могу идти. – Он в недоумении смотрит на меня.
– Ты знаешь о потайном убежище, Христоффел? – очень тихо произношу я. – Он качает головой, но его уже выдал взгляд. – Что ты о нем знаешь?
– Я ничего не знаю. Пожалуйста, давайте не будем об этом говорить. Позвольте мне уйти.
Он снова берется за дверную ручку, но я загораживаю выход.
– Я не могу позволить тебе уйти. И ты это понимаешь.
– Ханнеке, пожалуйста, оставим это. – Его голос звучит еле слышно, и я едва разбираю слова.
С улицы доносится крик продавца вечерней газеты и свистящий звук метлы по булыжникам. Жизнь продолжается – а я стою здесь с этим мальчиком. Его нежное лицо стало белым как мел.
– Христоффел, нас тут только двое. Что бы ты ни выдал, я не смогу вызвать полицию. И не смогу никому об этом сказать, кроме фру Янссен. Но пожалуйста: как ты узнал, что за кладовой имеется помещение?
На улице метла задела за что-то металлическое. Возможно, это монета. Христоффел не отрывает взгляда от большого пальца с заусеницей, которая воспалилась от того, что ее все время трогают. Он немного выше меня.
– Я не знал о… о ней, – наконец выдавливает он. – Сначала не знал. Клянусь, я сначала не знал. Когда я здесь, фру Янссен обычно сидит в комнате вместе со мной, и мы беседуем. Поэтому нам не слышны звуки из кладовой.
– Но так было не всегда?
– Однажды я доставил кое-какие вещи. Фру Янссен не могла найти кошелек и пошла наверх искать его. Ее долго не было. Поэтому здесь стало тихо, и я кое-что услышал. Скрип.
– Ты пошел взглянуть, что там такое?
Это так похоже на услужливого Христоффела! Когда он услышал скрип ржавой дверной петли, сразу пошел посмотреть, что нужно починить.
– Мне не пришлось никуда идти. Я услышал скрип – и она вышла из шкафа.
Вот еще один человек, который видел пропавшую и знал о ее существовании. На лице Христоффела написано удивление, как в ту минуту, когда из кладовой появилась девушка.
– Она узнала мой голос, – продолжает Христоффел. – Сказала, что ждала, когда рядом не будет фру Янссен.
Она узнала. Мой мозг не в состоянии вместить все, что говорит Христоффел, и цепляется за отдельные слова. Узнала – интересное слово. Было бы логичнее, если бы Христоффел сказал «услышала». Мы узнаем только те вещи, которые нам знакомы.
– Ты ее знал. – Я наконец решаю для себя, кто она такая. – Ты знал Амалию.
– Откуда вам известно ее имя?
– А откуда его знаешь ты?
– Мы вместе ходили в школу – мы трое. Мы выросли вместе. Я, Амалия и… – Христоффел умолкает, и я доканчиваю фразу:
– И Мириам.
– И Мириам, – шепотом произносит он.
И тут происходит то, чего я никак не ожидала. Он падает на пол и, закрыв лицо руками, начинает плакать. Это не безмолвные слезы – он громко рыдает, как маленький мальчик.
Я опускаюсь рядом с ним на колени. Эта боль мне знакома.
– Христоффел, ты… ты любил Мириам?
Он отвечает хриплым шепотом:
– Казалось, она относится ко мне как к брату. Я думал, что не нравлюсь ей. Но в прошлом году Мириам сказала, что это не так. Дело в том, что я нравился Амалии. Оказывается, Амалия полюбила меня первой, и Мириам не хотела предавать подругу. В глубине души я догадывался насчет Амалии. Она дергалась в моем присутствии, и у нее был какой-то нервный смех. Но я всегда видел в ней только друга.
– Значит, «Т.» – это ты. Не Тобиас, а ты. – Христоффел смотрит на меня, не понимая, о чем речь. – Я нашла письмо, – объясняю я. – Там упоминался мальчик, чье имя она обозначила как «Т.». Ей нравился этот мальчик.
Эти глупенькие английские принцессы! Письмо было не от Мириам к Амалии, а от Амалии к Мириам. А я-то думала, что Мириам не успела его отправить. Оказывается, она просто перечитывала письмо Амалии в классе.
– Мое дурацкое прозвище, – поясняет Христоффел. – Я даже не помню, когда мне его дали. Наверное, это меня она так называла.
Я вспоминаю, что друзья Христоффела на пароме называли его «Мистер Крутой». Они взяли среднюю часть его имени – «тоф», что по-английски означает «крутой»[19].
– Сколько раз ты видел Амалию в кладовой?
– Всего два раза. Во второй раз она снова подождала, пока уйдет фру Янссен. А потом сказала, что в газете было объявление, и ей нужна моя помощь, чтобы сбежать.
Het Parool. Три строчки в разделе объявлений:
«Элизабет скучает по своей Маргарет.
Но она рада, что проводит каникулы в Кийкдуине».
Когда я пришла в тот день, фру Янссен рассказала, что принесла Мириам газету. И попросила вести себя тихо, потому что должен зайти посыльный. Фру Янссен не добавляла, что оставила Христоффела одного в кухне. Она не думала, что об этом следует сказать. Ей в голову не пришло, что Мириам может обнаружить свое присутствие при посыльном.
– Ты помог ей сбежать?
– Да.
– Но я ничего не понимаю. Наверное, она пояснила, что фру Янссен принимает ее за Мириам? Почему же она не сказала фру Янссен, что уходит? И каким образом в ночь облавы у Амалии оказались документы Мириам?
Он неловко вытирает слезы ладонью. У этого мальчика есть ответы на все вопросы, над которыми я билась целую неделю. С его помощью запустилась цепочка событий, которые привели к беде. Но я все еще не понимаю, почему это произошло.
– Вот что она поведала мне, – начинает Христоффел. – В ту ночь, когда был налет на убежище Родвелдтов, она столкнулась с Мириам на улице. Мириам бежала со всех ног. Она думала, что ее вот-вот поймают. Амалия заставила Мириам обменяться с ней пальто и удостоверениями личности. Ведь если у Мириам в документах не будет указана еврейская национальность, ей удастся сбежать. А сама она позже сходит к властям и получит новые документы. Но солдаты были слишком близко, и Амалия не успела убежать домой. Она боялась, что ее застрелят из-за документов подруги. Поэтому и отправилась к фру Янссен. Мириам дала ей адрес.
– Но почему же Амалия не сказала фру Янссен, кто она такая? Почему не попросила помочь с новыми документами?
Христоффел с мрачным видом пожимает плечами.
– Я не знаю. Она просто заявила, что не хочет, чтобы фру Янссен знала.
Потому что сначала хотела убедиться, что Мириам в безопасности? И боялась, как бы кто-нибудь не узнал, что настоящая Мириам Родвелдт сбежала и живет под другим именем? Да, что-то в этой истории так и останется неясным, сколько бы вопросов я ни задавала.
– Куда она пошла? – спрашиваю я. – После того, как выбралась из дома?
– Какое-то время она жила у меня. Папа часто уезжает, и он не подозревал, что в подвале кто-то есть.
В подвале у Христоффела! Еще несколько дней назад девочка, которую я разыскивала, жила в доме этого мальчика. Мальчика, которого я видела столько раз.
– Что заставило ее уйти? – допытываюсь я. Понятно, почему Амалия так и не пошла к властям, чтобы заявить о пропаже документов. Поскольку ей еще не было восемнадцати, власти могли потребовать подпись родителей. А они уже уехали из города. Вполне понятно, что ей захотелось жить у Христоффела, а не у фру Янссен. Ведь у старого друга лучше, чем у незнакомого человека. Но я не могу догадаться, почему после всех этих передряг она покинула его дом. – Христоффел, почему она все время убегала оттуда, где была в безопасности? Это же бессмысленно. – Он захлебывается от рыданий. – Почему в ту ночь Амалия покинула твой дом?
– Я велел ей уйти! – в конце концов выкрикивает он. – Она поведала мне один секрет, и я выгнал ее из своего дома. Но я не хотел ее смерти. Клянусь, не хотел! Я очень разозлился на нее и сказал, чтобы не попадалась мне на глаза. Иначе я расправлюсь с ней почище нацистов. Я гнался за ней по улице, и она удирала от меня. Я видел, как она столкнулась лицом к лицу с солдатом. Когда ее схватили во время облавы, она удирала от меня. – Его голос звучит резко и пронзительно.
– Что это был за секрет? Что заставило тебя выгнать ее из дома?
– Я не могу! Не могу!
У Христоффела начинается истерика, и я ласково глажу его по спине. Он судорожно глотает воздух. Я старше его всего на несколько лет, но сейчас это маленький мальчик.
– Я не хочу об этом говорить, – с трудом произносит он, сделав глубокий вдох. – Пожалуйста, не заставляйте меня.
– Хорошо, хорошо, хорошо, – повторяю я. Если на него давить, будет только хуже.
И еще одно. Не то чтобы это имело значение – просто мне хочется знать.
– Ты сказал, что в тот день, когда Амалия увидела объявление в газете, она попросила тебя помочь ей сбежать. Но ты же не мог помочь ей сразу: фру Янссен видела ее вечером. Значит, ты снова пробрался в дом, когда фру Янссен была у соседки, через дорогу? Это ты придумал, как запереть дверь черного хода снаружи?
– Нет. Амалия пряталась, когда фру Янссен была у соседки. Я пришел на следующий день.
Наверное, он что-то путает. На следующий день я была там. Я сидела на кухне, а фру Янссен рассказывала мне, что Мириам пропала.
– Ты что-то путаешь. В тот день я была здесь. Я видела, как ты пришел. Ты забирал у фру Янссен какую-то мебель.
– Да, я приходил. И я действительно забрал мебель.
Христоффел молчит, я тоже.
Ну что же, я могу додуматься и сама. Я скажу фру Янссен, что в кладовой была Амалия, которая теперь мертва. И это будет правдой. А уж каким образом она сбежала, не имеет значения. Впрочем, можно сложить фрагменты головоломки, и от этого станет еще больнее.
Но я должна их сложить. Потому что я вдруг вспомнила, как Мина весело вручила мне сумку с дровами. Я тащила ее больше километра, не подозревая о своей важной роли в их плане. Вспомнила, что в детской коляске была камера. Вспомнила, что Олли любит не Юдит, а Виллема. В этой войне все кажется не тем, чем является на самом деле. И я слишком долгое время не видела того, что у меня под самым носом.
Амалия спряталась в opklapbed, и Христоффел увез ее из дома на тележке. В то время как я раздумывала, помочь ли фру Янссен в поисках исчезнувшей девушки, та была всего в нескольких метрах от нас.
– Она ждала в opklapbed, чтобы ты увез ее. Вот каков был ваш план.
Я устала. Он тоже устал. Мы оба хотим, чтобы это поскорее закончилось.
– Она ждала несколько часов, – говорит Христоффел. – Амалия позволяла себе посидеть в кабинете, пока фру Янссен дремала. Но, услышав, что та проснулась, немедленно залезала обратно. Я сказал ей, что приду рано утром.
– И потом ты ушел вместе с ней. А я в это время сидела здесь. Ты знал, что меня наняли, чтобы найти ее?
– Друг попросил меня помочь, – отвечает Христоффел. – Вот о чем я думал.
Как я должна реагировать? Рассказать о том, в каком отчаянии была фру Янссен, когда исчезла девушка? И о том, как колени Амалии подогнулись и она рухнула на землю?
Он снова начинает плакать в гнетущей тишине.
– Ш-ш, – шепчу я ему. – Ш-ш. – Потому что так говорили мне, когда я плакала по Басу. И потому что в эту минуту я не нахожу других слов.
Глава 33
Суббота
Когда что-то заканчивается не так, как ты ожидал, – действительно ли это конец? Означает ли это, что следует искать другие ответы? Такие ответы, которые не будут лишать сна по ночам? Или это означает, что пришла пора примириться?
У меня уходит два дня на то, чтобы достать билет на поезд до Кийкдуина.
Сначала поезд идет в Гаагу. Этот город просто кишит немецкими солдатами. Кажется, их тут даже больше, чем в Амстердаме. Я делаю пересадку на поезд, следующий в Кийкдуин. Это городок на море, и по мере приближения к нему воздух становится соленым. Я единственная схожу на станции, с маленьким чемоданом в руках. Наверное, я выгляжу сумасшедшей, которая решила провести каникулы на море в середине зимы. Ветер с моря треплет мои волосы, глаза обжигает соленый холод. Этот городок стал новым курортом лет за десять до оккупации. Возле пляжа – форт, который захвачен немцами и используется для учений. По пути в город мне встречается мало людей. Это местные, которые живут здесь круглый год. Какой-то мальчик говорит, что до гостиницы далеко, и предлагает подвезти. Я забираюсь на багажник его велосипеда, и мы едем в центр города.
– Вот здесь. – Велосипедист останавливается и указывает на другую сторону улицы. Я вижу здание бледно-зеленого цвета.
Поблагодарив мальчика, я слезаю с велосипеда. У гостиницы тетушки Амалии крашеное крыльцо и веселая вывеска на фасаде. Она извещает гостей, что открыта зимой. Я неловко себя чувствую, поскольку не известила заранее о своем приезде. Но я столько блуждала в тумане, что теперь мне нужны вещественные доказательства. Наверное, это во мне говорит торговка с черного рынка.
Я стучусь в дверь, и мне сразу же открывает женщина средних лет. Да, нелегко заниматься бизнесом вне сезона – особенно теперь, когда немцы заблокировали большую часть пляжа. Они установили заграждения, опасаясь появления союзников.
– Вас интересует комната? – Тетушка Амалии уже протягивает руку за моим чемоданом. – Заходите. В гостиной разожжен огонь в камине, и я приготовлю вам что-нибудь поесть.
Я следую за ней в дом. Что же ей сказать? Сегодня я прибыла без готового сценария. Я столько испытала, что цель моего приезда кажется слишком странной. Когда фру Янссен вернулась в тот день домой, я сказала, что девушка, которую я разыскивала, мертва. Но не исключено, что та девушка, о которой шла речь, жива. Я никогда не смогу привести к ней девочку, которую она полюбила. Но, быть может, удастся найти девочку, семья которой погибла. Так же, как погибли муж и сын фру Янссен. Я показала ей фотографию и поклялась, что мне жаль.
Христоффел отказался беседовать с фру Янссен. Он ушел до ее возвращения, сославшись на то, что не в силах справиться с чувством вины. Мне хотелось сказать ему многое. Сказать о том, что он стал причиной гибели девочки; что он вел себя опрометчиво; что ему следует поведать мне секрет Амалии. Но когда он признался, что его гложет чувство вины, я просто не смогла. Потому что понимала, каково ему. Меня более двух лет изводит чувство вины от того, что я погубила любимого.
– Значит, комната? – Женщина все еще ожидает ответа.
– Меня интересует…
Я все еще не знаю, что сказать. Может быть, прямо спросить об Амалии? Или подождать, пока мне отведут комнату? Лучше спрошу потом, когда буду обедать у уютного огня в камине. Но мне не приходится это делать, так как вдруг появляется виновница моего путешествия.
По лестнице спускается девушка с охапкой белья в руках. Она на несколько лет младше меня – миниатюрная, с тонкими чертами лица. При тусклом освещении виден тонкий розовый шрам, который тянется от колена.
– Амалия, – обращается к ней хозяйка гостиницы. – Кажется, у нас гость. Ты можешь показать номер три? – Повернувшись ко мне, она подмигивает. – Это наш самый большой номер, с самой удобной кроватью.
Девушка выглядит немного старше, чем на фотографии, сделанной в ее день рождения. Появились округлые линии, которых не было на снимке. Она берет мой чемодан, и я следую за ней на второй этаж. Стены комнаты номер три выкрашены бледно-голубой краской, и она украшена морскими раковинами. Окно слегка приоткрыто, чтобы впустить холодный морской воздух.
– Мы подаем обед в шесть, – сообщает Амалия, впервые заговорив со мной. У нее более низкий голос, чем я ожидала. – Ничего особенного, но обычно есть свежая рыба.
– Я знаю, – вырывается у меня. Довольно лаконичное заявление, но я ждала несколько дней, чтобы его сделать.
Она улыбается.
– Значит, вы уже бывали здесь прежде?
Я качаю головой.
– Мириам! Мириам, я знаю правду.
Лицо Мириам становится мертвенно-бледным. Она бросает взгляд через плечо, чтобы убедиться, что никто не слышал ее настоящее имя. Дверь комнаты закрыта, и на улице никого не видно.
– Кто вы?
– Я написала вам письмо. И сложила его звездочкой.
– Я не получала никакого письма.
Ну, конечно, Христоффел передал его настоящей Амалии. И девушка, которая выдает себя за Амалию в гостинице у океана, не получила его.
– Я вас искала, – говорю я.
И тут понимаю, что, поскольку Мириам не получила письмо, она ничего не знает о случившемся. Придется рассказать ей все с самого начала.
У меня уходит на это много времени: Христоффел, Амалия, нацисты, мост. Кое-что доходит до Мириам не сразу, и приходится растолковывать. Ведь она считала, что Амалия скоро приедет. Она думала, что подруга в безопасности. Мириам слушает меня с застывшим лицом. Я вижу, как она потрясена. Девушка кусает верхнюю губу. Я не знала, что у Мириам есть такая привычка. Хотя я целую неделю собирала сведения об этой девушке, на самом деле я ее совсем не знаю. Я слышала воспоминания людей о Мириам и Амалии и объединяла их. В результате получился гибрид, который сильно отличается от девушки, которая сейчас стоит передо мной.
Мириам опускается в кресло у двери.
– Вы уверены? – спрашивает она, когда я заканчиваю рассказ. – Может быть, вы ошиблись?
Тот же вопрос я задала Олли, когда он заявил, что кого-то по фамилии Родвелдт забрали в театр. Как мне тогда хотелось, чтобы это была ошибка!
– Я уверена. Она умерла из-за того, что выдавала себя за вас, – отвечаю я.
Мне не хотелось, чтобы мой ответ прозвучал резко. Просто я пытаюсь понять, что же произошло на самом деле.
Ее глаза наполняются слезами.
– У вас когда-нибудь была лучшая подруга?
Я киваю, чувствуя комок в горле.
– Когда-то. Но ее больше нет.
– Тогда вы понимаете, каково это: любить кого-то, как себя, а потом потерять.
Может быть, нужно оставить Мириам наедине с ее горем? Но я зашла слишком далеко и не могу остановиться.
– Что случилось в ту ночь, Мириам? Когда вы поменялись местами?
Она опускает голову. Наверное, ей не хочется вспоминать. Кажется, она так ничего и не ответит.
– У нас было всего несколько минут. Я бежала из мебельного магазина, не зная, куда идти. И вдруг увидела Амалию. Она плакала, волосы были растрепаны, пальто расстегнуто. Амалия так крепко меня схватила, что я задохнулась. Близился комендантский час, и на улице было полно людей, спешивших домой. Никто не обращал на нас внимания. Я рассказала ей о гибели моей семьи. И она, не раздумывая, сняла пальто. Она сказала, что в кармане есть удостоверение личности и деньги. В тот вечер ей нужно было сесть на поезд, следующий в Кийкдуин. Билет уже был заказан. Тетя Амалии не видела ее с детства. Амалия придумала, чтобы я ехала к ее тете. Она пообещала, что никому не скажет, где я и что случилось. До тех пор, пока не получит известие, что я в безопасности.
– И так и было?
– Почти. – Ее взгляд становится напряженным. – Именно это «почти» останавливало меня всю неделю. Как много раз мне казалось, что я почти поняла что-то! Но потом становилось очевидно, что я ничего не поняла.
– Мириам, у Амалии был секрет, и она рассказала его Христоффелу. Вот почему он выгнал ее из дома. Он так разъярился, что Амалия испугалась. Вы знаете, что это за секрет? Что же такое могла рассказать ему ваша подруга? Ведь он выгнал ее из дома, где она была в безопасности.
Она кусает губы и отводит взгляд.
– Я ничего не знаю.
– Пожалуйста! Я просто пытаюсь понять, что произошло. Вы представить себе не можете, сколько усилий приложили разные люди, чтобы вас найти. Фру Янссен отдала бы что угодно, лишь бы узнать, что случилось.
Ей хочется рассказать. Я вижу, что ей хочется покончить со всем этим. И начать с чистого листа.
– Мириам, вы признались, что Амалия плакала, тогда, на улице. Почему же она плакала? И вообще, почему она оказалась в тот вечер на улице?
Расскажи мне. Расскажи – и покончим с этим.
Мириам медленно достает из кармана бумагу, сложенную звездочкой.
– Это было в кармане пальто Амалии. Там были деньги на поездку и это.
Я беру звездочку и разворачиваю ее. Мириам поднимается с кресла и подходит к окну. Она стоит там, глядя на море.
Дорогая Элизабет!
Прости меня. Прости, хотя я сделала такое, чего нельзя простить.
Я пишу это в трамвае. Если я доберусь вовремя, не придется отдавать тебе это письмо. Пишу на всякий случай. Письмо-на-всякий-случай.
Мы с Т. стали ближе в твое отсутствие. Он внимательно меня слушает, смеется над моими шутками. Кажется, он впервые увидел меня по-настоящему. Я знаю, ты бы не имела ничего против. Ведь ты никогда не любила его так, как я. Ты всегда говорила, что тебе хочется, чтобы ему нравилась я, а не ты. И мне показалось, что он начинает меня любить. Но это было не так. Нет, он не любил. Однажды он посмотрел на меня и сказал: «Тебе нужно сделать прическу, как у Мириам. У нее такие красивые волосы! Когда война закончится, может быть, она тебя научит». И я поняла по его лицу, что он никогда меня не полюбит. Никогда.
Я говорю тебе это, так как хочу, чтобы ты поняла: у меня было разбито сердце. Даже если это и не оправдывает мой поступок. Я вернулась домой с разбитым сердцем. У нас в гостях был дядя. Он спросил, почему у меня такой печальный вид. Я без всякой задней мысли ответила, что мне грустно, потому что мальчик, которого я люблю, не отвечает мне взаимностью. Потому что сохнет по девочке, прячущейся в мебельном магазине. Дядя рассмеялся и заверил, что этот мальчик глуп. Он попросил рассказать побольше об этой девочке. И я рассказала ему о тебе все. Я забыла, что он вступил в НСД.
Или не забыла? Дорогая Элизабет, я думаю об этом с той самой минуты, как поняла, что наделала. Забыла ли я на самом деле, что он вступил в НСД? Или что-то во мне помнило и знало, что делало? Я попытаюсь исправить свою ошибку. Попытаюсь все уладить, если смогу. Прости меня. Прости меня. Прости меня.
– Она выдала вас, – говорю я. – Это из-за нее нацисты нагрянули в ваше тайное убежище.
Мириам поворачивается ко мне.
– Разве вы не понимаете? Она пожалела об этом, как только осознала, что произошло. Вот почему она оказалась ночью на улице. Она хотела предупредить нас и надеялась, что мы успеем убежать.
– Но было слишком поздно.
Глаза Мириам затуманиваются слезами. Мне трудно вообразить эту ночь. Две лучшие подруги встречаются на улице, чтобы сказать столько всего сразу: я выдала тебя, я люблю тебя, я хочу тебя спасти, прости меня. По всей Европе умирают сотни тысяч людей. А здесь, в моем родном городе, нацисты убили всю семью из-за цепочки событий, которая началась с любви, ревности и обмолвки.
– Вы ненавидите ее?
Мириам смотрит на свои сложенные руки.
– Ненавидела. Никого на свете я так не ненавидела. Но она же не знала. Мне нужно верить в это сейчас. Я думаю, она рассказывала дяде обо мне, не сознавая, что может случиться. Она не хотела этого. – Мириам поднимает на меня глаза. – Вы верите, что это так?
– Я верю – если верите вы.
Не знаю, почему для Мириам так важно, чтобы я была хорошего мнения об Амалии. Ведь она совсем не знает меня.
И вдруг меня осеняет. Для меня это тоже было бы важно, если бы касалось моих друзей. Всех нас – Баса, Элсбет, Олли. Важно, чтобы кто-то нас понял. Мы измучены и вовсе не безупречны, но делаем в этой войне все, что можем. На нас навалилось что-то огромное и чудовищное. И мы тоже не знали всего, как Амалия, и не хотели трагедии. Тут нет нашей вины.
Мириам подходит к кровати и садится. Я присаживаюсь рядом. Ни одна из нас не произносит ни слова. Мы просто смотрим в окно, за которым волны бьются о берег с заграждениями.
Глава 34
В конце концов я решила не ночевать в гостинице тетушки Амалии. Мириам недостаточно хорошо знает меня, так что мне вряд ли удастся ее утешить. Я говорю ей, что возвращаюсь в Амстердам. И что у нее есть там дом: она может жить у фру Янссен, если захочет. Но, пожалуй, лучше оставаться здесь, пока не кончится война. В безлюдной гостинице с правильными документами безопаснее, чем в Амстердаме.
Я направляюсь к железнодорожной станции. Там я извожу кассира в билетной кассе до тех пор, пока он не продает мне билет на следующий поезд до Амстердама. Рядом со мной в вагоне сидит какая-то женщина. Она шепчет, что битва при Сталинграде закончена и нацисты проиграли. Это их первое официальное поражение в этой войне.
– Слава богу! – восклицаю я.
Однако я тотчас же спохватываюсь. А что, если она коллаборационистка? Тогда мне следовало ответить неопределенно или выразить отчаяние. Но нет, она явно не сторонница нацистского режима. Она украдкой жмет мне руку, разделяя радость. А потом мы умолкаем. Потому что неизвестно, кто нас подслушивает. Мы молчим всю дорогу. Я ощущаю сильную усталость. Итак, все загадки решены. Может быть, делая хорошие поступки во искупление плохих, нельзя ожидать, что уцелеешь.
Когда я вернусь домой, мама с папой спросят, где я была. Я пойду обедать с Олли, Виллемом и Санне. А когда смогу, навещу Мину. Иногда у меня все еще будет болеть сердце. Возможно, довольно часто. Наверное, можно исцелиться, даже если не уцелел.
Я нашла девушку – но не ту, которую разыскивала. Я рассталась с подругой, по которой тоскую каждый день. Я вернусь на работу. Мне станет лучше, но не сразу. Я отыщу все спрятанные вещи и раскрою все тайны.
Как я впервые поняла, что люблю Баса.
Ему было шестнадцать, мне пятнадцать. Это случилось не в тот день, когда мы слушали радио в его доме. Тогда он понял, что любит меня. А я поняла неделей раньше. Это произошло на школьном дворе. Кто-то сказал, что предпочитает сначала прочесть последние страницы книги, чтобы убедиться, что все кончилось хорошо. Бас заметил, что ничего глупее не слышал. Он велел дать ему книгу, о которой шла речь. Затем открыл ее на последней странице, взял ручку и начал что-то писать. Я думала, он напишет: Все кончилось хорошо. Но когда Бас вернул книгу, оказалось, что он написал: Всех изувечил медведь, это очень печально, пошли есть мороженое.
Бас поднял меня за руку со скамейки и сказал:
– Может быть, медведь и не изувечил тебя, а только слегка поцарапал.
А потом я скорчила рожу, и он поцеловал меня, и мы пошли есть мороженое. У нас с ним все только начиналось – в мире, который был близок к концу, о чем мы и не подозревали.
К вопросу об исторической точности
Хотя все сюжетные линии и персонажи в этой книге вымышленные, упомянутые исторические события реальны. Они разворачивались в Голландии во время Второй мировой войны. Топография Амстердама в этом романе тоже подлинная. Нидерланды были оккупированы в мае 1940 года. Более двух тысяч голландских военнослужащих было убито в битве за Нидерланды. Немецкие оккупанты начали вводить все более жестокие ограничения для еврейского населения.
Около ста тысяч голландских евреев умерло во время холокоста. Это почти три четверти еврейского населения – гораздо более высокий процент, чем в соседних странах. Есть множество мнений относительно того, почему так случилось. Нидерланды – плоская, возделанная земля, и в ней мало лесов и природных убежищ, где можно спрятаться. Страны, с которыми граничит Голландия, также были оккупированы, что ограничивало пути к бегству. Сопротивление создавалось медленно. Дело в том, что в Первую мировую войну Нидерланды были нейтральны. Поэтому у ее граждан не было ни инфраструктуры, ни знаний для создания подпольных сетей. Процент голландских коллаборационистов был сравнительно высок. И даже тех, кто осуждал оккупацию, убаюкивало ложное чувство безопасности вследствие того, что нацисты вводили ограничения постепенно. Страна была как лягушка в медленно закипавшей воде.
Еврейский совет, состоявший из лидеров диаспоры, вначале верил, что как связующее звено между нацистами и еврейским населением сможет улучшить обращение со своими в Нидерландах. Но сегодня многие считают, что действия совета ненамеренно облегчали выслеживание, преследование и депортацию евреев в концентрационные лагеря, где их убивали.
Однако в стране имели место и поразительные акты героизма. При изображении Олли, Юдит и их друзей я использовала реальные типы групп Сопротивления. Но главным прототипом стала Амстердамская студенческая группа. Эта группа студентов университета занималась спасением детей. Прототипами моих персонажей также стали те, кто был назначен на работу в Холландше Шоубург. В основном это были евреи. Шоубург был местом невыразимого ужаса, но также и редкой отваги. Там проводились рискованные операции по спасению в Амстердаме. Шестьсот еврейских детей было тайком вынесено из яслей, находившихся через дорогу от Шоубурга. Их прятали в корзинах для грязного белья или передавали через стену двора. Иногда малышей открыто несли по городу. Работники «ошибались» при подсчете детей, за которыми должны были присматривать. Описывая действия персонажей, я вдохновлялась жизнью, читая или слушая рассказы о многих людях, связанных с Шоубургом. Вот лишь некоторые из них: Пит Мербург, один из основателей Амстердамской студенческой группы; Генриетта Пиментел, которая руководила работой в яслях и была убита в Аушвице в 1943 году; Валтер Зюскинд, который подделывал документы детей, работая в Шоубурге, и был убит в 1945 году.
Работа фотографов Сопротивления – это реальность. Сеть фотографов, не особенно тесно связанных друг с другом, в 1944 году получила официальное название «Подпольная камера». Они рисковали личной безопасностью, тайно фотографируя солдат и гражданское население. Их снимки остаются одним из самых ярких свидетельств жизни в Нидерландах во время нацистской оккупации. Женщины-фотографы были особенно изобретательны: они прятали камеры в кошельки и сумочки. Лидия ван Нобелен-Ризоу не была членом «Подпольной камеры», но она жила в квартире, окна которой выходили на задний двор Шоубурга. Она начала делать фотографии еврейских узников после того, как узнала среди них школьную подругу. Сюжетная линия Мины основана на этом эпизоде.
Het Parool была реальной газетой. На самом деле она существует и сейчас. Издатели рисковали жизнью, выпуская каждый номер. Тринадцать сотрудников этой газеты были казнены в феврале 1943 года – всего через несколько дней после событий, которыми заканчивается этот роман.
Я профессиональный журналист. И я всегда считала, что реальные истории людей более трогательные, интересные и волнующие, нежели все, что я могла бы придумать. Идея написать эту книгу возникла во время каникул в Амстердаме, где я посетила несколько мест, связанных с холокостом. Впоследствии я провела много изысканий. Я отдаю должное многим людям за то, что они помогли мне познакомиться с трагическими событиями Амстердама в 1943 году.
Библиотекари в Мемориале холокоста в Вашингтоне, округ Колумбия, помогли найти массу книг и DVD на многие темы – от продовольственных карточек до кода, которым пользовались участники Сопротивления, беседуя друг с другом по телефону.
Грег Миллер из «Филм рескью интернэшнл» не раз терпеливо объяснял мне сложный процесс проявления цветной пленки в 1940-е годы. Пол Моди, поставивший голландский документальный фильм «Подпольная камера», столь же терпеливо вел со мной переписку о роли фотографов во время войны. Он порекомендовал мне книгу De illegale camera (1940–1945). В ней собраны фотографии, многие из которых я приписала Мине. Военный историк Аллерт Госсенс перерыл все свои файлы, чтобы эпизод, в котором Бас записывается в военно-морской флот в семнадцать лет (в этом возрасте еще не призывали в армию), выглядел достоверно. В Мичигане служащие «Голландской деревни Нелис» угощали меня голландскими блюдами – включая стропвафли с миндальной пастой, которые фигурируют в романе как любимое лакомство Ханнеке. Пат Бойденс, голландец, который сейчас живет в Виргинии, прочел мою рукопись с точки зрения лингвистической достоверности. Например, он помог мне определить, какие ругательства могла употреблять девочка-подросток. Лаурин Вастенхаут тщательно проверила факты, прочесав рукопись на предмет исторической точности. А штат литературного агентства «Себес энд ван Гелдерен» предоставил ценные исторические сведения, касающиеся имен персонажей и голландской культуры.
В своей книге я в некоторых случаях отходила от исторических фактов. Вот несколько примеров. У меня ясли при Шоубурге закрываются в январе, тогда как на самом деле они были закрыты спустя несколько месяцев. B Het Parool не было раздела объявлений – по крайней мере, зимой 1943 года. И, насколько мне известно, эту газету не использовали отдельные лица для передачи тайных сообщений. Эти и другие отклонения от истины понадобились исключительно ради художественных целей. Надеюсь, они не являются непростительными.
Ханнеке Баккер не была реальным лицом – так же, как Бас, Олли Ван де Камп, Мириам Родвелдт и все остальные персонажи. Но поскольку люди продолжают задаваться вопросом, каким образом могло возникнуть такое чудовищное явление, как холокост, мне хотелось рассказать историю о мелких предательствах в разгар большой войны. Хотелось показать, как отвага и трусость диктуют решения, которые принимаются в долю секунды, и как все мы бываем и героями, и подлецами.
Благодарности
Создание книги – одинокий процесс, потому что лишь одна пара рук умещается на клавиатуре. Почти все время мне хотелось, чтобы это были чьи угодно руки, только не мои. Я благодарна тем людям, которые символически делили со мной клавиатуру. Благодаря им я чувствовала, что работаю в команде.
Мой агент, Джиндер Кларк, прочитав три первых абзаца плана книги, немедленно заявила, что эта книга должна быть о тинейджерах, а вовсе не о взрослых, как я это себе представляла. Она была права, как и в большинстве случаев.
Мой редактор, Лайза Йосковиц, предложила очень много детей для развития сюжета и описания персонажей. Я колеблюсь, стоит ли их здесь перечислять: не хочется выглядеть законченной идиоткой!
Роберт Кокс, мой муж, добросовестно читал и комментировал написанное, а также приносил блинчики из «Айхоп»[20], когда в них возникала острая необходимость. Я не могу себе представить более взыскательного читателя и лучшего мужа.
Пожалуй, несколько самонадеянно пытаться рассказать историю о той стране и тех временах, в которых я не жила. Но я с самого начала знала, что мне хочется, чтобы действие моей книги разворачивалось в Амстердаме, во Вторую мировую войну. И мне хотелось, чтобы в ней был подлинный голландский дух. Правильные даты и топография – это одно, а голландский дух – совсем другое. И я благодарна гиду в Амстердаме, который впервые познакомил меня с фразой: «Бог создал мир, а голландцы создали Нидерланды». Я благодарна велосипедистам этого города, которые мягко укоряли меня, когда я не понимала их правила. Я благодарна музеям с их неисчерпаемыми коллекциями. А также частным лицам, которые потрудились создать веб-сайты – на английском! – на самые разные темы: от правильного написания голландских имен до истории судеб каждого миноносца во время немецкого вторжения.
Я глубоко благодарна – и в литературном, и в человеческом плане – членам голландского Сопротивления, которые написали о том, что им пришлось пережить. Это позволило осязаемо ощутить то время и место. Читая мемуары Мип Гис, Корри тен Бом, Ханнеке Иппис и Дит Эман, я многое узнала о том, каково было жить в Амстердаме во время Второй мировой войны. И, наконец, многим из того, что мир знает об этой войне, этом городе и человеческих переживаниях, он обязан одной книге, которая была написана на чердаке, в самый разгар оккупации. Я бесконечно признательна Анне.
Сноски
1
Один из четырех основных каналов Амстердама. (Здесь и далее примеч. перев.)
(обратно)2
Ранний плотный ужин с чаем в северной части Англии и в Шотландии.
(обратно)3
Раскладная кровать (голл.).
(обратно)4
Круглые вафли из двух тонких слоев теста с прослойкой из карамельного сиропа.
(обратно)5
Церковь в Амстердаме.
(обратно)6
Нидерландская ежедневная газета, издается с 25 июля 1940 года. Во время оккупации была газетой подполья.
(обратно)7
Голландская Национал-социалистическая партия (движение), которая во время Второй мировой войны была единственной легальной партией в стране.
(обратно)8
Электрический барьер из проволоки, установленный оккупантами во время Второй мировой войны вдоль границы между Бельгией и Голландией.
(обратно)9
Синтаклаас в Нидерландах и Бельгии – то же, что Санта-Клаус.
(обратно)10
Часовня Святой Агнессы, которая принадлежит Университету Амстердама.
(обратно)11
Театр в Амстердаме, который нацисты превратили в центр депортации; оттуда евреев отправляли в лагеря смерти. Сейчас это Национальный мемориал холокоста.
(обратно)12
Концентрационный лагерь в Нидерландах.
(обратно)13
Город в Северном Брабанте.
(обратно)14
Морской курорт в Нидерландах.
(обратно)15
Центральный вокзал Амстердама.
(обратно)16
Голландский вариант гитлерюгенда.
(обратно)17
Железнодорожная станция на востоке Амстердама.
(обратно)18
Стоять! (нем.)
(обратно)19
Tough – крутой (англ.).
(обратно)20
IHOP – International House of Pancakes.
(обратно)
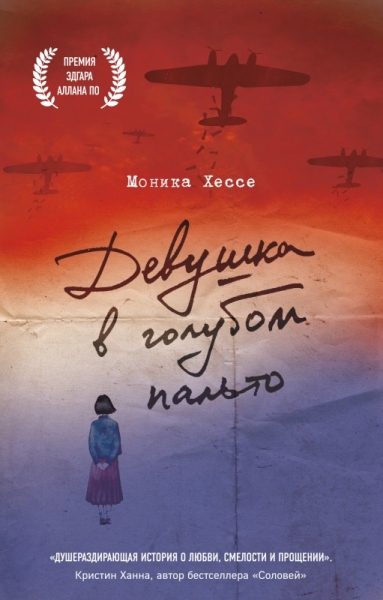



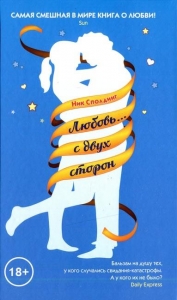






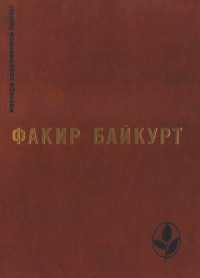
Комментарии к книге «Девушка в голубом пальто», Моника Хессе
Всего 0 комментариев