ПОВЕСТИ
ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО СВОЕГО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
С широкого крыльца, на котором валялись плотницкие инструменты, неторопливо, с достоинством сошел похожий на подростка мужчина лет сорока. Был он в заштопанном тренировочном костюме с пузырями на коленях, в старых парусиновых полуботинках; густые, остриженные «под бокс» волосы, смоченные водой, слегка оттопыривались. Спокойный взгляд, рассеченная губа, перебитый, сплющенный нос — все это позволяло думать, что он если и не отчаянный храбрец, то, во всяком случае, человек решительный, уверенный в своей силе. Сунув Ветлугину твердую, в мозолях, руку и назвав себя, мужчина окинул взглядом два больших чемодана и легко понес их в здание школы.
Никакой другой поклажи у Ветлугина не было, и он уныло подумал, что ящик, по-видимому, придется тащить самому. В нем были книги — его главное достояние. Он начал собирать их четыре года назад, когда поступил в пединститут, и теперь его личная библиотека насчитывала сто пятьдесят шесть томов, среди которых было восемь собраний сочинений.
Ветлугин уже изрядно намыкался с этим чертовым ящиком. Когда требовалось поднять его, подзывал носильщика или просил кого-нибудь подсобить. До крыльца ящик можно было дотащить волоком, а вот как поднять? Ветлугин решил подозвать первого встречного, но не увидел ни одной живой души.
Село казалось вымершим. Грузовик, на котором он приехал, давно укатил; пыль, густая, горячая, осела на проезжей части, покрыла еще одним слоем придорожные лопухи, жесткую крапиву. Солнце висело прямо над головой, по лицу тек пот. Около разместившейся наискосок от школы чайной — небольшого строения с затейливо намалеванной вывеской, с марлевой кисеей, облепленной мухами, — сиротливо стоял грузовичок, серый от пыли. Школа была одноэтажной, бревенчатой, вытянутой по фасаду; щели между рассохшимися бревнами были тщательно проконопачены; щербины на каменном фундаменте замазаны глиной. За школой виднелась волейбольная площадка, турник, гимнастическое бревно с прислоненной к нему вместо лесенки доской с набитыми на нее деревяшками. Чувствовалось, директор школы — человек умелый, хозяйственный. Ближайший дом был метрах в ста от школы, хоть находилась она в самом центре села. По обе стороны дороги пролегали овражки — не очень глубокие и не очень широкие, с перекинутыми через них кладочками и бревнами с протоптанными тропинками. С одной стороны к селу вплотную подступала тайга, с другой — речка, скошенный луг, пожня, а еще дальше темнели сопки, поросшие казавшимся издали синим лесом. Сопки уходили уступами вниз, и Ветлугин понял, что село расположено на возвышенности. Среди сопок петляла, то появляясь, то исчезая, дорога. Окутанный пылью, словно жук, полз грузовик — тот самый, на котором приехал Ветлугин.
Стерев с лица пот, он вдруг с тоской вспомнил, что Москва, родной дом, мать — отсюда далеко-далеко, что скорый поезд шел до Хабаровска девять суток; потом пришлось провести бессонную ночь в общем вагоне местного поезда, глотать пыль в кузове попутного грузовика — в кабине сидела женщина с ребенком.
В краевом отделе народного образования не скрывали, что учителей не хватает, что в той школе, куда направляют Ветлугина, никогда не было преподавателя русского языка и литературы с высшим образованием, на все лады расхваливали село, пообещали две ставки, приличную квартиру и прочие блага.
Все это было заманчиво, но сейчас, стоя на солнцепеке, Ветлугин искренне жалел, что не отвертелся от работы в Хабаровском крае. Он мог бы сослаться на фронтовое ранение: в груди до сих пор сидел малюсенький осколок, вызывающий временами сильную боль. Врачи обследовали Ветлугина часто и дотошно, но удалить осколок почему-то не предлагали. Вместо этого делали профилактические уколы, велели носить при себе обезболивающие таблетки, запретили курить, напоминали, что он не должен поднимать тяжести, бегать, одним словом, переутомляться. Ветлугин понимал: осколок их очень тревожит. Во время приступов, покрывшись горячим потом, он кричал от боли; когда боль стихала, лежал обессиленный, чувствуя, как остывает пот и стягивается кожа.
Предаваться грустным размышлениям помешал мужчина — на этот раз он резво сбежал с крыльца; его волосы подсохли, торчали как иголки.
— Виноват, — сказал он, подойдя к Ветлугину. — Планочка в коридоре отскочила — пришлось молоточком постучать.
— Жарко, — пожаловался Ветлугин.
— Жарко, — согласился мужчина. С неожиданной легкостью приподнял ящик, повелительно крикнул: — С другого конца хватайте!
Бессонная ночь доконала Ветлугина. Он нагнулся, просунул под дно ящика пальцы, напрягся и сразу почувствовал — кольнул осколок и гнутся колени.
— Полегоньку, полегоньку, — прохрипел мужчина и, оглядываясь, стал пятиться.
Ветлугин сделал два шага.
— Передохнем!
Мужчина опустил ящик, удивленно посмотрел на Ветлугина.
— Чего там?
— Книги.
— Пособия?
— Художественная литература.
— Это хорошо! В школьной библиотеке книжек мало.
Ветлугин хотел сказать, что не собирается снабжать своими книгами желающих читать, но промолчал. Отдышавшись, подумал: кто этот человек? На директора школы он не походил. Во время педагогической практики Ветлугин часто встречался с директорами московских школ, в его сознании утвердился образ директора: хорошие манеры, интеллигентное лицо. «Завхоз или сторож», — решил он.
— Четвертый год директорствую, — сказал мужчина, и Ветлугин понял, что поспешил с выводами…
Василий Иванович Батин, директор школы, преподавал физкультуру. В отличие от многих своих коллег, он не считал этот предмет самым главным, хотя на уроках частенько утверждал обратное. Василий Иванович прекрасно понимал, что литература и математика важней; дальше шли история, география, естествознание, иностранный язык, а потом уж все остальное — физкультура, пение, рисование. Среди трех последних предметов он на первое место, разумеется, ставил физкультуру. На конференциях и методических совещаниях с удовольствием выслушивал рассуждения преподавателей физкультуры, заявлявших, что их предмет самый нужный, сам выступал в том же духе, после удивлялся — и как только повернулся язык сказать, что физкультура важней математики, литературы, истории и всего прочего? Педагогического образования Василий Иванович не имел, в молодости был боксером-перворазрядником в самом легком весе — «весе пера». Это определило его дальнейшую судьбу. До войны он работал в городском комитете Осоавиахима, в сорок первом году стал инструктором в учебном подразделении особого назначения. На фронт Василий Иванович так и не попал. «А мог бы попасть!» — жестко подумал Ветлугин, когда директор сообщил об этом. Как и все фронтовики, он, Ветлугин, с почтением относился к людям, которые все четыре года пробыли на передовой, «отдыхали» только в медсанбатах и госпиталях, настороженно слушал тех, кто, не нюхнув пороха, сравнивал тыл с фронтом.
— Демобилизовался в сорок пятом, — продолжал Василий Иванович. — Сразу сюда приехал — я ведь местный. До войны эта школа начальной была, потом восьмилеткой стала, теперь мы… — Он выделил слово «мы», многозначительно помолчал и отчеканил: — Де-ся-ти-летка!
В краевом отделе народного образования Ветлугину сказали, что десятый класс в этой школе будет только через год, а в девятом всего десять учеников.
— Одиннадцать, — поправил Василий Иванович. И добавил: — Я вас вечером ждал. Думал, переждете жару в райцентре и приедете.
— Разве вам сообщили, что я приезжаю?
— Конечно, сообщили. Телефонная связь у нас безотказная, хотя и некруглосуточная. Утром линия свободна и после девятнадцати ноль-ноль.
Василий Иванович был очень доволен, узнав, что в школе будет работать москвич. Всю свою жизнь он провел на Дальнем Востоке, никогда не встречался с москвичами, и любой столичный житель, а учитель тем более, представлялся ему не таким, каким оказался Ветлугин. Если бы Василия Ивановича попросили нарисовать словесный портрет москвича, то он, вероятней всего, пустился бы в пространные рассуждения, которые в итоге ничего не объяснили бы. Увидев Ветлугина, директор школы удивился — обыкновенный человек, и сразу ощутил что-то похожее на досаду: ожидал одно, а получил другое. Он «раскусил» нового учителя сразу, но с окончательным выводом не торопился и теперь сказал сам себе: «Простоват». Ветлугин, в свою очередь, подумал о Василии Ивановиче то же самое, но вложил в это слово самый прямой смысл.
Дремавшие под крыльцом куры пробудились от голосов — беспокойно вертели головами, барахтались в пыли, поднимая легкие облачка. Из чайной вышел, пошатываясь, мужичок в сапогах, в рубахе навыпуск. Василий Иванович возмущенно плюнул.
— Опять двадцать пять!
— Кто это?
— Есть тут один. Рассоха его фамилия. А прозвище — Нюхало. Но так его только жена называет. В нашем селе всяк выпить не дурак, а этот ненасытный какой-то. Его сын, Колька, в девятом, между прочим, будет учиться. Тоже, доложу вам, фрукт. Недавно стекло в школе раскокал. Пошел я к родителям, а они… — Василий Иванович огорченно махнул рукой. — Давайте-ка лучше ящик втащим!
Ветлугин поплевал на руки, и через несколько минут ящик очутился на крыльце.
В школе было прохладно, пахло прелым деревом. Слева были двери с табличками «Директор», «Завуч», «Учительская», справа — классы. Из расположенного в конце коридора квадратного окна с разбитым стеклом рассеивался свет. Солнечные пятна лежали на широких досках.
— Хотел покрасить, да сурика не достал, — пожаловался Василий Иванович, показав взглядом на пол. — Деньги нам на ремонт отпущены, однако в районе, на складе, даже хороших гвоздей нету. Пришлось свои принести, когда крыльцо починял. У спекулянтов все можно добыть, только они, паразиты, счетов не дают. А главный бухгалтер районо никаким распискам не верит — счета с печатями подавай и — точка!
Ветлугин слушал директора вполуха, наслаждался прохладой, мысленно проходил с портфелем по школьным коридорам, спрашивал себя, сколько километров — туда-сюда — придется отмахать ему в этих стенах.
— Завтра вас на квартиру определю, — сказал Василий Иванович. — А пока ко мне прошу — откушать и переночевать.
— Прямо сейчас на квартиру нельзя? — Ветлугину не терпелось выложить книги, повесить на плечики новый костюм, в котором он решил ходить на работу.
— Сегодня никак. В школьной машине мотор разобрали, а на руках вашу поклажу, — Василий Иванович ткнул пальцем в направлении крыльца, где остался ящик с книгами, — не донесешь.
— Неужели школа даже машину имеет? — удивился Ветлугин.
— Полуторка у нас. В позапрошлом году ее списали, хотели на свалку отправить, но я уговорил районные власти школе отдать. Полгода вместе с шофером в моторе копался. — Директор помолчал и с гордостью добавил: — Даже в колхозе машины нет — только у нас!
Ветлугин решил побольше узнать о своем жилье.
— Наверное, в школьном доме буду жить?
Василий Иванович помолчал, обдумывая ответ.
— Школьный дом двум незамужним учительницам отдан. На частной квартире место вам приготовлено. Далековато от школы, но дом чистый и комната большая.
— Детей много?
— Четверо. Хозяйка — приезжая.
— Приезжая?
Василий Иванович кивнул.
— Про бандеровцев слышали?
— Еще бы!
— Ее муж, говорят, до сих пор в бункере скрывается. Таких в нашем селе сто семей. Третий год с ними соседствуем.
— И никаких эксцессов?
— Чего?
— Не шалят, спрашиваю?
Василий Иванович сузил глаза.
— У нас не пошалишь. Почти все село — промысловики. Я тоже ружьишко имею. В свободное время люблю, грешным делом, по тайге побродить. Сами-то не увлекаетесь?
— Нет. Вряд ли смогу убить животное или птицу.
— Че-пу-ха! На войне были. Значит, и стреляли, и убивали.
— Война совсем другое дело, — возразил Ветлугин.
Василий Иванович помолчал и сказал:
— Нам без охоты никак нельзя. Во время войны мои односельчане не очень-то бедствовали — тайга корм давала.
— Там, — Ветлугин сделал неопределенный жест, — голодновато было.
— Даже в Москве?
— Бесперебойно только хлеб выдавали.
— А у нас с ним до сих пор морока. — Василий Иванович кашлянул и сразу добавил: — Но учителей это не касается! Через день по буханке выдают: такое распоряжение оттуда, — он ткнул пальцем в потолок, — поступило.
Уже были отменены карточки. Москва снабжалась продовольствием — грех жаловаться, а на периферии — Ветлугин убедился в этом, пока ехал, — не хватало ни хлеба, ни мяса, ни сахара. На станциях к вагону-ресторану подбегали люди, нарасхват покупали вафли, черствые булочки, консервы. Еще в поезде Ветлугин понял, что директор вагона-ресторана и официантки живут по-царски: он был похож на борова, а они носили дорогие серьги и кольца.
— С другими продуктами как?
— С голоду не помрете, — обнадежил Василий Иванович. — Обедать в чайной можно, а к хлебу будете прикупать молочко, яички. Он помолчал и добавил: — Но если откровенно, хреновато у нас и с продуктами, и с промтоварами. Мы, местные, в сельмаге только соль, табак и вино берем — с приусадебных участков кормимся. Ну и, конечно, тайга.
Солнечные пятна переместились на выбеленную известью стену. Директор покосился на разбитое окно, подергал двери и, убедившись, что они заперты, сказал:
— Пошли!
2
В краевом отделе народного образования утверждали, что село это большое. Но Ветлугин даже не представлял, что оно такое огромное. Шел и удивлялся.
— Шестьсот пятьдесят дворов! — похвастал Василий Иванович. — Из конца в конец, прикидывал, километров семь будет.
— Разве это расстояние не подсчитано?
— Кому это нужно? Места привольные — стройся где хочешь.
Правление колхоза, сельсовет, медпункт, чайная, сельмаг, клуб, почта, сберкасса были расположены на большаке — главной улице села. Названия она не имела, как, впрочем, и все другие улицы, переулки, тупички. Василий Иванович жил в той части села, где речка, обогнув сопку, разливалась, спокойно текла в широкой пойме, вся в солнечных бликах. К ней спускались огороды: ласково светились розовые бока помидоров, капуста раскинула похожие на лопухи листья.
— А садов нет, — подумал вслух Ветлугин.
— Не плодоносят, — нехотя объяснил Василий Иванович. — До войны разводили, но пришлось вырубить. А ягодники — малинка, крыжовник — имеются. Иногда родят, иногда нет.
На берегу, словно маленькие дзоты, темнели баньки.
— Сейчас велю истопить, — сказал Василий Иванович.
Ветлугин подумал: «От жары и так спасенья нет».
— В речке искупаюсь.
— Только пыль смоете.
В крестьянских банях Ветлугин мылся раза три или четыре. Никакого удовольствия не получил: жарко, душно, угарно, да и воды маловато.
— К речке пойду! — твердо сказал он.
— Как желаете.
Директорская изба — солидная, в четыре окна, — выделялась среди других своей неухоженностью: ставни скособочены, плетень расшатан, калитку, чтобы открыть, пришлось приподнять.
— Все недосуг, — сказал Василий Иванович. — С утра до вечера в школе.
Анна Григорьевна, хозяйка дома, прежде чем подать Ветлугину руку, торопливо вытерла ее о фартук.
— Мне уже сообщили, что вы приехали. В нашем селе новости быстро расходятся.
Ветлугин удивился, когда выяснилось, что эта грузная, почти квадратная женщина с широкоскулым лицом крестьянки тоже учительница.
— Зоологию и ботанику преподаю, — подтвердила Анна Григорьевна.
Явно сконфуженная, она прошлась, а точнее, прокатилась по комнате, поправляя на ходу вышивки — на пузатеньком комоде, протертом диване. Ветлугин тоже смутился, сказал, что в детстве очень любил ботанику, даже гербарии собирал. Анна Григорьевна оживилась, стала рассказывать про цветы и травы, которые встречаются только в этих местах. От волнения она раскраснелась, дышала тяжело. Василий Иванович сдвинул брови, сердито прогудел:
— Зарядку тебе, мать, делать надо. Сколько раз про это говорено было.
— Еще что-нибудь выдумай! — возразила Анна Григорьевна. Повернувшись к Ветлугину, объяснила: — Как встанешь утром, так и начнешь крутиться: то надо, это надо. Вот она, зарядка-то! Потом школа. Вечером все сызнова: огород, корова. Раньше тяжелее было. Теперь сын подрос — помогает по хозяйству. А от него, — она показала на мужа, — никакой пользы. Который месяц прошу калитку починить…
— Это и Петька сумеет, — проворчал Василий Иванович.
— А топор и молоток где? Все инструменты в школу уволок.
— Завтра принесу, — пообещал Василий Иванович и торжественно провозгласил, кивнув на несмело появившегося в комнате паренька: — А вот и он самый — наш Петька!
Ветлугин посмотрел — лопоухий, с веснушками, чем-то похожий на мать, а чем-то — на отца.
— В девятом будет учиться, — сказала Анна Григорьевна.
Ветлугин хотел протянуть Петьке руку, но вспомнил наставления преподавателей педагогики («Никакого панибратства с учениками!») и ограничился кивком.
— Надеюсь, по литературе будешь учиться хорошо?
— У него к математике склонность, — сказала Анна Григорьевна. — В диктантах и изложениях ошибки делает.
Ветлугин и сам грешил этим. В затруднительных случаях листал орфографический словарь, на семинарах по современному русскому языку часто краснел. Если бы не грамматика, он получил бы диплом с отличием.
— С грамотностью в нашей школе слабовато, — посетовал Василий Иванович. — На предпоследнем месте в районе. Еще в позапрошлом году просил словесника прислать, но меня только обещаниями кормили. Теперь, в смысле грамотности, мы на какое-нибудь другое место передвинемся, поближе к первому. Верно, Алексей Николаевич?
Ветлугину было двадцать три года. На фронте и в госпитале его называли Лехой, а еще чаще по фамилии. Лишь на третьем курсе института, во время практики, к нему впервые обратились по имени-отчеству. Он продолжал тыкать сокурсникам, называл их, как и раньше, по имени и сконфузился, когда директор школы, где была практика, строго сказал:
— В педагогическом коллективе нет ни Вань, ни Мань. И обращаться друг к другу надо только на «вы».
— Почему? — поинтересовался Ветлугин.
— Так надо! — А почему «так надо», директор не растолковал.
Ветлугин улыбался, когда студенты и учителя с очень серьезным видом называли Марией Антоновной коротышку Маню, никак не мог заставить себя обратиться по имени-отчеству к беспечному Игорю, превратившемуся вдруг в Игоря Валерьяновича, даже староста их группы, чопорная и педантичная, осталась для него просто Верой. Он думал, что после практики ребята перестанут валять дурака, но они уже почувствовали себя без пяти минут учителями, очень сердились, когда к ним обращались на «ты» и называли просто по имени.
Закадычного друга у Ветлугина не было. Сокурсники казались ему сопляками, хотя были моложе всего на два года.
Но именно эти два года возвышали его в собственных глазах, позволяли считать себя все повидавшим и все испытавшим: он провел их в армии — на фронте и в госпитале. Любой поступок сокурсников, любое их слово Ветлугин сравнивал с поступками и словами своих однополчан — тех, кому передавал, сделав затяжку, обмусоленный чинарик с последней щепоткой махорки, с кем ругался до хрипоты, вспоминал мирную жизнь, мечтал о возвращении домой.
Пять лет назад, очнувшись после атаки в медсанбате, Ветлугин и не подозревал, что война для него уже кончилась. Ничего не болело — только была страшная слабость, и он, убедившись, что руки-ноги целы, подумал: «Полежу месячишко и — назад, в роту». Грудь была туго обмотана бинтами, никак не удавалось сделать полный вдох. Ветлугин подозвал медсестру, попросил ослабить повязку. Она откинула одеяло, потрогала бинты, сказала, что повязка лежит хорошо, правильно, что после легочной операции всегда дышится тяжеловато, посоветовала уснуть.
Хотелось во что бы то ни стало хоть разочек вздохнуть с наслаждением, но в груди, когда Ветлугин набирал в легкие воздух, начинало хлюпать и появлялась боль; казалось: кто-то прикасается к легким острием гвоздя. Боль усиливалась, от недостатка воздуха посинели кончики пальцев. Успокоился Ветлугин только тогда, когда ему принесли подушку с кислородом и сделали укол.
Потом была еще одна операция. Дышать по-прежнему было тяжело — выручала кислородная подушка и уколы. Через несколько дней Ветлугина отправили в эвакогоспиталь, находившийся в центральной части России, в небольшом городе, сильно пострадавшем от оккупации. Размещался этот госпиталь в школе — каменной, четырехэтажной, добротной. С четвертого этажа, где лежал Ветлугин, город был виден как на ладони. На окраинах прижимались один к другому домики с палисадниками и приусадебными участками, по улицам изредка пробегали, взвихривая пыль, грузовики с огромными газогенераторными баллонами по бокам кабин. Уже наступила осень, и жители города, придя с работы, дотемна трудились на приусадебных участках, а утром, чуть свет, отправлялись на фабрику, полностью разрушенную немцами, и теперь, спустя два года после их изгнания, наспех восстановленную.
Рана гноилась. Ветлугина каждый день возили на перевязку. Он чувствовал в себе достаточно силы, чтобы ходить, но врачи даже в туалет вставать не разрешали, и Алексей уже тогда понял — ранение у него не пустячное.
Лежать было тягостно. Оживлялся Ветлугин только в те дни, когда в госпиталь приходили шефы — молоденькие работницы с фабрики. Держались они непринужденно, но уважительно, о своем житье-бытье рассказывали преувеличенно-бодро, однако по тем взглядам, которые они бросали на оставшееся от полдника печенье, Ветлугин понимал: живется этим девчатам совсем не так, как они рассказывают.
Комиссовали его «по чистой» через два месяца после окончания войны. В госпитале Ветлугин стал готовиться к вступительным экзаменам и без всякого труда был принят в пединститут.
3
Жареная картошка оказалась такой вкусной, что Ветлугин попросил добавки.
— Кушайте, Алексей Николаевич, кушайте! — Анна Григорьевна пододвигала к нему тарелки с крупно нарезанной рыбой, в маринаде и соленой, угощала хрустящими огурчиками, розоватыми, сорванными раньше срока помидорами, сочным лучком и другими дарами со своего обширного огорода, предлагала налить молочка — хоть сырого, хоть топленого.
— Спасибо, спасибо, — то и дело повторял Ветлугин.
— В ближайшие дни в тайгу съездим, — пообещал Василий Иванович. Он разомлел от браги — в графине осталось на донышке, сидел по-домашнему, в одной майке, облегавшей мускулистую грудь, утирал перекинутым через плечо полотенцем обильный пот. — Голубика поспела — самое время собирать. — Обратившись к жене, спросил: — Две бочки нам хватит?
Анна Григорьевна уперла локоть в ладонь, приложила к щеке палец.
— Должно хватить.
— Голубики тут тьма и вся крупная, — сообщил Василий Иванович. Ему нравилось, что москвич слушает его с вниманием и как будто с восхищением. Так его слушали, когда он работал в Осоавиахиме и был инструктором в части особого назначения, сокращенно «осназ». То же самое происходило и в школе: педсовет лишь утверждал то, что было обдумано и спланировано им, директором школы.
Послышались женские голоса. Василий Иванович схватил рубашку, поспешно влез в нее.
— Должно, с почты, — предположила Анна Григорьевна. — К телефону вызывают или депеша пришла.
— Можно? — В комнате появились две девушки. Одна из них — розовощекая толстушка с фарфоровыми глазами, безвольным подбородком, мякенькая, пухленькая — кинула на Ветлугина откровенно смелый взгляд и, обратившись к Василию Ивановичу, начала тараторить; другая — статная, тонкая, с капризно изломленным ртом — неторопливо перебирала переброшенную на грудь каштановую косу, пушистую и легкую. Она тоже посмотрела на Ветлугина, но — он мог побожиться — без интереса.
На толстушку Ветлугин взглянул мельком. Ее подруга понравилась ему, особенно глаза — темные, как бы затуманенные печалью. Лицо у нее было белое, слегка удлиненное, нос чуть вздернутый.
Бойко посматривая на Ветлугина, толстушка продолжала тараторить.
— Ничего не понимаю! — отрывисто сказал Василий Иванович.
Толстушка смолкла на полуслове, обиженно поморгала; реснички у нее были белесые, короткие.
— Она утверждает, что окно не Рассоха разбил. — Голос у темноглазой девушки оказался глуховатый, с хрипотцой, и Ветлугин удивленно подумал: «И как ее угораздило простудиться в такую жару?»
Василий Иванович кинул взгляд на толстушку, усмехнулся.
— Это потом обсудим. А пока что познакомьтесь с новым учителем.
— Валентина Петровна, — назвала себя толстушка и протянула Ветлугину ныряющим движением руку с плотно сомкнутыми пальцами.
— Очень приятно, — сказал Ветлугин и перевел взгляд на ее подругу.
Та вяло ответила на рукопожатие, неразборчиво пробормотала свое имя.
— Как? — переспросил Ветлугин.
Она холодно посмотрела на него, произнесла по складам:
— Ла-ри-са Сер-ге-ев-на!
Анна Григорьевна неожиданно улыбнулась, погрозила Валентине Петровне пальцем.
— Признайся, Валь, разбитое стекло — только предлог. С новым учителем не терпелось познакомиться?
Валентина Петровна хихикнула.
— Выдь! — скомандовал сыну Василий Иванович.
Петька молча встал и вышел. Ветлугин подумал, что так, наверное, мальчишку выпроваживают часто. Как только шаги стихли, Батин напустился на жену:
— Сколько раз говорено было — не тыкай при парне учителям и называй их как положено!
Анна Григорьевна пригласила девушек к столу.
— Спасибо, — сказала Лариса Сергеевна. — Только что отобедали. Валентина Петровна окрошку приготовила.
— Квасок сами делали? — заинтересовалась Анна Григорьевна.
— Конечно, сами.
— Рецептик дайте.
— Запишите.
Анна Григорьевна подкатилась к комоду, достала тетрадь в помятой обложке.
— Диктуйте!
Заглядывая ей через плечо, Валентина Петровна продиктовала рецепт. Слова она произносила теперь четко, как на уроке, и Ветлугин с невольным уважением подумал, что эта толстушка, должно быть, неплохая учительница.
Анна Григорьевна уговорила девушек остаться, сказала мужу:
— Петьку верни.
Василий Иванович открыл дверь, покричал сына.
Поначалу присутствие девушек сковывало Ветлугина. Но он скоро освоился, исподтишка стал поглядывать на Ларису Сергеевну. Она не обращала ни него никакого внимания, и это огорчало. Хотелось пробудить к себе хоть какой-то интерес, но как это сделать, Ветлугин не знал. Продолжая делать вид, что он внимательно слушает директора, улыбаясь хозяйке дома, отвечая на игривые вопросы Валентины Петровны, Ветлугин мысленно говорил красивой учительнице: «Посмотри же на меня. Хоть разочек посмотри!» Загадал: если Лариса Сергеевна кинет на него взгляд или — вот была бы радость! — улыбнется, то они станут друзьями. О большем Ветлугин пока и думать не смел.
Валентина Петровна уже давно вела себя так, словно Ветлугин был ее давнишним знакомым, хотя и обращалась к нему — видимо, сказывалась выучка Василия Ивановича — на «вы» и только по имени-отчеству. Ее розовые щечки стали похожими на бутоны, фарфоровые глаза то изумленно округлялись, то начинали искриться, над верхней губой появились крохотные капельки пота; она слизывала его кончиком язычка. Бойко посматривая на Ветлугина, часто просила передать ей то тарелку с рыбой, то еще что-нибудь — Валентина Петровна, судя по всему, любила вкусно покушать. Лариса Сергеевна положила себе маленький-маленький кусочек соленой кеты и не проронила ни слова, несмотря на то что Василий Иванович и Анна Григорьевна старались втянуть ее в общий разговор. Сидела она непринужденно, кивала или покачивала головой, когда к ней обращались, но ее мысли — так показалось Ветлугину — были где-то далеко-далеко, и он с неожиданно пробудившейся обидой решил, что красивая учительница, должно быть, вспоминает сейчас своего жениха, который или служит в армии, или учится в вузе.
Лицо Василия Ивановича раскраснелось, сплющенный нос с облупившейся кожицей распух, лоснился от пота.
— Скоро учебный год, — вздохнул он, — а дел, дел разных. Даже в классах не прибрано. Надо будет родителей созвать — на воскресник.
— В это воскресенье не получится, — сказала Валентина Петровна.
— Почему?
— Церковный праздник.
— Черт побрал бы этого попа! — взорвался Василий Иванович и, повернувшись к Ветлугину, пояснил: — Дальневосточники к религии равнодушны. Ни в бога, ни в черта не верим. До революции поп в нашем селе хуже всех жил: сам пахал, сам сеял, сам картошку копал. Бывало, заглянешь в церковь — с десяток старух.
— Больше, — возразила Анна Григорьевна.
Василий Иванович энергично помотал головой.
— Сам это помню.
Жена вяло махнула рукой. Директор нахмурился, ворчливо сказал:
— Разбаловался народ. Я вот так рот раззявил, — он показал при помощи рук, как удивился, — когда узнал, что поп прибывает. Поначалу решил — пустозвонство, потом подумал — вредительство. В район поехал, часа три толковал с начальством, но — безрезультатно. До сих пор понять не могу, какая необходимость в этой самой церкви?
— Свобода совести, — сказал Ветлугин. — Так в нашей Конституции записано.
Василий Иванович хмыкнул.
— Записать все можно.
Ветлугин перевел на него вопросительный взгляд. Директор чуть подумал и отчеканил:
— От каждого мероприятия прок должен быть, а от церкви — никакой… Вот уже год этот самый поп в нашем селе живет: покойников отпевает, детишек крестит, венчает. Старикам и старухам это, наверное, утеха, но ведь он и других людей совращает. Недавно одна молодуха ребенка крестила. Ее, конечно, за это по головке не погладили, а поп взял и написал в крайисполком. Председателю сельсовета внушение сделали. Тогда я сам потолковал с попом. Молодой он, да ранний! Отвечал смело, ленинский декрет, как стих, пересказал.
Анна Григорьевна задумчиво улыбнулась.
— Несколько раз видела его — симпатичный.
— Вот-вот, — подхватил Василий Иванович. — Несознательные женщины поглазеть на попа ходят. А все с пустяков начинается: сперва поглазеют, потом перекрестятся, и пошло-поехало.
— Отец Никодим добрый и умный! — неожиданно сказала Лариса Сергеевна.
Василий Иванович встревоженно помигал.
— Откуда вам известно это?
— Так все говорят.
— Не ожидал, не ожидал… Мы, учителя, обязаны помнить: религия — опиум для народа.
Ветлугин перевел взгляд на Ларису Сергеевну. Ее лицо было бесстрастным.
4
Ветлугина поместили в комнате, которую Анна Григорьевна назвала «холодной». Вход в нее был из сеней. Кроме узкой железной кровати с набитым сеном тюфяком, расшатанного стола и табуретки, никакой другой мебели там не было. На стене висели пучки лекарственных трав, пахло мятой, полынью. Из небольшого, затемненного паутиной окна был виден амбарчик с воротцами, скрепленными металлическими полосами на болтах, собачья конура, косматый пес на цепи, полого спускавшийся к цепи огород. Над речкой висел туман — жиденький, почти прозрачный.
— Не обессудьте, Алексей Николаевич, — сказала, войдя с одеялом и подушкой, Анна Григорьевна, — но простыночка всего одна, да и та ветхенькая.
— Обойдусь, обойдусь, — пробормотал Ветлугин, очень смущенный вниманием хозяйки.
Несмотря на его протесты, Анна Григорьевна сама приготовила постель — напоследок пышно взбила подушку в яркой, цветной наволочке. Спросила:
— Прямо сейчас ляжете или прогуляться пойдете?
От браги и усталости разламывалась голова. Ветлугин сказал, что будет спать. Директорша пожелала ему спокойной ночи и ушла.
Ветлугин лег, долго вертелся — сон не приходил. Вспомнилась почему-то Лариса Сергеевна. После стычки с директором она сразу же ушла. А Валентина Петровна еще сидела — вскидывала на Ветлугина глаза, беспричинно хихикала; под простеньким ситцевым платьем, когда она откидывалась на спинку стула, обозначалась грудь. «Должно быть, такая же мяконькая, как она сама», — решил Ветлугин и вздохнул. Ему очень хотелось любить и быть любимым, но все свидания с девушками, поначалу такие восхитительные, приносили разочарование: то на него смотрели как на мужчину, то требовали сперва расписаться, потом уж лезть с поцелуями.
С тех пор как Ветлугин поступил в институт, он постоянно сравнивал всех людей с литературными персонажами и сейчас решил, что Василий Иванович пока никого не напоминает, Анна Григорьевна, пожалуй, похожа чуть-чуть на Пульхерию Ивановну, Валентина Петровна — самая обыкновенная простушка, каких тысячи, а Лариса Сергеевна конечно же блоковская Незнакомка. Было приятно думать о ней, мечтать. Ветлугину показалось, что он уже влюбился в эту красивую девушку, хотя они даже не поговорили. Узнал только, что она, как и Валентина Петровна, работает в начальных классах.
5
Оставшись в длинных — ниже колен — трусах, Василий Иванович почесал грудь, с удовольствием пошевелил пальцами волосатых ног. Анна Григорьевна распустила волосы, запахнула халатик, пряча от мужа дряблый живот.
— Ложиться будем или посидим?
— Как посвежеет, так и ляжем. — Василий Иванович помолчал. — Все прикидываю — останется Алексей Николаевич в нашем селе или деру даст? Москвичи, я слышал, народ балованный: то им не так, это не этак. К водопроводу приучены, к электричеству, а у нас во всем селе только в школе движок, да и тот барахлит.
— В тридцать пятом году поставлен, — напомнила Анна Григорьевна.
— Давно пора сменить! — подхватил Василий Иванович. — А новый где взять? В районо посмеиваются, когда я про новый движок спрашиваю.
— Перебьемся.
— Который год так говорим, а он все хуже и хуже тянет. — Василий Иванович снова помолчал. — Голову ломаю, где новое стекло добыть. Придется, видимо, штрафовать Колькиных родителей.
— Рассохи бедно живут, — напомнила Анна Григорьевна.
— А почему? — Василий Иванович возмущенно повысил голос. — Она чуть что — к попу, а он — в чайную или в сельмаг.
В комнате было жарко, душно. Анна Григорьевна убрала с подоконника герань, чтобы лучше продувало, но и это не принесло прохлады.
— Дождь нужен.
— Нужен, — согласился Василий Иванович. — На капустных листьях черви появились.
— Гусеницы, — поправила Анна Григорьевна.
— Ползают, сволочи. Как бы нам без щей не остаться.
— Завтра опрыскивать буду. Помог бы.
— Поставлю москвича на квартиру и помогу.
Анна Григорьевна неожиданно рассмеялась.
— Заметил, как Валька на него поглядывала?
Василий Иванович поморщился. Он всегда морщился, когда жена называла учителей панибратски, словно близких подруг.
— Замуж хочет.
— Я тоже про это думала, когда молодой была.
Василий Иванович усмехнулся, покровительственно сказал:
— Все женщины к этому стремятся.
— Так, да не совсем, — рассудительно возразила Анна Григорьевна. — Лариска с бухты-барахты замуж не выскочит.
— Больно много понимает о себе.
— Красивая — вот и понимает. Алексей Николаевич это вмиг сообразил. Все старался образованность свою показать, да не удалось.
— Понравился он ей?
— Скрытная она.
«Скрытная», — молча согласился Василий Иванович и мысленно пробежал глазами анкету молодой учительницы. Придраться было не к чему: мать — бухгалтер, отец — инвалид второй группы, брат служил в армии, в первые дни войны пропал без вести. И все же Батин ощутил какое-то беспокойство. А почему оно возникло, не мог понять: слова Ларисы Сергеевны о попе не воспринял всерьез, свое недовольство выразил просто так, для порядка. Подумал и сказал:
— Кабы поладили они. Тогда можно было бы не тревожиться, что он удерет. Детишки пойдут и все прочее. Женатому человеку с насиженного места непросто сдвинуться. Годика три поработал бы, потом, глядишь, в директора выдвинулся бы.
— А тебя куда?
Василий Иванович кашлянул:
— В районо уже косятся: директор, а без диплома. Возьмут и скинут.
— Что ты, что ты, — разволновалась Анна Григорьевна. — Другого такого директора не найти. Сколько раз нашу школу похвальными грамотами-то награждали?
— Шесть раз.
— А ты говоришь — скинут.
Анна Григорьевна считала мужа хорошим директором, восхищалась им, как восхищалась в молодости, когда Василий Иванович был боксером. Щупловатый юноша, почти мальчишка, во время поединка с мастером спорта покорил ее своим бесстрашием. Молодые люди познакомились, стали встречаться. В первое время Анну Григорьевну, тогда просто Аню, студентку педучилища, смущал рост ухажера: сама она была выше и склонна к полноте. Вскоре они поженились. Родив сына, Анна Григорьевна раздалась еще больше. Рожала она часто, но младенцы умирали, не прожив и месяца; с каждым годом толстела — даже голодноватые военные годы не сказались на ней. Весной ей стукнуло тридцать восемь лет — столько же, сколько и мужу. Но выглядела Анна Григорьевна старше его: хозяйство, роды, то да се. Василий Иванович «держал форму», даже намека на животик не было: только волосы посеребрились на висках — первый признак уже недалекой старости.
В соседнем дворе прокричал петух. Ему ответил другой, третий.
— Пора, — сказала Анна Григорьевна.
— Нюр? — Василий Иванович любил это имя, часто обращался к жене так, хотя ей самой больше нравилось, когда он называл ее Аней. Она придвинулась. Пружины скрипнули: Василия Ивановича они держали легко, а под грузным телом жены оседали. — Давно собирался сказать тебе — надо нам еще одного ребеночка.
— Только людей насмешим! — воскликнула Анна Григорьевна. — Да и не выживет он — вон сколько сил впустую потрачено.
— Эта выживет, — возразил Василий Иванович, сделав упор на слове «эта», и Анна Григорьевна поняла, что он хочет девочку, представила себя с новорожденной на руках, ощутила нежное, по-особенному пахнущее тельце и подумала, что муж любит детей, что именно поэтому он и согласился стать директором школы, вспомнила, как волновался Василий Иванович, когда приближались роды, как втихомолку плакал на похоронах, и не сказала ему обычного в последние годы: «Смотри, ребятенка не сделай», когда он проявил свойственное всем мужчинам нетерпение.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Дом хозяйки квартиры находился на окраине села. Из тайги сюда забегали козули, кабаны, олени. Иногда животным удавалось скрыться, но еще чаще их шкуры распластывались для просушки, а мясо вялилось или солилось, одним словом, заготовлялось впрок.
В конце улицы была церквушка — маленькая, деревянная, без куполов. Фасад с остроконечной крышей был чуть задвинут, левый придел казался короче правого, в центре возвышалась обшитая тесом звонница с медным, сверкавшим на солнце крестом; в узкие решетчатые окна были вставлены не то картины, не то иконы — в этом Ветлугин не разбирался. Окрашенная в яркий синий цвет, чистенькая, аккуратная, эта церквушка радовала взгляд. За ней виднелся погост — заросшие травой могилы с темными крестами, большей частью покосившимися.
— Тут спокойно, тихо, — сказал Василий Иванович, когда были выгружены все вещи. — Одна беда — церковь рядом. Зато всех богомольцев в лицо будете знать. Это тоже нужно!
А почему это нужно, директор не объяснил.
Дом, в котором предстояло жить Ветлугину, был построен на манер украинской хаты — обмазан глиной и побелен снаружи и внутри. Именно этим отличались дома поселенцев от добротных, сложенных из толстых бревен изб старожилов. Хозяйка — мать четырех детей — родилась и жила под Тернополем, в тихом местечке, расположенном неподалеку от шоссе. В это местечко повадились приходить бандеровцы. Они клянчили, а чаще просто отбирали хлеб, сало и все прочее, на сходках орали о вольной Украине, стращали колхозами, говорили, что скоро начнется новая война, агитировали вступать в их «армию». Поддавшись на уговоры, муж Галины Тарасовны — так хозяйка назвала себя — ушел в лес, хотя его никто не притеснял, никто не обижал.
На проселочных дорогах гремели выстрелы, в селах пылали хаты, на дубах раскачивались изуродованные трупы коммунистов, комсомольцев, милиционеров. В те дни Галина Тарасовна видела мужа только ночью, да и то изредка. Словно вор, пробирался он в родную хату, постучав, как было условлено, в крайнее окно. Потом — исчез. Галина Тарасовна была умной женщиной, не сомневалась, что мужу, если он жив, все равно придется отвечать по всей строгости закона. В местечке все напоминало его, причиняло боль. Именно поэтому, когда в районной газете появилось обращение к желающим переселиться на Дальний Восток, она не стала раздумывать. Так Галина Тарасовна очутилась в Хабаровском крае, в селе, совсем не похожем на утопавшее в садах местечко. Горе преждевременно иссушило и состарило эту женщину. Она жила в Хабаровском крае четвертый год, работала в колхозе. Местные жители говорили по-русски, и очень скоро Галина Тарасовна стала говорить, как они. Лишь хата да рушники на стенах напоминали ей прежнюю жизнь. Она не верила, что когда-нибудь свидится с мужем, да и не очень хотела этого: в пути согрешила, в положенный срок родила белобрысого мальца с голубыми глазенками. Чутье подсказывало: муж не простит. Если бы малец был похож на нее, то она непременно доказала бы, что он — мужнина кровь. А теперь не докажешь — хоть волосы на себе рви.
Обо всем этом Галина Тарасовна рассказала откровенно, с грустной улыбкой. Она уже ничего не скрывала от людей — все самое страшное было позади.
Хата состояла из кухни и двух комнат. Самую просторную Галина Тарасовна отвела Ветлугину. Она охотно взяла постояльца: учителям выдавались дрова и керосин — то, в чем хозяйка постоянно нуждалась. Хата строилась с расчетом на тернопольскую погоду. А тут случались такие морозы, что стены промерзали насквозь. Надо было топить и топить. Поблизости от села валить деревья не разрешали. Для поездки в тайгу требовался транспорт. Колхозных лошадей председатель не давал. Приходилось топить сухостоем и сучьями. Тонкие полешки сгорали как порох, совсем не давали тепла. Керосин привозили редко, отпускали по три литра на семью. Учителям дрова выдавали хорошие и помногу и керосину отпускали — сколько хочешь.
С первых же минут Галина Тарасовна стала ублажать Ветлугина: то и дело стучала в дверь, певуче спрашивала, не надо ли чего.
— Спасибо, спасибо, — отвечал он, растроганный вниманием хозяйки.
Не терпелось распаковать чемоданы, выложить книги. Галина Тарасовна позвала соседа. Расторопный мужичок быстро соорудил незатейливый стеллаж: две доски по бокам, пять поперек, на углах дощечки, чтобы оно — так сказал он — не вихляло.
Расставив книги, Ветлугин вогнал в стену гвоздь, повесил костюм. Снял с пиджака пушинку, обеспокоенно подумал: «Лишь бы первого сентября такой сумасшедшей жары не было».
В хате было сносно: глинобитные стены, видимо, обладали жаропонижающим свойством. Маленькие окна с цветами на подоконниках плохо пропускали свет, в комнате было темновато, но стол освещался нормально. Выскобленные половицы еще сохраняли влагу, на потолке, до которого можно было дотянуться рукой, сквозь побелку проступали балки, матрац на самодельном топчане пахнул свежим сеном. Ветлугин вынул постельное белье, подушку, одеяло. С устройством на новом месте было покончено! Галина Тарасовна насыпала ему жареных, еще тепловатых семечек, и он, расположившись около хаты на лавочке, стал неумело лузгать их.
Улица была широкая, с полузаросшей колеей посередине. Справа и слева темнели тропинки. Дома стояли просторно, приусадебные участки разделялись неглубокими канавками. На крыльце нарядного домика с голубыми ставнями длинноволосый мужчина с рыжеватой бородой, в черном подряснике, в полотняном картузе с поломанным козырьком кормил кур. Чувствовалось, это доставляет ему удовольствие: он приседал, ласково подзывал хохлаток.
— Здешний поп, — сказала Галина Тарасовна.
— Вы верующая?
— Раньше верила. — Хозяйка усмехнулась.
Дом священника, маленький и скромный, как и церквушка, тоже понравился Ветлугину, но он стыдился признаться в этом себе, потому что считал: все, что имеет отношение к религии, вредно, недостойно внимания. В его семье никогда не говорили ни о боге, ни о Христе, он с ранних лет усвоил: попы — обманщики, а церковь — мрак. Подражая своим сверстникам, с упоением кричал во дворе: «Гром гремит, земля трясется, поп на курице несется, попадья идет пешком, чешет… гребешком!» Позже, пристрастившись к книгам, пробегал глазами страницы, где говорилось о боге, Христе, описывались церковные обряды, сочувствовал тем персонажам, которые после долгих колебаний, душевных мук порывали с церковью; в их судьбах, подчас трагических, видел одно — торжество атеизма. И сейчас, поглядывая на молодого батюшку, Ветлугин с неприязнью думал, что этот человек — обманщик и, видимо, пройдоха, что размахивать кадилом и отпевать покойников даже дурак сумеет.
Когда семечки кончились и чуть спала жара, Ветлугин решил прогуляться — пошел на лужок. Проходя мимо дома священника, не удержавшись, повернул голову. Встретился со взглядом попа, сразу подумал: «Напоминает кого-то». Замедлил шаги, борясь с искушением обернуться, и не поверил ушам, услышав свою фамилию, произнесенную с вопросительной интонацией.
2
За два года, проведенных на фронте и в госпитале, Ветлугин повидал разных людей — хороших и плохих. Хвастуны, обманщики, себялюбцы были в его понимании плохими, а люди скромные, доброжелательные — хорошими. Чаще других однополчан Ветлугин вспоминал Владимира Галинина — такого же рослого, как и он, парня, с виду спокойного, понимавшего все с полуслова. Был Галинин чертовски красивым — это даже мужчины отмечали, а представительницы слабого пола, особенно разбитные бабенки, провожали его затуманившимися глазами. Да и трудно было не обратить внимание на его лицо — с высоким лбом, породистым носом, выразительными глазами.
В отличие от Галинина, Ветлугин не мог похвастать внешностью. Рост — да, а на лице ничего примечательного: глаза как глаза и губы как губы, а вот нос подвел — широкий и всегда красный, как у выпивохи.
Галинин ни разу не воспользовался женской слабостью, хотя опытные сердцееды и говорили ему: «С тобой любая пойдет — только мигни». Он молча слушал их, и его длинные-предлинные, как у застенчивой красавицы, ресницы трепетали, на чуть впалых щеках, тронутых юношеским пушком, проступал румянец; он торопливо вынимал кисет, сворачивал, просыпая махорку, цигарку и начинал жадно курить, разгоняя дым неторопливым движением руки. Ветлугин смотрел на него и восхищенно думал: «Володька — чистый парень». Он так думал потому, что сам был чист душой и доверчив, как ребенок.
На фронте Галинин и Ветлугин подружились: в их довоенной жизни было много схожего — интеллигентные родители, достаток в доме. И жили они неподалеку друг от друга: Ветлугин в Москве, Галинин в Ярославле. Послевоенное время представлялось им довольно туманно, но ведь даже убеленные сединами отцы семейств пребывали на фронте в радужном плену надежд, не могли предсказать, какой станет мирная жизнь.
Ветлугина однополчане называли бедовым; в их уважении к нему отчетливо проступало обыкновенное любопытство к человеку бойкому, покладистому, словоохотливому. В том внимании, с которым и пожилые, и молодые солдаты слушали Галинина, было что-то иное. В человеке мелком это могло бы пробудить зависть. Ничего похожего ни на фронте, ни в госпитале Ветлугин не испытывал: с Галининым всегда было просто, хорошо. И чем чаще он думал о нем, тем больше убеждался: Галинин был каким-то не таким, слова «не от мира сего» наиболее точно отражают его сущность. И вот теперь они встретились…
Один угол в большой, заставленной мебелью комнате был отведен божнице, в другом возвышался огромный фикус в низенькой кадушке, скрепленной железными обручами. Тлела лампада. Шкафы и кресла были старинные, громоздкие — с завитушками и прочими украшениями на дверцах и спинках. В простенке темнели полки с книгами, около небольшого распятия висела цветная репродукция, изображавшая сидящего под пальмами человека в просторном одеянии: он глядел на облако, с которого кто-то обращался к нему.
В эти минуты Галинин совсем не походил на кроткого и спокойного священника, которого привыкли видеть на улицах села: в его глазах была неподдельная радость, и вел он себя как рубаха-парень. Поняв это, он подумал, что для него, священника, все мирское — грех, что его помыслы должны быть устремлены только к богу. Но размышлять о боге сейчас не хотелось. «Deus! Desecrne causam maem»[1],— мысленно сказал Галинин.
Он повторял это часто и всегда по-латыни, хотя в православном богослужении она не использовалась. Прочитанная в какой-то книге, эта фраза осталась в памяти; бесхитростные слова получали особую торжественность, когда они произносились по-латыни; Галинину казалось, что бог обязательно откликнется на его призыв. И он чувствовал — откликается: с души спадала тяжесть и все непонятное становилось простым, легко объяснимым. Свое истинное отношение к богу Галинин скрывал даже от жены, потому что он то верил, то сомневался, не мог определить, чего в его сердце больше. Хотелось постоянно ощущать то, что он впервые ощутил на фронте, когда — это случилось незадолго до конца войны — надвигавшийся на него немецкий танк внезапно круто свернул, опалив лицо сухим жаром нагретого металла, и широкая гусеница, безжалостно расплющив еще не распустившийся куст шиповника, проскрежетала в нескольких сантиметрах от его распластанного на траве тела… После шока Галинин понял — свершилось чудо. «Чудо, чудо», — благоговейно твердил он, чувствуя во всем теле непривычную для себя легкость. Мысль о свершившемся как о чуде стала крепнуть в его сознании, он старался найти и не находил убедительный ответ, почему это случилось именно с ним, вспоминал, как гибли однополчане, как несколько месяцев назад упал и не поднялся Ветлугин, а он тогда побежал дальше, спрыгнул в немецкий окоп и, напоровшись на фельдфебеля, сбил немца с ног. Позже Галинин понял, что чудо совершилось и с Россией — полуголодной, полураздетой, еще не справившейся с послереволюционной разрухой, одиноко и гордо возвышавшейся среди чуждого ей мира. Великолепно отлаженная военная машина, вобравшая в себя все самое грозное и жестокое, что было создано людьми, оказалась бессильной перед духом народа, отстаивавшего крытые соломой избы, раскисшие от осенней непогоды дороги, никогда не видевшие тракторов поля; города, на окраинах которых поднимались и уже дымили созданные человеческим потом, кровью и энтузиазмом цеха. И Галинин стал думать, что слова «Gott mit uns!»[2]на немецких пряжках оказались лживыми: в этой войне бог был с Россией…
Когда первая радость прошла, когда было сказано все то, что представлялось им самым важным и самым нужным, когда память воскресила фамилии однополчан, погибших и оставшихся в живых, Ветлугин, не скрывая осуждения, сказал:
— И как тебя угораздило? Ты — и вдруг в подряснике! Это просто не укладывается в голове.
Перед глазами Галинина возник надвигавшийся на него танк.
— У каждого своя стезя.
— Мы еще потолкуем об этом!
Танк продолжал надвигаться.
— Напрасный труд, — тихо сказал Галинин.
— Неужели всерьез веришь?
Галинин не ответил, и Ветлугин твердо сказал:
— Сейчас выпьем, потолкуем, и вся блажь с тебя, как пух с одуванчика, слетит.
Танк исчез. Хотелось радоваться и молиться одновременно, в душе было смятение; Галинин поднял на Ветлугина глаза и посмотрел с такой болью, что тот растерялся, перевел взгляд на репродукцию около распятия.
— Ганс Бургкмайр, — объяснил Галинин. — Святой Иоанн Богослов на Патмосе… Читал Апокалипсис?
— Нет. — Ветлугин даже не слышал о такой книге.
— Странно. Можно предположить, что ты и Библию не читал?
— Не читал.
— Странно, странно… Неужели в гуманитарных вузах это, как говорится, «не проходят»?
— И правильно, что «не проходят»! Зачем изучать источник мракобесия?
Галинин посмотрел на Ветлугина с откровенным удивлением.
— Но ведь Библия один из древнейших памятников письменности! Люди, сами того не подозревая, чуть ли не каждый день произносят то, что написано в ней.
— Приведи хоть один пример.
— Изволь. «Не мечите бисер перед свиньями». «Нет пророка в своем отечестве». «Кто не работает, тот не ест». «Камня на камне не оставить». «Построить дом на песке». «Глас вопиющего в пустыне». «Не сотвори себе кумира». «Кто посеет ветер, тот пожнет бурю». «Не ведают, что творят». «Взявший меч от меча и погибнет»… Продолжать?
— Достаточно. — Ветлугину стало стыдно, что он, преподаватель литературы, до сих пор не знал, откуда взяты эти ставшие поговорками изречения. Покосившись на полки с книгами, подумал, что Галинин — человек начитанный, что, разговаривая с ним, можно легко попасть впросак. В душе шевельнулось что-то похожее на отчуждение.
— Если хочешь почитать, то пожалуйста, — сказал Галинин. — У меня есть Библия.
— Как-нибудь в другой раз.
— Воля твоя, — тихо сказал Галинин.
Захотелось поговорить с ним откровенно, как фронтовик с фронтовиком, но Ветлугин решил не торопиться с этим, подошел к книжным полкам, увидел собрания сочинений Достоевского, Тургенева, Чехова, провел пальцем по тисненым корешкам.
— Вот что восторг вызывает! Ты в сравнении со мной Крёз.
Галинин сделал размашистый жест.
— Все, что ты видишь тут, приданое жены. — Постучал в стену, громко позвал: — Лизонька!
Через несколько мгновений в комнате появилась молодая женщина в ситцевом платье с оборками, какие носили много-много лет назад, с большим черепаховым гребнем в рыхлом золотистом пучке. Ее можно было бы назвать интересной, даже красивой, если бы не болезненная бледность на лице. Большие серые глаза остановились на Ветлугине, припухшие губы дрогнули.
— Не пугайся, милая, — мягко сказал Галинин. — Это Ветлугин. Я рассказывал тебе про него, помнишь?
Она виновато улыбнулась, плавным движением руки поправила гребень. Ветлугин невольно подумал, что он очень к лицу ей.
— Моя жена! — В голосе Галинина была гордость. — Матушка, как говорят прихожане.
Ее пожатие было вялым, длинные ресницы трепетали, выдавая внутреннее волнение. Галинин вздохнул, ласково попросил:
— Собери-ка нам что-нибудь.
— Селедочку почищу, малосольных огурчиков принесу, — с готовностью сказала Лиза.
— И это самое. — Галинин оттопырил мизинец, поднял большой палец. Как только жена вышла, пробормотал: — Славная она, беда только — больная.
— Что с ней?
— Туберкулез легких.
Ветлугин сочувственно помолчал.
— Ты давно женат?
— Скоро год… А ты, — Галинин улыбнулся, — как я понимаю, так и не встретил свою Лизу?
«Помнит!» — взволнованно подумал Ветлугин.
На фронте он однажды сказал Галинину, что хочет встретить и полюбить девушку, похожую на героиню из «Дворянского гнезда». Этот роман он перечитывал так часто, что некоторые страницы выучил наизусть. Перехватывало дыхание, когда он повторял про себя: «Перебираясь с клироса на клирос, она прошла мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо — и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства… На них можно только указать — и пройти мимо».
Ветлугину не только хотелось полюбить девушку, похожую на Лизу Калитину, но и полюбить так же, как любил Лаврецкий. Это желание, еще не осознанное, появилось в детстве, когда он впервые прочитал «Дворянское гнездо». Под впечатлением открывшейся ему любви несколько дней ходил как во сне, потом стал сравнивать одноклассниц и других школьниц с Лизой Калитиной; сердце сжималось от сладостных предчувствий, когда он находил в той или иной девочке черты героини «Дворянского гнезда». Пролетал час, другой, иногда день или два, и в душе не оставалось ничего, кроме горького осадка. Во время войны, и особенно на фронте, это случалось реже. Обратив внимание на какое-нибудь женское лицо, чаще всего грустное, Ветлугин оборачивался, если шел в строю, и тогда ребята говорили: «Смотри, шею свернешь»; когда же это было на дневке, старался познакомиться с обладательницей печальных глаз, но пока раздумывал, как бы половчее это сделать, к ней причаливал какой-нибудь армейский ловелас, и образ Лизы Калитиной рассыпался как карточный домик. Во всех приглянувшихся ему девушках Ветлугин старался отыскать хоть что-нибудь от Лизы Калитиной, по-детски радовался, если находил это; о том, чтобы встретить точь-в-точь такую же, уже не помышлял. Но воскликнул:
— Пока не нашел, но обязательно найду! Верю, что такие девушки есть.
Сердцеедом Ветлугин не был. Первое увлечение, как, впрочем, и все последующие, он вначале считал настоящей любовью. Страдая и негодуя на себя, вспоминал, как девушка, с которой он познакомился сразу после демобилизации, привела его в укромное местечко — это было в ЦПКиО имени Горького — и там деловито отдалась ему, хотя в тот осенний день он думал только о поцелуях и ласках. Потом, когда Алексей, прижавшись к ней, стал строить планы, мечтать о совместной жизни, она рассмеялась ему прямо в глаза. Он растерялся, спросил, почему она смеется. Девушка ответила, что надо гулять, пока гуляется, а семейная жизнь — ярмо.
После этого они встретились еще несколько раз. Прежнего волнения Ветлугин уже не испытывал, но продолжал — так повелевала совесть — убеждать девушку расписаться с ним: хотел, чтобы она стала его женой, и в то же время боялся ее согласия. Он почувствовал огромное облегчение, хотя и был уязвлен, когда увидел свою пассию с другим.
Ветлугин понимал: его взгляды на отношения между мужчиной и женщиной старомодны, но «перевоспитаться» не мог, да и не хотел: в нем утвердились те моральные устои, которые были еще в детстве почерпнуты из книг, которые одобряла и поощряла мать.
Галинин познал женщину тоже после демобилизации, но, в отличие от Ветлугина, не ощутил ни стыда, ни раскаяния. С той поры его стало тянуть к женщинам, он легко добивался близости с ними.
Продолжая с улыбкой посматривать на Ветлугина, он спросил:
— Хочешь узнать, почему ты восхищен Лизой Калитиной?
— На этот вопрос очень просто ответить, — сказал Ветлугин. — Она красива, добра, отзывчива, чиста душой.
— Все это так. Но есть в ней и другое, более важное.
— Что?
— Лиза Калитина — христианка в самом высоком понимании этого слова. Главное в ней — беспредельная любовь к богу.
— Ничего подобного! — возразил Ветлугин. — Главное в ней то, о чем я уже сказал.
Галинин подошел к книжным полкам, снял какую-то книгу, полистал.
— Послушай, что пишет Тургенев: «Вся проникнутая чувством долга, боязнью оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно».
— Прекрасные строки, — растроганно пробормотал Ветлугин и добавил, что его все же привлекает в Лизе земное, человеческое.
Ему иногда казалось: это только сон. Трудно было представить, что сидит он наяву в комнате, заставленной громоздкой мебелью, с божницей в углу, с каким-то особым запахом, исходящим, казалось, и от мебели, и от божницы, и от Галинина, и от его жены, позвякивавшей в небольшой кухоньке вилками и ножами. Все в этой комнате было непривычным, не таким, как в других домах, где приходилось гостить или ночевать Ветлугину, и он никак не мог понять, нравится ему тут или нет. Не верилось, что сидящий напротив него человек — с еще не очень густой бородкой, впалыми щеками, потупленным взором — тот самый Володька Галинин, с которым он рубал из одного котелка «шрапнель» — хорошо разваренную перловую кашу с лавровым листом и тушенкой, с которым курил — одна затяжка ему, другая Галинину — самокрутку с последней щепоткой махорки. Тогда, на фронте, Галинин и не заикался о боге, был таким же, как все. Ветлугин никогда не считал себя прозорливым, но врожденная интуиция помогала ему сторониться плохих людей и сближаться с хорошими. И теперь он напряженно думал: не провел ли его Галинин как дурачка, не скрыл ли от него черные мысли, мерзкие устремления и все прочее, что проявилось в нем после войны. Ветлугин отлично помнил: Галинин собирался, если останется живым, поступить в гуманитарный вуз. Собирался в вуз, а очутился в духовной семинарии. «Как же это так?» — спрашивал себя Ветлугин и не находил никакого ответа. Галинин уже успел рассказать ему, что после семинарии он был рукоположен в сан священника и… — тут Галинин запнулся, решил изменить имя — стал по паспорту Никодимом. «Вот как! — удивился Ветлугин и добавил: — Для меня ты по-прежнему Володька».
Несмотря на все старания, он не мог покривить душой, не мог сказать, что встреча с однополчанином вызвала лишь одно удивление. Нет, кроме удивления он ощущал и радость. Да и как можно было не радоваться встрече с тем, кто на фронте был твоим закадычным другом, кто понимал тебя с полуслова, а ты понимал его. В эти трудные послевоенные годы немало людей старались всеми правдами и неправдами облегчить свою жизнь, и Ветлугин в упор спросил, не это ли заставило Галинина стать священником.
— Нет! — ответил тот, и прозвучавшая в его голосе твердость убедила Ветлугина, что однополчанин не лжет.
Несколько минут они молчали. Ветлугин вдруг подумал: «Мы вспоминали только курьезное, что было на фронте»; сказал об этом вслух.
Галинин кивнул. Перед его глазами возникли воронки, окопы, лица однополчан, реденький туман над речкой, которую — так утверждало «солдатское радио» — предстояло форсировать вброд; ухо отчетливо уловило позвякивание котелков, тяжкие вздохи, покашливание, в душу хлынули тоска и тревога — то, что наваливалось на него перед каждым боем. Он увидел немецкий танк, услышал скрежет гусениц и содрогнулся. Стараясь не выдать волнения, смиренно опустил глаза, мысленно возблагодарил бога за свое спасение.
— Подумать только, — сказал Ветлугин, — четыре года прошло, а мне все кажется, что мои руки по сей день порохом пахнут.
— В господних заповедях сказано: «Не убий», а люди до сих пор убивают друг друга, — пробормотал Галинин.
— Именно, именно! — воскликнул Ветлугин. — В церковных книгах много всякой чепухи написано.
— По-настоящему церковная книга одна — Библия, — возразил Галинин.
— «Война и мир», «Братья Карамазовы» во сто крат сильней! — не согласился Ветлугин. — В них все — и любовь, и ревность, и страдания, и радость.
Галинин хотел снова возразить, но промолчал. Достал дешевенький портсигар, протянул его Ветлугину.
— Бросил, — сказал тот.
— Ну-у…
— Уже три года не курю.
— А у меня нервишки пошаливают. Затянешься — вроде бы легче.
— Для твоей жены никотин вреден, — предупредил Ветлугин.
Галинин вздохнул.
— Как подумаю о ней, сердце сжимается. Недавно корову купили, чтобы свое молочко было. В общественное стадо нашу животину не берут. Вот и приходится Лизе самой пасти, а это, Алексей, целая проблема. Угодья вокруг колхозные, трава на корню жухнет, а мне косить не разрешают. С недавних пор председатель сельсовета еще несговорчивее стал.
— После того как пожаловался на него?
— Откуда узнал про это?
— Василий Иванович сказал.
— Недавно приходил. Свое гнул, а я возражал. Откровенно говоря, недалеким он мне показался.
Ветлугин дипломатично помолчал.
— Звезд с неба Батин, конечно, не хватает, но линия у него правильная — религия вредна.
Галинин усмехнулся.
— Напрасно усмехаешься, — сухо сказал Ветлугин. — Убежден: в глубине души ты сам прекрасно понимаешь это.
— Все в прошлом. — Галинин помолчал. — Теперь я другой. И хочу, чтобы все люди стали другими — думали бы о боге, жили бы только для него.
— Напрасный труд! — воскликнул Ветлугин. — Такого никогда не было и не будет.
За годы, проведенные в семинарии, Галинин убедился — настоящего атеиста не переубедишь. На стороне атеиста — логика, научные факты. Спорить с Ветлугиным не хотелось — это было бесполезно, но бывший однополчанин ждал, набычившись, словно готовый к схватке борец, и Галинин, достав еще одну папиросу и постучав по крышке портсигара, сказал:
— Все атеисты твердят: разум, разум, разум. И ни слова о душе. А она есть в нас. И очень часто именно она направляет человека. Просвещай людей, передавай им все то, чему тебя научили в институте, а их души оставь мне. Поверь, я тоже хочу людям добра и несу его им в меру своих возможностей и сил. Я еще слишком мало могу, слишком мало умею. Бог покуда не проник в меня так, как этого хотелось бы мне. Я совсем не похож на тех благочестивых старцев, с которыми довелось беседовать в семинарии. Их искренность несомненна. Может быть, когда-нибудь я стану таким же, очень хочу этого. А пока убежден — бог нужен многим-многим людям. Безверие рождает ложь, насилие и все прочее, что еще Максим Горький назвал свинцовыми мерзостями жизни. Я, разумеется, понимаю — сейчас не так уж много тех, кто верит истово, как верили в старину. Но если человек приходит в церковь, если в молитвах он находит успокоение, то пусть будет так.
— «Путь будет так»! — передразнил Ветлугин. — Значит, по-твоему, пусть человек уповает на то, что будет с ним, когда он уйдет в иной мир? Я никогда не поверю, что все твои мысли устремлены только к небу.
Это было правдой, и Галинин, словно схваченный за руку воришка, с отчаянием воскликнул:
— Легко говорить: нет бога, нет души. Но скорбит не разум, а душа. И радуется не разум, а она. Это неразделимо в человеке. Только у одних разума больше, чем души, и наоборот. Я никого не обманывал и не собираюсь обманывать, четыре года назад думал о боге так же, как думаешь сейчас ты, не могу объяснить, как пришел к нему; раньше считал — прозрел внезапно, теперь же все чаще и чаще думаю — это накапливалось постепенно.
— Но ведь что-то послужило толчком! — воскликнул Ветлугин.
Галинин кинул на него быстрый взгляд.
— Угадал.
— Выкладывай!
Продолжая постукивать по крышке портсигара, Галинин подумал, что рассказать все, как было, он не сумеет. Да и не хотелось вспоминать то, что до сих пор вышибало холодный пот и дрожь в теле. Другие гибли, а он нет. Почему? Ведь он не прятался от пуль. Даже наоборот, испытывая судьбу, часто лез на рожон. Надо было что-то объяснить, и Галинин сказал:
— Когда ты в нашу роту прибыл, я уже четыре месяца воевал. Все, с кем на фронт ехал, или убиты, или ранены были, а меня пули и осколки не трогали. Я уже тогда удивлялся, спрашивал себя — в чем причина?
— Просто везло тебе — вот и все! Неужели взаправду думаешь, что где-то там, — Ветлугин сделал выразительный жест, — действительно бог есть?
Галинин помолчал.
— В Евангелии сказано: «Бога никто никогда не видел: если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас».
— Неубедительно!
— Для тебя — нет, для меня — да. Человек не может жить без веры. Ты тоже веруешь, только в другого бога.
— Я?
— Ты! И миллионы таких, как ты. — Галинин снял с полки какой-то журнал, нашел нужную страницу. — Послушай и подумай над тем, что написано тут. — И он прочитал: — «Замечательно, что нет ни одного учения, в котором не обнаруживалась бы потребность религиозного обряда. Потребность религиозного чувства так сильна в человечестве, что и люди, отрицающие религию, рано или поздно склоняются к той или другой, хотя бы смутной и неопределенной, форме религиозного культа, так что в самом отрицании у них бессознательно проявляется стремление к чему-то положительному: нередко случается, что люди, стремясь к очищению отвергнутого верования и обряда, впадают в иное, сочиненное ими верование — сложнее прежнего покинутого, и принимают обряд грубее прежнего, осужденного ими за грубость. Так совершается течение в неисходящем кругу: из христианства вырождается новейшее язычество, с тем, чтобы снова прийти со временем к той же точке, из которой вышло. Люди, отвергнувшие бога и христианство в конце прошлого столетия, сочинили же себе богиню разума. Нет сомнения, что и атеисты нашего времени, если дождутся когда-нибудь до торжества коммуны и до совершенной отмены христианского богослужения, создадут себе какой-нибудь языческий культ, воздвигнут себе или своему идеалу какую-нибудь статую и станут чествовать ее, а других принуждать к тому же»[3].
— Вот ты о ком, — пробормотал Ветлугин.
Галинин усмехнулся.
— Испугался?
— За тебя. Ляпнешь где-нибудь, и никто не спасет.
— Не беспокойся!
3
Кроме селедки, малосольных огурчиков и запотевшей бутылки водки Лиза натащила много другой снеди. Застелила стол скатертью, достала тарелки, вилки, ножи, маленькие рюмки.
— Богато живешь. — Ветлугин почмокал, окидывая взглядом стол.
— Грех жаловаться. Сыт, пьян и нос в табаке.
— Да не слушайте вы его. — Голос у Лизы был тихий, робкий, как и она сама. — Он и десятой доли на себя не тратит. Все лишнее в епархию отсылает и церковному старосте для помощи бедным отдает.
— «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем», — сказал Галинин и пояснил: — Так Христос повелел жить.
— Христос — миф, выдумка!
— У меня другое мнение. Но если даже Христос, как утверждаешь ты, миф, то хвала тем, кто выдумал этот миф. — Переведя взгляд на нахмурившегося однополчанина, Галинин примирительно спросил: — За что выпьем?
— Разумеется, за то, что было.
Они чокнулись, одновременно опрокинули рюмки, поморщились, помотали головами, шумно выдохнули, похрустели малосольными огурчиками.
— Не пристрастился к вину? — Галинин снова потянулся к бутылке.
— По-прежнему не пью.
— А мне теперь часто приходится — на поминках, крестинах, свадьбах.
— Смотри, сопьешься, — в голосе Ветлугина прозвучала тревога.
— От своей судьбы никуда не денешься, — пробормотал Галинин.
Ветлугин повертел в руке рюмку.
— Слушаю тебя и удивляюсь. Ты совсем другим стал.
— Хуже?
— Да!
Лиза сидела на диване и, пока они беседовали, не шевельнулась; было заметно — ей интересно слушать. Галинин ласково посмотрел на жену.
— Тебе, милая, тоже надо покушать.
— Уже.
— Корочку небось пожевала, и все?
— Аппетита нет.
— Беда с тобой, Лизонька!
Было жарко, душно. Выпили они много, но не опьянели. Ветлугина удивляло, даже бесило спокойствие однополчанина, твердость и искренность его суждений. Он никак не мог понять — лукавит Галинин или служение богу стало для него велением сердца, смыслом всей жизни. Ветлугин неожиданно вспомнил: Галинин так и не рассказал, что стряслось с ним на фронте. Внезапно ожесточившись, подумал о Галинине: «Был человеком, а стал…»
В дверь громко постучали.
— Открой, Лизонька, — сказал Галинин.
В комнату стремительно вбежала простоволосая женщина в поношенной юбке, в застиранной кофтенке, с остреньким, как у мыши, лицом. Повалившись в ноги Галинину, протяжно выкрикнула:
— Заступись, батюшка! Директор школы самоуправничает — штраф на нас наложил, хотя и не имеет права на это. Дома шаром покати. Мой Нюхало третий день носа не кажет.
— Встань! — Галинин помог ей подняться.
Ветлугин догадался — Рассоха. Женщина перевела на него взгляд; не тая любопытства, спросила:
— Никак новый учитель?
Ветлугин сдержанно поклонился.
— Построже с моим парнем будьте! Совсем от рук отбился. Школу бросать хочет. А все потому, что директор притесняет. Колька экзамены хорошо сдал, а в девятый Василь Иваныч его не пустил. Пришлось в район съездить.
Присев на кончик стула, Рассоха пожаловалась на своего непутевого мужа, рассказала, сколько у нее детей; она явно старалась вызвать сочувствие, откровенно рассказывала о том, что чаще всего скрывают. Ее речь была быстрой, суетливой, и такими же быстрыми и суетливыми были жесты; интонация все время менялась: то становилась плаксивой, то обретала твердость.
Пообещав все уладить, Галинин стал выпроваживать Рассоху. Она не очень-то хотела уходить: топталась в дверях, кидала взгляды то на Лизу, то на Ветлугина, озабоченно морщила узкий лобик, словно придумывала, что бы еще сказать.
— Ступай, ступай, — нетерпеливо повторял Галинин.
Она юркнула в дверь и снова вернулась.
— Василь Иванычу, батюшка, что передать?
— Сам все сделаю. — Галинин укоризненно покачал головой.
Рассоха виновато мигнула и на этот раз ушла.
— Самая ревностная прихожанка, — сказал Галинин.
— Поздравляю!
— Напрасно смеешься — Галинин помолчал. — Представь, как живется ей: куча детей, муж — горький пьяница. Но самое удивительное, они любят друг друга.
— Брось!
— Я и сам не сразу это понял. А теперь убежден — любят. — Галинин походил по комнате, помолчал. — Не кажется ли тебе, Леха, что этот самый Василий Иванович слишком суров, не всегда справедлив к людям?
— Мне пока рано делать выводы.
— Присмотрись к нему повнимательней. Для него все просто, все ясно, все по полочкам расставлено.
Как только стемнело, Лиза ушла спать. На свет керосиновой лампы летела мошкара. Под потолком метались разбуженные светом мухи. Мерцала лампада. Лики на темных иконах были суровы и строги.
— Завтра придешь? — спросил Галинин.
Ветлугин поскреб переносицу.
— Завтра педсовет.
— Тогда послезавтра приходи.
— Постараюсь.
Галинин понял, что Ветлугин не придет.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Валентина Петровна и Лариса Сергеевна стояли спиной к окну, застя солнечный свет; Анна Григорьевна обмахивалась тетрадкой; несколько учителей тесно сидели на продавленном диване с высокой спинкой; еще одна учительница пришпиливала к стене разграфленный лист с четко написанными фамилиями; Василий Иванович что-то говорил. Как только Ветлугин вошел, смолк. Наскоро познакомил его с учителями и буркнул:
— Нехорошо, Алексей Николаевич.
Ветлугин растерялся.
— Нехорошо, нехорошо, — повторил директор. Он собирался пожурить москвича, но в его голосе помимо воли проскальзывало недовольство и лицо было рассерженным. — Только приехал и уже — нате вам! — с попом обнимаетесь.
Ветлугин хотел сказать, что отец Никодим — его однополчанин. Но разозлился и выпалил:
— Это мое личное дело!
— Ошибаетесь, — возразил Василий Иванович. — Все личное должно быть подчинено общественным интересам. Вы — учитель и, следовательно, обязаны показывать пример, а получается…
— Это мое личное дело, — перебил Ветлугин, чувствуя, как растет неприязнь к этому человеку.
Директор посмотрел на учителей, словно призывал их быть свидетелями. Хотелось одернуть москвича, но что сказать и как — не мог сообразить — в таком тоне с ним никто не разговаривал. Учителя шушукались, переводили взгляды с Батина на Ветлугина. В глазах Ларисы Сергеевны резвились чертенята, на лице Валентины Петровны было сочувствие, но Василий Иванович вдруг понял — они ему не союзники. Стало горько, обидно.
Анна Григорьевна с решительным видом подкатилась к испачканному чернильными пятнами столу.
— Может, начнем педсовет?
Василий Иванович кивнул.
— Рассаживайтесь, товарищи!
Стараясь говорить веско, убедительно, он рассказал о ремонте школы, произведенном лично им, директором, покритиковал районо, которое до сих пор не обеспечило школу новым движком, сообщил, что в девятом классе будет обучаться не десять человек, как предполагалось, а одиннадцать.
— Кто одиннадцатый-то? — храбро спросила Валентина Петровна: ей очень хотелось обратить на себя внимание Ветлугина.
Василий Иванович сделал паузу.
— Колька Рассоха — кто ж еще.
— Способный парень, — спокойно сказала Лариса Сергеевна.
— Способный, но лодырь, — уточнил Василий Иванович. — Вдобавок на девочек поглядывает.
Валентина Петровна тревожно мигнула, Лариса Сергеевна улыбнулась, спросила, слегка растягивая слова:
— Разве это запрещено?
Василий Иванович пошевелил бровями, уверенно сформулировал:
— Не положено — вот как надо ставить вопрос!
«Дуб», — подумал Ветлугин и сказал:
— Ромео было всего пятнадцать лет, когда он полюбил Джульетту.
Директор снова пошевелил бровями, снисходительно объяснил:
— В книжках все, что угодно, можно понаписать. Но мы не по книжкам живем.
— Жаль, — проронил Ветлугин. Он мог бы побожиться — Батин и понятия не имеет, кто такие Ромео и Джульетта.
Лариса Сергеевна твердо сказала:
— Но экзамены Коля успешно сдал.
— Если бы не сдал, то и разговора не было бы, — проворчал Василий Иванович. — Лично у меня мнение — не хочет он учиться. Поэтому я и не внес его в списки.
— Можно мне сказать? — это вырвалось неожиданно. Ветлугин мысленно обругал себя, но отступать было поздно.
— Прошу, — с подчеркнутой вежливостью откликнулся Василий Иванович.
Ощущая на себе любопытные взгляды, Ветлугин сказал:
— Я всего сутки в селе, но уже от нескольких людей слышал про этого ученика, про разбитое им стекло и про штраф. Вряд ли нужна такая крутая мера.
— Правильно! — одобрила Валентина Петровна и почему-то покраснела.
Начался спор. Одни учителя говорили: родителей надо оштрафовать, другие возражали.
— Тихо, товарищи, тихо! — Василий Иванович вынужден был повысить голос. — Она уже внесла деньги.
Лариса Сергеевна посмотрела на Ветлугина, и он, окрыленный этим, воскликнул:
— И вы взяли?
Не скрывая удовлетворения, Василий Иванович снисходительно пояснил:
— Хозяйственные вопросы в компетенцию педсовета не входят.
После педсовета Лариса Сергеевна и Валентина Петровна пригласили Ветлугина в гости.
Дом, в котором жили девушки, был собственностью сельсовета. Построен он был одновременно со школой, напоминал самую обыкновенную избу, только без крытого двора. Раньше, когда школа была начальной, в одной половине этого дома жили два молодых человека, в другой — две девушки. Вскоре они поженились, построили собственные дома, навсегда остались в этом селе. Некоторое время дом пустовал. Потом, когда школа стала семилеткой, в нем поселили приехавших издалека учителей. Спустя год или два они тоже справили свадьбы, обзавелись собственными домами. Теперь в этом слегка осевшем от времени строении жили Лариса Сергеевна и Валентина Петровна. Позади дома виднелись уже пожелтевшие грядки, в небольшом палисаднике роскошно пламенели георгины, на протянутой от стены к дереву веревке сушилось женское белье.
Комнат было две. В одной девушки устроили спальню, другая служила кабинетом и столовой. Здесь был квадратный стол, стандартный — офанерованный буковым шпоном, с гранеными стеклами в верхней части — буфет с чайной посудой, две бамбуковые этажерки, до отказа набитые учебными пособиями и тетрадями, такой же, как и в учительской, диван. К спинке была приколота наискосок вышитая дорожка, на сиденье лежали маленькие подушечки, тоже с вышивкой.
Ветлугин робел. Если бы Валентина Петровна была одна, то он постарался бы не ударить в грязь лицом, хотя уж очень хорошими манерами похвастать не мог — на фронте этому не обучали. Присутствие Ларисы Сергеевны сковывало, мешало ему.
Толстушка принесла патефон.
— Лучше чаем угости, — сказала Лариса Сергеевна.
Валентина Петровна ойкнула, помчалась ставить самовар.
— Хозяйственная девушка, — объяснила Лариса Сергеевна, и было непонятно, одобряет она ее или осуждает. — А у меня к этому — никаких способностей.
«Зато ты красива», — подумал Ветлугин и сказал:
— Я тоже ничего не умел. Потом научился — на фронте.
— Разве вы воевали? — Лариса Сергеевна по-прежнему говорила глуховато, с хрипотцой, и Ветлугин понял: такой голос у нее от природы.
— В одном отделении с Галининым.
— С кем?
— С Никодимом или, как он раньше себя называл, Владимиром Галининым, мы большими друзьями были.
Лариса Сергеевна перебросила на грудь косу, стала теребить расплетенный хвостик. Пальцы у нее были гибкие, тонкие. Она сидела на диване, подобрав под себя ноги. Лакированные «лодочки» валялись на полу.
— Отец Никодим храбро воевал?
— Очень храбро! И, представляете, ни одного ранения не схлопотал, а я…
— Почему же он священником стал?
«Дался ей этот Галинин», — подосадовал Ветлугин и сказал:
— Я так и не выяснил этого, но предполагаю — с ним на фронте что-то стряслось.
— И он поверил?
— Я бы сказал — малость свихнулся.
Лариса Сергеевна кинула на него быстрый взгляд и отвернулась.
«Что с ней?» — озадаченно подумал Ветлугин и стал соображать, не сказал ли он что-нибудь лишнее.
Внезапно Лариса Сергеевна потребовала:
— Познакомьте меня с отцом Никодимом. — Она упорно называла Галинина только так.
— Пожалуйста. Но что директор скажет?
— Это меня не интересует!
— В самом деле?
Лариса Сергеевна гордо вскинула голову, и Ветлугин восхищенно подумал, что красивей ее никого нет.
Валентина Петровна внесла сверкавший, как надраенная пряжка на солдатском ремне, самовар. Он пыхтел, посвистывал, словно убеждал: «Я — живой!» После чая слушали музыку, потом сели играть в карты. Ветлугин ни разу не выиграл, хотя постоянно имел много козырей.
— Значит, Алексей Николаевич, вам в любви везет, — с многозначительной интонацией сообщила Валентина Петровна.
Лариса Сергеевна опустила глаза, и Ветлугину стало легко и радостно.
Незаметно наступила ночь. Девушки вызвались проводить его. Как только они вышли, от стены отделился кто-то, быстро исчез в темноте.
— Ходит и ходит, — проворчала Валентина Петровна.
— Влюбился. — Лариса Сергеевна произнесла это сочувственно.
— Навязался на мою голову! Вот возьму и пожалуюсь его родителям.
Шевельнулась смутная догадка.
— Уж не Рассоха ли это?
Девушки переглянулись. Лариса Сергеевна пробормотала:
— Если Батин узнает…
— Понял! — сказал Ветлугин.
2
Галинин проснулся от кашля жены и сразу сообразил: у Лизы сильный жар. Она была еще в полусне, старалась перебороть кашель; в груди у нее булькало и хрипело.
— Тебе плохо? — спросил он, когда Лиза открыла глаза.
Она попросила пить. Галинин прошлепал босиком на кухню, принес стакан молока.
— Водички хочу, — капризно пробормотала Лиза. — Холодненькой!
— Тебе нельзя холодное.
Она всхлипнула.
В первые месяцы совместной жизни болезнь почти не проявлялась — лишь изредка подскакивала температура и был небольшой кашель. Потом, когда они уже прожили в этом селе три месяца, началось кровохарканье. Галинин испугался, помчался к фельдшерице, но оказалось, она уехала на свадьбу в соседнее село. Кто-то посоветовал развести в стакане две столовых ложки соли, дать этот раствор больной. Галинин так и сделал. Когда Лизе стало лучше, он нанял подводу, повез жену в районную амбулаторию.
Рентгенологом был толстощекий, коротконогий крепыш с плутоватыми глазами. Галинина он называл — гражданин поп, Лизу — золотце. После просвечивания рентгенолог сказал:
— Срочно в Хабаровск поезжайте, в тубдиспансер!
В Хабаровске Лизе предложили лечь в стационар. Она отказалась. Ее долго уговаривали, Галинин обещал приезжать раз в неделю, даже чаще, но Лиза испуганно твердила:
— Нет, нет, нет…
Врачи посоветовали ей хорошо питаться, побольше гулять, остерегаться простуды, и они уехали домой.
Галинин успокоил жену, заставил принять таблетку кодеина. Утешая себя, решил: «Наверное, переволновалась». А на уме было другое — вспышка.
— Спи, — он наклонился, поцеловал Лизу в висок, ощутил солоноватый привкус горячего пота.
Она благодарно провела по его щеке рукой и вскоре уснула. А он не мог. Было тревожно, тягостно, страшно. «Лишь бы кровь не пошла», — с надеждой подумал Галинин. Лиза постанывала во сне и так полыхала, что, даже отодвинувшись на край постели, он ощутил жар. Поднялся, распахнул створки окна и сразу понял — в спальне душно.
Смутно виднелась хата, в которой поселился Ветлугин. Галинин ждал его вечером, хотя и чувствовал — Леха не придет. Но все же надеялся. Несколько часов назад — перед тем как лечь — взглянул на неосвещенные окна его комнаты, с улыбкой решил: «Загулял»…
Галинин приехал в это село с тайной надеждой найти покой, жить тихо, незаметно. В церкви в тот день шел ремонт. Бригада шабашников, беззлобно переругиваясь, обшивала тесом звонницу; стучали топоры, повизгивала пила, пахло масляной краской и свежей стружкой. Дом, в котором ему предстояло жить, уже был готов. Лиза утомилась в дороге, присела на крыльце, и он один обошел пустые, светлые комнаты, представил себе, где будет божница, книжные полки и все прочее. Высунувшись в окно, окликнул жену. Она устало улыбнулась, и Галинин с тихой радостью подумал, что господь дал ему в жены слабенькую, но очень славную юницу, что теперь, когда все плохое осталось позади, он посвятит себя только богу, и ничто мирское не омрачит его уединенную жизнь. Поздно вечером прибыли вещи, и первые дни Галинин провел в хлопотах, доставивших ему много приятных волнений. Оберегая жену, он старался сделать все сам. Лиза благодарила его то взглядом, то улыбкой, и отец Никодим чувствовал себя самым счастливым человеком.
Жизнь сельского священника оказалась совсем не такой, какой она представлялась в мечтах. От мирской суеты не удалось скрыться: в церковь приходили с жалобами, просьбами; на исповедях Галинин выслушивал признания, от которых леденела кровь; иногда казалось: село наполнено глухим ропотом, криками и мольбами. Но именно на исповедях он учился понимать людей, сострадать им. Часто Галинин ничего не мог сделать — только утешал, ссылался на Христа, который терпел и людям велел терпеть. Бывали случаи, когда то или иное дело легко мог уладить председатель сельсовета. Однако отец Никодим ни разу не посоветовал прихожанам обратиться к властям, был убежден, что поступает правильно, что этим людям должен помочь бог. Но бог почему-то не помогал тем, кто нуждался в помощи, и в душе Галинина возникли сомнения.
Лиза что-то пробормотала во сне. Он на цыпочках подошел к ней, поправил простыню, снова вернулся к окну. Потянуло прохладой, листья на деревьях шевельнулись, и Галинин подумал: «Погода скоро переменится, жара спадет, станет легче дышать». В памяти помимо желания оживало прошлое, хотелось понять, почему избавление от смерти он воспринял тогда как чудо. «Может, и в самом деле мне просто везло?» — подумал Галинин и тотчас пробормотал:
— Боже милостивый, прости мне мои мысли…
Через несколько мгновений, будто наяву, он увидел собор на пыльной площади, по которой с утра до вечера громыхали подводы; извозчики, понукая коней, рассекали воздух длинными ременными кнутами. Позади собора теснились дома. В самом добротном — двухэтажном, деревянном — жил когда-то настоятель собора суровый и строгий отец Андрей, осужденный и сосланный в Соловки за то, что в своих проповедях он предал анафеме большевиков. Его многочисленные домочадцы разбрелись кто куда, в дом въехали рабочие и служащие, и среди них мать Галинина — учительница. Из всех домочадцев бывшего настоятеля в доме осталась только его жена Ольга Ивановна, белокурая, чуть сгорбленная женщина с печальными глазами. Ей отвели самую маленькую комнату в конце коридора. Жила она одиноко, можно сказать, незаметно, где-то работала, но где и кем — это никого не интересовало. В свободное время Ольга Ивановна музицировала — тихо наигрывала на пианино ноктюрны Шопена или что-нибудь другое, обязательно грустное. Когда в соборе устроили клуб, жена бывшего настоятеля стала ходить в церковь, расположенную на самой окраине Ярославля. Всегда опрятно одетая, молчаливая, она казалась Галинину не такой, как все, а почему не такой, он не мог объяснить. Мальчишки, кривляясь и гримасничая, показывали ей язык, взрослые называли блажной, мать Галинина старалась не общаться с ней, а он жалел ее, часто думал: «Она несла свой крест, верила и продолжала верить». И сейчас, стоя у раскрытого окна, он решил, что первая, еще не осознанная вера в бога, должно быть, проявилась в нем в детстве, когда он жил в двухэтажном деревянном доме на Соборной площади…
Занятый своими мыслями, Галинин увидел и услышал Ветлугина, когда тот пожелал девушкам спокойной ночи. Хотел окликнуть его и окликнул бы, если бы Леха был один. Девушек он тоже узнал. Одна из них — высокая, стройная, с пушистой косой — была очень и очень недурна, и Галинин стал вспоминать, сколько раз случайно сталкивался с ней на улицах села. Получилось — всего четыре раза. «Всего четыре раза», — прошептал он и с удовольствием отметил: помнит, как и по какой стороне улицы шла молодая учительница, во что была одета, признался себе — было приятно на нее смотреть. Вначале это не встревожило его — мало ли в жизни приятного, как, впрочем, и огорчительного, а чуть позже появилось беспокойство. «Суета», — вздохнул Галинин и, как только шаги девушек стихли, вернулся в спальню.
3
— Спи, — рассердилась Анна Григорьевна: муж вздыхал, сам не спал и ей не давал.
Василий Иванович сел на кровати.
— Искрутился, — проворчала Анна Григорьевна. — И какая муха тебя укусила?
Василий Иванович кашлянул.
— Словесник-то вон какой.
— Сами такими же были.
— Я — нет, — не согласился Василий Иванович. — Я всегда понимал, что к чему.
Анна Григорьевна была другого мнения, но спорить не стала. Она догадывалась: муж уязвлен, обижен.
— Лариса Сергеевна тоже хороша, — пожаловался Василий Иванович. — Я всегда чувствовал…
— Чего чувствовал-то?
Василий Иванович подошел к окну, шумно вдохнул еще не остывший воздух.
— Не могу объяснить этого. Неужто сама не видишь, какая она? Сдается мне, таит она от людей что-то. Узнать бы — что?
Анна Григорьевна подумала, что Лариса Сергеевна совсем не похожа на Валентину Петровну и других учительниц. И внешностью выделяется, и держится не так, как они. На педсоветах помалкивает, но уроки дает интересные. Так и сказала мужу.
— Я не про то, — откликнулся он. — Помяни мое слово — споются они.
— Сам же того желал, — напомнила Анна Григорьевна.
— Про другое думал, — возразил Василий Иванович.
Ему было досадно, что жена не ухватывает главного. Еще никто не говорил с ним так, как это сделал москвич. Василий Иванович чувствовал себя оскорбленным. Он всегда считал, что поставлен директором для того, чтобы бдить, ревностно выполнял это, все поступки и слова учителей соизмерял со своими собственными поступками и словами, часто поучал их, даже в мыслях не допускал, что это может не понравиться им.
— Обойдется, — сказала Анна Григорьевна и добавила: — Лучше обещание выполни — в тайгу Алексея Николаевича свози. И не только его — всех учителей позови. Голубика-то, говорят, осыпаться стала…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Местные жители утверждали, что настоящая тайга начинается километрах в десяти от села. «Там и ягод полно, и грибов, — говорили они, — и разная живность жирует — только ружья успевай переламывать. Здесь же все исхожено, испоганено». Местные жители конечно же преувеличивали: близ села не было ни вытоптанных полянок, ни сваленных как попало деревьев. Тропинки обрывались возле небольших ягодников; дальше желтела треста и опасно темнела похожая на деготь болотная жижа — ни пройти, ни проехать. Чащобы за речкой старожилы тоже не считали тайгой. «Какая же это тайга, — возражали они, — когда рядом колхозное поле? Тайга там, там и там», — местные жители кивали в разные стороны.
…Вначале полуторка пылила по хорошей дороге, потом круто свернула, запрыгала по кочкам, и все, кто был в кузове, или схватились за борта, или попадали друг на друга. Валентина Петровна наваливалась на Ветлугина, без стеснения прижималась, игриво повизгивала. Он ощущал ее мягкое, податливое тело и, наверное, словно невзначай обнял бы толстушку, если бы не Лариса Сергеевна. В ее присутствии почему-то деревенели руки и ноги не слушались, а лицо — Ветлугин чувствовал это — было напряженным.
Низинка, по которой катила машина, постепенно суживалась, образуя коридор. По обе стороны возвышались деревья. Шофер брал то вправо, то влево — объезжал мшистые пни, канавки, полусгнившие стволы. Сильно пахло прелью. Земля была влажноватой, хотя — об этом говорили все — вот уже полтора месяца дожди только собирались, да так и не выпали. Позади оставалась четкая колея, и Ветлугин подумал, что весной и осенью эта низинка, без сомнения, превращается в сплошное болото. Деревья подступали все ближе и ближе, словно собирались захватить машину в плен, и наконец сомкнулись.
— Прибыли! — объявил Василий Иванович и, как только полуторка остановилась, молодцевато перемахнул через борт.
Ветлугин огляделся — обыкновенный подмосковный пейзаж: справа осинник, слева ельник, под ногами ягель, болотные кочки, чуть в стороне наполовину просохшая ляга[4], затянутая изумрудной плесенью.
— Неужели это тайга?
— Самая настоящая! — сказал Василий Иванович и посмотрел по сторонам с таким видом, словно все вокруг принадлежало ему.
Женщины неловко перелезали через борта, одергивали платья. Скуластый, узкоглазый шофер обошел машину, попинал покрышки. Ветлугин помог слезть Валентине Петровне, подал руку Ларисе Сергеевне. Ощутил прикосновение тонких, сильных пальцев, выразительно вздохнул. Она отдернула руку, обожгла его взглядом. Девушки взяли ведра и скрылись в осиннике. Анна Григорьевна позвала мужа, Петьку, и они тоже ушли. Через несколько минут Ветлугин остался один — даже шофер исчез. Сорвал травинку, пожевал сладковатый стебелек.
Летали стрекозы. В детстве он очень любил ловить их. Они казались ему красивей бабочек и жуков. Захотелось поймать стрекозу, непременно большую, рассмотреть тонкое, изгибающееся туловище, огромные, выпуклые глаза. Сняв рубаху, начал подкрадываться к большой-пребольшой стрекозе, расправившей блестящие крылышки на сухой ветке. И вдруг почувствовал — смотрят.
Стараясь быть серьезной, к нему приближалась Лариса Сергеевна, и Ветлугин стал завороженно смотреть на нее, открывая все новое и новое в этой девушке, чувствуя ликование в сердце. Учительница шла не быстро, но и не медленно, лукаво улыбалась. Ветлугин понял, что до сих пор не видел, как она улыбается, сразу сказал сам себе: «Чудесная у нее улыбка, ничего похожего раньше я не встречал». Голову Лариса Сергеевна держала горделиво, но это получалось у нее непроизвольно; на гибкой и белой, как и лицо, шее чернела небольшая родинка.
— Валентина Петровна беспокоится. — Лариса Сергеевна по-прежнему старалась быть серьезной, но ее губы вздрагивали от беззвучного смеха и глаза были лукавыми.
— А вы? — храбро спросил Ветлугин и, не удержавшись, покосился на веточку, где только что сидела стрекоза.
— Я тоже!
Ветлугин так и не понял, пошутила она или сказала правду.
Руки и губы у Валентины Петровны были измазаны соком голубики, в ведре матово темнели крупные ягоды.
— Нету и нету вас, — затараторила она, увидев Ветлугина. — Хотела пойти, да Лариса Сергеевна опередила.
«Ага, ага», — обрадовался Ветлугин. Посмотрел на Ларису Сергеевну, но встретил строгий взгляд.
— Угощайтесь, Алексей Николаевич, — сказала толстушка. — Здесь столько ягод, что прямо страшно. С малых лет по голубику ходила, но такого урожая не видела. Я ведь местная, хабаровская.
— Вы тоже местная? — обратился он к Ларисе Сергеевне.
Она покачала головой и ушла.
— Лариса Сергеевна с Урала, — опередила ее Валентина Петровна.
Эти слова пробудили то, о чем Лариса Сергеевна старалась не думать, не вспоминать. Перед глазами ожил небольшой уральский городок, в котором не было ни шахт, ни рудников, ни других промышленных объектов, отравляющих воздух. Единственным крупным предприятием была каменоломня, расположенная на окраине городка и напоминавшая о себе двумя взрывами — рано утром и после полудня.
Лариса Сергеевна родилась и жила в верхней части городка. Отсюда были видны не только нижние улицы, но и каменоломня — снующие по тоненьким, словно ниточки, рельсам вагонетки, похожие на муравьев люди. Низкорослые сосны, вцепившиеся корнями в каменистый, покрытый бурыми иголками грунт, наполняли воздух опьяняющим ароматом, который не могли разогнать даже самые неистовые ветры. Мать Ларисы Сергеевны часто говорила, что если бы не эти ветры, то на горе, несомненно, построили бы санаторий для легочных больных.
До войны семья Ларисы Сергеевны жила хорошо — не бедствовали, ни на что не жаловались. Горе постучалось в их дом вместе с извещением о брате. Отец, прочитав извещение, ушел в спальню и долго не появлялся, а когда появился, Лариса Сергеевна чуть не вскрикнула — таким непохожим на себя он стал: глаза ввалились, рот полураскрыт, волосы всклокочены. Мать о чем-то спросила его. Он дико посмотрел на нее и начал бормотать. Лариса Сергеевна подумала: «Пройдет». Но отцу с каждым днем становилось все хуже и хуже, и очень скоро его прямо с работы увезли в больницу.
К этому горю прибавилось еще одно: кто-то пустил слух, что брат Ларисы Сергеевны вовсе не пропал без вести, а сдался в плен, служит у Власова. На Ларису Сергеевну, на мать и даже на отца поглядывали косо, случалось, публично оскорбляли их. Это продолжалось и после того, как мать Ларисы Сергеевны сходила в военкомат и узнала, что сын действительно числится в списках пропавших без вести. На вопрос — был ли он власовцем, ей ответили неопределенно: пока, мол, не установлено. И именно поэтому слух продолжал распространяться по улицам городка. Лариса стала сдержанной, молчаливой. И никому, даже самым близким подругам, не рассказывала, как ей живется, как трудно разговаривать с отцом, который бывал то тихим, словно ягненок, то по самому пустяковому поводу впадал в ярость. Мать ладила с ним, а она не могла. Еще в педучилище, куда Лариса Сергеевна поступила после семилетки, она решила уехать и во время распределения сама назвала Хабаровский край.
Здесь молодая учительница работала уже год, и работала хорошо. Боялась только одного — дурных известий, часто думала: или отцу станет еще хуже, или брат окажется предателем. Это давило, угнетало, не давало жить, как хотелось бы. Письма от матери она читала украдкой, долго не решалась вскрывать — ощупывала конверт, смотрела на свет.
В жизни много всяких несчастий. Человек страдает. Душа ропщет, кровоточит. Хочется покоя, душевного равновесия. А где взять это? Кто может принести покой, душевное равновесие, облегчить боль?
Несколько месяцев назад в минуты сильного душевного волнения Лариса Сергеевна случайно вошла в церковь и, никем не узнанная, простояла там до конца обедни. Было тихо, мерцали свечи, пахло ладаном. Молодой священник, о котором она уже слышала, но до сих пор не видела, возносил молитвы так искренне, так убежденно, что она невольно подумала: «Неужели все это обращено к тому, кого нет?»
Лариса Сергеевна была атеисткой. То, что говорилось о религии в школе, воспринималось как непреложность. Ей хотелось радоваться, наслаждаться жизнью и любить. Но любить не какого-то выдуманного бога, а вполне реального человека, который — она предчувствовала это — обязательно встретится ей на пути. До недавних пор Лариса Сергеевна представляла себе священнослужителей старенькими, дряхлыми, неотесанными. Отец Никодим оказался молодым, к тому же красавцем, и это не оставило молодую учительницу равнодушной. Она часто думала о нем, представляла его в цивильной одежде, которую Галинин с тех пор, как стал священником, никогда не надевал, говорила себе, ощущая в сердце то тоску, то волнение: «Ах, если бы он не был попом…»
Голубика была крупней черники и намного кисловатей. Ветлугин срывал ягоды с ветвистых кустиков, отправлял их пригоршнями в рот. Руки почернели, по подбородку тек сок.
Зашумели ветки, треснул сук, и прямо на Ветлугина вывалился медвежонок. Валентина Петровна вскрикнула. Зверь фыркнул и — наутек. Все это произошло в одно мгновение — Ветлугин даже испугаться не успел. Запомнились злобно блеснувшие глазки, коричневый мех, неприятный запах — и больше ничего. Валентина Петровна была ни жива ни мертва.
— Чуть не сшиб, — пробормотал Ветлугин, вслушиваясь в удаляющийся треск сучьев.
— Легко отделались. — Валентина Петровна наконец обрела дар речи. — Моего деда, когда я маленькой была, медведица задрала.
Прибежала Лариса Сергеевна:
— Что случилось?
— Медведь. Прямо на нас выскочил.
— Небольшой, — уточнил Ветлугин.
Глядя на помертвевшее лицо подруги и на озадаченного учителя, Лариса Сергеевна подумала, что медвежонок, должно быть, испугался не меньше их. Сказала:
— Он ягодами лакомился и не помышлял ни о чем худом.
Через несколько минут выяснилось — нет Петьки. Все встревожились, стали аукать, кричать. Анна Григорьевна расплакалась, сказала, что медведь — это медведь, а Петька — еще мальчишка.
Нашел его Ветлугин. Петька спал под осиной. По его намазанному соком лицу ползали мухи, рот был полуоткрыт.
— Обормот! — накинулся на сына Василий Иванович. — Мать с ума сходит, а он, как в постели, развалился.
— Перестань! — остановила мужа Анна Григорьевна. — Разморило от жары — вот он и уснул.
Петька таращился, долго не мог сообразить, почему встревожилась мать и рассержен отец.
Решили, поскольку время обеденное, перекусить. Выложили помидоры, огурцы, лук, сваренные вкрутую яйца. Василий Иванович достал бутылку с тряпицей в горлышке, налил себе и Ветлугину.
— На можжевельнике настояна.
— И мне плесните! — Узкоглазый шофер тоже протянул кружку.
— Тебе нельзя, — сказал Василий Иванович.
— Хоть капельку! Я же, сами знаете, даже под этим делом машину как по линеечке веду.
— Не положено! — отрезал Василий Иванович. — Ненароком остановят — тебе неприятность и мне.
Шофер рассмеялся.
— Кто остановит-то? На весь район два инспектора.
— Пусть выпьет, — сказала Анна Григорьевна. — Домой еще не скоро поедем — выветрится хмель.
Ветлугин понюхал хлебную корочку и вдруг услышал треск валежника. Из ельника вышел, поправляя на ходу сползавшую с плеча двустволку, небритый мужчина — в рубахе навыпуск, в дырявых сапогах, в лихо сдвинутой кепчонке. Ветлугин узнал — Рассоха. Впереди него бежала собака — рыжая, похожая на лису. Василий Иванович поспешно спрятал бутылку.
Рассоха подошел, снял двустволку. Была она старенькая, с трещиной на прикладе, обмотанном проволокой. Собака легла около ног, вывалила язык, преданно поглядывала на хозяина.
— Выпивали? — весело спросил Рассоха и повел носом, будто принюхивался.
— Всего чекушка была, — проворчал Василий Иванович.
Рассоха растянул рот до ушей. Зубы у него были с щербинками, прокуренные.
— Небось испуг взял — попрошу? Не угадал! Кончилась моя болезня. Теперь только похмеляться буду, а пить ни-ни. Душа сама подскажет, когда снова начать.
Щетина на его лице была густая, с проседью, в бесшабашных светлых глазах то вспыхивало, то исчезало что-то озороватое; широкий нос с большими ноздрями шумно втягивал воздух.
— Жена по селу бегает, ищет тебя, непутевого, — накинулась на него Анна Григорьевна, — а ты, Тимофей Тимофеевич, вон где.
— Вчера помилование вышло. — Рассоха снова растянул рот. — С понедельника вкалывать начну. А сегодня — выходной.
— Вот и сидел бы дома.
— Дела.
— Какие у тебя дела…
— И ты не угадала! — с удовольствием сказал Рассоха. — Попа подрядился сопровождать. Старуха в урочище померла. Вчера он не смог — жена хворает. Хотел подводу нанять, но я отсоветовал. По дороге до этого урочища большой крюк делать надо, а напрямик — всего пятнадцать верст. Чуть свет поднялась. Поп шибко ходит — я едва поспевал. Как пришли, сразу отпевать стал. А я пошататься пошел. Медведя встретил. Хотел свалить, да патрон пожалел. Всего четыре штуки осталось. — Он переломил ружье, посмотрел, на месте ли патроны. Запустил руку в широкую штанину, извлек еще два патрона — в махорочной пыли, подул на них, потер подолом рубахи потускневшую медь, посмотрел на Василия Ивановича. — Насыпал бы мне дроби, а?
— Лишней нету.
— Ну? Слышал, в твоем чулане с полпуда спрятано.
— Еще чего слышал?
Рассоха пропустил это мимо ушей.
— Зачем тебе столько-то? На охоту ходишь редко — с утра до вечера в школе сидишь. А я по тайге часто бегаю — корм добываю.
Василий Иванович фыркнул.
— Добытчик!
— Разве нет? — спокойно спросил Рассоха. — Вон какая орава в доме.
— Пить надо поменьше! — жестко сказал Василий Иванович.
— Эх! — Рассоха огорченно сплюнул. — Всегда ты на одно и то же сворачиваешь. Душа этого требует — и все тут.
— Лучше бы она другого требовала… Жену твою жалко, детей.
Рассоха надел на плечо двустволку. Собака тотчас вскочила. Помахивая пушистым хвостом, посмотрела на ельничек, потом на хозяина.
— Я в твою семью, Василь Иваныч, не лезу, и ты в мою не лезь!
— Не петушись, — примиряюще сказала Анна Григорьевна.
Рассоха усмехнулся, сделал два шага, обернулся.
— Поп обещал к шести часам управиться. Может, подбросите нас? На машине все ж сподручнее, чем пешкодралом.
Василий Иванович нахмурился.
— Не с руки нам с попом ехать.
— Брось! — возразил Рассоха. — Он не кусается, он хороший мужик, с понятием.
— Не с руки, — повторил Василий Иванович.
— Давайте подождем, — сказала Лариса Сергеевна.
Все согласились — надо подождать.
2
Из тайги потянуло прохладой, налетела мошкара, комары. Ведра и корзины были погружены, а Галинин и Рассоха все не появлялись.
— Не торопятся, — проворчал Василий Иванович.
— Подождем еще и поедем, — сказала Анна Григорьевна.
Петька строгал перочинным ножом палку. Шофер отсыпался впрок — утром предстоял дальний рейс. Валентина Петровна бродила по краю полянки, иногда наклонялась, что-то поднимала, сразу отбрасывала.
— Чего ищешь? — крикнула Анна Григорьевна.
— Грибы.
— Нашла?
— Только красики попадаются, да и те червивые.
— В такую теплынь чистых не найти. Как спадет жара, тогда и пойдут крепенькие.
— Верно, — подтвердил Василий Иванович и пообещал свозить учителей в хорошее место, когда наступит грибная пора.
Мошкары и комаров становилось все больше и больше. Зудело лицо и чесались ноги — крохотные насекомые проникали под штанины, впивались в тело.
— Это еще что! — с веселым ужасом объявила Валентина Петровна. — В пролетье их столько было, что просто страх.
— Поехали! — скомандовал Василий Иванович.
Ветлугин направился к полуторке и увидел Галинина и Рассоху. Появились они совсем не с той стороны, откуда их ждали.
— Заплутались? — спросила Анна Григорьевна.
Рассоха рассмеялся.
— Я по тайге, как по своей избе, бегаю. Не отпускали его, — он кивнул на Галинина, — такие поминки отгрохали, что прямо как в сказке.
Был Рассоха как стеклышко. А у Галинина влажно блестели глаза и на щеках — этого даже посеревший воздух не мог скрыть — проступал румянец. Сдержанно поклонившись всем, он подошел к Ветлугину:
— Все гуляешь?
— Точнее будет — догуливаю. Первое сентября на носу. — Ветлугин не сомневался, что Василий Иванович и другие учителя смотрят на него и думают невесть что. «Ну и пусть думают», — решил он.
— Волнуешься?
— Немного.
Они помолчали. Хрустнула ветка. Ветлугин обернулся, увидел Ларису Сергеевну, торопливо сказал:
— С тобой жаждут познакомиться.
— Кто?
Ветлугин подвел Галинина к Ларисе Сергеевне, хотя особенной радости это ему не доставило. Они обменялись рукопожатиями, стали о чем-то говорить.
Когда Лариса Сергеевна отошла, Галинин с улыбкой сказал:
— Недавно видел тебя с ней.
— Где?
— Около твоего дома. Она вон с той толстушкой была.
— Провожали меня. — Ветлугин неожиданно вздохнул.
Внимательно посмотрев на однополчанина, Галинин решил, что Леха если и познал женщин, то очень немногих, что каждое свидание с красивой девушкой для него не просто интрижка, а прелюдия большой любви.
— Хватит прохлаждаться! — крикнул Василий Иванович, обращаясь к учителям.
Все двинулись к полуторке. Как только Галинин очутился в кузове, директор демонстративно отвернулся. «Глупо», — подумал Ветлугин и нарочно встал около отца Никодима.
Из глубин тайги стремительно надвигался сумрак. Воздух мутнел прямо на глазах, и очень скоро стоявшие в отдалении деревья слились в одну сплошную линию. Шофер включил фары, и полуторка, покачиваясь, как катер на волнах, поползла к дороге. Валентина Петровна снова стала повизгивать, но уже не наваливалась на Ветлугина: видно, стеснялась попа. Когда машину тряхнуло особенно сильно, Василий Иванович не выдержал — помолотил кулаком по крыше кабины.
— Чего? — высунулся шофер, притормаживая.
— Помедленней газуй! Все ягоды перемнутся.
— Как улитка ползу. Я же не виноватый, что тут одни кочки.
— Все равно помедленней! Разрешил тебе выпить, а ты и рад.
Машина опять поехала. Рассоха сплюнул через борт. Галинин усмехнулся в бороду.
Через несколько минут машина выбралась на дорогу. Ветлугин ощутил на лице густую тепловатую пыль, решил сразу же сбегать к речке — искупаться.
3
— Зайдешь ко мне? — спросил Галинин, когда они остались вдвоем.
— Искупаться надо — пропылился весь.
Галинин переложил из руки в руку узелок с облачением.
— Водичка, должно быть, теплая.
— Может, вместе сходим?
— Заманчивое предложение.
— Пойдешь или нет?
Галинин потеребил бороду.
— Сперва гляну, что с Лизой. Если все хорошо, то вместе поплаваем.
— Кстати, — спохватился Ветлугин, — как она себя чувствует?
— Утром сильно кашляла и высокая температура была.
В госпитале Ветлугин настрадался, насмотрелся такого, что до сих пор вставало перед глазами. Представив себе Лизу с воспаленным лицом, капельками пота на лбу, сказал:
— Если какая-нибудь помощь нужна, то ты не стесняйся.
Несколько минут они шли молча. Потом Галинин спросил:
— Помнишь, как мы от немцев драпали?
— Без штанов?
— Ага.
Они рассмеялись.
…Это было на дневке, в жаркий день. Возле единственной уцелевшей в деревеньке бани столпилось столько солдат, что Галинин присвистнул.
— Не светит, — подтвердил Ветлугин и добавил: — Айда к речке!
Пахло гарью, чернели воронки, валялись немецкие каски, сиротливо маячила искореженная пушечка с вмятинами на щитке. Трава на склонах овражка, через который пролегала тропинка, еще не выпрямилась. На дне желтели гильзы, валялся автомат с оборванным ремешком. Галинин поднял его, осмотрел.
— Только в металлолом. Видать, этот овражек последним рубежом был. Отсюда фрицы кубарем покатились.
Речка была узкой, с быстрым течением, обрывистыми берегами, из которых незащищенно торчали омытые водой корни. «Должно быть, даже около берега с ручками», — подумал Ветлугин и стал искать глазами мостки, с которых деревенские женщины полоскали белье. Мостков не было видно, и он решил, что их, скорее всего, сломали во время боя или наши, или немцы. Справа и слева к речке вплотную подступали кусты, вода была черной, на середине крутились водовороты. Ветлугину расхотелось купаться, и он сказал:
— Вода, наверное, как лед.
— Сейчас проверим, — откликнулся Галинин и стал раздеваться.
— Неужели полезешь?
— А ты как думал!
Галинин нашел шест, проверил, глубоко ли, и, разбежавшись, нырнул. Выплыл метрах в десяти.
— Водичка на ять!
Ветлугин снял гимнастерку, сапоги, размотал портянки, аккуратно сложил нательное белье и, похлопывая себя по груди и ляжкам, стал осторожно продвигаться по коряге. Галинин подплыл, окатил его водой. Ветлугин охнул, бултыхнулся ногами вперед.
Они выбрались на берег посиневшие от холода, разлеглись на жестковатой, нагретой солнцем траве.
— Махорка есть? — спросил Галинин. Курил он много и поэтому часто «стрелял» у Ветлугина.
Алексей оторвал полоску от газеты, свернул козью ножку.
— Чур, я первый! — сказал Галинин и с наслаждением затянулся.
Был полдень. Басовито гудели шмели, пчелы собирали нектар, порхали бабочки. Ребята вздремнули и не сразу увидели немцев, появившихся на другом берегу.
— Хана, — испуганно прошептал Ветлугин.
— Не бойся. Хватай в охапку шмотки и — в овражек.
Вдогонку им понеслись пули…
— Запросто могли бы погибнуть, — сказал Галинин. — До сих пор слышу, как материл нас взводный. — Он помолчал и добавил: — Если через пятнадцать минут не приду, один купаться ступай.
Он пришел раньше. Радостно сообщил:
— Температура у Лизы нормальная и кашель стих.
До речки дошли быстро. Берег в этом месте был хороший: супесь, чуть подальше несколько кустиков.
— Нагишом? — спросил Ветлугин.
Галинин кивнул.
Они разделись, сложили одежду под кустиком. Поглядев на Галинина, Ветлугин поймал себя на мысли, что сложением они схожи; оба рослые, поджарые. В памяти все еще продолжало жить фронтовое купание, и Ветлугин с неожиданно пробудившейся радостью подумал, что сейчас, когда они голые, их ничто не разделяет. Наткнулся взглядом на нательный крест и понял: «Все не так просто, как хотелось бы». Скрывая свое состояние, бросился с разбегу в воду. Галинин последовал его примеру. Они поплескались, поплавали. Было тихо-тихо. Лишь изредка всплескивала рыбешка. Теплая вода ласкала тело.
— Как думаешь, — неожиданно спросил Галинин, — почему люди веруют в бога?
Ветлугин провел ладонью по лицу:
— Наверное, потому, что в мире еще много несправедливого, грязного, мерзкого. Когда исчезнет это…
— Это никогда не исчезнет.
— Значит…
— Ты меня правильно понял. Вера в бога вечна, как вечен он сам.
— Хватит! — крикнул Ветлугин и пожалел, что согласился искупаться с Галининым.
Домой они возвращались молча, расстались сухо. Настроение у Ветлугина было хоть волком вой. Память упорно возвращалась к прошлому, мозг отказывался поверить в то, что видели глаза и слышали уши. За четыре года Галинин, несомненно, изменился: отрастил бороду, похудел; длинные пальцы с желтоватыми от никотина подушечками нервно сплетались, в глазах был тревожный блеск.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
«Завтра первое сентября», — то и дело вспоминал Ветлугин и представлял, как он войдет в класс, что скажет. Каждый раз получалось по-разному. Ему дали двадцать семь часов в неделю — девятый, восьмой и два седьмых класса. Василий Иванович предложил еще восемь часов, но Ветлугин отказался.
Планы и конспекты уроков он составил быстро, потому что считал это бесполезным, никому не нужным делом. Во время педагогической практики методисты почему-то уделяли планам и конспектам первостепенное значение. Один пожилой учитель — он, видимо, почувствовал в Ветлугине единомышленника — доверительно сообщил, что лично он составляет планы и конспекты «на всякий пожарный случай», пользуется ими только тогда, когда на урок приходят представители.
Ветлугин тоже собирался проводить уроки по-своему: импровизировать, менять ритм, возвращаться к пройденному, забегать в случае надобности вперед. Профессия учителя казалась ему сродни профессии актера. Только актер играл в театре, а учитель «выступал» в классе. Его голос, жесты, эмоциональность — все это, по мнению Ветлугина, должно было «работать», вызывать интерес к личности педагога и к предмету, который он ведет. За четыре года учебы Ветлугин побывал на многих открытых уроках, но лишь некоторые из них врезались в память. Запомнились возбужденные лица, нетерпеливо поднятые руки, четкие вопросы учителей. Они пробуждали мысль, заставляли сравнивать, анализировать, и это было самым важным. Смело раздвигались границы учебников, где все было сформулировано до обидного упрощенно. На одном из уроков во время педагогической практики Ветлугин должен был рассказывать о Тургеневе. Он составил подробный конспект, несколько страниц посвятил Полине Виардо. Прочитав конспект, женщина-методист сказала:
— Про нее рассказывать не надо!
— Почему? — простодушно удивился Ветлугин.
— Русских писателей надо показывать школьникам чистыми и непорочными. Была бы моя воля, я и про Головачеву ничего на уроках не говорила бы.
— Странно, странно…
— Не надо. — Женщина-методист усмехнулась. — Я нарочно назвала девичью фамилию Авдотьи Панаевой, хотела проверить, в какой степени интересуют будущего педагога интимные подробности в жизни писателей.
«Дура!» — чуть не выкрикнул Ветлугин и сказал, что обязательно расскажет на уроке про Полину Виардо.
Ребята слушали его с открытыми ртами, но в «зачетке» Ветлугину было поставлено всего-навсего «удовлетворительно». Ветлугин понял: «С ханжеством надо бороться. Бороться всегда и везде».
В отличие от многих своих сокурсников, после получения диплома возомнивших о себе, он чувствовал: работа в сельской школе лишь первый шаг. Сто пятьдесят шесть книг были каплей в огромном книжном море. За войну душа Ветлугина очерствела; то хорошее, светлое, чему учила мать, частично осталось на фронтовых дорогах, в окопах, в госпитале. Фронт научил его категоричности суждений, в словах и поступках появилась резкость. Четыре года учебы в институте навели на бывшего фронтовика глянец, только приоткрыли тот мир, в котором ему предстояло жить и трудиться. Ветлугин многого не понимал, не умел. И теперь ему предстояло открыть неоткрытое, узнать неузнанное. Он ощущал: по-настоящему учит не институт, а жизнь. И Алексей Николаевич Ветлугин готовился утвердиться в ней.
Лег он поздно. Долго ворочался. Сено свалялось, тело ощущало твердь досок. Ветлугин встал, взбил тюфяк. Было слышно, как Галина Тарасовна успокаивает проснувшегося малыша.
Вчера она принесла керосин. Проверяя тяжесть бидона, приподнимала его, благодарно улыбалась Ветлугину, безостановочно повторяла:
— Теперь надолго хватит.
Вчера же обещали привезти дрова. Галина Тарасовна то и дело выбегала на крыльцо, смотрела в ту сторону, откуда должна была появиться полуторка. Вечером объявила:
— Наверное, другие учителя перехватили. Шоферу все одно куда руль крутить.
— Днем позже, днем раньше — какая разница, — сказал Ветлугин: дрова, керосин — это совсем не волновало его.
Хозяйка не согласилась:
— Пока погода стоит, дрова просушить надо. Каждый день дорог: скоро дожди начнутся, а там и снег.
Дрова привезли ночью. Узкоглазый шофер хмуро объяснил, что посреди дороги лопнул баллон.
— Заплат на этих баллонах — не пересчитать, — пожаловался он. — И покрышки лысые.
Все еще сказывались последствия войны — не хватало продуктов, самых необходимых промышленных товаров, кое-где были перебои с хлебом. Когда в село прибывал автофургон, к сельмагу устремлялись женщины в надежде купить сахар, манку, рис, подсолнечное масло, одним словом, то, что невозможно было достать в тайге или вырастить на приусадебном участке. Чаще всего женщины возвращались домой с пустыми кошелками: автофургон доставлял в село очередной мешок соли, вино, табак, плавленые сырки и консервированные овощи, на которые местные жители не глядели. Если же привозили сахар, рис, колбасу или что-нибудь другое, очень необходимое и очень вкусное, то около сельмага выстраивалась длинная-предлинная очередь. Те покупатели, кто был в конце, кричали продавщице, чтобы отпускала в одни руки понемногу, а те, кто стоял близ прилавка, норовили купить и сахара, и крупы впрок. Зато водка и спирт в бутылках с черными этикетками в сельмаге не переводились. Промышленные товары — ситец, сатин, сапоги — тоже раскупались быстро. На прилавках лежали пуговицы, гребенки, ленточки и прочая мелкая галантерея.
— Два года назад и этого не было, — утверждала Галина Тарасовна. — Авось доживем до тех пор, когда все будет.
Ветлугин был призван в армию в 1943 году, когда даже в московских магазинах — и продуктовых, и промтоварных — полки были пусты. Вспоминая то время, он думал: «Жизнь улучшается. Медленно, но улучшается…»
Он помог хозяйке выгрузить дрова, пообещал на досуге распилить и расколоть их.
— Без вас управлюсь! — сказала Галина Тарасовна и, застыдившись, объяснила, что у нее ухажер появился — вдовый и одинокий, сватает, но она пока ничего не решила.
Чувствовалось, ей приятно осознавать, что она кому-то нужна.
Она разбудила его, как и обещала, в шесть. Село уже проснулось: над избами висели дымы, повизгивали поросята, кудахтали куры; гуси, вытянувшись в цепочку, важно шествовали к речке; плавно ступая, чтобы не расплескать воду, шли женщины с коромыслами на плечах. Над речкой висела легкая мгла, и все, что было за ней — тайга, сопки, пожня, — казалось плохо напечатанными снимками. Солнце уже взошло, но оно не в силах было пробить плотную стену вековой тайги: лишь тонкие, будто стрелы, полоски проникали в щели между деревьями, ложились блекло-оранжевыми пятнами на стены изб. Небо с каждой минутой голубело все больше, в неостывшем воздухе клубились рои кусачих мошек, от которых ночью не было спасенья, поникшая трава и цветы выпрямлялись, ласточки носились высоко-высоко. Все это снова предвещало жаркий день.
В учительской, когда вошел Ветлугин, было оживленно. Валентина Петровна и Лариса Сергеевна, обе в нарядных платьях, в туфлях на высоких каблуках, листали классные журналы. Толстушка чуть почернила белесые, выщипленные брови, Лариса Сергеевна расплела косу, собрала волосы в пучок.
— С праздничком вас, Алексей Николаевич, — пропела Валентина Петровна. — Вы у нас сегодня именинник.
Ветлугин и сам понимал это. Старался быть спокойным, но напряженно думал: как будет и что, когда он войдет в класс и останется один на один с ребятами, — никто не выручит тогда, не подскажет.
Василий Иванович и Анна Григорьевна пришли вместе. Она подкатилась к дивану, сразу плюхнулась, а он начал степенно обходить учителей — жал им руки, говорил одно и то же: «Отличной дисциплины и такой же успеваемости!» Был он в хорошо отутюженном темно-синем бостоновом костюме, в белой сорочке с накрахмаленным воротничком, в галстуке. Старался говорить веско, убедительно, а губы расплывались в улыбке. Ветлугину он тоже пожелал отличной дисциплины и такой же успеваемости, но без улыбки.
Вчера Василий Иванович попросил жену сходить на урок к москвичу и утром напомнил об этом.
— Может, повременим?
— Не откладывай! — Василий Иванович не очень-то разбирался в методике и педагогике, всецело полагался на опыт жены.
Третий час у Анны Григорьевны был свободный, и она, виновато улыбнувшись, сказала Ветлугину, что пойдет, если он, конечно, не возражает, к нему на урок.
— Пожалуйста, — ответил Ветлугин.
В учительской становилось все шумней, все оживленней. Учителя поздравляли друг друга с наступлением нового учебного года, говорили Ветлугину ласковые, ободряющие слова, советовали не расстраиваться, если ребята поначалу будут задавать каверзные вопросы, добавляли:
— Все мы через это прошли.
На самом видном месте висело расписание уроков, на котором было начерчено «утверждаю» и стояла размашистая директорская подпись. Графин в центре стола был наполнен вкусной колодезной водой, и Ветлугин в течение получаса опустошил его, хотя ни накануне, ни утром ничего соленого в рот не брал.
— Не волнуйтесь, — тихо сказала ему Лариса Сергеевна и незаметно для других пожала локоть.
Этот простой, товарищеский жест восхитил Ветлугина, и он подумал, что когда-нибудь Лариса Сергеевна станет его женой.
В коридоре было тихо. В раскрытое окно врывались ребячьи голоса. Школьники были причесаны, подстрижены, принаряжены. Старшеклассники стояли отдельно, разделившись на две группы: в одной мальчики, в другой девочки.
Давно поговаривали о раздельном обучении. В газетах и журналах печатались статьи, в которых высказывались противоположные точки зрения; среди преподавателей института, где учился Ветлугин, тоже не было единодушия, и он еще не составил собственного мнения о преимуществах и недостатках той или иной системы.
Василий Иванович щелкнул крышкой больших карманных часов, озабоченно сказал:
— Пора, товарищи!
Учителя вышли на крыльцо. Разноголосый гул стих. Директор поздравил ребят, пожелал им того же, что желал учителям, с удовольствием сообщил, что отныне их школа — десятилетка.
Первый урок у Ветлугина был в седьмом классе. Он сразу сказал ребятам, что сегодня ничего объяснять не будет — хочет проверить, насколько хорошо усвоен курс шестого класса…
Во время перемены к нему подходили учителя, интересовались, как прошел урок.
— Нормально, — отвечал Ветлугин, и это было действительно так.
Второй урок тоже прошел гладко.
В девятом классе было много свободных парт. Анна Григорьевна выбрала самую просторную, долго усаживалась — никак не могла найти место ногам; повозившись, повернулась боком.
Одиннадцать пар глаз смотрели на Ветлугина, и он старался разгадать, что думают о нем шесть девочек и пять мальчиков, которых правильней было бы назвать девушками и юношами. Девочки смотрели так, как и должны были смотреть девочки, — с любопытством, кокетливо; в позах мальчиков чувствовалась напряженность и в глазах стояло: мы о тебе уже слышали, а ты про нас ничего.
«Скоро познакомимся», — мысленно сказал Ветлугин.
Класс был просторный, светлый. Ребята разместились кто где. Две веснушчатые девочки с тоненькими косичками чинно сидели на парте перед учительским столом, и Ветлугин решил, что они, должно быть, тихони и зубрилы. Другие девочки облюбовали парты чуть подальше. Мальчики, в том числе и директорский сын, расположились в одном ряду — около окон.
Сообщив школьникам свое имя, отчество, фамилию, Ветлугин сказал, что не станет устраивать традиционную перекличку, познакомится с ними во время урока.
В портфеле лежала тетрадь с планом-конспектом, к которому не смог бы придраться даже самый искушенный методист. Ветлугин внезапно почувствовал: надо отказаться от привычной схемы и привычных толкований. Его не испугали ни грозные статьи о литературе в газетах и журналах, ни наставления и предостережения некоторых институтских преподавателей. В прекрасном он видел прекрасное, в гадком — гадкое и хотел, чтобы то же самое видели ученики. Жестокость на войне воспринималась им как вынужденная необходимость; равнодушное отношение к человеку в мирное время казалось преступлением. Ветлугин делил всех людей на своих и чужих. Чужими были враги, уголовники, предатели, остальных он мысленно называл своими, возмущался в душе, когда свой, стремясь возвыситься, втаптывал в грязь честного человека, когда хорошие люди не находили общего языка. Русская литература призывала любить людей, понимать их, и это находило отклик в сердце Алексея Николаевича Ветлугина.
По плану-конспекту он должен был провести опрос. Однако два первых урока убедили Ветлугина, что в этой школе ребята имеют самое поверхностное представление о русских писателях и их книгах. Во время большой перемены он чуть было не выразил Василию Ивановичу свое возмущение, но в самый последний момент вспомнил: директор не скрыл, что с грамотностью, а следовательно, и с преподаванием литературы в школе неблагополучно.
Стараясь не смотреть на Анну Григорьевну, вытиравшую большим носовым платком потное лицо, Ветлугин отступил к доске и стал читать наизусть стихи. Читал он хорошо, и стихи были прекрасные, и очень скоро в глазах школьников появился блеск, а некоторые из них даже приоткрыли рты.
— «К чему невольнику мечтания свободы? Взгляни: безропотно текут речные воды в указанных брегах…» — разносился по классу взволнованный голос Ветлугина. Когда стихотворение было прочитано до конца, он спросил: — Кто написал эти строки?
— Наверное, Пушкин или Лермонтов, — пробормотала одна из девочек.
— Нет! — воскликнул худощавый мальчишка в поношенной рубахе с расстегнутым воротом. — Эти стихи написал кто-то другой.
— Кто?
Мальчишка виновато вздохнул. Ветлугин попросил его назвать себя и удивился: Колька Рассоха был в его представлении совсем другим.
— Ты прав, — торжественно сказал Ветлугин, — не Пушкин, не Лермонтов и даже не Некрасов. Эти стихи написал Баратынский.
— Не слышал про такого, — обескураженно пробормотал Колька.
— Я уже понял это. — И Ветлугин стал рассказывать ребятам о Баратынском. Он увлекся, на какое-то время позабыл о них. Потом увидел их лица и понял, что построил урок правильно. Это еще больше вдохновило его. На Анну Григорьевну он старался не смотреть, а когда все же взглянул, то убедился — она слушает его с вниманием.
Сразу после урока Василий Иванович позвал жену в свой кабинет, нетерпеливо спросил:
— Ну?
Анна Григорьевна развела руками.
— Почти двадцать лет работаю в школе, а такого еще не видела.
— Значит, плохо?
— Погоди, погоди… Я совсем не это хотела сказать. Его урок не похож на те, на которых мне раньше приходилось бывать. Никто не шелохнулся, когда он рассказывал. Да и сама я, признаться, уши развесила. Одно мне не понравилось: по классу, будто по парку, ходит, на парты верхом садится, жестикулирует, ребят на «вы» называет.
— Ага, ага, — прогудел Василий Иванович. — По классу разгуливать не положено, на парты садиться нельзя, да и наших мальчишек и девчонок рановато на «вы» называть. Надо будет предупредить его.
— Погоди, погоди, — повторила Анна Григорьевна. — Вот кончится четверть, тогда и сделаешь выводы…
2
Из школы Ветлугин вышел вместе с Валентиной Петровной и Ларисой Сергеевной. Показал рукой на чайную:
— Мне сюда.
Сельмаг торговал не поймешь как, чайная была открыта с раннего утра до полуночи. Сразу после приезда Ветлугин решил пообедать там, но только пополоскал ложкой первое и поковырял вилкой второе: в супе плавало что-то непонятное, гуляш был с душком. Он стал покупать в буфете консервы, печенье, пряники, одним словом, питался всухомятку.
Валентина Петровна сморщила носик.
— В нашей чайной грязновато и все невкусно.
— А я и не собираюсь обедать. Куплю что-нибудь, и полным ходом домой.
— Неужели сами готовите?
— Чаек вскипячу — и все дела!
Валентина Петровна округлила глаза.
— Так питаться для желудка вредно.
Ветлугин сказал, что желудок у него луженый — настоящий солдатский желудок. Лариса Сергеевна улыбнулась.
— Пригласи Алексея Николаевича пообедать с нами.
Валентина Петровна ойкнула, хлопнула себя ладошкой по лбу.
— И как только сама не догадалась! Каждый день, Алексей Николаевич, можете обедать у нас. Мне все равно — на двоих или на троих готовить.
Ветлугину было приятно слышать это, но стеснять девушек не хотелось. Он так и сказал.
Лариса Сергеевна посмотрела на него.
— Валентина Петровна будет счастлива, если вы хоть сегодня отобедаете у нас.
«А ты?» — спросил взглядом Ветлугин.
Лариса Сергеевна не отвела глаза, но что было в них, он так и не понял.
Попросив девушек подождать, сбегал в чайную, купил коробку конфет, шампанское с черной этикеткой.
— Ого! — Лариса Сергеевна покачала головой. — Свой успех хотите отметить?
— За вас выпить собираюсь!
Валентина Петровна поморгала. Лариса Сергеевна снова улыбнулась.
— За Валентину Петровну разве нет?
— За нее тоже!
Оставив Ветлугина в комнате, девушки ушли на кухню. Слышались их голоса, смех. Сидеть без дела было неловко да и скучно.
— Помочь? — Он открыл дверь.
— Не мешайте, не мешайте, — затараторила Валентина Петровна. Она чистила вареный картофель, была в косынке, в красивом фартуке.
Вытирая запястьем слезы, Лариса Сергеевна крошила репчатый лук.
— Сердитый? — спросил Ветлугин.
— Все слезы выплакала.
— Значит, долго плакать не будешь, — пошутила Валентина Петровна и нарочито строго сказала Ветлугину: — Ступайте, Алексей Николаевич, ступайте — без вас справимся!
Но он остался, рассказал о том, как косился на него Колька Рассоха. Добавил:
— Видел нас вместе и теперь ревнует.
— Лупит и лупит глаза, — с напускной рассерженностью пожаловалась Валентина Петровна.
— Влюбился, — вставила Лариса Сергеевна.
— Если бы он постарше был… — Валентина Петровна задумалась.
— Два года не разница, — возразила Лариса Сергеевна.
— Парень старше должен быть, — не согласилась Валентина Петровна. — Да и нельзя с Колькой ходить открыто: я — учительница, он — ученик.
Лариса Сергеевна и Ветлугин подтвердили — действительно нельзя.
Когда сели обедать, Валентина Петровна сказала:
— Всего два разочка шампанское пила. На лимонад похоже, а ударяет.
Ветлугин вспомнил, как, подыскивая место для ночлега, их отделение наткнулось на небольшой продовольственный склад, в котором помимо муки, сахара, галет и консервов оказалось несколько ящиков с вином. Командира отделения куда-то вызвали, другого начальства поблизости не было. Воспользовавшись этим, солдаты разбили ящики. Запихивая в «сидора» диковинные бутылки с красивыми этикетками, говорили:
— Кислятина! С российской водочкой ничто не сравнится.
Ветлугин и Галинин поддакивали, хотя водка им не нравилась. Они взяли четыре бутылки шампанского и устроили пир. Выдули по кружке, посмотрели друг на друга.
— Шибануло?
— Лимонад! — сказал Ветлугин и раскупорил еще одну бутылку.
Что было дальше, он не помнил. Утром пожилые солдаты, добродушно посмеиваясь, рассказали им, что они лыка не вязали.
— Пришлось уложить вас, мальцы, шинельками прикрыть, чтобы, упаси бог, никто не увидел, какие вы «хорошие»…
— Часто встречаетесь с отцом Никодимом? — спросила вдруг Лариса Сергеевна.
Ветлугин помолчал.
— Последний раз в тот день виделись, когда я познакомил вас.
Лариса Сергеевна перевела на него удивленный взгляд.
— Поссорились?
Ветлугину был неприятен этот разговор. Он с удовольствием поболтал бы о чем-нибудь другом, но Лариса Сергеевна смотрела на него требовательно, и он сказал:
— Мы не ссорились. Просто разошлись как в море корабли. Так, кажется, говорится?
В глазах Ларисы Сергеевны по-прежнему было удивление, и Ветлугин торопливо пояснил:
— Теперь он поп, а я учитель. Между нами глубокая пропасть.
Лариса Сергеевна резким движением перекинула на грудь косу, и Ветлугин понял: она или осуждает его, или не верит.
3
— Тебе нравится Алексей Николаевич? — обратилась к подруге Валентина Петровна, когда Ветлугин ушел.
— Да.
— Счастливая! Поженитесь, отработаете три года и в Москву уедете.
Лариса Сергеевна кинула взгляд на мечтательно-отрешенное лицо Валентины Петровны и чуть вздохнула.
— Я уже догадалась, — продолжала толстушка, — что влюбился он в тебя без памяти.
— Так уж и влюбился, — возразила Лариса Сергеевна, приятно взволнованная этими словами.
Она и сама чувствовала, что понравилась Ветлугину, как нравилась многим молодым людям, с которыми ходила в кино и на танцы. Однако по-настоящему в нее еще никто не был влюблен. А в глазах москвича, в его предупредительности было то, что заставляло сладко замирать сердце.
Лариса Сергеевна предполагала: человека более сердечного ей не найти. Женское чутье подсказало: он к тому же наивен, покладист. Да, Ветлугин во всех отношениях был прекрасной партией. Красивая учительница не спешила давать повод для объяснения, потому что продолжала восхищаться внешностью отца Никодима, огорчалась, что он священник. Если бы Ветлугин был хоть чуточку похож на него, то она не колебалась бы.
После паузы Валентина Петровна сказала с веселым оживлением:
— А я вчера с Колькой разговаривала.
— Ну?
— За хлебом пошла, а он стоит. — Валентина Петровна рассмеялась. — Днем стесняется подходить, а как стемнеет, храбрым становится.
— О чем же вы говорили?
— А! — Валентина Петровна взмахнула рукой. — Я всего два словечка сказала, а он, дурачок, разную чепуху молол.
Лариса Сергеевна подумала.
— В прошлом году, когда Анна Григорьевна болела, я в их классе уроки проводила. Он тогда мне умным и начитанным показался.
Валентина Петровна обрадованно кивнула и затараторила:
— Сельсоветовская библиотекарша — я сама это слышала — на все лады его расхваливала. Он, оказывается, даже Белинского читал.
Лариса Сергеевна виновато улыбнулась.
— Мы в педучилище проходили Белинского, а что — я уже позабыла.
— Я тоже этого не помню, — поддакнула Валентина Петровна.
Они поговорили еще немного и легли спать.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Вот уже несколько дней Галинин чувствовал себя скверно — просыпался с тяжелой головой, с ощущением какой-то тревоги; ходил будто чумной, тайком от Лизы ощупывал голову, гадал — начнется боль или обойдется. Головными болями он страдал с детства, считал их обычной мигренью. Во время приступов не мог ни есть, ни пить, ни курить — лежал, накрывшись с головой одеялом, и тихо постанывал. Продолжалась боль шесть или семь часов подряд, часто сопровождалась рвотой; кончалась так же внезапно, как и начиналась. Галинин уже давно относился к головной боли как к неизбежному, но всякий раз, когда сдавливало череп, думал: «Лучше сразу помереть, чем так страдать».
До недавних пор он был вполне доволен своей жизнью. После встречи с Ветлугиным понял, что, в сущности, одинок. Теперь он вспоминал все, о чем они мечтали, лежа в сырых, прокуренных блиндажах, в тесных избах или в каком-нибудь сарае на охапке сена. Ему нравилась открытая наивность Ветлугина, его честность, невосприимчивость к жестокости и прочим мерзостям, которые проявлялись в людях на фронте. С Ветлугиным было хорошо, и Галинину хотелось возродить ту душевную близость, которая существовала между ними. Каждый день он видел его — сосредоточенного, с красивым портфелем, и должен был признать, что Леха осуществил свои фронтовые мечты.
Часто приходила Рассоха, помогала Лизе по хозяйству. Когда в селе открыли церковь, она пошла посмотреть на попа, молодые лета которого вызвали пересуды, озадачили даже самых богомольных старух. Молодой священник говорил просто и понятно. Рассоху больше всего растрогали его слова о тяжелой женской доле. Он произнес их так проникновенно, что она всхлипнула. С этого дня Рассоха стала самой ревностной приверженкой отца Никодима.
Сегодня он ходил с ней соборовать больную. Вначале Галинин думал, что они идут к прихожанке. Оказалось — нет. Умиравшая от туберкулеза легких молодая женщина была атеисткой. Врачи уже ничем не могли помочь ей. Какая-то дальняя родственница предложила позвать попа. Родители больной, тоже атеисты, после недолгого колебания согласились.
— Полюбовница женатого, — доверительно сообщила о больной Рассоха и назвала фамилию этого человека — Квашнин.
«Квашнин, Квашнин», — повторил про себя Галинин и вспомнил сутуловатого прихожанина лет тридцати пяти, появившегося в церкви два или три месяца назад. Во время богослужения Квашнин всегда стоял на одном и том же месте, устремив на Галинина печальные, полные внутренней тревоги и надежды глаза. В облике этого человека было что-то неприкаянное, сиротское. С тонкой церковной свечи оплывал воск, падал на костлявые пальцы, но Квашнин, казалось, не чувствовал ожогов. «Как он верит. Как верит», — умиленно думал Галинин, исподтишка поглядывая на Квашнина.
— Не от хорошей жизни, батюшка, он с этой самой Людмилой, к которой мы теперь идем, сошелся, — сказала Рассоха. — Его половина — самая вредная бабенка в нашем селе. Бухгалтером в сельпо сидит, а он в колхозной конторе работает. Она его по всему селу славит, а сама-то… — Рассоха сплюнула. — Хочешь верь, хочешь нет, батюшка, моего мужика тоже обхаживала, но мой не поддался ей. Квашнин, слышь, два раза на развод подавал — хотел с Людмилкой честь по чести жить, но его жена-стерва на суде такой вой подняла, такую напраслину на мужа возвела, что суд отказал ему. Двое детишек у них: девочка в пятый класс пошла, а малец несмышленыш еще. Сам-то он человек слабый, душевный, ему детей жалко, не может он, горемыка, дверью хлопнуть и уйти. А если бы и мог, то его половина все село взбаламутила бы, во все концы письма разослала: обижает, мол. Сама не живет путно и ему жить не дает.
Галинин решил в самые ближайшие дни подойти после службы к Квашнину и утешить его.
Из всех треб православной церкви соборование было для Галинина самым тягостным, неприятным обрядом. Но он и не помышлял отказывать тем, кто нуждался в его утешении.
Родители больной встретили его сдержанно, молча показали на дверь комнаты, где лежала Людмила.
Она была в сознании, даже усмехнулась, когда Галинин вошел к ней. Ее кожа была почти прозрачной, остро торчал нос, бескровные губы продолжали кривиться в усмешке, она попыталась что-то сказать, но, как только Галинин произнес изначальные слова молитвы и сделал первый мазок елеем, успокоилась. Он уже понял: этой молодой женщине осталось жить, может, день, может, считанные часы, внезапно подумал о Лизе и, расстроившись, чуть не выронил сосуд с елеем. Его голос дрогнул, по щекам покатились, запутываясь в рыжеватой бороде, слезы. Это произвело на всех — и особенно на Рассоху — большое впечатление.
Домой Галинин возвращался один, шел огородами, на которых желтела сложенная в кучи картофельная ботва. Земля была сухой, рассыпалась под ногами как песок. Хотелось понять — раскаялась в последние часы своей жизни Людмила или же ей суждено умереть грешницей? «Я ведь тоже грешен», — вдруг подумал Галинин.
Солнце пекло немилосердно. Было жарко, в глазах двоилось, липкий, противный пот, казалось, хлюпал под мышками. «Deus! Disecrne causam тает», — простонал Галинин и, цепенея от собственной дерзости, потребовал:
— Откройся мне, сыне божий! Тогда поверю, что ты с нами.
Весь оставшийся день он был возбужден, на вопросы жены отвечал сбивчиво. Чувствовал — с ним что-то происходит. Перед глазами вставали картины — немецкий танк, Ольга Ивановна, Ветлугин, Лариса Сергеевна. Разболелась голова. Лиза посоветовала лечь.
— Еще и восьми нет, — возразил Галинин, посмотрев на настенные часы, и начал ходить по комнатам, несколько раз открывал Библию, но читать не мог — буквы сливались в черные линии.
Показалось, что недомогание возникло от дерзостного обращения к Христу. Он отогнал эту мысль, сказал себе, что Христос жил почти два тысячелетия назад, никогда не вернется к людям.
Лег Галинин поздно. Через полчаса, услышав ровное дыхание жены, осторожно сполз с кровати, поправил гайтан[5]и, не надевая шлепанцев, ринулся на кухню — какая-то непреодолимая сила повлекла его именно туда. Там он потоптался, ощущая ласковое тепло еще не остывшей печи, покурил, бросил окурок в лохань под умывальником с медным хоботком и неожиданно услышал какой-то шорох. Около дома кто-то ходил, словно раздумывал — войти или нет. Душа наполнилась ожиданием, сладостными предчувствиями. Прошло несколько мгновений, и Галинин увидел Христа.
Христос, прекрасный и величественный, был в световом облаке, похожем цветом на только что выкачанный мед. Блики от этого облака трепетали на стенах, кухонная посуда светилась как бы изнутри, простенькая занавеска на окне и измятое полотенце на гвозде оказались расшитыми серебром. Галинин рухнул на колени и, бессвязно бормоча восторженные слова, пополз к скорбно застывшему Христу, простирая к нему руки. Душа переполнилась ликованием — божий сын снизошел. Захотелось выразить свой восторг страстными, полными любви словами, но Христос сделал движение головой, и Галинин понял: спаситель призывает его молчать.
Послышался шорох, вбежала Лиза — с распущенными волосами, в ночной рубахе. Обняв голову стоявшего на коленях мужа, встревоженно спросила:
— Что… что с тобой, милый?
— Смотри, смотри, — пролепетал Галинин и сразу понял: она ничего не видит.
А он видел! Христос продолжал стоять на прежнем месте, но световое облако потускнело, блики на стенах становились все незаметнее, занавеска и кухонное полотенце приобрели первоначальный вид. Прошло несколько секунд, и Христос исчез…
Проснулся Галинин свежим, бодрым, с улыбкой подумал: «Надо же такому присниться». Он никак не мог сообразить, который теперь час, решил, что время, должно быть, позднее: Лиза любила поспать; подоив корову, снова ложилась, просыпалась в десятом часу, а сейчас на стуле валялась скомканная ночная рубашка и слышались тихие шаги.
Старенькие шторы, висевшие еще в доме Лизиного отца, слабо пропускали свет, в спальне был полумрак. Вставать не хотелось. Прислушиваясь к шагам жены, Галинин подумал, что его Лиза — самая лучшая из всех женщин. Разве есть у кого-нибудь такие мягкие, шелковистые волосы? Разве можно сравнить большие серые глаза с какими-нибудь другими глазами?
Галинин вспомнил, что вчера накричал на нее, решил немедленно попросить прощения, но в это время ржаво скрипнула дверь.
— А батюшка где? — спросила Рассоха.
— Спит.
— Захворал?
— Тсс… — Лиза помолчала. — Ночью услышала стук, вбежала на кухню: он на коленях, что-то бормочет.
«Значит, не сон», — удивился Галинин, но и поверить, что это действительность, тоже не мог.
— Я так перепугалась, — продолжала Лиза. — Наверное, перенапрягся он.
— Знамо дело, — согласилась Рассоха. — На сто верст ни одной церкви, а душу облегчить всем надоть — вот и теребят его. Мой рассказывал: отпевать пешком ходили — пятнадцать верст туда, пятнадцать обратно.
— Обратно на машине приехали.
— На какой такой машине?
— Учителя в тайгу ездили — подвезли их.
Рассоха шумно высморкалась.
— Василь Иваныч, слышала, еще раз грозился в район написать насчет церкви.
— Все пишет и пишет, — пробормотала Лиза.
— Такой уж он человек, матушка, — сказала Рассоха. — Лучше бы у нас, верующих, спросил, нужна нам церква или нет. В клуб, говорит, ходите. А чего там хорошего-то? Кино только по субботам кажут, а так — танцы под гармонь. Молодым, может, и весело, а тем, которые в годах, никакой радости. Мой Коляня раньше каждый день в клуб бегал, а в остатние дни бросил. Чего, спрашиваю, как сыч в избе сидишь? Надоело, отвечает, пол ногами молотить, да и от гармониста, как от нашего папани, винищем несет.
— Муж по-прежнему пьет? — спросила Лиза.
— У него, матушка, это с перерывами. То запойно лакает, то тих будто теленок. Теперь я сама каждый день ему четвертинку покупаю. Больше ни-ни. — Рассоха помолчала, убежденно добавила: — Так-то лучше! Дома ночует и всегда в соображении. Непорядно[6] стал работать. Третьего дня хорошие деньги принес.
Они посудачили о сельских новостях. Приглушив голос до шепота, Рассоха сказала, что новый учитель, наверное, скоро женится: уж больно приглянулась ему красивенькая учителка; и хоть он еще не ходит с ней, все понимают — влюбился.
Галинин кашлянул. Лиза открыла дверь, встревоженно спросила, силясь разглядеть в полумраке лицо мужа:
— Проснулся?
— Угу.
— Еще полежишь или встанешь?
— Великолепно себя чувствую!
Лиза облегченно рассмеялась, стала собирать на стол.
2
Первую половину дня Галинин провел с женой — помог убраться, покормил кур: это всегда доставляло ему большое удовольствие. Перед обедом решил прогуляться — пошел через кладбище на лужок, по которому петляла тропинка. Трава была выше колен и уже пожухла, пахло чебрецом. В середине лета, когда начался сенокос, Галинин попросил разрешения скосить эту траву, даже деньги предлагал, но ему не позволили. И теперь, обрывая на ходу наполненные семенами коробочки, он подумал, что правление колхоза, должно быть, поступило так по наущению директора школы.
Встречаясь на улицах села с маленьким, худощавым человечком, на висках которого проступала седина, Галинин ощущал на себе откровенно враждебный взгляд. Долгое время он и понятия не имел, кто это. Потом Рассоха сказала — директор школы. Прихожане сообщали Галинину, что говорил про него Василий Иванович, что затевал. Лиза расстраивалась, а он отвечал, что слово божие проповедует по разрешению властей, не совершал и не собирается совершать ничего противозаконного.
В понимании Василия Ивановича все церковные обряды были вредными, он никак не хотел смириться с присутствием в селе попа, говорил об этом на всех районных совещаниях. Ему советовали соблюдать такт. Это еще больше распаляло Василия Ивановича, привыкшего во время своей спортивной карьеры принимать мгновенные решения. Была бы его воля, он собственноручно разобрал бы по бревнышку всю церковь, чтобы и следа от нее не осталось!
Василия Ивановича можно было осуждать, можно было не соглашаться с ним, но он действовал по внутреннему повелению. Именно такое впечатление осталось у Галинина после разговора с ним. Изъяснялся директор общими фразами, убедительных доводов не привел, но его негодование было неподдельным.
Жара в последние дни спала, и, хотя припекало по-прежнему, дышалось легко. На горизонте — там, где мутно вырисовывались хребты Сихотэ-Алиня, — все чаще и чаще собирались облака. Облетали листья, подолгу плавая в неподвижном воздухе. Оглянувшись, Галинин увидел звонницу с блестевшим на солнце крестом. Еще недавно с этого места она не проглядывалась. Летом на кладбище было много птиц. В тенистых кронах и кустах они устраивали гнезда, щебетали, пели с утра до вечера, а сейчас только дзинькали верткие синицы.
Остановившись на краю лужка, Галинин сел на кочку, расстегнул ворот подрясника, подставил солнцу лицо. Было тихо, пахло увядшей травой. Так он просидел несколько минут, предаваясь своим мыслям, убеждал себя, что появление Христа было вызвано конечно же переутомлением. Неожиданно вспомнил, что лег вчера не помолившись, даже лоб не перекрестил; с отвращением к себе решил: «Еще один грех совершил». Он ничего не видел, не слышал, испуганно вздрогнул, когда его окликнули.
— Даешь! — рассмеялся Ветлугин. — Если бы ты сейчас, к примеру, в секрете был, тебя любой немец прикончил бы.
Вместе с Ветлугиным были Лариса Сергеевна и Валентина Петровна. В легких ситцевых платьях они напоминали дачниц.
Галинин приветливо улыбнулся.
— Разве сегодня выходной?
— У меня свободный день, — объявил Ветлугин. — А у них, — он показал на девушек, — уроки в двенадцать кончаются.
— Понятно. — Галинин посмотрел на Ларису Сергеевну.
Она спокойно встретила его взгляд, и отец Никодим поймал себя на мысли: ему будет неприятно, если Ветлугин и Лариса Сергеевна поженятся.
— Никогда не была в церкви, — сказала Валентина Петровна и сразу же тревожно мигнула.
— Сегодня всенощная. — Галинин помедлил и неуверенно добавил: — Приходите, если есть время и желание.
— Можно?
— Приходите.
Из всех служб Галинин больше всего любил всенощную — полумрак, потрескивание свечей, отсвет на иконах, будто размытые, фигуры прихожан. В соборе, где иногда служил его наставник-архиерей, всенощная проходила торжественно — с песнопениями, с рыкающим басом протодьякона; голоса певчих устремлялись под высокие своды, на хорах кто-то умильно вскрикивал. Все это вызывало то радость, то грусть, то умиление.
Перед тем как пойти в церковь, Галинин долго умывался: фыркал над тазом, тер шею, полоскал рот. Даже Лиза обратила на это внимание, но он не смог объяснить ни себе, ни ей, почему умывается так тщательно.
В притворе пахло подгнившим деревом, лежала пестрядная дорожка, в приколоченных к стенам подсвечниках оплывали разрезанные напополам тоненькие свечи. «Даже на этом наживается», — Галинин покосился на церковного старосту — бойкого мужичка с жиденькой бородкой, в длиннополом пиджаке. Поговаривали, что он не чист на руку, но поймать его с поличным не удавалось. Староста подошел, сразу стал жаловаться на скудность средств, с надеждой в голосе добавил:
— Кабы чудо какое свершилось в нашей местности, деньги бы ручейком потекли.
Галинину было неприятно слышать это. Все свои деньги он отдавал на содержание церкви и на помощь бедным, с неприязнью подумал, что половина из них, должно быть, оседает в карманах этого словоохотливого мужичка. Ничего не ответил — прошел дальше.
На клиросе собирались певчие — трое мужчин и три женщины. Мрачноватый дьякон пристраивал на аналое молитвенник, псаломщик — нескладный парень с пугливым выражением на лице — торопливо поклонился, стал листать псалтырь. Пройдя в алтарь, Галинин постоял там несколько минут, стараясь сосредоточиться. Приложился глазом к щели в иконостасе, увидел прихожан с благочестивостью на лицах. В стороне от них озирался Ветлугин, Лариса Сергеевна что-то нашептывала приятельнице. К горлу подкатил комок — эти люди вели себя как экскурсанты! Захотелось удивить их, всколыхнуть их души, и Галинин, ощущая лихорадочный трепет во всем теле, стал поспешно облачаться, бормоча: «Господи Иисусе Христе сыне божий, помоги мне». Небольшие проповеди он произносил после богослужения, сегодня решил отступить от этого правила. На амвон вышел внешне спокойным, и лишь пульсирующая на виске жилка выдавала его волнение. Из кадила выпорхнул благовонный дымок, Галинин сглотнул и тихо сказал:
— «Кто не верит в бога, тот и в народ божий не поверит. Кто же уверовал в народ божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до сего вовсе. Лишь народ и духовная сила его грядущая обратит отторгнувшихся от родной земли атеистов наших…»
Одну из курсовых работ Ветлугин писал по «Братьям Карамазовым», сразу узнал слова старца Зосимы, понял, что устами старца Галинин обращается к нему, к Ларисе Сергеевне и Валентине Петровне, с осуждением подумал: «Нельзя использовать в проповедях чужие слова. Его паства, наверное, и не подозревает, кому в действительности принадлежат они. Да и сам Галинин не верит в то, что говорит, потому что он ведь не дурак, не темный, забитый человек. Нет у него твердой почвы под ногами. Когда-нибудь он сам поймет, что все его проповеди — просто красивые слова, а вера — желание познать то, чего не было и нет».
Торжественную тишину лишь изредка нарушали негромкие вздохи и легкие, словно дуновение, шорохи. Голос отца Никодима, высокий и чистый, как и произносимые им слова молитвы, ломался от волнения, и тогда дьякон вторил ему густым басом. С трудом сдерживая слезы, Галинин решил, что Лиза, Рассоха и он сам ошиблись, что Христос открылся потому, что он, отец Никодим, часто сомневается. И сразу подумал, что служба сегодня проходит как-то не так, что сегодня ему чего-то недостает.
Псаломщик торопливо бормотал «аллилуйя», на клиросе нестройно пели, мерцали свечи, плавал сладковатый дымок, под деревянные своды взлетало: «Господи помилуй, господи помилуй…» Все это наполняло душу умилением и восторгом, и Галинин не смог сдержать слез.
Возвратившись домой, он выкушал чаю, наскоро помолился и лег. Хотел сразу же уснуть, но не смог: в висках постукивали молоточки, перед глазами проплывали какие-то картины, на душе было неспокойно. Лиза прибиралась на кухне. «Не уснуть», — понял Галинин и представил себе, как утром у него будет разламываться голова. Когда Лиза легла, демонстративно повернулся к ней спиной.
Налетел тороп[7]. На кухне хлопнула форточка. Лиза хотела встать.
— Лежи, — страдальчески пробормотал Галинин и поднялся.
Перед глазами все прыгало, во рту было сухо. Закрыв форточку, он прошел в сени, где стояли ведра с водой, напился. За стеной шуршали листья, скрежетал оторвавшийся край крыши, тягуче скрипела калитка. Выскочил в одном исподнем, надел крючок. Деревья гнулись, сбрасывали уцелевшие листья. На улице будто наперегонки неслись клубы пыли. Галинин с грустью подумал, что по-настоящему теплых дней теперь не будет до весны.
На кухне он прислонился к печи, согрелся. Возвращаться в спальню не хотелось. Накинув на плечи висевший около двери старый пиджак, стал вспоминать всенощную. В туманном от дыма ладана и свечей воздухе все лица казались одинаковыми. Галинин вдруг понял, почему сегодня в церкви он чувствовал себя как-то не так. Сегодня не было устремленных на него глаз Квашнина, сегодня он не испытывал того волнения, которое возникало, когда он видел, как капает, сразу же остывая, расплавленный воск на костлявые пальцы. «Занемог, должно быть, бедняга после погребения своей возлюбленной», — решил Галинин и больше не вспоминал о Квашнине — стал думать о том, что в Библии правда, а что — нет. Принялся уверять себя, что Христос был и во плоти существует до сих пор, но в глубине сознания возникала и тотчас же исчезала мысль: это просто сказка, красивая сказка. И словно в отместку послышался уже знакомый шорох. Тупые удары в голове стихли, внутри все напряглось. Через несколько мгновений снова появился Христос. Заплакав от восторга, Галинин распростерся ниц, мысленно попросил: «Скажи что-нибудь, сыне божий, скажи». Христос разлепил уста, невнятно произнес:
— Я есмь.
Галинин вдруг почувствовал — надо оглянуться, и оглянулся. Позади него стояла Лиза с выражением отчаяния на лице.
— Успокойся, успокойся, милый, — она протянула руку.
— Сгинь! — потребовал Галинин.
Лиза осталась. Он решил, что в нее вселилась нечистая сила, и, дрожа от гнева, крикнул:
— Изыди, сатана!
Лиза вздрогнула, уткнулась лицом в ладони, худенькие плечи сотряслись от глухих рыданий. Что-то похожее на сострадание шевельнулось в душе, он привлек Лизу к себе и отшатнулся: в его объятиях была Лариса Сергеевна.
— Господи, помилуй меня, грешного, — пробормотал Галинин и упал…
Очнулся он на диване. Было раннее утро. Моросил дождь, однообразный и тихий. Мокрые ветки за окном, уже голые, были беспомощно растопырены, с их кончиков срывались капли, прозрачные и тяжелые. Лиза дремала, свернувшись калачиком, в кресле. За ночь она осунулась, подурнела. Галинин вспомнил, что сказал ему Христос, и подумал: «Вот и разрешились мои сомнения».
Лиза подняла голову, с тоской посмотрела на мужа. Он подошел к ней, ласково улыбнулся.
— Еще одно чудо совершилось! Я видел Его.
Лиза распахнула глаза.
Единственная дочь уже преставившегося протодьякона, она с ранних лет готовилась стать женой священнослужителя — такие браки среди духовенства были обычным явлением. Лиза не помышляла ни о какой любви — просто собиралась быть верной, преданной женой. Познакомившись с Галининым, влюбилась в него без памяти и теперь была не только хранительницей семейного очага, но и пылкой любовницей. Она верила в бога, но совсем не так, как верил Галинин, не говоря уже о тысячах других людей — тех, кто никогда не сомневался. Лизина вера была не потребностью души, не велением сердца, а традицией — следствием воспитания и образа жизни. Ей было приятно думать о боге, приятно сознавать, что он где-то там, в вышине, что он может наказать, но может и помочь. Лиза много раз убеждалась: после полосы невезения обязательно будет что-нибудь радостное. Но она ни разу не спросила себя, почему так происходит. Избавление мужа от неминуемой смерти не воспринимала как чудо, по-житейски думала: «Судьба». То, что было вчера и позавчера, считала переутомлением. Теперь же решила: «Галлюцинация!» Не отрывая от мужа расширенных глаз, тревожно сказала:
— Тебе к врачу съездить надо.
— К врачу? — удивился Галинин. — Зачем?
Лиза молитвенно сложила руки.
— Прошу тебя — съезди.
3
В тот же день Галинин уехал в Хабаровск — решил обратиться к врачу-частнику. Долго слонялся по улицам, пока не увидел на двери одноэтажного домика нужную табличку. Позвонил. Опрятная старушка провела его в небольшую комнату, обставленную просто и скромно, попросила подождать. Галинин опустился в глубокое кресло, обитое потертой кожей. Пахло хорошим табаком, напольные часы тихо отстукивали секунды, на круглом столе с вазочкой посередине лежали потрепанные журналы. Кроме двух кресел, стола, высокого шкафчика с резными дверцами и низкого дивана, тоже обитого потертой кожей, ничего другого в комнате не было. Здесь, видимо, пациенты ожидали приема.
Послышалось шушуканье, и через несколько секунд в комнате появился высокий сутуловатый старик — в вязаной кофте, в домашних тапочках с помятыми задниками, в пенсне на тонкой цепочке. В его усах были хлебные крошки, в руке — накрахмаленная салфетка. Перехватив взгляд Галинина, старик хохотнул, смахнул с усов хлебные крошки, воровато засунул салфетку под валик дивана и этим сразу расположил к себе. Галинин решил: через несколько минут все прояснится, его опасения развеются в пух и прах, но внутренний голос предупредил: «Не очень-то откровенничай».
— Чем могу служить? — церемонно спросил доктор.
Взвешивая каждое слово, Галинин начал рассказывать о себе. Доктор слушал внимательно. Это ободрило. Галинин стал говорить откровенней, неожиданно для себя рассказал о свершившемся на фронте чуде; почувствовал — сказал лишнее, с отчаянной решимостью воскликнул:
— Я в Иисуса Христа верю! Знаю, что он жил, любил людей, творил добро.
Доктор кивнул. Он тоже верил в существование Христа, хотя и был атеистом.
Галинин воодушевился, рассказал о своем отношении к Христу, добавил, что уже два раза видел его.
— Это самовнушение, голубчик, — ласково сказал доктор. — Вы постоянно думаете о Христе, представляете себе, какой он. И вот результат — увидели то, что хотели увидеть.
— Но я действительно видел его, так же близко видел, как вижу теперь вас, — обескураженно пробормотал Галинин.
Доктор снова кивнул.
— Все правильно, голубчик. Такие видения бывали и раньше, и всегда у людей впечатлительных, нервных. А вы именно такой — это я сразу же отметил.
— Неужели я серьезно болен?
— Ничего подобного, голубчик, ничего подобного! Просто вы переутомлены, ослаблены. Ведь война, фронт — это не только физические, но и душевные перегрузки. Возможно, это скоро пройдет, а возможно, понадобится длительный отдых. Поменьше думайте о боге, Христе. — Доктор сконфуженно кашлянул. — Я понимаю, такова ваша профессия, но все же постарайтесь беречь себя.
Он выписал Галинину успокаивающие капли, какие-то таблетки, попросил приехать к нему через месяц.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Шел дождь, косо подрезая забеленный туманом воздух. Начался он два дня назад, когда тороп пригнал скопившиеся над Сихотэ-Алинем облака. Дождь то усиливался, то стихал, но небо было обложено, и все понимали — лить будет долго. Заметно похолодало. Трава была измятой и спутанной, как нерасчесанные женские волосы, цветы в палисадниках свесили нарядные головки, лепестки обуглились. Земля уже пресытилась влагой, образовались лужи, на тропинках темнели наполненные водой следы. Это рождало в душе какую-то неосознанную тоску, от которой невозможно было спрятаться или убежать. Она проникала все глубже и глубже; перед глазами возникало прошлое, и никак не удавалось определить, чего больше в этом прошлом — хорошего или плохого.
Было воскресенье. Петька читал, уткнувшись носом в книгу, иногда поерзывал на стуле, лохматил волосы, улыбался или становился очень серьезным. В эти минуты Василию Ивановичу очень хотелось узнать, про что читает сын, но он помалкивал — боялся уронить авторитет.
Василий Иванович проснулся минут пятнадцать назад, стоял в подштанниках около окна. Виднелся двор — потемневший от воды сарай, скособоченный плетень, калитка, часть огорода и улица. По стеклу стекала вода, из прикрепленного к крыше желобка лилась в кадку вихляющая струя. Ветер был сильный, порывистый, и в кадку иногда попадали только брызги. Она была уже полной — вода перекидывалась через край, устремлялась постепенно мутнеющим ручейком к огромной, все увеличивающейся луже. К деревянному корытцу, стоявшему посередине двора, приблизился селезень, погрузил клюв в размоченный водой корм и сразу отошел, оскорбленно подпрыгивая жирненьким клинушком.
Василий Иванович поскреб под мышками, побарабанил пальцем по стеклу. Покосившись на Петьку, подтянул подштанники, вздохнул, хотел было пройти на кухню — там уже гремела чугунами Анна Григорьевна, но увидел спрыгнувшего с грузовика попа, насквозь промокшего, с похожей на мочалку бородой, и, не сдержавшись, помянул черта. Петька оторвал глаза от книги, удивленно посмотрел на отца.
Поп расплатился с шофером. Откинув подол подрясника, сунул кошелек в карман, закурил и, увязая в грязи, потопал по тропинке, проложенной через огороды. «Ишь как ловко смалит. В райцентр или в Хабаровск ездил. Небось жаловался на меня», — с неприязнью подумал Василий Иванович и одновременно отметил, что еще месяц назад поп был гладкий, а теперь отощал — костист, лопатки торчат, худобу лица даже борода не скрывает. Директору уже доложили, что Ветлугин, Лариса Сергеевна и Валентина Петровна были в церкви. В понедельник он собирался вынести им порицание, но еще не решил — публично или в кабинете. Надо было посоветоваться с женой.
— Пожаловал! — напустилась на него Анна Григорьевна. — Десятый час, а он еще в одном белье по избе разгуливает.
— Погоди, — сказал Василий Иванович. — Поговорить надо.
— Надень штаны — тогда и говори!
Василий Иванович обиженно посопел, поплелся в спальню, надел брюки. Он мог дать голову на отсечение, что Валентина Петровна смолчит, а Ветлугин и Лариса Сергеевна наверняка скажут что-нибудь неприятное.
— Чего стряслось-то? — спросила Анна Григорьевна, когда он снова появился на кухне.
Василий Иванович опустился на табурет, налил себе молока, отрезал ломоть хлеба.
— Завтра серьезный разговор будет. Но где говорить с ними — в учительской или в кабинете, не решил.
В жарнике[8] весело потрескивали дрова, на столе лежала горка крупно нашинкованной капусты — Анна Григорьевна собиралась варить щи.
— Не трогай их, — сказала она. — Ничего худого не было.
Василий Иванович был другого мнения. Служба в армии пополнила его лексикон словом «не положено», очень полюбившимся ему. Молодые учителя совершили то, что было им не положено.
Анна Григорьевна сновала от стола к печке, бесцеремонно задевала мужа локтем, и Василий Иванович наконец догадался, что так она поступает нарочно. Стало обидно. Он отодвинул недопитое молоко и ушел.
Петька, шевеля губами, перевернул страницы. Василий Иванович взглянул на обложку и, срывая зло, рявкнул:
— Нечего с книжечкой прохлаждаться — уроки учи!
— А я что делаю? — возразил Петька. — Алексей Николаевич всем велел «Преступление и наказание» прочитать.
Читал Василий Иванович мало и только газеты. Напустив на лицо строгость, спросил:
— Ро́ман?
— Роман, — поправил Петька.
— Ро́ман, — упрямо повторил Василий Иванович — раньше так говорили все: он, Анна Григорьевна, Петька.
— Алексей Николаевич велит ударение на втором слоге ставить, — объяснил сын.
Крыть было нечем.
2
Лужа все увеличивалась. Василий Иванович снял с гвоздя дождевик, взял лопату, вышел во двор.
Дождь был реденький, мелкий — обыкновенный осенний дождь. Дымы над избами валились набок, хотя ветра не было, растекались в стылом воздухе, смешивались с туманом. Облитая дождем трава поникла, на огромных лопухах ртутно поблескивали капли. Под навесом бродили куры, огненно-рыжий петел с великолепным гребнем строго поглядывал на своих подруг; от конуры метнулась, перемахнув через плетень, молодая резвая сучка с измазанным грязью животом; длинноухий кобель, гремя цепью, виновато помотал пушистым хвостом.
Физический труд Василий Иванович любил, все умел делать, но дома работал редко. Завхоз и подсобник по штатному расписанию школе не полагались, колхоз только числился шефом. Помимо административных обязанностей Василию Ивановичу самому приходилось привинчивать к дверям ручки, вставлять стекла, шпаклевать полы, ремонтировать замки, одним словом, быть и плотником, и стекольщиком, и слесарем. Анна Григорьевна часто говорила: «Для школы в лепешку расшибаешься, а в родном доме словно в общежитии живешь». Василий Иванович или отмалчивался, или виновато оправдывался.
Сегодня он решил пробыть весь день дома — прорыть канавку, починить калитку и сделать многое-многое другое, о чем почти каждый день просила жена.
Пахло сырым деревом, руки посинели от холода. Земля была мягкой, лопата легко входила в нее, но Василий Иванович все же вспотел, решил малость передохнуть. Потер поясницу и увидел Петьку. В армейской фуражке, державшейся на оттопыренных ушах, в стоптанных сапогах, в дырявой телогрейке, подпоясанной косо сидевшим ремнем, он уморительно был похож на отца. Вспомнился точно такой же осенний день. Василий Иванович, тогда еще мальчишка, стоял на этом же крыльце и смотрел на отца. Небо было обложено облаками, моросил дождь, так же пахло сырым деревом. Василий Иванович стал припоминать, что делал тогда отец, но не вспомнил. Память сохранила его уставшее лицо с густой сетью морщин, большие руки с вздувшимися венами. Мать сильно болела, часто лежала в больницах, отцу все приходилось делать самому — он даже корову доил. Мужики посмеивались над ним, а бабы жалели: четверо детей и сам вроде бы бобыль и вроде бы нет. Умер отец во время войны. Телеграмма с извещением о его кончине пришла в срок, но на похороны Василия Ивановича не отпустили. Сказали: «Не положено!» Два брата погибли на фронте, сестра жила с мужем где-то на Чукотке, — Василий Иванович даже не переписывался с ней. Мать он помнил смутно, а отца жалел. «Жалеть-то жалел, а старость ничем не скрасил», — подумал Василий Иванович. Работа, боксерская секция, Нюра — все это тогда казалось самым главным, самым важным. А отец… Василий Иванович даже не спросил, понравилась ему сноха или нет. Привел Нюру в дом и — баста. «И Петька, должно быть, так же поступит», — решил Василий Иванович и вздохнул.
— Ты чего, пап? — обеспокоенно спросил сын.
На душе потеплело, но Василий Иванович не выдал этого — с нарочитым неудовольствием проворчал:
— В отрепье вырядился. Разве носить нечего?
— Специально так оделся, помочь решил.
— Небось мать послала?
— Сам.
«Моя кровь», — растроганно подумал Василий Иванович, но ничем не выдал своего волнения.
— Дочитал ро́ман-то? — Он по привычке произнес это слово так, как всегда произносил, подумал, что сейчас Петька поправит его, но сын лишь снисходительно пояснил:
— Достоевского надо вдумчиво читать.
Василий Иванович понял: сын повторяет слова Ветлугина, подумал, что теперь Петька часто будет ссылаться на него. Стало неприятно, Василий Иванович приглушил неприязнь, деловито сказал:
— Алексей Николаевич, конечно, башковитый учитель, но ты и на другие предметы налегай.
— Уроки литературы — самые интересные, — доверительно сообщил Петька. — Раньше мне математика нравилась, теперь все время читать хочется.
Василий Иванович стал вспоминать, какие книги прочитал сам, но, кроме «Чапаева» и «Повести о настоящем человеке», ничего не вспомнил. Проворчал:
— Хватит лясы точить — работать надо.
Петька копал сноровисто, и очень скоро в канавку устремилась вода, мутноватый ручеек покатился к речке, растекаясь веером по огороду. Потом они починили калитку, приколотили отскочившие наличники.
— Летом капитальный ремонт сделаю, — пообещал Василий Иванович.
Петька улыбнулся.
— Каждую осень так говоришь.
Захотелось пожаловаться на свою директорскую участь, но Василий Иванович подумал: «Петька еще сосунок, не поймет».
3
К вечеру дождь усилился. Анна Григорьевна то и дело повторяла, что будто чувствовала это, успела всю картошку перебрать и подсушить. Они рано поужинали. Петька пододвинул к себе керосиновую лампу, снова стал читать.
— Ослепнешь, — сказала мать.
Он неохотно отложил книгу, сладко зевнул. Василий Иванович разулся, снял шерстяные носки, воровато швырнул их к печке.
— На боковую?
Анна Григорьевна посмотрела на часы.
— Только девять.
Василий Иванович удивился:
— А я думал — ложиться пора.
Петька пошатался по комнате, подошел к окну, радостно объявил:
— Снег!
Анна Григорьевна снова вспомнила о картошке. Василий Иванович тоже посмотрел в окно. Снег был густой, мокрый.
— Глянь-ка, Нюр, как сыплет.
— А чего глядеть-то? — сказала Анна Григорьевна. — Завтра придется катанки вынимать.
— До настоящих морозов еще далековато, — возразил Василий Иванович.
— Год на год не приходится. — Анна Григорьевна помолчала и добавила, что Петька сильно вытянулся и, наверное, тулупчик, который он носил, уже не налезет на него.
— В моем ходить будет, — проворчал Василий Иванович.
— А ты как же?
— В осеннем побегаю. Поддену безрукавку — в самый раз будет.
— Простудишься.
— И не думай про это! Меня никакая хворь не берет.
Анна Григорьевна ласково улыбнулась, покрутила головой.
Василий Иванович наморщил лоб, сердито кашлянул.
— Не слыхала, Нюр, привез Алексей Николаевич катанки или нет?
— Не слыхала.
— Беда с этим москвичом! По грязи в полуботиночках шлепает. И пальтишко, видать, только одно — демисезон. Привык так по своей Москве бегать. Катанки небось не привез. Обморозится, а нам — лишняя морока.
— Без катанок не перезимуешь, — согласилась Анна Григорьевна.
Василий Иванович помял рукой подбородок.
— Придется председателю сельпо поклониться… Какой размер у нашего москвича, как полагаешь?
Анна Григорьевна приложила палец к щеке.
— Должно быть, по росту.
— Самые большие попрошу! — сказал Василий Иванович и удовлетворенно посопел.
Петька снова подошел к окну.
— Валит и валит.
— Это хорошо, — одобрил Василий Иванович. — Скоро на лыжи встанем.
Петька метнулся к двери.
— Куда? — остановила мать.
— На чердак. За лыжами!
— Там же темно.
— А у меня вот. — Петька показал карманный фонарик, проверил, не села ли батарейка.
— И мои тащи! — распорядился Василий Иванович.
Зиму он любил. Когда удавалось выкроить свободный денек, брал ружье, уходил с утра в тайгу. С пустыми руками никогда не возвращался. Но не только охота привлекала его. Нравилось идти на широких, коротких лыжах по рыхлому снегу, вслушиваться в чуткую тишину. Часто останавливался, растирал нос, лоб, щеки. А как радостно было вернуться с прогулки в жарко натопленную избу! Анна Григорьевна бережно принимала уже окоченевшую тушку, говорила: «Вот и ужин». В прошлом году он наткнулся на шатуна, свалил его двумя меткими выстрелами. В тот же день взял в колхозе лошадь, поехал вместе с Петькой за добычей. Сын счастливо улыбался, смотрел на отца как на героя.
Прислушиваясь к доносившимся с чердака шорохам, Василий Иванович предвкушал прогулку на лыжах и вдруг вспомнил, что так и не свозил учителей в грибное место, хотя и обещал, почему-то решил, что когда-нибудь Ветлугин припомнит ему это, стал думать о предстоявшем объяснении с ним, прикидывал, что скажет он сам и что ответит ему молодой учитель. Как только Петька принес лыжи, успокоился, любовно повертел их, снова глянул в окно — кругом было белым-бело.
— Будете ложиться или до самого утра с лыжами не расстанетесь? — рассерженно спросила Анна Григорьевна.
Петька отнес лыжи в сени, быстро разделся и лег. Василий Иванович прошлепал босыми ногами в сени. Поеживаясь от холода, взял ведро, доверху наполнил рукомойник, с удовольствием пофыркал над лоханью. Залезая в нагретую женой постель, блаженно вздохнул.
— Чувствуешь, как дует? — спросила Анна Григорьевна.
Занавеска шевелилась, и тоненько дребезжали стекла.
Василий Иванович дипломатично промолчал.
— Завтра конопатить придется, — пробормотала Анна Григорьевна. — Совсем обветшал наш дом.
Василий Иванович хотел сказать, что летом обязательно отремонтирует избу, но полной уверенности, что он выполнит обещание, у него не было. Анна Григорьевна пододвинулась к нему, шепотом сообщила, что ждет младеня.
— Не ошиблась? — осипшим от волнения голосом спросил Василий Иванович.
Жена рассмеялась. Он неловко чмокнул ее в щеку и почувствовал — увлажняются глаза.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Вот уже неделю Колька не посещал школу. Ветлугин собирался сходить к нему, но все откладывал. Утром решил: «Сегодня обязательно».
Холода так и не наступили: ветер принес с океана тепло, снег осел, появились лужицы. На переменках мальчишки кидались снежками. Стены школы были покрыты прилепившимися к бревнам белыми лепехами. Василий Иванович озабоченно поглядывал в окно, то и дело повторял:
— Лишь бы стекла не раскокали.
Отойдя от школы, Ветлугин воровато осмотрелся, скатал снежок и, прицелившись, кинул. Хотел попасть в дерево, но промазал.
— Вот как надо! — услышал он и увидел, как снежный комочек угодил точно в середину ствола. Лариса Сергеевна вытерла платочком руки. — Метко?
— Прямо по-снайперски… А Валентина Петровна где?
— Диктант с отстающими проводит.
— У вас, надеюсь, таких нет?
— Есть. Но я с ними возиться не собираюсь.
— Заставят! Вспомните, что говорил на последнем педсовете Батин: «Наша школа должна добиться стопроцентной успеваемости».
— Пусть добивается! У меня свое мнение: школа не цирк, а учитель не дрессировщик. Кто хочет учиться, тот учится, а те, кто на уроках баклуши бьет, пусть на себя пеняет. Свое свободное время на лентяев тратить не намерена. И оценки натягивать не буду.
— Этого я тоже делать не стану, — сказал Ветлугин. — Но помочь неуспевающим хочу.
— Много у вас таких?
— Человек десять — двенадцать.
— Всего?
Ветлугин кивнул.
— Хочу добиться, чтобы ни одного не было!
Лариса Сергеевна взглянула на него с явным интересом:
— А Рассоха как учится?
Ветлугин помрачнел.
— По моему предмету у него все в порядке, но другие учителя жалуются. И в школу почему-то перестал ходить. Сегодня вечером с ним и его родителями объясняться буду.
— Бесполезное дело!
— Почему?
Лариса Сергеевна помолчала.
— Он заявил Валентине Петровне, что на работу устраивается.
— Разве они встречаются?
Лариса Сергеевна снова помолчала.
— Вчера вызвал ее на крыльцо и по всем правилам объяснился в любви. Даже какое-то стихотворение прочитал.
— Будет жалко, если он бросит школу, — огорчился Ветлугин.
— Я тоже так думаю, — сказала Лариса Сергеевна и предложила: — Давайте вместе к ним сходим.
Еще несколько дней назад она никуда бы не пошла с Ветлугиным вдвоем, а теперь решила: «От своей судьбы не уйдешь». В последнее время Лариса Сергеевна много размышляла и поняла: отец Никодим не разведется с женой и не отвернется от бога, а Ветлугин — вот он: смотрит влюбленными глазами, даже сделать полный вдох боится. Ей вдруг стало легко. Она решила не только сходить с ним к Кольке, но и разрешить поцеловать себя.
— Ну как? — весело спросила Лариса Сергеевна. — Возьмете меня?
— С превеликим удовольствием! — выдохнул Ветлугин.
Ему уже давно хотелось поговорить с этой девушкой откровенно. Однако — так уж получалось — они не провели ни одного вечера с глазу на глаз — всегда были с Валентиной Петровной. Ветлугин не сказал Ларисе Сергеевне и сотой доли того, что хотел бы сказать. Объясниться с бухты-барахты не мог: для этого требовался хоть какой-то повод, а его-то как раз и не было. Ведь нельзя же было считать поводом тот отпор, который они дали Батину, когда он позвал их вместе с Валентиной Петровной в кабинет и начал рассуждать о религии. Ничего нового директор не сообщил — добросовестно повторил то, что было написано в атеистических брошюрах, что говорили лекторы. Лариса Сергеевна так высмеяла его, что Василий Иванович на несколько секунд потерял дар речи. Потом, постукивая по столу карандашом, стал твердить с паузами: «Не положено…», «Не положено…», «Не положено…» Ветлугин негодовал, до самого вечера был в скверном настроении, спрашивал себя: «Как он смеет? Почему сам определяет, что можно мне, а что нельзя?..»
Лариса Сергеевна и Ветлугин договорились встретиться в семь вечера. Он виделся с ней каждый день в школе, иногда обедал у девушек, но все это не могло сравниться с предстоявшей встречей, которую можно было назвать одним словом — свидание.
Ветлугин наваксил ботинки, выгладил брюки, разложил на топчане свежую сорочку. Он еще не решил, что скажет красивой учительнице, — просто хотелось побыть с ней вдвоем. Ветлугин наивно полагал: никто даже не подозревает о его чувствах. Но учителя уже давно говорили о свадьбе как о деле решенном и лишь гадали, когда она будет — до Нового года или после.
Учителя рассуждали трезво: глухое село, молодых людей с образованием раз-два и обчелся, а москвич — всем женихам жених. Лариса Сергеевна усмехалась, когда Валентина Петровна сообщала ей, о чем толкуют учителя.
За стеной Галина Тарасовна двигала на шестке чугуны, что-то выговаривала ребятишкам. В первые дни это мешало сосредоточиться, потом Ветлугин привык. Тепло в хате держалось плохо, он с ужасом думал: «Что же будет, когда начнутся настоящие морозы?» Сказал об этом хозяйке. Она развела в ведерке глину, проконопатила мхом щели, обмазала их. Не помогло! Ветлугин чихал, кашлял, то и дело менял носовые платки. Иногда казалось — поднялась температура, но проверить это он не мог: градусника у Галины Тарасовны не было, а фельдшерский пункт находился далеко. Можно было бы попросить градусник у Галинина, но идти к нему не хотелось. О фронтовом приятеле напоминали лишь удары церковного колокола да проходившие мимо окон богомольцы. В прошлое воскресенье было венчание. Впереди свадебной процессии шел дружка в фуражке, украшенной бумажным цветком, за ним — жених и невеста. Он — молодой, губастый — был в расстегнутом тулупе, в новой шевиотовой паре, в косо надетой долгушке, а какой была невеста, рассмотреть не удалось — лицо скрывал надвинутый на глаза пуховый платок. Позади шагали вразброд, выбирая места посуше, родители, домочадцы, подруги и приятели — все чуточку хмельные.
— Дней пять гулять будут, — сказала Галина Тарасовна, и Ветлугин подумал, что она, должно быть, вспомнила свою свадьбу.
Неделю назад хозяйка познакомила его с ухажером — степенным мужиком лет пятидесяти. Он каждый день приходил к ней, приносил ребятишкам гостинец — кулек слипшихся карамелек, шумно чаевничал на кухне, держа блюдечко на растопыренных пальцах, все уговаривал Галину Тарасовну сойтись с ним, но она не спешила с этим, бесцеремонно выпроваживала воздыхателя, когда наступало время укладываться спать.
После работы она топила печь, кормила детей, доила корову, приготовляла пойло истошно визжавшему поросенку, потом, усталая, стучалась к Ветлугину и, если он не был занят, разговаривала с ним о всякой всячине до тех пор, пока не приходил ухажер. Галина Тарасовна расспрашивала про Москву, про мать, про умершего давным-давно отца, вспоминала свою жизнь на Тернопольщине и добавляла, что никогда не вернется туда, что уже привыкла тут.
Однажды она спросила:
— Здешний поп, как я поняла, с вами на фронте был?
— Точно, — ответил Ветлугин.
Хозяйка вздохнула.
— Чего же в гости к нему не ходите, а он к вам?
— Нет у нас теперь общих тем для разговоров! — ответил Ветлугин. — Бога нет — вы сами убедились в этом.
Галина Тарасовна задумалась. Ее лицо — чернобровое, с морщинками около губ и глаз, с красивым, но уже потерявшим свежесть ртом — стало строгим.
— Я-то убедилась. Раньше бог вот тут был, — она прикоснулась к сердцу, — а потом почему-то ушел. Может, это и хорошо, а может, и плохо. Самое главное для меня теперь — детей вырастить. Ради них, наверное, и сойдусь с ним. — Хозяйка показала рукой в том направлении, где находился дом воздыхателя. — А про вашего приятеля я просто так спросила.
Ветлугин одевался, когда к нему постучали.
— Войдите.
Увидел Ларису Сергеевну и онемел.
Она с любопытством осмотрелась, остановила взгляд на его груди. Ветлугин только теперь сообразил: на нем одна майка; извинился, стал напяливать рубаху.
— Не суетитесь, — мягко сказала Лариса Сергеевна и помогла ему застегнуть ее.
Ветлугин ощутил прикосновение ее тонких красивых пальцев и чуть не задохнулся от волнения. Засунув под ремень большие пальцы, расправил на сорочке складки, преувеличенно-бодро сказал:
— Порядочек!
Лариса Сергеевна сняла с полки томик Блока.
— Можно домой взять?
— Разумеется! — Ветлугин подумал, что она действительно похожа на Незнакомку, и не только на нее — на всех женщин, которых воспевал Блок, мысленно пробормотал: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо — все в облике одном предчувствую Тебя». Конечно же хотелось бы сравнивать Ларису Сергеевну с Лизой Калитиной, но чего не было, того не было.
Ветлугин уже давно догадался, что цинизм и бравада некоторых мужчин — всего лишь защитная маска, скрывающая их истинное отношение к женщине: боль, тревогу, ревность, восхищение и многое другое. Не отдавая себе в этом отчета, люди почему-то стремились казаться хуже, чем они были. Ветлугин решил: так, наверное, проще и легче жить. Очень часто, возмущенный какой-нибудь несправедливостью, Ветлугин начинал «качать права», резал в глаза правду-матку. Одним это нравилось, другим — нет. Именно поэтому и в армии, и в институте начальство относилось к нему настороженно.
Лариса Сергеевна попросила газету, аккуратно завернула книгу. Ветлугину это понравилось. Он чувствовал: надо что-то сказать, но язык будто присох и путались мысли. Если бы она не была такой красивой, то он, разумеется, не стал бы молчать. Но в присутствии Ларисы Сергеевны ему почти всегда становилось не по себе. Иногда хотелось беспричинно смеяться, а чаще делалось грустно-грустно — хоть слезы лей.
Он украдкой посматривал на нее, надеялся увидеть на лице что-нибудь такое, что окрылило бы, позволило бы вздохнуть полной грудью, но в затуманенных печалью глазах не появлялось ничего нового, и улыбка была прежней.
— Рассохи уже дома, — сказала Лариса Сергеевна. — Вот я и решила — лучше пораньше сходить.
— Правильно решили. — Ветлугин обреченно подумал, что эту девушку привели к нему лишь Колькины дела.
2
Изба, в которой жили Рассохи, была самой неказистой в селе, и стояла она как-то не так — вполоборота к другим избам. Тропинка в этом месте делала извив — огибала торчавший угол рассохинской избы. Завалинка была низенькой, наспех насыпанной; черный, уже начавший разрушаться вывод[9] нахально возвышался на потемневшей крыше, залатанной свежей дранкой; ступеньки крыльца стерлись.
Лариса Сергеевна постучала в крайнее от крыльца окно и сразу же потянула на себя отчаянно заскрипевшую дверь. В сенях было темно, пахло кислой капустой, огуречным рассолом. Ветлугин наткнулся на бочку, ушиб колено.
Рассохи ужинали. Посреди выскобленного стола стояла огромная миска — одна на всех. Колька смутился, хотел встать и выйти, но раздумал. Ребятишки — их было шестеро — таращились на Ветлугина и Ларису Сергеевну. Тимофей Тимофеевич постучал деревянной ложкой по столу, и они снова принялись хлебать щи, бросая взгляды на нежданных гостей. Рассоха прытко встала, шаркнула рукой по юбке, стряхивая крошки.
— Может, повечеряете с нами?
Тимофей Тимофеевич мигнул ребятишкам. Они потеснились, освобождая место на лавке.
— Спасибо, спасибо. — Ветлугин подумал, что надо было прийти позже.
— Тогда в гридню ступайте. — Рассоха кинулась проводить учителей, но Тимофей Тимофеевич выразительно кашлянул, и она послушно села.
Гридня была просторной, неуютной. На стенах висели фотографии, изображавшие хозяйку и хозяина, вместе и порознь, их родителей, детей, родственников.
— Кажется, не вовремя пришли, — пробормотал Ветлугин и помог Ларисе Сергеевне снять пальто.
— Ничего страшного.
Она подтащила и поставила возле печки расшатанный стул, села, оправив юбку, Ветлугин взглянул на круглые колени и уже ни о чем другом не мог думать. Лариса Сергеевна перехватила его взгляд. Он постарался придать лицу равнодушное выражение, обрадовался, когда вошла Рассоха.
— Мужа и сына тоже позовите, — потребовала Лариса Сергеевна.
От Тимофея Тимофеевича чуть попахивало водочкой, глаза были добрые, увлажненные.
— Не желает ходить в школу! — сразу объявил он, показав пальцем на Кольку.
— Вымахала орясина, а ума нет, — добавила Рассоха.
Ветлугин стал уговаривать Кольку не бросать школу. Мать радостно кивала, отец переводил глаза с учителя на сына.
— Семь раз отмерь, один отрежь! — сказал напоследок Ветлугин, очень довольный своим красноречием.
— Уже отрезал, — пробормотал Колька.
— Вот возьму ремень и отхлестаю! — пригрозила Рассоха.
Колька боязливо отступил к двери.
— Любит она это, — сказал Тимофей Тимофеевич. — Даже мне иной раз достается.
Обращаясь к Ветлугину и Ларисе Сергеевне, Рассоха пожаловалась на мужа:
— Только горе с ним, Нюхалом! Неделями пьет, в одном исподнем, бывает, возвращается. Сами видите, как живем. Детей делать мастак, а как и чем кормить, ума не прикладывает. Вона скольких наворотил! — Она махнула рукой в сторону кухни, где возились ребятишки.
— Не блажи, — добродушно прогудел Тимофей Тимофеевич. — Сейчас тебе грех на меня жалиться.
— Господи! — взвыла Рассоха. — Ведь уже было же так.
— Когда?
— Вона! — Она посмотрела на Ветлугина и Ларису Сергеевну. — Даже память отбило проклятое винище. Я на сносях была, когда он хлестать стал. Так втымеж[10] хлестал, что страшно делалось — ничего не видит, ничего не слышит. А потом взял и сбег. Целую неделю дома не ночевал. Я как шалая по лесу бегала, повсюду, где самогон варили, искала его, да так и не нашла. Воротился — глядеть страшно: рожа распухла, руки-ноги в болячках, заместо справных портков рванье надето. Где был и с кем, не помнит. Утром опохмелиться дала. Выпил, утер губы и пообещал — больше ни-ни. Аккурат перед войной это было.
— Нагородила, — проворчал Тимофей Тимофеевич.
— Вот и потолкуй с ним! Обещал бросить, а как пришел с войны, еще сильнее хлестать стал.
— Уважительная причина. За четыре года такого насмотрелся, что только это и спасало.
— Я тоже воевал, — сказал Ветлугин, — однако ж не пью.
Тимофей Тимофеевич кивнул.
— Говорят, с нашим попом порох нюхали?
— Три месяца в одном отделении провоевали.
— Чудно. — Тимофей Тимофеевич покрутил головой. — Был человек солдатом и вдруг попом сделался. На фронте у всех одно направление было, а как мир наступил, мы по разным дорожкам потопали. Теперь каждый про свое думает, о себе печется.
Ветлугин подумал, что русский человек, особенно под мухой, любит пофилософствовать.
Можно было уходить, но Тимофей Тимофеевич, судя по выражению его лица, склонен был продолжать разговор. Ему действительно хотелось рассказать, что в молодости он тешил себя разными надеждами, потом женился, и все пошло прахом. На жену ворчал — рожает часто. А она в ответ: «Сам виноватый». Ничего такого, что все бабы тайком делали, она не позволяла. До войны четверых сладили и после нее троих. Самый меньший еще мамкину титьку сосет. Никто не помер — не то что у цацы этой, Василия Ивановича. У него, Тимофея Тимофеевича, хоть он и худо живет, все детишки, словно боровички на опушке, крепенькие да складненькие. До самой слякоти босиком бегают и не болеют. Кабы не орава эта, он многого достиг бы. Чего именно, не может объяснить, но чувствует — достиг бы. Может, и впрямь Кольке надо в школу ходить? Грамотным все же легче жить. На учителя можно выучиться или на доктора. А вилами навоз кидать или ямы копать — дело тяжелое и не больно прибыльное. Он, к примеру, на совесть вкалывает, а начисляют с гулькин нос. Заемы, то да се — и везде наличные подавай. А где их взять-то? Без халтурки никак не обойтись, только она и выручает. Что на трудодень положат — еще не определено. В колхозной конторе покуда костяшки на счетах перекидывают. Хорошо, если прибыль будет, а если нет? Волком выть — ничего другого не остается. В прошлом году всего по триста граммов выдали. Разве на такую ораву хватит? Нет, Колька правильно решил — работать. Учителям легко говорить — учись, им за это деньги платят. Мать, конечно, хвост распушит, если сын выучится, но ведь и обстоятельства учитывать надо. Пока он только четвертинкой обходится. А вдруг опять? Колька не даст семье сгинуть. Вон он какой, одно слово — сын. Ему небось, как и другим парням, обуться-одеться хочется. Скоро девок тискать начнет — года подошли. Он, отец, это понимает…
Учитель и учителка перебрасывались взглядами, косились на дверь. Жена, курячьи мозги, ничего не уловила — снова начала талдычить про Кольку, а он, Тимофей Тимофеевич, враз смекнул, что к чему, сказал, что в клубе, судя по времени, уже начались танцы.
— Они, — Рассоха показала на Ветлугина, — не ходят в клуб.
— Досель не ходил, а сегодня, может, пойдет, — возразил Тимофей Тимофеевич.
Усмехнувшись про себя, Ветлугин подумал, что в селе ничего не скроешь от чужих глаз, что вся его жизнь на виду.
3
— Может быть, в самом деле в клуб сходим? — спросила Лариса Сергеевна, когда они очутились на улице.
— С вами хоть на край света!
Молодая учительница поощрительно улыбнулась. Достаточно было одного движения, чтобы вроде бы невзначай притронуться к ней. Захотелось привлечь девушку к себе, но он не осмелился сделать это; сразу же пожалел, что не осмелился, и снова не нашел в себе силы поступить так, как требовало внезапно вспыхнувшее желание.
— Поторопимся, — сказала Лариса Сергеевна.
Днем повсюду тускло поблескивали лужицы, снег был рыхлым, насыщенным влагой, а сейчас воздух словно бы густел от все усиливающегося холода. Затвердевшие лужицы стали скользкими, снег покрылся ледяной коркой, подошвы ощущали скованные морозом бугорки и наросты. Ветлугин поднял воротник пальто, повернул лицо к Ларисе Сергеевне.
— Озябли.
Она не ответила, и он обидчиво смолк. А если бы посмотрел на нее внимательней, то увидел бы: она о чем-то напряженно думает.
Улицы были пусты. Лишь около чайной толпились люди, слышались их голоса. Лариса Сергеевна повела Ветлугина напрямик, и очень скоро возникли чуть освещенные окна клуба. Она легко перебежала по перекинутому через канаву бревну, а Ветлугин едва не грохнулся — шатался, нелепо размахивая руками. Лариса Сергеевна весело рассмеялась, и на душе сразу стало радостно и хорошо.
Курившие на крыльце парни расступились, пропуская их. На сцене сидел пьяненький гармонист, гонял пальцы по кнопкам и клавишам. На сдвинутых скамейках лежали вповалку телогрейки, пальто, полушубки. Парни танцевали в шапках, девушки спустили платки на плечи — в клубе тоже было холодно.
— Потанцуем? — спросила Лариса Сергеевна.
Ветлугин виновато улыбнулся.
— Не умею.
Шутите?
— Честное слово, не умею.
— Жаль.
«Даже танцевать не научился, олух!» — обругал себя Ветлугин.
Увидел раскрасневшуюся Валентину Петровну, обрадованно воскликнул:
— Смотрите, кто пришел!
Срывая на ходу платок, она подбежала, возмущенно проворчала, косясь на возникшего в дверях Кольку:
— Совсем сдурел. Целый час по селу ходила, думала, отвяжется, а он… — Валентина Петровна неожиданно хихикнула, подула на окоченевшие пальцы. — Зябень — просто ужас.
Лариса Сергеевна посмотрела на свои ноги в черных ботиках.
— Скоро придется валенки надевать.
— Завтра в самый раз будет, — сказала Валентина Петровна.
Зиму Ветлугин не любил. Осенью, когда начинались нудные дожди, думал — скорей бы прошли холода, мечтал о весне. Чем больше укорачивался день, тем хуже становилось на душе.
— Чего не танцуете? — спохватилась Валентина Петровна.
— Не с кем. — Лариса Сергеевна произнесла это так насмешливо, что Ветлугин готов был сквозь землю провалиться.
Валентина Петровна удивленно посмотрела на Ветлугина. Он развел руки.
— А я не могу без танцев! — весело объявила толстушка и потащила Ларису Сергеевну в центр круга.
Ветлугин поймал сочувственный взгляд Кольки, через силу улыбнулся ему, быстро оделся и ушел.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Из всех праздников Ветлугин больше всего любил Новый год. Это был семейный праздник, он привык считать его самым главным. В детстве в этот день его ждали игрушки, о которых он мечтал с весны или лета. Как приятно было проснуться и увидеть утром около кровати уже распакованный автомобиль с открывавшимися дверцами, подъемный кран с поворачивавшейся стрелой или что-нибудь другое, от чего начинало колотиться сердце. В этот миг все вокруг преображалось, становилось таким прекрасным, что хотелось визжать от восторга. Потом Ветлугину стали дарить книги — роскошное издание «Глобуса», романы Жюля Верна, Фенимора Купера, описания приключений Миклухо-Маклая, Левингстона, Стэнли, очерки из жизни животных и растений. Через некоторое время на его этажерке появились томики Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, и перед ним открылся огромный мир.
Последние новогодние подарки Ветлугин получил 1 января 1941 года. Тогда он и не подозревал, что очень скоро детство ему будет только сниться… Гул станков, пятна мазута на выщербленных цементных плитах, холод, скрученная в тугую спираль синеватая стружка, выбегающая из-под резца, а рядом такие же, как он, пацаны, с которых теперь спрашивали как со взрослых. Через два года вчерашние мальчишки стали солдатами. Один Новый год Ветлугин встретил в теплушке, другой — в госпитале.
Василий Иванович знал: молодой учитель перестал якшаться с попом, самодовольно думал, что это результат его, директорских, стараний. При каждом удобном случае говорил:
— Правильно, Алексей Николаевич, сделали, что отвадили попа. Они народ дошлый: раз — и хомут.
— Неужели всерьез так считаете? — удивлялся Ветлугин.
— А то как же! — отвечал Батин.
Ветлугин усмехался про себя и спешил отойти — слушать директора было неинтересно. Алексей осознавал, что Галинину никогда не удастся вызвать в его сердце сочувствия к тем догмам, которые исповедует и проповедует тот. Однако в последнее время все чаще и чаще возникала мысль, что он, Ветлугин, поступил неправильно, порвав с Галининым. Как-никак их связывал фронт, а это в понимании молодого учителя было очень важным, можно сказать, определяющим в его отношении к тому, с кем он рубал из одного котелка, делился последней щепоткой махорки, мерз в окопе. Ветлугин интуитивно чувствовал, что Галинин нуждается в его помощи: может быть, совете, может быть, участии, что Володька, ставший теперь отцом Никодимом, просто не видит той пропасти, на краю которой стоит. Хотелось встретиться с Галининым, поговорить, поспорить, но удобного повода для этого не было.
Лариса Сергеевна похорошела еще больше. На следующий день после его бегства с танцев она ни о чем не спросила; он тоже промолчал. Учителя переводили удивленные взгляды с Ветлугина на Ларису Сергеевну, спрашивали друг у друга, почему они такие невеселые. Говорить об этом с Ларисой Сергеевной было бессмысленно, а Валентина Петровна сама ничего не понимала — подъезжала к приятельнице и так и этак, но на вопросы получала не очень вразумительные ответы.
Но именно она, Лариса Сергеевна, предложила встретить Новый год в школе, в одной общей компании. Это всем понравилось. Василий Иванович даже подосадовал, что такая хорошая идея пришла в голову молоденькой учительнице, а не ему, директору школы.
После уроков учителя теперь не торопились домой — обсуждали, как понаряднее украсить коридор и тот класс, где будет накрыт праздничный стол. Анне Григорьевне, как самой опытной кулинарке, поручили составить меню. Все советовали включить в него то, что любили сами. Вначале Анна Григорьевна внимательно выслушивала учителей, потом поняла — на всех не угодишь. Мусоля карандаш, что-то подсчитывала, бесцеремонно отгоняла от себя советчиков. Молодежь обсуждала — приглашать баяниста или танцевать под патефон. Ветлугину было все равно. Валентина Петровна доказывала: танцы под баян — всем танцам танцы. Но учителя согласились с Ларисой Сергеевной, когда она сказала, что баянист никакого отношения к школе не имеет, что лучше обойтись без него.
За несколько дней до Нового года Василий Иванович привез елку. Большая и пушистая, она лежала на снегу перед школьными окнами. Ветлугин часто смотрел на нее. В памяти возникало полузабытое: угли в печи, аккуратненькая елочка, стол под белоснежной скатертью, дымящийся пирог с мясной начинкой, аппетитно оттопыренные ножки хорошо прожаренного гуся, фрукты в хрустальной вазе, конфеты и в самом центре стола бутылка шампанского в блестящем ведерке, наполненном мелко наколотым льдом. Принаряженная мать, бабушка в батистовой кофточке и черной юбке, дядя в накрахмаленной сорочке, его красивая жена — все нетерпеливо поглядывали то на часы, то на черный репродуктор, все ждали выступления Калинина. Как давно и вроде бы совсем недавно было это. И как многое изменилось с тех пор. Бабушка умерла, дядя погиб на фронте, его красивая жена обзавелась новым мужем, мать стала старенькой-старенькой. Как она встретит Новый год? Где? С кем? Может быть, пойдет к соседям, а может быть, рано ляжет спать. Ветлугин не сомневался: мысленно она будет с ним.
Как только ребят распустили на каникулы, елку внесли в класс, из которого были убраны парты. Василий Иванович насадил на основание ствола крестовину, вместе с Ветлугиным поставил елку. Она уперлась макушкой в потолок.
— Великовата, — огорчился директор. — Придется подпилить чуток.
— Пусть так будет, — сказала Анна Григорьевна.
— Не положено. Звезду надо нацепить — без нее неинтересно.
Василий Иванович принес ножовку, ловко отпилил чурбачок. Елка дышала холодом, ветки прижимались к стволу, как капустные листья к кочерыжке. Через несколько минут на них появились крохотные капельки. Ветви распрямились, ощетинились иголками. Запахло хвоей.
Украшать елку поручили Ветлугину. Взобравшись на табурет, он стал прицеплять к веткам оклеенные разноцветной бумагой спичечные коробки, конфеты в красивых обертках.
— Повесьте-ка! — Лариса Сергеевна протянула ему грецкие орехи, обернутые серебряной бумагой. Ее голос звучал ласково и взгляд был приветливый.
Ветлугин повесил орехи.
— Что еще вешать?
Она отступила на шаг, окинула елку придирчивым взглядом.
— Сверху гирлянду спустим.
— Давайте!
— Это в самый последний момент делается.
Ветлугин спрыгнул с табуретки…
2
Галинин тоже готовился к встрече Нового года, хотя самым желанным праздником было теперь рождество. До войны в его семье встреча Нового года проходила не так, как у Ветлугина. Мать Галинина, строгая и властная, считала этот праздник не ахти каким, поэтому елку сыну не устраивала, игрушек не дарила. Да и в другие праздники она охотней покупала ему новые штаны или рубаху, а не игрушки, о которых он мечтал. В ее отношении к сыну было больше сдержанности, чем сердечности. Но это вовсе не означает, что мать Галинина не любила сына. Просто она была сиротой, рано овдовела, привыкла всего добиваться сама, очень хотела, чтобы сын походил на нее. А он рос другим.
Нет, новогодние праздники в детстве и отрочестве не оставили в душе Галинина ни одного радостного следа. Потом началась война. Два Новых года он встретил на фронте. Запомнились стылые блиндажи, пущенные по кругу помятые фляжки с водкой, суровые лица однополчан, гадавших, что их ждет — ранение, смерть, или, быть может, посчастливится, и они доживут до того дня, который с каждым броском, с каждой атакой все ближе и ближе.
Церковный староста и псаломщик пригласили его отметить Новый год вместе, но он сослался на недомогание — слишком неинтересными, примитивными казались ему эти люди.
Изрисованные морозными узорами стекла слабо пропускали дневной свет. По комнате плавал кухонный чад: Лиза готовила новогодние угощения — жарила, парила, варила. Галинин сидел в глубоком кресле с протершимися подлокотниками, лениво думал: «Надо бы помочь». Вставать не хотелось — в кресле было тепло, уютно. Он обрадовался, когда пришла Рассоха. Голоса женщин напоминали что-то светлое, а что — Галинин никак не мог вспомнить. Рассоха выкладывала сельские новости. Лиза то удивленно ахала, то приглушенно смеялась, и Галинин с болью думал, что его жена, наверное, рехнулась бы от одиночества, если бы не Рассоха. Рассказывала она с подробностями, с многозначительными паузами; чувствовалось — ей приятно перемывать косточки односельчанам, просвещать попадью.
Когда все сельские новости были выложены и надлежащим образом прокомментированы, Рассоха запоздало поинтересовалась:
— А батюшка где?
— Отдыхает.
Галинин услышал легкие шаги, прикинулся спящим. Дверь чуть скрипнула.
— Заснул, — тихо сказала Лиза. — Устает он сильно.
— Знамо дело, — понизив голос, поддакнула Рассоха.
— Худеет, — в Лизином голосе было беспокойство.
— От такой жизни похудеешь, — тотчас подхватила Рассоха. — От моего Коляни кожа да кости остались. Отработает восемь часов, поест на скорую руку, обмахнется щеткой и — на гулянье. Завел себе кралю, а кого — не признается.
— Молодость. — Лиза произнесла это слово таким тоном, словно сама была старухой.
Рассоха рассмеялась.
— Ты, матушка, от моего Коляни годами не намного отпрыгнула. Ему шашнадцать, а тебе небось и двадцати нет.
— Летом девятнадцать исполнилось.
— Вот видишь! Ты, матушка, молоденькая, на личико красивенькая, и все, что полагается женщине иметь, при тебе. Бог даст, поправишься — детки пойдут. С ними хоть и трудно, но роптать грех. Кабы не они, я давно бы руки на себя наложила.
— Муж-то как? — спросила Лиза.
— Хулу возводить зазря не стану, — откликнулась Рассоха. — А что дальше будет, одному господу открыто.
«Святые слова, — взволнованно подумал Галинин, — святые слова. Никто не может предсказать, что произойдет. Недаром сказано: человек полагает, а бог располагает».
В памяти почему-то возник теплый майский день, парящий в небе змей с мочальным хвостом. Он, Галинин, скрытый портьерой, стоял у окна и с завистью смотрел на мальчишек, своих сверстников, запустивших этого змея. В ту минуту он, не раздумывая, отдал бы все свои немногочисленные игрушки, чтобы почувствовать, как тянет руку намотанная на катушку суровая нитка, прикрепленная к змею. Но с этими мальчишками мать не разрешила водиться, без устали повторяла: «Они плохие — курят, сквернословят». Галинин и сам видел, как, сбившись в тесный кружок, мальчишки, кашляя и чихая, смалят «бычки», слышал их ругательства. Мать позволяла играть с приличными мальчиками — сыновьями врача и адвоката. Эти упитанные, нарядно одетые подростки только казались приличными. В действительности же они тоже сквернословили и тоже курили, но тайком — и не подобранные на улице окурки, а похищенные у родителей папиросы с толстыми мундштуками. У них были новенькие велосипеды. Иногда они давали покататься Галинину, но его все равно влекло к обыкновенным мальчишкам — сыновьям уборщиц, истопников, сапожников. Они никогда не приглашали его поиграть с ними, а подойти к ним сам Галинин не решался — почему-то считал: мальчишки обязательно погонят его. Ему постоянно казалось: он не такой, как они, не хуже и не лучше, а просто не такой; в сыновьях врача и адвоката Галинин тоже не находил ничего интересного — того, что позволяло бы чувствовать себя с ними свободно и раскованно. И, быть может, именно поэтому мальчишки и девчонки, живущие с Галининым в одном доме, считали его воображалой. А он не был воображалой. Но он часто перевоплощался, представляя себя то средневековым рыцарем, то отважным путешественником, то пограничником, преследующим нарушителей. Пищу для воображения давали книги и кинокартины, а иногда он просто выдумывал — ему нравилось пребывать в сладостном состоянии видений и грез.
В детстве Галинин был тихим, застенчивым. Взрослые умилялись: «Какой послушный мальчик — не шалит, не носится по двору как угорелый». Он рано стал поглядывать на красивых девочек. Поглядывал украдкой, и в душе рождалось что-то мучительно-сладостное, не поддающееся объяснению. Заговорить же с девочками стеснялся. Они тоже проявляли к нему интерес: шушукались и хихикали, когда он проходил мимо; встретившись с его взглядом, складывали губы сердечком. И чем старше становился Галинин, тем больше внимания уделяли ему девочки…
— Пора, — донесся голос Рассохи. — Мой браниться станет, если в срок ораву не накормлю.
— Хоть бы чаю попила, — сказала Лиза.
— В другой раз, матушка. Душу отвела — и на том спасибо.
— Это тебе спасибо. Вон как помогла.
— Чего там, — проворчала, явно довольная, Рассоха. — Ты не стесняйся, когда подмога потребуется — состряпать или прибраться. Я мигом прибегу.
Стукнула входная дверь. Галинин вышел на кухню.
— Проснулся? — обрадовалась Лиза.
— А я и не спал.
Она шутливо погрозила ему пальцем.
— Заглянула — носом посвистываешь.
Галинин улыбнулся.
— Все слышал — и как Рассоха пришла, и о чем толковали. Она тебя молоденькой и на личико красивенькой назвала.
Лиза рассмеялась.
— Притворщик!
— В кресле хорошо и уютно было, — признался Галинин. — Таким разбитым себя чувствую, будто мешки кидал.
Лиза обеспокоенно сказала:
— Напрасно лекарство бросил принимать.
В кухне было натоплено. Весело потрескивали в печи дрова. Иней оттаял, на подоконник натекла лужица. На столе возвышалась горка нашинкованной капусты, в наполненной водой кастрюле белели на дне картофелины, на разделочной доске лежала тупоносая мокрая морковина, похожая на маленький снарядик, темнели две очищенные свеколки; в другой кастрюле, большой и широкой, доспевало тесто; в миске с отбившейся эмалью был фарш, перемешанный с мелко нарубленными яйцами и поджаренным луком.
Галинин выпил утром стакан молока, с трудом сжевал ломтик хлеба, намазанного тонким слоем варенья. Думал — аппетит разыграется позже, но есть по-прежнему не хотелось. Это встревожило. Незаметно от Лизы пощупал пульс. Он был четким, ритмичным. Засучив рукав подрясника, осмотрел красноватое пятнышко, образовавшееся от долгого сидения в кресле, потрогал его — не болит, сделал глубокий вдох — хрипов тоже не было.
Лиза не видела этого — резала свеклу. Надо было во что бы то ни стало избавиться от навязчивых мыслей, и он спросил, какая помощь требуется.
— За водой сходи, — попросила Лиза.
День был — любо-дорого. Снег алмазно блестел, смачно поскрипывал; от холода сводило губы; над избами клубились дымы, валились то вправо, то влево, хотя ветра не было, и Галинин, держа в одной руке ведра, а другой яростно растирая лицо, подумал, что погода, должно быть, переменится. Скользя на наледи, подошел к колодцу, наполнил ведра и, осторожно ступая, двинулся назад.
От пребывания на свежем воздухе настроение улучшилось, разыгрался аппетит. Галинин с удовольствием пообедал, стал помогать жене. Потом они вздремнули… Когда проснулись, было темно. Галинин включил недавнее приобретение — приемник на батарейках, покрутил колесико настройки. Услышав прорвавшийся сквозь треск и свист радиопомех голос диктора, сообщавшего точное время, пробормотал:
— Всего четыре часа осталось.
— Вот и прошел год, — сказала Лиза.
«Узнать бы, что будет и как будет», — подумал Галинин и вздохнул.
— Не печалься. — Жена наклонилась к нему, пощекотала шею горячим дыханием, попросила поискать хорошую музыку.
Он не мог похвастать музыкальными познаниями, а Лиза умела играть на фортепьяно и так часто говорила об этом, что несколько месяцев назад Галинин пообещал купить ей пианино. Приезжая по церковным делам в Хабаровск, наведывался в комиссионный магазин. Ему каждый раз отвечали: «Бывают, но редко». Продолжая вращать колесико настройки, он подумал: «В лепешку расшибусь, но куплю пианино».
В эфире было тесно от музыки, песен, разноязычного говора.
— Оставь, — сказала Лиза, когда в динамике зазвучала фортепьянная музыка. И добавила: — Шопен.
Галинин и сам понял — Шопен. Этот ноктюрн часто играла Ольга Ивановна. В памяти снова возник теплый майский день, парящий в небе змей, оживленные лица мальчишек. Галинин никак не мог вспомнить, что играла в эти минуты жена отца Андрея и играла ли вообще. Иногда казалось: играла, и именно этот ноктюрн, а через мгновение он начинал уверять себя — в квартире было тихо.
— Флиер, — сказала Лиза.
— Что?
— Флиер играет.
Воспоминания оборвались. Галинин стал гадать — ошиблась жена или нет. Он умел лишь отличать хороших певцов от плохих, больше всего любил тенора, и среди них солиста Большого театра Алексеева, умершего от какой-то болезни в первый военный год.
Диктор объявил, что ноктюрн Шопена исполнял Яков Флиер, и Галинин подивился музыкальному слуху жены.
Тлел огонек лампады, светилась шкала приемника. Перед глазами возникла совсем другая картина — мать в темном платье. Он вспомнил, как она уговаривала его не уезжать, как расстроилась, когда узнала, что он живет у архиерея и ходит в церковь. Галинин страдал, постоянно спрашивал себя, почему мать, самый близкий ему человек, не хочет понять его, несколько раз порывался объяснить ей, почему он встал на путь веры. Она закрывала уши ладонями и уходила.
Как только музыка смолкла, Лиза достала накрахмаленную скатерть, начала накрывать на стол.
— Время еще есть, — сказал Галинин.
— Старый год проводить надо, — возразила Лиза.
Семилинейная лампа горела без треска и совсем не чадила, на маленькой елке, осыпанной блестками, оплывали тонкие свечи, вставленные в крохотные подсвечники, приемник вкрадчиво ворковал, и Галинину на какое-то мгновение показалось, что в доме много-много гостей.
Расставив на столе посуду и снедь, Лиза ушла в спальню переодеваться, посоветовала мужу тоже принарядиться. Он скинул подрясник, подровнял ножницами бороду и, облачившись в черный бостоновый костюм, подошел к зеркалу. Лиза окинула его восхищенным взглядом, и он, рассмеявшись от удовольствия, бережно прикоснулся губами к ее волосам.
Она надела свое любимое платье — с вытачками, кружевом на груди, выглядела в нем как невеста, белозубо улыбалась, и лишь темные круги под глазами напоминали: она больна и очень устала.
— Загадаем желание? — спросил Галинин.
— Обязательно.
Это было новогодней традицией в Лизиной семье. На клочке бумаги записывалось какое-нибудь желание. Потом бумага сжигалась в чайной ложке, пепел проглатывался вместе с шампанским.
Стрелки медленно подползали к цифре 12. И чем меньше делений оставалось до нее, тем нетерпеливей поглядывал Галинин на стол, то и дело спрашивал:
— Пора?
Как только Лиза кивнула, он пододвинул к себе салат, обильно заправленный сметаной и украшенный поверху фигурно нарезанной вареной морковью.
— Рыбки возьми или мяса, — посоветовала Лиза.
Утолив первый голод, Галинин наполнил рюмки, улыбнулся жене.
— За тебя!
— За тебя тоже, — откликнулась Лиза.
Вино ударило в голову. Он оживился, стал вспоминать смешные истории; и у Лизы порозовели щеки, в глазах появился счастливый блеск.
— Хорошо! — сказал Галинин.
— Мне тоже хорошо, — поддакнула Лиза.
Все плохое, что было в их жизни, отступило. Галинину и Лизе казалось: плохого никогда не было и не будет. «Счастье — это когда хорошо, — взволнованно подумал Галинин. — Мне сейчас хорошо, и я счастлив». И еще он подумал о том, как немного нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым.
Музыка смолкла. Мужской голос произнес новогоднее поздравление. Галинин взял шампанское, содрал с горлышка серебряную обертку, стал отгибать проволоку, державшую пробку.
— Осторожней! — предупредила Лиза и нарочито пугливо отстранилась от стола.
Оглушительно хлопнуло, над горлышком взвилось газовое облачко. Лиза торопливо сожгла свою бумажку, Галинин сделал то же самое; они поздравили друг друга и осушили бокалы.
Галинин охмелел. И, как это часто бывает, возбуждение внезапно сменилось страшной усталостью, потянуло спать. Лиза тоже сладко позевывала, прикрывая ладошкой рот. Все, что хотелось сказать, было сказано; они даже радио не слушали; пресыщенно обводили глазами стол, иногда отламывали кусочки поджаристой корочки от пирога или тыкали вилкой в какой-нибудь особенно аппетитный грибок.
— Баиньки? — спросила Лиза.
Галинин кивнул.
Она уснула быстро, а он не смог — думал. Его удивляло и обижало, что Ветлугин пренебрегает им. Хотелось постоять за свои убеждения и «пострадать» так, чтобы об этом узнало все село. В тот день, когда к нему пришел Василий Иванович, он пожалел, что нет Рассохи. Она могла бы раструбить по всему селу, как дерзил директор школы и с каким достоинством отвечал ему он, отец Никодим. Желание «пострадать» было таким сильным, что Галинин не упускал случая публично обличить председателей сельсовета и колхоза, когда они допускали свойственные всем людям промахи. Он ждал от них ответных мер, крутых и решительных. Эти меры были бы несправедливыми и, следовательно, сделали бы его, отца Никодима, в глазах многих людей страдальцем.
Галинин не догадывался о том, что его однополчанин давно понял: грубостью и резкостью ничего не добьешься. Ветлугин уже «раскусил» отца Никодима, чувствовал, чего добивается тот, и не давал ему повода прослыть страдальцем. Когда председатели и Василий Иванович, негодуя и возмущаясь, сговаривались насолить попу, убедительно доказывал, что этой оплошностью незамедлительно воспользуется священник.
У Ветлугина было много своих неприятностей: грамматические ошибки в диктантах, не приготовленные школьниками домашние задания, их неряшливый вид, заплаканные лица. Он видел, как бедно, голодно живут люди, ничего не пожалевшие для победы над врагом. Матери отдали для победы сыновей, жены — мужей, сыновья и мужья — свои жизни. Все было разрушено, исковеркано — даже души. К страданиям нравственным прибавлялись страдания физические: осколок иногда так начинал колоть, что лицо покрывалось потом и приходилось стискивать зубы. Радовало лишь то, что приступы случались не в школе, а по дороге домой или дома. Кусая кончик подушки, Ветлугин сдерживал стон, и никто, даже Галина Тарасовна, не подозревал, как худо бывает ему.
…Галинин лежал с открытыми глазами и думал, думал, думал. Вдруг послышался шорох — тот самый. «Померещилось», — решил Галинин. Шорох повторился — на кухне кто-то ходил. Нащупав трясущимися руками брюки, Галинин быстро оделся и, чувствуя, как колотится сердце, открыл дверь. Никого. А он-то поначалу решил…
С хоботка рукомойника сорвалась и упала в лохань тяжелая капля. Звук от падения был таким резким, что Галинин вздрогнул. Придерживая рукой спадавшие брюки, подошел к рукомойнику, потянул хоботок вниз, понаблюдал — скапливается вода или нет.
На кухне было жарковато, попахивало угаром. Галинин чуть приоткрыл дымоход, потом, отставив заслонку, поворошил кочергой покрытые серым налетом, но еще мерцавшие угли. Среди них была небольшая головешка. Неловко орудуя кочергой, вытащил ее на шесток, попытался разбить. Головешка не поддалась: сердцевина в ней, видимо, была сыроватой, плотной. Схватил головешку двумя пальцами и бросил ее в лохань. Вода сердито зашипела, окуталась на несколько мгновений туманным облачком. Похолодев от страха, подумал, что эта ночь могла бы оказаться последней в его жизни: отравился бы угарным газом и… С внезапным раздражением вспомнил, что в доме бывало угарно и раньше: Лиза частенько закрывала дымоход преждевременно, когда по золотисто-багряным углям пробегали фиолетовые огоньки. Покосившись на дверь спальни, неприязненно пробормотал: «Дрыхнет, а я, наверное, глаз не сомкну». Галинин подумал: встреча Нового года не принесла ему ни радости, ни счастья, ничего того, на что он смутно надеялся, чего ждал. Это вызывало тоску, неудовлетворение. Раздражение усилилось — даже выругаться захотелось.
За стеной что-то пробормотала во сне Лиза, и Галинин неожиданно подумал, что Лариса Сергеевна красивее ее. Представил себе свою жизнь с Лизой, услышал, каким безучастным голосом произносила она слова молитв, вспомнил, как жена убеждала его, что он болен, и в его сердце возникло отчуждение. Он не мог, не хотел оставаться в эти минуты под одной крышей с безбожницей и, наспех одевшись, побрел куда глаза глядят…
3
Ветлугин опасался — опередят. Но никто не посягнул на место около Ларисы Сергеевны, и он, очень довольный, сел рядом с ней. Кроме него и шофера, молодых мужчин на этом торжестве не было. Трех семейных преподавателей, включая Василия Ивановича, Валентина Петровна называла с усмешечкой женатиками, иногда посматривала на них так, словно они в чем-то провинились перед ней.
Было шумно, пахло дешевыми духами. Женатики все время пытались расстегнуть на рубахах верхние пуговицы и ослабить узлы на галстуках, но их жены были начеку. Женатики покорно опускали руки, начинали вращать головами, вытягивали шеи. Это тоже не нравилось их женам, и Ветлугин, сочувствуя отцам семейств, подумал, что не позволит, когда женится на Ларисе Сергеевне, так помыкать собой.
Сдвинутые столы были накрыты скатертями. На столике около двери дожидалась своего часа огромная кастрюля с мясом, укутанная ватным одеялом. Учителя натащили столько хлеба, пирогов, рыбы и разных солений, что столы чуть не прогибались. Василий Иванович вынул часы, щелкнул крышкой, громко сказал, перекрывая разноголосый гул:
— Сорок минут осталось!
Все оживились, потянулись ложками и вилками к винегретам и салатам, к красиво уложенной домашней колбасе, к розоватым ломтикам кеты, к маринованным грибам и прочим дарам природы. Ветлугин поворачивался от Ларисы Сергеевны к Валентине Петровне, предлагал им то салат, то рыбу, то еще что-нибудь. Лариса Сергеевна благодарно улыбалась, а Валентина Петровна поначалу жеманилась — просила то самый постный кусочек мяса, то маленький-маленький ломтик рыбы, то ложку салата с противоположного конца стола.
Когда было много выпито и много съедено, Валентина Петровна выпорхнула из-за стола, бесшабашно объявила:
— Теперь танцевать, танцевать, танцевать!
Все глядели на нее и улыбались. Покружившись, она подскочила к патефону, стала вращать рукоятку. Плавал табачный дым; два женатика, сдвинув стулья, о чем-то исступленно спорили. Узлы на их галстуках были уже ослаблены, пуговицы расстегнуты. Разомлевшие от вина и жары жены клевали носами, и женатики, очень довольные этим обстоятельством, продолжали спорить. Валентина Петровна поставила какой-то фокстротик, обвела всех глазами, подбежала к женатикам, отважно потащила одного из них, ошалевшего от неожиданности, танцевать. Это вызвало одобрительные возгласы, аплодисменты. Через несколько минут закружились и другие пары. Лариса Сергеевна посмотрела на Ветлугина.
— Не получится, — сказал он.
— А мне хочется! — упрямо возразила она.
Ветлугин послушно встал, положил руку ей на талию и вдруг почувствовал — ноги ходят в такт с музыкой.
Анна Григорьевна обмахивалась платочком, улыбалась. Василий Иванович хмурился — танцы он не любил, считал их бесполезной тратой времени. Лариса Сергеевна была какой-то непохожей на себя — игривой, возбужденной, и Ветлугин решил: «Сегодня скажу ей все-все».
— Устала, — пробормотала она. — Да и душно очень. Может быть, на свежий воздух выйдем?
— С удовольствием!
Ночь была лунной, морозной. Поглядывая на Ларису Сергеевну, неторопливо сметавшую рукавичкой пушистый снежок с перила крыльца, Ветлугин подумал, что для полноты счастья ему недостает только одного — согласия этой девушки стать его женой. Он решил немедленно предложить ей руку и сердце, но послышались чьи-то шаги.
— Володька? Какими судьбами? — удивленно воскликнул Ветлугин.
— Любезничаете? — проворчал Галинин и выразительно вздохнул, давая понять, что ему, священнику, даже в новогоднюю ночь приходится думать о том, о чем он думает постоянно.
Ветлугин почувствовал, все хорошее, что возникало в душе, когда он вспоминал Галинина, улетучивается, с усмешкой спросил:
— Все страдальца из себя корчишь?
— Не корчу, а страдаю, — ответил Галинин и принялся убеждать себя, что это действительно так.
— Перестань! — сказал Ветлугин. — Твое страдание показное, никому не нужное. Ты, Володька, хороший человек — я в этом нисколько не сомневаюсь, но людям от тебя пользы нет.
В голове Галинина бродил хмель, перед глазами был Христос. Он понял, что в присутствии Ларисы Сергеевны не сумеет сказать ничего того, что могло бы заинтересовать ее и вызвать смятение в сердце Ветлугина. Бывший однополчанин видел его насквозь, и он, пробормотав спасительную фразу: «Бог вам судья», — торопливо ушел.
Настроение было испорчено. Ветлугин так и не сказал Ларисе Сергеевне то, что собирался сказать.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Ветлугин мечтал в каникулы отоспаться, но просыпался по-прежнему рано. Дел в школе было немного. С молчаливого согласия директора учителя появлялись на час или два. Весь день в школе проводил только Василий Иванович. Ветлугин изнывал от безделья. Пробовал читать, но сколько раз можно было перечитывать одно и то же! Стараясь убить свободное время, он протер фланелевой тряпочкой книги, вымыл полы, постирал белье.
Скрипнула входная дверь. Простуженный голос сказал:
— Почту примите!
Почтальонша принесла два письма и газеты. Одно письмо было от матери, другое — с расплывшимся фиолетовым штампом — предназначалось хозяйке. До сих пор она писем не получала.
Почтальонша была осыпана мелким сухим снегом. Ослабив на платке узел, протянула руки к печке.
— Замерзли? — спросил Ветлугин.
— Пургач[11],— объяснила почтальонша. — Три дня почты не было — только депеши по проводам передавали. В войну еще хуже было — по две недели без газет и писем сидели. Я ведь на этой почте вот с каких лет. — Она опустила над полом руку ладонью вниз. — Наши бабы во время войны меня пуще огня боялись. Бывало, как увидят, иду — сразу в голос. Которым обыкновенные письма были, издали кричала, чтоб не ревели зазря, а к тем, которым извещения присылали, молчком подходила. Теперь этого, слава богу, нет. Только повестки в суд или в военкомат ношу да вот такие пакеты, — почтальонша кивнула на конверт с расплывшимся штампом, сколупнула с окна кусочек льда, убежденно добавила: — Такой дом только для весны и лета годится! Когда поселенцы строиться стали, им говорили про это, но они не послушались. Теперь по пять охапок в день жгут и наш климат ругают. А чего его ругать-то? Климат как климат.
— Суровый, — не согласился Ветлугин.
Почтальонша кивнула.
— Все приезжие так говорят. А я дальше Хабаровска нигде не была. Пятьдесят лет на одном месте прожила, и никуда не тянет. Сын в Белоруссии воевал, женился там, на постоянное жительство определился. Письма шлет: приезжай, мать, внучат нянчить. Я каждый раз одно и то же отписываю: погостить приеду, а навсегда — нет.
Из комнаты вышла с укутанным ребятенком на руках Галина Тарасовна.
— Тебе пакет с казенного дома, — сказала почтальонша и тотчас ушла.
Хозяйка вертела в руках конверт. Ветлугину не терпелось прочитать письмо от матери. Он скрылся в своей комнате. Мать сообщала московские новости, передавала поклоны от соседей. Ветлугин представил, как она писала это письмо, о чем думала. Сердце наполнилось нежностью и жалостью к ней. Мысленно очутился в Москве, в многонаселенной квартире, где родился, жил, откуда ушел на фронт и куда возвратился после тяжелого ранения.
В дверь постучали.
— Да, да, — сказал Ветлугин. Увидел расстроенное лицо Галины Тарасовны. — Плохие вести?
— Живой, — обреченно пробормотала она.
— Кто?
— От мужа письмо. Полгода ходило, пока меня нашло. Десять лет ему дали. Посылку просит: сухарей и одежонку. Что теперь делать, ума не приложу? На прошлой неделе я своему кавалеру обещание дала — в сельсовет с ним сходить, чтоб лишних разговоров не было. Получается — обманула.
— Неужели мужа ждать собираетесь? — ужаснулся Ветлугин.
Галина Тарасовна тяжко вздохнула.
— Если бы он на свободе был, то я по-другому поступила бы. А теперь — нельзя.
«Нельзя?» — удивился Ветлугин и сразу же спросил себя, что заставляет человека поступать так или иначе. Сострадание? Долг? Голос совести? Было горько сознавать: чаще человеку говорят «нельзя», реже «можно». Что нельзя, а что можно? Нельзя лгать, быть черствым, говорить одно, а думать другое, нельзя обманывать людей. И как только в мыслях возникало слово «обманывать», перед глазами появлялся Галинин.
2
Галинину становилось грустно, когда он начинал думать о том, что, кажется, разлюбил жену. Во всяком случае, о красивой учительнице было приятней размышлять, чем о Лизе.
Рассоха теперь приходила каждый день — помогала убираться. Поглядывая на дверь комнаты, где или отдыхал, или беспокойно ходил Галинин, спрашивала:
— Поругались?
Лиза опускала глаза.
— Что ты, что ты…
Рассоха кивала, и было непонятно — верит или нет.
В сочельник она пришла просто так — посидеть. Опустившись на стул, сбросила на плечи драный платок, выразительно посмотрела на еще не остывший самовар.
— Налить? — поспешно спросила Лиза.
— Не откажусь. — Наклонившись к ней, Рассоха доверительно сообщила: — Служба вчерась была — всем службам служба. Батюшку дрожь колотила, и слезы с бороды капали. Все плакали. Я уже давно поняла — святой он, и все, что есть в нем, самим богом ему дадено. Ты, матушка, оберегай его и не перечь, если он тебе что-нибудь не так скажет. Неподвластный он себе — это все видят.
Из комнаты вышел, сладко потягиваясь, Галинин. Увидев Рассоху, поморгал, укоризненно сказал:
— Давненько, давненько не благословлял тебя.
— Господь с тобой, батюшка! — откликнулась она. — Вчерась в церкви была, а ты говоришь — давненько.
Галинин озадаченно потеребил бороду. Рассоха осмелела, стала рассказывать, как служил он вчера, как после службы благословлял прихожан.
— Ничего не помню, — растерянно пробормотал Галинин и снова потеребил бороду.
Когда Рассоха ушла, он сел у окна. На кладбище ветер намел столько снега, что расположение могил можно было определить лишь по торчавшим крестам. На деревьях, сбрасывая снег, резвились какие-то пичуги — маленькие, взъерошенные, похожие на мягкие комочки, и Галинину очень скоро стало казаться, что он слышит их негромкий пересвист.
— О чем задумался? — спросила Лиза, пощекотав дыханием его ухо.
Галинин не ответил. Лиза чуть помедлила и повторила вопрос.
— Отстань! — сказал Галинин.
Лиза вздохнула.
— Ты раньше никогда так не разговаривал со мной.
Он снова промолчал и не услышал, как Лиза, наспех накинув телогрейку — ей показалось, что на улице не очень холодно, — выбежала вон.
3
— Ты куда, Коляня? — вкрадчиво спросила Рассоха, когда сын стал надевать полушубок.
— Гулять.
— Мотри, догуляешься!
Колька дипломатично промолчал. И тогда Рассоха пожаловалась мужу:
— Ославит на все село.
— Авось, — проронил Тимофей Тимофеевич. Перед ним стояла пустая четвертинка, лежал надкушенный ломоть черного хлеба.
— «Авось, авось»! — передразнила Рассоха. — Ростом-то Коляня с каланчу вымахал, а ума нету. Помяни мое слово, окрутят его.
— В шестнадцать лет теперь не женятся, — сказал муж.
— Заставят!
Колька прыснул, торопливо нахлобучил шапку.
— Скалься, скалься, — напустилась на него мать. — Вот возьму и не пущу. Ей-богу, не пущу, пока не признаешься, кто она!
От матери всего можно было ожидать. Колька перевел взгляд на отца. Тимофей Тимофеевич сгреб четвертинку, удостоверился, что она пуста, досадливо крякнул.
— Уже вылакал? — удивилась Рассоха.
Колька двинулся к двери, но переступить через порог не успел: вбежала Лиза — в одной телогрейке, в сбившемся платке, с посиневшим от холода лицом.
— Господи, — протяжно выдохнула Рассоха.
Тимофей Тимофеевич выпучил глаза, поспешно запахнул рубаху с болтавшимися пуговицами; на Колькином лице появилось любопытство. Лиза сняла телогрейку, прислонилась плечом к стене. Рассоха начала топтаться около нее, словно растревоженная наседка, всплескивала руками, спрашивала:
— Чего это ты?.. Может, с батюшкой что?..
Лиза была как немая. Придерживая на груди рубаху, Тимофей Тимофеевич сказал:
— Должно, иззябла она. Водочкой растереть — самое милое дело.
Рассоха посмотрела на четвертинку.
— Хоть бы каплю оставил, Нюхало!
— Сбегать? — Тимофей Тимофеевич с готовностью встал.
— Мотри у меня! — Рассоха кинулась в гридню, вернулась с измятой двадцатипятирублевкой. Отдала деньги Кольке. — Одна нога тут, другая там!
Тимофей Тимофеевич с горестным выражением рухнул на лавку. Рассоха подошла к Лизе, грубовато спросила:
— Чего случилось-то, матушка, а?
Лиза не ответила. Это рассердило Рассоху, она стала награждать шлепками вертевшихся под ногами ребятишек, привлеченных в предызбицу громким голосом матери.
Ребятишки постарше и побойчее, получив шлепок, подлетали к нетвердо державшимся на ногах малышам, принимались с усердием хлопать их по голым попкам. Наибольшее рвение проявляли две девочки, очень похожие на Рассоху. Подражая матери, они не только шлепали малышей, но и с напускной строгостью бранили их. В избе образовалась веселая кутерьма, на которую невозможно было смотреть без улыбки. Лиза подняла глаза.
— Ожила? — воскликнула Рассоха. — Теперь выкладывай все как на духу!
Лиза решила ничего не утаивать, но в это время вбежал с четвертинкой Колька. Тимофей Тимофеевич привстал. Колька фыркнул. Рассоха покосилась на сына, рассыпала на столе сдачу, стала считать.
— Сошлось? — весело спросил Колька, когда мать сгребла деньги в ладонь.
Рассоха окинула его подозрительным взглядом, снова бросила деньги на стол. Колька снова фыркнул, бабахнул дверью. Лиза рассмеялась. Присев на корточки, вытерла нос доверчиво взиравшему на нее мальчугану.
— Родить тебе надо, — проворчала Рассоха.
Лиза хотела сказать, что с радостью родила бы, да вот незадача — врачи не позволяют, но постеснялась признаться в этом при мужчине.
— Сейчас водочкой тебя разотру, и совсем оживешь, — пообещала Рассоха. Перевела взгляд на стол, где только что была четвертинка, и ахнула: — Креста на тебе нет, Нюхало!
Рассоха подскочила к нему, вырвала бутылку и так саданула мужа по шее, что он клюнул носом. Притихшие ребятишки оживились. Тимофей Тимофеевич потер рукой ушибленное место, неожиданно улыбнулся. Он сегодня недобрал, все искал повода выклянчить еще на шкалик и теперь блаженствовал: ради этого можно было и брань стерпеть, и оплеуху снести.
— Видала? — воскликнула, обращаясь к Лизе, Рассоха. — Я волосья на себе рву, а он рот до ушей тянет.
— Будя, — миролюбиво сказал Тимофей Тимофеевич.
— Я тебе дам — «будя»! — Рассоха попыталась ударить мужа еще раз, но он увернулся.
— Прекратите! — крикнула Лиза.
Рассоха поморгала. Тимофей Тимофеевич одобрительно кивнул. Ребятишки покосились на Лизу.
— А ты, матушка, оказывается, с характером, — пробормотала Рассоха. — Небось на отца нашего так не шумишь. Иной раз он, может, что невпопад скажет, а ты, видать, сразу свой норов показываешь.
— Ничего подобного! — сухо возразила Лиза и пошла домой.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Анна Григорьевна хворала: лежала на кровати — тучная, разомлевшая от жара. Вроде бы ничего страшного не было — обыкновенная простуда, но Василий Иванович волновался. В школе, к удивлению учителей, бывал урывками: подпишет бумаги, проверит, хорошо ли натоплены печи, выбранит шалунов, полистает классные журналы и — назад, к Анне Григорьевне. Сам стряпал, сам приготовлял ей различные отвары и Петьку заставлял помогать. Приглушенно ворчал, чтобы не услышала жена:
— Хватит в носу ковырять. Лучше калину с чердака принеси — матери она помогает.
Петька поначалу думал: прохворает мать денька три и встанет — так каждый год бывало. Но температура не спадала, и он тоже стал беспокоиться: вопросительно поглядывал на отца, без напоминаний выполнял все его поручения, даже гулять не выходил.
В избе было дымно, пахло разопревшими травами, переваренными щами, подгоревшей картошкой. Кроме Анны Григорьевны хворали еще две учительницы. Фельдшерица уверяла — простуда, но Василий Иванович все чаще и чаще думал: «Грипп». И понял, что не ошибся, когда по радио сообщили об эпидемии и мерах предосторожности.
Через несколько дней он тоже слег. Лежать было скучно. Василий Иванович перебрал в памяти все сельские новости, сказал жене:
— У попа, похоже, нелады в семейной жизни начались. Учителя видели, как попадья в одной телогрейке по улице бежала. Должно, скандалит он и рукам волю дает.
— Чужая жизнь — потемки, — пробормотала Анна Григорьевна.
— Верно. Но рукам волю давать не положено. За это и привлечь можно.
— Сам привлекать будешь или в милицию сообщишь? — с насмешкой спросила жена.
Василий Иванович вспомнил: ей нельзя волноваться, и смолк.
Каждый день Батин с нетерпением ждал сына, все надеялся: Петька наконец скажет что-нибудь этакое, и можно будет сделать вывод — без директорского глаза в школе плохо, учителя не справляются, постоянно спрашивают, когда он, Василий Иванович, поправится. Но Петька хвалил Ветлугина и других учителей, сообщал, что на переменках теперь первоклассники не вертятся под ногами, а играют в разные игры, которые придумывает для них Лариса Сергеевна.
— Топят как? — придирчиво спрашивал Василий Иванович.
— Хорошо топят.
— Техничка прибирает классы или в грязи сидите?
Школьная техничка иногда убирала классы на скорую руку: повозит шваброй по полу, помашет метлой — вот и все. За это Василий Иванович объявлял ей в приказах выговоры, грозился уволить, во всеуслышание говорил, что полы надо мыть как положено и подоконники вытирать, сердился, если на пальце, после того как он проводил им по подоконнику, оказывалась пыль. И он от удивления открыл рот, когда Петька сказал, что теперь ребята сами убирают классы, что техничка лишь помогает им. «Самоуправство! — взволнованно подумал Василий Иванович. — За такие дела по головке не погладят». Представил, как придет в школу, выразит свое неудовольствие, удовлетворенно хмыкнул: в его отсутствие учителя все же напортачили. Но очень скоро Василий Иванович понял: школа должна приучать ребят к самостоятельности, уборка классных комнат — нужное и полезное дело. Стало досадно, что такая простая мысль не пришла ему в голову раньше.
Еще недавно Батину казалось, что учителя будут часто навешать его — спрашивать, советоваться, а получалось — обходятся без него. Ему хотелось увидеть их, поговорить. Вспомнил: через несколько дней надо ехать в банк, без его подписи деньги не выдадут. В банк ездила Валентина Петровна, и Василий Иванович решил, что она придет с Ларисой Сергеевной и, возможно, с Ветлугиным. Подумал о молодых учителях: «На все готовенькое пришли, не видели, какой школа сразу после войны была. Сколько сил потрачено, чтобы все в порядок привести».
2
Ветлугин жил от зарплаты до зарплаты — от четырнадцатого числа до двадцать восьмого. Деньги убегали как вода сквозь сито. За несколько дней до зарплаты обшаривал карманы, по-детски радовался, если находил рубль или трешницу. Получал Ветлугин не так уж мало, но он не умел планировать, не соизмерял свои возможности с бюджетом. Много денег уходило на книги — в сельмаг иногда привозили интересные новинки, а в районном центре без всякого труда можно было подписаться на те издания, которые в Москве надо было или «ловить», подолгу простаивая в длиннющих очередях, или доставать по блату, или же приобретать по спекулятивной цене. А тут прекрасные книги продавались свободно — только рублики выкладывай!
Ветлугин уже стал обладателем подписки на собрание сочинений Мопассана. Первые тома этого издания вышли еще до войны, от долгого лежания в сыром помещении слегка попортились. Узнав, что на Мопассана можно подписаться, Ветлугин немедленно выкупил уже вышедшие тома, внес задаток, бережно спрятал квитанцию. Из районного центра вернулся с двумя пачками, хотя собирался купить одеяло. Но не горевал — решил в сильные морозы накрываться, как и прежде, пальто, любовно обтер книги тряпкой, распрямил и прогладил утюгом уголки страниц.
Галина Тарасовна спрашивала, когда он приносил перевязанную шпагатом пачку, сколько это стоит. Услышав цифру, ахала, с осуждением говорила:
— Лучше бы полотна на простыни набрали. Ваши уже светятся. Три-четыре стирки — и совсем прохудятся.
— Успеется, успеется, — бормотал Ветлугин и спешил скрыться в своей комнате — хотелось поскорее распаковать книги.
Кроме одеяла и простыней давно надо было купить наволочки, полотенца и многое-многое другое. Но все это вылетало из головы, когда попадались хорошие книги. Стеллаж уже не вмещал их. Каждый раз, пристраивая новые тома, Ветлугин думал: «Надо расширить», — жалел, что в начале учебного года отказался от дополнительных часов: лишние деньги сейчас пригодились бы.
До двадцать восьмого было еще целых три дня. Ветлугин даже в чемоданах порылся, но не нашел ни копейки. Несколько дней назад у него было около четырехсот рублей. Куда они подевались, он и понятия не имел: ничего лишнего вроде бы не покупал, даже на молоко не тратился, — сказал Галине Тарасовне, что расплатится двадцать восьмого.
После последнего урока Ветлугин остался в школе — решил, не откладывая, сразу же проверить контрольный диктант. Лариса Сергеевна и Валентина Петровна тоже проверяли тетради. Когда осталось лишь несколько непроверенных работ, Ветлугин громко посетовал:
— Подумать только, до зарплаты еще ждать и ждать.
Валентина Петровна ойкнула.
— Совсем из головы вон! Сегодня к Батину надо сходить — ведомость подписать.
— Заодно Анну Григорьевну навестим, — сказала Лариса Сергеевна.
— Все! — через несколько минут объявила Валентина Петровна, выравнивая стопку ученических тетрадок. — В моем классе шесть пятерок и четыре двойки.
— Уже проверила? — удивилась Лариса Сергеевна.
— Задачка коротенькой была, — сказала Валентина Петровна и попросила Ветлугина пойти вместе с ней и Ларисой Сергеевной к директору школы.
Ему не хотелось встречаться с Батиным, но Лариса Сергеевна требовательно посмотрела на него, и он согласился.
День был чудесный, солнечный. Снег около плетней обмяк, кое-где помутнел лед. Присмиревшие во время сильных морозов воробьи оглашали воздух возбужденным чириканьем.
— Весной пахнет, — сказала Лариса Сергеевна.
Валентина Петровна удивленно воскликнула:
— Действительно пахнет!
«До весны еще далеко», — подумал Ветлугин.
Словно услышав это, Лариса Сергеевна сказала:
— Время незаметно летит. Зимой ждешь тепла, летом прохлады.
— Всю жизнь чего-нибудь ждешь, — пробормотал Ветлугин и сразу подумал, что эти слова можно истолковать как жалобу безнадежно влюбленного человека.
Валентина Петровна быстро подсчитала, сколько дней осталось до летних каникул, стала мечтать вслух о поездке домой. Ветлугин перенесся мыслями в Москву, к матери. С тех пор как началась война, он уделял ей мало внимания: уставал на работе, потом был фронт, госпиталь; после демобилизации приходилось сидеть в читальнях — восстанавливать в памяти склонения, спряжения и все прочее, без чего немыслимо было поступить в пединститут. За годы учебы и вовсе отбился от дома — утром наскоро проглатывал бутерброд, выпивал стакан чаю и убегал в институт. Перед распределением мать робко попросила остаться в Москве, а он укатил так далеко, что иногда самому становилось страшно.
Ветлугин поймал внимательный взгляд Ларисы Сергеевны и одновременно ощутил в груди острую боль.
— Что с вами?
— Пустяки, — прохрипел Ветлугин и, стараясь унять боль, остановился.
— На вас лица нет. — В голосе Ларисы Сергеевны появилась тревога.
— Пустяки, — повторил Ветлугин.
Валентина Петровна испуганно поморгала. Лариса Сергеевна решительно сказала:
— Надо к фельдшерице идти!
Удерживаясь изо всех сил, чтобы не закричать, Ветлугин, покрывшись горячим потом, пробормотал, что побежит домой, примет обезболивающую таблетку и ляжет.
3
— Идут, — сообщила Анна Григорьевна, глянув в окно.
Василий Иванович откинул одеяло.
— Лежи, лежи, — сказала жена.
— Неудобно, — откликнулся он и, прыгая на одной ноге, стал надевать брюки. Застегнув ремень, провел рукой по щеке. — Побриться бы.
— Опомнился! — Анна Григорьевна развела руки, велела Петьке открыть дверь.
Валентина Петровна сразу выложила на стол ведомость, стала объяснять, кто кого замещал.
— Погодите, — проворчал Василий Иванович. — Вначале про школу расскажите.
Валентина Петровна сморщила носик, сглотнула и начала тараторить. Василий Иванович приподнял брови. Анна Григорьевна улыбнулась.
— Помедленней рассказывай.
Валентина Петровна виновато вздохнула.
— Привыкла так говорить.
— Уроки правильно строите, — щегольнул педагогической терминологией Василий Иванович, — а в обычной обстановке иной раз словно пулемет строчите.
Валентина Петровна снова вздохнула.
— Соскучилась по школе, — пожаловалась Анна Григорьевна. — Третью неделю дома сижу.
— Похудели, — посочувствовала Лариса Сергеевна.
Анна Григорьевна усмехнулась.
— С лица похудели, — пояснила Валентина Петровна. — А про это, — она хихикнула, покосилась на живот, — никто не догадывается.
Лариса Сергеевна подтвердила — никто. И спросила — скоро ли?
— Месяца через три, — сказала Анна Григорьевна.
— Выдь! — обратился к сыну Василий Иванович.
Петька сделал вид, что не слышит.
— Кому сказано — выдь! — повысил голос отец.
Петька медленно встал, поплелся к двери.
— Прытче! — гаркнул Василий Иванович.
Сын наклонил голову. Анна Григорьевна горестно вздохнула. Василий Иванович виновато кашлянул, перевел на нее взгляд.
— Зачем выпроводил? — с укоризной спросила она.
Василий Иванович помолчал.
— Не положено ему это слушать.
— Полно! — воскликнула Анна Григорьевна. — Наш Петька без пяти минут жених, а ты все его сосунком считаешь.
Василий Иванович не считал сына сосунком, но и полноправным членом семьи тоже назвать не мог — никогда не советовался с ним, дельные замечания пропускал мимо ушей. Петька был для него просто сыном, обязанным беспрекословно повиноваться отцу и матери. «Сын — это сын», — рассуждал он и относился к Петьке соответствующим образом.
Наступило тягостное молчание. Анна Григорьевна продолжала горестно вздыхать, держа руки на животе; Валентина Петровна теребила подол платья; Лариса Сергеевна всем свои видом показывала — ей неприятно тут. Василий Иванович пододвинул к себе ведомость, молча подписал.
— Посидели бы, — спохватилась Анна Григорьевна. — Я самоварчик поставлю — мигом вскипит.
— Спасибо, — проронила Лариса Сергеевна и бросила на Валентину Петровну нетерпеливый взгляд.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Галинин все явственней чувствовал: в его жизни что-то изменилось, и прежде всего изменилось отношение к жене. Он уже не испытывал прежней тревоги, когда думал о Лизиной болезни, не расспрашивал ее о самочувствии. Чаще всего вспоминал о ней лишь в постели. Она никогда не противилась, и он был ошарашен, когда в ответ на ласку жена сказала:
— Сегодня нельзя.
— Почему?
— Температура.
Галинин прислушался и убедился: дышит Лиза тяжело, с присвистом.
— Вспышка?
— Наверное.
— Обойдется. Сколько раз так бывало.
Лиза всхлипнула.
— Перестань, перестань, — сказал Галинин.
Утром у Лизы началось кровохарканье. Неумытый и неодетый, Галинин метался по комнатам, роняя на ходу шлепанцы, никак не мог отыскать хлористый кальций. Обрадовался, когда пришла Рассоха. Открыв ей дверь, конфузливо отпрянул, надел подрясник, торопливо поплескал на лицо, кое-как расчесал бороду.
— К фельдшерице надо бечь, — сказала через несколько минут Рассоха. — Вона как у нее кровь хлыщет. Ты, батюшка, беги, а я покуда тут побуду — водицы испить дам, молитву сотворю. Авось господь отвратит напасть.
«Отвратит, отвратит», — лихорадочно подумал Галинин, надевая сапоги и теплое пальто.
Была весна. Снег повсюду осел, стал ноздреватым; канавы наполнились талой водой, мокро блестели перекинутые через них кладочки и бревна, грубо стесанные поверху топором. Ручейки растекались под прозрачным, ломким льдом, наполняли выбоины и углубления, рыхлили снег — кое-где чернела размытая земля. Лед на речке вспух, отделился от берегов. Шумящие потоки вливались в нее, вода все прибывала, и было ясно, что очень скоро речка вскроется, хлынет на луга, огороды, затопит баньки и другие строения.
Вот уже несколько дней не ходили машины. Полуторки и трехтонки сиротливо стояли около чайной, шоферы резались в карты, ругали бездорожье, рассказывали, что километрах в семи от села, если ехать в райцентр, столько воды, что только на катере переплыть можно, а в другой стороне — сплошная грязь.
Галинин пошел в медпункт напрямик и пожалел об этом: ноги проваливались в снежное крошево, сапог черпнул воду, от холода свело пальцы. Проверяя прочность наста, он выставлял то одну, то другую ногу, обходил, приподнимая полы подрясника, размякшие проталины. Перебравшись по бревну через канаву, побрел по обочине, разбрызгивая жидкую грязь.
Около изб сидели на лавочках старики и старухи, скрестив на палках иссохшие, морщинистые руки. Некоторые из них приподнимались, кланялись Галинину, другие просто провожали его взглядами, гадали — куда спешит батюшка?
Фельдшерицы в медпункте не было. Галинин подергал дверь, приложился лицом к окну, увидел накрытую простыней кушетку с подушкой в изголовье и клеенкой в ногах, застекленный шкаф с медицинскими инструментами и вдруг услышал голос Ветлугина. Он меньше всего ожидал встретить его, вспомнил: они не виделись более полугода, очень обрадовался, даже о Лизе забыл.
— Давно топчешься тут? — спросил Ветлугин.
— Только что пришел.
— А я третий раз сюда прибегаю. — На губах Ветлугина шелушилась кожа, и похудел он сильно. — Полгода мой осколок тихо-мирно сидел, а теперь баламутит.
Галинин окинул его внимательным взглядом.
— Неважно выглядишь.
— У тебя тоже щеки ввалились.
— Вот и обменялись комплиментами.
Ветлугин понял: неприятного разговора не избежать, и с места в карьер сказал Галинину, что часто думал о нем, но так и не смирился с его теперешней деятельностью.
— Не будем говорить об этом, — попросил Галинин.
— Почему же не будем? Фронтовое прошлое не вычеркнешь из памяти. Я помню, каким ты был, о чем думал, мечтал. И вдруг это, — Ветлугин кивнул на видневшийся в прорези пальто крест.
— Так уж получилось, — пробормотал Галинин.
— Скверно получилось!
Они помолчали. Ветлугин вспомнил все, что прочитал за эти полгода о религии, твердо сказал:
— Ты — пленник догмы. Теологи сами говорят, что содержание христианского богословия дано неизменно раз и навсегда.
— Ошибаешься! — с живостью возразил Галинин. — Мой наставник-архиерей неоднократно подчеркивал, что и в богословии не исключается возможность непрерывного углубления в постижении религиозной истины, освещения истины с разных сторон.
— Получается полная ерунда! — воскликнул Ветлугин. — С одной стороны, теологи утверждают, что «богословие не доводит своих положений до степени чувственно-осязательной наглядности, как это наблюдается в науках естественных, и не сообщает им характера логической принудительности и очевидности, равно как и математической точности и доказательности», с другой же стороны, они заявляют, что исторические факты могут получить наглядность и очевидность лишь тогда, когда они переживаются нами, составляют наше сердечное расположение. В результате — абракадабра: исторические факты, оказывается, могут быть охвачены не разумом, а только сердцем.
— Это главное в вере! — торжественно изрек Галинин. — Веруют не умом, а сердцем.
— Эх, Володька, Володька. — Ветлугин покачал головой. — Ведь ты не какая-нибудь забитая темнота, ты все должен понимать. Вспомни-ка, сколько злодеяний, одно страшнее другого, совершила церковь, сколько было пролито крови!
Галинин подумал.
— Отрицать очевидное не в моих правилах. Но есть и другая чаша весов. Как много прекрасного, земного создано во имя бога и Христа. Полотна Рембрандта, Греко, Тициана, Рубенса, скульптуры Микеланджело, иконы Рублева, фрески, величественные храмы, не сравнимые по красоте ни с чем. Только на одной нашей Руси сотни таких храмов! Скольких людей, чьи имена никогда не позабудутся, вдохновила жизнь Христа. За два тысячелетия всякое бывало. Среди пастырей были, есть и будут разные люди — и ревнители веры, и отщепенцы. Почему же атеисты охотно и пространно рассуждают о плохом, что сделала церковь, и лишь вскользь упоминают о ее благих делах?
Все это Галинин проговорил с надрывом, с отчаянием в голосе.
— Замутил себе голову, — сказал Ветлугин, — до сих пор очухаться не можешь. Философия, история, естествознание — все это отрицает учение Христа.
Галинин отвел в сторону глаза.
— Кто может поручиться, что открытия, провозглашенные сейчас истинными, по прошествии многих-многих лет не окажутся ложными?
— Любопытно, любопытно… Ты, оказывается, к тому же и философ?
— Просто считаю: в мире все относительно.
— Даже бог?
Галинин хотел сказать: «Познание бога часто вне человеческого понимания», но неожиданно выпалил:
— Прочитал Библию?
— Нет! — отрезал Ветлугин и пробормотал: — Куда же подевалась эта фельдшерица?
Галинин усмехнулся.
— Тебе это в диковинку, а я уже привык. В медпункте, как в сельмаге, иногда весь день обеденный перерыв.
— Жаловаться надо!
— Жаловались. Приехала комиссия, пожурила этих теток, и все. Местные жители к ним домой бегают. У продавщицы, говорят, в сенях ящики с водкой и папиросами стоят. Там она и торгует. А фельдшерица, не отходя от печи и корыта, таблетки раздает и больничные листы выписывает. У Лизы кровохарканье, надо бы укол сделать, а медпункт то ли откроется, то ли нет.
В голосе Галинина были тоска, безысходность. Ветлугин решительно сказал:
— Потопали к фельдшерице!
Галинин кашлянул.
— Тебе она, конечно, все, что попросишь, сделает, а меня турнет.
— Не посмеет!
Они шли гуськом, перескакивая с чурбачка на чурбачок, предусмотрительно раскиданных кем-то на этой превратившейся в сплошное месиво тропинке. Ветлугин был в полуботинках и, прежде чем прыгнуть, долго примеривался. Мальчишки и девчонки прорывали канавки, отводя от изб воду. Лопаты в их руках казались огромными, но работали они сноровисто, и Ветлугин подумал, что сельская ребятня с раннего детства приучается к физическому труду, и это, несомненно, хорошо.
— Я слышал, у тебя неприятности были, — неожиданно сказал Галинин.
— Какие неприятности?
— Прихожане рассказывали: директор школы тебе выговор из-за меня сделал.
Ветлугин улыбнулся.
— Не беспокойся! Я сумею постоять за себя.
Фельдшерица вышла к ним в фартуке, испачканном мукой, с остатками теста на пальцах. Выслушала Ветлугина, дала ему таблетки. Покосившись на Галинина, процедила:
— Управлюсь с делами и приду.
— Поторопитесь, пожалуйста, — сказал Ветлугин.
Фельдшерица вздохнула, молча сняла фартук…
Ветлугин шел домой и думал: «Почему так бывает в жизни? Почему сын атеистки, в недавнем прошлом сам атеист, обрывает те нити, которые связывают его с настоящей жизнью, уходит в мир мистики, грез? Что толкает его туда — душевная неразбериха, жажда наживы, страх, неуверенность в себе или стремление открыть еще не открытое, познать еще не познанное? Я атеист и понимаю: бога нет, как нет и не было чудес, которых не могла бы объяснить наука. Разумеется, мне легко так говорить, потому что я убежден в этом. Но как вернуть к настоящей жизни, не унижая и не оскорбляя, верующего — и не какого-нибудь темного старика, а человека умного, начитанного, который, как и ты, был на фронте, жил честно и всегда будет жить так? Не слишком ли непримиримо мы, атеисты, относимся к людям, избравшим Христа своим наставником? Не слишком ли иронизируем над тем, что им дорого?»
Галинин тоже думал и вынужден был признать, что Ветлугин пользуется в селе уважением, что оно — результат его труда, его отношения к людям. Он был так погружен в свои мысли, что чуть не столкнулся с Квашниным. После кончины своей возлюбленной этот человек ни разу не был в церкви. Во время богослужения Галинин вспоминал полные надежды глаза и костлявые пальцы с прилипшим к ним воском. И вот теперь представился случай потолковать с прихожанином, пристыдить его за то, что тот пренебрегает своими обязанностями. Галинин машинально отметил, что в глазах Квашнина нет прежнего выражения, что они стали совсем другие. Прежде чем начать разговор, он хотел благословить его, но Квашнин, дернувшись всем телом, твердо сказал:
— Не надо!
— Почему, сын мой? — удивленно и обескураженно спросил Галинин.
Из груди Квашнина вырвался не то хрип, не то смех, губы побелели.
— Я вам не сын, а вы не отец мне! Да и какой вы отец, когда я на целых десять лет старше вас?
Галинин ответил, что это пасторское обращение к верующим, что он вправе назвать сыном любого прихожанина, даже старика.
Квашнин рассмеялся — зло, с вызовом.
— Нехорошо, нехорошо, — с мягким укором сказал Галинин, подавляя намерение снова назвать этого человека сыном.
— Действительно, нехорошо, — согласился Квашнин, жадно хватанув исказившимся ртом воздух. — Нехорошо лгать, обманывать людей, нехорошо внушать им то, чего не было, нет и никогда не будет!
— Я что-то не совсем понимаю вас, — пробормотал Галинин.
— Прекрасно понимаете! — возразил Квашнин. Его взгляд выражал нетерпение, на чуть выступавших скулах появился слабый румянец. — Я ведь верил, пусть недолго, но верил. Теперь даже страшно вспомнить, какими словами просил я вашего бога продлить Людочке жизнь. Нет, не даровать, а только продлить. Она была единственной отрадой в моей жизни. Поймите, единственной! Ради нее я поверил, ради нее жил, молил бога отвести от нее болезнь. Если бог всемогущ, как постоянно твердите вы и такие, как вы, то почему он не внял моим молитвам? Ведь бог должен был видеть, как живу и страдаю я.
Галинин хотел сказать, что осуждать бога — большой грех, но Квашнин опередил его:
— Наперед знаю, что ответите, к чему будете призывать. — Изменив голос, он прогнусавил: — «Все во власти божьей, Христос страдал, и нам велел страдать…» Не хочу этого! Не хочу даже думать о боге. А тех, кто еще думает о нем, кто чего-то ждет от него, жалею всем сердцем. Не могу простить себе, что столько зряшных часов провел в бесполезных молитвах. Лучше бы около Людочки находился — это бы осталось в памяти. Вы обманщик, гражданин поп, и все, что вы делаете в церкви, — обман! Уезжайте из нашего села, не мешайте людям жить так, как они должны жить. Слабых вроде меня еще много, и вы беззастенчиво пользуетесь этим.
В глазах Квашнина появилось презрение, рот был по-прежнему перекошен.
Галинин вдруг отчетливо понял, что может сказать этому человеку лишь те слова утешения, которые он много раз говорил раньше. Было очевидно, что Квашнин не нуждается в его утешении и, наверное, никогда не будет нуждаться в нем. Возникла мысль, что он никому не принес пользы, что его жизнь в этом селе серенькая, бесполезная.
2
Вечером Рассоха заявила мужу:
— Видать, помрет наша матушка.
Тимофей Тимофеевич — в расстегнутой рубахе, расстегнутых портках — мучительно соображал, где бы раздобыть денег. Ему уже давно не хватало четвертинки, душа требовала вина. Иногда приваливало счастье — подносили приятели или удавалось выпить на поминках, крестинах, свадьбах. Можно было сбегать в магазин и выклянчить водку в долг, но полной уверенности, что продавщица «войдет в положение», не было, а топать через все село просто так не хотелось.
Его раздумья прервала Рассоха.
— Оглох?
— Чего?
— «Чего, чего»… Наша матушка, говорю, помрет, наверное.
— A-а… — равнодушно обронил Тимофей Тимофеевич и сразу же подумал, что на поминках он сможет выпить столько, сколько влезет.
Он представил себе жену попа мертвой, мысленно увидел большие поминки. Тотчас же ему стало стыдно, и Тимофей Тимофеевич помотал головой, стряхивая нехорошие мысли.
— Мотри, отвалится, — сказала Рассоха.
Уловив в голосе жены игривые нотки, Тимофей Тимофеевич вкрадчиво попросил тридцаточку.
— Вона чего понадобилось! — возмущенно откликнулась Рассоха. — Лучше бы снег от избы отгреб. Попадет вода в подпол — вся картоха помокнет.
— Колька придет и покидает.
Рассоха бухнула на стол чугун.
— Хватит на Коляню всю домашнюю работу наваливать! Он каждый день помогает, а ты, будто немощный, сиднем сидишь.
— Устаю.
— Все устают. Я как белка в колесе кручусь.
— Пореже бы в поповский дом бегала. За прислугу стала. Хоть бы платили, а то ведь все задарма.
— Типун тебе на язык! Наш батюшка хуже дитяти, а жена хворая. Сам господь повелевает помочь им. — Рассоха уже не могла остановиться, перечислила все грехи мужа, отшлепала ребятишек, когда они разревелись, воскликнула: — Вона чего делается!
У Тимофея Тимофеевича рябило в глазах, внутри все пересохло — только вино могло спасти. Заложив ладонями уши, он уперся локтями в стол, уныло подумал: «Разве это жизнь? Каждый день одно и то же — чумазые рожи, скандалы». Хотелось думать о себе с жалостью, но наплывало другое. На фронте семейная жизнь представлялась раем, сердце постоянно было в тревоге — как там дома? Он даже сна лишился, когда жена сообщила о болезни Коляни. Пристроившись, на пенечке, коряво писал ей — наставлял, давал советы. После победы как манны небесной ждал демобилизации; в поезде, неторопливо тащившемся через всю страну, прикидывал, сколько дней осталось до встречи с женой и детьми. Умиленный, сажал сильно повзрослевших ребятишек на колени, тыкал себя в грудь пальцем, восторженно повторял: «Я папка ваш, папка!» Потом снова началось — пеленки на кухне, поиски приработка, нелады в семье, и то, что на фронте казалось раем, мало-помалу превращалось в ад.
— Очнись! — услышал он голос жены.
Было уже спокойно, мирно. Ребятишки постарше собирали на стол. Малыши с исполосованными слезами личиками деловито раскладывали на полу самодельные кубики, дудели и пыхтели, изображая автомобили. Над тазом с облупившейся эмалью умывался Колька: плескал на лицо, старательно тер шею, довольно пофыркивал. Тимофей Тимофеевич посмотрел на него, одобрительно улыбнулся: «Тощий, но крепкий — вон как мускулы по спине ходят, и лапы словно у взрослого мужика». Жена шуровала ухватом. Запахло щами. В другом чугуне была картошка — крупная, с лопнувшей кожурой. Поймав виноватый взгляд мужа, Рассоха обидчиво поджала губы, потопталась и вдруг юркнула в гридню. Вернулась с четвертинкой. Тимофей Тимофеевич обрадованно привстал.
— Одну стопку налью! — визгливо сказала Рассоха. Она досадовала на себя: сколько раз давала слово не потакать, но не получалось.
На большее Тимофей Тимофеевич не рассчитывал. Выпил, похлебал горячих щей, и жизнь ему такой распрекрасной показалась, что он и понять не мог, отчего только что роптал на нее.
Питались Рассохи изо дня в день одним и тем же, но лопали всегда с охотой. Соленые огурчики, кислая капустка — все это было свое, с огорода. Покропить бы ту самую капустку подсолнечным маслицем — за уши не оттянешь. Но с подсолнечным маслом плоховато было — только один раз в сельмаг привозили. Поторговала продавщица часа два и объявила: «Кончилось!» Сливочного масла в сельмаге не было. Зачем оно, когда в каждом дворе своя буренушка? Но Рассоха масло не сбивала и творожок делала редко — только по большим праздникам. Все молоко ребятишки еще парным выпивали: в одной руке кружка, в другой — ломоть. Да к тому же еще кашку приходится варить последышу и той девчушке, что в позапрошлом году народилась. В сельмаге на полках только маргарин лежал. Рассоха его не покупала: церковный староста рассказывал, что в этот самый маргарин китовый жир кладут. Придя в сельмаг, косилась на аккуратные пачки, мысленно отплевывалась…
Тимофей Тимофеевич сгреб со стола картофельную шелуху, стряхнул в миску, сытно рыгнул, повернулся к Кольке:
— Мать велела снег от избы отгресть. Вдвоем быстро управимся.
— Сегодня не могу, — сказал Колька.
— Почему? Кино вроде бы не привозили, и танцев нет — афишка старая висит, сам видел.
— Свиданка у него, — предположила мать.
Колька опустил глаза.
— Поругались? — обрадовалась Рассоха и уверенно добавила: — Поругались!
— С кем не бывает, — пробасил Тимофей Тимофеевич. — Мы, помню, каждый день цапались. Да и сейчас то же самое.
— Нашел чем похваляться! — Рассоха начала с грохотом собирать миски. — Коляня все сам видит.
Родители посмотрели на сына. Втайне они надеялись, что Колька рассудит их, скажет, кто виноват больше. Но он ничего не сказал, и они обрадовались — каждый из них чувствовал за собой грешок.
Отослав в горницу вертевшихся под ногами ребятишек, Рассоха льстиво улыбнулась сыну.
— Признался бы, Коляня, кто она, твоя краля?
Все в селе, кроме Колькиных родителей, знали или, на худой конец, догадывались, кто приворожил его, но они, отец и мать, до сих пор пребывали в счастливом неведении: Тимофей Тимофеевич чаще, чем о сыне, думал о водке, а Рассоха не больно-то жаловала доносчиц.
Слухи об этом «романе» докатились и до школы. Василий Иванович посматривал на Валентину Петровну с явным неодобрением и все решал про себя — поговорить с ней прямо сейчас или дождаться новых сведений. Лично он не очень-то верил, что такое может случиться, но услужливые люди уверяли — факты точные. Директору хотелось убедиться самому, что учительница и бывший ученик развели амуры, но увидеть их вместе ему никак не удавалось, и он со дня на день откладывал серьезный разговор.
Валентина Петровна действительно нравилась Кольке, казалась ему красивой, намного красивей Ларисы Сергеевны, которая, по его мнению, уж слишком понимала о себе. Полненькая учительница была проще, но Колька не осознавал этого, хотя именно непритязательность Валентины Петровны, стремление во что бы то ни стало устроить свою личную жизнь интуитивно угадывались им, делали его настойчивым, смелым.
Колька, несомненно, был способным парнем. Еще в первом классе он пристрастился к книгам, читал с упоением, с восторгом, и его мать — Рассохе надо отдать должное — быстрее всех почувствовала в сыне «божью искру» и поэтому очень хотела, чтобы он продолжал учиться.
За полгода Кольке довелось поговорить с Валентиной Петровной всего несколько раз. Учительница убедилась, что он умный и очень начитанный. В душе она изменила к нему отношение, но продолжала соблюдать дистанцию.
Колька не подозревал об этом, очень страдал. Он боялся, что отец и особенно мать поднимут его на смех, когда узнают про Валентину Петровну, и не ответил на вопрос.
— Молчишь? — повысила голос Рассоха.
— Отвяжишь, — пробасил Тимофей Тимофеевич. — Срок подойдет, сам скажет.
Молчать стало невмоготу. Колька сколупнул со стола хлебный мякиш, признался:
— Она не хочет встречаться.
— Не хочет? — Рассоха плюхнулась на лавку. — Да кто ж она такая, чтоб не хотеть? Ты вона какой ладный, а на нее еще посмотреть надо.
— Красивая и умная, — заступился за Валентину Петровну Колька.
— Умная? — недоверчиво спросила Рассоха. — Чего ж она тогда нос от тебя воротит?
— Хватит! — сказал Тимофей Тимофеевич. — Пускай сами разбираются. — Посмотрел на притихшего сына, улыбнулся. — Куда ж ты намылился, если снег покидать не можешь?
— К Алексею Николаевичу пойду.
— К учителю?
— Еще позавчера к себе пригласил. Хочет, чтобы я экзамены экстерном сдал.
— Как это?
— Без обучения в школе.
Тимофей Тимофеевич подумал.
— Выходит, он тебя башковитым считает?
— Я кому говорила, — взвизгнула Рассоха, — учись!
— Погоди выть. — Тимофей Тимофеевич помолчал. — Самое главное уже сделано — Колька к месту пристроен и на хорошем счету. Жизнь сама подскажет, что и как дальше.
3
Ветлугин проснулся от неистового стука в дверь. Выбежал в одних трусах на кухню, чуть не сшиб Галину Тарасовну. Она была в ночной рубахе, в наброшенном на плечи платке, с лампой в руке. Ветлугин сорвал с гвоздя изодранный пиджак — в нем хозяйка носила дрова, — напялил его на голое тело, громко спросил:
— Кто там?
— Открой! — крикнул Галинин. — У Лизы опять кровь пошла.
Его глаза блуждали, на губах белела спекшаяся слюна, руки трогали пуговицы, обшлага, прикасались к бороде. Ветлугин сбегал в комнату, стал одеваться, не обращая внимания на Галину Тарасовну.
— Сейчас скумекаем чего-нибудь.
Галинину казалось, что Леха одевается слишком медленно. Он сразу рванулся к двери, когда Ветлугин сказал:
— Потопали!
Село спало. Оранжевым пятном светилось окно только в доме Галинина, напоминая повисшую над горизонтом луну. Под ногами похрустывал тонкий лед. Где-то шумел ручей, и Ветлугин понял: половодье не позволит вызвать врача.
Лиза лежала спиной к двери на нескольких подушках. Были видны посеревшие ноги, худенькие плечи, слипшиеся от пота волосы, бессильно опущенная рука.
— Только с четвертого раза попала, — виновато объяснила фельдшерица, показывая взглядом на лежавший на стуле шприц. — Вены у нее как ниточки.
За спиной тревожно дышал Галинин.
— Чего надо делать? — спросил Ветлугин.
Фельдшерица посмотрела на Галинина.
— У вас какая группа крови?
— Третья.
— Не годится.
— У меня первая. — Ветлугин с готовностью засучил рукав.
Фельдшерица энергично потрясла головой.
— У вас не возьму! Вон вы какой худой. После болезни сами едва на ногах держитесь.
— Это мое дело, — сухо сказал Ветлугин. — Если это необходимо, я расписку дам.
— Пишите!
Ветлугин схватил первый попавшийся на глаза листок, быстро написал, что он сам вызвался дать кровь, что фельдшерица в случае ухудшения его состояния никакой ответственности не несет. Она внимательно прочитала написанное, спрятала листок в черный чемоданчик с красным крестом на боку, обвела взглядом комнату.
— Дайте сообразить, куда положить вас.
— Раскладушка сгодится? — Галинин словно бы очнулся.
Фельдшерица кивнула, и он, стараясь не топать, ринулся в чулан. Послышался ржавый скрип двери, потом что-то посыпалось. Покосившись на Ветлугина, фельдшерица сказала:
— Чудаковатый он.
«От такого горя не таким станешь», — подумал Ветлугин. Как только Галинин внес раскладушку, преувеличенно-бодро сказал:
— Отныне в жилах твоей жены будет течь и моя кровь!
Фельдшерица велела лечь на раскладушку, протерла смоченной в спирте ваткой внутреннюю сторону на сгибе руки, и Ветлугин ощутил безболезненный укол.
После переливания фельдшерица сказала, обращаясь к нему:
— Кровь быстро восстанавливается. Хорошо питайтесь, а главное — чай пейте, побольше и сладкий.
У Лизы слегка порозовели щеки, а спустя несколько минут ей снова стало плохо. Фельдшерица опустила руки.
— Все, все испробовала!
— А врач? Врач тоже бессилен? — Ветлугин решил сделать все, что в его силах.
Фельдшерица усмехнулась.
— Врачи в институтах обучались, а я одногодичные курсы кончила.
Ветлугин посмотрел на Галинина, решительно сказал:
— Пошли!
— Куда?
— К Батину! Пусть машину даст — в райцентр Лизу повезем.
— Половодье, — пробормотала фельдшерица. — Не доберетесь или утонете.
— Мне с детства внушали, — возразил Ветлугин. — В жизни нет ничего невозможного!
Галинину тоже хотелось думать так, но он вспомнил: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». До сих пор была лишь смутная тревога, он не допускал, что Лиза может умереть, теперь же в сердце хлынул страх и такая навалилась боль, что потемнело в глазах.
— Что с тобой? — встревожился Ветлугин.
Фельдшерица подошла к Галинину, пощупала пульс.
— Это на нервной почве.
Звенели цепями разбуженные собаки, под ногами пружинила прихваченная легким морозцем грязь. Войдя в калитку, Ветлугин постучал в ставень. Выждал и снова постучал — на этот раз требовательней. Через несколько секунд в щели появился и поплыл огонек.
— Кто? — сердито прогудел Василий Иванович.
— Откройте! — потребовал Ветлугин.
Директор был в исподнем, с керосиновой лампой в руке. Увидев Галинина, нахмурился, неприветливо выдавил:
— Заходите.
Ветлугин изложил просьбу.
— Половодье, — сказал Василий Иванович.
— Попытка, как говорится, не пытка.
Директор задумчиво поскреб бок.
— Фельдшерица-то что говорит?
— Только врач сможет помочь!
Василий Иванович покосился на Галинина, снова поскреб бок.
— К шоферу ступайте. Захочет поехать — поедет, а на нет суда нет.
Ветлугин подумал, что шофер не посмеет ослушаться Василия Ивановича, попросил его пойти вместе с ними.
— Мне не положено людей в неурочное время беспокоить, — сказал директор.
Галинин сделал глубокий вдох, судорожно сглотнул.
— Господь не простит вам этого.
Василий Иванович окинул его взглядом с головы до ног.
— Вы, гражданин поп, религиозную агитацию в моем доме не разводите. В церкви, если вам это разрешено, басенки рассказывайте.
Галинин круто повернулся, пошел к двери, Ветлугин шагнул к директору и, дыша ему в лицо, прохрипел:
— Вы гадкий, ничтожный человечишка. Слышите, ничтожный!
Шофер все понял без лишних слов. Они вывели Лизу, посадили в кабину. Но доехали только до глубокой и широкой полыньи…
4
— Кто был-то? — сонно спросила Анна Григорьевна, когда муж улегся на свое место.
— Алексей Николаевич попа приводил.
— Зачем?
— Грузовик просили — попадью в больницу отвезть.
— Дал?
— К шоферу послал.
Задев мужа локтем, Анна Григорьевна с отчаянием в голосе сказала:
— Сам бы сходил с ними.
— Мне не положено по ночам людей беспокоить.
— «Не положено, не положено»… Как попугай это слово твердишь.
Анна Григорьевна отодвинулась от мужа. Сон слетел, будто его и не было. А Василию Ивановичу очень хотелось спать. Он сильно продрог, пока стоял на крыльце, сейчас чувствовал, как по телу растекается тепло. Стремясь вызвать к себе сочувствие, возмущенно проворчал:
— Слышала бы ты, Нюр, что этот мальчишка-поп мне напоследок сказал!
— Что сказал?
— «Господь не простит вам этого»! — гнусаво передразнил Василий Иванович.
— Так и сказал?
— Слово в слово.
Василий Иванович решил, что теперь жена возмутится, но она легла и — молчок.
— Ты чего, Нюр? — тревожно спросил он.
— Отстань!
Василий Иванович виновато шумнул носом, натянул на голову одеяло, подышал, нагоняя тепло, хотел приласкать жену, но она отодвинулась, выражая свое нерасположение.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Лиза умерла через три дня — в самом начале четыредесятницы. Накануне ей стало легче — она улыбалась, хотя сесть на постели без посторонней помощи не могла. Галинин носился по комнатам, изо всех сил старался ублажить больную, думал про себя: «Господь смилостивился, отвел смерть». Так бывало и раньше, и он уже не сомневался — так будет до тех пор, пока ему не удастся достать стрептомицин, который все еще покупали в Америке. Стоил он очень дорого, но финансовая сторона не беспокоила Галинина. Беда была в другом — этот препарат можно было достать только по блату. Правда, Галинина тревожило, что раньше у Лизы никогда не было такого кровотечения, но ведь болезнь неодинаково проявляется, успокаивал он себя, то хуже становится, то лучше. Самое главное, Лиза сама чувствовала — полегчало, с удовольствием выпила стакан парного молока и блинчик скушала. Галинину хотелось, чтобы она съела побольше, но и на этом спасибо.
Рассоха суетливо хлопотала на кухне, спрашивала взглядом «как?», когда появлялся Галинин. Наклонившись к ней, он доверительно сообщал:
— Ни на что не жалуется и ничего, говорит, не болит.
Рассоха мелко-мелко крестилась, шепотком повторяла:
— Осанна, осанна…
Без нее, Рассохи, Галинин не справился бы с домашними делами. Она была двужильной, эта самая Рассоха, — и колхозных коров подоить успевала, и по дому управлялась, и Галинину помогала. Точнее, все сама делала: он только носился взад-вперед, хватал что попало, одним словом, мешал.
Ветлугин тоже навещал Галинина. Виновато помигивая, клял погоду, утверждал, что врач обязательно приехал бы, если бы не распутица, спрашивал, приходила ли фельдшерица, хмурился, получив отрицательный ответ.
— Страсть какой душевный! — восторгалась Рассоха и, воспользовавшись случаем, рассказывала, что толкуют в селе про его любовь к Ларисе Сергеевне.
Настроение почему-то улучшалось, когда она сообщала, что красивенькая учителка и москвич никак не поладят. В церкви он исподтишка разглядывал хорошеньких прихожанок, отгонял греховные мысли, а они лезли и лезли. Иногда возникало лицо Квашнина — искривленный рот, презрение в глазах. Пугаясь, он сразу же принимался думать о другом…
Вот уже несколько дней Галинин спал в гостиной, на диване. В то утро он проснулся рано-рано с какой-то необъяснимой тревогой в душе. Сразу пошел в спальню, прикоснулся к Лизе и тотчас понял — мертва. Внутри все сжалось, и — так почудилось — на несколько секунд остановилось сердце. Но он все же тихо окликнул Лизу и даже тронул. Ее голова бессильно скатилась с подушки. Галинину показалось, что все это происходит во сне, что он скоро проснется, расскажет Лизе про свой сон, и она, большая их отгадчица, растолкует, что к чему.
Присев на кровать, положил руку на плечо жены, тупо уставился в одну точку. «Бог дал, бог взял», — шевельнулось в мозгу. Так он сидел, может, пять, десять минут. Потом горло сдавила спазма, он уткнул лицо в ладони и разрыдался.
Все проходит, все кончается. Какой бы долгой ни была боль, она тоже пройдет. Обязательно наступит мгновение, когда душа отделится от тела, полетит туда, куда ей положено лететь, а если суждено еще пожить, то организм вытеснит боль или сам, или с помощью лекарства — это не так уже важно. Главное, больше не будет боли… Нет ничего вечного в жизни. Счастье похоже на вспышку: сверкнуло — и нет его. Боль продолжается дольше. Иногда кажется: вся жизнь — сплошная боль, а счастья в ней столько же, сколько алмазов в недрах. Нашел свой алмаз, подержал в руках, полюбовался, и все. Счастье — тот же алмаз. Приходит нежданно-негаданно и так же уходит. А почему уходит, как — не понять. Стараешься понять, бьешься-бьешься, и все впустую. Вся беда в том, что истины нет в тебе, той самой истины, которую ты ищешь и не находишь. А ведь где-то она должна быть, своя истина, для других, может быть, непонятная, а тебе нужная как воздух. Годы идут, а того, что ищешь, к чему стремишься, все нет. И, наверное, не будет. Ведь ты сам не можешь объяснить толком, чего хочешь… Странно устроена жизнь. У одних ничего нет, и они довольны, другим все отпущено, а они ропщут. Что лучше, что хуже? Кого славить, кого ругать? Одни так посоветуют, другие эдак. Видно, не наступит время, когда скажут: в человеке все открыто, все понятно. Себя понять не можешь, а других и подавно. Думаешь о людях как о себе и все хорошее и плохое, что есть в тебе, им приписываешь. Они, должно быть, тем же грешат. А истины все нет. Где она, твоя истина?
Выплакавшись, Галинин ополоснул лицо, оделся и вдруг подумал, что это он, он сам убил Лизу, убил в тот самый день, когда она выбежала на мороз в одной телогрейке. Это ужаснуло его, и он, потрясенный, чуть не грохнулся на пол. Он мог бы оправдать себя в собственных глазах, но не сделал этого — хотелось быть грешником, каяться и казнить себя. Двинул себя по лицу, со всего размаха двинул, даже больно стало, дернул бороду, и тоже не как-нибудь, а по-настоящему, долго-долго хлестал по щекам, приговаривая: «Негодяй, негодяй, негодяй». Физическая боль уменьшала душевные страдания.
Скоро должна была постучаться Рассоха. Пришли бы и другие прихожанки. Они омыли и обрядили бы Лизу, но Галинину захотелось сделать все самому. Для начала он решил переложить Лизу с кровати на раскладушку — надо было сменить постельное белье. Поднял и удивился — такой тяжелой оказалась она. Раньше была как перышко; он мог долго-долго кружиться с ней на руках по комнате, она счастливо смеялась тогда, нарочито испуганно вскрикивала: «Ой, уронишь!» — а он, осыпая поцелуями ее лицо, с шутливой угрозой говорил: «Обязательно уроню!..»
Галинин достал все самое лучшее и самое новое, омыл и обрядил покойницу. И пока делал это, все время ронял слезы. Они падали на Лизино тело, еще вчера белое, наполненное теплой кровью, а теперь прохладное, серое, будто присыпанное пылью.
2
Лиза, уже обряженная — в саване, в чепце, — лежала в гробу. Тихо потрескивали свечи, пахло хвоей, было студено — то и дело хлопала входная дверь, приходили и уходили люди. Рассоха шмыгала по комнатам, что-то выговаривала сердитым шепотком, что-то объясняла. Она явно чувствовала себя самым главным лицом, очень гордилась этим, распоряжалась всем и всеми по своему усмотрению. Галинин был в каком-то отупении, все делал механически: покорно выслушивал соболезнования, покорно пил молоко и жевал хлеб — то, что приносила Рассоха. Мысль о своей виновности не покидала его, была нестерпимо мучительной. Временами, когда в комнате скапливалось много людей, хотелось стукнуть в грудь кулаком, громко объявить, что он виноват, только он, не болезнь погубила Лизу, а его бессердечие.
Тимофей Тимофеевич, веселенький, слонялся по комнатам, рассказывал всем, кто попадался на глаза, каким распрекрасным получился гроб: ни одного гвоздочка не истрачено, все на шипах сделано, каждая досточка обстругана и даже шкуркой протерта.
— В таком домовище хорошо и удобно будет, — добавлял он.
Наткнувшись на Галинина, Тимофей Тимофеевич напускал на лицо скорбь и начинал в третий или четвертый раз объяснять, как он ладил гроб, как старался: даже обедать не пошел, чтоб успеть, и успел. Галинин поспешно совал ему несколько бумажек, и он, стараясь не попасться на глаза жены, удалялся, чтобы появиться минут через двадцать — тридцать в еще более приподнятом расположении духа. Рассоха, казалось, не обращала на него внимания, а на самом деле все примечала. Когда муж пошатнулся и уронил стул, решительно сказала Галинину:
— Больше его не ублажай, батюшка! Если он еще выпьет, то песни орать начнет и безобразить.
Не прошло и часа, как хитрый мужичок снова стал бубнить про гроб; облизывая сухие губы, вздыхал — никак не мог понять, почему поп не вынимает кошелек. Рассоха втолкнула мужа на кухню, сердито сказала:
— Сиди тут! На поминках неволить не буду, а сейчас — хватит.
Примчался Ветлугин.
— Удивлен, — пробормотал Галинин.
— Чем ты удивлен?
Галинин помолчал.
— Лиза — попадья, а ты учитель, человек светский.
Ветлугин вздохнул, тихо сказал:
— Неужели ты и впрямь считаешь, что сострадать, любить людей могут лишь одни верующие? Да, я атеист, никогда не приму ни твои воззрения, ни твой образ жизни. Но это не мешает мне любить и чувствовать так же, как любишь и чувствуешь ты, а может быть, даже сильней. Я не принимаю только предателей, отпетых негодяев. А как я могу не посочувствовать тебе, когда нас связывает фронт?
— Да, это не позабудешь, — согласился Галинин.
В доме было тревожно-тихо. Точно так же бывало в других домах, куда Галинин приходил соборовать. Обострившийся слух улавливал самый ничтожный шорох — ненароком вырвавшийся вздох, скрип половиц, шарканье; хлопанье двери болезненно отзывалось в ушах.
— Завтра опять приду, — сказал Ветлугин, — а сегодня не стану мешать.
— Ты не мешаешь.
Ветлугин подумал, что если он останется, то будет или сиднем сидеть, или слоняться по комнатам как неприкаянный.
— Тетради проверить надо — сегодня в двух классах контрольные работы были.
— Я тебя не неволю. В церковь и на кладбище ты, наверное, не успеешь — вынос часов в десять, а на поминки — прошу.
Ветлугин помолчал.
— Я лучше после приду, когда ты один останешься.
— Как хочешь. — Галинина удивил и обидел этот вежливый отказ. А Ветлугин и не думал отказываться — просто боялся стеснить незнакомых ему людей.
До самой ночи приходили и уходили верующие. Они не мешали Галинину, но он все же обрадовался, когда в доме осталась только Рассоха с мужем.
— Как велишь, батюшка, — спросила она, — уйти нам или при тебе быть?
Галинин решил провести всю ночь возле гроба, сказал Рассохе, что немного отдохнет, потом будет читать псалтырь. Она не огорчилась и не обрадовалась — быстро собралась и ушла вместе с мужем.
Все двери, кроме входной, были растворены, сильно сквозило. Захотелось вдруг простудиться и умереть, чтобы не разлучаться с Лизой. Воображение услужливо нарисовало собственную кончину, по щекам покатились слезы. Галинин вытер их и подумал: «Никогда не считал себя сентиментальным. Выходит, ошибся». Покоя не давала мысль: возьмет господь Лизу к себе или… Хотелось верить, что в самую последнюю минуту своей жизни она приняла бога всем сердцем.
Память перебирала прошлое. Перед глазами снова возник теплый майский день, парящий в небе змей, голову сверлила мысль — играла Ольга Ивановна или в квартире было тихо? Казалось: это обязательно надо вспомнить. Выплыло лицо матери. Галинин подумал о ней по-сыновьи тепло и порадовался: «Это хорошо, по-христиански». Убрав с оплывших свечей нагар, раскрыл псалтырь. Вначале читал машинально, не вникая в прочитанное, потом стал находить в каждом псалме глубокий смысл, созвучное своему настроению. Читал до тех пор, пока не устал. Походил по комнате, разминая затекшие ноги, постоял около окна, поцарапал ногтем стекло, подошел к гробу и долго смотрел на усопшую, не хотел думать, но думал, что в его распоряжении всего несколько часов, что утром муж Рассохи вколотит в крышку гвозди и от Лизы останется только холмик с крестом и его воспоминания, очень мучительные, потому что он — да, да, он! — виноват в том, что она умерла, и никто не докажет ему другое. Наклонившись, он поцеловал Лизу в хладные уста, негромко сказал:
— «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!»
Ночь была тихой, как и предшествовавший ей день, и Галинин вдруг подумал, что Лиза конечно же отошла с богом в сердце, с его именем на устах, что такой день и такую ночь на землю послали ангелы, что природа тоже оплакивает ее.
3
«Как могут они улыбаться, шутить?» — досадовал Ветлугин, хмуро поглядывая на оживленных учителей. Он решил во что бы то ни стало пойти на похороны, хотел отпроситься и теперь ждал, когда освободится Василий Иванович, что-то объяснявший преподавателю географии.
До начала уроков оставалось десять минут. Учителя переговаривались, листали классные журналы; Анна Григорьевна расслабленно сидела на диване — ей давно полагалось быть в декретном отпуске, но она продолжала работать, хотя муж и сердился; Валентина Петровна хлопала белесыми ресничками; Лариса Сергеевна о чем-то напряженно думала.
Как только директор двинулся к двери, Ветлугин обратился к нему с просьбой освободить его от уроков.
— В райцентр собрались? — миролюбиво спросил Василий Иванович. Хотя москвич и оскорбил его, он делал вид — ничего не произошло, с облегчением думал: «Хорошо, что это было без свидетелей».
Ветлугин мог бы сказать «да», и директор сразу бы отпустил его: по воскресеньям магазины в райцентре не работали, а учителям надо было и обновки справить, и купить то, что никогда не привозили в сельмаг. Но Ветлугин не стал лгать — сказал громко и с вызовом:
— Отец Никодим сегодня жену хоронит!
В учительской наступила тревожная тишина. Было слышно, как шалят ребята, что-то кричат, смеются.
— Я тоже хочу пойти! — неожиданно сказала Лариса Сергеевна.
— Та-ак, — выдавил Василий Иванович. — Может быть, по случаю этих похорон траур объявим и всех учеников по домам распустим?
— Это ваша забота, — сухо сказал Ветлугин. — Что касается меня, то я обязательно пойду на кладбище.
— Как вы можете так говорить? — Василий Иванович не терял надежды отговорить учителя.
— Могу! — Ветлугин побледнел. — Я, между прочим, с этим попом на передовой был — не то что некоторые.
— Тихо-тихо, — пробормотала Анна Григорьевна.
Валентина Петровна испуганно таращилась, Лариса Сергеевна смотрела на директора с откровенной враждебностью. Он вдруг успокоился, щелкнул крышкой часов.
— Поторапливайтесь, товарищи! Полторы минуты осталось.
— Вы не ответили, — напомнил Ветлугин, все еще дрожа от негодования.
— Не разрешаю! — бросил Василий Иванович.
Лариса Сергеевна немедленно выложила на стол больничный лист.
— Ко мне это не относится!
— Отпусти их, — обратилась к мужу Анна Григорьевна. — У нее, — она кивнула на Ларису Сергеевну, — сам видишь, бюллетень, а Алексея Николаевича я подменю — второй и третий уроки у меня «окна».
— Пусть идут, пусть! Для них школа — пустое место! — В голосе Василия Ивановича была горечь…
Ветлугин был растроган поступком Ларисы Сергеевны, сердце переполнялось благодарностью к ней, и, пока они шли, он все время порывался сказать ей что-нибудь приятное, и не просто приятное, а очень приятное, что в свою очередь, должно было вызвать ответные слова, тоже ласковые и хорошие.
Похолодание, которое предрекали все, так и не наступило. Солнце набирало и набирало силу, растапливало остатки снега, притулившегося в канавах и на обочинах. Вешние воды, обильные и стремительные, омывали каждый камушек, каждый бугорок, уносили все лишнее и ненужное в разлившуюся речку, которую теперь можно было смело назвать полноводной рекой — такой широкой стала она. Из воды торчали верхушки кустов и молодые деревца; несколько больших полузатопленных елок темнели на водной глади словно маленькие шалашики, и Ветлугин с грустью подумал, что Лариса Сергеевна, наверное, никогда не скажет ему: «С милым рай в шалаше». Он пригласил ее в дом, но она отрицательно покачала головой, и тогда Ветлугин сказал, что ждать, возможно, придется долго. Она ничего не ответила и на этот раз, подняла воротник пальто. Ветлугин решил, что ей, должно быть, холодно: утро только начиналось, а пальто было легкое — тонкий драп да подкладка. Лариса Сергеевна даже платок не накинула, коса чуть расплелась, каштановая прядь налезла на лоб.
На отпевание Ветлугин решил не ходить, а Лариса Сергеевна вошла в церковь, смешавшись с толпой прихожан…
В церкви было душновато, потрескивали свечи, прихожанки в черных платках, в основном старухи и пожилые женщины, горестно поджав губы, смотрели на лежавшую в гробу Лизу. Галинин вдруг ощутил дурноту, перед глазами все поплыло, и он потерял сознание…
4
В доме было прибрано — Рассоха выскоблила полы, перемыла посуду, проветрила комнаты. Но водочный дух еще держался и пахло кутьей — так всегда бывало после поминок. Чувствовал себя Галинин скверно, хотя после обморока прошло порядочно времени. Очнувшись, он прежде всего увидел склонившегося над ним Ветлугина. В глазах однополчанина была тревога — это Галинин отметил, несмотря на недомогание. Прибежавшая фельдшерица сказала, что обморок — результат переутомления, нервного напряжения.
«Так, наверное, и есть», — подумал теперь Галинин. Как все эмоциональные, легко возбудимые люди, он легко поддавался самовнушению. Сознавая, что это кощунство, что он лишь усугубляет свою вину перед Лизой, стал думать не о ней, усопшей, а о Ларисе Сергеевне, уверял себя, что она тоже неравнодушна к нему. Основания для этого были: мимолетно брошенный взгляд, лукавство в глазах, одним словом, то, что выдавало женщин с головой, позволяло без особых ухаживаний добиваться их благосклонности. Он перебрал в памяти свою жизнь в этом селе и убедился: видел Ларису Сергеевну не очень часто, а поговорить довелось всего один раз, да и то в присутствии Ветлугина. Мысленно назвал ее своей женой и тут же усмехнулся: не мог представить Ларису Сергеевну преклоненной перед иконами. Чувствуя в душе что-то похожее на сожаление, решил, что никогда не соединится с ней, потому что она вся земная и думает о земном, а его помыслы все еще устремлены в небесную высь — туда, где бог, Христос, где в райских кущах отдыхают светлые души усопших. И вдруг спросил себя: «А есть ли они, эти райские кущи, есть ли бог?» Вспомнил видения, которые были, вспомнил блики на стенах, голос Христа и задумался. Снова возникло лицо Ларисы Сергеевны. Испытывая к самому себе жалость и умиление, мысленно сказал ей: «Не искушай. Не добавляй в уже наполненную чашу новую горечь. Твоя улыбка не принесет мне счастья, поцелуи не осушат слезы, сладостные речи не укрепят дух. Ничто, исходящее от тебя, не прольется бальзамом на душевную рану. Пойми, девушка, на этом кладбище, в еще сырой могиле, лежит та, перед кем я грешен».
Стало тягостно, горько. Ветлугин посидел на поминках и ушел. Сказал — к урокам подготовиться надо. Обещал навестить, да что-то не идет.
Как только Галинин подумал так, в дверь постучали.
— А я уж решил — не придешь, — сказал он, впуская Ветлугина.
— Обещал же.
«Если бы все выполняли обещания, то жилось бы легче», — подумал Галинин. Провел Ветлугина в комнату, достал рюмки, вино.
— Может, не будем? — сказал Ветлугин.
— Почему?
Ветлугин помешкал, конфузливо объяснил:
— У тебя глаза туманятся и лицо раскраснелось.
Выпил Галинин действительно много, но голова была ясной. Так и ответил. Ветлугин не стал возражать — чувствовал себя обязанным исполнить его любое желание.
Пили они молча. Отец Никодим жадно курил, продолжая думать, помимо желания, о Ларисе Сергеевне, жалел влюбленного в нее Ветлугина, а ему хотелось утешить фронтового приятеля, но слова в голове вертелись какие-то бросовые. Закопченное стекло керосиновой лампы отбрасывало свет только в одну сторону, четче всего была освещена картина Ганса Бургкмайра.
Прикрутив чадивший фитиль, отчего в комнате стало еще темней, Галинин машинально посмотрел на картину Бургкмайра и вздрогнул: изображенное на нем облако словно бы ожило. Запахло морем, лицо ощутило солнечное тепло, послышалось негромкое щебетание птах, а чуть позже шелест подира. И горний голос властно сказал: «Знаю служение и веру твою. Знаю, как тяжело тебе в эти минуты. Но повелеваю: поступай всегда по совести».
Галинин почувствовал: вот сейчас, сейчас возникнет и сам Христос. И хотя он понимал: это всего лишь самовнушение, игра воображения, появление спасителя приносило ему облегчение, внутреннее успокоение. Перед глазами образовалось световое облако, совсем не похожее на то, которое возникало перед ним прежде. Облако было густым, черным, с фиолетовыми всполохами. Как только оно растаяло, Галинин увидел вместо Христа Квашнина — все тот же искривленный рот, все то же презрение в глазах. Это было свыше его сил, и он, издав стон, заслонился рукой.
— Что… что с тобой? — встревожился Ветлугин.
— Уйди, мне помолиться надо, — пробормотал Галинин, испугавшись проницательности фронтового приятеля.
Ветлугин недоверчиво посмотрел на него, вздохнул и молча вышел.
Оставшись один, Галинин поправил в лампаде фитилек, опустился перед божницей на колени, тихо сказал:
— Помоги мне, боже, избавь от душевных ран. Видел тебя, слышал твой голос, а все равно тяжело. Хочу жить только для людей, хочу творить только доброе, полезное, а оно вон как обернулось. Неужели я ошибся, когда решил — выше служения тебе ничего нет?.. Прости мне, боже, эти мысли, прости грехи — те, что были, и те, что будут. Благодарю тебя, боже, за травы, по которым хожу, за шелест листвы, который слышу, воздух, которым дышу. Благодарю тебя, боже, за чудо, совершенное тобой на фронте. Любил тебя, потому что только в думах о тебе, в своих сомнениях видел смысл своей жизни и свою силу. Трудно мне, боже, горько. Покоя хочу, монастырской тишины. Не искушай меня, боже, отведи мирскую любовь, если это действительно любовь, соедини ту, о которой думаю, с Ветлугиным. — Слезы побежали по щекам отца Никодима, борода стала мокрой. Он вытер лицо рукавом, простонал: — Прости меня, боже! Прошу — соедини, сам же думаю — не надо. Знаю, что не могу быть с ней, а она — в мыслях. Сильно виноват перед женой своей, перед Квашниным. Теперь до конца дней своих буду каяться и думать о них.
Галинин молился долго, и крупные слезы падали на его исхудалые руки. Окончив молиться, он сел в глубокое кресло с протершимися подлокотниками. Ворот подрясника был расстегнут — виднелся пропитанный потом гайтан; неяркий свет керосиновой лампы падал на бледное, измученное лицо, пальцы шевелились, словно перебирали четки. Он чувствовал: отныне в этом селе ему нечего делать. К тому же он очень боялся встретиться с Квашниным, боялся шушуканья, дурной молвы, несомненно возникшей бы после этих встреч, боялся укоризненного и вместе с тем жалостливого взгляда Ветлугина, который, наверное, сказал бы: «Вот видишь», что означало бы — прав он, а не Галинин. Ему хотелось избежать всего этого, хотелось обрести покой, душевное равновесие — то, что он надеялся найти, когда приехал сюда. Помимо воли в его голове начали складываться слова последней проповеди, с которой он намеревался обратиться к пастве, но которая предназначалась не только для верующих.
Вначале Галинин мысленно спросил себя, какой он — хороший или плохой. Хотелось думать о себе только хорошо, но где-то глубоко-глубоко в голове постукивало: ты совсем не такой, каким стараешься казаться. Слова Ветлугина, сказанные им в новогоднюю ночь, стойко держались в памяти: горько было услышать от однополчанина, что от него, отца Никодима, нет никакой пользы людям. Потом Галинин вспомнил фронт — самые тяжелые, но и самые стоящие годы в его жизни. Окопы, туман над речкой, горьковатый, самосадный дымок, лица однополчан, на которых было все — и страх, и надежда, и уверенность. Галинин вдруг понял, что он, живой и невредимый, ответствен перед своими сверстниками — теми, кто лежит в братских могилах под Москвой, под Сталинградом, в Белоруссии, в странах Европы, кто мог бы в эти послевоенные годы выращивать хлеб, выплавлять металл, возводить дома, кого нет, но кто навечно в памяти.
— Послевоенные годы… — прошептал Галинин и услышал свой голос.
За тысячи километров отсюда были разрушены города, села, железнодорожные станции. Люди там восстанавливали дома, школы, клубы.
«А что полезного, нужного обществу сделал я за эти послевоенные годы? — спросил себя Галинин. — На фронте я осознавал свою значимость, был одним из тех, кто избавил мир от коричневой чумы. А теперь… Кто и что я теперь?.. Нет пророков на нашей планете и не будет! Но у каждого из нас, черного, желтого, белого, есть своя Отчизна — самое главное в нашей жизни. Где бы ни пришлось тебе жить или скитаться, ты будешь вспоминать свою Родину, мысленно обращаться к ней. Прилепившаяся к скале сакля, убогая хижина на каком-нибудь островке, покачивающаяся около причала джонка, рисовое поле с шныряющими между стеблей мальками, городской дом на тихой улочке, от которого давным-давно не осталось и следа, одинокое деревце на пустыре, тоскующий гудок фабричной трубы, возвышающейся над бараками или каменными строениями, похожими на казармы, всполохи в ночном небе от мартеновских и доменных печей, грохот прибоя, пахнущая рыбой сеть, раздолье большой реки или говорливый родничок с прозрачной водой, щедро льющейся в подставленную ладонь, — все это твое, и только твое. И ты, сохраняя это в памяти, должен до последних дней жизни любить Отчизну и верить: наступит день, когда не будет ни войн, ни страданий, ни страха, ни обмана, когда великое творение природы или бога — это уж как угодно тебе — Человек станет кристально чистым, добрым, великодушным к ближнему своему…»
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Схватки начались на переменке, между четвертым и пятым уроками — на полтора месяца раньше срока. Учителя всполошились. Василий Иванович старался не выдавать волнения, но по лицу было заметно — волнуется. Шестиклассники, к которым Анна Григорьевна должна была пойти на урок, решили, что их распустят по домам, но директор попросил Валентину Петровну провести в этом классе хотя бы диктант.
— Зачем? — удивилась она. — Пятый урок последний, пусть домой идут.
— Не положено, — произнес свое любимое словечко Василий Иванович: даже в самых исключительных случаях он не разрешал отпускать школьников раньше времени.
— Я тебя в учительской подожду, — сказала приятельнице Лариса Сергеевна.
Ветлугин собирался пойти домой, но неожиданно для себя остался — решил поговорить с Ларисой Сергеевной начистоту. Сколько можно было молчать, откладывать объяснение?
Она скинула «лодочки», села на диван, подобрав под себя ноги, и Ветлугин невольно подумал, что это, должно быть, ее любимая поза. Прелестная головка, пушистая коса, темные печальные глаза, белая-белая кожа — от всего этого можно было с ума сойти. Ветлугин не стал ходить вокруг да около и, как только в коридоре стих топот опоздавших на урок учеников, сказал, сильно волнуясь:
— Не сердитесь на меня. Но я люблю вас — с того самого дня, как увидел. Я… я не могу без вас жить!
Лариса Сергеевна медленно подняла голову, и Ветлугин вдруг увидел, что около ее глаз много-много мелких морщинок, которые обычно бывают у очень смешливых людей. Смеялась она редко, и это озадачило Алексея Николаевича. Однако размышлять об этом не было времени — почудилось, что сейчас, сейчас Лариса Сергеевна скажет «нет», и все будет кончено. Испугавшись, Ветлугин начал, сбиваясь и путаясь, рассказывать о своей любви, вспомнил, как в первый же день сравнил Ларису Сергеевну с Незнакомкой, как постоянно думал о ней.
Она слушала внимательно и в то же время как будто бы напряженно. Пальцы теребили косу, и Ветлугин влюбленно подумал, что они неподвластны ей, что только они выдают ее внутреннее состояние. Было приятно сознавать, что она волнуется, и он, воодушевленный этим, выпалил:
— Будьте моей женой!
«Наконец-то!» — Лариса Сергеевна уже отчаялась услышать эти слова. Продолжая слушать сбивчивую речь Ветлугина, она думала: одно ее слово, и он — счастливейший человек. Женское лукавство подсказало: не надо торопиться, и Лариса Сергеевна, чуть наклонив голову, сказала, что ответит позже.
— Когда? — вырвалось у Ветлугина.
— Позже, — повторила Лариса Сергеевна.
По коридору прошла с колокольчиком техничка — урок был окончен.
2
— Я все ж вызнала, по ком Коляня сохнет, — с довольным видом сообщила Рассоха.
Это пробудило интерес:
— Кто же она?
Рассоха чуть выждала, распаляя любопытство.
— Учителка его приворожила — вот какие дела!
Тимофей Тимофеевич выпучил глаза.
— Неужто та, которая с москвичом приходила?
Рассоха подавила вздох сожаления.
— Другая приглянулась. Валентина… А вот как по батюшке, из головы вон.
— Петровна, — подсказал Тимофей Тимофеевич.
Рассоха устремила на него подозрительный взгляд. Он приосанился, покрутил рукой воображаемый ус.
— Мотри у меня! — взорвалась Рассоха и, чуть подумав, добавила: — Кобель!
Ей постоянно казалось: все бабы только и думают, как бы совратить Тимофея Тимофеевича.
Ревнивые нотки в голосе жены приятно пощекотали самолюбие. Он решил воспользоваться благоприятным моментом, стал клянчить хотя бы полстакашка. Тимофей Тимофеевич не сомневался — водка в доме есть, но где она спрятана, он так и не узнал, хотя, когда жена отлучалась, пытался найти тайничок: в чулане рылся, на чердак лазил, даже стены обстукивал и половицы приподнимал.
— Не дам! — отрезала Рассоха. — Лучше признайся, ндравится тебе учителка или нет?
— Какая? — ляпнул Тимофей Тимофеевич и сразу пожалел: жена снова обозвала его кобелем и стала браниться. — Будя, будя… — Он отодвинул щи — без вина в глотку ничего не лезло. Жена не унималась, и Тимофей Тимофеевич сказал: — Сейчас Колька прибежит, с ним и толкуй про эти дела.
Как только сын сел, Рассоха сразу же напустилась на него:
— Не по себе, Коляня, дерево рубишь. С учителкой только сердце истреплешь.
— Выследила? — пробормотал Колька.
— Обязательно! — Рассоха не скрывала удовлетворения. — Она, стерва, от тебя нос воротит, а ты словно побирушка под окнами ходишь. Разглядела — ничего особого в ней нет. Одна слава — в теле. Родит — такой же, как наша директорша, станет.
— Сегодня разрешится, — сказал Тимофей Тимофеевич.
Рассоха помотала головой.
— Прикидывала — через месяц срок.
— От надежных людей слышал — уже фельдшерицу вызвали, — возразил Тимофей Тимофеевич.
Рассоха подумала:
— Рановато! Махоньких да хиленьких рожает. Должно быть, от лишнего веса это. В материнской утробе приплоду простор требуется, а у нее там жир накоплен.
Тимофей Тимофеевич и Колька помолчали: в этих делах мать смыслила не хуже повитухи.
Она снова принялась хаять Валентину Петровну, которая больно много понимает о себе и даже в подметки Коляне не годится, потому что он вона какой ладный да статный, а она, срок придет, толще бочки станет. Распалившись, влепила сыну подзатыльник, словно он был виноват во всем этом.
— За что? — обиделся Колька.
— За то! — Рассоха не могла объяснить свой поступок. Ее переполняли противоречивые чувства: было досадно, что от Коляни воротят нос, и в то же время не хотелось, чтобы он связывался с учителкой. Неуравновешенная от природы, она в последнее время легко возбуждалась по самому пустяковому поводу, потому что чувствовала: и с мужем неладно, вот-вот сорвется, старалась изо всех сил отдалить неизбежное, но часто делала не то, что надо, собиралась попросить батюшку отвести от мужа болезнь и теперь, продолжая сердиться, сказала себе, что вечером, управившись с делами, сбегает к нему, бухнется в ноги — авось молитва совершит чудо и можно будет жить без тревоги еще месяца три-четыре, а то и целый год.
Тимофей Тимофеевич решил проявить отцовское внимание, спросил Кольку, надеясь, что жена оценит это:
— К учителю-то ходишь?
— Хожу.
— Вона сколько книжек понатащил! — Рассоха показала на несколько книг, аккуратно сложенных на полке, приколоченной почти под самым потолком. — Сидел бы да читал, когда все люди читают, а он, непутящий, допоздна по улице ходит, а потом всю ночь керосин жжет.
— Пусть, — бормотнул Тимофей Тимофеевич.
— Вона какой ты! — Рассоха никак не могла остановиться. — Керосина в жбанчике на самом дне, а тебе все — пусть.
Колька вздохнул, помутил ложкой щи.
— Не ндравится? — Рассоха нашла еще один повод для недовольства.
Щи были постные, вчерашние, уже остывшие. Колька с удовольствием похлебал бы какой-нибудь супчик, но мать спешила израсходовать начавшую плесневеть капусту, каждый день варила щи. Он склонился над миской, стал поспешно хлебать. Это успокоило Рассоху. Она подошла к печи, выволокла на шесток чугун.
— Картоху с огурцами трескайте!
— Под огурцы это самое полагается. — Тимофей Тимофеевич с надеждой посмотрел на жену.
— Ладноть! — Рассоха понимала: расшумелась попусту, хотела хоть как-то сгладить свою вину.
3
Расторопная фельдшерица вместе с акушеркой выпроводила Василия Ивановича и Петьку, сказала, что они будут мешать. Анна Григорьевна чувствовала себя хорошо, но Василий Иванович продолжал волноваться. Он всегда волновался, когда рожала жена. Василий Иванович решил сделать все возможное, чтобы этот ребенок выжил; теперь обдумывал, куда в случае необходимости везти — в райцентр или прямо в Хабаровск.
Петька пошел к ребятам, а Василий Иванович направился в школу. Уроки уже кончились, в классах было непривычно пусто, тихо. Техничка домывала коридор лениво гоняла шваброй замутившуюся воду. Увидев Василия Ивановича, стала двигать руками проворней. Он переступил через лужицу, строго спросил:
— В классах прибрано?
— Прибрано, Василь Иваныч, прибрано. — Техничка накрыла шваброй убегавший от нее ручеек. — Дежурные даже окна вымыли.
Василий Иванович вспомнил: это было введено не им, директором школы, а молодыми учителями, и нахмурился. Обошел классы, собрал неиспользованные мелки, отдал их техничке.
— Спрячь!
Войдя в свой кабинет, подровнял сложенные в аккуратные стопки бумаги, нацепил очки. В последнее время Василий Иванович стал хуже видеть, но очки носить стеснялся — надевал их только тогда, когда оставался один.
Надо было подписать несколько отчетов. Он перелистал их, хотел прочитать, но не смог — мысли все время возвращались к жене, к тому, что совершалось, а может быть, уже совершилось в его доме. Тревожило, что младенец родится недоношенным и, следовательно, слабеньким, и Василий Иванович с беспокойством подумал, что, возможно, уже сегодня придется вызывать врача.
День был хороший, теплый. Ласточки устраивали под крышей гнезда, и Василий Иванович, переместившись поближе к похожему на амбразуру окну, стал наблюдать за белогрудой самочкой и за бойким, смелым самцом.
Фельдшерицу он увидел издали. Наспех одетая, она бежала посреди улицы, глядя прямо перед собой. «Мертвеньким родился», — догадался Василий Иванович, и сердце его упало.
Ворвавшись в кабинет, фельдшерица разрыдалась.
— Ладно, ладно, — проворчал Василий Иванович. Теперь его интересовало только состояние жены.
— Очень плохо Анне Григорьевне, — сообщила фельдшерица. — Пришлось остановить первую попавшуюся машину и — в район.
— Кто с ней поехал-то?
— Акушерка.
— Есть опасность для Нюры?
— Царапина и то опасной бывает.
Василий Иванович почувствовал — ослабевают ноги.
— Да что вы, да что вы! — воскликнула фельдшерица. — С Анной Григорьевной ничего худого не случится, а вот выживет ли ребеночек — сказать не могу.
Когда фельдшерица ушла, Василий Иванович опустился на стул, сжал руками голову, едва слышно пробормотал:
— Это я виноватый, Нюра, я. Захотелось на старости лет младеня понянчить. Петька-то, сама понимаешь, еще немного и — вон из родного гнезда. Девчушка бы утехой была. Черт меня дернул сказать тебе тогда про то, что на уме было. Побереглись бы — ничего не случилось. А может, обойдется? Может, младень живым останется. В райцентре, говорят, врачи опытные; та, что роды принимает, даже на курсах усовершенствования была.
Василий Иванович принялся убеждать себя, что ребятеночек выживет и он на старости лет получит утеху.
4
Райпотребсоюзовский шофер, с которым Галинин договорился вчера, обещал приехать не раньше восьми часов вечера. Чемоданы были упакованы. Кроме церковного старосты и дьякона, он никому не сообщил о своем отъезде. Они одобрительно покивали. Церковный староста надеялся, что вместо отца Никодима пришлют другого священника — попонятливее и посговорчивее, и можно будет наконец сотворить какое-нибудь чудо, которое сделает их приход самым знаменитым в епархии.
Все предшествовавшие отъезду дни Галинин провел в хлопотах и теперь, когда все было улажено и обговорено, решил попрощаться с Рассохой и Ветлугиным, но вдруг подумал, что снова может встретиться с Квашниным. Испугавшись этого, направился на кладбище — сказать последнее прости Лизе: только одна она уже ни в чем не могла упрекнуть его. Галинин понимал, что поступает скверно по отношению к Ветлугину и Рассохе, не говоря уже о пастве, но потрясение, которое он испытал в момент возникновения Квашнина, было таким сильным, что отец Никодим не мог избавиться от страха, не мог заглушить зародившееся в нем чувство собственной вины. В сознании была мысль, что Квашнин теперь станет являться вместо Христа и он, Галинин, будет мучиться и страдать, как мучаются и страдают в преисподней грешники. Впервые в жизни он подумал о жестокосердии бога и решил, что даровал бы возлюбленной Квашнина жизнь, если бы был на месте всевышнего.
В набухших почках проклевывалась листва, разбуженная щедрым весенним солнцем, еще не набравшим всей силы, но уже способным давать жизнь. Шумно ссорились воробьи, выхватывали друг у друга что-то съедобное. Отощавший кот смотрел на них желтыми голодными глазами, припадал грудкой к нежной, только что появившейся траве, напружинивал тело, ерзал, но прыгнуть так и не решался. Галинину почему-то показалось, что воробьи нарочно дразнят кота и он понимает это.
Лизина могила находилась на противоположном конце, неподалеку от ограды, и Галинин, прежде чем направиться к ней, обошел все кладбище, посмотрел на видневшуюся сквозь спутанные ветви звонницу. Грудь сдавила печаль. Здесь прошли полтора года его жизни. Худшие или лучшие — не в этом дело. Несомненно, счастливые, потому что еще неизвестно, что будет дальше. Может быть, до самой смерти придется носить в сердце боль, чувство вины, а если и войдет в его дом другая, то, конечно, не такая, какой была Лиза. Хотелось думать, что он очень любил жену и продолжает любить, но сам себе возражал: это была не та любовь, ради которой и руку дашь отрубить, и грудь продырявишь, которая приходит раз в жизни и не повторяется, как повторяется все. Раньше казалось: сколько раз любишь, столько раз и открываешь в женщине что-то чудесное, еще неизвестное, а она, в свою очередь, находит в тебе то, что понапрасну искала в других, что может озарить два сердца, гореть долго-долго, а может вспыхнуть и сразу превратиться в пепел. Но любовь ли это? И то, что горит долго-долго, и то, что вспыхивает и сразу гаснет?
После обморока не было ни одного дня, чтобы Галинин не вспоминал Ларису Сергеевну. С удивлением и ужасом убеждался, что думает о ней совсем не так, как о Лизе, и испытывал другое, совсем не похожее на то, что было раньше, сознавал свою вину перед женой. Грех надо было искупить, а искупить его он мог только ценой собственного счастья, и Галинин внезапно подумал, что сердце, разум и душа, соединенные вместе, образуют совесть — самое главное в человеке. «Она живая, наша совесть, — размышлял он, — она способна роптать, восхищаться, плакать от горя и смеяться от умиления, но только она твой судья, и никто больше».
Остановившись около Лизиной могилы, Галинин поправил еще не прижившиеся анютины глазки — любимые Лизины цветы, и подумал, что осенью на могилу высыплются семена и через год на ней снова появятся цветы — и так будет всегда. Он сказал себе, что когда-нибудь, через много-много лет, приедет сюда и убедится — на могиле эти же цветы, хотя понимал — никогда не приедет. Но думать о своем возвращении было приятно, и, разволновавшись, Галинин представил себе, как, старый и немощный, он опустится на колени перед этой могилой и погрустит.
Заслоненное ветвями небо было чисто и покойно, как лицо ребенка во сне; в трели и щелканье едва слышно вплетались флейтовые посвисты небольшой серенькой птахи, сидевшей на еще оголенной ветке.
Было хорошо, спокойно. И вдруг Галинин поднял глаза, увидел Ларису Сергеевну — она шла через лужок, на котором осенью он пригласил Ветлугина и девушек на всенощную. Галинин сразу же внушил себе, что молодая учительница ищет его. Ее лицо было напряженным, и вся она, красивая и строгая, показалась Галинину совсем не такой, какой запомнилась ему. Лариса Сергеевна тоже увидела Галинина, но ничем — ни жестом, ни взглядом — не выдала этого, потому что думала о Ветлугине, представляла свою жизнь с ним. Галинин не подозревал, о чем думает молодая учительница, принялся уверять себя: «Одно мое слово, и она подойдет. Даже не подойдет — подбежит, устремит на меня взволнованные, полные надежды глаза». Его взгляд невзначай упал на Лизину могилу, по телу пробежала дрожь. Страдая от любви к Ларисе Сергеевне и в то же время проклиная себя за Лизину смерть, он, обращаясь к учительнице, мысленно пробормотал: «Ступай с миром, девушка».
5
После разговора с Ларисой Сергеевной Ветлугин ни о чем, кроме нее, не мог думать, перебирал в памяти все, что сказал сам, вспоминал, как она воспринимала его слова. Понял — сегодня и с Колькой заниматься не сможет, сходил к нему на работу, сказал об этом. Колька неожиданно обрадовался.
Домой идти не хотелось, и Ветлугин прямо с портфелем побрел куда глаза глядят; минут через сорок очутился километрах в двух от села, на небольшой полянке, окруженной со всех сторон плотным кольцом деревьев. Отойдя от тропинки, пересекавшей полянку, сел на потемневший пень, широкий и прочный, как табуретка, снова стал размышлять, легко переносясь от радости к унынию.
Промелькнул час, другой, третий. Потянуло холодком. «Пора», — Ветлугин взял портфель, медленно побрел домой.
Как торжественно прекрасны весенние вечера, когда небо еще обласкано лучами заходящего солнца, но уже меркнет, покрывается легкой дымкой, и откуда-то издали, с противоположной стороны от скрывшегося солнца, неторопливо, словно бы нехотя, наползает сумрак, несущий прохладное дыхание ночи, когда ослабевает и постепенно смолкает пение птах, они начинают перепархивать с ветки на ветку, с дерева на дерево в поисках надежного укрытия от ночной сырости и тех, кто кормится ночью, кто опасен, быстр и хитер, когда запоздалый, встревоженный грай заставляет озираться, вслушиваться в каждый шорох. Темнота густеет, становится тихо, и невольно возникает мысль: вот и прошел еще один день, для одних радостный, для других — хуже и представить нельзя. Запахи весны, насытившие воздух, дурманят голову, плечи сами по себе подергиваются в легком ознобе, нападает сладкая зевота, хотя желания спать нет и еще долго не будет.
Проходя мимо дома Ларисы Сергеевны и Валентины Петровны, Ветлугин услышал голоса, сразу насторожился. Постоял несколько секунд и ахнул — Валентина Петровна и Колька. Он что-то говорил, захлебываясь в бесшабашном возбуждении, она смеялась — поощрительно и снисходительно. «Как все переменчиво в жизни», — с улыбкой подумал Ветлугин, завидуя Кольке и одновременно радуясь за него. Мысленно пожелал этому пареньку счастья и побрел дальше.
Неподалеку от рассохинской избы навстречу кинулась Колькина мать, разочарованно пробормотала:
— Обозналась.
Ветлугин сказал, что Колька, должно быть, скоро придет.
Рассоха горестно вздохнула.
— Мужа караулю. Загулял мой Нюхало, чтоб житья ему на том свете не было!
— Вернется, — неуверенно обнадежил Ветлугин.
Рассоха невесело рассмеялась.
— Через седмицу вернется. Надо к батюшке бечь — пусть молитву сотворит, авось господь смилостивится. Сейчас покормлю свою ораву и побегу.
Галина Тарасовна, когда Ветлугин вошел, рассматривала его драные брюки. Они давно износились, он собирался выбросить их или разорвать на тряпки. Так и сказал.
— Значит, не будете носить? — обрадовалась хозяйка.
— Конечно, нет.
— Тогда я выстираю их, починю и мужу отправлю. Хорошая посылочка получается: сухари, сахар, махорка, кое-что из одежонки.
Теперь Галина Тарасовна часто говорила о муже, и Ветлугин каждый раз, удивляясь этому, думал, что некоторым людям очень трудно, даже невозможно, порвать с прошлым.
Отложив брюки, хозяйка сообщила:
— К вам поп приходил. Два раза справлялся — вернулись или нет. Наверное, попрощаться хотел.
— Попрощаться? — Ветлугин устремил на нее удивленный взгляд.
— Уехал он. Часа не прошло, как уехал. Сказал — насовсем.
— Не может быть!
— Сама видела. — Галина Тарасовна протянула Ветлугину сверток в газетной обертке. — Велел вам это передать.
Ветлугин развернул — Библия. Поспешно полистал — надеялся найти письмо или хотя бы записку. Перед глазами мелькали набранные крупным шрифтом слова: «Бытие», «Исход», «Второзаконие», «Есфирь», «От Матфея», «Откровение».
Ни письма, ни записки не было. Осколок в груди шевельнулся и так кольнул, что Ветлугин чуть не вскрикнул. Превозмогая боль, спросил:
— Что он сказал?
Галина Тарасовна виновато вздохнула.
— Только это просил передать…
В МАЕ СОРОК ПЯТОГО
1
Командир стрелкового взвода Овсянин шел вдоль строя, нахлестывая веточкой сапоги — новенькие, надетые сегодня утром по случаю окончания войны. Сапоги отчаянно жали — Овсянин припадал на правую ногу и морщился. Был он среднего роста, тучноват, с покатыми, как у женщин, плечами и мясистой грудью — гимнастерка туго обтягивала ее. По возрасту и комплекции командир взвода походил на майора или подполковника, но был всего лишь лейтенантом. На фронт он попал из запаса, до войны работал не то плановиком, не то экспедитором. Бойцы уважали своего командира: Овсянин был в меру строгим, в меру требовательным, никогда не зудел по пустякам, а если наказывал, то за дело. Вне службы любил посмеяться, обожал байки, сам с удовольствием рассказывал всякие истории, в которых правда переплеталась с вымыслом и был грубоватый юмор.
К Андрею Семину командир относился больше чем хорошо. Как и Андрей, Овсянин был москвичом, только жил У Преображенского рынка, а Семин — в Замоскворечье, в одном из тихих переулков, застроенных маленькими домиками, большей частью деревянными, с узенькими тротуарами и незамощенной мостовой. Семин никогда не бывал на Преображенском рынке, Овсянин же лишь понаслышке знал переулок, где прошло детство и отрочество Андрея, откуда в конце 1943 года он ушел в армию и куда теперь хотел поскорее вернуться, ибо там, в одноэтажном доме, разделенном на пять комнат дощатыми перегородками, с общей кухней, где стояли впритык столы, висели самодельные полки, шумели примусы, чадили, тихо потрескивая керосинки, ждала его мать — молчаливая женщина с наброшенным на плечи дырявым платком. Она куталась в него постоянно — даже в жаркую погоду. Жили они вдвоем, отца Андрей не помнил: он умер через год после рождения сына, а братьев и сестер у Андрея не было.
Еще вчера небо хмурилось, предвещая дождь, ветер трепал ветки с начавшими распускаться почками и молодой листвой; по лесной речке, берег которой был изрезан окопами, промчался, вспучивая воду, вихрь, потом стала пробегать рябь, и молодые солдаты, поглядывая на небо, говорили друг другу, что дождь некстати, что завтра утром, когда начнется бой, им придется туго: сапоги превратятся в пудовые гири от налипшей на них грязи и трудно будет бежать к немецким укреплениям, смутно видневшимся за колючей проволокой на противоположном берегу, метрах в семистах от окопов.
О предстоящем бое еще не объявили, но сработало «солдатское радио», и бойцы теперь про себя и вслух проклинали немцев, окруженных тут, под Либавой, прижатых к морю, но все еще надеявшихся на что-то. Два месяца назад солдаты думали, фрицы захотят вырваться из «котла»; позже, когда начались бои в Берлине, поняли, что немцам крышка, и недоумевали, почему они не сдаются.
Ветер неожиданно стих. Тяжелые капли упали на землю.
— Беда! — сказал Петька Шапкин и поспешил к блиндажу — туда вел окопчик, узенький и глубокий, еще не просохший на дне.
Но дождь только напугал, даже траву не намочил.
— Завтра хлебнем, — заявил Петька, окидывая беспокойным взглядом затянутое облаками небо.
— Может, ничего не будет, а?.. — Семин с надеждой посмотрел на него.
— Ни в жисть!
Был Петька скуластым, широким в кости, немного сутуловатым, с виду медлительным, на самом же деле расторопным, даже пронырливым и очень практичным. У Петьки все было: и иголки с нитками, и лоскутки на заплаты, и выстиранные, хотя и неглаженые тряпочки для подворотничков, и многое-многое другое, что необходимо солдату. Он принадлежал к числу тех людей, которые все могут и все умеют. До армии Петька жил в деревне, окончил всего четыре класса, потому что — так утверждал он — «средства не позволили учиться дальше», семья была большая, одних детей семь душ, и он, Петька, самый старший. Семин был горожанином, поэтому он часто обращался к Петьке за помощью.
— Интеллигенция, — ворчал в таких случаях Петька, и невозможно было определить, что он хочет сказать этим словом.
Как умел, Петька заботился о Семине: помогал чистить винтовку, делился припрятанным сухарем, если кишка кишке начинала строчить рапорт, но недоверчиво хмыкал, когда Андрей начинал рассказывать о Москве, о своей прежней жизни.
— Каждую неделю в кино ходил? — удивлялся Петька.
— Даже чаще! — хвастал Семин. — «Новые времена», «Огни большого города», «Волгу-Волгу» по три раза смотрел.
— «Волгу-Волгу» в наш клуб тоже привозили, — оживлялся Петька, — «Чапаева» два раза крутили, еще ту картину смотрел, немая она, где Ильинский — портной и хозяйка женить его на себе вздумала, он утек от нее и чуть под паровоз не попал. Потешная такая картина, вот только название позабыл.
— «Закройщик из Торжка», — небрежно ронял Семин.
— Точно! — радостно подтверждал Петька. — У меня от смеха чуть жилы не лопнули.
— А еще что смотрел?
— К нам редко кино привозили, — признавался Петька. — Наша деревня от райцентра — двадцать четыре версты. Киномеханик Нил Нилыч это дело любил, — Петька щелкал себя по шее, — и пока не поднесут ему, даже будку не отмыкал. А потом получалось не поймешь что: то части перепутает, то включит свет и сам рассказывает про то, что дальше. Ему кричат: «Не мели языком, Нил Нилыч, крути давай!» А он: «Извиняйте, граждане, в Подлесной две катушки забыл, потому как торопился очень». В Подлесной тоже клуб был — эта деревня от нас десять верст. Иногда мы перекур устраивали, гонца снаряжали в Подлесную, а чаще — послушаем Нил Нилыча, и дальше.
— Гнать его надо было в три шеи за такие дела! — возмущался Семин.
Петька соглашался.
…Как только стемнело, взвод передвинули в лес, подступавший к самой речке, не очень глубокой и не очень широкой, обыкновенной лесной речке, в которой на мелководье виднелось илистое дно, в солнечные дни там резвилась рыбная молодь, а в омутах вода была чернее сажи и казалась густой, словно деготь. Вывороченные с корнями деревья лежали вдоль и поперек речки. Тонкоствольные березки и осинки течением прижимало к берегу, а толстые бревна перегораживали речку, как плотины: вода переливалась через них, размягчая кору. От долгого пребывания в воде стволы стали скользкими, и, хотя для переправы на тот берег не требовалось никаких плавсредств, идти по черным, полузатопленным деревьям было рискованно.
Лес, в который передвинули бойцов, находился метрах в восьмистах от прежней позиции — в заболоченной низинке, отделенной от речки невысокими кустами, сомкнувшимися друг с другом, образующими сплошную линию. Зимой, запорошенные снегом, кусты эти выглядели неказисто, но в конце апреля, когда стало много солнца, они покрылись пупырчатыми почками. Несколько дней назад из почек высунулись зеленые язычки, и Семин с интересом наблюдал, как эти язычки увеличивались, превращались в клейкие, пахучие листочки.
Земля в лесу была влажной. Петька долго блуждал от дерева к дереву, от куста к кусту, пока не нашел сравнительно сухое и удобное место.
— Сыпь сюда, Андрюха, — позвал он Семина, и они стали устраиваться на ночлег.
От речки тянуло сыростью, тревожно и надоедливо вскрикивала какая-то птица, на противоположном берегу блуждали, то появляясь, то исчезая, огоньки. Они обостряли и усиливали страх, который с утра медленно заползал в душу Семина. Он решил, что завтра, когда начнется бой, его убьют, и стал мысленно прощаться с матерью — она часто писала ему, просила беречься. Андрей в детстве причинял ей много неприятностей своим озорством, и теперь это угнетало его. «Матери всего сорок пять лет, — думал он, — а она уже совсем седая, и в этом, наверное, виноват я». Перед глазами возникла картина: мать с шитьем в руках — она всегда что-нибудь шила или штопала по вечерам. Семин вздохнул.
— Не спишь? — окликнул его Петька и, не дожидаясь ответа, признался: — Мне тоже боязно. Давеча Сарыкин говорил: напоганят фрицы напоследок.
Петька часто ссылался на ефрейтора Сарыкина — самого храброго солдата в их взводе. Были они земляками — сто пятьдесят километров, разделявших их деревни, не принимались в счет: фронт рождал теплые чувства, вызывал симпатии даже тогда, когда один солдат узнавал, что другой лишь побывал в его краях. Убедившись в этом, солдаты начинали похлопывать друг друга по плечам, совершенно серьезно объявляли, что они земляки.
О Сарыкине Петька говорил уважительно, с многозначительными паузами, называл его дядей Игнатом. Ефрейтор был для него самым большим авторитетом. И не только для него — для многих. Маленького роста, словоохотливый, он издали походил на мальчишку. Было ему лет пятьдесят. На его морщинистом, будто иссеченном ножом, лице выделялся нос — большой, красноватый, сильно утолщенный в ноздрях, особенно справа. Разговаривая с кем-нибудь из солдат, Сарыкин теребил свой нос, зацепив правую ноздрю пальцами — большим и указательным. Стоя навытяжку перед начальством, медленно поднимал руку, но вовремя спохватывался, опускал ее и начинал шевелить пальцами. В зависимости от разговора пальцы Сарыкина то едва двигались, то нервно ощупывали галифе, то складывались в фигу, — в этом случае ефрейтор осторожно отводил руку за спину. Острижен он был под машинку, но не наголо, как стригли других: ротный парикмахер оставлял на его голове волосы. Были они реденькие, короткие и, видимо, очень мягкие, а по цвету не поймешь какие — в них густо серебрилась седина. Как и Овсянин, Сарыкин любил посмеяться, часто балагурил. За острый язык его не жаловал старшина роты — молодой, но уже познавший власть старший сержант, мордатый, с упрямым, чуть выдвинутым подбородком и надменным выражением глаз. Однако старшина был вынужден считаться с Сарыкиным: он единственный в роте имел два ордена Славы — третий и второй степени и утверждал, что добудет в бою еще одну Славу, чтоб стать полным кавалером. Кроме двух орденов у Сарыкина была медаль «За отвагу», и Андрей с Петькой втайне завидовали ему, потому что никто из них никаких наград не имел. Сарыкин, видимо, догадывался об этом, часто говорил:
— Я, мальцы, с сорок первого воюю. Два ранения нажил и контузию. От нее сильно психованным стал. Распсихуюсь — руки чешутся. — Сарыкин улыбался и добавлял не то в шутку, не то всерьез: — Допрежь всего, когда наш старшина на позиции объявляется.
О своих боевых подвигах он не рассказывал, и Андрей с Петькой не знали, за что Сарыкин получил медаль и Славу третьей степени, а вторую Славу с золотым кружочком посередине он добыл, можно сказать, на их глазах. Его наградили этим орденом за «языка» — тучного немца, оказавшегося важной шишкой, раненного в обе ноги. Сарыкин притащил его на себе с той стороны речки, и было непонятно, как он, маленький и щуплый, нес на себе фрица, который, по словами Петьки, тянул пудов на пять с гаком.
— Не спишь? — снова обратился к Семину Петька.
— Сплю! — огрызнулся тот.
— А я — никак.
В Петькином голосе была тоска, и от этого Андрею стало еще хуже: война заканчивалась, хотелось жить, жить, жить, а утром предстоял бой. На противоположном берегу по-прежнему двигались огоньки и вскрикивала какая-то птица.
— Кто это кричит? — Семин приподнялся.
— Выпь, — ответил Петька.
Стало прохладно. Ночная сырость добралась до тела, по спине побежали мурашки.
— Подвигайся ближе, — сказал Петька.
Согретый его теплом, Семин заснул…
2
Проснулся он внезапно — затрещали автоматы. Еще не разлепляя глаз, одурманенный сном, решил: «Немцы!» Мгновенно перевернулся на живот, прижался к земле, подтянул к себе винтовку, а потом уж раскрыл глаза. Прямо перед его носом шевелила рожками улитка, молоденькая травка была мокрой от росы, в прозрачно-выпуклых каплях отражались солнечные лучи; над речкой висел туман, похожий на застывший пар; небо было синим-синим — таким Андрею представлялся платочек, про который пела Клавдия Шульженко. Позади Семина, справа и слева раздавался сухой треск автоматных очередей.
И вдруг он услышал смех. Скосил глаза и увидел Петьку. Его лицо было опухшим ото сна, но сияло, как надраенная пряжка. Ничего не понимая, Андрей уставился на него.
— Чего глаза лупишь? — заорал Петька, утратив свойственную ему степенность. — Кончилась война!
— Врешь?
— Ей-богу, кончилась!
Все еще не веря, Семин встал. Солдаты бродили по берегу, как пьяные, смеялись, целовались, обнимались, стреляли в воздух. Посмотрел за речку — туда, где на красновато-глинистом поле были немецкие укрепления. Увидел пленных, покорно плетущихся по дороге, круто сворачивавшей в лес. Издали колонна напоминала гигантскую гусеницу.
Смех и стрельба смолкли. Все тоже смотрели на пленных и, наверное, думали, что и Семин: «Еще вчера эти люди могли убить нас, а мы их, а теперь и мы и они живые». Андрей отметил про себя, что думает о немцах без прежней ненависти, и, удивившись, хмыкнул.
— Чего? — спросил Петька.
— Просто так.
— А-а…
Когда пленные скрылись в лесу, снова раздался смех, снова затрещали автоматы. Взвизгнула гармошка.
На полянку вышел Сарыкин в сопровождении таких же, как он, пожилых солдат. Ефрейтор был под хмельком, шел он игриво, выкрикивая простуженным голосом прибаутки. Все заулыбались, потянулись к веселой компании.
— Уже дернули, — завистливо произнес Петька и позвал Андрея поглядеть, как гуляют старички.
Сарыкин кого-то напоминал. «Кого?» — стал вспоминать Семин и почувствовал — рот растягивается до ушей: ефрейтор походил сейчас на кучера катафалка из кинокартины «Веселые ребята» — такой же шустрый, плутоватый. И шел он так же — с пятки на носок, заложив одну руку за спину, а другую, согнув в локте, держал на уровне живота. Казалось, еще мгновение, и Сарыкин выкрикнет: «Тюх, тюх, тюх, тюх — разгорелся наш утюг…»
— Дает дядя Игнат! — восхищенно проговорил Петька и потоптался, словно сам собирался пуститься в пляс.
На гармошке играл солдат в стоптанных сапогах, с заплатами на голенищах. Лицо у него было нарочито скучным: такое выражение придают своим лицам сельские гармонисты на свадьбах, когда хотят подчеркнуть, что чужое веселье для них — служба.
— Гуляй, ребята! — крикнул Сарыкин и пошел по кругу, то замедляя, то убыстряя шаги. Чувствовалось, его переполняет радость, и он, не скрывая этого, веселил людей и сам веселился. — Эх, эх, эх! — выкрикивал ефрейтор, и две Славы и медаль на его груди тихо звенели.
Вдруг Семин услышал всхлип. Прислонившись к березке, девственно чистой, умытой росой, плакал солдат, размазывая пилоткой слезы, шумно двигал носом; большая плешь, окруженная седым венчиком, жарко блестела на солнце, напоминая блюдце.
— Что случилось, батя? — уважительно спросил Андрей, подойдя к солдату.
Тот улыбнулся сквозь слезы:
— От радости плачу, сынок. От великой радости! Сколько разов в мыслях с детишками и внучонками прощался, и на тебе — выжил!
Взволнованный этими словами, Семин сказал:
— Теперь, батя, все мы долго-долго жить будем!
— Верно, сынок, — отозвался солдат и снова всплакнул, уронив на землю счастливые слезы.
«Как хорошо вокруг!» — подумал Семин. Неужели сырые окопы, грязь, холод, то возникающий, то исчезающий страх, озверевшие немцы — все, о чем два года назад он только догадывался и не предполагал, что действительность перечеркнет своей жестокостью его фантазию, — неужели все это теперь позади? Сколько душевных сил, нервной энергии потребовалось, чтобы утвердиться в этой действительности и в то же время не растерять то светлое и хорошее, что привили ему мать, школа, что было его довоенной жизнью. Семин так и не научился сквернословить без повода, как это делали другие, не стал бессмысленно жестоким — такое тоже бывало. Он ненавидел фашистов, стрелял в них, но и ощущал что-то вроде жалости, когда видел немца, очутившегося в плену и с тоскливым раскаянием в глазах ожидавшего решения своей участи. В Семине тогда как бы совмещались два исключающих друг друга человека. Один из них возмущался, требовал наказать этого немца построже, другой пытался заглянуть в его прошлое и будущее. «Каким он был раньше? — спрашивал Андрей сам себя. — Каким будет, когда вернется домой?» Хотелось верить раскаянию в глазах.
«Как хорошо вокруг, — продолжал думать Андрей. — Скоро нас, наверное, демобилизуют. Я поеду в Москву, к матери, Петька — в свою деревню, Сарыкин тоже. Все, кто остался в живых, вернутся домой».
Гармонь взвизгивала все громче, пальцы солдата-гармониста бегали по клавишам — не уследишь. Солнечные лучи разогнали туман. Его клочья, спрятавшись под обрывом, казалось, прилипли к черным корягам, выступающим из-под нависшего над ними берега. Но даже там, в холоде, туман медленно растворялся, бесследно исчезал в звонком утреннем воздухе. Большой жук, треща крыльями, полетел над полянкой, почти касаясь травы.
— «Мессер» на посадку идет! — по-мальчишечьи воскликнул Петька и, растопырив руки, погнался за жуком, переваливаясь с боку на бок.
Жук резко взмыл, превратился в крохотную точку.
— Надо было пилоткой, — запоздало посоветовал Семин и вдруг вспомнил, что еще вчера тут летали не только жуки, но и пули. Окинул взглядом воронки, наполненные талой, уже подернутой ряской водой. Последний артналет немцы предприняли две недели назад. В этот день никого не убило, только ранило двоих. А раньше… Сейчас об этом не хотелось вспоминать. Семин решил тоже отсалютовать в честь Победы, поднял винтовку.
— Отставить! — На полянку въехала, громыхая колесами, полевая кухня. Старшина роты в хорошо пригнанной офицерской шинели сидел на облучке, держа вожжи.
Семин исподлобья взглянул на него, щелкнул затвором. Петька шепнул:
— Не связывайся с ним, а то он весь праздник нам испортит.
«Верно», — спохватился Андрей.
— Чего привез? — спросил Сарыкин. Был он в расстегнутой шинели, без пилотки — она торчала, скомканная, из кармана.
Старшина покосился на ефрейтора:
— Не по уставу одет, Сарыкин!
— Разве? — притворно удивился тот и прикрыл ресницами насмешливый блеск в глазах.
— Не по уставу, — подтвердил старшина. — Какой пример молодым подаешь? — Он покосился на Семина и Петьку.
— Если бы они пример с меня брали, то война, может, еще раньше кончилась, — со значением проговорил Сарыкин, кинув на Андрея и Петьку веселый взгляд, и они поняли, что он хотел сказать.
Старшина нахмурился.
— Я не о том.
— А о чем же тогда?
— Я про твой внешний вид толкую. Для бойца внешний вид — самое главное.
— Не скажи, — возразил Сарыкин. — Самое первое — страх не казать, когда страшно, и воевать как положено.
Старшина неожиданно усмехнулся:
— А ты хвастун, Сарыкин!
— Я-а?..
— Хвастун! — подтвердил старшина. — Говорил: еще одну Славу добуду, а война-то — тю-тю.
— Вот ты о чем! — Сарыкин сбил с шинели соринку. — Главное, отвоевались.
Все одобрительно закивали. Старшина хотел добавить еще что-то, но передумал, поднял резким движением крышку с котла.
Сарыкин потянул носом.
— Наркомовские привез?
— Угадал. — Старшина взял черпачок. — А каша чуть погодя приедет. Но тебе наркомовские не дам.
— Не дашь?
— Не дам.
— Почему?
— Застегнись, как положено, и пилотку надень!
Сарыкин рассмеялся.
— Твоя взяла!
Старшину он терпеть не мог. Когда в срок не привозили горячее или вместо хлеба выдавали сухари, ворчал: «Наел загривок, боров гладкий, а на остальное ему — начхать! Все к офицерьям жмется, все их ублажает. Даже одежду себе офицерскую справил, хотя такая и не положена ему. Я бы на месте командира роты сунул ему винтовку и…» — Сарыкин делал выразительный жест.
Водку пили по-разному. Одни, не отходя от повозки, сразу опрокидывали в рот двойную порцию, которую разливал старшина в котелки и кружки; другие чокались, пили бережно, подставив под подбородок ладонь, чтобы — упаси бог! — ни одна капля не пропала.
Семин выпил и почувствовал: «Пошла!» Стало легко, будто за спиной выросли крылья. Захотелось пофилософствовать. Подойдя к Петьке, он поймал пуговицу на его гимнастерке и сказал:
— Ты только подумай, Петь, война кончилась!
— Кончилась, — проворчал Петька. — А у нас никаких наград. Домой возвращаться с пустой грудью не больно-то охота. Не поверят люди, что воевал.
— Это верно, — легко согласился Андрей.
— Ты бы намек Овсянину сделал — так, мол, и так, товарищ лейтенант. Он, заметил, тебя отличает.
— Ни за что!
— Интеллигенция.
Петька высвободил пуговицу.
Чувствовалось, что он недоволен. Андрей представил себя с медалью на груди, увидел улыбающуюся мать, услышал взволнованные охи соседей и подумал: «Может, в самом деле поговорить с Овсяниным?»
Снова заиграла гармошка. Образовав круг, солдаты смотрели на плясунов.
— А вы, мальцы, чего квелые? — спросил Сарыкин, остановившись возле них.
— Я бы с полным удовольствием, дядя Игнат! — сказал Петька.
— А ты? — Сарыкин посмотрел на Семина.
— Не умею плясать, — пробормотал Андрей.
— А пробовал?
— Нет.
— Вали тогда!
Неожиданно для себя Семин сорвал с головы пилотку, ворвался в круг, раскинул в стороны руки и замолотил ногами. В голове шумело, сердце переполняла радость. Показалось: пляшет он лучше артистов — участников дивизионного ансамбля самодеятельности, они два раза давали на позиции концерты. Все хлопали в ладоши и улыбались. Сарыкин подбадривал:
— Жги, малец, жги!
Горячий пот катился с лица, нательная рубаха стала хоть выжимай. Решив напоследок удивить всех, Семин попробовал вприсядку и, очутившись на земле, ошалело уставился на окружающих его бойцов. Они доброжелательно посмеивались, аплодировали.
— Уважаю бедовых, — сказал Сарыкин и помог Андрею встать.
Петька тоже хотел показать свою удаль, но его оттерли. Он обиделся, отошел в сторону, сказал Семину:
— Не умеешь плясать! Не в такт ходишь. Музыка играет, а ты ногами колотишь, будто и нет ее.
Музыкального слуха у Семина не было — это он знал, но, воодушевленный аплодисментами, возразил:
— Сарыкину, между прочим, понравилось!
Петька усмехнулся.
— Потешно у тебя получилось, а он, сам знаешь, любит это.
Семин не стал спорить.
В голове по-прежнему шумело, и все — синее, без облаков небо, умытая росой трава, клейкие листочки, веселые, с расстегнутыми воротниками бойцы — умиляло его. Он вспомнил мать. «По радио, наверное, уже объявили о Победе, — решил Семин. — Мать сейчас тоже радуется». Повернувшись к Петьке, он сказал:
— Скоро демобилизуют нас.
— Держи карман шире! Сарыкин и другие, которые в годах, домой поедут — это точно, а нам еще трубить и трубить.
— Не может быть!
— Хоть так верти, хоть этак — все равно трубить. Если всех по домам распустят, кто ж тогда служить будет?
— Те, кто не воевал!
— А много ли таких? Может, пять, может, десять тыщ наберется. Из них даже дивизию не составишь. А служить все равно надо: границы охранять и все прочее.
Семину стало грустно.
— Может, в отпуск отпустят?
— В отпуск — да, — степенно произнес Петька.
Солнце поднималось все выше. Роса высохла, но земля все еще была влажноватой. Такой она бывает только весной, когда под верхним, обманчиво сухим слоем еще много-много влаги. У самого берега, на отмелях, ходила рыбная молодь. Петька кинул в воду позеленевшую гильзу:
— Рыбы тут невпроворот. Будет время — посидим с удочками. А если сеть достанем, то объедимся ушицей. Страсть как рыбки хочется!
— Давай сейчас ловить! — загорелся Семин.
— Больно ты скорый. Удилище срезать надо, крючки достать…
— И леску, — подсказал Андрей.
— Вместо лески суровая нитка сойдет. У меня в сидоре целый моток. А вот крючки не помешало бы найти. Если не пофартит, сами сделаем — из проволоки.
Петька, видимо, уже все обдумал, все решил, и Семин позавидовал его умению заранее все прикидывать, все взвешивать.
— Айда в холодок, — предложил Петька, — а то жарко стало.
Они направились в лес, но дойти до него не успели — на полянке снова появился старшина. Сложив руки рупором, он крикнул:
— Становись!..
…«Расстроен лейтенант», — отметил про себя Семин, следя за Овсяниным. Его лицо было хмурым, набухшие веки свинцово прикрывали покрасневшие от бессонницы глаза, на скулах виднелись пятна, похожие на кружочки только что нарезанной свеклы. Лейтенант был в поношенной, но выстиранной гимнастерке, в сдвинутой на затылок фуражке с блестящим козырьком. Ветка в его руке словно бы плясала. Почки расплющивались, обнажая еще не созревшую сердцевину: коричневатая, в мелких пупырышках кора сползла, древесина влажно блестела. Показалось: с ветки капает сок.
«Расстроен лейтенант», — снова подумал Семин и пожалел погубленную ветку. Овсянин перехватил его взгляд, с силой хлестнул по сапогу и отбросил ветку.
Бойцы стояли кто как — улыбающиеся, довольные, чуточку хмельные. Гимнастерки были расстегнуты, ремни сидели косо, на подворотничках проступал пот.
— Застегнись и ремень поправь, — сказал лейтенант, проходя мимо Семина.
Петька тоже поправил ремень и застегнулся. Стали приводить себя в порядок и другие бойцы.
Остановившись в тени, Овсянин снял фуражку, провел носовым платком по слипшимся, будто обильно смоченным одеколоном волосам.
— На сегодня погуляли — хватит! Там, — он показал на темневший вдали лес, — обнаружены немцы. Среди них эсэсовцы и прочая сволочь. Приказано — прочесать лес.
«Теперь понятно, почему расстроен лейтенант, — решил Семин. — Другие офицеры отдыхать будут, водку пить, а ему работенка».
Петька обрадованно шепнул:
— Немцы драпанули, авось чего-нибудь бросили.
— Может, аккордеон найдем, — помечтал Андрей: хоть у него и не было музыкального слуха, но он очень хотел заполучить трофейный аккордеон — сверкающий, отделанный перламутром.
Петька подумал.
— Аккордеон навряд ли. А вот какую-нибудь необходимую в хозяйстве мелочь — запросто.
Прозвучала команда «Шагом марш!», и они потопали, перебравшись через речку, к лесу, до которого было на глазок километров семь.
3
Семин воевал в Прибалтике четвертый месяц. Прибыл сюда в начале февраля из госпиталя. В тот день с моря дул теплый, влажный ветер, стройные, похожие на корабельные мачты сосны раскачивались, скрипели, словно жаловались на свою судьбу; снег осел, стал ноздреватым. Около Андрея шагал, то и дело меняя ногу, Петька — они познакомились в теплушке.
— Ты сколько месяцев на фронте пробыл? — спросил Петька, озираясь по сторонам.
Андрею захотелось показать себя бывалым солдатом-фронтовиком, но он не стал врать: в прошлый раз Семин пробыл на передовой всего несколько часов. После первого артналета он был ранен в ногу, и его сразу же отправили в тыл, в госпиталь.
Взвод, в который Семин попал вместе с Петькой, занимал рубеж на «пятачке» между речкой и болотом. За болотом был лес. Уже в марте болото вскрылось, стало дурно пахнуть. В окопах и блиндажах стояла вода. Все — шинели, гимнастерки, портянки — отсырело, тело покрылось чирьями, после них оставались пятна, похожие на синяки.
За три месяца Андрей так и не привык к сырости, болотным запахам. Раненая нога ныла, чаще всего по вечерам, когда на окопы наползал туман. Семин снимал сапог, разматывал отсыревшую портянку, с тревогой ощупывал рубец.
— Стонет? — спрашивал Петька.
— Кто? — не сразу соображал Андрей: слово «стонет» казалось ему не совсем точным.
— Кто, кто, — передразнивал Петька. — Про ногу спрашиваю.
— Есть немного, — признавался Андрей. И поспешно добавлял: — Врачи говорили — срослась кость.
— Они скажут, — туманно отвечал Петька.
— Считаешь, ошиблись? — Семин начинал волноваться.
— Всякое бывает, — уклонялся от прямого ответа Петька и, покосившись на ногу, восклицал: — Спрячь, за-ради Христа, свою ходуль в сапог!
Петька не мог смотреть даже на зажившие раны. А от вида крови его мутило: глаза заволакивались, пальцы начинали метаться по борту шинели или по пуговицам гимнастерки.
— Плохо тебе? — наклонялся к нему Семин.
— Отцепись! — отвечал Петька, сморщившись, как от зубной боли.
«Странно, — удивлялся Андрей. — Деревенский парень, казалось бы, привычный ко всему, а на раны смотреть не может. Почему?»
Так и спросил.
Петька сплюнул.
— Хрен знает почему. Не могу — и все!
Раненую ногу Семин ощупывал часто. За этим занятием застал его однажды Сарыкин.
— Боисси, отсохнет?
Семин смутился, прикрыл ногу портянкой.
— Не отсохнет! — обнадежил Сарыкин. — А ревматизму, помяни мое слово, наживешь. У меня от этой сыри каждая косточка трещит. Послухай-ка! — Он повел плечами, и Семин услышал легкое похрустывание. — Слышь, малец, — продолжал Сарыкин, — побитую ногу в тепле держи. Обмотай еще одной портянкой, если сапог впустит.
Семин обратился за второй парой портянок к старшине, но тот рявкнул, глядя поверх него:
— Не положено!
Выручил, как всегда, Петька: в его сидоре оказались запасные портянки. Андрей стал кутать раненую ногу, заодно и здоровую…
Километрах в трех от леса началось болото. Семин подумал, что тут, в Прибалтике, сухой земли совсем мало: только низинки, речки да леса, в которых заблудиться — раз плюнуть. Рана «стреляла», идти было трудно. Подошвы скользили на тонких, мокрых жердях, обозначавших проложенную неизвестно кем тропинку. Кочки мягко оседали под тяжестью тела, вокруг них появлялись фонтанчики; болото пускало пузыри, утробно чавкало, жадно хватало соскользнувшую с жердей ногу, цепко держало ее. Приходилось напрягаться, чтобы выдернуть сапог. Отпустив его, болото огорченно чмокало; образовавшееся углубление наполнялось дурно пахнувшей жидкостью — она долго не успокаивалась, булькала, как похлебка в котелке, крутилась маленькими водоворотами.
Край болота упирался в лес. Он вроде бы не приближался: тропинка крутила по болоту, огибала прикрытые обманчиво тонким слоем гиблые места и черные «окна», подернутые маслянистой пленкой.
Бойцы шли цепочкой, растянувшись на целый километр. То и дело доносился охрипший голос Овсянина: «Поднажми!» — но никто не поднажимал, все устали, вымокли, все ругали про себя и вслух начальство, которое послало их прочесывать лес. Однако больше всего бойцы ругали немцев — по всем писаным и неписаным законам им полагалось сдаться в плен, а не скрываться в лесах с оружием в руках. Позади Семина шел Петька, жарко дышал в затылок.
— Закрой поддувало! — рассердился Андрей.
— Не ори, — проворчал Петька, но дышать в затылок перестал.
По болоту топали часа два, то удаляясь от леса, то приближаясь к нему почти вплотную. И, наконец обогнув озерцо, наполненное торфяной кашицей, вышли к чахлым осинкам, с которых начинался лес, — их отделяла от болота узенькая полоска аспидной воды.
Семин перепрыгнул через нее и оглянулся: бойцы еще огибали озерцо, проваливаясь по колено в топь. Петька снял винтовку, сел, прислонившись спиной к дереву, стянул сапог, вытряхнул из сапога липкую грязь.
— Устал? — спросил Андрей.
— Не шибко, но устал.
— А я нет!
— Чего же психовал тогда?
— Ты, как паровоз, пыхтел.
— Запыхтишь! — Петька стал разматывать портянку.
Когда все выбрались из болота, Овсянин разрешил передохнуть. Он уже не хмурился — ходил по опушке, заложив руки за спину, весело поглядывал на бойцов, разбившихся на группы.
— Сейчас хохму скажет, — объявил Петька.
И верно. Остановившись возле уставших, раздосадованных бойцов, Овсянин что-то сказал им. Грянул смех.
— Люблю веселость в людях, — сказал Петька и направился к Овсянину.
Андрей двинулся следом.
Овсянин обвел их нарочито строгим взглядом:
— Представление отменяется!
На Петькином лице появилось такое разочарование, что Овсянин, не удержавшись, фыркнул.
— Веселый мужик, — одобрительно произнес Петька, когда командир отошел. — Ему бы в цирке выступать.
— А ты бывал в цирке?
— Нет, — сознался Петька. — Но слышал про клоунов… Ты-то небось в своей Москве часто шастал туда?
— Приходилось.
— Смешно?
— Вопрос!
Петька вздохнул, достал кисет.
— И мне дай, — попросил Семин.
— Ты же не куришь!
— Решил начать.
— Зря.
— Жмотничаешь?
Петька молча отсыпал махорку, стал с интересом следить, как Семин сворачивает «козью ножку». Сворачивал он ее неумело, просыпал курево.
— Давай помогу! — не выдержал Петька.
Ловко свернул «козью ножку», протянул ее Андрею.
— Прикуривай.
Махорка была крепкой. Семин закашлялся.
— Ин-тел-ли-ген-ция, — процедил Петька.
«Мама, наверное, огорчится, если увидит меня с папироской», — подумал Андрей. Хотел выбросить, но решил, что с «козьей ножкой» он выглядит солидней.
— Балуешься? — спросил, подойдя к Андрею и Петьке, Сарыкин. На его лице не было усталости, глаза смотрели весело.
— Учусь, — ответил Семин и уронил на землю несколько махорочных крупинок, похожих на раскаленные угольки.
— Смотри, малец, пожар не наделай! — Сарыкин затоптал тлеющую махорку. — От такой ерунды и начинает полыхать. Помнишь, — он повернулся к Петьке, — как в сороковом году Барсучьи леса в нашей области горели?
— Помню, дядя Игнат, помню, — заторопился Петька, явно довольный, что Сарыкин заговорил с ним.
— Страшное дело было, — продолжал Сарыкин. — Половину леса как языком слизнуло.
— Помню, помню, — снова сказал Петька. — Мой папаня в тот год бригадиром был. Рожь уже осыпалась, а колхозников на пожар мобилизовали. Председатель волосья на себе рвал: урожай — раз в десять лет такой, а убирать некому.
— Да-а… — задумчиво проговорил Сарыкин. — Урожай в сороковом году богатый был. Если бы не пожар, даже свиней могли бы зерном кормить.
— Папаня то же самое говорил! — воскликнул Петька.
— А сейчас он где?
Петька затоптал окурок, помолчал с многозначительным видом.
— Воюет. Последнее письмо с-под Берлина было.
— Откуда знаешь? — не поверил Сарыкин. — Военная цензура такое не пропускает.
— Намек в письме был, — возразил Петька, — ручаться, конечно, не могу, но, сдается, с-под Берлина писал папаня.
— Эх, мальцы! — доверительно произнес Сарыкин. — Я еще в сорок втором году, когда в госпитале лежал, мечтой себя тешил — Берлин воевать. Не получилось! Как повернули нас в прошлом году на северное направление, понял — не видать ихнюю столицу.
— Всем хотелось Берлин брать, — сказал Семин.
— Верно, — согласился Сарыкин. — Но я на месте Верховного только самых заслуженных туда направлял бы.
Андрей промолчал: Сарыкин имел право говорить так.
День уже набрал силу. Солнце было как в середине лета. В Москве в такие дни мягчал асфальт, у тележек с газированной водой выстраивались очереди — это Андрей хорошо помнил, потому что любил газировку, пил ее даже в пасмурную погоду. Над болотом клубился парок. Пучеглазые лягушки высовывались из воды, тупо смотрели на бойцов. Неосторожное движение — и они испуганно ныряли в воду. На солнцепеках грелись, расправив крылья, большие мухи с белыми точечками на туловище. С тревожным криком пролетали какие-то птицы — длиннохвостые, с желтоватой грудиной в крапинках, довольно большие.
— Дрозды, — сказал Сарыкин. — Видать, гнезда ладят тут, а мы беспокоим. — Он помолчал и добавил: — Птицы эти, как люди, селениями живут. Где одно гнездо, там и другое. — Переведя взгляд на Семина, ефрейтор спросил: — Ты малец, в деревнях-то жил или только в Москве?
— Жил, — отозвался Андрей. — Каждое лето в пионерский лагерь ездил или на дачу.
Сарыкин хмыкнул.
— Это не то!
Семин подумал, что не смог бы жить без электричества, водопровода, радио, но вслух ничего не сказал.
— Я в Москве ни разу не был, — продолжал Сарыкин, — хотя наша область по теперешним временам от нее пустяк: двадцать часов в поезде — вот тебе и Москва… Скажи, малец, примешь меня, если я в гости к тебе приеду?
— Конечно!
— У тебя в Москве что — комната или квартира?
— Комната. Двенадцать квадратных метров. Но все удобства: водопровод, газ…
Семину было легко, весело, казалось, горы может свернуть. Солдаты счищали с одежды болотную грязь, щелкали затворами, проверяя винтовки, о чем-то вполголоса разговаривали. На их лицах не было напряжения, которое появлялось раньше в преддверии боя. Бойцов как будто бы подменили: они чувствовали себя уверенно и спокойно. Это не удивляло Андрея — самое страшное было позади, никто — ни он, ни Петька — в эти минуты не думал, что где-то еще идут тяжелые бои и гибнут люди. Предстоящая операция по прочесыванию леса воспринималась как прогулка.
— Значит, пустишь, если приеду? — снова спросил Сарыкин.
— Не сомневайтесь!
— А меня? — В Петькином голосе прозвучала ревность.
— И тебя.
— Где ж ты нас уложишь? — засомневался Сарыкин. — Ведь твоя комната — с чулан в моей избе.
— Как-нибудь разместимся!
— Очень мне охота побывать повсюдову, — продолжал Сарыкин. — Кремль охота посмотреть, в Мавзолей сходить. Я покуда все это только в кино видел. Промелькнет на белом — не разберешь.
— Приезжайте! — сказал Семин. — Красная площадь от моего дома — сорок минут езды.
— Близко, — с уважением произнес Сарыкин.
— Мы хоть и не в центре живем, но и не на окраине.
Сарыкин хотел было записать адрес, но прозвучала команда, и все побежали строиться.
4
Бойцы шли цепью в двух-трех метрах друг от друга, винтовки держали наперевес. Справа от Андрея шел Петька. Когда он поворачивал голову, Семин видел круглый стриженый затылок: Петька носил пилотку на свой манер, сильно надвигал ее на глаза. За это ему попадало от старшины. Петька молча выслушивал замечание, поправлял пилотку. Как только старшина отходил, снова возвращал ее в прежнее положение.
— Так форсистее, — утверждал он.
Слева шагал Сарыкин — Андрей только сейчас обратил внимание на его руки, державшие винтовку. Были они большими, непропорциональными росту. Глаза Сарыкина не рыскали по сторонам, как у Андрея и Петьки, смотрели вниз. Семин подумал, что Сарыкину на фронте было тяжелее, чем ему и Петьке, потому что он старый, и подосадовал на себя за то, что не совершил ничего героического, воевал, как сотни других, не хуже и не лучше.
Нагнувшись, Сарыкин подобрал что-то с земли. Стал на ходу рассматривать. Повернувшись к Семину, сказал:
— Ступайте, мальцы, потихонечку, а я — к лейтенанту.
— Куда он? — спросил Петька, когда ефрейтор скрылся за деревьями.
— К Овсянину побежал.
— Зачем?
— Не знаю. Поднял что-то с земли, повертел в пальцах и побежал.
— Видно, знак какой-то нашел, — произнес Петька. — Теперь поаккуратней надо.
— Чепуха! — возразил Андрей.
Он по-прежнему не верил, что будет бой, чувствовал себя как на прогулке. Ему нравился лес, осыпанный солнечными бликами. Птицы шныряли с ветки на ветку, с дерева на дерево и пели. Их голоса то доносились из глубины леса, то возникали совсем рядом. Птицы щелкали, свистели, выводили такие трели, что хотелось остановиться и слушать. Птицы были частью леса, наполняли его жизнью, которую порой не видишь, только слышишь, потому что для лесных птах каждый лист — плащ-палатка, а расщелина в дереве — блиндаж. Птицы радовались солнцу, теплу, они, видимо, шалели, как и Семин, от запахов весны, от того удивительного воздуха, который пьешь и не напиваешься, который пьянит, заставляет забыть то, что было. Почудилось: окопы, отсыревшая одежда, чирьи на теле — все это только снилось, и вот теперь он, Семин, проснулся и дышит теплым воздухом, наполненным хвойным ароматом.
— Стой! — неожиданно прохрипел Петька, возвращая Андрея к действительности.
Тот остановился.
— Под ноги посмотри!
Семин посмотрел и обмер: в полуметре от него пряталась в травке ржавая проволочка. Чуть подальше виднелась другая, третья, четвертая. «Мама родная!» — мысленно ахнул Андрей. — «Мины!» И почувствовал: подгибаются колени. За кустами темнели блиндажи, скрученная в спираль колючая проволока.
— Осторожно, братва! — крикнул он.
— Чего орешь? — откликнулся кто-то. — Не слепые, чай.
— Назад надо, — сказал Петька.
Они попятились. Когда очутились на безопасном месте, Петька спросил:
— Испугался?
— Еще бы!
— Я тоже. Зацепишь такую и — похоронный марш.
— Солдат без музыки хоронят, — машинально произнес Семин.
— Это я так, к слову, — проворчал Петька.
«Вот она, прогулка, — подумал Семин. — Еще бы чуть-чуть и…»
Он вспомнил, как полтора месяца назад после напряженного боя они хоронили двух бойцов и одного сержанта. Выбрали место посуше, вырыли глубокую яму, завернули убитых в плащ-накидки, которые не хотел давать старшина, пришлось обращаться к Овсянину. Петька отворачивался, не смотрел на убитых, а Семин запомнил их лица и теперь подумал, что если бы он задел эту проволочку, то… Убитых Семин вспоминал часто — каждый раз, когда его взгляд натыкался на их могилу: она находилась чуть в стороне от окопов. За полтора месяца могила осела, молоденькая травка росла на ней пучками, как волосы на лице скопца, воткнутый в холмик колышек с дощечкой, на которой были написаны химическим карандашом фамилии убитых, покосился, и Андрей решил в самые ближайшие дни поправить этот колышек и заново написать фамилии убитых, потому что от снега, солнца и дождей надпись наверняка потускнела.
— Давай обойдем… — предложил Петька.
Андрей кивнул.
Они стали обходить минное поле и вдруг увидели: вокруг ни души.
— Эй? — несмело крикнул Петька.
— Надо громче, — сказал Семин.
Петька вобрал в легкие воздух, снова крикнул. По лесу прокатилось эхо, затерялось далеко-далеко — там, где деревья стояли вплотную, будто стена. Елки были большими, черными, нижние ветки касались земли. Вывороченные с корнями деревья преграждали путь. Из глубины леса пахло холодом.
— Заблудились, — пробормотал Андрей.
— Не трусь! — успокоил его Петька. — По следам нагоним. Я по лесу, как по своей избе, хожу. Пацаном был — далеко ходил по грибы и ягоды.
— Попадет нам от лейтенанта, — сказал Семин.
— Это уж как пить дать! — подтвердил Петька. — В самом смешном обличье нас выставит. Скажет: забоялись и — в кусты.
Андрей представил себе взгляд Овсянина, увидел, как ломаются, сдерживая смех, его губы. Он не сомневался, что лейтенант скажет такое, от чего все бойцы грохнут и будут хохотать до колик в животе.
— Надо догнать ребят! — забеспокоился Семин.
Петька посмотрел на видневшиеся в гуще деревьев блиндажи, мечтательно произнес:
— Там добра разного — на всех хватит.
— Пошли, пошли, — поторопил Петьку Семин, позабыв в эту минуту даже об аккордеоне.
Они обошли минное поле и, глядя под ноги, направились скорым шагом в глубь леса, куда ушли бойцы. Помятая трава, сломанные ветки и свежие отпечатки на еще не просохшей земле подтверждали — идут правильно. Андрей исцарапался, устал, ушиб больную ногу, стал прихрамывать.
— Обратно застонала? — участливо спросил Петька.
Его голос прозвучал неестественно громко, и Семин только теперь заметил, что в лесу тихо-тихо, даже птицы петь перестали. Это испугало его. Он остановился.
— Ты чего? — Петька тоже остановился.
— Тихо-то как. Даже птиц не слышно.
— В чащобах всегда так. Птицы у опушек держатся, поближе к солнцу.
В Петькином голосе не было тревоги. Это успокоило Семина. На всякий случай он сказал:
— Страшновато все ж.
— Ты… — Петька осекся, что-то поднял с земли. — Глянь-ка!
— Что такое?
— Не видишь разве?
Петька держал окурок. Семин похлопал глазами, неуверенно проговорил:
— Окурок.
— «Окурок, окурок», — передразнил Петька. — Чей окурок-то?
— Чей?
— Фрицевский! Наши ребята сигареты не курят. Овсянин одно время курил, пока трофейные были, а теперь папиросы смалит — сам видел.
— Подумаешь, — пробормотал Андрей. — В этих местах еще вчера немцы были — мало ли тут окурков.
— Овца непонятливая! Окурок-то свежий.
— Почему так решил?
— А тут и решать нечего! Он даже не намок. И пепел на нем, можно сказать, тепловатый. Они, — Петька выделил слово «они», — тут недавно проходили. Вот и следы ихние. После наших, сволочи, прошмыгнули. Петляют по лесу, как зайцы.
Семин сжал винтовку, стал озираться. Петька произнес осипшим голосом:
— Похоже, влипли.
— Выкрутимся.
— «Выкрутимся, выкрутимся», — проворчал Петька. — Может, они сейчас смотрят на нас.
Лучше бы Петька не говорил этого! Семину стало так страшно, что он отступил на несколько шагов, укрылся за елью. По-прежнему было тихо. Земля пахла снегом. Он, должно быть, растаял тут, под елками, недавно: может, три недели, может, месяц назад. Полуистлевшие иголки оседали под ногами. Андрею показалось, что стоит он не в лесу, на твердой почве, а на болотной зыби. Ни солнечное тепло, ни ветерок — ничто не проникало сюда, в глубину леса, мрачного и таинственного, раскинувшегося неизвестно на сколько километров.
Так они стояли несколько минут, переглядываясь, озираясь по сторонам. Семин напряженно вслушивался в тишину, старался уловить хоть шорох, хоть какой-нибудь звук. Не выдержал, спросил шепотом:
— Так и будем стоять?
Петька не успел ответить — хрустнул валежник. Хрустнул тихо, а Семину показалось — на весь лес. Он вздрогнул, поднял винтовку и сразу увидел немцев. Они шли прямо на него, неловко перелезая через поваленные деревья. На их груди висели автоматы, за ремнями были вальтеры и парабеллумы. Шли немцы осторожно, поглядывая вперед и по сторонам, но ребят не видели — за это Андрей мог поручиться. Он попытался сосчитать, сколько немцев, но сбился: зеленовато-мышиные мундиры то возникали среди деревьев, то исчезали. И вдруг Семин ощутил уверенность. Внутри все стало как кулак. Мозг начал «выстреливать» мысли. Андрей не чувствовал ни ног, ни рук, не слышал, как стучит сердце, он думал. Он понимал, что от правильного решения, от их находчивости будет зависеть его и Петькина судьба. Война уже кончилась, думал Андрей, и эти немцы — не рота, не взвод, а всего лишь горстка людей, возможно, обманутых кем-то, а возможно, уклонившихся от сдачи в плен сознательно. Должно быть, прошлое этих людей цепко держит их, напоминает о сожженных деревнях, о виселицах, и они не хотят понять, что война-то кончилась.
Немцы приближались. Семин уже различал их лица. У одного или двух на щеках были шрамы. Немцы были явно переодеты в чужое: мундиры вермахта на одних сидели мешковато, у других едва прикрывали животы, из рукавов уродливо торчали руки с белой, не тронутой загаром кожей. Судя по всему, переодевались немцы в спешке. И все же стрелять без предупреждения Семин не стал. Повинуясь возникшему в нем чувству справедливости (война-то кончилась!), крикнул:
— Хенде хох!
С елки упала шишка, с мягким стуком легла возле ног — только это успел отметить мозг. Немцы отпрянули друг от друга, будто в них сработали пружины, ударили из автоматов. Но прежде чем они успели скрыться за буреломом, Семин, почти не целясь, выстрелил и, падая к подножию елки, краем глаза увидел: толстый в нелепо сидящем мундире покачнулся и рухнул.
Петька лежал метрах в трех, распластавшись по-лягушачьи. Его взгляд блуждал, губы побелели, будто их вымазали мелом.
Всего полминуты назад в лесу было тихо, а сейчас трещали автоматы, пули, расщепляя кору, впивались в деревья. Точно срезанные бритвой, падали ветки, шишки барабанили по спине. Захотелось отползти, чтобы не ощущать этого, но Семин даже не пытался пошевелиться. Однако страха не испытывал. И не мог объяснить почему.
Елка, за которой укрывался он, была толстой, надежной. Немцы палили наугад; они, видимо, не засекли, откуда выстрелил Семин. Решив воспользоваться этим, он осторожно поднял винтовку, взял на прицел щель в корнях вывороченного дерева — оттуда без передышки бил автомат, — плавно нажал на спусковой крючок. Автомат тотчас смолк, за деревьями захрустел, ломаясь под тяжестью тела, валежник. «Попал!» — Семин чуть не выкрикнул это.
На несколько секунд немцы смолкли. Потом обрушили на Андрея такой огонь, что показалось: еще немного, и елка переломится. Петька что-то сказал вполголоса и пополз в сторону.
— Куда? — прохрипел Семин.
— Соображай!
«Отвлечь на себя хочет», — догадался Андрей и взволнованно подумал, что с Петькой не пропадешь.
Гулко прозвучали винтовочные выстрелы. Снова наступила короткая пауза, после чего немцы стали палить туда, где находился Петька. Семин переполз на другое место. По автоматным очередям наконец определил: немцев — восемь, не считая убитых. Вспомнил про гранаты — они лежали в подсумке. Стараясь не производить шума, пополз к бурелому. Полз осторожно, чтоб и веточка ни хрустнула. Нательная рубаха и гимнастерка порвались, Андрей ощущал телом прикосновение иголок, временами становилось щекотно. Вот он — бурелом. Прикинул на глазок, долетят ли гранаты. Размахнувшись, бросил одну за другой три «лимонки», как учили это делать в запасном полку. Когда пороховой дым растворился, из-за деревьев появились немцы, держа в руках носовые платки. Двое из них были ранены.
— Прикрой, — громко сказал Петька и, поднявшись во весь рост, смело направился к немцам…
5
Бойцы подоспели минут через десять, когда немцы были уже разоружены. Петька пнул ногой сваленные в кучу «шмайссеры», сказал, обращаясь к Сарыкину:
— Запасливыми оказались, дядя Игнат. У каждого по два автомата было.
Ефрейтор произнес весело:
— По медальке заработали, мальцы!
— Ну-у… — не поверил Петька.
— Точно! — подтвердил Сарыкин.
Семин был как выжатый лимон. Подгибались колени, тело казалось налитым свинцом. Пленные сбились в кучу, словно овцы. По выражению их лиц трудно было определить, о чем они думают. И вдруг Андрей перехватил злобный взгляд. Этот взгляд был быстрым, как вспышка молнии. «А ведь они могли убить нас», — подумал Андрей. Захотелось схватить автомат и…
— Чего заводишься? — осадил его Петька.
— Паразиты… они.
Петька сплюнул.
— Только сейчас допер?
Застегивая на ходу ворот гимнастерки, к ним направился Овсянин. Семин с Петькой рубанули к нему навстречу строевым.
— Отставить! — сказал Овсянин, когда они начали рапортовать.
«Сейчас даст», — решил Семин.
— Всыпать вам, чертям, стоило бы! — весело проговорил Овсянин. Приподняв над головой фуражку, он провел носовым платком по взмокшим волосам и добавил: — Но победителей, как говорится, не судят… Заблудились, что ли?
— Так точно, товарищ лейтенант! — подтвердил Петька. — Когда на мины наскочили, забоялись маленько. Стали обходить и направление потеряли.
— «Забоялись, забоялись», — передразнил Овсянин. — Струсили, выходит?
— Ну!
Овсянин фыркнул, нахлобучил фуражку, повернулся к Андрею:
— Ты тоже струсил?
— Тоже, товарищ лейтенант.
Овсянин изобразил на лице веселый ужас.
— А еще земляк! Сказал бы, страшновато было. А то — струсил!
— Разве это не одно и то же?
— Конечно, нет.
Семин недоверчиво хмыкнул.
— Трусость и страх — разница, — объяснил Овсянин. И добавил: — А в общем, молодцы!
Ребята вытянулись, гаркнули в один голос:
— Служим Советскому Союзу!
Овсянин снова снял фуражку, обмахнулся, взглянул на Семина:
— Москву-то вспоминаешь?
— Каждый день.
— Я тоже. — Овсянин помолчал и продолжил: — Больше всего Сокольники люблю. По выходным отдыхать туда ездил.
— А я в ЦПКО имени Горького гулял. От моего дома этот парк близко. Вы бывали там?
— Три раза. Первый раз, когда метро открыли. Помнишь, — Овсянин оживился, — в метро тогда, как на экскурсию, ходили.
— Смутно помню.
— Ты с какого года?
— С двадцать шестого.
— Тебе тогда девять лет было.
— Разве метро в тридцать пятом открыли?
— В тридцать пятом. Москвичу это знать надо.
Как из тумана выступило прошлое: Андрей в матроске, принаряженная мать. Они выходили из поезда на всех остановках. На «Дзержинской» поднялись по эскалатору, потом спустились и поехали дальше. В Москве то лето было жарким, но в метро жара не ощущалась — в памяти осталась приятная прохлада. Мать восхищалась архитектурой станций, а Андрей ждал обещанного мороженого, провожал завистливыми взглядами мальчишек и девчонок с эскимо в руках.
— Все вспомнил, товарищ лейтенант! — воскликнул он.
Овсянин улыбнулся, довольный.
Сарыкин и Петька слушали их с напряженным вниманием. Когда Овсянин собрался уходить, Сарыкин обратился к нему:
— Дозвольте спросить, товарищ лейтенант?
— Спрашивай.
— Награда им выйдет? — Сарыкин кивнул на Семина и Петьку.
— Какая награда?
— По медальке вполне можно, — со значением произнес Сарыкин.
— За что?
— Как-никак бой был. Двоих уложили, двоих поранили, остальных в плен забрали.
Не скрывая насмешки, Овсянин посмотрел на Андрея и Петьку.
— Разве это бой? Если за такие бои всем награды давать, то серебра не хватит на ордена и медали.
Андрей и Петька переглянулись.
— Туман он напускает, — заявил Сарыкин, когда лейтенант ушел.
— Навряд ли, дядя Игнат. — Петька был огорчен.
— Шиш получим! — сказал Семин, хотя думал по-другому.
Почему-то казалось: Овсянин сегодня же заполнит наградные листы.
— Давеча адресок твой не успел записать, — обратился к Семину Сарыкин и вынул из кармана замусоленный блокнот.
Андрей скороговоркой продиктовал домашний адрес. Ему не терпелось рассказать Сарыкину, как он увидел немцев, как выстрелил, почти не целясь, в самого толстого и попал, как барабанили по спине шишки, как вспомнил про гранаты и пополз к бурелому, но его опередил Петька.
— Ты, видать, от страха чуть в штаны не наложил.
— Я?
— Ну!
— Это у тебя губы прыгали, а я…
— Рассказывай! — перебил Петька. — На твоей роже ни кровинки не было.
— Чего ты врешь? — забеспокоился Андрей и обозлился на Петьку, что тот говорит такие слова при Сарыкине.
Ефрейтор рассмеялся.
— Цыц, мальцы! Во время боя личность всегда меняется — неужто только сегодня приметили? Что внутри происходит, то и на личности обозначается. И ничего такого в этом нет. Была бы совесть чиста.
Семин вспомнил, как во время боя то каменели, то покрывались потом лица однополчан, их носы заострялись, глаза то суживались, то расширялись, на запекшихся губах появлялись капельки крови. Соглашаясь с Сарыкиным, он кивнул.
Закончив дела, к ним снова подошел Овсянин:
— Отдышались?
— Так точно!
— Тогда вот что. — Командир сразу стал серьезным. — Отведите этих, — он кивнул на пленных, — в штаб. На всякий случай по трофейному автомату захватите.
— В штаб полка вести? — уточнил Петька.
— Лично комдивом было приказано: всех пленных к нему. Знаете, где это?
— Где?
— В Леплавках. Отсюда километров десять. — Овсянин достал карту, показал маршрут. — Только без глупостей, ребята! Головы поотрываю, если хоть волосок с пленных упадет.
— Нужны они нам… — проворчал Петька.
Семин снова перехватил злобный взгляд и подумал: «За этим гадом надо следить и следить».
Овсянин и Сарыкин пожелали им легкой дороги, и они двинулись в путь.
Вначале в лесу было тихо. Потом, когда в просветах между деревьями мелькнуло болото, поднялся ветерок. Гибкие ветки берез стало относить в сторону, еловые лапы зашевелились, словно живые; прошлогодние, еще не успевшие сгнить листья, спрессованные сыростью, оторвавшись от верхнего слоя, нехотя покатились к стволам деревьев и трухлявым, источенным личинками пням, прилипли к ним, будто приклеились. Вода на болоте покрылась морщинками, еще не окрепшая осока окуналась в черные, заполненные жидким торфом «окна». Вытянув шею, пролетела птица — большая, с зеленовато-коричневым оперением.
— Селезень, — сказал Петька и поднял винтовку.
— Не стреляй, — остановил его Андрей.
— Почему?
— Пусть летит.
— Зажарить бы — за уши не оторвешь. — Петька причмокнул. — Ты охотился когда-нибудь?
— Нет.
— А я охотился! В наших краях уток тьма.
Семин вдруг ощутил голод и подумал, что пахнущая дымком дикая утка, должно быть, очень вкусна.
— В наших краях все охотники, — продолжал Петька. — Земля у нас бросовая, больше семи центнеров с гектара никогда не получали. Засыпем закрома, а самим — фига. Только огородами, охотой и кормились. Да еще рыбой. Озер и речек в нашей области пропасть. Я с удочкой не расставался. Маманя каждый день уху варила.
Андрей сглотнул слюну.
— Кончай! Жрать хочется — даже в голове мутится.
Петька запустил руку в карман, достал сухарь.
— Хочешь?
— Еще бы!
— На.
Семин быстро смолотил сухарь, попросил еще. Петька не дал. Андрей решил, что его друг все же немного скуповат. Петька, видимо, догадался, о чем думает Семин, сказал:
— Не могу жить, чтоб один день густо, а другой — пусто.
Долговязый немец кинул взгляд на болото, что-то сказал. Семин посмотрел туда, куда только что смотрел немец. Там лежал полузатопленный труп с посиневшим лицом. Это был солдат — тоже пехотинец. Каблуки упирались в дно: оно виднелось сквозь толщу отстоявшейся воды — мохнатое, покрытое ржавым налетом. Тускло поблескивала вырезанная из жести звездочка. Шинель с подпалиной на рукаве, маленькой дырочкой на груди набухла, казалась свинцово тяжелой. Глаза солдата были открыты — он смотрел в небо, по которому плыли облака.
— Дела-а, — пробормотал Петька.
Немцы залопотали что-то. По их встревоженным голосам чувствовалось — напуганы.
— Похоже, они этого парня кокнули, — сказал Семин.
Петька кивнул.
— Похоронить бы. — Андрей посмотрел на него.
— Боязно.
— Значит, пусть так лежит? — вспылил Андрей.
Петька снял пилотку, зачем-то подул на звездочку, потер ее рукавом.
— У меня в голове план образовался.
— Какой план?
— Пусть фрицы его вытаскивают. И могилу пусть роют.
Петькин план Андрею понравился. При помощи жестов они объяснили пленным, что от них требуется. Немцы закивали, торопливо подошли к убитому.
— Только осторожней! — крикнул им Петька.
Немцы, должно быть, поняли, вытаскивали труп бережно, изредка бросали друг другу какие-то слова.
— Сюда! — Семин показал на травку у куста. Опустившись на колено, обшарил карманы убитого. Вынул размокшую солдатскую книжку, комсомольский билет, письма с размытыми чернилами, поблекшую фотокарточку молодой женщины.
— Взгляни-ка! — Он протянул фотокарточку Петьке.
Тот, переборов неприятное ощущение, нехотя взял ее.
— Симпатичная. Должно быть, невеста. — Петька помолчал. — А может быть, жена. — Возвращая фотокарточку Андрею, посоветовал: — Положи ее с ним — так для него лучше.
Семин снова подумал, что солдата убили эти немцы, и, повернувшись к ним, строго спросил:
— Ваших рук дело?
Немцы не поняли. А может, сделали вид, что не поняли.
— В штабе разберутся! — предупредил их Семин.
Где-то в вышине задзинькала синица. Андрей хотел было закрыть убитому глаза, но подумал: «Пусть посмотрит последний раз на небо». Смерив малой саперной лопатой рост убитого, приказал немцам рыть могилу.
Лопата была одна — немцы работали поочередно. Были они сильными, и работа у них спорилась. Семин поглядывал на убитого: «Еще утром казалось: ни смерти теперь, ни печали, а на деле получилось вот что». Петька, держа винтовку наперевес, не сводил глаз с пленных. Встретившись со взглядом Андрея, виновато пояснил:
— Тоскливо чего-то.
— А мне, думаешь, весело? — вздохнул Семин.
Когда немцы закончили работу, ребята наломали еловых ветвей, бросили их на дно могилы, показали жестами пленным, что теперь надо опустить солдата туда.
Где-то в стороне шумел дрозд, дзинькала синица, тихо и нежно посвистывала какая-то птица. В ее флейтовых посвистах была грусть.
— Кто поет? — обратился Андрей к Петьке, растроганный этим негромким мелодичным пением.
Тот прислушался.
— Реполов.
— Не слыхал про такую птицу.
— Коричневатая она, с красноватой грудкой, — объяснил Петька.
— Не слыхал.
Она постояли с непокрытыми головами около могилы, затем отошли в сторону и закурили. Андрею было тоскливо. Он представил себе мать убитого: «Она даже не подозревает о смерти сына». Увидел почтальона с похоронкой в руке, с виноватым выражением глаз, услышал плач, испуганные голоса соседей и решил: «В нашем доме произошло бы то же самое, если бы убили меня». Выступили слезы.
— Махорка очень крепкая, — сказал он и провел запястьем по глазам.
— Крепкая, — согласился Петька.
Один из немцев — тот, что кидал злобные взгляды, вдруг прыгнул в сторону и, петляя, ринулся в глубь леса.
— Стой! — Петька схватил винтовку.
Семин вскочил и помчался за немцем. Петька что-то прокричал ему вслед, но что — Андрей не разобрал. Бегал Семин быстро, никогда не уставал и, если бы не больная нога, то, наверное, смог бы пробежать без отдыха километров десять, а может, и больше. Рана, как на грех, «стрельнула» и так сильно, что Андрей поморщился. Захотелось остановиться, стянуть сапог, ощупать рану — это всегда приносило облегчение, но Семин подумал, что тогда немец уйдет, и, превозмогая боль, поднажал. Ветки хлестали по лицу, под сапогами ломался валежник. Андрей настигал немца. «Еще немного», — ободрил он сам себя и вдруг с ужасом вспомнил, что У него ни винтовки, ни автомата, даже перочинного ножа нет. В спешке он оставил винтовку у дерева, а когда снял автомат — не смог вспомнить. Трофейный автомат все время висел у него на груди, Андрей даже теперь ощущал шеей его тяжесть, а час назад, ведя пленных, думал: «Маленький, дьявол, а тяжелый!» Испугавшись, Семин остановился. Немец затравленно оглянулся и тоже остановился. Потом, осклабившись, поманил Андрея пальцем:
— Комен, комен, рус!
«Видит, собака, что я без оружия». Андрей сунул руку в карман.
Немец замер. В куцем мундире он походил на гориллу широкоплечий, мускулистый, длиннорукий.
Несколько минут они не сводили друг с друга глаз. Затем немец снова осклабился:
— Комен, комен, рус!
Семин хотел было позвать на помощь Петьку, но понял: «Не услышит. А если и услышит, все равно не сможет прибежать, потому что с пленными».
Немец был массивней Семина. «Что делать?» Андрей собрался было повернуться и задать стрекача, но понял сраму тогда на всю жизнь хватит.
— Комен, комен, рус! — повторял немец.
Семин молча глядел на него, не вынимая руки из кармана. Это, должно быть, озадачило немца. Он что-то прокричал, показывал рукой туда, где был Петька с пленными, резко повернулся и зашагал прочь. «Боишься!» — обрадовался Андрей и, обретая уверенность, сказал не очень громко, но и не тихо:
— Хенде хох!
Немец выругался, поднял палку.
Андрей сделал то же самое. Тонкий конец палки оказался в его руке, на толстом был уродливый выступ. Палка оттягивала руку. «Хорошо, что тяжелая», — решил Семин и, рванувшись к немцу, замахнулся. Немец увернулся: палка рассекла воздух, зацепилась за ветки — Андрей чуть не выронил ее. Противник воспользовался этим. Если бы Семин не отскочил, ему пришлось бы плохо. «Сволочь!» Изловчившись, он пнул немца ногой в живот. Тот согнулся. Андрей занес палку, но на какую-то долю секунды немец опередил его, и они, выронив «оружие», покатились по земле.
От немца пахло нестираным бельем. Он сразу навалился на Андрея, захрипел, забормотал что-то. Семин пытался лягнуть его, но ноги лишь молотили воздух. Немец хотел вцепиться в шею. Андрей чувствовал его пальцы. Правая рука Семина была подвернута за спину, левую немец прижимал к земле. Мотая головой, Семин медленно высвобождал правую руку. Когда это удалось, он нанес ему короткий удар промеж ног. Немец взвыл, и Андрей выскользнул из-под него. Не давая немцу опомниться, сильно ударил его палкой по голове Убедившись, что тот без сознания, связал ему руки…
6
— Телок безмозглый, — взволнованно проговорил Петька, когда Семин подвел к нему изрядно помятого, с запекшейся на волосах кровью и скрученными руками немца. — Я тебе, обормоту, крикнул: «Автомат возьми!» — а ты как глухой.
— Не расслышал, Петь.
— «Не расслышал, не расслышал». Я думал, что твоя душа уже в раю.
— Обошлось.
По-прежнему «стреляла» нога и ныло лицо.
— Как он тебя разукрасил, — посочувствовал Петька. — Вся рожа в синяках — даже смотреть страшно. Водицей смочи — полегчает.
Болото чавкнуло, когда Семин наступил на обманчиво твердую кочку; травяной покров стал оседать. Андрей едва успел схватиться за куст.
— Не утопни, черт! — забеспокоился Петька. — Сам выберешься, или помочь?
— Сам.
Когда Андрей выбрался, Петька посоветовал:
— На тверди стой и умывайся.
Пахнущая тиной вода была тепловатой. Лицо пылало, и каждый раз, дотрагиваясь до него, Андрей испытывал боль. Вытираясь на ходу подолом гимнастерки, поспешил к Петьке.
— Как же ты совладал с ним? — спросил тот, кивнув на немца.
Семин рассказал.
— Оплошал фриц. — Петька усмехнулся. — Видать, на силу свою понадеялся. Страху-то небось натерпелся!
— Кто?
— Ты!
— Ничего подобного, — запротестовал Андрей.
— Ври.
— Честное слово! Это уж потом, когда он связанный лежал, не по себе стало. Глядел на него и не верил, что справился с ним.
— Развяжем фрица, или пускай так идет? — спросил Петька.
— Пускай так.
— Правильно, — согласился Петька и предложил покурить.
Разглядывая пепел, задумчиво произнес:
— Давно собираюсь спросить: у тебя есть симпатия?
— Девушка, что ли?
— Ну!
Семин вспомнил своих одноклассниц. Некоторые из них нравились ему — иногда день, иногда неделю, реже месяц. Потом чувство исчезало, словно его и не было. Вспомнил озорную девчонку, с которой работал до ухода в армию в ремонтно-механической мастерской. Они часто переглядывались, три раза сходили в кино, а через месяц выяснилось: у нее есть парень — солдат, она сама сказала об этом Андрею. Он огорчился, но ненадолго. Через несколько дней успокоился, встречаясь с девчонкой взглядом, улыбался ей, однако в кино не приглашал. В госпитале на него произвела сильное впечатление молоденькая медсестра с чуть раскосыми глазами. Семин пытался приударить за ней, но товарищ по палате сказал, что она замужем, познакомилась с будущим мужем тут, в госпитале, а теперь он на Втором Украинском фронте. Андрей еще никого не любил по-настоящему, хотя ему часто казалось — влюбился до гробовой доски.
Он честно рассказал Петьке обо всем этом.
— А мне нравится одна, — признался тот. — Уже три года нравится. С нашей деревни она. Вместе на ферме работали: я — скотником, а она — учетчицей. К ней многие парни, постарше меня, клинья подбивали, а она соблюдала себя. До войны была — глядеть не на что. А потом такой видной из себя стала, что не подступишься. Маманя удивлялась: на отрубях да капусте живем, а Маруська-то вон какая!
— Встречался с ней? — полюбопытствовал Андрей.
— Гулял, что ли?
— Можно и так сказать.
— Нет. — Петька вздохнул. — Робел. Бывало, как увижу, язык к глотке присохнет и ноги подкашиваются.
— Значит, она ни о чем не догадывается?
— Наверное. Но, — Петька приободрился, — неделю назад письмо было от младшей сестренки: Маруся-де поклон шлет, интересуется, как ты. Я намек сделал. Сестренка у меня сообразительная, сама догадается, что сказать Марусе. — Петька помолчал. — Домой вернусь — сватов к ней пошлю!
— Сразу?
— Сразу.
— А вдруг она не согласится?
Петька помрачнел:
— Тогда лучше не жить!
Семин рассмеялся. Пленные с недоумением уставились на него. Петька засопел.
— Я тебе, как другу, душу вывернул, а ты: ха-ха.
— Не сердись, Петь.
— Пра-слово, не жить мне без нее!
Андрей подумал: «Маруся, наверное, присушила его по-настоящему», — и пожалел, что у него нет девушки, о которой бы он тосковал, к которой бы тянулся сердцем.
— Вот так-то, — пробормотал Петька.
— Будет порядок, как в танковых войсках! — утешил его Семин.
Солнце уже заходило. Оно висело над болотом — там, где виднелись маленькие островки, поросшие чахлыми осинками. Казалось, еще мгновение, и от соприкосновения с солнцем болото зашипит. Из глубины леса надвигался синеватый воздух. Стало прохладно.
— Весной всегда так, — сказал Петька. — Днем теплынь, а к вечеру мурашки высеиваются. — Он посмотрел на немцев и добавил: — Успеть бы до ночи доставить их.
— Успеем, — обнадежил Андрей.
Лицо у него было опухшим — он чувствовал это, — но уже не болело, а вот нога ныла по-прежнему. И особенно сильно, когда он ступал на нее. Поэтому Семин припадал на здоровую ногу, шел вперевалочку.
— Все стонет? — спросил Петька.
Андрей кивнул.
— Уже близко. — И показал на дорогу среди деревьев.
Петька обрадовался, крикнул пленным:
— Чего, как телки, плететесь? А ну, шире шаг!
Дорога шла вдоль болота. Она то прижималась к нему, то отступала на несколько десятков метров в лес. Середина была изрыта копытами, в глубоких, словно маленькие траншеи, колеях темнела еще на просохшая грязь. Там, где дорога уходила в лес, деревья сплетались над ней, образуя что-то очень похожее на туннель.
Из-под земли выпирали корни со шрамами от колес.
У болота дорога была бугристой — небольшие сплюснутые кочки.
Так они прошли с километр. Потом дорога неожиданно вильнула и, вырвавшись из леса, побежала по вспаханному полю к видневшемуся у реки местечку с каменным костелом в центре, уютными домиками.
Издали все домики казались одинаковыми, но, подойдя поближе, Семин и Петька обнаружили, что среди них много ветхих, крытых потемневшей от времени и непогоды соломой. Над крышами клубились дымки. Петька потянул носом, авторитетно заявил:
— Парным молоком пахнет! Должно, только что дойка прошла.
Андрею мучительно захотелось молока. Последний раз он пил молоко в госпитале. Оно было кипяченым, и Андрей, сделав глоток, отодвинул стакан: кипяченое молоко он с детства терпеть не мог.
— Хорошо бы сейчас парного молочка с черным хлебом! — помечтал Семин.
— Сообразим! — откликнулся Петька, и Андрей подумал, что его друг в лепешку расшибется, но раздобудет молоко.
Неподалеку от местечка дорога, по которой шли ребята, влилась, словно ручей в реку, в другую дорогу, более широкую.
Немцы по-прежнему едва переставляли ноги, и Петька наконец не выдержал — двинул одного из них прикладом:
— Шевелись!
Местечко имело всего две улицы — они пересекали одна другую под прямым углом. Костел находился на стыке этих улиц. С одной стороны к нему примыкал сад, в котором только что отцвели яблони: на деревьях еще висели лепестки, похожие на снежинки, запутавшиеся в ветвях. Земля в саду была белой, издали казалась припорошенной снегом.
Часть дороги, перед фасадом костела, была вымощена, и не каким-нибудь булыжником, а обтесанными, хорошо пригнанными один к другому камнями. Поверхность этих камней, видимо, была когда-то гладкой, а теперь ее покрывали трещинки и выбоины.
За костелом было кладбище — виднелись кресты и надгробья.
И хотя костел находился в центре местечка, он не был окружен домами — они располагались в стороне. Между домами и костелом оставалась «нейтральная полоса» — лужайка, покрытая молоденькой травкой. Она была такой красивой, что проходящие мимо солдаты даже не ступали на нее.
Было шумновато. Где-то гнусавил патефон. Жиденький тенорок Вадима Козина рассказывал про Машу у самовара. Тренькала балалайка, взвизгивала гармонь, хрипловатые, простуженные голоса невнятно выкрикивали частушки — каждая припевка сопровождалась хохотом и одобрительными возгласами. Придерживая руками подсумки, пробегали посыльные. Один из них — молоденький солдатик с пушком над губой — остановился и храбро спросил Петьку:
— Кого пымали?
— Не видишь разве? — огрызнулся тот.
— А-а… — с понимающим видом отозвался солдатик и затрусил по дороге, поднимая нагретую солнцем пыль.
Опускался туман. Семин подумал, что очень скоро пыль остынет, станет чуть влажноватой и не будет вспархивать, как сейчас.
Около кирпичного, в пять окон дома курили офицеры. С противным скрипом распахнулась дверь, с высокого крыльца скатился черноволосый щеголь лейтенант. Подбежал к Семину и Петьке, спросил отрывисто, сомкнув на переносице густые, будто нарисованные углем брови:
— Откуда?
Петька доложил.
— Подождите! — Щеголь лейтенант повернулся и резко зашагал к дому.
— Видать, адъютант, — сказал Петька.
— Факт! От него даже одеколоном пахнет.
— Ну-у?
— Как от женщины.
Щеголь лейтенант Андрею не понравился: был он таким же молодым, как Семин и Петька, может, на год старше, а важности на себя напускал — на десятерых хватит.
— Я таких… — Петька осекся: снова скрипнула дверь.
Кивнув на ходу расступившимся офицерам, к ребятам направился в сопровождении щеголя лейтенанта молодцеватый полковник. Семин никогда не видел командира дивизии, только слышал про него, и теперь решил: «Он!»
Полковник был полный, но не грузный, пожиже Овсянина, а ростом на целую голову выше. Андрей и Петька вытянулись, щелкнули каблуками. Посмотрев на пленных, полковник спросил:
— Почему один связан?
— Убечь хотел! — Петька рассказал, как было дело.
Полковник перевел взгляд на Семина:
— Это он тебе фонари наставил?
— Так точно!
— Ему, вижу, тоже досталось.
— Так точно!
— Как же тебе удалось справиться с ним?
— Справился!
— Добро! — Полковник кивнул. — Документы пленных при вас?
Петька вручил ему документы. Полковник стал перелистывать их. Заинтересовался каким-то удостоверением. Поднял глаза на связанного фрица, о чем-то спросил его по-немецки. Тот что-то процедил.
— Молодцы, ребята! — воскликнул полковник. — Эсэсовца поймали.
Передав документы щеголю лейтенанту, комдив приказал Петьке развязать пленного. Подозвал капитана, стоявшего среди офицеров у крыльца. Отойдя с ним в сторону, что-то сказал. Тот вызвал автоматчиков и ушел вместе с пленными.
В окнах зажигались огни керосиновых ламп. По-прежнему тренькала балалайка. Поклонник Вадима Козина гонял все ту же пластинку. Туман был — как разбавленное водой молоко.
— Значит, ты первого немца уложил? — обратился к Семину полковник.
— Так точно!
— И эсэсовцу уйти не дал, хотя без оружия был?
— Так точно!
— Чего ж ты без винтовки-то побежал?
— Сгоряча.
Комдив усмехнулся, подумал.
— За смелость и находчивость представляю вас, ребята, к правительственным наградам! Тебе, — полковник взглянул на Петьку, — Отвагу, а тебе, — он подмигнул Семину, — Славу…
7
Награды вручили через пять дней. Овсянин поздравил ребят:
— До вечера свободны!
Петька скосил глаз на медаль. Сказал Семину:
— Обмыть бы надо.
— Чем?
— Было бы желание, а это дело найдется.
И он исчез. Пропадал часа два. Вернулся сияющий.
— Порядок!
— Достал?
— Порядок! — повторил Петька и провел рукой по фляжке, оттягивавшей ремень.
— Водка?
— Самогон! Его тут море. Я трофейные часики обменял. — Петька подумал. — Дядю Игната позвать надо, он это угощение уважает.
— Обязательно!
Сарыкин был легок на помине. Подошел, церемонно пожал ребятам руки:
— Причитается с вас, мальцы!
— Само собой, дядя Игнат, — степенно произнес Петька и с важным видом похлопал по фляжке. — Первачок! Когда наливали, теплым был.
— В хутор бегал?
— Ну.
— Далеко. — Сарыкин зацепил пальцами ноздрю, вздохнул.
— Попразднуйте с нами, дядя Игнат! — сказал Петька.
Сарыкин снова вздохнул.
— Не могу.
— Почему?
— В штаб полка сходить надо, узнать насчет демобилизации.
— Уже? — воскликнул Семин.
— Слух идет. — Сарыкин снял пилотку, пригладил реденькие волосы. — Поначалу баб и нас, старослужащих, по домам распустят, а там, глядишь, и другим черед подоспеет.
— Другим — да, — уныло согласился Петька. — А мне и ему, — он кивнул на Семина, — еще трубить и трубить.
— Ты тоже с двадцать шестого? — обратился к нему Сарыкин.
— Ну.
— Выходит, зеленые вы оба.
Андрей и Петька переглянулись. Они считали себя умудренными жизнью, все повидавшими и все познавшими, с пренебрежением говорили о своих сверстниках, не нюхавших пороха, и даже на взрослых мужчин в гражданской одежде посматривали свысока.
— Зеленые, — повторил Сарыкин, — хотя и пришлось вам хлебнуть. Небось мерекаете сейчас, — городит дядя Игнат, хрен старый.
— Ничего подобного, — пробормотал Семин и покраснел, потому что ефрейтор сказал правду.
— Мерекаете! — Сарыкин усмехнулся. — Вот когда воротитесь домой, поженитесь, обзаведетесь детишками, тогда, глядишь, поймете, что такое настоящая жисть.
— Уже поняли, — сказал Семин.
Сарыкин помотал головой.
— Война — не жисть. Жисть — это когда пашут, камни кладут, за скотиной смотрят, ситец выделывают. А война — это… — Не найдя подходящего слова, он пошевелил пальцами. — Будь моя воля, я бы всех, кто войну зачинает, кверху ногами вешал.
— Как Муссолини? — Семин хотел показать свою осведомленность.
— Вот-вот, — Сарыкин кивнул. Помолчав, добавил: — Я, мальцы, уже душой дома, в деревне. Прикрою глаза — детишков вижу. Четверо их у меня — парень и три девки. Самой старшей восемнадцать исполнилось, а парню аккурат через месяц четырнадцать будет. Если с демобилизацией задержки не произойдет, как раз подоспею. Вот я и решил к знакомому писарю сходить вроде бы как на разведку. Они, писаря, все знают, потому что около начальства.
— Завтра можно сходить, — сказал Андрей.
— Уговор на сегодня был, — возразил Сарыкин.
— Жаль.
Ефрейтор посмотрел на фляжку.
— Не горюйте, мальцы! Вам же больше достанется.
Петька отстегнул фляжку, протянул ее Сарыкину:
— Отведайте, дядя Игнат!
Тот бережно принял фляжку, отвинтил крышку, понюхал:
— Хлебный!
— А еще какой бывает? — полюбопытствовал Семин.
— Темнота! — опередил Сарыкина Петька. — Самогон из всего гонят.
— Самый лучший — хлебный! — сказал ефрейтор.
Он обтер горлышко рукавом, запрокинул фляжку над головой и долго не отрывался от нее.
— Хорош! — объявил он, возвращая фляжку Петьке. Заметив в глазах Андрея беспокойство, добавил: — Не тревожься, малец. Мне этого добра много требуется, чтобы опьянеть. А вы поаккуратней будьте. Самогон крепкий — градусов шестьдесят. Овсянин насчет этого дела строгий. Заметит, что в хмелю, взыскание наложит. Один раз он даже меня не помиловал.
Петька встряхнул фляжку.
— Немного тут осталось.
Сарыкин усмехнулся:
— Жалеешь, что угостил?
— Это я так, к слову, — поспешно сказал Петька.
Сарыкин погрозил ему пальцем. Его нос приобрел лиловый оттенок, глаза влажно заблестели.
— Веселого вам гулянья, мальцы! — сказал ефрейтор и зашагал прочь.
Петька откупорил фляжку, заглянул внутрь.
— Здоров пить дядя Игнат — меньше половины осталось.
— Достаточно с нас.
— Охота как следует обмыть.
— Учти, — предупредил Семин, — без закуски я пить не стану. Надо хоть кусок сала раздобыть.
— На кой оно нам! — Петька ухмыльнулся. — Рыбы наловим.
— Как?
Петька извлек из кармана четыре «лимонки».
— Шарахнем в реку — вот тебе и уха!
Семен вспомнил, как две недели назад во время последнего артналета три снаряда угодили в реку, замутив воду. На поверхность тотчас всплыли брюхом вверх рыбешки. Петька сказал тогда, лизнув языком пересохшие губы: «Голыми руками бери. Кабы не обстрел, сиганул бы за ними».
…Река петляла по лесу, уходила то вправо, то влево, иногда становилась очень узкой. В этих местах вода вспенивалась, переливалась с журчанием через позеленевшие камни и покрытые слизью коряги. Берега были обрывистыми, деревья подступали к самой воде. Виднелись корни, судорожно вцепившиеся в землю. Изредка попадались самодельные мосточки — перекинутые с берега на берег бревна.
День был ветреный, прохладный, совсем не такой, каким он был пять дней назад — девятого мая. За эти пять дней погода менялась несколько раз. Иногда сияло солнце, но чаще небо заволакивали тучи и начинался дождь — мелкий, по-осеннему холодный. И тогда смолкали птицы, деревья стояли понуро, с влажных листьев стекали капли, в полураспустившихся одуванчиках застывала, будто ртуть, вода. Когда же с утра было солнце, все — деревья, трава, птицы — оживало. От прогревшейся земли поднимался пар, листья и трава быстро подсыхали, птицы не смолкали ни на минуту.
Каждый день бойцы прочесывали лес. Немцев больше не встречали.
— Все, — утверждал Петька. — Видать, пять дней назад мы последних поймали.
— Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, — возражал Сарыкин.
Овсянин был озабочен, часто хмурился, не останавливался, как прежде, послушать, когда кто-нибудь из бойцов начинал травить, и сам не рассказывал смешные истории. Сарыкин сказал Андрею и Петьке, что у командира неприятности, что в окрестных лесах до сих пор скрываются банды, а выловить их не удается, поэтому-де Овсянину и другим командирам достается от начальства. Петька недоверчиво хмыкал, говорил, что если бы были немцы, то в лесу наверняка обнаружился хоть какой-нибудь знак, а то ничего — даже окурков нет.
— Полагаешь, они дурнее нас? — спрашивал Сарыкин. — Знают, что ищут их, потому и попрятались. Может, мы мимо них каждый день проходим.
— Ну-у… — не верил Петька.
По небу стремительно проносились облака, похожие на истерзанную вату. Солнце то скрывалось, то появлялось снова. Ветер пригибал деревья, по реке ходила рябь, маленькие волны бились о берег.
Петька перебрался на другую сторону реки, позвал Семина. Они прошли еще метров триста и остановились на берегу тихой заводи.
— Сейчас костер разведем, — сказал Петька и стал собирать хворост.
— Помочь? — спросил Андрей.
— Сам, — проворчал Петька. — Ты лучше припасы покуда из сидора вынь.
— Какие припасы?
— Соль, перец, лавровый лист.
— Даже пряности раздобыл?
— Чего?
— Даже пряности, говорю, раздобыл?
— Это, что ль? — Петька кивнул на перец и лавровый лист.
— Да.
— Этого добра на кухне навалом!
Петька разжег костер. Сухие ветки занялись дружно, почти не дымили. Поверх них он положил ветки покрупнее — сразу повалил дым, густой, выбивавший слезы. Семин отошел от костра, попросил у Петьки махорки, взяв тлеющую ветку, прикурил. Солнце выпуталось из облаков, светило вовсю. Андрей чувствовал кожей его ласковое тепло.
— Хо-ро-шо!
— Выпьем — еще лучше будет, — обнадежил Петька.
Фляжка охлаждалась в реке. Семин лег на спину, стал глядеть в небо. Позвякивал котелок. «Как хорошо, — подумал он, — что война кончилась и мы — живые».
— Вставай, — проворчал Петька. — Рыбу глушить надо.
Семин встал. Петька разделся догола. Обхватив руками покрытые веснушками плечи, потрогал ногой воду.
— Холодная!
Андрей поболтал в воде рукой.
— Терпимо.
— Тогда валяй ты! — сказал Петька и быстро натянул на себя нательную рубаху.
Семин разделся, похлопал себя по груди. Петька принес гранаты.
— Ты в тот край бросай, а я в этот!
Над рекой поднялись фонтаны, волны с шумом ударили в противоположный склон, с вкрадчивым шелестом набежали на пологий берег, оставив на траве грязновато-серую пену. Брюхом вверх всплыли щурята, красноперки, плотва.
— Сигай! — заорал Петька.
Семин влетел в реку и остановился, обожженный холодом. Тело сразу посинело.
— Давай, давай! — подгонял Петька. — Очухается рыба, без ухи останемся.
Андрей плеснул на грудь, присел, окунулся, зажав нос и глаза, и, преодолевая сопротивление воды, помчался к рыбе — она плыла брюхом вверх по течению, лениво шевелила плавниками. Раненую ногу сводила судорога, но он не обращал на это внимания, хватал рыбешек и выбрасывал их на берег. Петька бегал по берегу в одной нательной рубахе, без кальсон, возбужденно вопил:
— Быстрей, быстрей, а то уйдет!
Посреди реки было по грудь. Вспенивая воду, Андрей поплыл к трем щучкам — они уже очухались, пытались уйти в глубину.
— Хватай! — Петька скинул рубаху. Но в воду не вошел.
Двух щучек Семин выловил, а третья ушла, вильнув напоследок хвостом.
— Нерасторопный ты, — сказал Петька, когда Семин выбрался на берег. — К костру беги. Губы у тебя синие, как чернила.
Стараясь унять дрожь, Андрей быстро оделся, протянул руки над костром.
Петька ловко очистил и выпотрошил рыбу, наполнил котелок водой:
— Ушица будет — объедение!
Семен ничего не ответил — никак не мог согреться.
— Пройдет, — сказал Петька. — Самогонки сейчас выпьешь, горяченького похлебаешь — жарко станет.
Ветер усилился. От костра летели искры, обожженная трава корчилась, как живая, пламя то валилось набок, то взмывало вверх, обхватывая длинными языками котелок, из которого выплескивалась уха. Петька крутил в нем ложкой, чертыхался, когда пламя обдавало жаром лицо. Семин почувствовал ломоту в костях, голова стала тяжелой, рана ныла, хоть плачь.
Петька снял котелок.
— Тащи фляжку, и давай рубать — на ветру варево быстро стынет.
Семин с непривычки сразу опьянел.
— Закусывай, — посоветовал Петька.
— Не хочется. — Андрей вдруг почувствовал усталость: голова отяжелела, движения стали вялыми.
— Ешь, ешь!
Андрей подцепил ложкой кусок рыбы, пожевал. Рыба показалась безвкусной. Он с трудом проглотил кусок, поперхнулся костью. Петька хлопнул Семина по спине.
— Прошла?
— Вроде бы… — с трудом пробормотал Андрей.
8
Семин лежал в блиндаже под двумя шинелями, никак не мог согреться. Петька куда-то ушел. Уже наступил вечер, тонко и надоедливо звенели комары, отыскивая незащищенное тело. Андрей натянул шинель на голову, постарался заснуть, но не смог. Комар-диверсант проник под шинель, стал крутиться около лица.
Прогромыхали сапоги. Запахло «шрапнелью» — так солдаты называли перловую кашу.
— Спишь? — окликнул его Петька.
— Нет.
— Тогда вставай, рубать будем!
— Не хочу.
— Хорошая каша, с мясом!
— Не хочу.
Петька помолчал и сообщил:
— А ребята сегодня обратно в лес ходили. Дядя Игнат сказал, фрицев видели. Крикнули им, чтоб сдавались, а они — деру.
— Захватили?
— Промашка!
— Обидно.
— Само собой. — Петька помолчал. — Выходит, не кончилась для нас война-то.
Прибежал посыльный — ребят требовал командир роты. Петька накрыл котелок газетой, посмотрел на Андрея:
— Может, доложить Овсянину, что ты захворал?
— Не надо. — Семин с трудом поднялся. Тело казалось налитым свинцом, перед глазами все качалось.
— Дойдешь?
— Дойду.
Когда посыльный умчался, Петька помог Андрею надеть шинель, проверил, застегнулся ли он.
«Петька — хороший, заботливый парень, — отметил про себя Андрей. — После демобилизации мы друг другу писать будем и в гости ездить».
— Потопали?
Семин кивнул.
Давно наступила ночь, только на самом горизонте, там, где темнели, словно огромный забор, верхушки елок, еще розовело, угасая, небо. На светлом фоне лес, который прочесывала рота, показался сейчас угрюмым. Возле землянок переговаривались бойцы, звякали ложки, пахло «шрапнелью». Стелился туман, наползая на кусты, обволакивая стволы деревьев. В низинах он был густым, а на буграх — реденьким, словно расплывшийся дым. Пала роса, и было прохладно. Петька шел без шинели, а Андрея колотил озноб.
— Зазря пошел, — сказал Петька, беря его под локоть.
— На свежем воздухе лучше, — пробормотал Семин, хотя чувствовал себя хуже некуда.
Петька вздохнул.
— Я все гадаю, зачем Овсянин нас требует.
— Узнаем сейчас.
Овсянин стоял около своего блиндажа. Был он в наброшенной на плечи шинели, без фуражки. Неподалеку от него топтался Сарыкин с травинкой во рту. Звенели комары. Петька отмахивался от них, а Семин не чувствовал укусов.
Шагнув к ребятам навстречу, Овсянин проговорил:
— Поскольку вы отдыхали весь день — задание вам: отнести в штаб донесение.
— Я один схожу, — сказал Петька.
— Почему?
— Захворал он. — Петька кивнул на Андрея.
— Захворал? — недоверчиво переспросил Овсянин и звучно хлопнул себя по щеке.
— Так точно, товарищ лейтенант!
Овсянин хмыкнул, подошел к Семину.
— Пьяный он, а ты говоришь — захворал!
— Захворал, — упрямо повторил Петька.
— Разговорчики! — Овсянин повысил голос. — Нажрался на радостях — срам.
Андрей не стал оправдываться — не было сил.
— Санинструктора сюда! — потребовал Овсянин и предупредил Семина: — Если болезни не окажется, на себя пеняй.
Санинструктором в роте был прыщеватый малый, вечно недовольный чем-то, с сонливым выражением лица. Повязки он накладывал неумело, на все замечания говорил одно и то же: «Лекарство — дерьмо! Организм сам себя лечит».
Подбежав к командиру, санинструктор козырнул.
— Займись им, — распорядился Овсянин, показав на Андрея, и снова хлопнул себя по щеке.
Санинструктор потянул носом.
— Вроде бы самогонкой от него попахивает.
— Это я и без медицины узнал! — вспылил Овсянин. — Есть ли болезнь, определи.
Санинструктор положил на лоб Андрея ладонь — шершавую, как наждак.
— Горячий!
— Температуру смерь! — потребовал Овсянин.
Санинструктор достал градусник, велел сунуть его под мышку. Овсянин не спускал с Семина глаз, Петька шумно вздыхал. «Нервничает», — решил Андрей и снова подумал, что Петька — хороший парень.
— Дозвольте закурить, товарищ старший лейтенант? — подал голос Сарыкин.
— Кури! — разрешил Овсянин и, прихлопнув очередного комара, добавил: — А тебя, смотрю, эта тварь не трогает.
— Нет! — весело откликнулся Сарыкин. — У меня кожа для них неподходящая — жесткая сильно.
Розовая полоска над лесом растаяла. Деревья приобрели причудливые очертания, и все знакомое — блиндажи, окопы — стало другим.
— Вынимай градусник! — приказал Овсянин.
Семин вынул его, протянул санинструктору. Тот, неловко держа градусник в руке, зажег спичку.
— Тридцать восемь и четыре десятых.
— Как гора с плеч, — проворчал командир.
Андрей определил по голосу — остыл. Подкашивались ноги, и кружилась голова.
Овсянин повернулся к Петьке.
— Придется тебе, Шапкин, одному идти.
— Дозвольте мне с ним! — вызвался Сарыкин.
— Ты же сегодня ходил.
— Зазря. Знакомого писаря к начальству вызвали, так и не дождался его.
— Пожалей ноги, старый, — сказал Овсянин. — Десять километров туда, десять обратно, это для тебя — маршрут.
— Ничего! — откликнулся ефрейтор. — Мы к ходьбе привычные.
— Полагаешь, уже есть приказ?
— Имею такую надежду.
Овсянин помолчал.
— Ладно! Только поосторожней — в лесу всякое может случиться… А ты, — он повернулся к Андрею, — в блиндаж ступай и ложись. Если к утру не полегчает, в медсанбат отправим…
Семин слышал, как в блиндаж вошли ребята. Кто-то окликнул его. Он не отозвался — по-прежнему было невмоготу. Озноб прекратился, и сразу выступил пот — стало жарко, как в бане. Нательная рубаха намокла. Андрею почудилось, что лежит он в луже, наполненной горячей водой. Семин откинул шинель, повернулся на другой бок и незаметно для себя уснул…
Проснулся с ощущением тревоги. Решил, что ему приснился нехороший сон, но ничего не вспомнил. Похрапывали ребята, что-то бормотали, скреблись, раздирая до крови блошиные укусы. Голова уже не болела. Семин чувствовал себя сносно, только был слабым. Место около него пустовало — Петька еще не вернулся. «Который теперь час?» — подумал Андрей и пожалел, что не обзавелся трофейными часами. Дешевые трофейные часы («Штамповка», — утверждал Петька) были почти у всех ребят. Один раз хотел взять часы у долговязого, костистого немца, тот заякал, с готовностью вынул их из кармашка — они были прикреплены металлической цепочкой к брюкам. Семину стало стыдно. Он махнул рукой, поспешно отошел. Почувствовал — пленный удивленно смотрит ему вслед. Петька с убитых часы не снимал — брезговал, а у пленных отбирал. У немцев, которых ребята захватили пять дней назад, были часы и не какие-нибудь, а мозеровские — Семин прочитал название фирмы на циферблатах. Петька тогда обрадовался. Сложил ладонь трубочкой, посмотрел на циферблат: «Светятся!» Оставить швейцарские часы им не разрешили — все, что ребята отобрали у немцев, было приказано сдать. Петька в тот вечер ворчал недовольный, а Семин не горевал: орден, к которому представил его командир, заслонил все…
Накинув шинель, Андрей вышел из блиндажа. Было тихо, и это обострило и усилило тревогу, с которой он проснулся. Семин подумал, что напрасно накручивает себя, что для тревоги нет оснований.
Трудно передать словами безмолвие ночи, когда нет ни ветерка, когда все скрыто густой, вязкой темнотой, когда ничего нельзя разглядеть: напрягаешь глаза и видишь только очертания предмета, а не сам предмет, и твое воображение начинает фантазировать. И как ни успокаивай себя, как ни утешай, фантазия побеждает, потому что ее союзники — ночь, тишина и тревога, возникшая неизвестно отчего. Что-то должно произойти, и ты ждешь этого.
Неожиданно там, куда уходила лесная дорога, затарахтели автоматы. Семин определил: «Немецкие!»
— В ружье! — раздался голос дежурного.
Из блиндажей выскакивали, застегиваясь на ходу, ребята. Все вокруг наполнилось шумом. Захватив винтовку, Андрей тоже бросился в лес — туда, откуда прозвучали выстрелы. Глаза привыкли к темноте. Он различал фигуры бойцов — они бежали чуть пригнувшись, зло ругались, налетая на кусты. Сердце щемило, и в душе было пусто. Мокрые ветки хлестали по лицу, на голову и плечи обрушивались капли. И вдруг Семин услышал крик. В этом крике было все — боль, страх, отчаяние. Ломая ветки, не разбирая под ногами земли, он бросился в ту сторону, откуда прозвучал крик, и чуть не налетел на бегущего впереди лейтенанта.
— Ты? — спросил он, обернувшись на ходу.
— Так точно!
— Ни черта не видно! — Овсянин включил карманный фонарик, стал светить под ноги. Иногда он поднимал руку, и тогда из мрака выступали сцепившиеся ветвями деревья, среди которых пролегала похожая на узкий коридор дорога. Там, где она круто сворачивала, стояли, тесно столпившись, бойцы. В этом месте деревья расступились, образовав что-то похожее на небольшую полянку, с одной стороны которой была продолговатая яма, наполненная жидкой грязью, а с другой — нечетко виднелись какие-то кусты. На полянке было светло — прямо над ней висела луна. Где-то в стороне, затихая, слышался хруст ломавшихся веток, крики, выстрелы. «Не уйдут», — подумал Андрей.
— Что случилось, ребята? — спросил Овсянин.
Бойцы посторонились, и Андрей увидел Сарыкина и Петьку, распластанных на земле. Захотелось кричать, но из груди вырвался только хрип. С несвойственной грузному телу легкостью Овсянин упал на одно колено, приложился ухом к груди Сарыкина.
— Убитые они, товарищ лейтенант, — глухо произнес кто-то.
— Петька! — Семину показалось, что все это происходит во сне.
Овсянин поднялся и, чтоб никто не увидал влагу в его глазах, стал, отвернувшись, стряхивать с колена труху. «Это не сон», — понял Семин и почувствовал, как застучало в голове: «Сарыкин — вместо меня, вместо меня, вместо меня…» Он вспомнил, с каким нетерпением ждал демобилизации дядя Игнат, представил его дочерей и сына, перевел взгляд на Петьку и разрыдался.
— Успокойся, будь мужчиной, — сказал Овсянин и положил руку ему на плечо.
Не переставая плакать, Андрей подумал, что он обязательно вернется домой, к матери, а в Петькин дом и в дом Сарыкина придут похоронки, которых теперь никто не ждет, но которые все приходят и, возможно, еще будут приходить…
ОГНЕННАЯ ДУБИСА
1
Ефрейтор Алексей Рыбин, наводчик «сорокапятки», воевал с осени сорок первого года. А сейчас на исходе был октябрь 1944 года — до конца месяца осталось пять дней, войскам было приказано перейти на зимнюю форму одежды, но, как это порой случалось на войне, из-за нерасторопности старшин еще не все бойцы и младшие командиры успели сменить пилотки и фуражки на шапки-ушанки, не все получили теплые портянки и прочее, что полагалось фронтовикам в зимних условиях.
Моросил скучный, надоедливый дождь. Небо было задернуто облаками. Они висели низко-низко. Казалось, еще немного, и облака зацепятся за макушки деревьев.
Три года назад точно в такой же дождливый день, и тоже двадцать пятого октября, он, Рыбин, тогда еще просто заряжающий, прибыл на фронт, и батарея, в которой он проходил действительную военную службу, через несколько часов вступила в бой. Они пытались остановить фашистские танки, но маленькие, похожие на игрушечные, снаряды лишь чиркали по броне, а в гусеницы попасть никак не удавалось.
Тот бой Рыбин запомнил, как запоминал все необычное, что происходило с ним. В памяти остались мрачные громадины, ползущие на их позицию, истошный вопль командира пушки, испуганные лица ребят. Танк подмял под себя орудие, прогромыхал совсем близко: на спину обрушилась мокрая земля, в нос шибануло удушливым смрадом синтетического бензина, лицо опалил жар. Рыбин упал, а когда поднялся, танки были уже далеко. Вместе с оставшимися в живых бойцами он добрался до своих, полтора месяца воевал в пехоте, потом снова стал артиллеристом.
«Всего три года прошло, ё-мое, а кажется — жизнь», — подумал Рыбин. Он шагал вслед за «сорокапяткой», выбирая места посуше.
Несмотря на то что Рыбин воевал уже три года, у него до сих пор не было ни одной правительственной награды, хотя его представляли к медалям и даже орденам. Но каждый раз что-то случалось: то убивали офицера, пообещавшего медаль, то бесследно исчезал наградной лист, то вражеские снаряды накрывали штаб и от канцелярии оставались лишь развороченные бревна да куча пепла. Рыбин не считал бы себя обойденным, если бы воевал хуже других. Но он воевал — дай бог всякому так воевать: благодаря его смелости и находчивости артиллеристы подбили два бронетранспортера, уничтожили взвод вражеской пехоты. Под Каунасом видавшая виды «сорокапятка» остановила фашистский танк — снаряд сбил с него гусеницу, — и командир артдивизиона представил тогда Рыбина к ордену Отечественной войны первой степени — эта награда нравилась ефрейтору больше других.
Через месяц, когда стали вручать ордена и медали, Рыбин снова ничего не получил, и, наливаясь холодным гневом, он подумал в тот день, что ему подложил свинью младший лейтенант Кущ, въедливый украинец лет сорока, командир огневого взвода. Он относился к Рыбину с явным неодобрением: случалось, ефрейтор ходил в самоволки, вступал в пререкания. Младший лейтенант давно бы избавился от Рыбина, если бы тот не был отличным наводчиком. Командиры других взводов артдивизиона зарились на ефрейтора, предлагали взамен любого наводчика — на выбор, но Кущ не соглашался — понимал, что такого наводчика ему не найти. Поэтому он многое прощал Рыбину, хотя и наказывал его.
Когда ефрейтор нарушал дисциплину, Кущ начинал отчитывать его, обводя немигающим взглядом переминавшихся с ноги на ногу бойцов. «Завел волынку, — каждый раз думал Рыбин. — Зудит и зудит. Лучше бы обругал». Но Кущ никогда не ругался — он просто отчитывал, и это выводило Рыбина из себя.
Командир огневого взвода был маленького роста, щеголеватый, опрятный: ремень застегивал на последнюю дырочку, часто менял воротнички, каждый день брился и смачивал свои жиденькие и, видимо, очень мягкие волосы трофейным одеколоном. Поэтому от младшего лейтенанта пахло парикмахерской. Это почему-то бесило Рыбина — наверное, потому, что напоминало прежнюю, довоенную жизнь, когда он сам брился только в парикмахерских и даже просил делать ему массаж лица.
Довоенную жизнь Рыбин вспоминал часто, чаще, чем другие, — он устал воевать. На его теле было немало шрамов от легких ранений, и сейчас, шагая вслед за пушкой под мелким, моросящим дождем, который не прекращался вот уже четвертый день, Рыбин думал о том, что фортуна, наверное, не всегда будет улыбаться ему, что придет час, и его, тяжело раненного, увезут в тыл, в госпиталь.
Дорога разбухла. Грязь налипала на сапоги, на колеса пушки. Ее приходилось все время подталкивать. Солдаты ругались, проклинали такую жизнь. И обрадовались, когда на дороге образовался затор, — можно было передохнуть.
Шинель потемнела от влаги, стала тяжелой. Рыбин вдруг как-то сразу ощутил эту тяжесть и разозлился. Хотел сорвать зло на Фомине, самом безответном солдате, но тут увидел сандружинницу с закинутой на спину плащ-накидкой и сразу повеселел.
Рыбин был парень хоть куда — стройный, белолицый, с зеленоватыми насмешливыми глазами, с наискось подрезанной челочкой, ее светлый кончик торчал из-под шапки. Про таких говорят: первый парень на деревне. Девушки и молодые женщины на него засматривались. Три месяца назад в армейском госпитале он отпустил усики — две аккуратные кисточки с рыжиной на концах. Никто в артдивизионе не носил усов. По этой причине Рыбин гордился своими усиками, ухаживал за ними — в свободное время подравнивал маленькими ножницами. Их подарила ему молоденькая медсестра, с которой у Рыбина был в госпитале роман. Медсестра утверждала, что с усиками он неотразим.
Вспомнив это, Рыбин послюнявил палец, провел им по усикам и смело направился к сандружиннице. Подойдя, сказал:
— Здравствуй, симпапушечка!
Он произнес первое, что пришло в голову, и тотчас подумал: «Ё-мое, глупость сморозил!»
Сандружинница даже не обернулась — продолжала смотреть на дорогу, где лежал, кося налившимся кровью глазом, обессилевший битюг. Около него толпились ездовые, вытирая шапками и пилотками мокрые обветренные лица.
Рыбин заслонил девушке дорогу.
— Чего встал? — недружелюбно спросила сандружинница.
— На меня посмотри! — воскликнул Рыбин. — А там ничего интересного.
Сандружинница с любопытством взглянула на него, и Рыбин решил, что теперь дело на мази, что он обязательно вобьет колышек в сердечко этой девчонки. Собрался было рассмешить сандружинницу, но не успел: к ним подошел молоденький солдат — один из тех, колонны которых за последние дни все чаще и чаще встречались на фронтовых дорогах. Солдаты в тех колоннах были в новеньких шинелях, с новенькими подсумками. Они с опасливым любопытством поглядывали на сгоревшие автомашины, искореженные пушки с поникшими стволами и другую военную технику, превращенную войной в металлолом и теперь бесполезно лежавшую на обочинах. Когда вдали возникал гул канонады, их глаза округлялись. Пошептавшись друг с другом, они устремляли взгляды на хмурых, чем-то озабоченных старшин, шагавших сбоку и время от времени покрикивающих: «Шире шаг!»
Рыбин уже давно понял, что это пополнение, еще не нюхавшее пороха.
Он посмотрел на молоденького солдата с усмешкой, как смотрел на всех парней, кто собирался соперничать с ним. Но тот не обратил на Рыбина никакого внимания, а уставился на сандружинницу, словно перед ним была не самая обыкновенная девушка в армейской шинели, а Любовь Орлова.
Сандружинница перевела взгляд на солдата, и Рыбин понял, что у него ничего не получится.
2
Рыбин относился к женщинам с той снисходительностью, которая чаще всего распаляет женские сердца, вызывает желание понравиться. Он любил смотреть на женщин, особенно на красивых; ему нравились их жесты, взгляды, иногда лукавые, иногда настороженные; он чувствовал себя с женщинами легко, непринужденно.
«Подумаешь: пришел, увидел, победил, — усмехнулся Рыбин. — А говорят, любви с первого взгляда не бывает». То, что сандружинница предпочла другого, укололо Рыбина, и он с ехидцей сказал солдату:
— Эй, малый, гляделки поломаешь!
— Не приставай к человеку, — заступилась за того сандружинница.
«Зубастая!» — Рыбин подмигнул девушке.
Солдат взглянул на ефрейтора, спокойно сказал:
— Видал я таких, как ты.
— Да?
Рыбин хотел было рассердиться по-настоящему, но не смог — молоденький солдат вызывал уважение. Рыбин ценил людей самостоятельных, острых на язык, презирал тех, кто пасовал перед ним.
Бывший детдомовец, Алексей Рыбин рано узнал, что такое несправедливость. Впервые он столкнулся с этим еще в детдоме, где верховодила директорша, наглая, грубая женщина неопределенного возраста, неизвестно как попавшая на эту должность. Она жила припеваючи, тащила к себе в дом все, что могла: ковровые дорожки, светильники, постельное белье. О продуктах и говорить нечего. Директорша откармливала свиней — огромных, заплывших жиром. Свиньи много жрали, одних объедков им не хватало, и поэтому дети получали по утрам разбавленное молоко, а на обед котлеты наполовину из хлеба.
Рыбин и его друзья недоедали, и он подбил их залезть в кладовку. Ребята стащили брусок сыра, несколько колец колбасы, печенье и много-много конфет. Вечером у них разболелись животы. Директорша все поняла, позвала ребят в свой кабинет, закрыла дверь и стала хлестать одного из них по щекам, приговаривая:
— Не воруй!.. Не воруй!.. Не воруй!..
Рыбин ударить себя не позволил. Когда жирная и потная рука приблизилась к его лицу, он раскрыл рот и…
— Ай! — взвизгнула директорша и побежала смазывать палец йодом.
Рыбина отвели в чулан и заперли. Он повозился на холодном полу и заснул. Чуть свет его разбудила директорша, привела в свой кабинет, сытно накормила, велела надеть все новое: и рубашку, и штаны, и даже сандалии. «Подлизывается», — решил Рыбин. Потом директорша стала учить его, что отвечать дядям и тетям, которые вот-вот должны приехать из города. Рыбин ничего не сказал директорше, но и не нажаловался на нее, когда очутился с глазу на глаз с членами комиссии — время от времени они наведывались в детский дом.
Директоршу отдали под суд, заплывших жиром свиней отправили в совхоз. Дети стали получать на завтрак настоящее молоко, а на обед наваристый борщ и сочные котлеты.
После этого в жизни Рыбина, как и в жизни каждого человека, было разное: и хорошее, и плохое, но самый неприятный осадок оставил случай, который произошел в общежитии сельскохозяйственного техникума. В этот техникум Рыбин поступил, выйдя из детдома. Жил он тогда на стипендию, перебивался, как говорится, с хлеба на квас. Как-то в общежитии пропали деньги. Один из парней сказал, что их, наверное, украл Рыбин, потому что он бывший детдомовец.
— Паразит! — крикнул Рыбин, бросился на парня и так ударил его, что пришлось вызывать «неотложку».
Из техникума Рыбина исключили, несмотря на то что настоящего вора нашли. Алексей тяжело перенес это: в сельскохозяйственный техникум он поступил, решив стать агрономом — хотел жить и работать в деревне. Детдом, в котором он воспитывался, находился на окраине большого села. Сразу за оградой начиналось поле, усыпанное ромашками, за ним темнел лес, наполненный птичьим разноголосьем. В лесу Рыбин проводил все свободное время. Ему нравилось бродить по прелым, источенным гнилью листьям, нравилось наблюдать за поведением птиц; он мог часами смотреть на муравьев, деловито снующих туда-сюда. В лесу его все волновало, и он радовался, что никто не видит этого. Ребята собирались стать моряками, летчиками, инженерами, а Рыбина это не привлекало. В его душе смутно копошилось что-то, пробуждалось и потом исчезало. Он составлял самые лучшие гербарии. Учительница ботаники хвалила его и очень огорчалась, когда он получал по ее предмету плохую отметку.
С той поры прошло много-много лет, но Рыбин часто вспоминал поле за детдомом, тот лес, учительницу ботаники… Он не мог без волнения смотреть на петлявшие среди лугов речки, на овраги с крутыми склонами, на тенистые рощи.
Молоденький солдат был среднего роста, большие глаза с длинными ресницами излучали такую синеву, что хотелось зажмуриться; над губой пробивался пушок.
— Давно воюешь? — спросил Рыбин. Ему было интересно, что ответит солдат.
Тот помолчал, словно хотел убедиться в искренности ефрейтора, и ответил с легкой запинкой:
— Только сегодня прибыл. — И почему-то смутился.
«Хотел соврать, да совесть не позволила», — решил Рыбин. И подобрел еще больше.
— Откуда ты родом, парень?
Солдат насторожился — он все еще не доверял ефрейтору, ждал подвоха.
— Зачем тебе это?
— Просто так интересуюсь.
Солдат успокоился.
— Из Москвы я.
— Да ну?!
— Честное слово! В Сиротском живу.
— А это что такое?
— Переулок.
Рыбин вспомнил детдом, директоршу и нахмурился.
— Нехорошее название.
— Нехорошее, — согласился солдат. И пояснил: — До революции там приют находился.
— А ты откуда знаешь?
— Мать рассказывала.
— Понятно. В каком же месте Москвы находится этот переулок?
— А ты бывал в столице?
— Приходилось.
Рыбин был в Москве два раза и оба раза проездом. В первый раз он побывал на Красной площади, сходил в Мавзолей; во второй раз познакомился в кинотеатре «Ударник» с веселой москвичкой и несколько дней встречался с ней. Лицо и имя этой девушки стерлись в памяти. Рыбин помнил только, что, огорчившись, она щелкала пальцами.
— Про Шаболовку слышал? — спросил солдат.
— Нет.
— А про Донскую?
Та девушка жила в переулке неподалеку от Донской, и Рыбин, почему-то обрадовавшись, воскликнул:
— Даже гулял по этой улице!
Солдат улыбнулся.
— Шаболовка и Донская от Сиротского — пять минут ходьбы.
— Ё-мое, — произнес Рыбин вслух свое любимое словечко. И подумал, что в Москве он, возможно, встречался с этим симпатичным парнем, которому в ту пору было лет пятнадцать, не больше.
Наслаждаясь коротким отдыхом, солдаты курили, жадно затягиваясь, обжигая пожелтевшие пальцы слипшимися окурками; простуженно кашляли, чертыхались: махорка была крепкой, вышибала слезу. До Рыбина доносились встревоженные голоса, выкрики — впереди была пробка. Солдаты помоложе побрели поглазеть, а «старички», в основном ездовые, поправляли упряжь, похлопывали коней, что-то говорили им.
— Давай познакомимся, парень, как положено, — предложил Рыбин и, назвав себя, протянул руку.
— Егор, — представился солдат. Он произнес свое имя баском, стараясь выглядеть солиднее.
Рыбин понял это, усмехнулся про себя.
— А фамилия твоя как?
— Кравчик.
— Хохол? — Рыбин вспомнил младшего лейтенанта и нахмурился.
— Русский я, — сказал Кравчик.
— Русский? — усомнился Рыбин. — Отчего же фамилия такая?
Егор объяснил:
— Моя прабабушка на украинце женилась.
— Замуж вышла, — поправила сандружинница. — Это про мужчин говорят — женился.
Егор взглянул на девушку, которая давно могла бы уйти, но почему-то не уходила, и покраснел. Рыбину сразу стало весело.
— А теперь, голубки, я вас познакомлю!
Сандружинница протестующе вскинула голову. Лоб у нее был чистый, глаза выразительные, на щеках проступал румянец: он то густел, то становился едва заметным. Зимняя шапка лишь прикрывала косу, скрученную на затылке в большой рыхлый узел.
Продолжая улыбаться, Рыбин пояснил:
— Сами вы не познакомитесь — смелости не хватит. А это дело житейское, понятное всем… Подавайте-ка друг другу руки!
Егор назвал себя и мучительно покраснел.
— Надя, — сказала девушка и тоже покраснела.
— Значит, Надежда? — переспросил Рыбин. — Хорошее имя. Со смыслом! На войне для солдата главное — надежду иметь. И коль его девушку так зовут… — Рыбин помолчал, выбирая слово покрасивее, но не нашел такого и закончил: — …замечательно!
Он стал вспоминать, были ли у него знакомые Нади. Девушки с таким именем вроде бы ему не встречались, и Рыбин огорчился: слово «надежда» вдруг приобрело для него особый смысл.
— У меня тут подруга есть, — неожиданно сказала девушка. — Тоже Надя и тоже сандружинница. Между прочим, москвичка. Ее так и называют у нас — Надя-москвичка. Могу познакомить, если встретиться придется.
— Не надо, — отказался Рыбин. — Я с девушками сам знакомлюсь.
На вырубке, там, где дорога сворачивала в лес, появился Кущ. Сложив руки рупором, позвал Рыбина.
— Черт! — выругался ефрейтор.
— Ты чего? — удивился Егор.
— Покоя от него нет. — Рыбин кивнул на младшего лейтенанта.
Дождь все моросил и моросил. Он был похож на манную крупу — такой же мелкий. Все вокруг: деревья с остатками листьев, мохнатые ели, видневшийся на пригорке и, видимо, покинутый жителями хутор — имело унылый, обреченный вид. Колонна шевелилась, напоминала огромную гусеницу. Хлопали кнуты, из лошадиных ноздрей вырывался пар; кони хрипели, увязали в липкой грязи. Рыбин только сейчас заметил, что колонна двинулась. Сказал:
— Теперь до самого конца без отдыха будем топать.
— Почему? — поинтересовался Егор.
— Передовая близко.
— Близко?
— Километра четыре осталось, — подтвердила Надя.
Ей хотелось узнать, где, в какой части будет воевать Егор, но она стеснялась Рыбина.
— Прощайте, голубки! — сказал он. — Может быть, встретимся, а может, и нет. — По-доброму улыбнувшись, посоветовал Наде и Егору обменяться адресами. Добавил: — Письма на войне — великое дело.
Сказав это, Рыбин незаметно для других вздохнул: сам он никому не писал и ни от кого не получал писем.
— Я бы с радостью дал адрес, — неуверенно произнес Егор. — Только нам еще не объявили его.
— Объявят, — обнадежил Рыбин.
Надя загрустила: Егор ей понравился. А почему понравился — объяснить не могла. Да она и не спрашивала себя почему. В восемнадцать лет редко задают такие вопросы. Просто понравился — и все.
3
Колонна двигалась к реке Дубисе, на левом берегу которой закрепились немцы. Ни Рыбин, ни Егор, ни Надя еще не знали и не могли знать, какая роль будет отведена им в предстоящем наступлении.
Рыбин шел молча, меся сапогами грязь, поглядывал на обросшего рыжеватой щетиной Фомина — тот крутил вожжами и время от времени покрикивал:
— Но-но-но, милыя! Веселей шагай!
Ездовой был такого же роста, как Кущ, и такой же щуплый. Остриженные машинкой волосы заметно подросли, стояли торчком, напоминая щетину в щетке. Фомин часто снимал шапку, вытирал подкладкой мокрое лицо.
«Коням тоже нужен отдых, — подумал Рыбин, взглянув на измученных лошадей. — А то ахово будет». Ефрейтор боялся, что их бросят в бой прямо с марша — такое уже было полтора года назад. В памяти остался подлесок, через который напрямик, ломая кусты, неслась «сорокапятка», обезумевшие кони, Фомин в расстегнутой телогрейке и почему-то без каски. Чуть в стороне шлепались мины, поднимая в воздух тучи прошлогодней листвы. Еще дальше захлебывались пулеметы, и Рыбин никак не мог определить по звуку, чьи они — наши или немецкие. Земля была сухой, у пней пробивалась молодая травка — это тоже осело в памяти. Деревья вздрагивали, как испуганные, когда неподалеку шлепалась мина, воздушная волна пригибала тонкие березки. «Сорокапятка» подпрыгивала на кочках, цеплялась за кусты, Фомин нахлестывал и нахлестывал коней. Рыбин весь исцарапался, разбил нос, но боли не чувствовал. Он ругался, подгоняя Фомина, ему казалось: ездовой не очень-то торопится, бережет коней. Они выскочили на лужайку, залитую лучами заходящего солнца. Слева, справа и впереди были немцы. Рыбин не мог вспомнить, как развернули пушку, не помнил, успели ли вкопать сошники, он стал соображать только тогда, когда ощутил глазом нагретый солнцем окуляр прицела…
За три года Рыбин участвовал во многих сражениях, больших и маленьких, и он стал вспоминать другой бой, когда они отмахали под палящим солнцем, не останавливаясь на отдых, километров пятьдесят. (В то время они воевали на юге: сюда, в Прибалтику, их перебросили полгода назад.) Во фляжках тогда не осталось ни капли воды, в горле пересохло, запекшиеся губы вспухли, как нарывы, по лицам катился пот, нательные рубахи липли к телу, густая, пахнувшая жженым пыль забивала нос. Все: бойцы, командиры, кони — нуждались в отдыхе и страдали от жажды, но на пути не попадалось ничего: ни ручейка, ни родника, ни даже затянутого плесенью пруда, которые так часто встречаются в средней полосе России. Дорога петляла по степи, раскрашенной белыми пятнами солончаков; изредка попадались одиноко стоящие деревья, и было непонятно, что дает им жизнь в этой, казалось, забытой богом степи. Рыбин подумал тогда, что глубоко под землей, должно быть, залегают грунтовые воды, питающие корни деревьев. Они спешили, понукая коней, подбадривая друг друга, и позабыли о жажде и усталости, когда впереди возникла, как мираж, темная полоска подлеска и послышался все нарастающий гул боя.
— Поднажми! — крикнул Кущ, тоже измученный, почерневший от солнца и пыли, но подтянутый, как всегда, застегнутый на все пуговицы.
В лесу было попрохладней, где-то журчал ручей, в тени деревьев лежали забинтованные раненые; пригнувшись, придерживая одной рукой подсумки, пробегали бойцы с автоматами и винтовками; повсюду валялись пустые ящики из-под патронов и было много убитых, наших и немцев. Рыбин заметил, с какой радостью, надеждой, удивлением встретили сорокапятчиков, и крикнул Фомину:
— Вперед, старый!!
…Переваливаясь с боку на бок, буксуя, стреляя выхлопными газами, показался «виллис». Рядом с шофером восседал дородный офицер в плащ-накидке.
— Начальство прикатило, — сказал Рыбин. — Сейчас установочку дадут.
— Майор это, — подал голос Фомин. — Поперечный их фамилие.
— Знаешь его?
— А как же! Возил я их на бричке. Ведь я, Лексей, тоже с сорок первого воюю. Как забрали меня, к этому майору определили — оне тогда капитаном были. Две недели я с ними ездил, пока не поранило. В позапрошлом месяце встретил их, когда за снарядами ездил, доложился, как положено, но оне меня не признали.
— Чего так?
— Должно, память у них слабая. — Фомин помолчал и добавил убежденно: — На автомобиле, конечно, пофорсистее, но только конь надежней!
Рыбин усмехнулся:
— Пока стояли, сдох один.
— Плохо смотрел! — воскликнул Фомин. — Подняли мы того конягу. Наш взводный товарищ Кущ маленько пошумел — и подняли. Вона идет распряженный.
Рыбин взглянул на выпачканного дорожной грязью коня и сказал:
— Едва ноги переставляет. Если лошадям отдыха не дать, копыта отбросят.
— Обыкновенно, — согласился Фомин. — Третий день идем и все при такой погоде. Хоть бы этот дождь враз высадил, а там, глядишь, изменение в природе произойдет.
Чувствовалось, Фомину хочется поговорить. Рыбин не перебивал его, украдкой поглядывал туда, где стоял «виллис». Придерживая рукой распухшую от бумаг полевую сумку, к машине устремился Кущ. Его ноги утопали в густой грязи, он выдергивал их с трудом, словно вбитые в стену гвозди. Поперечный встретил младшего лейтенанта недовольным взглядом, стал громко выговаривать ему. «Так тебе и надо!» — зло подумал Рыбин.
Майор вынул карту, начал водить по ней пальцем. Рыбин навострил уши, но ничего не услышал. Переключил внимание на Фомина — тот стоял с озабоченным видом.
— О чем задумался, старый? — весело спросил Рыбин.
Фомин переложил кнут из руки в руку.
— Семью вспомнил.
Рыбин подумал, что ничего не знает про Фомина, хотя воюет с ним давно.
— Большая у тебя семья-то?
— Восемь детей, и все, как на грех, девки.
— Ну? — Рыбин оживился.
— Обыкновенно, — подтвердил Фомин. — Всю жизнь сына хотел, а нарождались девки. Жене наказывал, чтоб сына родила, а она в ответ: ха-ха-ха!
— А ты?
— Серчал.
— Сердился? — уточнил Рыбин.
— Серчал, — упрямо повторил Фомин.
Рыбин подумал и спросил:
— Бил, что ли?
— Маленько, — признался Фомин. И добавил: — Вскоре она верх брать стала.
Рыбин не поверил.
— Вот те крест, Лексей! — сказал Фомин. — Жена у меня здоровенная баба — не обхватишь. В девках обыкновенной была, а как поженились, жир копить стала.
— Выходит, семейная жизнь ей на пользу.
— Это так, — согласился Фомин.
…Колонна двигалась лесом. Он был густой, казался нехоженым. Попадались поваленные деревья, мокрый валежник. Елки с грязными нижними ветвями и кусты то прижимались к дороге, то отступали, образуя небольшие лужайки, поросшие жесткой, похожей на проволоку травой. Иногда вместо лужаек появлялись болотца. Тогда дорогу покрывала вода. Солдаты нащупывали дно шестами — срубленными и очищенными от сучьев молодыми деревцами. Они вздрагивали, когда в них вонзались топоры; сморщенные от ночных заморозков листья отрывались, с ветвей обрушивалась вода, напоминая короткий ливень; солдаты отступали на шаг, отряхивались и снова вонзали топоры в тонкие, податливые стволы. Деревца дрожали, как в лихорадке, клонились к земле, потом падали с глухим треском, обнажая расщепленное розоватое нутро; лежа на дороге, пружинили на ветвях, будто бились в предсмертной судороге, и наконец замирали. И, видя это, Рыбин морщился, словно сам испытывал то, что должны были испытывать деревья. Он не думал сейчас о том, что точно так же рубили деревья и в мирное время. Он все сваливал на войну и мысленно ругал фашистов за то, что по их вине гибнут не только люди, но и деревья.
Перебираясь через лужи, солдаты по-бабьи подбирали полы шинелей, двигались медленно, нащупывали подошвами дно, старались, чтобы вода не попала за голенища. А те, кто был в обмотках, храбро шлепали по воде — на их портянках уже давно не было сухой нитки.
— Беда, Лексей, когда в доме одни девки, — опять заговорил Фомин. — Замуж им надо, а в нашей деревне из молодых один Федька, да и тот…
— Зашибает? — спросил Рыбин.
— Кабы это… Хворый он…
Рыбин пожалел про себя незнакомого ему Федьку и спросил:
— Значит, плохо насчет парней в вашей деревне?
— Хуже некуда, — откликнулся Фомин.
Рыбин усмехнулся.
— Меня бы, ё-мое, туда.
Фомин помотал головой.
— Пусти козла в огород! После тебя, Лексей, детские ясли открывать придется.
— А как же! — Рыбин подмигнул Фомину, а сам подумал, что он в той деревне никому не причинил бы вреда, просто выбрал бы себе хорошую девушку и зажил с ней душа в душу: он давно страдал от душевного одиночества, но не признавался в этом даже себе.
— На парней сейчас спрос, — сказал он, отрешившись от своих дум. — В госпитале лежал — насмотрелся. Какую хочешь выбирай, на любой, как говорится, вкус и цвет. — Снова подмигнул Фомину и добавил: — Это мне нравится!
— Тебе — да, — уныло согласился ездовой. — А у меня сердце кровью обливается. Старшенькой двадцать пятый годок пошел, а она все еще дома. Сестрам тоже срок наступил, а там и другие доспеют. Самая младшенькая отписывает: мать и сестры целый день то в поле, то на ферме. Она одна управляется — и в школу надо, и по дому.
— Трудно ей, — посочувствовал Рыбин.
— Трудно, Лексей! Ох как трудно! И не только ей — всем! Хоть та дочка и любимица моя, отцовское сердце за каждую болит. Ты, примечаю, крестьянскую жизнь понимаешь. Когда на ночевки в деревнях становимся, глаза твои жалостливыми делаются.
Рыбин смутился, словно Фомин уличил его в чем-то нехорошем. Проворчал:
— Кончай ныть, старый. Вон Кущ пыхтит — сейчас расскажет, зачем майор приезжал.
Подошел младший лейтенант. Он объяснил, что их взвод поступает в распоряжение командира стрелковой роты старшего лейтенанта Вьюгина. Рыбин воспринял это сообщение равнодушно — для него не имело значения, где и с кем он будет воевать. Он только подумал, что их «сорокапятки» (в артдивизионе было всего две таких пушки) не пробивают броню фашистских танков, что они устарели и их давно пора сменить на более современные противотанковые орудия. Увидел вмятины на щитке «сорокапятки», заплаты на шинах и сказал сам себе, чувствуя, как у него теплеет в груди, что его старушка славно повоевала и довоюет, если, конечно, посчастливится, до самого конца войны.
Рыбин уже давно не обращал внимания на дождь. Ему казалось: этот дождь идет вечно, никогда не кончится, на небе никогда не появится солнце, будет только дождь, дождь, дождь и унылая, наводящая скуку дорога. Он старался ни о чем не думать, но мысли все время возвращались к Наде и Егору. Это удивляло: на его жизненном пути и раньше встречались люди, похожие на Надю и Егора. Они интересовали Рыбина, пока были рядом. Потом лица этих людей, их голоса, жесты тускнели в памяти. А сейчас ему почему-то захотелось, чтобы Надя и Егор встретились еще раз.
Временами дорога забирала вверх, и тогда на лесных опушках виднелись хутора — два-три строения под соломенными крышами, реже под дранкой. Оттуда тянуло парным молоком. Запах парного молока напоминал Рыбину то, что оставило в его душе светлый, радостный след. Перед глазами возникла деревня, в которой он был на производственной практике, когда учился в техникуме. Деревня стояла на высоком берегу реки, тихой и спокойной, наполовину заросшей камышом и кувшинками. Дно реки было вязким, илистым, вода попахивала болотом, но, несмотря на это, Рыбин каждое утро купался — входил, обхватив руками плечи, в студеную, вызывавшую озноб и легкое посинение кожи воду, окунался несколько раз, заткнув нос, закрыв глаза, и, стуча зубами, выскакивал на берег, снимая на ходу прилепившиеся к телу водоросли, противные, расползавшиеся в руках. Там, на берегу реки, он и познакомился с Марусей, симпатичной семнадцатилетней девушкой. Маруся работала дояркой, от нее всегда пахло парным молоком, и теперь этот запах напомнил Рыбину все то, что испытывал он, когда любил эту девушку и она любила его. Та любовь была их первой любовью, самой нежной, самой искренней и самой мучительной, которую никогда не забудешь. Тогда каждый взгляд Маруси, каждая улыбка вызывали трепет; тогда все было внове; тогда он страдал и мучился, как никогда не мучился и не страдал после; тогда в нем говорили только чувства, а разум молчал, разум ничего не взвешивал, ничего не сопоставлял; он, Рыбин, был весь порыв, и она понимала это и платила тем же, только боялась зайти слишком далеко; и он, догадываясь об этом, не стремился к запретному, к чему стремился сейчас. Испытать бы снова все то, что испытал в неполных восемнадцать лет, изведать радость первого поцелуя, подарить первую несмелую ласку и в ответ получить еще более несмелую — ту, от которой потемнеет в глазах, и ты поймешь тогда, что любим, и от сознания этого тебе захочется петь, смеяться, броситься очертя голову туда, куда прикажет она. Неужели ушло это навсегда? Неужели неповторима радость первой любви, неповторимы открытия, сделанные тобой в то далекое время?
Рыбину мучительно захотелось снова полюбить так, как он любил Марусю. Подсознательно он продолжал любить ее все эти годы, хотя думал, что Маруся уже замужем и, конечно, счастлива.
С наступлением темноты все отчетливей стали звучать приглушенные голоса, вздохи, скрип повозок. Рыбин решил закурить, но в этот момент прозвучало:
— Прекратить курение!
«Значит, ё-мое, скоро», — догадался Рыбин.
4
Командир стрелковой роты старший лейтенант Вьюгин ожидал майора Поперечного, с которым раньше служил в штабе дивизии. Прослужили они вместе недолго — майора перевели в штаб корпуса. Приезд Поперечного мог быть обыкновенной инспекцией, но Вьюгин решил: это неспроста.
Сын учительницы и инженера, Игорь Вьюгин получил хорошее воспитание: любил книги, неплохо разбирался в музыке. С детства он мечтал стать красным командиром — этого хотел его дед, в прошлом офицер царской армии. Во время гражданской войны дед некоторое время служил у белых.
— Значит, ты в наших стрелял? — спрашивал Вьюгин-младший.
Дед откладывал потрепанную книгу, снимал очки в металлической оправе.
— А кого ты понимаешь под словом «наши»?
— Конечно, красных!
— Приходилось… — признавался дед.
— Может, ты и карателем был? — возмущался Вьюгин-младший.
— Нет, — спокойно отвечал дед, — в карательных отрядах я не служил.
Вьюгин-младший не мог примириться с тем, что его родной дед был белым. Утешало лишь то, что задолго до окончания гражданской войны дед осознал свою ошибку, перешел на сторону красных, стал военспецом, принес немало пользы. Это подтверждал боевой орден, полученный дедом. Старый солдат носил его на лацкане полувоенной тужурки с накладными карманами.
— Сам Фрунзе вручил, — с гордостью сообщал дед и дотрагивался до ордена, словно хотел убедиться, на месте ли он.
Дед и внук часто спорили о гражданской войне, которую воспринимали по-разному. Вьюгин-младший судил о ней по рассказам учителей и пионервожатых, дед с болью вспоминал то время, когда вчерашние друзья становились врагами, брат убивал брата. Но, несмотря на это, дед и внук отлично ладили. Вьюгин-младший любил слушать деда. Тот рассказывал ему о героизме русских солдат, о Пржевальском, Козлове и других офицерах, снискавших славу России. Что такое мужество, отвага, честь, Вьюгин-младший усвоил еще в детстве. И теперь это определило его отношение к людям, к самому себе.
Боевое крещение и свой первый орден Вьюгин получил под Сталинградом. В заснеженной степи погиб почти весь взвод, которым командовал он, в ту пору младший лейтенант. Гибель солдат, таких же молодых, как он, оставила в душе Вьюгина рану. Он часто вспоминал этих парней. После госпиталя его, как способного и толкового офицера, направили в штаб дивизии. Служба в штабе показалась ему безопасной и поэтому унизительной, и он добился возвращения на передовую.
Вьюгин принял роту полтора месяца назад. Во время летнего наступления она заметно поредела, нуждалась в пополнении. Еще днем Вьюгину сообщили, что ему направляют пятнадцать человек. Этого было мало, и теперь старший лейтенант с нетерпением ждал майора Поперечного, чтобы пожаловаться. И еще он ждал сандружинницу Надю, которую зачем-то вызвали в медсанбат.
Вьюгину нравилось в этой девушке все: ее неброская красота, застенчивость, которую так часто утрачивают женщины, очутившиеся среди сотен мужчин, огрубевших на войне, познавших горечь утрат, живущих только одним днем, даже не днем — часом, ибо утром не угадать, что ждет солдата вечером, какая пуля — его. Вьюгин видел: Надя скромна, приветлива. Она жадно слушала его рассказы, и это восхищало Вьюгина.
Старший лейтенант тоже нравился Наде, но… Мать, строгая и сварливая женщина, полностью подчинившая себе мужа, в молодости весельчака и балагура, а теперь скромного товароведа, боявшегося жены как огня, часто предупреждала: «Смотри, Надька, принесешь в подоле — в тот же день выгоню!»
Мать вдалбливала, что все мужчины подлецы, что все они только одного хотят, что если у парня намерения честные, то нечего таскаться по кино и паркам, лучше прийти в дом и посвататься как полагается, а потом хоть куда — и в кино, и в парки. Она осуждала свою племянницу, имевшую внебрачного ребенка, называла ее нехорошим словом и добавляла: «Теперь по рукам пойдет».
Надя про себя возмущалась, но помалкивала, потому что тоже, как и отец, боялась матери.
Иногда по вечерам в их дом приходили сослуживцы отца — невзрачные, малоинтересные, как казалось Наде, люди. Щелкая костяшками домино по накрытому протершейся клеенкой столу, они тихо переговаривались, шумно сморкались, исподволь поглядывая на дверь кухни, где гремела кастрюлями мать: мужчины гадали, каждый про себя, выставит ли она угощение или даже чайком не удастся побаловаться? Если мать приносила запечатанную красным сургучом бутылку, мужчины оживлялись, сгребали в одну кучу фишки, торопливо укладывали их в деревянную коробку; потом, дождавшись закуски, бережно разливали водку в маленькие рюмки и, растягивая удовольствие, засиживались до глубокой ночи. Если же мать даже чаю не предлагала, то мужчины, сыграв два-три кона, расходились. После их ухода отец начинал метаться по комнатам, шаркая шлепанцами до тех пор, пока мать не прикрикивала на него. Пробормотав что-то, отец удалялся в спальню. Через несколько секунд раздавался скрип пружин и тяжкий вздох. Надя жалела отца, однажды попыталась заступиться за него, но мать так цыкнула на дочь, что пропала всякая охота вмешиваться.
Тяжелые бархатные портьеры на дверях пахли пылью, на подоконниках, заслоняя дневной свет, буйно росли цветы в глиняных горшочках и консервных банках. За пузатым комодом, похожим на растолстевшую базарную торговку, скреблись мыши. Наде хотелось в кино или на танцы, хотелось погулять с девчатами и ребятами по улицам их небольшого городка, но мать не пускала. В кино ходили раз в два месяца всей семьей.
Перед самой войной Надя закончила медучилище, стала работать в городской больнице медсестрой. Когда началась война, сразу же ушла в армию. Освободившись от гнета матери, она влюбилась в первого встречного мало-мальски симпатичного парня. Этим парнем оказался разбитной сержант, все повидавший и все испытавший. Сержант хотел только одного и, не теряя времени даром, стал добиваться этого с такой настойчивостью, что Надя испугалась. И тогда она, отбрив настырного сержанта, впервые подумала, что мать, должно быть, права: все мужчины одинаковы.
Так она думала, пока не познакомилась с Вьюгиным. Вначале Надя не обращала на него внимания — старший лейтенант ничем особенным не выделялся среди других солдат и офицеров. Лицо у него было самым обыкновенным. Такие лица не бросаются в глаза. Однажды после непродолжительного разговора с командиром роты Надя с удивлением увидела, какой это культурный, воспитанный человек. С того дня ее потянуло к нему. Она отмечала про себя его сдержанность, знаки внимания, которые он выказывал по отношению к ней. Она догадывалась, что нравится Вьюгину, но никто не делал первого шага к сближению: Вьюгина удерживала от этого шага внутренняя чистоплотность, рыцарское отношение к женщинам, Надя же после истории с разбитным сержантом относилась к мужчинам настороженно. А сейчас, шагая в расположение роты, помимо своей воли Надя все время возвращалась мыслями к Егору, вспоминала его глаза, голос… И чем больше думала о нем, тем острее ощущала свою невольную вину перед Вьюгиным. Вначале это чувство было подсознательным, потом оно окрепло, стало тревожить Надю. И тогда она, испугавшись по-настоящему, решила выбросить Егора из головы, сказала сама себе, что больше никогда не встретится с ним. И тут же подумала: «Мы встретимся. Обязательно встретимся!»
Тропинка, по которой шла Надя, пролегала чуть в стороне от дороги. Надю вызывали в медсанбат часто, она знала каждый поворот этой тропинки, каждый ее изгиб. Раньше она всегда спешила, стремилась поскорее очутиться в расположении роты, а теперь, несмотря на дождь, не торопилась, хотела отдалить тот неизбежный разговор, который должен был, она чувствовала это, состояться с Вьюгиным.
5
Рота Вьюгина занимала рубеж на правом берегу Дубисы. По обе стороны реки высился лес. Деревья вплотную подступали к воде, напоминали великанов, собравшихся перешагнуть реку. В окопах стояла вода. В блиндажах, замаскированных еловыми ветками, пахло плесенью. Насыщенный влагой воздух затруднял дыхание; солдаты хлюпали носами, мечтали обсохнуть, с надеждой поглядывали на небо, задернутое одинаково ровным слоем облаков, похожим на застиранную простыню.
На противоположном берегу были немцы. Обезображенный извилистыми линиями траншей, противотанковыми рвами, надолбами, он смутно виднелся за пеленой дождя. Дубиса — обыкновенная лесная речка, каких в Прибалтике сотни. Там, где она суживалась, крутились водовороты, течение убыстрялось. Но таких мест было немного — Дубиса спокойно несла воды к более полноводному и широкому Нямунасу. Размытая дождем земля стекала в реку, Дубиса побурела, распухла, стала такой широкой, что солдаты присвистывали, поглядывая на нее. Они понимали, что скоро — может, через неделю, а может, и раньше — им придется форсировать эту реку, и заранее прикидывали, как это сделать понадежнее, половчее, попроще. А немцы беспокоились: строчили наугад из пулеметов, по ночам пускали осветительные ракеты — они повисали над рекой, заливая тусклым светом берега.
Блиндаж Вьюгина был просторным, сравнительно сухим — постарались бойцы. Они уважали своего командира — старший лейтенант никогда не повышал голоса, не обижал их. Слева от входа, занавешенного прожженной в нескольких местах плащ-палаткой, стоял самодельный топчан, покрытый суконным одеялом. На стене висела фотография деда — в мундире с эполетами, с крестами и прочими регалиями на груди. Посреди блиндажа дымила железная печь, которую раздобыл неизвестно как и неизвестно где связной Вьюгина, боец Сидоров — услужливый малый с простодушным лицом, на самом же деле бойкий и хитрый, по-деревенски прижимистый.
Вьюгин старался сосредоточиться на предстоящем разговоре с Поперечным, но перед глазами почему-то возникала Надя. Он уже давно в мыслях связывал свою дальнейшую жизнь с этой девушкой, представлял ее женой, спрашивал себя, понравится ли она деду, и отвечал: «Понравится. Должна понравиться!» Ему очень хотелось этого, но полной уверенности, что дед примет Надю, почему-то не было. Это тревожило Вьюгина.
Он давно собирался сказать Наде о своей любви, но все откладывал и решил сделать это сегодня, когда она вернется из медсанбата. Весь день думал только об этом, подгонял время — хотелось поскорее выложить то, что было на сердце.
Услышав шаги, Вьюгин привстал. Но в блиндаж вошел, снимая на ходу мокрую плащ-палатку, Поперечный.
— Давненько не встречались, — прогудел он. Бросив плащ-палатку на топчан, добавил, протянув руки к печке: — На воле холодина, а у тебя тепло. Не люблю сырость — грудь закладывает.
Был он полный, но негрузный. Про таких говорят — в теле. По-хозяйски оглядевшись, майор остановил взгляд на фотографии деда и сразу насторожился:
— А это кто?
— Дед, — ответил Вьюгин.
— Твой? — зачем-то уточнил майор.
— Мой. — Вьюгин улыбнулся про себя.
Поперечный помолчал.
— Выходит, ты из бывших?
— Со стороны отца — да, — подтвердил Вьюгин.
Майор сдвинул фуражку на лоб, покосился из-под козырька на фотографию.
— М-да…
— Не волнуйтесь, товарищ майор, — сказал Вьюгин. — В моем личном деле это указано.
— Указано?
— Указано. — Вьюгин помолчал и добавил: — Мой дед, между прочим, орден Красного Знамени имеет.
— Ну-у?
— Сам Фрунзе вручил.
— Тогда другой коленкор! — Майор сразу успокоился. Отодвинул к стене плащ-накидку, грузно опустился на топчан. — А ты неплохо устроился. Уютно у тебя и, главное, тепло.
— Жить можно, — сказал Вьюгин.
Майор снял фуражку, стряхнул с нее воду.
— Недолго придется жить так.
Он больше ничего не сказал, но Вьюгин понял: скоро наступление. Об этом каждый день толковали бойцы, об этом думал он сам, это витало в воздухе, рождая иногда радость, иногда тревогу.
Вьюгин подумал: «Сейчас самое время поплакаться», сказал, стремясь поймать взгляд майора:
— У меня до сих пор рота не укомплектована.
— Знаю, — кивнул майор. — Сегодня пятнадцать человек тебе направили. Не прибыли разве?
— Пока нет.
Поперечный взглянул на часы с черным циферблатом.
Вьюгин хотел сказать, что пятнадцать бойцов — капля в море, но Поперечный опередил:
— Другим подразделениям ни одного человека не дали. Только тебе поблажку сделали. Зато резерв у нас — во! — Майор поднял большой палец.
— И все-таки пятнадцать бойцов — пустяки, — не удержался Вьюгин.
— Перебьешься! Две «сорокапятки» тебе выделили. На подходе они. — Майор поморщился. — Вот только командир у них рохля. Я ему вопросы задаю, а он… Не люблю таких офицеров. У настоящего командира вид должен быть — рост и все прочее, а тот младший лейтенант — недоразумение какое-то.
— Зато, может быть, с характером, — заступился за незнакомого офицера Вьюгин.
Поперечный подумал.
— Навряд ли… Одеколоном от него разит, как из парикмахерской.
— Я тоже пользуюсь одеколоном, — сказал Вьюгин. — Особенно после бритья.
— От настоящего мужчины вином и табаком должно пахнуть, — возразил Поперечный.
В блиндаже было жарко, но майор все время поеживался, тянул руки к печке.
— Никак не могу согреться.
— Сто граммов? — предложил Вьюгин.
— Не откажусь.
Вьюгин хотел было позвать Сидорова, но вспомнил, что сам отпустил его в соседнюю роту, к приятелю. Сидоров ходил туда часто, и Вьюгин каждый раз предупреждал его, чтобы он был поосторожней, потому что всякое может случиться.
Покопавшись в углу, где были владения связного, Вьюгин извлек две кружки с вмятинами на боках, банку свиной тушенки американского производства, фляжку в суконном чехле. Поперечный потер руки, без приглашения плеснул в кружку и сразу же выпил. Поискал глазами, чем бы закусить. Вьюгин хотел открыть банку, но майор остановил его:
— Надоела она — сплошное сало! Знаешь, как наши солдаты называют этот продукт?
— Слышал.
— «Второй фронт». — Майор оживился. — Метче не скажешь!
Послышались шаги. «Надя», — определил Вьюгин. И не ошибся.
Она вошла в блиндаж нагнувшись, как входила всегда. Но Вьюгин сразу почувствовал, что Надя чем-то взволнована, вопросительно посмотрел на нее.
— Товарищ майор, разрешите обратиться к старшему лейтенанту? — Вьюгину почудилось, что ее голос дрожит.
— Обращайтесь, обращайтесь, — закивал майор.
Надя повернулась к Вьюгину и сразу опустила глаза. «Что случилось?» — хотел спросить он, но промолчал, зачем-то отодвинул от себя кружку с водкой. Не поднимая глаз, Надя доложила о своем возвращении и попросила разрешения быть свободной. Вьюгину не хотелось отпускать ее, но при Поперечном расспрашивать было неудобно, и он пробормотал:
— Идите…
— Хорошая девушка, — сказал Поперечный, когда Надя ушла.
Вьюгин ничего не ответил.
— Завидую я тебе, — майор вздохнул, — потому что ты молодой. А мне уже за пятьдесят. И к тому же теперь вдовец я. — Поперечный хотел еще что-то добавить, но только махнул рукой.
6
Стало совсем темно. Угли в печи покрылись тонким налетом пепла, но по-прежнему мерцали, отбрасывали на пол красноватое пятно. Вьюгин зажег самодельный светильник — сплющенную снарядную гильзу с обгоревшим, сделанным из толстой парусины фитилем.
Прогромыхали сапоги. В блиндаж просунулась голова. Круглые глаза остановились на майоре, округлились еще больше.
— Разрешите обратиться до старшего лейтенанта?
— Чего жмешься? — рассердился Поперечный. — Войди как положено и обращайся!
Голова исчезла. Послышалось сопение. Потом в блиндаж ввалился солдат в насквозь промокшей телогрейке, в обмотках, заляпанных грязью. Вьюгин знал этого солдата — он часто подменял Сидорова, когда связной отлучался, но фамилию его не смог вспомнить.
— Ну? — нетерпеливо пробасил Поперечный.
Солдат потоптался и доложил:
— Так что… пополнение прибыло — четырнадцать душ.
— Пятнадцать, — поправил Поперечный.
— Никак нет! — откликнулся солдат. — Четырнадцать! С одним, сообщают, беда приключилась — ногу поломал.
Вьюгин посмотрел на майора. Тот сделал вид, что не понял взгляда, произнес:
— Надо поглядеть на ребятишек.
Отпустив солдата, Вьюгин молча снял с гвоздя сухую, приятно шелестящую плащ-накидку, надел ее и вышел вместе с майором.
За деревьями темнела Дубиса. Вода прибывала с каждым часом, и Вьюгин подумал, что, если дождь не перестанет, придется отойти поглубже в лес, рыть новые окопы и блиндажи. Издали доносились приглушенные голоса. Метрах в пятидесяти от блиндажа шевелились тени, по земле шарил тусклый луч карманного фонарика.
— Эй? — забеспокоился Поперечный. — Кто там дурью мается?
Луч застыл на мгновение и исчез. И почти тотчас послышались выстрелы — беспорядочные хлопки. Закашлял и сразу смолк пулемет. Поперечный остановился.
— Немцы, — сказал Вьюгин. — Каждый вечер так.
На полянке топтались вновь прибывшие. «Должно быть, первогодки», — подумал старший лейтенант. Подойдя к одному из солдат, спросил, давно ли он служит.
— Пятый месяц пошел, товарищ старший лейтенант, — ответил тот.
Вьюгин сказал, что он командир роты. И добавил:
— А теперь назовите себя, товарищ боец.
Солдат вытянулся.
— Рядовой Егор Кравчик!
— Не так громко. — Вьюгин чуть улыбнулся. — Тут не учебный полк, а передовая.
И как только старший лейтенант произнес это, Егор сразу ощутил какое-то смутное беспокойство. Покосился на реку — туда, куда повернул голову командир роты. Егор уже знал, что там, за рекой, немцы. Ему и его товарищам сообщили об этом во время пути, когда в просветах между деревьями мелькнула Дубиса. Егор думал о Наде, боялся, что никогда не встретится с ней. «А вдруг меня убьют?» — неожиданно подумал он, и ему стало страшно.
Вьюгин решил, что этот солдат, должно быть, испытывает то, что сам испытал однажды. Это произошло два года назад. Взвод выгружался из теплушки в бескрайней степи, по которой разгуливал ветер, взвихривая сухой, колючий снег. За мглистой дымкой не было видно ни начала, ни конца эшелона — повсюду клубился только снег, снег, снег, и Вьюгин решил тогда, чувствуя, как заползает в душу страх, что немцы, наверное, близко. Он не ошибся. Свист ветра перекрыло другим, более противным свистом, и по обе стороны железнодорожного полотна стали рваться снаряды, вздыбливая тучи снега и выворачивая мерзлую землю. Заснеженная степь покрылась темными пятнами, солдаты с криком разбегались; состав дернулся, звякнув буферами, и попятился, набирая скорость. Все гудело, стонало, и Вьюгин в тот день впервые увидел убитых, кровь на снегу…
Вдруг он обратил внимание, что солдат смотрит куда-то. Вьюгин повернул голову и увидел Надю.
Было темно. Вьюгин не видел Надиного лица, но почувствовал: она тоже смотрит на солдата.
— Знакомая? — хрипло спросил он.
— Так точно, товарищ старший лейтенант!
— Землячка, наверное?
Если бы солдат ответил «да»! Но тот пробормотал: «Никак нет», — и смутился.
Что-то кольнуло сердце. Вьюгин вспомнил, какой была Надя в блиндаже, когда он разговаривал с Поперечным. Возникали догадки, предположения. Захотелось порасспросить солдата, но Вьюгин поборол искушение, стал знакомиться с другими бойцами. А глаза невольно искали Надю.
Запыхавшись, подбежал солдат — тот, что сообщил о прибытии пополнения.
— Беда приключилась, товарищ старший лейтенант!
— Какая беда? — машинально спросил Вьюгин.
— Огромадная! Немцы Сидорова утащили.
— Что-о?
Солдат дыхнул на Вьюгина смесью махорки с лавровым листом и повторил:
— Вашего связного немцы утащили. Как раз на стыке нашей и той роты споймали. Перестрелка была, но все ж уволокли.
«Так вот почему стреляли», — подумал Вьюгин.
— Что случилось? — забеспокоился Поперечный.
Вьюгин объяснил.
— Дрянь дело, — пробасил майор.
— Надо бы хуже, да некуда.
Поперечный озабоченно спросил:
— Как он, твой связной?
— Не понимаю…
— Трепло он или?..
Вьюгин уклонился от прямого ответа, сказал, что Сидоров хитрый.
— Хитрость там не пройдет, — проворчал Поперечный. — Съездят по сопатке — заверещит.
Вьюгин подумал, что знает Сидорова лишь с одной стороны, что может судить только о его смекалке, ловкости, умении достать и добыть, а чем он живет, о чем думает — лес темный. В памяти возникло все то, что рассказывал дед о своих вестовых. А рассказывал он о них много. Старый офицер помнил, где и когда родились его вестовые, из каких семей происходили, о чем думали, к чему стремились. Вьюгин понял, что не может с уверенностью сказать, как поведет себя Сидоров в плену.
— Это ЧП! — рассердился Поперечный. — Какого черта ты людей балуешь?
Вьюгин промолчал.
— Я поеду — доложить надо.
Поперечный так и не объяснил, зачем приезжал.
Вьюгин кивнул и с тоской подумал, что теперь не оберешься неприятностей. Он вспомнил наконец фамилию солдата, подменявшего Сидорова, и, обернувшись к нему, приказал:
— При мне побудешь, Сапелкин!
7
Дышалось трудно. Воздух совсем не походил на обычный — воспринимался как что-то плотное, тугое, что можно рассмотреть и даже пощупать. Егор чувствовал: легкие вздуваются, как кузнечные мехи. Голова гудела, в висках постукивали молоточки. Бойцы лежали тесно, прижавшись один к другому. В самом дальнем углу охал младший сержант. Его бил озноб, и он покрикивал на всех, кто выходил по нужде:
— Холодно же, черти!
А Егору было жарко. Он расстегнул ворот гимнастерки. Это не принесло облегчения. Егор подумал, что в таком пекле запросто можно испечь пирог. Их привели сюда минут сорок назад. Егор решил уснуть, но перед глазами возникла Надя, возникла так отчетливо, что захотелось дотронуться до нее. Полтора часа назад он увидел девушку, и, не сговариваясь, они пошли в лес; остановившись под каким-то деревом, с которого капала вода, долго-долго молчали, смущенные и взволнованные. Егор не помнил, кто первый заговорил, не помнил, о чем спрашивал девушку. В памяти осталось только то, что отвечала она. Ее слова отзывались в сердце сладчайшей музыкой, и Егор продолжал вслушиваться в эту музыку, старался не обращать внимания на духоту, отгоняя мысли о смерти.
Дышать становилось все трудней. «Все равно не уснуть», — решил Егор и, переступая через спящих, выбрался на свежий воздух.
Дождь не стихал. С деревьев скатывались капли, шлепались в лужи, из которых выбегали узенькие ручейки. Делая замысловатые петли, они устремлялись к Дубисе. Она была совсем рядом. Егор слышал негромкий плеск волн, вдыхал запах тины. Он напряг глаза, но не увидел реку: было темным-темно и от этого чуть страшновато.
Егор увидел реку и тот, противоположный, берег, когда над Дубисой повисла осветительная ракета. Ее свет был тусклым, но Егор все же заметил облачко дыма, отлетевшее от ракеты. Взгляд успел схватить ряды колючей проволоки, окопы. Егор подумал, что, наверное, очень скоро ему придется бежать вместе с другими бойцами к этим окопам, и еще неизвестно, удастся ли добежать до них; может получиться так, что его тело, пробитое пулей, повиснет на колючей проволоке и останется на ней до конца боя. От этой мысли снова стало страшно, по телу рассыпались мурашки.
Послышался какой-то шумок. Егор насторожился, стал всматриваться в темноту.
— Вот блиндаж! — услышал он.
Кто-то спрыгнул в окоп. Подойдя вплотную, зажег спичку.
— Ты?
Егор узнал Рыбина и почему-то обрадовался.
— Промокли мы до самых костей, — пожаловался ефрейтор. — На пути поломка была. Первым делом обогреться и обсушиться надо.
— В блиндаже битком, — предупредил Егор.
— Втиснемся!
— Навряд ли.
— Втиснемся! — уверенно повторил Рыбин и обернулся. — Скоро вы там?
— Сей секунд, Лексей!
— Ездовой наш, Фомин, — объяснил Рыбин.
Фомин спрыгнул в окоп вместе с другими бойцами.
— А Кущ где? — поинтересовался Рыбин.
— До ихнего командира ночевать пошел. — Фомин кивнул на Егора. — Оне сегодня в настроении. Так что, Лексей, смело можешь тикать, если какая на примете имеется.
— Сдурел, старый? — рассердился Рыбин.
Фомин отступил на шаг.
— Ты ведь, Лексей, такой: юбку увидишь — ноздри раздуваешь.
— А ты как думал? — огрызнулся Рыбин. Повернувшись к Егору, спросил: — Женщины тут есть?
Егор почувствовал, как его рот помимо воли растягивается до ушей.
— Та девушка тут.
— Какая девушка?
Егор обиженно засопел.
— Надя? — догадался Рыбин.
— Она.
— Не может быть!
— Точно, — подтвердил Егор. И на всякий случай добавил: — Недавно разговаривал с ней.
«Значит, сбылось», — подумал Рыбин и спросил:
— Объяснился?
— Да нет.
— Чего?
— Боялся, что не поверит.
— А я сразу ошеломляю их. Женщины любят смелых и напористых.
— Не все, — подал голос Фомин.
Рыбин покосился на него.
— Пошли, что ли.
Из блиндажа пахнуло духотой и почти тотчас раздалось:
— Холодно же, черти!
— Не ори, — беззлобно сказал Рыбин. — Дышать нечем, а он — холодно.
— Больной это, — предупредил Егор. — Наверное, малярия.
— От такой вонищи какая хочешь хворь прицепится, — пробормотал Фомин.
Рыбин рассмеялся. Смех разбудил бойцов. Кто-то проворчал спросонок:
— Кто там глотку дерет?
— Боги войны прибыли, — объяснил Рыбин. — Ну-ка потеснитесь, ребята!
Егор подумал, что кому-то придется спать стоя, но после недолгой возни, к его удивлению, разместились все: кто-то лег бочком, кто-то поджал под себя ноги. «Как в переполненном трамвае, — подумал Егор. — Даже пошевелиться нельзя».
— На волю пойду, — сказал он.
— Под дождем кемарить будешь? — подковырнул Рыбин и потрогал заметно подросшие за последние дни усики.
— Зачем под дождем? В лесу стог есть — сам видел.
— А не побоишься один?
— Н-нет. — Егор подумал, что в лесу, пожалуй, будет страшновато, но отступать было поздно.
— Я тоже пойду! — неожиданно сказал Рыбин. — Зароемся в сено — хорошо будет.
— И я с вами, — присоединился Фомин.
Стог нашли быстро. Он был огромный, издали походил на покинутый дом. Фомин растер несколько сухих травинок, понюхал их:
— Прошлогоднее!
— На нюх определил? — поинтересовался Рыбин.
— Обыкновенно, — отозвался Фомин. — Свежее сено полднем пахнет. Я до войны конюхом был и это верно знаю.
Они разворошили сено, устроились и несколько минут молчали, вслушиваясь в шорохи дождя. Потом Рыбин закурил.
— С оглядкой, Лексей, — забеспокоился Фомин. — Ведь ровно на порохе лежим.
— Не впервой, — буркнул Рыбин и вспомнил, как много много лет назад (ему казалось, что это было давным-давно, на самом же деле эти годы можно было по пальцам пересчитать) он вот так же покуривал на свежем, еще сохранившем солнечное тепло сене. Рядом с ним лежала Маруся, чуть напуганная, но счастливая. В тот день не было дождя, на небе крупно мерцали звезды, от луны тек ровный, мягкий свет. Из деревни доносились переборы гармошки, приглушенные расстоянием; изредка то появлялись, то исчезали какие-то огоньки.
— Светлячки, — прошептала Маруся.
Рыбин выпустил изо рта дым и нежно поцеловал Марусю в глаза; хотел поцеловать в губы, но спохватился: «Табаком пахнет».
Маруся вздохнула и сказала:
— В глаза целовать — к разлуке.
— Чепуха, — возразил Рыбин.
«Маруся права была», — подумал он сейчас и сказал вслух:
— Не спится.
«Не спится», — молча согласился Егор. Ему хотелось поговорить о Наде, но он почему-то стеснялся Фомина.
— О чем думаешь, Егор? — спросил Рыбин: ему тоже надоело молчать.
Фомин чихнул, и Егор пробормотал:
— Просто так лежу.
— И Надю не вспоминаешь?
— Н-нет.
Рыбин хмыкнул. Повернувшись к Фомину, спросил:
— А ты, старый, почему сон гонишь?
Фомин вздохнул:
— Кости ломит, и думки с головы нейдут.
— Все небось, ё-мое, о дочерях?
— А то о ком же? — Фомин повозился на сене. — Восемь детей, и все девки — это, Лексей, сурьезный вопрос.
Егор попытался представить себе дочерей Фомина, но перед глазами стояла Надя. Еще вчера Егор и не подозревал, что на фронте люди не только стреляют, ходят в атаки, спят где попало, но и влюбляются, тоскуют друг о друге.
Рыбин, видимо, догадался, о чем думает Егор, проговорил негромко, словно рассуждал вслух:
— Вот такие пироги… Война войной, а любовь любовью. Она и смерть вместе ходят. И не только здесь — повсюду. Про это даже в книжках написано.
— Написать все можно, — возразил Фомин.
— Не скажи, — не согласился Рыбин. — Есть очень правдивые книжки. Читаешь такую и веришь — было!
Фомин покряхтел, выражая сомнение.
— А вы, отец, какие книжки читали? — обратился к нему Егор.
— Я-то? — Фомин снова повозился на сене. — Я, сынок, не шибко грамотный. По складам читаю. До войны, окромя районной газеты, ничего не выписывал.
— Чего так? — спросил Рыбин.
— Средства не позволяли.
— Тогда бы лучше центральную, — запоздало посоветовал Егор.
— Районная нужна была.
— Зачем?
— В ней каждую неделю сводки печатались.
— Какие сводки? — удивился Егор.
Фомин снисходительно объяснил:
— Какой колхоз на каком месте.
— Твой на каком был? — поинтересовался Рыбин.
— Мы завсегда посередке шли.
— Почему?
— Земля плохая у нас и людей нехватка.
— А сам-то ты как работал?
— Два раза первые места одерживал. — В голосе Фомина прозвучала гордость. — Один раз грамоту дали, вдругорядь — отрез на кустюм. Хо-ро-ший кустюм получился — темно-синий шевиот.
— Цел он?
— А то как же! — Фомин помолчал. — Вот вернусь с войны, нацеплю на него медаль — и айда жениховаться.
Рыбин рассмеялся.
— Так тебе и позволят!
Фомин тоже рассмеялся — по-стариковски добродушно.
— Твоя правда, Лексей, — не позволят. А вот таких, как ты, Лексей, женский пол сильно уважает.
— Сам знаю.
— Этого парня, — Егор почувствовал, что Фомин смотрит на него, — тоже любить станут.
— Уже, — сказал Рыбин.
— Ну-у?..
— Факт! Захомутал тут девчонку, как говорится, с ходу.
Фомин задумался.
— Часом, не ту, возля которой ты, Лексей, перья распускал, когда колонна стояла?
— Угадал, — проворчал Рыбин.
— Значит, про нее у вас разговор недавно был?
— Опять угадал.
Фомин вздохнул:
— Пригожая девушка. На моих дочек похожа.
— Не ври, старый, — не поверил Рыбин.
— Вот те крест, Лексей! — Фомин даже привстал. — Все мои дочки лицом и статью в мать пошли. А вот карахтер у них — мой.
— Это хорошо, — сказал Рыбин.
— Что хорошо?
— Хорошо, говорю, что дочки у тебя красивые. Красивым жизнь устроить легче.
— Это уж как повезет, — возразил Фомин. — Бывает, смотреть не на что, а живет не хуже королевы.
— И в пословице говорится, — вставил Егор, — не родись красивой, а родись счастливой.
— И я про то же толкую! — обрадовался Фомин.
Помолчали. Рыбин снова вспомнил Марусю. Из раздумья его вывел голос Егора:
— Скажи, а на фронте часто совершают подвиги? — Еще дома Егор решил совершить на фронте что-нибудь героическое.
Ефрейтор помолчал, обдумывая ответ. Потом сказал:
— Побудешь под огнем неделю, сходишь разок в атаку и не сдрейфишь — считай: совершил подвиг.
— И это все?
— А ты как думал? Бывает, конечно, и на амбразуры ложатся, и под танки кидаются.
— Обыкновенно, — подтвердил Фомин.
— Лично я, — продолжал Рыбин, — парня знал, который своей смертью танк остановил. В сорок первом это было… Разбил снаряд его пушку, весь орудийный расчет выбыл из строя — кто ранен, кто убит, один он живой и невредимый. А танки прут. Еще немного — и прорвутся. Навесил тогда этот парень на себя гранаты и… — Рыбин помолчал, вспоминая прошлое. — Благодаря ему я живым остался. Если бы не он, смяли бы нас фашисты… Я на такое не способен!
— Кто знает, — пробормотал сквозь зевоту Фомин. И предложил: — Давайте спать, ребята. Утро вечера мудренее.
8
В землянке пахло трофейным одеколоном. Несмотря на шинели, аккуратно уложенные гимнастерки, свернутые в кольца солдатские ремни с тяжелыми пряжками, брезентовые сумки с красными крестами, котелки с остатками каши, накрытые «дивизионками», было ясно, что тут обитают женщины. Подушки-думочки и самодельные коврики подтверждали это.
Надя не спала. Все советы матери повыскакивали из головы. Хотелось только одного — быть с Егором. Поговорить с Вьюгиным ей так и не удалось. Это тревожило Надю: она стремилась быть честной и перед старшим лейтенантом, и перед Егором, и прежде всего перед собой. Мысленно она уже поговорила с Вьюгиным и теперь чувствовала себя виноватой за ту боль, которую причинила ему.
У противоположной стены сладко бормотала во сне Надя-москвичка. Это была смешливая девушка с короткой стрижкой. До войны она работала медсестрой в одной из больниц на Большой Калужской улице. На фронт попросилась сама, хотя и не подлежала призыву по семейным обстоятельствам. Посоветовавшись с матерью, пошла в военкомат и ходила туда, пока не добилась своего.
Вся предвоенная жизнь этой девушки ничем не отличалась от жизни таких же, как она, комсомолок. Приходилось только больше, чем другим, заниматься хозяйственными делами: кроме Нади, у матери было еще шесть детей. Все в ее жизни было простым и понятным, пока она не познакомилась в кинотеатре «Ударник» с парнем. Он вел себя нагловато и слишком самоуверенно, но на второй день Надя поняла, что парень совсем не такой, каким хочет казаться. Он был в Москве проездом и вскоре уехал. Обещал написать, но так и не написал. Первое время Надя часто заглядывала в почтовый ящик, тосковала. Этот парень понравился ей, она вспоминала его.
Сквозь щели в землянку проникал холод. Пламя на самодельной коптилке трепетало, ложилось набок. Надя натянула на голову шинель, стала считать про себя, стараясь заснуть, но сон не шел. И почудилось вдруг, что Егор тоже не спит, и думает о ней. Это обрадовало Надю. Накинув на плечи шинель, она вышла из землянки.
Дождь не переставал. Под ногами хлюпала вода. Когда глаза привыкли к темноте, Надя увидела смутные очертания деревьев, чуть поднятые над землей крыши блиндажей, замаскированных валежником и еловыми ветвями. Возле землянки висел заржавленный рукомойник с металлическим хоботком. Вот уже несколько дней девушки умывались дождевой водой, которая, по общему убеждению, смягчала кожу. За ночь набиралось с четверть ведра. Этого вполне хватало для умывания. А вот с мытьем головы была морока. Приходилось ходить с ведром на реку. Потом вода отстаивалась всю ночь. Утром ее разливали в котелки и кружки, выплескивали из ведра осадок — коричневатый, с вкрапинками ила. В небольшом углублении за землянкой разжигали костер. Дым смешивался с наползавшим к вечеру туманом, и немцы ни разу не обнаружили костер, хотя солдаты и ворчали — говорили, что эти чертовы бабы демаскируют позицию.
Надя не расставалась с косой, а москвичка стриглась под мальчика. Наде тоже советовали отрезать косу, но она думала: «Ни за что!» Она гордилась своей косой, длинной и тяжелой, часто вспоминала слова матери: «Береги косу, девка! Она у тебя все одно что приданое».
«Приданое не приданое, а отрезать жалко», — подумала Надя, подбрасывая рукой металлический хоботок — она промывала глаза. Вспомнила, какими шелковистыми и мягкими становятся волосы после мытья, как они льются сквозь пальцы, и пожалела, что этого не видел Егор.
Надя всматривалась в темноту — хотелось увидеть Егора. И не подозревала, что Егор ночует не в блиндаже.
Пахло гнилью и прелыми листьями. В небо устремилась немецкая ракета и повисла там. Надя увидела Дубису и зябко повела плечами: как и все бойцы, она знала — недалек тот день, когда придется переправляться через реку.
9
Младший лейтенант спал шумно — посвистывал, посапывал, всхлипывал. Вначале Вьюгин с интересом прислушивался к звукам, которые издавал командир огневого взвода, потом это стало раздражать. Он окликнул артиллериста. Тот пробормотал что-то и снова захрапел.
Вьюгин еще не определил своего отношения к этому человеку; младший лейтенант оказался немногословным, сразу завалился спать. Вьюгин вспомнил, как тот вошел, как поздоровался, как попросил разрешения «соснуть».
— Располагайтесь, — сказал Вьюгин.
Младший лейтенант разулся, поставил около топчана тяжелые солдатские сапоги с тупыми носами. Оставшись в белых шерстяных носках грубой вязки, пошевелил онемевшими пальцами ног, расслабил, а затем снял ремень, поискал глазами, куда бы пристроить его. Не найдя подходящего места, свернул ремень колечком и положил возле сапог. Виновато улыбнувшись, накрылся шинелью и сразу заснул.
Вьюгин сравнивал свои первые впечатления с тем, что он узнал об этом человеке от Поперечного. От младшего лейтенанта действительно попахивало парикмахерской. «Ну и что ж», — подумал Вьюгин. Ему понравилось, что, прежде чем войти в блиндаж, тот пошаркал ногами, сбивая с подошв грязь, понравилась его опрятность: несмотря на долгий и утомительный марш, одежда младшего лейтенанта была чистой. На Вьюгина произвела впечатление и невозмутимость этого человека. Чувствовалось, что он с характером. Но храп… Этот ужасный храп!
Вьюгин оделся и вышел из блиндажа. Почти тотчас из-за дерева возник человек. Вьюгин вгляделся — Сапелкин. Вопросительно посмотрел на него.
— Не спится, товарищ старший лейтенант, — пожаловался солдат.
Он стоял совсем близко, опустив большие, сильные руки. Ремень скособочился, шинель вздувалась на животе, шапка была сдвинута. Сапелкин прислушался к храпу младшего лейтенанта, осторожно кашлянул, словно раздумывал — сказать или нет. Потом произнес с легкой запинкой, показав рукой на блиндаж:
— Маленького росту оне, а шуму производят много. Видать, дыхало у них крепкое.
— А у тебя разве слабые легкие? — поинтересовался Вьюгин.
— Не жалуюсь, — откликнулся Сапелкин. Снова прислушался к храпу и добавил: — Удивительно мне, что такая сила в них.
Солдат неожиданно вздохнул, и вздохнул так тяжко, что Вьюгин решил: «У него, наверное, камень на душе».
— Почему все-таки не спишь, Сапелкин?
Тот помолчал и признался:
— Беда у меня приключилась, товарищ старший лейтенант.
— Что за беда?
Сапелкин снова вздохнул.
— Умер кто-нибудь? — спросил Вьюгин.
— Хуже.
Вьюгин подумал, что Сапелкин преувеличивает, что хуже смерти ничего не может быть. (По молодости лет Вьюгин считал смерть близкого человека самым большим несчастьем и старался не думать о том, когда ему придется навсегда прощаться с дедом, которому недавно исполнилось семьдесят пять лет.)
Сапелкин молчал, уставившись в одну точку.
— Ты женат? — поинтересовался Вьюгин.
— Вроде бы да и вроде бы нет, — солдат опустил голову.
— Как так?
Сапелкин отвернулся. Потом произнес с мрачной решимостью:
— Письмо было — схлестнулась она с другим.
Взлетела осветительная ракета. Вьюгин увидел лицо Сапелкина: заострившийся нос, впадины под глазами, плотно сжатые губы, — и ощутил жалость к этому человеку, который страдал, и, видимо, страдал сильно.
— Дети у тебя есть?
— Не дай бог, — глухо ответил Сапелкин. — Я перед самой войной поженился, молоденькую взял, на пятнадцать годков моложе против себя. Мне говорили: непутевая она, а я полюбил.
— Не расстраивайся понапрасну, Сапелкин, — сказал Вьюгин. — Может, тебе неправду написали.
Сапелкин поправил ремень.
— Спасибо, товарищ старший лейтенант, за ласку. Только мне верный человек сигнал дал — он врать не станет.
— И все же ты не расстраивайся!
— Как тут не расстраиваться! — пробормотал Сапелкин и попросил разрешения вздремнуть чуток.
— Правильно! — одобрил Вьюгин. — Сон от всех несчастий лечит.
Когда Сапелкин ушел, Вьюгин направился к землянке, где жила Надя. Он шел просто так, не думал, что встретит ее, и удивился, увидев сандружинницу. Девушка стояла к нему спиной.
— Ты?
Надя вздрогнула и обернулась.
— А ты-то что полуночничаешь? — весело спросил Вьюгин.
Надя молчала.
— Что с тобой?
Надя хотела сказать, что вышла подышать свежим воздухом, но не смогла солгать, стала сбивчиво рассказывать про Егора. Вьюгину было больно слушать ее, но он не перебивал девушку. А Надя все говорила и говорила. Потом запнулась, виновато пробормотала:
— Не обижайтесь на меня, товарищ старший лейтенант. Уж так получилось.
Вьюгин хотел сказать Наде, что тоже любит ее, но в это время его окликнули — снова появился Поперечный.
Когда офицеры вошли в блиндаж, Кущ, не раскрывая глаз, сбросил одним махом на пол ноги, вогнал их в сапоги, потом ошалело уставился на Вьюгина и Поперечного.
— Отдыхайте, отдыхайте, — сказал Вьюгин.
— Выспался уже. — Кущ сладко потянулся, надел ремень; подув на расческу, пригладил волосы.
— Начальство полагает — сболтнет твой связной. Поэтому на рассвете решено потревожить немцев, — сообщил Поперечный.
— Разведка боем?
— Называй как хочешь. — Майор взглянул на часы. — Время еще терпит. Давай перекусим и обмозгуем все.
Вьюгин позвал Сапелкина, приказал ему сообразить что-нибудь насчет еды.
Пока офицеры разговаривали, Сапелкин вспорол кривым ножом две банки свиной тушенки, выковырял мясо на сковородку, очистил картофель, сваренный в мундире еще Сидоровым, и тоже вывалил его на сковороду, нарезал хлеб, расставил кружки, осторожно поставил на стол фляжку с водкой. Когда картофель подрумянился, пригласил офицеров отужинать.
— За успех! — сказал Поперечный, подняв кружку.
Кущ выпил и сразу захмелел. Глядя на Поперечного, стал почему-то рассказывать ему про Рыбина.
— Кто такой? — проворчал майор.
— Наводчик. Отличный наводчик. К ордену Отечественной войны был представлен, но не получил награду.
— Почему?
— Не знаю.
— А ты выясни!
— Обязательно выясню.
— Как, бишь, фамилия наводчика?
— Рыбин. Алексей Рыбин.
Поперечный вспомнил, что не так давно он отложил несколько наградных листов, потому что решил — на сей раз их слишком много. Если бы командир артдивизиона представил Рыбина к Красной Звезде, то ефрейтор наверняка получил бы орден: приказы о награждении «звездочкой» издавались в штабе дивизии, а представленных к Отечественной войне утверждали в штабе корпуса.
— Вот что, — сказал Поперечный младшему лейтенанту, — ты погоди выяснять, я сам разберусь.
— Очень вас прошу! — Кущ обрадовался.
— Получит твой наводчик орден, если наградной лист оформлен правильно.
— Сам проверял — правильно, — заверил Кущ.
— Значит, получит. — Поперечный подумал, что младший лейтенант — толковый офицер, коль беспокоится за своего подчиненного.
10
Проснулся Рыбин внезапно. Шуршали мыши. Они затаились, когда люди устраивались на ночлег, а теперь осмелели, деловито сновали туда-сюда. Мышей Рыбин терпеть не мог. Представил, как они пробегают мимо, и брезгливо поморщился.
Звякнул котелок. Кто-то выругался вполголоса. Рыбин насторожился, сделал в сене дырку. Промелькнули тени. «Неспроста», — догадался Рыбин. Дернул за руку Фомина.
— Чего? — тотчас проснулся ездовой.
— Намечается что-то.
— Бой?
— Гулянка! — огрызнулся Рыбин.
Егор продолжал спать.
Фомин охнул, пожаловался на боль в пояснице.
— Застудил? — посочувствовал Рыбин.
— Кто ее знает, — откликнулся Фомин и, ворча что-то себе под нос, стал натягивать сапоги.
— Пошевеливайся! — поторопил Рыбин.
— Нам не впервой, Лексей, — задумчиво произнес ездовой. — Авось обойдется.
«Это уж как повезет», — подумал Рыбин.
Он стал будить Егора. Тот долго не просыпался. Потом открыл глаза, сладко зевнул.
— Подъем! — сказал Рыбин.
— Спать хочется — просто сил нет, — пробормотал Егор.
— Это от молодости, парень, — заметил Фомин. — Молодым завсегда спать хочется.
— Подъем! — повторил Рыбин.
— Еще чуть-чуть, — попросил Егор.
— Нельзя. Наверное, бой будет.
Егор вскочил.
Они выбрались из стога. Отряхнулись. Егор неожиданно чихнул. Фомин сморщил лицо и тоже чихнул.
— Расчихались, ё-мое, — проворчал Рыбин.
— Труха в нос набилась, — объяснил Фомин. — Хуже нюхательного табаку продирает.
— А ты пробовал такой?
— Я, Лексей, все в жизни испробовал, потому как старый уже.
Из темноты вынырнул Кущ.
— Все еще прохлаждаетесь?
Рыбин хотел ответить дерзостью, но его опередил Фомин. Кротко улыбнувшись, ездовой сказал, что они ночевали в сене, потому как в блиндаже было не продохнуть.
Кущ кивнул. Покосившись на Рыбина, сказал:
— Готовьтесь к бою!
— Переправляться будем? — поинтересовался Рыбин.
— Обязательно!
— Не сумлевайтесь, товарищ младший лейтенант, — зачастил Фомин. — Все в лучшем виде представим, все честь по чести сделаем.
— А я и не сомневаюсь, — ответил Кущ и ушел.
— Что за человек он — не пойму, — с недоумением проговорил Рыбин. — То зудит по пустякам, то мягок, будто воск.
— Недолюбливаешь ты его, — сказал Егор.
Рыбин промолчал.
— Понапрасну, Лексей, серчаешь на младшего лейтенанта, — заметил Фомин. — Сдается мне, невиноватый он, что обошли тебя. Тут, смекаю, другая причина.
— Какая?
— Бог ее знает.
— Бог знает, а ты нет! — рассердился Рыбин. — Много разговаривать стал, старый.
Фомин вобрал голову в плечи. «Зря, ё-мое, обругал старика». Рыбин был недоволен собой.
Дождь моросил по-прежнему. Было сыро, темно. Ничто не предвещало рассвета, который медленно подкрадывался к Дубисе. Солдаты в непросохших шинелях, пригнувшись, спешили к берегу, где лежали в кустах наспех связанные плоты и утлые плоскодонки.
11
По берегу шла, приближаясь к Егору, девушка с санитарной сумкой на боку. Он решил, что это Надя, и, боясь расспросов, которые повлек бы за собой разговор с девушкой, засмущался, встал к ней спиной. И с облегчением вздохнул, хотя и испытал разочарование, когда убедился, что эта девушка только похожа на его Надю.
Задев Егора локтем, сандружинница прошла мимо, и все проводили ее долгими взглядами. А Егор подумал, что все девушки-солдаты издали похожи одна на другую, что такими их делают одинаковые шинели, шапки и сапоги.
Бойцы курили, пряча цигарки в рукавах шинелей, сплевывали, ругались вполголоса. «О чем они думают сейчас, перед боем? — спрашивал себя Егор. — Ведь, может, для многих из них он станет последним».
Небо чуть посветлело. В предрассветной мути возник противоположный берег.
Рыбин стоял у замаскированной «сорокапятки», позевывал, глядя на Дубису. Он старался ни о чем не думать — так он поступал всегда перед боем, потому что на собственной шкуре убедился: хоть думай, хоть нет, того, что суждено, все равно не избежать. Рыбин чуточку бравировал, но это ему удавалось плохо. Перед глазами возникали картины его прежней жизни: детдом, техникум, девушки… Еще вчера прежняя жизнь казалась ему интересной, а теперь он никак не мог решить — хорошо или плохо он жил, хотел разобраться в этом. Ему было горько от того, что он одинок, что никто не ждет его и он ни к кому не тянется сердцем, даже писем не получает. «А мог бы», — подумал Рыбин и чуть заметно вздохнул.
— Ты чего, Лексей? — встрепенулся Фомин.
Рыбин отвернулся.
— Может, случилось что? — забеспокоился ездовой. — Если так, то облегчи душу. От разговора завсегда легчает — по себе знаю.
— Отстань, старый, — устало сказал Рыбин.
Фомин сконфузился, переложил из руки в руку кнут и отошел. Его тоже одолевали думы, хотелось, как накануне, порассуждать, поделиться своими заботами. Этой ночью, засыпая на сене, Фомин решил после войны пригласить Рыбина в гости и посватать ему одну из своих дочерей. И если бы Фомин сказал об этом ефрейтору, тот не стал бы зубоскалить: отпраздновав победу, Рыбин собирался поселиться в деревне, закончить заочно сельскохозяйственный техникум, а может, и институт.
Краем глаза Рыбин увидел сандружинницу и позавидовал Егору. Окликнул девушку. Она обернулась, и Рыбин понял, что обознался. Но он не растерялся: небрежным жестом сдвинул шапку на затылок, подмигнул сандружиннице.
— Лешка! — вдруг воскликнула она.
Рыбин увидел обветренные губы, короткую стрижку, мягкий подбородок с маленькой ложбинкой посредине, чуть вздернутый нос. Карие глаза смотрели на него радостно и изумленно. Лицо девушки показалось Рыбину знакомым, и он стал вспоминать, где и когда он мог ее видеть.
— Лешка, Лешка, — загрустила девушка. — Неужели не узнал?
— Почему же?.. — попытался схитрить Рыбин.
— Не узнал! — уверенно сказала девушка и, огорчившись, щелкнула пальцами.
Перед Рыбиным тотчас возникло фойе кинотеатра «Ударник», безголосая певичка на эстраде. Вначале она понравилась ему. Потом он разглядел косметику на ее лице и отвернулся: Рыбин не признавал накрашенных и напудренных женщин, его привлекала только естественная красота. Там, в фойе, его взгляд встретился с карими глазами. Рыбин усмехнулся про себя и подсел к девушке…
— Тебя Надей-москвичкой зовут! — воскликнул Рыбин и подумал: «Так вот, значит, ё-мое, про кого говорила та Надя».
Девушка рассмеялась. Протянула Рыбину руку:
— Здравствуй, беглец! Обещал написать, а сам как в воду канул.
— Адрес потерял, — соврал Рыбин.
— Изменился. — Надя окинула его придирчивым взглядом.
— А ты нет, — сказал Рыбин.
Надя снова рассмеялась.
— Помнишь, как мы познакомились?
— Как же!
Рыбин вдруг почувствовал, как забилось сердце. Ничего подобного он не испытывал уже давно — с той самой поры, когда встречался с Марусей.
— Вот и встретились, — пробормотал он.
— Гора с горой… — начала Надя и замолчала, увидев офицера.
Рыбин выругался про себя и произнес вслух:
— Явился не запылился.
— Кто это? — спросила девушка.
— Наш взводный.
Рыбин решил, что Кущ сейчас подойдет и станет зудеть. Но младший лейтенант деликатно остановился в нескольких шагах, позвал Рыбина.
— Обходительный, — шепнула Надя.
— Мягко стелет, да жестко спать, — тихо возразил Рыбин.
— Товарищ ефрейтор, жду! — напомнил Кущ.
— Иди, иди, — поторопила девушка. — А то влетит тебе.
Рыбин вдруг, запинаясь, чего с ним раньше никогда не случалось, проговорил.
— Ты, Надюха, того… побереги себя…
— И ты, — выдохнула девушка.
Ефрейтор подошел к командиру взвода. Небрежно козырнул.
— Слушаю вас, товарищ младший лейтенант.
Настроение у Рыбина было отличное, даже злость пропала.
Кущ взглянул на изготовленную к переправе «сорокапятку», провел рукой по щеке — он не успел побриться и поэтому чувствовал себя как-то не так.
— Я тут выяснил кое-что… — начал младший лейтенант.
«Сейчас начнется», — подумал Рыбин.
Но Кущ сказал совсем другое, то, чего Рыбин не ожидал:
— Свой орден, товарищ ефрейтор, вы, безусловно, получите!
Рыбин растерялся. Кущ помолчал и добавил:
— Просто-напросто в штабе корпуса не успели оформить наградной лист… Надеюсь, в этом бою вы заслужите еще одну награду.
И командир взвода ушел.
— Чего он? — подскочил к Рыбину Фомин. — Сызнова неприятность?
— Нет, старый, нет! — весело ответил ефрейтор.
Фомин заморгал, удивленный.
Вьюгин увидел Надю. Ее глаза искали кого-то, лицо осунулось, четко обозначились скулы. Старший лейтенант понял, что она ищет Егора. Решил доставить ей радость, приказал Сапелкину привести Кравчика на КП.
Услышав знакомую фамилию, Надя с тревогой посмотрела на Вьюгина, но тот ничего не объяснил ей. Про себя подумал: «Пусть при мне побудет Егор. Так для него лучше».
Когда старший лейтенант объявил о своем решении запыхавшемуся Егору, тот густо покраснел.
— Чем-то недовольны, товарищ боец? — строго спросил Вьюгин.
Егор молчал.
— Не слышу! — повысил голос командир роты.
Егор что-то пробормотал.
— Громче! — потребовал Вьюгин.
— Совестно мне тут околачиваться, товарищ старший лейтенант, — признался Егор. — Ребята в атаку пойдут, а я…
«Дурачок», — тепло подумал Вьюгин и жестко сказал:
— Это приказ, товарищ боец!
— Слушаюсь! — Егор бросил руки по швам.
Надя пыталась незаметно для других подойти к нему. Егор увидел это, попятился, пряча глаза. «Дурачок», — еще раз подумал Вьюгин. Потом взглянул на часы с монограммой на крышке — подарок деда. Оставалось пять минут. Небо посветлело еще больше. У самой воды темнели плоты. Неизвестно откуда появившиеся железные бочки, закупоренные деревянными пробками, остро пахли бензином. Несколько утлых, кое-как залатанных плоскодонок нюхали носами реку. Водная гладь была иссечена дождевыми кружочками, казалась щербатой.
Было тревожно и тихо.
Вьюгин представил, как, растянувшись в цепь, побегут к немецким укреплениям бойцы его роты. Увидел их лица с перекошенными ртами, услышал прерывистое дыхание.
Дождь неожиданно перестал. Из леса надвигался туман, похожий на молоко. Это обрадовало Вьюгина: можно было без больших потерь подойти почти вплотную к немецким укреплениям.
12
Рота переправилась через Дубису. Фомин припоздал с конями, пушку пришлось выкатывать самим. Колеса проваливались в ямы, наполненные мутной водой, по щитку цокали пули. Туман продолжал надвигаться, с каждой минутой густел. Смутно вырисовывались фигуры бойцов, похожие на движущиеся тени. Обогнав «сорокапятку», бойцы словно бы растворялись в тумане. Он уже закрыл и реку, и немецкие укрепления. И если бы не пульсирующие в тумане огоньки автоматных очередей, Рыбин не смог бы определить, где противник. Командир орудия, хмурый младший сержант, был тяжело ранен шальной пулей, и теперь Рыбин стал главным в расчете. Впрочем, он верховодил и раньше: командир орудия обычно поддакивал ему — Рыбин не любил молоть языком попусту, всегда предлагал что-нибудь дельное.
Где-то впереди безостановочно бил немецкий пулемет. Ему вторил другой. Шлепались мины. И хотя немцы вели огонь вслепую, потери уже были, и потери ощутимые. Рыбин спешил выкатить пушку на удобную позицию, чтобы ударить по этим пулеметам. Он не сомневался, что, несмотря на туман, накроет цель. И не потому, что был удачливым. За годы, проведенные на фронте, он многому научился, и прежде всего научился метко стрелять.
Запыхавшись, подбежал Сапелкин. Был он с карабином на плече, весь в грязи. Покрасневшие от бессонницы глаза слезились.
— Старший лейтенант приказали — немедленно подавить пулеметы!
— «Приказали, приказали»! — передразнил Рыбин. — Ему, ё-мое, легко приказывать. А где они, эти пулеметы?
— Тама. — Сапелкин показал рукой туда, куда бежали бойцы.
— «Тама, тама»! — снова передразнил Рыбин. — Сам знаю это.
— Чего ж тогда дразнишься? — рассердился Сапелкин. — Дан приказ — сполняй!
— Иди ты… — Рыбин беззлобно выругался.
Сапелкин выпятил грудь и воскликнул звонким фальцетом:
— Ты чего выражаешься, а? Тебе дело говорят, а ты лаешься.
Рыбину стало смешно. По щитку по-прежнему цокали пули, с противным визгом проносились совсем рядом, а его душил смех.
Сапелкин постучал пальцем по лбу:
— Ты, малый, часом, не того?..
Рыбин взглянул на Сапелкина и посоветовал:
— Уматывай отсюда, портянка, пока цел. А старшему лейтенанту доложи: полный порядок будет. Как в танковых войсках! Подкатим орудие еще немного — и прямой наводкой. Ясно?
— Так бы сразу и сказал, — проворчал Сапелкин и, поправив карабин, поспешил на КП.
Дойти туда ему не удалось — почти у самого КП его настигла пуля. Когда Надя, которую Вьюгин тоже оставил на КП, подползла к нему, он уже был мертв.
И Егор и Вьюгин тревожились за Надю, но тревожились по-разному. Егор боялся выдать себя и поэтому, посмотрев на девушку, тут же отворачивался. Вьюгин не спускал напряженного взгляда с сандружинницы, которая то появлялась, то исчезала в клубах тумана.
Когда Надя вернулась, Вьюгин сразу понял, что Сапелкин убит, — «сорокапятки» по-прежнему молчали, а почему, объяснить мог только убитый.
Огонь становился все плотнее, и Вьюгин с тоской подумал, что роте, наверное, еще не удалось подойти к немецким укреплениям. Туман не позволял ориентироваться, и старший лейтенант теперь проклинал это ненастье, косо поглядывал на связистов, которые никак не могли наладить связь. Вьюгин знал: если в самое ближайшее время не удастся подавить пулеметы, то придется отойти. Перевел глаза на молчавших, сосредоточенных бойцов (на КП их было немного), остановил взгляд на Егоре и, переборов минутную жалость, приказал ему пробраться к артиллеристам.
Егору было страшно. Он слышал шум настоящего боя, но сильнее всего его потрясла смерть Сапелкина. Он вдруг отчетливо понял, что его тоже могут убить. Но он подавил страх, четко повторил приказ и, взглянув украдкой на Надю, направился к сорокапятчикам.
— Поосторожней будь! — крикнул ему вдогонку Вьюгин.
Это немного успокоило Надю. В первое мгновение она подумала, что старший лейтенант посылает Егора нарочно. Потом поняла — больше послать некого: на КП каждый человек был на вес золота, каждый выполнял свое дело, от которого тоже зависел исход боя.
«Береженого бог бережет», — вспомнила Надя любимую поговорку матери и, провожая Егора взглядом, мысленно повторила: «Поосторожней будь!»
Егор бежал, вцепившись пальцами в ремень винтовки, висевшей на плече. Приклад сильно ударял по мягкому месту. Не останавливаясь, Егор поправил винтовку и поднажал. Он боролся с искушением затаиться где-нибудь, переждать, пока стихнет бой.
На просеке, утыканной свежими пнями, обнаружил след «сорокапятки». Колея то скрывалась в огромных лужах, то появлялась снова. Жесткая грязная осенняя трава была примята колесами. След шел то прямо, то вдруг делал замысловатый изгиб — в пелене тумана вырисовывался завал.
Егор увидел убитого и остановился. Покойник был таким же молодым, как и он. Егор узнал этого солдата — они ехали на фронт в одной теплушке. Солдат лежал в неудобной позе, скрючившись, и Егор долго не мог понять, куда попала пуля. Увидел еще не засохшее кровавое пятнышко на груди и зябко повел лопатками.
Убитые стали попадаться все чаще и чаще. Егор старался не смотреть на них, даже зажмуривался, когда пробегал мимо.
Пахло порохом. Прижатый туманом, пороховой дым стелился по земле, цеплялся за кусты, и трудно было определить, где дым, а где туман.
Возле дерева, привалившись к стволу спиной, стонал раненый. Около него хлопотала сандружинница — та самая девушка, которая задела Егора локтем.
— Эй, солдат! — крикнула она. Егор остановился, она попросила: — Помоги-ка!
Боец был ранен в бедро. Стараясь не смотреть на рану, Егор послушно исполнял то, что требовала сандружинница. Ловко разрезав штанину, девушка достала из брезентовой сумки йод, вату, марлевые салфетки и стала бинтовать рану. Лицо бойца было восковым, глаза закрылись, и если бы не стон, то Егор, наверное, решил бы, что тот мертв.
— А ты тут чего делаешь? — вдруг спросила сандружинница.
— Сорокапятчиков ищу, — ответил Егор.
— Они там. — Сандружинница показала рукой на видневшийся в тумане перелесок.
— Знаю. — Егор объяснил ей, что он идет по колее.
Сандружинница пожелала ему побыстрее найти сорокапятчиков и снова склонилась над раненым.
Пробежав с полкилометра, Егор услышал осипший голос и обрадовался: это ругался Рыбин. Егор поднажал и через несколько секунд увидел «сорокапятку» Она стояла скособочившись, увязнув одним колесом в яме, наполненной до краев густой грязью. Солдаты пытались вытащить пушку, но она засела прочно.
— Рыбин! — крикнул Егор и почувствовал — улыбается.
— А-а… — Ефрейтор мельком взглянул на него и — так показалось Егору — совсем не удивился. — Помоги-ка пушку вытащить.
Егор нажал плечом. «Сорокапятка» слегка шевельнулась, грязь приподнялась вместе с колесом.
— Еще чуть-чуть, — одобрил Рыбин. — Взяли!
Пушка сдвинулась. Грязь чавкнула, освободив колесо; в образовавшуюся яму полилась мутная вода.
Рыбин вытер рукавом шинели пот с лица и сказал, обращаясь к артиллеристам:
— К тем кустикам гоните. Оттуда и ударим!
Появился Фомин:
— Привел коней!
— Где тебя черти носят? — заорал Рыбин.
Фомин попятился.
— Задержка вышла, Лексей. Вплавь переправляться пришлось. Одна кобыла чуть не утопла.
— У тебя всегда что-нибудь… — проворчал Рыбин, остывая.
— Обыкновенно, — согласился Фомин. — Механизм и тот порчу дает, а конь — животное.
— А раньше говорил что?
— Что?
— «Конь надежнее», — передразнил Рыбин. — Держи, старый, коней наготове — мало ли что.
— Не сумлевайся, Лексей, — отозвался Фомин и заторопился в лес, сшибая кнутовищем с кустов еще не опавшие листья.
13
Когда немецкие пулеметы смолкли, Рыбин сказал, повернув к Егору разгоряченное, в пороховых потеках лицо:
— Я же говорил — не успеешь добежать. А теперь и докладывать не надо — старший лейтенант сам убедился, что приказ выполнен.
Несколько минут было тихо — только хлопали одиночные выстрелы да изредка начинали тарахтеть и тут же захлебывались автоматы. Потом прокатилось «ура!», и Егору почудилось: земля под ним мелко-мелко задрожала.
— Сейчас братва даст им прикурить, — сказал Рыбин.
Егор рванул с плеча винтовку, но Рыбин скомандовал:
— Отставить!
— Почему? — удивился Егор.
Рыбин объяснил:
— У командира роты надо спросить разрешения. Ты ведь при КП состоишь.
Туман рассеивался. Отрываясь от земли, поднимался к верхушкам деревьев, растворялся в воздухе. Снова пошел дождь — мелкий, противный. Дымились немецкие дзоты с развороченными амбразурами. Пулеметы с нерасстрелянными, бессильно свисавшими лентами завалились набок, уставившись тонкими стволами в землю.
Рыбин положил руку на еще не остывший ствол «сорокапятки», сказал задушевно:
— И на этот раз не подвела. Спасибо тебе, старушка!
— Не прибедняйся, Лексей, — запротестовал Фомин. (Он снова появился из леса.) — Твоя тут главная заслуга.
— Брось! — возразил Рыбин, хотя и был польщен.
— Вот те крест, Лексей! — вскрикнул Фомин.
Все дружно закивали, заулыбались, и Рыбин, чтобы скрыть смущение, сказал, обращаясь к ездовому:
— И чего, старый, ты все время крест поминаешь? Ты разве верующий?
— Не знаю, как тебе и ответить. — Фомин потоптался, переложил из руки в руку кнут. — Вроде бы верующий я и вроде бы нет. Это смотря по обстоятельствам.
— Хитер! — Рыбин рассмеялся.
— Это точно, — подтвердил Фомин.
— Выходит, не веруешь ты по-настоящему.
— Но крест ношу! — воскликнул Фомин. — На всякий случа́й.
Рыбин усмехнулся. Фомин помигал, стал оправдываться:
— Знаешь ведь, Лексей, как говорится: на бога надейся, но и сам не плошай.
— Это уж точно, — согласился Рыбин.
Пехота завязала бой за дзотами, где была вторая линия траншей. Немцы отходили отстреливаясь. Поспешное отступление немцев озадачило Рыбина.
— Голову даю на отсечение, — сказал он, — темнят фрицы. Скумекали, должно быть, что мы только прощупываем их, и затаились. Не хотят раскрывать огневые точки. Вот когда общее наступление начнется, тогда они лупанут.
— Твоя пушка может разрушить дот? — спросил Егор.
— Нет. — Рыбин с сожалением покачал головой. — Я и сегодня только на амбразуры наводил.
— А броню танка она пробьет? — не отставал Егор.
— Куда ей! — Рыбин положил руку на щиток. — Снаряды наши, сам видел, точно игрушечные. Но, — ефрейтор оживился, — остановить танк «сорокапятка» может. Попадешь в гусеницу — и амба!
Рыбин вспомнил бой под Каунасмо, когда ему посчастливилось сбить гусеницу с «тигра». Втайне он мечтал подбить еще хотя бы один танк, ждал, что сегодня они попрут, но танки так и не появились.
Егор был возбужден боем. Он еще не совсем поверил, что все обошлось, что он остался живым и невредимым и, кажется, не трусил, вел себя в бою как полагается. Теперь Егор беспокоился только за Надю, хотел поскорее увидеть ее.
— Давно собираюсь спросить тебя, — обратился к нему Рыбин, — да все позабываю. Ты что, Егор, до армии делал?
— Учился. Когда война началась, работать стал. Мы снаряды делали.
— Отец-то твой где? Тоже небось воюет?
— Нету у меня отца, — сказал Егор. — Я с матерью живу Я и она — больше у нас никого нет.
— А родитель где? — вступил в разговор Фомин.
— Умер, когда я маленьким был. Заболел тяжело и умер.
— Да-а… — протянул Фомин.
Немного помолчали. Потом Рыбин спросил:
— Матери-то пишешь?
— Пишу.
— Часто?
— Как когда. Последний раз перед самой отправкой написал — десять дней назад.
— Вот что, Егор, — сказал Рыбин. — Сегодня напиши ей. Она небось волнуется.
— Конечно, волнуется, — подтвердил Егор и вспомнил мать — тихую, спокойную женщину с сединой на висках, для которой он был единственной отрадой — так она сама говорила.
Из леса вышел командир роты в сопровождении нескольких солдат и младших командиров. Егор двинулся к нему навстречу строевым, стараясь шагать покрасивее. Вскинул руку к шапке.
— Ваше приказание выполнено, товарищ старший лейтенант!
— Почему задержались? — спросил Вьюгин, пряча улыбку: уж очень значительный вид был у солдата.
— Я приказал остаться, — вмешался Рыбин.
Вьюгин вопросительно взглянул на него.
— У меня одного бойца ранило в руку, — объяснил ефрейтор. — Пришлось Егору временно побыть подносчиком снарядов.
— Ну и как он?
— Жалоб, товарищ старший лейтенант, нет.
Из-за дзотов появились девушки, обе Нади. Замахали руками, крича что-то.
— Зовут! — Вьюгин направился к сандружинницам.
За ним двинулись остальные. Рыбин и Егор тоже пошли. Они радовались, что видят девушек живых и невредимых. Во время боя было не до них. А теперь, когда напряжение сошло, Рыбин искренне был рад, что с Надей ничего не случилось. Егор стеснялся, поглядывал на девушек украдкой, а Рыбин смело смотрел на Надю-москвичку: ему было наплевать, что подумают и скажут об этом другие.
Перебивая друг друга, девушки заговорили разом.
— Что, что? — не понял Вьюгин.
— Там, там, — твердили девушки, показывая на овраг.
Старший лейтенант направился к оврагу. Заглянул вниз — и отшатнулся: на дне лежал Сидоров… Тело связного было исколото штыками, открытые глаза были устремлены в небо, по лицу катились, будто слезы, дождевые капли.
— Сволочи… — вырвалось у Вьюгина.
Вместе с другими он вытащил Сидорова наверх, закрыл ему глаза и подумал, что связной, наверное, ничего не сказал фашистам.
Все стояли молча, ожидая распоряжений командира роты. Подвели пленного — испуганного, перепачканного болотной жижей немца с оттопыренными ушами. Вьюгин немного говорил по-немецки.
— Что тут было? — обратился он к пленному.
Заикаясь, пленный стал рассказывать. Оказалось, что вчера, когда захватили русского, на позиции был командир полка. Он пообещал русскому хорошую жизнь, если тот даст нужные сведения. Русский плюнул офицеру в лицо и бросился на него.
— Майн гот, майн гот! — ужасался пленный, вздевая руки к небу.
Вьюгин подумал, что Сидоров был не только смекалистым, но и мужественным человеком, и обругал себя за то, что сомневался в связном, что не сказал Поперечному, какой он, Сидоров, на самом деле.
Появился майор. Глянув на Сидорова, спросил:
— Кто это?
— Мой связной, — ответил Вьюгин. — Тот самый.
— A-а… Значит, ни шиша не узнали немцы.
— Пленный подтвердил — не узнали.
— Отойдем-ка. — Поперечный кивнул в сторону.
Когда они отошли, майор сообщил:
— Велено передать — держи этот «пятачок». Немцы как пить дать будут контратаковать, но ты держись. — Поперечный помолчал и добавил: — Полагаю, скоро наступление по всему фронту начнется.
Пока офицеры разговаривали, Рыбин, Егор, Фомин и обе Нади молчали, поглядывая на убитого. Рыбин боролся с искушением схватить автомат и разрядить его в немца. Он не скрывал своей ненависти к нему. Егору снова стало страшно. Страх омрачал радость встречи с Надей. Фомин вздыхал по-крестьянски тяжело.
Закончив разговор, подошли офицеры. И в это мгновение из дзота с развороченной амбразурой вышел, пошатываясь, фельдфебель с двумя Железными крестами на обсыпанном землей мундире. Он был высокий, откормленный, с налезающей на лоб белокурой прядью. Левая рука с кровавым пятном на рукаве висела, как плеть, а в правой он держал автомат. Крикнув что-то, фашист прижал к животу автомат. Рыбин хотел вскинуть карабин, но понял — не успеть. Краем глаза увидел: Вьюгин пытается вытащить застрявший в кобуре ТТ, Фомин пятится, Егор рвет с плеча винтовку, Поперечный, не мигая, смотрит на фашиста, словно хочет загипнотизировать его. Лицо Нади-москвички посерело от ужаса. И тогда, раскинув в стороны руки, Рыбин бросился на фашиста и сразу упал, сраженный выпущенной в упор очередью… Но, прежде чем сделать это, в те доли секунды, еще отведенные ему для жизни, Рыбин понял: погибнут или будут тяжело ранены все, если… И не стал раздумывать.
Вьюгин наконец выхватил пистолет…
Хоронили Рыбина вместе с Сидоровым и другими бойцами во второй половине дня, отбив атаку. Немцам так и не удалось вернуть «пятачок». По-прежнему шел дождь. На дне братской могилы появилась и стала скапливаться вода. Вьюгин подумал, что при всем желании про такую могилу не скажешь: «Пусть земля тебе будет пухом». Надя-москвичка стояла молча, стиснув зубы, а ее подруга плакала. Фомин все время проводил рукой по лицу, и было непонятно, что вытирает он — слезы или дождевые капли. Егор вспомнил слова Рыбина: «Я на такое не способен». Хотелось стать таким, каким был ефрейтор. И еще ему хотелось остаться в живых и никогда не разлучаться с Надей. Но никто — ни Егор, ни Вьюгин, ни Фомин, ни Поперечный, ни Кущ, ни обе Нади — не знал, что произойдет, когда немцы снова пойдут в атаку.
Кущ был ранен, но продолжал командовать сорокапятчиками. Младший лейтенант не сомневался, что теперь ефрейтор будет посмертно награжден еще одним орденом, потому что совершил подвиг.
Фомин думал о том, что на войне все гибнут и гибнут парни и, похоже, его дочерям суждено остаться без женихов. Он вздохнул, подошел к молоденькой осинке. В тишине затюкал топор. Все посмотрели на ездового.
Поперечный строго спросил:
— Зачем дерево губишь, солдат?
— Крест сладить хочу, — ответил Фомин, подняв на майора наполненные невыплаканными слезами глаза.
— Крест? — удивился Поперечный. — Для чего?
— На могилку.
Майор нахмурился.
— Зря стараешься, солдат. На братских могилах не ставят крестов. Не положено!
— Не положено, — как эхо, откликнулся Фомин. — А я, старый, запамятовал про это — совсем очумел от горя.
— Пусть, — сказал Вьюгин, посмотрев на Поперечного.
— Не положено, — повторил майор.
— Пусть, — снова сказал Вьюгин.
— Под твою ответственность.
— Согласен. — Вьюгин подумал, что сейчас самое главное — закрепиться на «пятачке» — это может ускорить наступление, которого ждут все.
ДОЛГОЕ, ДОЛГОЕ ЭХО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
За сараями, где в лопухах и крапиве ржавело, превращаясь в труху, железо, валялись прохудившиеся чайники, сплющенные миски и прочий металлический хлам, даже латаный-перелатаный самовар лежал, было хорошо, уютно. Шум улицы сюда не проникал; голоса людей, населявших наш большой двор, тоже не отвлекали внимания. В безоблачные дни на железе грелись серые ящерицы. Они казались неподвижными, но, присмотревшись, можно было увидеть, как часто-часто пульсируют их тельца и высовываются черные раздвоенные язычки. От неосторожного движения ящерицы мгновенно скрывались в какой-нибудь щели. Дощатые стены сараев были сухие, теплые; снизу, если раздвинуть лопухи, ударял в нос запах сырости: там обитали сороконожки, мокрицы, жучки — размножавшийся и добывавший себе пропитание мир. К сараям, почти вплотную, примыкала ограда — каменная стена чуть выше человеческого роста. Она отделяла наш двор от Конного двора. Из кухни второго этажа двухэтажного деревянного дома, в котором жил я, хорошо был виден этот двор: конюшни с массивными воротами, прямая, как перпендикуляр, замощенная булыжником дорога, сложенные под навесом мешки с овсом, накрытый брезентом и стянутый канатами огромный стог, многочисленные коновязи, телеги с шинами на колесах. Оттуда постоянно попахивало навозом, но никто не крутил носом — все жильцы, должно быть, привыкли к такому «аромату». Когда ветер с Конного двора дул в нашу сторону, воздух пропитывался еще, одним запахом — запахом лошадиного пота. Я удивлялся, что ни мать, ни бабушка не чувствуют этого. Запах лошадиного пота почему-то тревожил меня: перед глазами возникали бескрайние прерии, мустанги с шелковистыми, развевавшимися от стремительного бега гривами, лихие наездники. Я запоем читал Купера, Майн Рида и мечтал, как мечтают все мальчишки. Запах лошадиного пота, наверное, усиливал игру воображения. Но разве можно было мечтать в тесной комнате, где всегда находилась бабушка, а вечером появлялась и уставшая мать? За сараями никто не мешал думать, воображать себя то отважным всадником, то путешественником, то храбрецом, спасавшим всех, кто нуждался в помощи и защите. Но я не только мечтал там — иногда просто сидел на какой-нибудь железяке или доске, подставив солнцу лицо. Было приятно, спокойно. В голове бродили мысли, а вот какие, убей бог, не помню. Отчетливо помню только то, что к действительности меня возвращал требовательный голос бабушки.
— Куда ты запропастился? — спрашивала она, окидывая меня подозрительным взглядом.
Я мгновенно сочинял небылицу. Бабушка недоверчиво покачивала головой.
— Честное слово! — поспешно восклицал я.
Бабушкино лицо становилось строгим.
— Никогда не давай впопыхах честное слово, — говорила она и после паузы добавляла с коротким вздохом: — А теперь мой руки и садись обедать.
Есть не хотелось, особенно суп. Я променял бы самый вкусный суп на порцию эскимо или на какую-нибудь конфету. Но сладости бабушка давала редко, утверждала: «Зубы испортишь». Я мысленно не соглашался, говорил сам себе, что куплю целый килограмм конфет и сразу же съем их, как только стану взрослым.
Мне недавно исполнилось тринадцать лет, очень хотелось повзрослеть, но впереди была целая вечность — пять лет, которым, казалось, не будет конца и краю. Я еще не решил, кем стану: иногда собирался работать вагоновожатым, иногда мечтал о путешествиях, но чаще хотел быть моряком, и не просто моряком, а моряком военным, обязательно командиром. Это желание усиливалось, когда я встречал на улице подтянутого моряка с блестящими пуговицами на кителе, с нашивками на рукавах, с кортиком на боку. Книга Вильсона «Линейные корабли в бою» некоторое время была моей любимой книгой, хотя я мало что понял в ней — читал и перечитывал лишь те страницы, где описывалось Ютландское сражение.
Прекрасная, невозвратимая пора… Все было ясно, просто, понятно. Память до сих пор хранит тот день и даже час, когда я впервые посмотрел на Маню Петрову не так, как смотрел на нее прежде. Раньше она казалась мне самой обыкновенной девчонкой, каких сотни. А в тот день мое мальчишеское сердце дрогнуло и будто бы перекувырнулось. Я вдруг понял, что Маня красивее других девчонок. У нее были светлые, прямые, остриженные чуть ниже затылка волосы, косая челочка на лбу, маленький нос, длинные ресницы, то прикрывавшие насмешливый блеск глаз, то придававшие им выражение какого-то внутреннего покоя. Кожа на Манином лице была чистой, гладкой, слегка подрумяненной молодой кровью. Этот румянец совсем не напоминал тот, про который говорят: кровь с молоком. Манин румянец был нежным, казался легким, весенним загаром.
К середине лета все мальчишки и девчонки нашего двора становились коричневатыми, на плечах — с утра до вечера мы разгуливали в одних майках — шелушилась кожа, носы приобретали малиновую окраску, волосы были жесткими от пыли. К Мане загар не приставал, расчесанные волосы влажно блестели, словно только что вымытые. Она не играла с нами ни в прятки, ни в салочки-выручалочки, ни в «красные и белые», ни в другие игры, которые или создавали, или усовершенствовали наши неистощимые на выдумки умы. Самой любимой игрой были, несомненно, «красные и белые». Площадка посреди двора, пересеченная в разных направлениях узенькими тропинками, с островками чахлой, жесткой травы, делилась на две равные половины широкой чертой; на стены одноэтажных домов, находившихся справа и слева от этой черты, вешались какие-нибудь тряпки, иногда носовые платки или уже выцветшие пионерские галстуки. Разбившись на две команды, мы старались сорвать вражеский «флаг», принести его, или самостоятельно, или передавая друг другу, на свою половину. Если «противник» салил смельчака, тот вынужден был стоять на чужой территории до тех пор, пока его не выручал товарищ по команде.
Маня часто смотрела, как мы играем, но сама никогда не проявляла желания побегать с нами. Когда в командах был недобор, мы звали ее, но она, улыбнувшись в ответ, качала головой. Мне почему-то казалось, что она тоже хочет побегать, да мать не позволяет.
Небольшого роста, довольно полная, с поблекшим, но еще привлекательным лицом, с ниспадавшими на плечи локонами, Надежда Васильевна Петрова, Манина мать, с весны до осени почти все дни напролет просиживала около окна с небрежно перекинутой через одну створку тюлевой шторой — или рукодельничала, или переводила глаза с одного предмета на другой. Когда ее взгляд застывал на мне, я начинал беспричинно суетиться: машинально вправлял в штаны майку стирал, послюнявив палец, грязь с руки, одним словом, нервничал.
Надежда Васильевна была домохозяйкой. Это, наверное, устраивало Маминого отца — Парамона Парамоновича. Был он на полголовы ниже жены и поуже в плечах, на макушке, в реденьких волосах, розовела плешь. Ходил Парамон Парамонович всегда в одном и том же мешковатом, словно бы с чужого плеча, костюме; с наступлением осени надевал пальто на стеганой подкладке с бархатным, побитым молью воротником, стершимся ворсом на рукавах. Работал он часовщиком, зашибал, как утверждали старухи — их было предостаточно на нашем дворе, — громадные деньги. Так, по-видимому, и было: Надежда Васильевна и Маня щеголяли в нарядных платьях, мебель у Петровых — это удавалось разглядеть, пробегая мимо окон их комнаты, они жили на первом этаже нашего дома, — была роскошной. Посреди комнаты стоял стол, накрытый тяжелой скатертью с бахромой, вокруг него теснились стулья с мягкими сиденьями, у самой дальней стены темнела низкая полированная кровать, украшенная резьбой, слева возвышался сервант с хрустальными вазочками и разными дорогими безделушками на вышитой дорожке, справа сверкало черным лаком пианино с тяжелыми бронзовыми канделябрами. Иногда Надежда Васильевна бренчала «собачий вальс» — ничего другого она воспроизвести не могла.
Возвратившись с работы, Парамон Парамонович ужинал и допоздна склонялся с лупой в глазу над маленьким квадратным столиком, на середину которого падал свет от многоваттной лампочки под продолговатым металлическим колпаком. Это подтверждало: старухи не врут, Парамон Парамонович действительно зашибает большие деньги.
2
На траве еще не просохла роса, но уже припекало. Испуганный моим внезапным появлением, воробьиный выводок, трепеща неокрепшими крылышками, метнулся в разные стороны, стремясь поскорее достичь какого-нибудь укрытия. Я хотел поймать самого слабенького птенца — он летел низко-низко, почти касаясь травы, — и конечно же схватил бы его, если бы не увидел Маню. Она сидела на бревнах около нашего дома и — так показалось мне — с любопытством смотрела на меня.
Эти бревна были привезены несколько лет назад, предназначались для ремонта нашего дома, который по неизвестным нам причинам так и не начинался. Бревна продолжали лежать, стали сухими, посерели, покрылись трещинами. Теперь они были излюбленным местом старух. Когда спадала жара, старухи рассаживались на них и неторопливо, а иногда стрекоча, как сороки, начинали перемывать косточки ближним или обсуждать происшествия, которые не очень часто, но все же случались на нашем дворе.
Увидев Маню, я растерялся: язык словно бы присох к горлу и выпучились глаза. Я не спросил себя ни в тот раз, ни позже, почему не обращал на нее внимания. На этот вопрос ответил сам себе лишь недавно — когда стал размышлять о прожитом. Не могу утверждать определенно — в последние годы я все чаще и чаще обхожусь без той категоричности в суждениях, которой грешил в молодости, — но думаю, что Маня, вероятно, мне нравилась всегда, даже тогда, когда мы были дошкольниками. А вот «прозрел» я только в то утро. Напустив на лицо равнодушие, вразвалочку подошел, спросил первое, что пришло в голову:
— Чего тут сидишь?
Маня не ответила. Потоптавшись, я хотел уйти, но ноги внезапно сделались ватными и запершило в горле. Сердце стучало так сильно, что я слышал его. Я, наверное, сказал бы какую-нибудь глупость или совершил бы еще что-либо нехорошее, необдуманное, но в этот момент на дворе появился мой одногодок и лучший друг Ленька Сорокин, такой же длинноногий и длиннорукий, как и я, вместе с отцом — Николаем Ивановичем.
Каждый день Ленька сопровождал отца до проходной «шпульки» — так мы называли шпульно-катушечную фабрику, расположенную наискосок от нашего двора. В молодости Ленькин отец был видным парнем. Это подтверждали черты его лица, когда-то четкие, теперь расплывшиеся от чрезмерного пьянства. Николай Иванович не скрывал, что сильно уважает вино; по этой причине он часто оказывался вместо «шпульки» в какой-нибудь забегаловке, откуда его, если он успевал пропустить стопку, не могли вытащить даже самые страшные угрозы Анны Федоровны, его жены и Ленькиной матери, рослой, сильной, преждевременно состарившейся от тяжелой жизни и частых родов. Рожала она почему-то одних пацанов. Ленька был самым старшим среди братьев. Кроме учебы в школе у него была куча разных домашних обязанностей. Он выполнял их, видимо, не так прилежно, как требовала Анна Федоровна. Рассвирепев, она давала сыну такую оплеуху, что Ленька отлетал метра на два, иногда падал.
— Свинство, — брезгливо бормотала моя бабушка, когда это происходило среди бела дня и на глазах у всех.
Мне хотелось, чтобы бабушка заступилась за Леньку, но она, подавив вздох, отвечала:
— В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Мою бабушку нельзя было назвать красивой. Обыкновенная — так можно сказать о ней. Чуть выше среднего роста, с большой бородавкой на правой щеке, с не по-старчески живыми глазами, она ходила быстро, словно молоденькая, слегка припадая на поврежденную еще в детстве ногу. Она была властной, самолюбивой, очень требовательной. Ей никто никогда не перечил, даже моя мать; соседи по квартире и все население нашего двора относились к моей бабушке с уважением. В распри, неизбежные в многонаселенных квартирах, она никогда не вмешивалась, но ее молчание было таким выразительным, что голоса становились приглушеннее, жесты утрачивали воинственность, и ссора стихала, как стихает пламя, в которое не подбрасывают дрова. Я был убежден: бабушка может утихомирить Анну Федоровну — достаточно слово сказать, но она продолжала твердить: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
Лицо Анны Федоровны всегда было хмурым. Однако, если вглядеться повнимательней, в нем иногда проскальзывала какая-то приятность, оставшаяся, должно быть, от прежней жизни, когда она, совсем молодая, ходила, лузгая семечки, вместе с другими девками на игрища, высматривая там своего суженого. И высмотрела на свою беду! Эта сочиненная мной биография Анны Федоровны рушилась как карточный домик, когда начиналась экзекуция. В эти минуты мне хотелось не только броситься на нее, но и исцарапать ей лоб, щеки, укусить в руку или, в крайнем случае, крикнуть во всю мощь своих легких: «Не смейте бить Леньку!» Но страх пересиливал: Анна Федоровна могла скрутить меня в бараний рог, могла отбросить пинком, как отбрасывают вертящегося под ногами шелудивого щенка.
Ленькина мать возмущала не только мою бабушку — всех, однако никто даже не пытался поговорить с ней. Но справедливость восторжествовала: в один прекрасный весенний день — это было всего месяц назад — за Леньку заступился однорукий орденоносец Родион Трифонович Оглоблин, герой гражданской войны, живший в одной квартире с Петровыми. Я чуть не крикнул «ура», когда он, подойдя к разгневанной, только что отвесившей сыну оплеуху Анне Федоровне, властно сказал:
— Больше не распускай руки!
Анна Федоровна опешила. Потом, уперев руки в боки, нахально спросила:
— Ты кто такой, чтобы указы мне давать?
— Оглоблин я, — спокойно ответил Родион Трифонович и пощупал заправленный под ремень пустой рукав суконной гимнастерки.
— Мне твое геройство — тьфу! — с вызовом сказала Анна Федоровна. — Ленька моя плоть: что хочу, то и делаю с ним.
Родион Трифонович нахмурился.
— Я за светлую будущность твоего сынка с беляками бился, свою кровь пролил. А ты, сучья твоя душа, вон что вытворяешь. Терпел я, терпел, а теперь — хватит. Если узнаю, что ты его еще раз вдарила, на себя пеняй. Не посмотрю, что ты мужнина жена: задеру подол и отхлестаю.
— Не совладаешь, — Анна Федоровна кинула взгляд на пустой рукав.
Родион Трифонович положил руку ей на плечо, и она — это все видели — присела.
До того раза я не подозревал, что Оглоблин такой силач. Был он среднего роста, обыкновенного телосложения, на лице с торчащими от небрежного бритья волосинками выделялся только шрам величиной с указательный палец. Был Родион Трифонович одиноким: ни жены, ни детей. О себе он ничего не рассказывал, но было известно, что во время гражданской войны Оглоблин командовал эскадроном, был ранен и тяжело контужен, много лет провел в госпиталях и больницах. Орден Красного Знамени на его груди наглядно подтверждал: Родион Трифонович порубал немало беляков и прочих недругов советской власти. Никакого образования он не имел, даже в церковноприходскую школу не ходил, читал по складам, а писал еще хуже: старательно и долго выводил свою фамилию на пенсионном переводе, так долго, что почтальон начинал нетерпеливо переступать с ноги на ногу и гмыкать.
— Поставь крест, и дело с концом, — не выдерживал почтальон.
— Нельзя, — возражал Оглоблин и, покрывшись от усердия капельками пота, продолжал выводить буквы.
По этой причине — из-за неграмотности — он занимал не ту должность, которую мог бы занимать: был всего-навсего председателем какой-то артели, где что-то шили или вязали, а может, штамповали. Оглоблин был на нашем дворе единственным начальником, пусть маленьким, но все же начальником. Поэтому в глазах большинства жителей нашего двора его общественная значимость была выше значимости двух, всего лишь двух, людей с высшим образованием: моей матери, врача, и инженера Валентина Гавриловича Никольского — язвенника с худым лицом, сединой в волосах, такого же одинокого, как и Родион Трифонович.
Я никогда не видел Оглоблина пьяным, но Ленька рассказал по секрету, что пьет Родион Трифонович как лошадь: поставил перед собой литровую бутыль и тарелку с хлебом и дул, дул, пока не вылакал все.
— А потом что было? — спросил я — хотел услышать что-нибудь жуткое.
— Ничего не было. Посидел, побродил по комнате, сбивая стулья, и спать лег. — Ленька помолчал и добавил: — А мой батька теперь от одной стопки хмелеет. Я люблю, когда он пьяный: смеется и песни поет.
Я был другого мнения. Николай Иванович в пьяном виде походил на шута. В его шуточках-прибауточках, выкриках, шаткой походке было что-то унизительное. Это ощущение возрастало, когда появлялась разгневанная Анна Федоровна и начинала, награждая мужа пинками и тырчками, громогласно бранить его. Несмотря на свое состояние, Николай Иванович ловко увертывался от пинков и тырчков, даже балагурил, потом вдруг сникал, покорно позволял увести себя. Что происходило дальше, рассказывали соседи Сорокиных. Но, увидев на следующий день исцарапанное лицо Николая Ивановича, кровоподтек под глазом, можно было догадаться обо всем и без рассказов.
— Шибко попадает отцу, — доверительно сообщил мне Ленька в тот день, когда Анна Федоровна впервые отрядила его сопровождать Николая Ивановича до проходной.
3
Пока я обменивался с Ленькой взглядами — мы умели спрашивать друг друга глазами, как дела и все прочее, самое важное, — пока отвечал на вопросы Николая Ивановича, Маня исчезла, и я, ошалело уставившись на то место, где сидела она, подумал, что дочь Надежды Васильевны и Парамона Парамоновича словно бы слетела с бревен, как слетает с ветки птица, на которую только что смотрел, а отвернулся на мгновение — лишь ветка покачивается.
— Домой пошла, — подсказал Ленька.
Я внезапно почувствовал: мне неприятно слышать это.
Теперь же я могу с уверенностью сказать: это было первым признаком пробуждавшейся ревности. Я почувствовал: Ленька тоже неравнодушен к Мане. Наверное, в тот час и миг появилась первая трещинка в наших отношениях. Может быть, именно поэтому я отчетливо запомнил все, что происходило в тот день на нашем дворе.
— Опоздаешь, — сказал, обращаясь к отцу, Ленька.
Николай Иванович осторожно потрогал еще не окрепшую корочку на ссадине, намотал на палец и легонько дернул потную прядь.
— Сам сегодня дойду. А ты, сынок, поиграй тут, пока мамка не позовет.
— Обманешь? — В Ленькиных глазах была надежда.
— Ни в жисть! Ты у своего приятеля Андрюшки спроси, — Николай Иванович показал пальцем на меня, — станет ли родитель обманывать единокровное чадо?
Бабушка и мать никогда не лгали мне, и я в ответ машинально кивнул.
— Вот видишь! — обрадовался Ленькин отец.
Я уже сожалел о кивке, но отступать было поздно, да и самолюбие не позволило.
— Вместе отвечать будем, если что, — предупредил меня Ленька.
Вначале я испугался, потом решил: лично мне ничто не грозит.
Николай Иванович двинулся расслабленной походкой к воротам. Чем ближе он подходил к ним, тем увереннее становился его шаг.
— Надо поглядеть, куда он пошел — на «шпульку» или в забегаловку, — спохватился через несколько минут Ленька и убежал.
Я огляделся. Занавески на окнах уже были раздвинуты. Надежда Васильевна в дорогом атласном халате поливала, перегнувшись через подоконник, цветы — маленькую аккуратную клумбу, обложенную поставленными острием вверх кирпичиками. Халат на груди распахнулся — была видна телесного цвета комбинация с кружевами. «У Мани, должно быть, такая же», — подумал я и вдруг ощутил: полыхают щеки. Потом меня окликнула бабушка, попросила сходить в булочную.
— Кидай деньги! — крикнул я.
— Поднимись и возьми их сам, — сухо сказала бабушка.
Бабушка никогда не читала мне нотации, хотя иногда и говорила напрямик, что плохо, а что хорошо. Ее взгляд, интонация, с которой произносилось то или иное слово, оказывали на меня более сильное воздействие, чем наставления. Поднимаясь по лестнице, я думал, что мне не следовало бы кричать, просить бабушку кинуть деньги.
Возвращаясь домой, я чуть не налетел на Парамона Парамоновича: с маленьким саквояжем в руке он спешил к трамвайной остановке.
— Здрасте!
Парамон Парамонович не ответил — потрусил к трамваю. «Успеет или нет?» — я остановился, чтобы увидеть это. Он успел вскочить в последний вагон, и я почему-то огорчился.
Около подъезда меня поджидал Ленька. Округлив глаза, торопливо сообщил:
— Обманул батька. Уже в забегаловке сидит. Хотел вывести его, а он как баран уперся. Достанется мне теперь.
— Не бойся. — Я показал взглядом на Родиона Трифоновича, спокойно покуривавшего на бревне.
Ленька подумал.
— Моя мать никого не боится.
Я не поверил ему, потому что сам, восхищаясь Родионом Трифоновичем, немного побаивался его.
Вышел Валентин Гаврилович — взлохмаченный, невыспавшийся, в помятой рубахе. Торопливо подойдя к Родиону Трифоновичу, попросил жестом папиросу.
— Вредно же натощак. — Оглоблин достал «Казбек».
— Мне все вредно. — Никольский прикурил от папиросы Родиона Трифоновича, с блаженным выражением на лице выпустил дым.
— Хвораешь? — спросил Оглоблин.
— Обострение. Черт меня дернул жареное мясо съесть.
— Нельзя?
— Только вареное. А еще лучше — творог, кашу.
— Хлеб-то можно?
— Белый.
Родион Трифонович посмотрел на ситники и полкило пеклеванного в моей авоське.
— Вчерашний или свежий привезли?
— Теплый. — Я подошел, протянул авоську. — Потрогайте!
Покосившись на окно нашей комнаты, Оглоблин усмехнулся.
— Задаст тебе Прохоровна трепку, если увидит это.
Все обращались к моей бабушке на «вы» и называли ее полным именем — Варварой Прохоровной. Только Оглоблин тыкал ей и панибратски говорил — Прохоровна. Он любил покалякать с бабушкой. Присев в нашей комнате на кончик стула, обводил глазами книжные полки, уважительно спрашивал:
— Неужели все прочла?
— Конечно, — отвечала бабушка.
— И по-иностранному умеешь?
Бабушка кивала. Родион Трифонович вздыхал.
— А вот мне не довелось обучиться грамоте. Когда воевал, думал: разобьем беляков, тогда и начну. Не получилось!
— Почему? — спрашивала бабушка.
— Врачи говорят: контузия на голову повлияла. Как только сяду читать или писать, в голове стук возникает и буковки перед глазами разбегаются.
Бабушка принималась сочувствовать. Оглоблин не любил этого; насупившись, перебивал:
— Верно говорят, что ты до революции богатой была?
— Покойный муж имел капиталец, но перед смертью все промотал.
— Гулял?
Бабушка не любила вспоминать свою прежнюю жизнь, переводила разговор на другое. Родион Трифонович продолжал допытываться:
— За какой список голосовала?
— За пятый, разумеется.
— И пожертвования делала?
— Несколько раз — да.
Кашлянув в кулак, Родион Трифонович удовлетворенно кивал.
— Это хорошо, правильно. Сознательная интеллигенция всегда с народом должна быть. Раньше ты в просторной квартире жила, теперь, видишь, все подравнялись. — Он смолкал, напряженно морщил лоб. — Ты, Прохоровна, не обессудь. Придет время — снова в просторной квартире станешь жить, как и все остальное народонаселение.
Бабушка угощала Оглоблина чаем. Осторожно держа хрупкую фарфоровую чашку, он делал первый глоток.
— Сахар берите. — Бабушка подвигала к нему сахарницу с маленькими серебряными щипчиками.
Родион Трифонович ставил чашку на стол, обиженно бормотал:
— Так не годится, Прохоровна. Я тебе по-простецки, а ты мне — «берите».
— Привычка, — объяснила бабушка.
— Надо отвыкать от таких привычек! — торжественно изрекал Оглоблин и, пренебрежительно посмотрев на серебряные щипчики, брал сахар рукой — чай он пил только вприкуску.
Я с гордостью сообщил, что ни бабушка, ни мать даже не шлепают меня.
— Зря, — сказал Родион Трифонович.
— Почему?
— Пацанов изредка пороть надо, чтоб не разбаловались.
Я перевел взгляд на Леньку.
— Он совсем другое дело, — сказал Оглоблин. — Его мать по своей дурости рукам волю дает, все, паразитка, по голове норовит. Искалечит парня, потом сама же локти кусать будет.
— Это ты верно сказал. — Потушив окурок, Валентин Гаврилович щелчком отбросил его.
Не обращая внимания на меня и Леньку, они стали беседовать. Выяснилось, что Родион Трифонович сегодня первый день в отпуске, еще не решил, как проведет его: то ли на курорт поедет, то ли в деревню к приятелю, с которым громил беляков.
— Замаялся я на работе, — пожаловался Оглоблин. — Каждый день бумажки подписываю, а что в них — не успеваю прочитать. Иной раз подмахну, а потом сердцем тревожусь: вдруг там что-нибудь не то написано… Не рассказывал тебе, что в тот день было, когда я первый раз в председательское кресло сел?
— Нет.
Родион Трифонович крякнул.
— После того как представили меня коллективу, отправился я в свой кабинет. Сейф, шкаф, большой стол с телефоном и чернильным прибором, отточенные карандаши и целых три ручки, пепельница, на окне полотняная штора болтается. Я еще подумал: мать честная, сколько портянок или рубах можно пошить! Кресло удобное. Сижу себе покуриваю. Вдруг секретарша входит — молоденькая, смазливенькая, шустрая такая, с краской на губах. Продает мне папку с завязочками и обходительно так говорит: «На этих документах, Родион Трифонович, резолюцию надо наложить». Я вслух ничего не сказал, но подумал: «Раз надо, наложим». Как только она упорхнула, обмакнул перо в чернильницу и написал на каждой бумаге: «Резолюция наложена. Оглоблин». Все честь по чести сделал, даже точки поставил. Умаялся, словно весь день мешки кидал. Позвал секретаршу, отдал ей папку. И вдруг слышу — хохочет, прямо стены трясутся. Грешным делом подумал: щекочет ее в рабочее время какой-нибудь хлыщ. Нахмурился, отворил дверь. Смотрю: глядит она в раскрытую папку и слезы вытирает. Все сбежались кто смог. «Чего, спрашиваю, ржешь?» Она пальцем тычет в папку и ни словечка сказать не может — хохочет и хохочет. Бухгалтерша над папкой наклонилась и тоже прыснула. Потом и другие сотрудники ухмыляться стали. Вот ведь какая буза получилась.
— Да-а, — сочувственно пробормотал Валентин Гаврилович. — Секретаршу-то, наверное, прогнал?
— Зачем? — Родион Трифонович искренне удивился. — С работой она справляется и человек неплохой, хотя и с ветерком в голове.
Валентин Гаврилович одобрительно кивнул и сказал:
— Без грамоты трудновато руководить даже маленькой артелью.
— Трудно, трудно, — подтвердил Родион Трифонович. — Хотел в сторожа уйти или еще куда-нибудь, но в райкоме сказали: «Нельзя! Заслуженный человек — и вдруг сторож». Обещали подобрать полегче работенку, но до сих пор, видать, не нашли. У меня от этих бумажек ломота в глазах и мозги набекрень. На вороном жеребце с шашкой в руке легче было. Если бы не это, — он покосился на пустой рукав, — то сейчас я на Халхин-Голе полк в бой водил бы.
— Не дали бы тебе полк, — возразил Валентин Гаврилович. — Теперь все командиры с образованием.
— Взвод принял бы. — Родион Трифонович, видимо, и сам понимал, что полком командовать ему не разрешили бы.
В прошлом году был Хасан, а теперь шли бои на Холхин-Голе. Каждый день радио и газеты сообщали что-нибудь тревожное: аншлюс в Австрии, Мюнхенское соглашение, оккупация Чехословакии. Охотней всего Оглоблин и Никольский толковали о международном положении. Поговорив о разных житейских мелочах, начинали спорить: Валентин Гаврилович утверждал, что с фашистской Германией обязательно придется воевать, Родион Трифонович возражал:
— Мировой пролетариат не допустит этого!
— А Хасан? — спрашивал Никольский. — Почему же мировой пролетариат позволил японцам напасть на нас?
Оглоблин снисходительно объяснял:
— Хасан и Халхин-Гол — просто конфликты. Я тебе про настоящую войну толкую. Сам посуди, мы социализм строим, а там и к коммунизму придем. Мировой пролетариат понимает это. Вспомни-ка, что во время гражданской войны было. Империализм и Деникину помогал, и Колчаку, англичане в Архангельске высадились, французы свои порядки в Одессе наводили. И ничего у них не получилось, потому что мировой пролетариат свой голос поднял. Если фашисты нападут на нас, конец им — в Германии восстание произойдет.
— Кто руководить-то им будет? Все немецкие коммунисты в тюрьмах или концлагерях.
— Всех не переловишь и не пересажаешь. Наверняка подполье есть.
Я мысленно соглашался то с Оглоблиным, то с Никольским, но думал всегда одно и то же: мы сразу же разобьем любого агрессора. Иначе я и не мог думать: мне и моим сверстникам постоянно твердили, что «от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней». Об этом говорилось на пионерских линейках, об этом были кинофильмы. Николай Крючков в роли молодого танкиста произвел на меня такое сильное впечатление, что несколько дней я говорил только о танках и танкистах и даже, к удивлению Леньки, решил после школы поступить не в военно-морское училище, как иногда мечтал, а в танковое.
Валентин Гаврилович и Родион Трифонович спорили часто. Так они спорили и в тот день, о котором я рассказываю. Никольский покашливал, чтобы не рассмеяться, а Оглоблин, рубя рукой воздух, убежденно говорил, что вторая мировая война, если она начнется, приведет к полной гибели империализма.
— Потом что будет? — поинтересовался Валентин Гаврилович.
— Коммунизм наступит.
— Так сразу и наступит?
— Не в тот же день, конечно. Но через год-два обязательно.
Никольский обвел глазами халупы на нашем дворе.
— А жить где будем? По-прежнему в этих же домах?
— Зачем в этих же? Другие построим — светлые и просторные.
— За год-два такие не построишь. На это десятилетия понадобятся.
— Подождем. До революции больше ждали.
— Ну вот, — с наигранным разочарованием пробормотал Валентин Гаврилович. — Только что сказал: через год-два, а теперь… И еще вот над чем подумай: коммунизм — это от каждого по способностям, каждому по потребностям.
— Не придирайся к словам, — обиженно пробасил Оглоблин.
Валентин Гаврилович рассмеялся.
— Хороший ты человек, Родион! Но в голове у тебя мусор.
— Это ты брось. — Оглоблин нахмурился. — Я хоть и неграмотный, но политически подкован. Так и в моей характеристике написано.
— Ладно, ладно, — миролюбиво сказал Никольский и добавил: — Надо папирос купить.
— Кури. — Родион Трифонович снова вытащил «Казбек».
— Кислят. — Валентин Гаврилович встал. — Я к «Норду» привык.
Несмотря на несовместимость суждений и многое другое, что часто разъединяет людей, Оглоблин и Никольский были большими друзьями. Родиона Трифоновича, наверное, притягивала образованность Валентина Гавриловича, его задиристость, а вот почему тянулся к нему Никольский, я понять не мог. Как-то раз в разговоре с матерью бабушка сказала, что Родиона Трифоновича и Валентина Гавриловича, скорее всего, сближает их одиночество, неудачно сложившаяся личная жизнь — они были бобылями. Бабушкино объяснение казалось мне убедительным.
4
После того как Родион Трифонович и Валентин Гаврилович ушли, я и Ленька начали слоняться по двору. Я думал о Мане, очень хотел выяснить — действительно ли она нравится моему другу или так только почудилось мне. Спросить об этом прямо не решался, а моих намеков Ленька не понимал или, может быть, не хотел понимать.
Мы слонялись до тех пор, пока Леньку не окликнула мать. Он стал помогать ей развешивать выполосканное белье Я крутился поодаль, ожидая, когда можно будет снова приступить к расспросам.
Вышла Надежда Васильевна с Маней. Они были в одинаковых крепдешиновых платьях, в тапочках на лосевой подошве. Такие тапочки можно было приобрести или по блату, или простояв несколько часов в огромной очереди. Бабушка собиралась подарить мне на день рождения тапочки на лосевой подошве, но никак не могла достать их.
Посмотрев из-под руки на солнце, Надежда Васильевна что-то сказала. Маня возразила, и они неторопливо направились к воротам. Позабыв обо всем на свете, я уставился на Маню — ужасно хотелось, чтобы она обернулась.
— Чего пялишься? — вдруг услышал я голос Анны Федоровны и обнаружил, что Ленька тоже смотрит на Маню.
На душе стало муторно.
— Вырядились, — проворчала Анна Федоровна, провожая взглядом Надежду Васильевну и Маню. — Только и делают, что по магазинам шастают. Живут, как сыр в масле катается. — Резко повернувшись к сыну, спросила: — Сам видел, как отец в проходную вошел?
Ленькино лицо стало бледным-бледным.
— Ага.
— Ты не агакай, а внятно скажи: на «шпульке» он или в забегаловке?
— На «шпульке», — соврал Ленька и потупился.
Поправляя на веревке ветхую простыню, Анна Федоровна вздохнула:
— С утра сердце щемит, а отчего — не пойму.
Неприязнь к Леньке была такой сильной, что я чуть не съябедничал. Очень обрадовался, когда бабушка позвала меня обедать.
— Чего такой невеселый? — спросила она, когда я сел за стол.
— Так.
Бабушка потрогала мой лоб:
— Перегрелся.
На обед была окрошка — квас бабушка приготовляла сама. И, наверное, потому что день был жаркий, а окрошка холодной и восхитительно вкусной, я на этот раз не привередничал.
После обеда бабушка прилегла отдохнуть. Я улизнул во двор — хотелось снова увидеть Маню и, если удастся, поговорить. Взглянул на холодно поблескивавшие стекла в окнах их комнаты и понял: еще не вернулись. Ленька помогал матери кормить и укладывать спать братьев — было слышно их хныканье, лепет.
За воротами гулять бабушка не разрешала — на нашей улице была трамвайная линия, довольно часто проносились, подпрыгивая по булыжной мостовой, автомобили. Но я все-таки вышел. Остановившись вблизи ворот, устремил взгляд в ту сторону, откуда, по моим предположениям, должна была появиться Маня.
Сильно припекало. Асфальт на тротуаре стал вязким. Воробьи с раскрытыми клювами и растопыренными перьями суетились, отпихивая друг друга, возле небольшой лужицы, образовавшейся под краном, на который дворник надевал утром и вечером поливочный шланг. Может быть, в какой-нибудь другой день я с интересом глазел бы на воробьиную возню, теперь же было не до этого. Солнце пробивало кроны, тень была жиденькая, улица казалась вымершей: трамваи и автомобили давно не появлялись, на одиноких прохожих я не обращал внимания. Грудь давила тоска, и что-то предчувствовало сердце. Через несколько минут ноги сами понесли меня в мое убежище.
За сараями было как в парной бане. От раскаленного железа растекался горячий воздух; лопухи, крапива и другие растения поникли, навозные мухи, издали похожие на синеватые точечки, блаженствовали, поправляя лапками блестящие крылышки; на нагретые доски снова выползли вспугнутые моим появлением ящерицы и замерли, полузакрыв дымчатой пленкой выпукло-круглые, как булавочные головки, глаза. На Конном дворе лениво переругивались извозчики. Найдя кусок доски, с одной стороны совершенно сухой, с другой испачканный грязью, с притаившимися мокрицами, я устроил что-то вроде скамейки и сел в тупике, где узкий-узкий проход преграждала прохудившаяся панцирная сетка, обломки досок, битые кирпичи и истлевшее тряпье. Солнце сюда не проникало. Было тесно: одно плечо ощущало стену сарая, другое то и дело касалось каменной ограды. Большой серый паук перебежал в самый дальний угол затейливо сплетенной паутины — подкарауливал мух.
Смешно говорить о любви в тринадцать лет. Но что-то, несомненно, было. Помню, как билось мое сердце и возникала перед глазами Маня — нарядная, с насмешливым блеском в глазах. Я беззвучно разговаривал с ней. Забегая мыслями в будущее, представлял себя в фуражке с «крабом», в белом кителе, с кортиком на боку, а рядом уже взрослую Маню, ослепительно красивую и нежную. Тогда я даже не предполагал, что мои устремления никогда не сбудутся: мечта о флоте вначале отодвинется, потом и вовсе исчезнет, а Маня… Вон она идет по двору мимо моих окон с внуком. Это не мой внук. И двор другой. Лет через пятнадцать после войны всех нас переселили в один и тот же микрорайон, расположенный на окраине Москвы. Окраиной это место было недолго. Теперь поблизости от нас метро, по улице ходят троллейбусы и автобусы. От нашего дома до центра всего полчаса езды. Погрузневшая, с подкрашенными, чтобы скрыть седину, волосами, эта Маня, а правильней Мария Парамоновна Петрова — да, да, по-прежнему Петрова! — ничем не напоминает мне ту девочку, в которую по-мальчишески глупо и безнадежно был влюблен я. Как много воды утекло с той поры, как много было в моей жизни радости и горя! Однако время не стерло в памяти наш двор и его обитателей. Некоторые из них еще живы, как я и Мария Парамоновна, других уже нет.
5
Я не уловил тот момент, когда вдруг спала жара. Почувствовав на лице освежающее дыхание приближавшегося вечера, вдруг увидел, что солнце переместилось на край неба, тень от сараев покрыла каменную ограду — лишь на самой верхушке нежно золотилась паутинка и грелись бабочки. Я никогда не ловил их, потому что наизусть помнил песенку мотылька, прочитанную мне бабушкой лет шесть или семь назад:
Как недолог мой век, Он не более дня, Будь же добр, человек, И не трогай меня.Возвещая о конце рабочего дня, на «шпульке» проревел гудок. Ему ответил другой, третий — на нашей улице было несколько крупных предприятий.
После гудков на дворе становилось оживленно — поодиночке и группами возвращался рабочий люд: женщины и девушки в ситцевых платьях, цветных косынках, мужчины и парни в пропахшей машинным маслом одежде. Навстречу родителям выбегали их дети; старики и старухи в ожидании сыновей и дочерей, расположившись на ступеньках, лавочках или бревнах, устремляли слезившиеся глаза на ворота. В дни получек или под выходной жены рабочих еще до гудков направлялись к проходным. Некоторые из них приводили мужей трезвыми; получив деньги, мчались в расположенный неподалеку продмаг за четвертинками и поллитровками, иногда выпивали с мужьями, а чаще просто позволяли им «погулять». Те, кому не удалось привести мужей, возвращались понурые, беспричинно орали на детей и престарелых родителей, поминутно вскидывали наполненные скорбью и надеждой глаза на ворота. С наступлением вечера наш двор наполнялся гомоном, песнями, пьяным смехом. Бабушка вздыхала и, обращаясь ко мне, повторяла: «Никогда не пей. Слышишь, никогда!» Но так бывало только в дни получек или под выходной. В обычные дни, еще задолго до гудков, в квартирах начинали шипеть примуса, потрескивать керосинки По двору распространялся запах перепревших щей, подгоревшей картошки, обжаренной чайной колбасы. Мне хотелось попробовать эту колбасу, хотелось, несмотря на то что бабушка утверждала: «Соленая она и невкусная». Я верил ей, но обжаренная чайная колбаса все же пахла так, что слюнки текли.
Бабушка была гурманкой. На второе она приготовляла или мозги в сухарях, или отварной говяжий язык, или почки в какой-то особенной подливе, или котлеты, сочные и пахучие. Если ей удавалось купить курицу, то на первое была густая лапша (я всегда выбрасывал из нее морковь), на второе ножка или крылышко с тщательно размятым — ни комочка — картофельным пюре и зеленым горошком в беловатом густом соусе. Сухой зеленый горошек в холщовом мешочке висел около печки. Там же, в коробке, хранились специи: гвоздика, мускатные орехи, корица, одним словом, все то, от чего, особенно после книг о Колумбе и Магеллане, разыгрывалось воображение.
Ленькин отец возвращался домой всегда в одни и те же часы. Даже тогда, когда он, по его собственному утверждению, «отдыхал» в забегаловке. Его состояние зависело от количества выпитых им стопок. Иногда Николая Ивановича кто-нибудь приводил, закинув себе на плечо его вроде бы безжизненную руку, но чаще он приходил на своих двоих, пристав по дороге к какой-нибудь компании. Выпивохи — об этом можно было судить по их лицам — завидовали ему, однако сами не напивались каждый день: может, жен побаивались, а может, совесть не позволяла; трезвенники осуждали Ленькиного отца, никогда не останавливались поболтать с ним; остальные мужчины, подавляющее большинство, относились к нему с насмешливой снисходительностью. Если люди, с которыми шел Николай Иванович, оказывались свойскими, а сам он держался на ногах (Ленькин отец быстро хмелел и так же быстро протрезвлялся), то начиналось «представление», посмотреть которое высыпали все, кто был охоч до таких зрелищ.
Услышав хмельной голос Николая Ивановича, я поспешно выбрался из своего убежища, потому что не сомневался: Анна Федоровна или публично оскорбит сына, или, на худой конец, пригрозит ему ремнем, и это, конечно, унизит его в глазах Мани. Ничего другого я не желал, даже в мыслях не допускал, что Сорокина ударит Леньку: заступничество Оглоблина казалось мне достаточной порукой.
Я появился в тот момент, когда Анна Федоровна при всем честном народе выговаривала сыну. Он что-то ответил ей, и тогда она, размахнувшись, влепила ему оплеуху.
— Балбес! — крикнула Анна Федоровна и снова отвела руку.
Ленька отскочил. Она — так мне показалось — удивилась.
— Подойди!
Ленька отступил еще дальше. Лицо Анны Федоровны покрылось пятнами, в глазах возник нехороший блеск.
— Подойди, кому говорят!
Ленька помотал головой.
— Ну погоди, — пригрозила Анна Федоровна и ринулась к нему.
Было смешно и немного страшновато смотреть на них: увертливый мальчишка и женщина с грацией верблюда. Самолюбие, видимо, не позволяло Анне Федоровне плюнуть и уйти. Ее лицо раскраснелось еще больше, на спине и под мышками проступил пот. Ленька играл с матерью, как кошка с мышью: то подпускал близко-близко, то задавал стрекача.
— Не догнать! — неожиданно сказал Николай Иванович и, пьяно икнув, рассмеялся.
Анна Федоровна, похоже, только и ждала этого: подскочила к мужу и, награждая пинками и тырчками, стала осыпать его бранью. Он увертывался, балагурил.
— Ирод! — воскликнула Анна Федоровна и так пнула мужа, что он, оборвав на полуслове очередную шуточку, потер ушибленное место.
Ленька смотрел на родителей издали. Николай Иванович внезапно стих, дал увести себя. После этого все стали расходиться. Я посмотрел на плотно закрытое окно комнаты Родиона Трифоновича и понял: его нет. Увидел за спиной Надежды Васильевны, грузно навалившейся на подоконник, Маню.
— Достанется теперь ему, — пробормотала Надежда Васильевна, поправляя локоны.
Я не понял, о ком говорит она — о Леньке или его отце, но уточнить не решился. Глядя на спину матери, Маня спросила:
— Кому достанется — Николаю Ивановичу или Леньке?
Надежда Васильевна подумала.
— Обоим!
— Если бы Родион Трифонович был дома, то Сорокина не посмела бы!
До сих пор я никогда не разговаривал с Надеждой Васильевной. Пробегая мимо окон комнаты Петровых, поспешно ронял «здрасте», не слышал, что отвечали мне, да и отвечали ли вообще.
Манина мать медленно повернула голову. Ее брови приподнялись, на лице возникло удивление, она — так показалось — пыталась сообразить, кто я и откуда взялся. Я чуть не назвал свою фамилию и не объяснил, что живу в этом же доме, на втором этаже.
— Ты очень громко кричишь и много бегаешь, — неожиданно сказала Надежда Васильевна.
То же самое мне говорили раньше — бабушка, мать, соседи. Я давал слово кричать потише и бегать поменьше, но во время игр так увлекался, что вспоминал о своем обещании лишь тогда, когда ноги подкашивались от усталости и становилось сухо во рту.
Переминаясь с ноги на ногу, я пристыженно молчал. Петрова смотрела на меня. Так продолжалось несколько секунд, показавшихся мне вечностью. Потом Маня, обратившись к матери, спросила:
— Давно ушел Родион Трифонович?
— Часа два назад. Вместе с Никольским был, — ответила Надежда Васильевна.
Мне хотелось поболтать с Маней, но Надежда Васильевна, обведя глазами уже опустевший двор, пробормотала:
— Пора ужин стряпать — скоро твой отец придет.
Они ушли. Из распахнутых окон доносились голоса. Ленька бродил вдоль каменной ограды — два шага в одну сторону, два в другую, что-то подбирал с земли, рассматривал и отбрасывал прочь. На меня он не обращал внимания. «Ну и не надо», — обиделся я.
Я собрался домой, когда во дворе появились Оглоблин и Никольский — раскрасневшиеся, с туманом в глазах. Опустившись на бревна, Родион Трифонович вытер платком лицо.
— Холодненькое пивко было — лучшего и не пожелаешь.
— Изумительное, — поддакнул Никольский. — Давненько не угощался.
— Почему?
Валентин Гаврилович ткнул пальцем в живот. Оглоблин поморгал.
— Неужто и пиво нельзя?
Никольский кивнул. Родион Трифонович нахмурился, строго спросил:
— Зачем же пил?
— То нельзя, это нельзя — надоедает. Мне, Родион, иной раз хочется вкусить что-нибудь этакого. — Валентин Гаврилович щелкнул пальцами.
Постучав мундштуком папиросы по коробке «Казбека» Оглоблин проворчал:
— Знал бы, что пиво тебе вредно, не дал бы.
— Даже кружечку?
Родион Трифонович не ответил — созерцал пепел на кончике папиросы.
Я лихорадочно соображал: «Сказать или промолчать?» И то, и другое казалось гадким: молчание было предательством по отношению к Леньке, а ябедников на нашем дворе презирали. Занятый своими мыслями, я не смотрел на Леньку и вздрогнул, услышав его вопль. Цепко держа сына, Анна Федоровна лупила его, норовя попасть по голове.
— Прекратите! Немедленно прекратите! — Валентин Гаврилович вскочил, стал нервно поглаживать волосы.
Анна Федоровна кинула на него шальной взгляд, поволокла Леньку в дом. Родион Трифонович медленно поднялся.
— Не дури, — сказал Никольский.
Оглоблин что-то проворчал и, расстегивая на ходу ремень, неторопливо направился к дому, в котором жили Сорокины.
Никто ничего не видел и никто ничего не узнал бы, если бы через несколько минут после возвращения Родиона Трифоновича — он снова расположился вместе с Никольским на бревнах — не выбежала бы Анна Федоровна и не начала бы истошно голосить. Задирая подол платья и вращая глазами, она рассказывала всем о том, что совершил Родион Трифонович.
— Неужели и вправду высек? — тихо спросил Никольский.
Оглоблин кивнул.
Жильцы отнеслись к этому событию по-разному. Одни говорили: «Так ей и надо», другие возмущались, вполголоса называли Родиона Трифоновича хулиганом.
— Милицию надо вызвать! — воскликнула Надежда Васильевна. Она вышла в халате, в домашних тапочках с меховой отделкой. — И жалобу подать. Вот придет Парамон Парамонович и напишет. — Увидев бредущего к дому мужа, ринулась к нему, стала что-то объяснять.
— Влетит тебе, — сказал Оглоблину Валентин Гаврилович.
Родион Трифонович помолчал.
— По-хорошему предупредил, а она…
Опасливо покосившись на него, Парамон Парамонович помотал головой. Надежда Васильевна принялась переубеждать мужа. Я посмотрел на Маню. Наши взгляды встретились, и я вдруг понял, что она одобряет Родиона Трифоновича.
Ничего не добившись от мужа, Надежда Васильевна вернулась к людям, окружившим плотным кольцом Анну Федоровну. Леньки во дворе не было. Николай Иванович, с виду совершенно трезвый, подойдя к Оглоблину, воинственно спросил:
— Кто тебе право дал мою супружницу учить?
— Отстань, — сказал Родион Трифонович.
Покосившись на людей, Ленькин отец стукнул себя кулаком в грудь.
— Я бы сам, раз такое дело!
Оглоблин усмехнулся. Николай Иванович намотал на палец и легонько дернул прядь — это он проделывал всегда, когда волновался, нашел взглядом жену.
— Скажи ему, Нюр, учил я тебя или нет?
— Учил, Коль, обязательно учил, — подтвердила Анна Федоровна.
Николай Иванович выпятил грудь. Анна Федоровна поспешно добавила:
— А в прошлый раз он меня сукой обозвал.
Я отлично помнил: в прошлый раз Оглоблин сказал «сучья твоя душа».
Николай Иванович потешно всплеснул руками.
— За такие слова… Знаешь, что полагается за такие слова?
— Ну-ка объясни.
Николай Иванович икнул. Чувствовалось: воинственность в нем угасает. Анна Федоровна крикнула Оглоблину:
— За все ответишь! По судам затаскаю!
— Валяй, валяй, — вяло откликнулся Родион Трифонович.
Кто-то позвал милиционера. Уважительно поглядывая на орден Родиона Трифоновича, он называл его товарищем, Анне Федоровне строго говорил «гражданочка». Порасспросив жильцов, милиционер, кидая на Оглоблина виноватые взгляды, объяснил Ленькиной матери, что она может обратиться в суд. И твердо добавил:
— За истязание малолетнего тоже привлечь могут!
Анна Федоровна удивленно поморгала…
Когда я вошел, бабушка раскладывала пасьянс. Очки с металлическими дужками держались на кончике носа. Не отрывая глаз от карт, спросила:
— Что за шум был? Выглянула в окно — Сорокина возмущается, а что кричала — не разобрала. (Бабушка была туговата на ухо.)
Я чуть выждал и объявил:
— Родион Трифонович высек ее.
— Не может быть! — Бабушка успела подхватить очки.
Я рассказал все, что видел и слышал.
Она водрузила очки на прежнее место, внимательно посмотрела на меня поверх стекол.
— Ничего не присочинил?
— Ни-че-го!
— Ну и ну, — сказала бабушка и рассмеялась.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Я не помню, что было на другой день, через неделю, через месяц, через год. Выдумывать не хочется. В памяти остались, словно высвеченные лучом прожектора, лишь отдельные события, случаи, эпизоды. Но еще один день стоит перед глазами наряду с тем днем, о котором я уже рассказал. Прежде чем приступить к хронике этого дня, я должен сообщить о всех запечатлевшихся в памяти событиях, случаях, эпизодах.
Сперва о Мане. Похвастать мне нечем. Мы стали друзьями, но отнюдь не такими, какими рисовало наши взаимоотношения мое воображение. Маня ничем не выделяла меня, относилась ко мне так же, как и к Леньке, иногда чуть лучше, иногда чуть хуже, однако без эмоций, без томных улыбок, без обещаний, без всего того, чего хотело мое сердце. Но в кино я ходил с ней все же чаще, чем Ленька. У него никогда не было денег, а бабушка раз в неделю давала мне рубль. Мы смотрели фильмы в «Авангарде» или в «Первом детском». В «Авангарде», бывшей церкви, даже в жарынь было прохладно, а вот пахло там неприятно — не то плесенью, не то еще чем-то, очень нехорошим. Но я не обращал внимания на запах, иногда не понимал, что происходит на экране — рядом была Маня. «Первый детский» казался мне самым шикарным кинотеатром, намного шикарнее расположенного поблизости от него «Ударника». Теперь «Авангарда» нет — снесли. А в «Первом детском» на Берсеньевской набережной размещается Театр эстрады.
Я был эмоциональнее Леньки, и, наверное, поэтому мое чувство к Мане в скором времени перестало быть тайной. Глядя на нее, бабушка с едва уловимым сомнением говорила: «Славная девочка» — и переводила взгляд на меня, словно стремилась найти какой-то ответ на моем лице. Я мучительно краснел. Усмехнувшись, бабушка проводила рукой по моим волосам. Надежда Васильевна теперь симпатизировала мне: часто подзывала к себе, расспрашивала о матери, бабушке, о моих планах на будущее.
— Неприступна твоя бабушка, неприступна, — вкрадчиво говорила Надежда Васильевна. — Кивнет головой и — мимо. А мне иной раз так хочется отвести душу. Совсем мало на нашем дворе культурных людей.
Манина мать не уточняла, кто они, культурные люди, но я мог дать голову на отсечение, что себя она причисляет к этой категории. Развивая свою мысль, Надежда Васильевна продолжала:
— Я ведь тоже не из простой семьи. Мой папаша конторщиком был, а матушка, как и водится, домашнее хозяйство вела. Мы богато жили, как и твоя бабушка.
Напоминание об этом причиняло мне боль. Я стыдился, что когда-то моя бабушка была буржуйкой, держала прислугу. Стараясь не выдать себя, с гордостью объявлял, что мой отец сам выбился в люди.
— Слышала, слышала, — кивала Надежда Васильевна и добавляла, что помнит моего отца. — Он с твоей мамой отдельно от бабушки жил. Ты тут, они там. Твой отец сюда редко приходил. Он, — она устремляла на меня пытливый взгляд, — вроде бы не ладил с бабушкой?
Так, по-видимому, и было. В отличие от матери, вспоминавшей отца с добротой в глазах, бережно хранившей его письма, бабушка отзывалась о нем с прохладцей в голосе. Я никогда не спрашивал у нее, каким был мой отец, потому что помнил его сам — он скоропостижно скончался семь лет назад.
— Замуж надо твоей маме, — часто говорила Надежда Васильевна. — С образованием, интересная, всего один ребенок — чего же еще?
Если во время бесед с Надеждой Васильевной появлялась Маня, меня приглашали в комнату. Чувствовал я там себя неуютно. Все было новенькое, все блестело, сверкало. Боясь что-нибудь опрокинуть или разбить, я сидел как парализованный. Надежда Васильевна не замечала этого, а Маня подбадривала меня взглядом. Парамон Парамонович — так бывало по вечерам и в выходные дни — горбился над своим столиком и, казалось, ничего не видел и не слышал. Во дворе или на улице он иногда отвечал на мое приветствие, а чаще, даже не кивнув, проходил мимо.
2
Самым трагическим событием на дворе было самоубийство Николая Ивановича, точнее, попытка наложить на себя руки. Спас его Родион Трифонович. Услышав стук отброшенной табуретки и хрипы, он вышиб плечом дверь, перерезал веревку и, держа Ленькиного отца под мышкой, словно куль, вынес его на свежий воздух, уложил на траву, принялся растирать грудь. Анна Федоровна в это время была в магазине, Ленька колол дрова, мелкота возилась, распустив сопли, неподалеку от дома. Двор тотчас наполнился людьми, но подойти близко никто не решался: на шее Николая Ивановича темнела веревочная петля и лицо было синеватым.
— Преставился, — сказала Надежда Васильевна: она всегда выбегала во двор, когда дрались, скандалили или происходило еще что-нибудь.
Мелкота подняла такой рев, что стало больно в ушах. Ленька — он тоже примчался — позеленел. Маня храбро подошла к Оглоблину.
— Помочь?
— Искусственное дыхание умеешь делать?
— Попробую.
— Давай!
— С ума сошла, — пробормотала Надежда Васильевна, но не окликнула дочь.
Я и раньше замечал: она никогда не бранит Маню, не прекословит ей, иногда казалось — побаивается. Да и сама Маня вела себя с матерью независимо.
Старухи и прочий люд переглядывались, давали вполголоса советы, подчас противоречивые: мелкота ревела во всю мощь своих глоток; Ленька беспомощно топтался около Родиона Трифоновича и Мани. Оглоблин приложился ухом к груди Николая Ивановича. Пока он слушал, все молчали.
— Живой! — объявил Родион Трифонович и велел Леньке — одна нога тут, другая там — вызвать «скорую».
Ближайший телефон-автомат был в продмаге, где покупали съестное все обитатели нашего двора; только бабушка предпочитала другие магазины, чаще всего ездила на Арбат в диетический.
Ленька припустил так, что чуть не сшиб в воротах Анну Федоровну. Услышав рев сыновей и увидев столпившихся во дворе людей, она ринулась к ним, перекладывая из руки в руку тяжелую сумку. Все расступились. Ошалело посмотрев на распластанного на траве мужа, она бросила сумку — выкатился кочан капусты и несколько картофелин — и принялась голосить.
— Очухается, — проворчал Родион Трифонович и снял с шеи веревку.
Анна Федоровна сразу успокоилась.
Через полчаса приехала «скорая». Ленькиного отца увезли в психиатрическую больницу.
Вышел он оттуда в феврале. За это время Анна Федоровна сильно изменилась: поседела, похудела еще больше, не скандалила, как раньше, устроилась на работу. Вначале она была дворником на соседнем дворе, потом, когда скончался от разрыва сердца наш дворник, стала разбрасывать снег, сгребать листья, поливать тротуар и мостовую перед нашими воротами.
Ленька, пока не было отца, поступил в ремесленное училище: ходил в черных брюках, в такой же рубахе, в фуражке с блестящими, скрещенными над козырьком молоточками. Он учился на токаря, был очень доволен. Виделся я теперь с ним лишь по воскресеньям. Сидя на бревнах, Ленька посасывал, неумело выпуская дым, папироску-гвоздик и бренчал, запустив руку в карман, мелочью. Анна Федоровна косилась на него, но вслух ничего не говорила: Ленька был на полном государственном обеспечении, приносил кое-какие деньги домой — с этим приходилось считаться. Родион Трифонович называл его рабочим человеком, расспрашивал, как кормят и чему учат в ремеслухе. Никольский с неохотой признавал, что для Леньки ремесленное училище единственный выход. Рассердившись на меня, бабушка говорила: «Тебя тоже надо отдать туда!» Первое время я думал, что она так и поступит, вскоре понял — пугает.
Поскольку у Леньки теперь водились деньжата, и побольше, чем у меня, он приглашал Маню в кино, но она, как доверительно сообщила мне Надежда Васильевна, сходила с ним всего разочек, потом стала ссылаться на плохое настроение или на дела. Это радовало меня.
После больницы Николай Иванович долго бюллетенил, но не сидел дома сложа руки — помогал жене разгребать снег, скалывал с тротуара лед. Иногда он вызывался сбегать в магазин или в булочную, но Анна Федоровна никуда его не отпускала от себя.
Ленька рассказал мне, что отец выпрашивал у него трояк. Вначале Ленька хотел дать, потом спохватился. Сейчас отец сердится, сидит в комнате как сыч: не ест, не пьет и ни с кем не разговаривает; он, Ленька, хочет вызвать врача, а мать против: боится — залечат.
— А если отец снова напьется? — спросил я.
Ленька подумал.
— Мать всех обошла, кто раньше ему подносил, слезно просила не угощать и в долг не давать.
И все-таки через несколько дней я увидел Николая Ивановича веселеньким.
Была весна. Снег стаял, но еще не подсохло. На бревнах судачили старухи, рассказывали о своих хворях, радовались солнцу, предсказывали урожайный год. Увидев Николая Ивановича, смолкли. Проводив его долгими взглядами, стали ожидать «представления». На этот раз «представления» не было: Анна Федоровна не бранила и не колотила мужа — молча впустила в дом. Старухи переглянулись.
Спустя две недели Надежда Васильевна сообщила мне, что теперь Анна Федоровна сама покупает мужу четвертинку. «Представления» прекратились. Это огорчило не только старух, но и Манину мать: она жаловалась на скуку, чаще подзывала меня к окну — расспрашивала о том, что говорят на кухне наши соседи, что делает, сготовив обед, бабушка. Сплетнями я не интересовался, бабушка же в свободное время или читала, или раскладывала пасьянс.
— Вчера вечером ходила куда-то, — уличала меня Надежда Васильевна. — В новой шляпке была, с коричневым ридикюльчиком.
Бабушка любила театр, часто ходила в Большой, в Малый, в МХАТ. В молодости она слушала Карузо, Шаляпина, Собинова. На вечерние спектакли бабушка ходила или одна, или с матерью, а на дневные водила меня. «Лебединое озеро», «Конек-Горбунок», «Евгений Онегин», «Фауст», «Травиата», «Горе от ума», «Синяя птица», «Стакан воды», «На дне», «Вишневый сад» — невозможно перечислить все оперы, балеты, пьесы, которые я смотрел или слушал вместе с бабушкой. Про драматических актеров она говорила — великолепные, восхищалась Качаловым, Ершовым, Ливановым, Еланской, Садовским, Климовым, Яблочкиной, Рыжовой, а о певцах отзывалась сдержанно. В антракте, оглянувшись по сторонам, спрашивала: «Заметил, как Трике[12] петуха пустил?» В ответ на мое «нет» удивлялась, со вздохом сожаления добавляла: «Жаль, что у тебя музыкального слуха нет». Музыкального слуха у меня действительно не было, но музыку я чувствовал. Этим я обязан бабушке.
Я сказал, что вчера бабушка была в театре. Надежда Васильевна оживилась.
— Я в оперетту хожу. Ярон — просто душка, очень смешной. А к опере и балету я равнодушна. Декорации, конечно, красивые и костюмы дорогие, но все остальное непонятно. Постановки мне тоже не нравятся: говорят, говорят и жизнь изображают, какой не было и нет. Совсем другое дело оперетта и кино — «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». Я все смешное люблю, потому что жизнь скучная.
Я мысленно не согласился: жить было интересно.
Маню я теперь видел только в школе. Сразу после обеда она куда-то уходила. Возвратившись уже в сумерках, садилась учить уроки. Надежда Васильевна с явным неодобрением сообщила, что дочь посещает медицинский кружок.
— Теперь все шиворот-навыворот, — добавила она. — Девицы с аэропланов прыгают, на Дальний Восток едут. Разве это хорошо? Женский пол с малолетства к семейной жизни приучаться должен. Посоветовала Мане в кружок домоводства записаться. Она плечиком дернула. Просила Парамона Парамоновича с ней поговорить. Он уткнулся носом в часики — ни бе ни ме.
Когда Маня училась в первом классе, родители купили ей игрушечный медицинский набор: фонендоскоп, градусник, пробирки, повязку с красным крестом, бинты, вату. И хотя Маня не говорила об этом, я догадывался: после школы она собирается поступить в медицинский институт.
Котята, раненые галки и вороны, выпавшие из гнезд птенцы — все это, к большому неудовольствию Надежды Васильевны, приносилось в дом.
— Грязь в комнате и вонь, — жаловалась она, а Мане ничего не говорила, только требовала почаще мыть руки.
Птенцы погибали от неправильного кормления, галки и вороны, окрепнув, улетали, котята, полакав молоко, убегали к бездомным, беспокойно мяукавшим под окнами Петровых кошкам.
Перебирая в памяти прошлое, я так и не смог вспомнить, когда Маня впервые отказалась пойти в кино. Почему-то кажется: было это после истории со щенком.
Однажды вечером мать принесла крохотного щенка с похожим на крендель хвостиком. Как только она опустила его на пол, он тотчас напрудил. Не отрывая от лужицы глаз, бабушка что-то пробормотала по-французски. (Мать говорила по-французски плохо, но понимала все.)
— Да ты посмотри, какой он прелестный! — воскликнула она и велела мне взять тряпку и вытереть пол.
— Обыкновенный пес, — сухо сказала бабушка. — Гадить будет и блох напустит.
Мать стала переубеждать ее, говорила, что забота о щенке научит меня отзывчивости, доброте. Щенок лизнул меня в нос. Я расчувствовался, стал умолять бабушку оставить мне щенка, но она твердо заявила:
— Ни за что!
Бедного пса отнесли в сарай и заперли. Я долго не мог уснуть — слышал, как он скулит.
Утром бабушка отдала щенка Мане. Парамон Парамонович нанял Сорокина сколотить в сарае конуру. Николай Иванович даже утеплил ее — Надежда Васильевна пожертвовала для этого ветхое одеяло. Мне становилось грустно и больно, когда я смотрел, как Маня возится со щенком.
Он превратился в великолепного пса. На меня Бобик — так Маня назвала щенка — не обращал внимания, даже не обнюхивал. Я страдал, сердился на бабушку. Она ни разу не утешила меня: должно быть, осознавала какую-то свою правоту. Потом Бобик исчез: может быть, его украли, может быть, схватили живодеры.
До сих пор не понимаю, почему бабушка, вроде бы такая чуткая, внимательная, не разрешила мне оставить щенка. Конечно, в комнате его нельзя было бы держать. Но ведь нашли же выход Петровы! А бабушка… Сколько лет прошло, а я все не могу избавиться от какого-то недоумения. Часто думаю, как бы она поступила со щенком, если бы его не взяла Маня. Неужели бы отдала усыпить? Уверяю себя, что несправедлив к бабушке, стараюсь думать о ней с нежностью, вспоминаю все доброе, хорошее, что она сделала для меня, чему научила, хочу верить, что бабушка бы оставила щенка, если бы он не напрудил в первую же минуту, и ничего не получается.
Простить — значит понять и умом, и сердцем. Умом все понимаю: теснота, псиный запах, дополнительные хлопоты, а вот сердце бунтует. Наверное, все то, что человек видит, слышит и чувствует в детстве, остается в нем навсегда.
3
Воскресный день, о котором я начинаю свой рассказ, остался не только в моей памяти — в памяти всех обитателей нашего двора.
Было раннее утро. На бревнах — они потемнели еще больше и рассохлись так, что в щели свободно проникал палец, — уже покуривал Родион Трифонович. Был он все в той же гимнастерке с привинченным к ней орденом, в галифе. А вот сапоги на нем были новенькие, купленные, видимо, недавно.
За два года Оглоблин почти не изменился — не постарел, не обрюзг, по-прежнему приходил к бабушке и за чаепитием калякал с ней, поражая меня то наивностью своих суждений, то непоколебимой верой в светлое будущее, на пороге которого, как он утверждал, стоит человечество. Бабушка советовала ему жениться. Он отворачивался, мучительно краснел, поспешно переводил разговор на другое: чаще всего возвращался к своей излюбленной теме — к полной победе коммунизма во всех странах. «Мечтатель», — говорила бабушка, когда Родион Трифонович уходил. Я никак не мог понять — осуждает она его или жалеет.
Было слышно, как Надежда Васильевна уговаривает Парамона Парамоновича сходить в ЦПКиО имени Горького — погулять, покататься на лодке.
Я ждал Маню. Вчера вечером бабушка дала мне целых три рубля. Я тешил себя надеждой, что Маня на этот раз согласится пойти в кино или на дневное представление в цирк — денег хватило бы и на билеты и на мороженое.
Сорокины еще спали. Накануне они справляли день рождения Анны Федоровны: гуляли шумно, но скандала и драки не было. Виднелись две кучи мусора, и еще не просохший асфальт перед воротами: Ленькина мать, видимо, поднялась рано-рано, наскоро подмела, полила и снова легла.
Появился Никольский с папиросой во рту. Подошел к Родиону Трифоновичу, поздоровался.
— Как спалось? — спросил Оглоблин.
— Снилось что-то, а что — не вспомню.
— Бывает. — Родион Трифонович потрогал шрам на лице. — А я всю ночь с боку на бок перекатывался. Неспокойно у меня на душе.
Было не жарко и не прохладно — в самый раз. По небу плыли облака. Когда солнце пряталось в них, двор накрывала тень, и все — деревья, дома — становилось сероватым. Как только возникал оранжевый краешек диска, тень стремительно отступала, двор преображался.
Никольский посмотрел на небо:
— Не пойму — будет дождь или нет?
— В парк собрался?
— Дельце есть. Просили съездить в одно место и посмотреть кое-что.
— Что?
Валентин Гаврилович кашлянул.
— Извини, Родион. Это я сказать не могу.
Где и кем работал Никольский, было неизвестно. Зарабатывал он прилично, покупал разные вещи и вещицы, даже «лейку» имел, но жил безалаберно: постоянно терял то часы, то деньги, делал дорогие подарки иногда навещавшим его красивым женщинам, часто ездил в командировки. За исключением бабушки, Оглоблина и Петровых, все жильцы брали у него взаймы, а отдавали долги, как я слышал, лишь самые совестливые. Ленькин отец был должен ему пятьдесят рублей. Увидев Никольского, Николай Иванович подходил к нему и, теребя на своем пиджаке пуговицу, с придыханием бормотал:
— Не серчай, Гаврилыч. Дай срок — все до копейки представлю.
— Ничего, ничего. — Валентин Гаврилович конфузился, словно не ему задолжали, а он.
Надежда Васильевна уверяла, что этих денег Никольскому не видать как своих ушей. А я часто думал: «Сколько прекрасных вещей можно купить на пятьдесят рублей — самый дорогой „Конструктор“, барабан, футбольный мяч и много-много шоколадных конфет».
Несколько минут Никольский и Оглоблин молчали, окутываясь сизоватым, быстро растворявшимся в воздухе дымком.
— Сегодняшние газеты читал? — спросил Родион Трифонович.
— Читал.
— Чего там?
Оглоблин выписывал «Правду», но читал, как сам признавался, лишь коротенькие заметки.
— Раньше и это прочитать не мог. — Он показывал на крохотную, всего несколько строк, информацию. — Теперь осиливаю. Ничего, придет срок — у Прохоровны стану книжки брать. Она говорит: от них человеку большая польза.
— Правильно говорит, — подтверждал Валентин Гаврилович.
Валентин Гаврилович сказал, что в сегодняшних газетах ничего нового, а немцы, должно быть, продолжают перебрасывать свои войска с Балкан поближе к нашим границам.
— Об этом уже сообщение ТАСС было! — воскликнул Оглоблин. — В нем ясно сказано, что слухи о намерении Германии напасть на нас — брехня.
Никольский ничего не ответил.
— Я этому пакту о ненападении тоже не очень-то доверяю, — пояснил Родион Трифонович. — Два года назад их Риббентроп как снег на голову свалился. Если бы не фотографии в газетах, то я не поверил бы, что он в самом Кремле был.
Я вспомнил, как обрадовалась бабушка, когда был подписан договор с Германией. «Теперь большой войны не будет», — убежденно сказала она в тот день.
Вышел Ленька с перекинутым через плечо полотенцем. Постоял на пороге, неторопливо двинулся к водопроводному крану.
В доме Сорокиных, как и в других маленьких, одноэтажных домах нашего двора, водопровода и канализации не было. У каждого из этих домов был свой кран: им заканчивался небольшой отросток узкой трубы, ответвлявшейся от более широкой, укрепленной чуть выше фундамента и уходившей в землю. Над выгребными ямами были дощатые будки с навесными или врезанными в двери замками. Весной и летом Сорокины, как и другие обитатели маленьких, одноэтажных домов, умывались во дворе, с наступлением холодных дней набирали воду в ведра.
После Леньки высыпала мелкота. Немного погодя появился заспанный Николай Иванович. Поплескав на лицо и наскоро вытеревшись взятым у Леньки полотенцем, он подошел к бревнам, виновато сказал Никольскому:
— Скоро рассчитаюсь с тобой, Гаврилыч. Завтра на работу выхожу.
— Хорошо, хорошо, — пробормотал Валентин Гаврилович.
Родион Трифонович пошевелил бровями.
— Опять небось пить начнешь и дурака валять?
— Ни в жисть! — Ленькин отец приложил руку к сердцу.
— Смотри, — сказал Оглоблин.
— Ни в жисть! — проникновенно повторил Николай Иванович и спросил: — Последние известия слышали?
Родион Трифонович вскинул голову.
— Передавали что-нибудь?
Николай Иванович вздохнул.
— Проспал. Теперь одну музыку гонят.
Оглоблин кашлянул.
— С восьми часов гонят.
Никольский поднялся.
— Ну, я пошел.
— Вернешься-то когда? — спросил Родион Трифонович.
Валентин Гаврилович пожал плечами.
— Если настроение будет, заходи, — сказал Оглоблин.
Никольский кивнул и направился быстрым шагом к воротам. Николай Иванович кинул завистливый взгляд на сапоги Оглоблина.
— Давно купил?
— Позавчера.
— Разнашиваешь?
— Ага.
— Ты побольше ходи, а от сидения никакого проку.
— Успею находиться. — Родион Трифонович достал еще одну папиросу, протянул «Казбек» Николаю Ивановичу: — Закуривай.
— Бросил.
— Ну-у?
— Пятый день не курю.
— И не тянет?
— Сперва тянуло, теперь — ничего.
— А насчет этого как? — Оглоблин щелкнул себя по шее. Покосившись на окно своей комнаты, Николай Иванович доверительно сообщил:
— Потребность имеется. Нюрка обещала каждый день подносить, если все как у людей будет.
— Думаешь, получится так-то?
— Раз у тебя получается, у меня тоже должно получиться.
— Что-о?
— Ты, я слышал, крепко пьешь.
— От кого слышал-то?
Ленькин отец усмехнулся. Родион Трифонович покраснел, подозрительно посмотрел сперва на меня, потом на игравшего с братишками Леньку.
— Меня никто никогда пьяным не видел и не увидит!
— Вот и я порешил так же пить.
Оглоблин скривился, словно от зубной боли, показал взглядом на высунувшуюся в окно Анну Федоровну.
— Твоя хозяйка объявилась. Ступай, пока сама не позвала.
Когда Николай Иванович ушел, он велел мне сесть рядом. Затянувшись, выпустил из ноздрей дым, затоптал окурок.
— Перед моим окном ты в тот раз торчал?
Я помотал головой.
— Значит, Ленька, стервец, был. Я тогда решил — мерещится. Получается — нет. Тебе, сам соображаю, он все, как было, изложил. Ты мужчиной будь — не трепи языком. Прохоровне, признайся, не докладывал?
— Нет. — Я действительно ни слова не сказал бабушке о том, что услышал в тот раз от Леньки.
— И не надо!
Несколько минут мы молчали. Я почувствовал, что Оглоблин ответит на все мои вопросы и будет говорить как с равным, и спросил:
— Если фашисты нападут на нас, через сколько дней мы их победим?
— Быстро справимся. Через несколько дней, точно не скажу, но быстро. — Наклонившись ко мне, добавил счастливым шепотком: — Я недавно на маневрах был — мой бывший комполка пригласил, он теперь большой военачальник: до прошлого года по три ромба в петлицах носил, сейчас — генерал. Собственными глазами видел, какая у нас армия. Во! — Оглоблин поднял вверх большой палец. — И про то не позабывай, о чем я постоянно толкую. Хоть Валентин Гаврилович и посмеивается, но я верю в рабочую солидарность. Пока фашистам удается обманывать немецких рабочих. Но они, помяни мое слово, восстанут, если Гитлер на нас кинется.
Я не сомневался, что Красная Армия самая сильная. Хасан, события на Халхин-Голе, бои на Карельском перешейке — все это было наглядным подтверждением. За два года я повзрослел, поумнел и теперь без колебаний думал только о военно-морском училище. Смущало лишь то, что мне не давалась математика: по алгебре и геометрии я получал одни «посики» и даже «плохо». В военно-морских училищах, как я выяснил, главное внимание уделялось точным наукам.
Две недели назад я сдал последний экзамен. В свидетельстве об окончании неполной средней школы было два «посредственно». Бабушке и матери я сказал, что в экзаменационных билетах по алгебре и геометрии мне попались самые трудные вопросы, сам же прекрасно осознавал: эти вопросы ничем не отличались от других. На экзаменах по математике я «плавал», запросто мог бы получить переэкзаменовку на осень.
4
Двор наполнился воскресным многоголосьем. Из дома вышли Петровы, чинно направились к воротам. Парамон Парамонович был в чесучовом костюме, в белой панаме. Без своего саквояжа он походил на дачника. Надежда Васильевна надела соломенную шляпу с широкими полями, с бантом на боку, кремовое платье с вышивкой. Маня — в теннисной майке с отложным воротничком, в синей сатиновой юбке — была такой хорошенькой, что я даже дышать перестал. Проводив Петровых взглядом, с грустью подумал, что кино на сегодня откладывается.
— Пойду, — сказал Родион Трифонович. — Самое время чаек вскипятить и супчик сготовить.
Он не любил бывать на кухне, когда там хозяйничала Надежда Васильевна. Ее Оглоблин терпеть не мог так же, как и она его. Однако эти трения никогда не перерастали в открытый конфликт. К Парамону Парамоновичу Родион Трифонович относился непонятно: то жалел его, то называл подбашмачником.
Родион Трифонович прихрамывал, разок чертыхнулся: сапоги, видимо, жали. Я оглянулся — никого. Сорокины, должно быть, пили чай: полчаса назад я видел, как Ленька набирал воду в большой эмалированный чайник. Бабушка ушла на рынок, мать была в командировке. Я поплелся в свое убежище.
За сараями все было прежним — лишь к лопухам и крапиве добавился вьюнок, стремительно взбиравшийся по шершавой поверхности каменной ограды. Невзрачные, бледно-розовые цветы вьюнка почему-то нравились мне. Зимой я сюда не приходил — пробраться мешали сугробы. Осенью, когда погибали растения и обнажался металлический хлам — искореженный, ржавый, мокрый, мне становилось грустно. Совсем другое дело — весна, лето. Но сегодня за сараями ничего не привлекало меня и думать ни о чем не хотелось. Распугав ящериц и потрогав ногой какую-то железяку, я вернулся во двор. Пока меня не было, появился Ленька.
Наша прежняя доверительность, даже сердечность, давно уступила место сдержанности. И дело было не только в Мане — мы изменились сами: острее видели, острее слышали, чаще сравнивали свою жизнь и свои устремления с жизнью и устремлениями других людей. И хотя я по-прежнему играл в «красные и белые», не прочь был побегать, покричать, понимал: мне уже пятнадцать лет. Два года пролетели незаметно, теперь я думал, что пятнадцать лет — это и много и мало. Я уже читал Мопассана, читал тайком, когда бабушка и мать уходили в театр или в гости. В груди поднималась горячая волна и каменело тело, лишь стоило увидеть невзначай промелькнувшую резинку на женском чулке, загадочную ложбинку в глубоком вырезе платья, соскочившую с плеча бретельку. Я называл себя гадким, нехорошим, а глаза помимо воли устремлялись на женщин. И о Мане я уже думал не так, как два года назад, — отмечал про себя, какие у нее ножки, губы, грудь. По утрам побаливали мускулы, я часто ощущал в себе беспокойство, для которого вроде бы не было никаких причин.
Последнее время Ленька ужасно важничал. Я делал вид, что он и его дела меня ни капельки не интересуют, в действительности же очень хотел узнать, что он говорил Мане и что отвечала она, когда они останавливались посередине двора. Иногда возникала мысль о том, что Ленька и Маня встречаются тайком. Думая об этом, я так расстраивался, что отвечал невпопад на вопросы и даже дерзил людям.
— Как дела? — спросил я.
— Как сажа бела.
Я хотел повернуться и уйти, но Ленька, виновато улыбнувшись, сказал:
— Не обижайся, это просто так выскочило. Дела мои нормальные. Вчера мастер похвалил — я одну очень сложную деталь самостоятельно выточил. Мастер сказал, что мне, наверное, присвоят не третий разряд, как всем, а сразу четвертый.
— Когда присвоят?
— Недолго ждать. Через неделю нас на каникулы распустят, потом практика, и все.
— Где работать собираешься?
— На карбюраторный пойду: от дома близко и условия на «ять».
— На токарном станке тяжело работать?
— Мне нравится. Приятно видеть, как из-под резца стружка бежит и вместо болванки красивая деталь получается. Устаю, правда. Но наш мастер говорит: так и должно быть. Мы тоже уставали, когда в «красные и белые» гоняли.
— Это совсем другое дело.
— Усталость всегда одинаковая. — В Ленькином голосе появилась снисходительность.
Я вдруг понял: я в его глазах белоручка; стал лихорадочно соображать, чем бы поддеть Леньку, но ничего путного в голову не пришло.
— В техникум поступать будешь или в восьмой класс пойдешь? — поинтересовался Ленька.
Бабушка советовала поступать в какой-нибудь техникум, мать говорила, что я должен продолжать учиться в школе. Мою тираду о военно-морском училище они не приняли всерьез — не одобрили и не отвергли.
Я сказал Леньке, что мои планы прежние — военно-морское училище. Он намотал на палец и легонько дернул, как это делал Николай Иванович, прядь.
— Может, поступишь, а может, нет. Моя мать часто говорит: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Я невольно отметил про себя, что Ленька рассуждает как взрослый. Это еще больше отдалило меня от него.
5
Я не помню, кто первый крикнул: «Война!» Иногда мне кажется, это сделала Анна Федоровна, иногда я готов побожиться, что испугал меня и Леньку внезапно выбежавший Родион Трифонович. Совершенно точно могу сказать лишь то, что в течение нескольких последних минут, пока я и Ленька продолжали разговор, во дворе происходило что-то непонятное: в окнах мелькали люди, раздался приглушенный плач, кто-то выругался. Я часто думаю: в те минуты даже воздух на нашем дворе стал другим, на деревьях тревожно шевельнулась листва, смолкли воробьи, исчезли бабочки. Может, так и было, а может, все это теперь просто представляется мне.
Не чувствуя под собой ног, ничего не видя и не слыша, я помчался домой. Увидел застывшую около черного репродуктора бабушку, ощутил в груди неприятный холодок.
— Не расстраивайся, пожалуйста, не расстраивайся! Мы с ними быстро справимся.
— Дай-то бог, — сказала бабушка и неожиданно послала меня в продмаг: велела купить побольше мыла и крупы.
Я спросил, какую покупать крупу и какое мыло. Она подумала:
— Гречку бери, рис, манку, а мыло — лучше хозяйственное.
В продмаге была очередь. Продавалась только перловая крупа, которую бабушка никогда не покупала — она плохо разваривалась, и нелущеный горох. Я получил мыло — отпустили всего три куска — и направился домой. Шел и всматривался в лица людей. На некоторых лицах были печаль, растерянность, другие, казалось, ничего не выражали. Я всегда ходил быстро, теперь же чуть ли не бежал. Увидев впереди Петровых, припустился во всю прыть. Маня обернулась.
— Знаем, знаем! Поэтому и не стали на лодке кататься.
— Родион Трифонович считает — война недолгой будет!
— Конечно, конечно, — поспешно согласился Парамон Парамонович.
Надежда Васильевна комкала шелковую перчатку. Маня была спокойна, и я обрадованно подумал, что в самое ближайшее время фашисты будут отброшены от наших границ. Захотелось порассуждать, продемонстрировать свои познания о нашей военной мощи, но Петровы, несмотря на то что во дворе было полно людей, не останавливаясь, вошли в дом.
Я остался во дворе. Николай Иванович громко заявил, что его могут забрать на войну в любой момент — он явно хотел получить в неурочное время свою порцию вина. Анна Федоровна грубовато ответила:
— Хвосты крутить лошадям будешь — ни на что другое не годишься!
— Хвосты тоже крутить кому-нибудь надо, — сказал Николай Иванович и, выразительно почмокав, лизнул сухие губы.
— Обедать сядем — тогда и налью. — Анна Федоровна вытерла носы ребятишкам, легонько шлепнула самого проказливого пацана.
— Вроде бы пора. — Николай Иванович повозил рукой по животу.
— Еще не готовила! — отрезала Анна Федоровна и позвала мужа в дом.
— Куда бегал? — спросил меня Ленька.
— За мылом.
— Стирка?
— Про запас, наверное. А хорошей крупы нет — только перловка и горох.
— Горох я уважаю, — сказал Ленька. — Сытно и вкусно. В нашей столовке часто гороховый суп дают, на второе кашу с мясом.
Я подумал, что, наверное, не стал бы есть ни гороховый суп, ни кашу с мясом. Вслух сказал:
— Наподдадим мы фашистам так, что у них глаза на лоб вылезут!
Ленька поддакнул.
Узнав, что в продмаге был только нелущеный горох и перловая крупа, бабушка попеняла:
— Надо было брать.
— Ты же сама…
— Ничего, ничего, — пробормотала она.
Во второй половине дня к нам пришел Родион Трифонович.
— Извиняй, Прохоровна. Мое радио сломалось, а без новостей — маета… Ничего не передавали?
— Только музыка, — сказала бабушка.
Родион Трифонович свел брови.
— Гонят и гонят.
Бабушка предложила ему чаю. Досадливо отмахнувшись, он сказал:
— Своему знакомцу звонил, — Оглоблин выразительно посмотрел на меня, — но его дома нет. Жена с детьми на курорте, домработница одно твердит: ночью вызвали — как в воду канул. В его кабинете, в наркомате, никто трубку не снимает. Я уже все гривенники извел. — Родион Трифонович задумался. — Не иначе, он у самого наркома сидит и мозгует вместе с другими генералами, как пошибче по врагу вдарить.
В коридоре раздались голоса.
— Минуточку, — сказала бабушка и вышла.
Вернулась она с домоуправом — солидным мужчиной в парусиновом костюме, брезентовых полуботинках и таким же портфельчиком под мышкой, растерянно пробормотала:
— Светомаскировку велит сделать и бумажные полоски на окна наклеить.
Родион Трифонович нахмурился, строго сказал домоуправу:
— Не паникуй!
Тот поправил под мышкой портфельчик.
— Мое дело, Родион Трифонович, маленькое. Прислали гонца с указанием. А я выполняю.
— Неужели бомбить будут? — Бабушка не скрывала тревоги.
Оглоблин пружинисто встал, прошелся, скрипя сапогами, по комнате.
— Этого не допустят, Прохоровна!
Бабушка достала пахнувшее нафталином одеяло и покрывало с коричневатыми отметинками от утюга. Я вбил над окнами гвозди — по одному справа, по одному слева. Потом бабушка сварила клейстер, и я стал наклеивать на оконные стекла бумажные полоски. То же самое делали и другие жильцы. Родион Трифонович, сердито посапывая, косился на черную тарелку репродуктора — все ждал сообщения о контрударе наших войск…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Закрою глаза и вижу наш двор: клены, тополя, две березки, совершенно одинаковые, похожие на близнецов-сестричек. Они были соединены широкой доской, положенной на приколоченные к стволам бруски, — получалась лавочка, на которой свободно размещались два, а если потесниться, то и три человека. Тень от листвы была такая густая, что даже в самые знойные дни на этой лавочке жара не ощущалась, а легкий шелест над головой рождал задумчивость и грусть. Наверное, именно поэтому обитательницы нашего двора, прежде чем войти в свои дома, отдыхали несколько минут под березками, поставив около себя тяжелые сумки с провизией: бросали рассеянные взгляды по сторонам или сидели, уставившись в одну точку.
Вижу дом Сорокиных с тремя окнами на фасаде — их окно было крайним справа. Я никогда не бывал в комнате Сорокиных, до сих пор не могу понять, как они, четыре пацана и двое взрослых, жили на десяти, максимум двенадцати, квадратных метрах. Мелкота спала вповалку на самодельном топчане, родители на полутораспальной железной кровати, а Ленька раскатывал себе на ночь на полу тюфяк. Обстановка в комнате Сорокиных была убогой — это я видел в окно, когда вызывал Леньку поиграть. Запомнился квадратный стол, накрытый протершейся клеенкой, расшатанные стулья с гнутыми спинками, облезлый комод, который давно следовало бы выбросить или сжечь. На стенах с отставшими обоями, в пятнах и подтеках, были цветные картинки и аляповато раскрашенные открытки с изображениями целующихся голубков, молодых мужчин с напомаженными волосами и томных женщин с душераздирающими надписями под пронзенными сердцами. Женщины на открытках казались мне потрясающе красивыми. Увидев пачку таких открыток у немого продавца, я попросил бабушку — мы шли куда-то — купить мне хоть одну, но она, кинув на них взгляд, пробормотала: «Безвкусица» — и даже не остановилась. Теперь я понимаю, что бабушка была права, а тогда очень огорчился. Разумеется, я не стал бы пришпиливать открытку ни над письменным столом, ни над диваном, на котором спал, — носил бы в школьном ранце и время от времени созерцал бы томную даму, может быть, сравнивал ее с Маней.
Дом, в котором жили мы — я, бабушка, мать, Петровы и Оглоблин, — был самым большим на нашем дворе. Над подъездом нависал козырек, на второй этаж вела широкая лестница, потолки в комнатах были высокие, полы паркетные. Поэтому наш дом считался роскошным.
Жили мы в тесноте, некоторые семьи неважно питались, но никто не сомневался: пройдет еще несколько лет, и жизнь улучшится. Да она уже и улучшалась: с каждым годом становилось все больше промышленных товаров, в продмагах можно было купить все то, что до недавнего времени продавалось только в торгсинах. Оглядываясь в прошлое, в предвоенные годы, я с удивлением обнаруживаю, какими крохами цивилизации довольствовались мы. Нашу жизнь определяло нечто большее, чем материальное благополучие. Мы жили с верой в будущее, имели ясную цель, ненавидели тех, кто толкал нас назад. И если бы не война… Она принесла на наш двор не только беды, голод, страдания — она искалечила души.
Двор пустел. Уходили скопом и поодиночке. Уходили хмельные и трезвые. Уходили под визг гармошек, под разноголосый плач, уходили и с шуточками, с напутствиями вернуться, если не с орденом, то хотя бы с медалью. Иногда наш двор напоминал вокзальный перрон: чемоданы, баулы, рюкзаки и просто мешки с веревочными лямками; разноцветные платья женщин; вертящаяся под ногами детвора; приглушенный плач, смех, выкрики, папиросный дым. Через час наступала тишина, и только окурки, обрывки газет, колбасные ошурки напоминали о том, что было. Появлялась Анна Федоровна, сметала мусор в одну кучу, грузила его на тачку, увозила и — все. И лишь в сердцах близких оставались боль и тревога о тех, кто покинул наш двор, и, может быть, навсегда.
Николай Иванович уходил в народное ополчение в сопровождении всей семьи. Рядом с ним твердо ступала жена, с другой стороны, чуть поотстав, нес на плече фанерный чемодан Ленька, позади шалила, бегая вперегонки, мелкота. Николай Иванович был под градусом, но держался молодцом — даже не покачнулся. Накануне он гулял допоздна: хмельным голосом выводил слова каких-то жалостливых песен. Пропев первый куплет, смолкал. Спустя минуту начинал петь сызнова, и всегда что-нибудь другое.
Ленькин отец низко кланялся всем, просил не поминать его лихом, даже мне сказал эти же слова. Анна Федоровна молчала с непроницаемым выражением на лице. Лишь вблизи ворот, словно бы спохватившись, она принялась голосить, но голосила как-то неестественно, без внутренней боли, как будто бы отдавала дань приличию. Никто ничего не сказал, но по лицам людей я понял: Ленькину мать осуждают.
Незаметней всех уходил Парамон Парамонович. Я увидел его в тот момент, когда он, держа в одной руке чемодан, а в другой матерчатую сумку с провизией, направился, глядя прямо перед собой, на сборный пункт, находившийся на соседней улице в той самой школе, где я и Маня учились в параллельных классах. Вначале я решил, что Парамон Парамонович, должно быть, уезжает в командировку, но сразу же вспомнил, что, в отличие от моей матери и Никольского, он никогда не ездил по служебным делам в другие города.
На дворе никого не было, и Парамон Парамонович, маленький, щуплый, чуть сгорбленный, показался мне таким беззащитным, что сжалось сердце. Нагнав его, я пожелал ему счастливого пути и скорого возвращения. Опустив чемодан и прислонив к нему сумку, Манин отец с неожиданной сердечностью поблагодарил меня. Его рука оказалась холодной, мягкой, но пожатие было ощутимым. Осмелев, я предложил Парамону Парамоновичу проводить его, хотел взять чемодан.
— Не утруждайте себя, — поспешно сказал он и туманно пояснил: — Это ничего не изменит.
Очень хотелось узнать, почему его не провожают самые близкие ему люди — жена и дочь. Спросить об этом я не осмелился.
И в тот день, и позже я вспоминал слова «это ничего не изменит», но расшифровать их так и не смог. Несколько раз собирался обратиться за помощью к Мане, но отказывался от этой мысли, почему-то думал: «Она или расстроится, или тоже начнет ломать себе голову».
Таким — маленьким, щуплым, чуть сгорбленным, беззащитным — и оставался Парамон Парамонович в моей памяти до тех пор, пока я снова не встретился с ним. Произошло это через два с половиной года в другом городе.
Никольского в первые дни войны я не видел. Родион Трифонович, встречая меня во дворе, виновато помаргивал.
— Заманиваем. Потом, сам увидишь, так шарахнем, что… — Он делал энергичный жест.
Уже был оставлен Шяуляй, шли ожесточенные бои на всех направлениях, сводки, расплывчатые, неопределенные, не оставляли никаких надежд, но мне хотелось верить Оглоблину, и я говорил всем — бабушке, матери, Леньке, Надежде Васильевне, Мане, — что в самое ближайшее время фашисты будут разгромлены. Бабушка и мать не воспринимали мои слова всерьез, Надежда Васильевна отводила глаза, Маня ничего не говорила, и лишь Ленька неуверенно поддакивал мне. Ему досрочно присвоили разряд, он оформлялся на работу.
Через несколько дней мать сказала, что можно эвакуироваться в тыл. Бабушка так разволновалась, что даже щеки порозовели.
— Здесь вся моя родня похоронена! — заявила она. — Отсюда я — никуда!
Вопрос об эвакуации отпал.
В тот же день, вечером, пришел Оглоблин. Наспех поздоровавшись, сказал бабушке:
— Знаешь, Прохоровна, что Валентин Гаврилович отчудил?
— Что?
— Тоже в ополчение записался.
— Значит, так надо.
— Надо, надо! — воскликнул Родион Трифонович. — А тут кто мозгами шевелить и вкалывать будет? Я? У меня для этого башка не приспособлена и рука всего одна.
Отсутствовал Никольский две недели. Вернулся он на «эмке». Его не только привезли, но и помогли внести в дом вещмешок. Был он в многократно стиранном красноармейском обмундировании, в нелепо нахлобученной на остриженную голову пилотке, в тяжелых башмаках с обмотками. Во двор тотчас высыпали люди, начали оживленно обсуждать это событие. Надежда Васильевна неуверенно сказала, что, должно быть, кончилась или вот-вот кончится война. Анна Федоровна фыркнула:
— Отвертелся!
— Отвертелся? — переспросила Надежда Васильевна.
— Только так, — подтвердила Анна Федоровна. — Словчил и отвертелся!
Такое объяснение очень понравилось Надежде Васильевне. Она стала всех уверять, что Валентин Гаврилович большой хитрец: словчил и отвертелся. По простоте душевной, а скорее по глупости, то же самое она сказала и возвратившемуся с работы Оглоблину. Обозвав Манину мать дурой, он, хлопнув дверью, помчался к Никольскому. Надежда Васильевна застыла с неочищенной морковкой в руке. В такой позе я и увидел ее, когда вошел: хотел поболтать с Маней. Ее дома не было. Надежда Васильевна стала жаловаться на Родиона Трифоновича.
— Пока Парамоша дома был, этот человек (так она назвала Оглоблина) никогда не выражался, — добавила Манина мать.
Теперь Надежда Васильевна называла мужа только Парамошей, часто вспоминала, каким добрым, внимательным и храбрым был он. Я не сомневался в доброте и внимательности Парамона Парамоновича, а вот храбрым при всем желании назвать его не мог: он откровенно побаивался и Оглоблина, и Ленькиного отца, никогда не разнимал дерущихся. Муж Надежды Васильевны был тише воды ниже травы, но она уже создала свой собственный образ и, видимо, утешалась этим. Может быть, ей всегда хотелось видеть Парамона Парамоновича не только добрым и внимательным, но и храбрым, и теперь, когда он ушел воевать, она поверила, что он и был таким.
Так и не дождавшись Мани, я начал слоняться перед окнами Никольского: надеялся перехватить Оглоблина и выяснить, почему Валентина Гавриловича отпустили.
На бревнах сидели старухи. На стенах домов, на траве лежали оранжевые пятна, лоскутки, скошенные квадратики — последний свет уходившего на покой солнца. На улице прозвенел трамвай и гукнул, освобождая себе путь, автомобиль. Мне вдруг показалось, что не было и нет никакой войны, что на нашем дворе ничего не изменилось. Взгляд наткнулся на перекрещенные полосками бумаги окна, и я ощутил в груди боль и тревогу.
В тот вечер мне так и не удалось поговорить с Оглоблиным — бабушка позвала ужинать, потом пришло время спать.
Утром Родион Трифонович сам рассказал, что в последний момент, перед отправкой эшелона, где-то сообразили, что в тылу Никольский принесет больше пользы. За ним прислали машину и после долгих препирательств с начальником эшелона, ничего не соображавшим от бессонницы и усталости, привезли домой.
Я сразу же спросил, где и кем работает он. Оглоблин подумал.
— Мог бы наплесть тебе невесть что, и ты бы поверил. Но врать не хочу. Сам он ничего о своей работе не рассказывал. А раз не рассказывал, значит, запрещено ему это. Но у меня свое соображение имеется. Сдается мне, что работает Валентин Гаврилович в каком-то секретном учреждении. И не просто линейку к бумаге прикладывает и циркулем кружочки рисует, а сам придумывает что-то.
Я решил, что Родион Трифонович близок к истине, когда увидел приехавшую за Никольским «эмку» с тем же, что и вчера, шофером и еще одним человеком — с неприметным лицом, в обыкновенной кепочке, в костюме с обтрепанными обшлагами. Поздно вечером на той же машине и с теми же людьми Валентин Гаврилович возвратился домой. Человек с неприметным лицом отворил дверцу машины, подождал, пока Никольский не вошел в дом, и только тогда, сказав что-то шоферу, уехал.
Это стало повторяться каждый день. Анна Федоровна предположила вслух, что человек с неприметным лицом, должно быть, начальник Никольского и живет поблизости, поэтому, мол, и подбрасывает его. Я согласился бы с ней, если бы спутник Валентина Гавриловича не открывал бы ему дверцу и не был бы молчаливо-озабоченным.
Потом Никольский исчез. Затемнив руками дневной свет, Родион Трифонович всматривался через стекла в его комнату, встревоженно бормотал:
— Может, в командировку укатил? Не похоже… Вон на шифоньере чемодан лежит, с которым он всегда ездит. Да и меня бы предупредил. Не мог укатить не предупредивши — не такой он человек.
Почесывая согнутым пальцем нос, Оглоблин, отойдя от окна, продолжал:
— Может, в милицию сообщить; так, мол, и так — был человек и сплыл?
— И «эмка» перестала приезжать, — напомнил я.
Родион Трифонович задумался.
— Наверное, на работе ночует, — наконец сказал он. — Я, понимаешь, совсем упустил, что машина теперь сюда не ездит. Если бы с ним что-нибудь стряслось, то его начальство, конечно, всполошилось бы.
Отсутствовал Никольский ровно шесть дней. Приехал он на той же самой «эмке» — похудевший, поседевший еще больше, но с довольным блеском в глазах.
— Видать, тебе хорошо было, — проворчал Родион Трифонович, стискивая его руку под пристальным взглядом человека с неприметным лицом.
— По-всякому было! — весело отозвался Валентин Гаврилович и, попрощавшись кивком с шофером и молчаливым спутником, пригласил Оглоблина к себе.
2
После первых бомбежек Родион Трифонович был таким мрачным, что ни у кого не возникала охота разговаривать с ним. Бабушка возмущалась:
— Говорил: не допустят, а приходится в убежище ходить.
Ближайшее от нашего двора бомбоубежище находилось в подвале церкви, давным-давно превращенной в клуб. Там было прохладно, сыро, неуютно и пахло так же, как в «Авангарде». Тускло светила мохнатая от пыли и паутины малосвечовая лампочка. Я силился разглядеть в полумраке Манино лицо — хотелось узнать, что думает она, вспоминает ли, как мы вместе ходили в «Авангард». Узнать ничего не удалось — издали Манино лицо было бледновато-серым. Плакала и хныкала детвора, тяжко вздыхали старики и старухи, тихо переговаривались женщины. Все втягивали головы и косились на своды, когда поблизости разрывалась бомба. Как только диктор объявлял отбой воздушной тревоги, люди оживлялись.
В черте города бомбы падали редко — истребительная авиация и зенитчики отгоняли вражеские самолеты; в московское небо прорывались один-два бомбардировщика. Вскоре мы перестали ходить в бомбоубежище. Во время воздушных налетов сидели одетые кто на кровати, кто на стуле и, прислушиваясь к вою сирен и разрывам, тихо разговаривали. В окнах дребезжали стекла, комната на несколько мгновений освещалась багряным всполохом, проникавшим сквозь байковое одеяло и покрывало с коричневатыми отметинами от утюга.
С питанием становилось все трудней. Ввели продуктовые карточки. Бабушка хотела, чтобы я устроился на работу к Родиону Трифоновичу, но я решительно воспротивился. Пошел в отдел кадров второго ГПЗ и через несколько дней стал учеником строгальщика в ремонтно-механическом цехе. Встречаясь с Ленькой, кивал ему так же небрежно, как до недавнего времени кивал он мне. И хотя Ленька уже имел разряд, а я был лишь учеником, в моем сознании утверждалась мысль, что отныне мы не просто мальчишки, а рабочий класс.
Цементный, в пятнах мазута, пол. Запах смазки. И станки, станки, станки — токарные, сверлильные, фрезерные и один строгальный. Словно бы мертвые во время пересменок и в перерывах на обед, они оживали — начинали жужжать, скрипеть, грохотать, как только включался рубильник или нажималась на пульте красная кнопка. Собачий холод. Сквозняки. Бегущая из-под резца стружка — синеватая, закрученная в тугие спиральки или рассыпчатая, похожая на крупу. На крупу походила чугунная стружка. И, наверное, поэтому мне нравилось обстругивать чугунные болванки — похожая на крупу стружка притупляла чувство голода. Теперь у меня постоянно сосало под ложечкой. Я вспоминал бабушкины довоенные обеды и жалел, что нельзя вернуть все то вкусное и сытное, от чего я воротил нос или просто ковырял вилкой.
В первые дни я так уставал, что подкашивались ноги. Возвратившись с работы, пил чай, чаще всего обыкновенный кипяток с крошкой растворенного в нем сахарина, съедал кусок хлеба, и все. Работал я в три смены. Трудней всего было ночью: днем спать не хотелось, а после полуночи то и дело приходилось тереть глаза, дергать себя за мочку уха или щипать бедро.
На нашем дворе работали все, кто мог. Даже Надежда Васильевна собиралась устроиться куда-нибудь. Маня продолжала учиться в школе: у Петровых были сбережения, они имели возможность жить на иждивенческие продуктовые карточки.
Конный двор превратился в гараж. Когда и как исчезли лошади, никто не видел. В один осенний день на Конный двор въехали полуторки и трехтонки с газогенераторными баллонами по бокам кабин и обосновались там — некоторые в конюшнях, некоторые под открытым небом, где еще долго-долго сиротливо стояли телеги с поникшими оглоблями. Вонь бензина и отработанного газа не могла перебить запах конского навоза.
На каменную ограду натянули колючую проволоку, поставили вышку, на которой так и не появился охранник, около ворот — они находились далеко от улицы — сколотили будку. В ней сидел то шустрый старичок с пустой кобурой на боку, то крикливая женщина в телогрейке, подпоясанной широким ремнем, то молчаливый инвалид на деревянной ноге. Анна Федоровна утверждала, что гараж — военный объект, но люди в военной форме на Конном дворе не показывались, все шоферы были в гражданской одежде, ночью эта территория охранялась, как и раньше, сторожем с берданкой.
Утром, идя на работу, я видел, как разъезжаются, расплевывая фиолетовый дымок, полуторки и трехтонки. Среди шоферов было много женщин и разбитных девушек. Женщины, вцепившись в рулевое колесо, сосредоточенно смотрели на дорогу, а девушки косились на меня, иногда подмигивали.
Что возили на грузовиках — этим никто не интересовался: излишнее любопытство вызывало настороженность, запросто могли и в милицию отвести. Постоянно возникали разговоры о шпионах и диверсантах. Анна Федоровна уверяла, что сама видела сигнальную ракету, пущенную во время бомбежки в сторону ажурной радиовышки, возвышавшейся неподалеку от нашего двора. Надежда Васильевна рассказывала, что на соседней улице поймали и тут же расстреляли диверсанта, на вид обычного человека. «Очень неважно одетого», — добавила она. Надежда Васильевна не могла толком объяснить, что натворил диверсант и как его схватили: сама она ничего не видела — только слышала.
Артель, где продолжал председательствовать Оглоблин, расширилась. Ей передали еще одно помещение — склад, в котором до войны хранился фураж. Теперь в артели было четыре цеха: в одном пилили чурки для газогенераторных баллонов, в другом сколачивали ящики для снарядов, в третьем что-то штамповали, а в четвертом шили сумки для противогазов и рукавицы. Четвертый цех Родион Трифонович считал самым важным, с гордостью говорил, что его работницы — иногда он называл их бабами — шьют на совесть — сумки и рукавицы вовек не порвутся.
— Зря Прохоровну не послушался и ко мне не поступил, — укорял он меня. — Я бы тебя своим главным помощником сделал. А то, понимаешь, до сих пор боязно, не читая, бумажки подписывать. Конечно, теперь все люди стараются по совести жить, но в семье, как говорится, не без урода. Мне поспокойнее было бы, если бы ты при мне находился.
3
Наступил октябрь. Во дворе осталось совсем немного людей — продолжалась эвакуация. Сводки Совинформбюро становились все тревожнее. Но и без сводок было ясно, что немцы уже близко: на окраинах Москвы возводились укрепления, на улицах часто встречались патрули — красноармейцы с примкнутыми штыками. Вот уже несколько дней я и бабушка вечером сидели в потемках — отключили электричество. Матери не было: она работала в госпитале под Москвой. Никто не говорил про это вслух, но у меня, как, вероятно, и у некоторых других москвичей, иногда мелькала мысль, что немцы могут захватить наш город, как они уже захватывали много-много городов, считавшихся до недавних пор глубоким тылом. Исчезли улыбки, москвичи перестали смеяться и петь, а если и пели, то только грустные песни, от которых усиливалась тоска и к горлу подступал ком.
Я должен был заступить на работу в ночь. Впереди был целый день. Я сидел с раскрытой книгой около окна, но читать не мог — сосредоточиться мешала внезапно возникшая в душе тревога. Бабушка спала, накрывшись несколькими одеялами. Неделю назад она простыла — чихала, кашляла, поднялась температура. Я хотел вызвать врача, но бабушка сказала: «Сама вылечусь». Сделала себе какой-то отвар, пила чай с малиновым вареньем, сваренным еще в прошлом году. Вчера ей стало лучше, но она была пока очень слаба.
Увидев в окно бредущего от ворот Леньку в замасленной телогрейке, я удивился: до обеденного перерыва было часа три. Накинув пальто, выбежал во двор.
— Электроэнергии нет, — сказал Ленька. — Начальник нашего цеха даже охрип, пока по телефону с какими-то начальниками разговаривал. Потом выслушал указание, выругался и отослал нас домой.
— Неужели ты думаешь…
— Ничего я не думаю! — перебил меня Ленька и добавил: — Надо вещички собрать и от радио не отходить.
Оставшись один, я осмотрелся. Двор показался пустым, вымершим. Захотелось броситься домой, запихнуть в чемодан самое необходимое и… Но разве я мог оставить бабушку!
— Шариками крутишь? — вдруг услышал я голос Родиона Трифоновича.
— Карбюраторный встал, — пробормотал я.
Оглоблин кивнул.
— У нас тоже электроэнергии нет. Мои бабы вой подняли, когда я велел им разойтись.
Я судорожно сглотнул.
— Присядем. — Родион Трифонович показал взглядом на бревна.
Прошла минута, вторая, третья — Оглоблин молчал. Я подумал, что бабушка, наверное, уже проснулась и, не слыша меня, тревожится, посмотрел на Родиона Трифоновича. Раньше это не бросалось в глаза, а теперь я внезапно увидел, как осунулся он. Черты его лица стали резче: выпирали скулы, обтянутые сухой кожей в бритвенных порезах, свежих и покрывшихся корочкой, нос казался крупнее, чем был, появилось много морщин, особенно на лбу. Нетрудно было представить, что передумал он за последние три месяца, нетрудно было понять, что происходит в его душе.
— Не пропустят их, — глухо сказал Оглоблин. — Не должны пропустить! А если… — Он смолк, поломал брови. — Забаррикадируюсь в своем кабинете и буду отстреливаться. Последний патрон — в висок. Наган в служебном сейфе лежит, и патроны там же. Целую пригоршню достал. — Родион Трифонович обвел глазами двор, помотал головой, как это делают, стряхивая сонную одурь или остатки хмеля. — После гражданской войны даже мыслишки не было, что такое может произойти. Помнишь, я тебе про своего знакомца рассказывал, который полком командовал, а потом генералом стал? Полтора месяца назад он армейский корпус принял. Теперь отстранен, может быть, под трибунал попадет. Во время гражданской войны он лихо наш полк в бой водил. Хороший был командир — отважный, толковый, справедливый. Академию кончил. На маневрах его бригада, а потом и дивизия самые высокие оценки получала. Перед отъездом на фронт он позвонил мне, и мы свиделись. Мой знакомец не бахвалился, не говорил, что его красноармейцы немцев шапками закидают, но уверенность твердая была — не отступит. Хотел узнать, что и как получилось, но он после возвращения только раз к телефону подошел. Теперь его жена в трубку хлюпает и бормочет — следствие идет. Вот, брат, какие дела-делишки.
— Техника у немцев очень сильная, — сказал я.
— А мы куда глядели? — Родион Трифонович повысил голос. — Я же тебе объяснял: сам на маневрах был, собственными глазами видел. Танки и танкетки шпарили, аж пыль вилась. Почти все пушки на шинах были. Красноармейцы в атаку шли — глаз не оторвешь. На поверку все не так оказалось: броня хлипкая, вооружение — одни пулеметы да легкие пушечки, и горят эти танки, как канистры с бензином. Ты как хочешь думай, а я считаю — вредительство было. В песнях пели: «Своей земли вершка не отдадим», а немцы уже под Москвой… Сам-то что будешь делать, если…
Голова раскалывалась от дум, тревожно стучало сердце.
— Надо бы эвакуироваться, да нельзя.
— Почему нельзя? — Оглоблин усмехнулся. — С Курского вокзала поезда пока ходят.
— Бабушка болеет.
— Что с ней?
— Простыла.
Оглоблин поежился.
— Самая пакостная пора наступает. Ты печь протопи, чтобы комната прогрелась.
— Нечем. Последние дрова еще в апреле сожгли, а новые пока не получили.
Неделю назад я ходил на дровяной склад. Там горьковато пахло осиной, смолой, валялись полусгнившие кусочки коры. Дров не было. Сторож словоохотливо объяснил, что дрова обещали привезти еще в конце прошлого месяца, но все не везут. «Говорят, их теперь по талонам распределять будут», — предупредил он.
Обо всем этом я сообщил Оглоблину. Несколько минут он молчал. Потом хлопнул рукой по бревну, на котором мы сидели.
— Вот же дрова!
На эти бревна зарились все, кто твердо решил не эвакуироваться. Анна Федоровна, проявив инициативу, предложила распилить их и раздать жильцам. В тот же день во двор примчался домоуправ все с тем же портфельчиком под мышкой, собрал всех, кого можно было собрать, и объявил, что эти бревна — государственное имущество: тем, кто посягнет на них, придется отвечать по всей строгости военного времени. «В случае чего сразу же свисти!» — распорядился он, устремив испуганный взгляд на Анну Федоровну: она, как и все дворники, носила на фартуке милицейский свисток.
Родион Трифонович назвал домоуправа перестраховщиком, добавил, что такие люди, как этот человек, сами мозгами не шевелят — только указания выполняют, пообещал сходить в коммунальный отдел, когда обстановка прояснится, и все уладить.
Пока мы разговаривали, на дворе не появилось ни одной живой души. Ощущение растерянности, одиночества, страха не покидало меня. Я обрадовался, увидев на ступеньках подъезда Надежду Васильевну. Ей, видимо, хотелось что-то узнать. Потоптавшись, Надежда Васильевна удалилась. Вместо нее вышла Маня в накинутой на плечи шубке. Подойдя к нам, сказала, глядя на Оглоблина:
— Магазины не работают — даже хлеб выкупить нельзя.
Родион Трифонович кивнул. Маня продолжала смотреть на него. Оглоблин хмыкнул.
— Ну, чего ты уставилась на меня? Я же не господь бог и не ГКО[13]. Радио слушай: может быть, что-нибудь передадут.
Что было после, как мы провели этот день, память не сохранила. Помню только, что во второй половине дня бабушка после долгого молчания сказала:
— Остается одно — на бога надеяться.
Я очень удивился: бабушка была атеисткой, о боге никогда не говорила, на мои вопросы о Христе отвечала, что он — миф, выдумка, что к нему надо относиться как к литературному персонажу.
В ремонтно-механическом, когда я вошел в свой цех, было непривычно тихо. Рабочие слонялись в проходах между станками; сбившись в тесные группки, о чем-то вполголоса разговаривали. Чувствовалось: все взволнованы, напряжены. Начальник цеха собирался распустить нас, когда неожиданно дали электроэнергию.
4
Я могу назвать точную дату — 25 марта 1942 года. В этот день пришла похоронка на Парамона Парамоновича и сообщение о том, что Николай Иванович Сорокин пропал без вести.
Похоронки и сообщения о без вести пропавших приходили в наш двор и раньше, вызывая у матерей и жен или тихие слезы, или рыдания. Если какая-нибудь жительница нашего двора вдруг появлялась в черном платке, а дети понуро брели в школу, то и без расспросов можно было догадаться — пришла похоронка.
Черные платки на головах женщин стали такой же частью нашего двора, как две соединенные доской березки. Впрочем, доски уже не было — кто-то унес и сжег в печке. А вот бревна продолжали лежать, несмотря на хлопоты Оглоблина. В коммунальном отделе так ничего и не решили. Как нехотя объяснил Родион Трифонович, эти бревна числились на балансе строительной организации, расформированной в первые дни войны. Вся документация была передана управлению, в котором и слышать не хотели о каких-то бревнах, ссылались на военное время, на сложность и первостепенность поставленных перед управлением задач. Получился заколдованный круг: домоуправ требовал письменное распоряжение коммунального отдела, коммунальный отдел кивал на управление, а там говорили: «Закончится война, тогда и разберемся».
Дрова по талонам выдавались плохие, в ограниченном количестве. Зима была ранняя, морозная. Даже сейчас, в конце марта, подтаявший снег становился ночью твердым, как камень; днем с неба падали тяжелые, влажные хлопья. Дома на нашем дворе были ветхие — в трещинах, скособоченные. Я напихал под плинтуса и подоконники столько разного тряпья, что бабушка, вдруг удивившись, велела мне сбегать во двор и посмотреть — не вывалилось ли что-нибудь наружу. До войны с наступлением слякотных дней над нашими домами постоянно стелились или стояли столбом дымы, теперь же приходилось экономить дрова. Жильцы ломали и жгли в печах сараи.
Похоронку на Парамона Парамоновича и извещение о Николае Ивановиче почтальонша принесла во второй половине дня, а утром Анна Федоровна с помощью топора и лома разрушила два последних сарая, превратив их в кучу великолепно сухих досок. За сараи я не ходил с той поры, как началась война, и все же мне стало не по себе, когда место моего уединения перестало существовать. В осевшем сугробе тускло поблескивал бок самовара, сиротливо выглядывал, весь в наростах льда, металлический хлам. Увидев на каменной стене засохший стебель вьюнка, я так расстроился, что защипало в глазах.
Кроме похоронки и извещения почтальонша принесла письмо от матери. С тех пор как она стала работать в подмосковном госпитале, мы не виделись, хотя мать обещала приезжать раз в месяц. В этом письме она снова сообщила о том, что в ближайшее время приехать не сможет: слишком много работы и командировку не дают, а без нее добраться до Москвы вряд ли удастся. (Железнодорожные билеты уже давно продавались только по предъявлению специальных пропусков или командировочных предписаний — так теперь назывались эти удостоверения.)
Один лист письма предназначался мне, другой бабушке. Почерк у матери был неразборчивый. Только латинские слова на рецептах она писала четко, все остальное вкривь и вкось, маленькими буковками. Многие слова и даже целые фразы в материнских письмах приходилось расшифровывать, иногда просто угадывать.
Бабушка читала письмо около окна, держа листок на отлете. Очки, по обыкновению, висели на кончике носа. Одна дужка была сломана. Вместо нее бабушка приспособила тесемку, вызывавшую за ухом покраснение и легкий зуд. По этой причине читала она теперь мало, хотя раньше и дня не могла прожить без книги. В мастерской, куда я носил бабушкины очки, их не взяли — не было дужек.
— Все разобрал? — спросила бабушка, глядя на меня, как всегда, поверх стекол.
— На этот раз все.
— А я уже давно приноровилась к ее почерку, — похвастала бабушка и, сложив свой листок пополам, сунула его в шкафчик.
С ключиком от этого шкафчика она никогда не расставалась, даже, кажется, спала с ним — он висел у нее на шее. Сам же шкафчик интриговал меня с той поры, как я стал помнить себя. На все вопросы бабушка отвечала одно и то же: «Там нет ничего интересного для тебя». Когда она открывала дверцу, взгляд схватывал какие-то коробочки, перевязанные поблекшими ленточками письма, и больше ничего. Мне почему-то казалось, что содержимое шкафчика связано с какой-то бабушкиной тайной.
О похоронке я узнал через час, когда спустился к Петровым. Теперь я часто виделся с Маней: бабушка боялась, что я останусь неучем, и днем, если я выходил в ночь, посылала к ней узнавать, что «проходят» в школе, заставляла зубрить теоремы и решать уравнения. О гуманитарных науках она не беспокоилась: я, как и раньше, охотно и много читал, хорошо запоминал даты, исторические сведения, географические наименования. А вот математика по-прежнему не давалась. Иногда приходилось спускаться к Петровым по нескольку раз в день — расспрашивать, как доказывается теорема или решается уравнение.
Войдя к Петровым, я сразу же понял: что-то стряслось. Маня отвернула опухшее от слез лицо, Надежда Васильевна даже не шевельнулась — сидела, бессильно положив на колени руки. Я хотел извиниться и уйти, но увидел на столе надорванный конверт и около него типографский бланк с чернильными строчками. До сих пор я никогда не видел похоронки, даже не представлял, как выглядят они, теперь же шевельнулась тревожная мысль.
— Что… что случилось? — пробормотал я, не отрывая глаз от надорванного конверта и типографского бланка.
Слабым движением головы Надежда Васильевна указала на стол. Схватив бланк, я прочитал извещение о гибели Парамона Парамоновича.
Слова соболезнования схожи, как близнецы. И утешения всегда одинаковы. Я невольно подумал об этом, когда с языка готова была сорваться самая обыкновенная фраза. Захотелось сказать другие слова, сердечные и умные, но в голове не возникло ничего такого, что могло бы хоть как-то облегчить страдание Надежды Васильевны и Мани.
О судьбе Николая Ивановича я узнал чуть позже — от Леньки. Он вел себя как настоящий мужчина: не хныкал, не жаловался. Это понравилось мне.
— Мать убивается, а я думаю: он в плен попал или в окружение.
— Правильно думаешь!
Ленька помолчал.
— Петровы что получили: такое же извещение?..
— Пал смертью храбрых!
— Ревут?
Я с грустью сообщил, что у Мани от слез распух нос, а Надежда Васильевна будто окаменела.
— Без Парамона Парамоновича им хреново будет: профуфукают все, что накопили, а потом зубы на полку, — сказал Ленька.
Я почему-то решил, что это он услышал от матери, ощутил неприязнь к Анне Федоровне, даже хотел спросить, по-настоящему ли горюет она или только делает вид. Я уже давно вбил себе в голову, что Ленькина мать никогда не любила мужа. Да и трудно было представить, что можно любить такого забулдыгу, каким был Николай Иванович.
Ночью, идя на работу, я случайно взглянул на окно Сорокиных. То, что я увидел, заставило меня остановиться. Занавески были раздвинуты: Анна Федоровна, видимо, совсем позабыла о них. Лампа под самодельным абажуром отбрасывала свет на Ленькину мать, ронявшую крупные слезы в стоявшую перед ней миску с каким-то варевом. Скорбная поза, крупные слезы, нетронутая еда, ложка лежала далеко в стороне, — все это словно бы кричало о женском горе.
С той ночи я стал смотреть на Анну Федоровну другими глазами, старался отыскать в ней то, что пряталось глубоко-глубоко, никогда не проявлялось на людях.
Общая беда сблизила Ленькину мать с Надеждой Васильевной. До войны они не общались, даже, кажется, не разговаривали, теперь же их часто видели вместе. Продолжая бывать у Петровых, я становился невольным свидетелем их бесед.
— Я ведь убегом за Колю вышла, — рассказывала Анна Федоровна, — без родительского благословения. Батька с матерью в один голос твердили — и не думай про него. Сорокины бедно жили, хужей всех в нашей деревне. Колин родитель все разбогатеть мечтал, на разные выдумки был горазд: то свой клин коноплей вместо ржи засевал — она в наших краях плохо родила, то мукомолку на ручье ладил — два месяца бревна тесал, то еще что-нибудь придумывал. Поначалу за все рьяно брался, но вскорости остывал. И получалось — вся работа насмарку. Фамилия в него пошла: девки с придурью, ребята баламуты. Коля лучшей всех был — самый веселый во всей деревне и мочь не ту, что от пьянства стала, имел. Когда жердину на игрищах перетягивали, всегда та сторона верх одерживала, где Коля был. Меня тогда другой парень сватал. Ничего худого про него не скажу — не урод и работник справный. А сердце к Коле тянулось. Батька с матерью как в воду глядели, когда его сватов назад отослали. Я не послушалась их — сбегла. Он сразу же меня в Москву увез. Два года в общежитии жили — три семьи в одной комнате. Материи набрали, отгородились занавесочкой, но все равно плохо было. Я у батьки и матери хорошо жила — ни в чем отказа не знала. А в Москве совсем другая жизнь пошла: ни денег, ни одежонки, ни посуды, даже своего самовара не было. Прожила я так полгода и свой норов проявлять стала. Вот тогда-то он и начал больше прежнего пить.
— Значит, он и до женитьбы? — ужасалась Надежда Васильевна.
— Как все, как все! — сразу же уточняла Анна Федоровна. — В нашей деревне только по большим праздникам сильно гуляли. Но без фулиганства, без драк. Бывалоча, подержатся парни за грудки, и все. Нас в строгости держали. Наши старички, они уже померли, на сходках провинившимся всегда одно и то же наказание выносили — розги.
Надежда Васильевна покашливала.
— Знаю, знаю, что хочешь сказать, — опережала Анна Федоровна. — Сама уже каюсь, что Леньку шибко лупила. Он недавно на голову пожаловался. Врачиха отослала его к другой, которая по нервным болезням. Таблетки ему прописали. Может, я виноватая, а может, голова у Леньки от тяжелой работы болит, от худых харчей. Шестьсот граммов хлеба без мясного приварка при его росте и такой работе — не харч.
Надежда Васильевна соглашалась, жаловалась на плохое снабжение, сетовала, что по жировым талонам чаще всего выдают яичный порошок.
— Я не беру его, — отвечала Анна Федоровна. — Говорят, из черепашьих яиц.
— Неужели?
— Пра слово. Сами-то американцы, видать, не едят этот порошок, вот и присылают нам. Недавно банку ихней тушенки достала. Целых три талона в карточке вырезали. Мясо на самом донышке, остальное — сплошное сало. В картошку или кашу годится, а на хлеб намазывать — тошнит. До войны с питанием никакой мороки не было. Наваришь картошки, очистишь пару селедок, лучком их обложишь, подсолнечным маслицем покропишь — и все довольны, все сыты.
— Мы тоже до войны хорошо питались, — вставляла Надежда Васильевна.
— Сравнила! Твой Парамон деньги лопатой греб, а я концы с концами еле-еле сводила. Мой-то мастак был долги делать. Умел подход к людям найти — никто ему не отказывал. До сих пор Никольскому пятьдесят рублей должен. Надо бы отдать, да совестно: довоенные деньги и теперешние — большая разница. Раньше я на пятьдесят рублей неделю могла прожить, а сейчас на них и кило картошки на рынке не купишь.
Надежда Васильевна поддакивала, вздыхала, говорила, что получает в артели (она шила на дому какие-то мешочки) служебную продуктовую карточку, которая, как и иждивенческая, отоваривается хуже детской и рабочей.
Самые лучшие продукты выдавались детям. Колбасу, смальц, сахар можно было приобрести на талоны рабочих карточек. Надежде Васильевне часто приходилось ходить в комиссионные магазины или продавать вещи на рынке.
— На нашей сберкнижке есть деньги, — признавалась она. — Но позволяют брать всего двести рублей в месяц.
— Мало, — сочувствовала Анна Федоровна и добавляла: — А у нас сроду такой книжки не было, хотя Коля и хотел обзавестись. Он вроде своего отца выдумщиком был. Когда удавалось где-нибудь халтурку сшибить, говорил: «Сперва, Нюр, немного отложим, потом добавим. И так каждый месяц. Поднакопим деньжат, мебель купим и все остальное». Не получалось! Если я не поспевала к проходной, у него в карманах шиш оставался. Сам пил и угощать любил.
Занятые собой, Надежда Васильевна и Анна Федоровна не обращали внимания на меня и Маню. Склонившись над учебником или тетрадкой, мы сидели на отгороженной ширмой Маниной половине комнаты. Там был удобный письменный стол, диван, два стула и красивая этажерка с книгами на нижних полках и разными безделушками на верхних. Иногда наши головы соприкасались, и тогда я позабывал о теоремах и уравнениях. Но Маня, видимо, не чувствовала этого. Тыча пальчиком в тетрадь или учебник, с досадой говорила:
— Какой же ты бестолковый — просто с ума сойти можно! Это же совсем пустяковое уравнение.
Я краснел, потел и ничего не соображал.
Откровенность Анны Федоровны расшевелила Надежду Васильевну. Однажды, дожидаясь ушедшую в магазин Маню, я услышал исповедь этой женщины.
— В моей жизни все не так, как у тебя, было, — обращаясь к Анне Федоровне, начала она. — Папаша с мамашей (я у них единственная была) с детских лет меня к семейной жизни готовили. На фортепьяно учили играть. Это, к папашиной досаде, не далось мне. А стряпать и шить хорошо научилась. Вышивать люблю, вязать умею. После революции все молодые люди, которых папаша в женихи прочил, в разные стороны разлетелись. Кругом голод, разруха. Тогда и объявился в нашем доме Парамоша. Где и как познакомился с ним папаша, мне неизвестно. Стал приходить он к нам, и всегда с подарками: то брошку принесет, то колечко, то мешочек пшена или кулек сахара. Папаша его не очень-то жаловал — это я сама примечала, но терпел: мне в ту пору двадцать первый год шел, родители боялись, что я старой девой стану. Вскоре пожар случился — сгорел наш дом и все имущество. Папа умер от горя, мама слегла. Тогда Парамоша и сделал мне предложение. Я не раздумывала: на вид неказистый, но обеспеченный, не пьет, не курит. Деньги, правда, любил, однако мне ни в чем не отказывал. Четыре года деток у нас не было. Парамоша сильно тревожился — а я чувствовала — моей вины тут нет. Потом мальчик родился, всего месяц прожил. Парамоша сильно горевал. Когда Маня появилась, пылинки с нее сдувал, от кроватки не отходил. Я все думаю, в кого она пошла — в него или в меня. Отцовского в ней мало, а моего еще меньше.
— Моему Леньке она ндравится, — объявила Анна Федоровна.
Понизив голос до шепота, Надежда Васильевна что-то объяснила ей. (Я находился на Маниной половине.)
— Сами разберутся, — довольно громко пробормотала Анна Федоровна.
Я чувствовал: горит лицо. Сравнил себя с Ленькой и успокоился — почему-то решил, что я лучше его, что Маня обязательно предпочтет меня.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Начиная с весны 1942 года Оглоблин и Никольский стали бывать на нашем дворе все реже. Родион Трифонович — так он сам рассказывал мне — поставил в своем кабинете раскладушку: на месте было сподручней руководить производством, решать в любое время дня и ночи самые неотложные дела. Но мне казалось, что ему или действует на нервы постоянный стрекот швейной машинки в комнате Петровых — Надежда Васильевна страдала от бессонницы, работала по ночам, или его стесняет частое присутствие в их квартире Анны Федоровны. Даже теперь, во время войны, она во всеуслышание называла Оглоблина бесстыдником, демонстративно плевала в его сторону. Дома он ночевал раз в неделю — с воскресенья на понедельник.
Никольский появлялся на нашем дворе еще реже, как появляется солнышко в ненастные дни, часто уезжал в командировки, иногда очень длительные; возвращался то хмурым — даже поздороваться было страшновато, — то довольным. Валентин Гаврилович и до войны был замкнутым, ни с кем, кроме Родиона Трифоновича, не общался, теперь же стал таким молчуном, что ни у кого не возникало желания остановить его и побеседовать. Лишь Анна Федоровна осмелилась подойти к нему и спросить, как быть с долгом мужа. Валентин Гаврилович махнул рукой.
— Может, не понял меня, — пожаловалась Ленькина мать Надежде Васильевне, — а может, решил, что я сама должна перерасчет сделать. Сколько отдать — ума не приложу. Пятьдесят рублей, сама понимаю, мало, а шибко больших денег у меня нет.
— Не забивай себе голову, — посоветовала Надежда Васильевна. — Никольский — человек состоятельный, для него пятьдесят рублей пустяки.
— Для кого как, — возразила Анна Федоровна. — Меня с малолетства учили: копейка к копейке липнет, рубль к рублю тянется. Если все люди деньгами расшвыриваться будут, то никто ничего не наживет себе.
— Верно, — согласилась Надежда Васильевна.
— Конечно, верно, — сказала Анна Федоровна и добавила: — Не люблю, когда долги есть. Будто камень на шее висит. Отдашь долг — сразу легче становится.
О том, что мне, Андрею Шубину, тоже придется воевать, сказал Родион Трифонович. Я и сам понял: близится мой час, когда в мае 1943 года был вызван в райвоенкомат. После медкомиссии с призывниками — с каждым в отдельности — беседовал капитан с протезом вместо руки. На мой вопрос — когда, он лаконично ответил: «Пришлем повестку». Я попытался узнать хотя бы приблизительный срок, однако капитан, несмотря на все мои ухищрения, так ничего и не сказал.
В райвоенкомат меня вызвали в один день с Ленькой. Домой мы возвращались вместе.
— Ну? — спросил он, как только мы очутились на улице.
— Годен к строевой.
— А меня не взяли. Начальник цеха бронь оформил, да и с нервишками что-то.
Ленька старался выглядеть огорченным, а в его глазах была радость. Я хотел сказать, что он просто трус, но подумал: «У него отец погиб, да и в тылу кто-то должен работать».
По-настоящему меня беспокоила только бабушка. Мать надеялась, что она переедет к ней, но в ответ на мои уговоры бабушка покачала головой. Родин Трифонович сказал:
— Я подсоблю Прохоровне, если ей помощь понадобится.
Я понимал: повестку «прибыть с вещами» могут принести в любой день, и все же разволновался, когда почтальонша вручила мне под расписку бланк из серой плотной бумаги размером с почтовую открытку, с косо наклеенной маркой. Я не сомневался, что Маня станет писать мне, но она, повертев в руках повестку, неожиданно сказала:
— Я тоже скоро уезжаю. Буду работать медсестрой в армейском госпитале.
Оказалось, что Маня кроме школы училась на курсах медсестер, ходила в райвоенкомат, в комсомольские организации и добилась назначения.
— Только моей маме ничего не говори, — попросила она. — Терпеть не могу причитаний. Когда все прояснится, сама скажу.
Мы договорились, что я напишу Надежде Васильевне и она сообщит мне Манин адрес — номер полевой почты.
Армейская служба поначалу давалась мне с трудом. После отбоя я проваливался в какую-то бездну. Услышав сквозь сон команду «подъем», напяливал на себя гимнастерку, брюки, наматывал обмотки и, еще не проснувшись окончательно, становился в строй. И начиналась круговерть: строевая подготовка, изучение оружия, политзанятия, стрельбище, наряды. В том числе и внеочередные. За неряшливый вид! За нерасторопность! За пререкания! Особенно невзлюбил меня коренастый сержант с почти квадратным лицом — я донимал его «умными вопросами». Получилось так, что я смог написать Надежде Васильевне только через месяц. Письма шли долго: десять дней туда, десять оттуда. В ответном письме Петрова-старшая сообщила, что Маня уехала неделю назад.
Обучали нас по ускоренной программе. Однажды ночью погрузили в теплушки и… На передовой я пробыл недолго — в первом же бою был ранен, очутился в эвакогоспитале, в тыловом городе.
На фронте я обзавелся трофейными часиками, часто подносил их к уху — было приятно слышать, как они тикают. В госпитале часики неожиданно встали. Я встряхивал их, переводил стрелки — безрезультатно. Однопалатники посоветовали мне спуститься на второй этаж — там лежал часовщик. По словам ребят, он был прекрасным мастером, даже чудо сотворил: пустил настенные часы, которые встали еще до войны, пылились в подвале среди разного хлама.
Войдя в указанную на втором этаже палату, я обомлел: на кровати сидел Парамон Парамонович. Одна штанина была подколота булавкой, рядом стояли костыли. В первое мгновение я подумал: «Совпадение». Он посмотрел на меня, и я понял — Парамон Парамонович. Хотел сразу же сказать, что жена, дочь и все-все на нашем дворе считают его погибшим.
— Минуточку! — опередил меня Парамон Парамонович и, сунув костыли под мышки, направился в коридор.
Мы остановились около окна. Я прислонился мягким местом к подоконнику, Парамон Парамонович словно бы висел на костылях.
— Удивлены?
— Не то слово, не то слово, Парамон Парамонович!
Он помолчал.
— Никогда не думал, что встречу вас.
— Маня и Надежда Васильевна обрадуются, — сказал я и, увидев, как дрогнуло и сразу же сделалось бесстрастным его лицо, понял, что Парамон Парамонович не подавал о себе вестей неспроста.
Покосившись на меня, он лизнул кончиком языка сухие губы.
— В начале сорок второго года во время артналета снаряд большого калибра накрыл блиндаж, где кроме меня было еще шесть человек. Пульс щупать и ухом к груди прикладываться некогда было — рота в контратаку пошла. Начальство решило: все убиты — как-никак прямое попадание, на месте блиндажа развороченные бревна, оторванные ноги и руки. А я живым и невредимым остался — только контужен был, да и то слегка. Ногу я в другом бою потерял — полгода назад. В медсанбате, куда меня направили после контузии, я узнал — похоронка отправлена. Вот тогда я и решил не возвращаться в семью…
Парамон Парамонович пристально посмотрел на меня.
— Я, знаете ли, не очень-то счастливо жил. Надежда Васильевна, конечно, достойная женщина и еще хороша собой. Однако она с детства приучена только брать и ничего не давать. Раньше я думал: внешность жены, умение нарядно одеваться, приобретать нужные вещи, вкусно готовить, соблюдать чистоту — самое главное в семейной жизни. Потом вдруг понял: нет душевного расположения, теплоты — про любовь я уже не говорю. Надежда Васильевна всегда относилась ко мне как к источнику существования, а мне хотелось обыкновенной человеческой ласки.
— Но ведь кроме жены есть дочь! — жестко сказал я.
Парамон Парамонович вздохнул. Привалившись спиной к стене, вынул носовой платок, вытер пот.
— Дочь… Кстати, как она? По-прежнему учится в школе или уже бросила?
— Маня тоже на фронте, — сухо сообщил я. — В армейском госпитале работает, медсестрой.
Парамон Парамонович не удивился.
— Она с характером. Хорошо, что в санинструкторы не пошла. Армейский госпиталь не передовая и даже не медсанбат… Переписываетесь?
Неделю назад я получил от Надежды Васильевны письмо с Маниным адресом. Так и сказал.
Парамон Парамонович принужденно покашлял.
— Я не имею права требовать, но просьба у меня есть. Пожалуйста, не сообщайте ей обо мне. Очень прошу!
— Это жестоко, — пробормотал я.
— Нет! — возразил Парамон Парамонович. — Что отболело, то отболело.
— А если нет?
— Вы уверены в этом?
Я вдруг понял, что не могу ответить однозначно. Он покачался на костылях.
— Я и сам в тупике. Иногда мне казалось, что дочь — моя плоть и кровь, иногда я находил в ней черточки Надежды Васильевны, а еще чаще в Мане проявлялось что-то совершенно непонятное.
В этих словах были боль, горечь, недоумение. В сердце возникла жалость. Я пообещал Парамону Парамоновичу не сообщать о нем Мане. Поблагодарив меня, он с любопытством спросил:
— До сих пор неравнодушны к ней?
Я уклончиво ответил, что Маня всегда нравилась мне. Парамон Парамонович помолчал.
— Нравиться и любить — разные вещи. Любовь заставляет прощать, жертвовать собой. Сам я не испытал этого, но ощущаю: именно так и должно быть, если любят по-настоящему.
Тогда я просто запомнил эти слова, большого значения им не придал. И лишь спустя много-много лет, влюбившись до умопомрачения, понял, что Парамон Парамонович был прав. Как не похожа мальчишеская любовь на ту, которая приходит позже, когда можно оглянуться и сравнить то, что было, с тем, что есть. Однако детская и юношеская привязанность остается в памяти. Наверное, потому остается, что в жизни человека все повторяется. Все, кроме того, что было в детстве и юности.
Мимо нас проходили раненые — безрукие, на костылях, на скрипящих протезах: на втором этаже лежали те, у кого была ампутация. Как ветерок, проносились сестры в белых шапочках или марлевых косынках, и я подумал, что безногим, должно быть, неприятно видеть их стремительный бег. И раненые, и сестры кивали Парамону Парамоновичу, некоторые обменивались с ним рукопожатиями, спрашивали о самочувствии. Было ясно, что Мании отец в госпитале человек известный.
— Все, у кого имеются часы, чуть что — бегут ко мне, — объяснил Парамон Парамонович. — Я никому не отказываю. Отверточку достал, лупу. Одни вознаграждают словесно, от других кое-что перепадает. Квитанции я, правда, не выписываю, но и лишнего не беру. Люблю, понимаете, копаться в часах. Это у меня с детства. Хорошие часы редко приносят, потому что хорошие часы сами по себе не ломаются. Дрянь тащат — немецкую штамповку.
Я вспомнил про свои часы, вынул их.
— У меня, наверное, такие же?
Парамон Парамонович кивнул.
— Сейчас поглядим, что с ними. — Повернувшись лицом к окну, он снял с часов крышку, подул на механизм, что-то потрогал кончиком перочинного ножа. — Завтра утром снова станут тикать. Но предупреждаю: ходить они долго не будут — шестеренки изношены.
Я спросил Парамона Парамоновича, когда его собираются выписать.
— Недельки через две, — ответил он. — Оформлю пенсию и — на работу. Если бы мне руку отрезали, то дело было бы швах, а ноги для часовщика необязательны.
— В Москву поедете или в этом городе останетесь?
— Еще не решил. Очень хочется свой саквояжик заполучить: в нем прекрасные инструменты швейцарского производства. Но как сделать это, пока не придумал.
Я сказал, что Надежда Васильевна могла продать эти инструменты. Парамон Парамонович разволновался:
— Неужели могла? В доме столько разного добра: золотые побрякушки, платиновые серьги, кольца с бриллиантами, отрезы и так далее. Я ни на что не претендую, хотя при разводе мог бы потребовать раздела имущества. И потребую, если она продаст инструменты!
— Значит, все-таки собираетесь повидаться с ней?
— Конечно. — Парамон Парамонович усмехнулся. — Надежда Васильевна, полагаю, одинокой долго не останется.
— У меня другое мнение.
— Не останется. Придет час, сами убедитесь в этом.
Я стал переубеждать Маниного отца, рассказал, что жена часто вспоминает его, ласково называет Парамошей, но он продолжал усмехаться.
Через две недели Парамон Парамонович выписался. На прощание он сказал мне, что временно поселится в этом городе, подкопит деньжат, потом вернется в Москву.
2
Мне удалось приехать в Москву раньше Маниного отца. В госпитале меня признали годным к строевой службе, дали отпуск на пять суток, и в сентябре 1944 года я снова очутился на нашем дворе. О своем приезде не сообщил: на телеграмму не было денег, а посылать письмо не имело смысла — в лучшем случае оно пришло бы в Москву в самом конце моего отпуска.
Сойдя с трамвая, я ринулся к воротам нашего двора, радуясь предстоящей встрече с бабушкой, а если посчастливится, то и с матерью. Кроме того, ужасно хотелось покрасоваться перед соседями в новом качестве — в качестве человека не только побывавшего на фронте, но и раненного в грудь. Огорчало лишь то, что никто, за исключением бабушки и, может быть, матери, не увидит шрам — наглядное подтверждение всего того, о чем я собирался рассказывать.
Через окно трамвая и на нашей улице я пожирал глазами все то, что было так дорого мне, о чем я постоянно вспоминал, иногда думал: «Доведется ли снова увидеть наш двор?»
Теперь его нет. Улица моего детства изменила свой облик: справа и слева возвышаются многоквартирные дома, одинаково безликие, неинтересные. До войны и в первые послевоенные годы на этой улице вперемежку с домами-развалюхами были купеческие особняки, крепкие и добротные, похожие на боровички среди сыроежек. По названиям расположенных поблизости улиц и переулков — Мытная, Житная, Сиротский, Выставочный — можно было определить, что находилось тут в стародавние времена, каким ремеслом добывали себе пропитание жители этих мест.
От прежнего Замоскворечья остались лишь «островки» — часть улицы или переулка, а еще чаще просто дом с лепными украшениями на фасаде, доживающий свой век среди «башен» и «коробок». Пощипывает в глазах, когда на пути возникает сохранившийся в памяти особнячок. Хочется остановить первого встречного и сообщить, что этот особнячок был точно таким же пятьдесят лет назад, что даже моя бабушка не помнила, в какие годы он появился в Замоскворечье. Становится больно, когда я вижу старинный дом, обнесенный деревянными щитами, с темными прорубями вместо окон, с тарахтящими около него экскаваторами и бульдозерами. Смотрю на обнажившуюся в проемах кирпичную кладку, шириной почти в метр, и представляю, как будут чертыхаться рабочие, сколько прольют пота, прежде чем разрушат такой дом.
На дворе не было ни души. На полуоткрытом окне комнаты Петровых слегка надувалась и сразу же опадала тюлевая штора. Надежда Васильевна меняла шторы два раза в год: в апреле вешала легкие, как паутинка, в октябре — более тяжелые. Ветер гонял сухие листья, прижимал их к каменному основанию нашего дома. Летнее убранство на деревьях поредело, в кронах преобладал желтый цвет. Земля была влажноватой, свинцово поблескивали лужицы: ночью, видимо, шел дождь. За год наш дом обветшал еще больше: парадная дверь висела на одной петле, жалобно поскрипывала от ветра, некоторые окна скособочились. На наших окнах были закрыты форточки. Я подумал, что бабушка, наверное, ушла в магазин, а может быть — это страшно огорчило меня — уехала к матери: в последних письмах она сообщала, что мать продолжает настаивать на переезде к ней. Разволновавшись, пулей взлетел на второй этаж, рванул на себя дверь и чуть не рассмеялся — бабушка раскладывала пасьянс. Стука двери она не услышала. «Совсем плохи дела», — с грустью подумал я. Прислонившись к дверному косяку, стал наблюдать. Бабушка, должно быть, почувствовала мой взгляд — подняла голову, охнула, быстрым движением руки смешала карты.
— Только что вспоминала тебя.
— На пять дней прикатил! — очень громко сказал я.
— Пожалуйста, не кричи, — бабушка поморщилась, — я все прекрасно слышу.
Я не стал возражать — торопливо выложил на стол солдатский паек: две буханки, концентраты, консервы, сахар.
— Какое богатство, — пробормотала бабушка и, спохватившись, объявила: — Мама тоже в Москве. На один день выбралась. Сегодня вечером возвращается в свой госпиталь.
— Где она?
— По каким-то делам ушла. К трем обещала быть.
— Значит, вместе попируем! — Я был рад, что повидаю маму, немного поболтаю с ней.
Пока я был в поезде и ехал на трамвае, мне казалось: не хватит времени выговориться, а получилось — за двадцать минут рассказал все, что хотел. Бабушка тоже почти ничего не добавила к тому, о чем сообщала в письмах. Пересуды она терпеть не могла, о том, что происходит на дворе, часто узнавала последней.
— Родион Трифонович навещает тебя?
— Заходит. — Бабушка улыбнулась. — По-прежнему в облаках витает. Теперь постоянно говорит о том, как прекрасно станет после войны.
Я тоже думал об этом. И не только я. Все, с кем я был на фронте и лежал в госпитале, жили надеждами. Казалось, после войны обязательно осуществятся мечты и чаяния, навсегда исчезнут ложь, наветы.
Мать пришла точно в три. Увидев меня, так обрадовалась, что в течение нескольких минут не могла произнести ни одной связной фразы — изъяснялась восклицаниями и счастливо улыбалась.
Потом мы пили чай с настоящей заваркой. Бабушка пила вприкуску. В ответ на мой удивленный взгляд пояснила:
— Так экономнее и вкуснее.
Я вспомнил: точно так же пил чай Родион Трифонович, сказал об этом, помечтал вслух:
— Хорошо бы повидаться с ним.
— Только что встретила его, — сообщила мать.
— Разве он снова дома ночует?
— Сегодня же воскресенье, — напомнила бабушка.
Незаметно пролетели три с половиной часа. Нужный маме поезд отправлялся с Курского вокзала в девятнадцать сорок пять.
— Пора, — сказала она и, перевернув вверх донышком свою чашку, стала собираться. — Проводишь меня?
— Конечно!
Расцеловавшись с бабушкой, мать надела шинель с узкими погонами капитана медицинской службы. Запустив под ремень большие пальцы, я расправил, складки на гимнастерке, выровнял перед зеркалом, как учил в запасном полку старшина, пилотку. Мать посоветовала одеться потеплее, но мне было лень раскручивать скатку. Сославшись на теплый вечер, я пошел налегке.
— Вернешься, по-видимому, поздно? — спросила бабушка, когда я был уже в дверях.
— Ты ложись, не дожидайся меня.
Полная темнота еще не наступила, но в трамваях уже зажглись синие лампочки. Я вглядывался в лица пассажиров, старался определить, о чем думают они, но ничего не мог понять — синий свет сделал все лица одинаковыми. Мать беспокоилась о бабушке, жаловалась:
— В первые дни сказала — никуда не поеду, теперь наверняка хочет, но продолжает упорствовать.
Я пообещал уговорить бабушку.
— Попытайся. — В мамином голосе не было уверенности…
3
Из комнаты Петровых доносился невнятно-веселый говор, смех. Озадаченный этим, я постоял в темной прихожей, прислушиваясь то к стихавшим, то к усиливавшимся голосам, среди которых выделялся сытенький басок. Узкая полоска света, пробившаяся из-под двери Оглоблина, указывала, что он дома.
Раньше я никогда не бывал у него, даже к окну во время игр не подбегал: оно находилось в самой неудобной части нашего дома, на стыке двух половин — широкой и узкой. Глядя на наш дом, можно было подумать: вначале возвели основную часть, потом приделали пристройку. С высоты птичьего полета наше жилище, должно быть, напоминало букву «т» с укороченной ножкой. Окно Оглоблина начиналось прямо от стыка. В этот угол никогда не проникало солнце, даже в самые жаркие дни там было прохладно, сыро и ничего не росло. Окна Петровых находились на некотором отдалении от окна Родиона Трифоновича. За углом была глухая стена. На противоположной стороне поблескивало окно кухни. Точно такая же квартира была на втором этаже: там доживали свой век родственники бывшего владельца этого дома.
В ответ на мой стук Оглоблин открыл дверь сам. Его лицо было хмурым, недовольным. Увидев меня, он преобразился.
— Давно прибыл?
— В первой половине дня.
— Чего же раньше не пришел?
— Мать была дома. Только что проводил.
— Святое дело… Проездом в Москве или отпуск?
— Пять дней отвалили!
— Прохоровна рассказывала про твои дела. Побаливает грудь-то?
— Иногда.
— Теперь до самой смерти так будет. У меня до сих пор культя ноет, особенно к перемене погоды.
Из комнаты Надежды Васильевны высунулся какой-то мужчина. Разглядеть его в темноте было трудно, но мне показалось: он крепок, мордаст.
— Кто-о пришел? — томно пропела Манина мать.
Я машинально отметил, что раньше она разговаривала по-другому.
— Закрой дверь с обратной стороны! — не глядя на мужчину, потребовал Оглоблин.
Мужчина демонстративно распахнул дверь настежь. В прихожей сразу стало светло — в комнате Петровых были включены все лампочки, даже та, которая освещала рабочее место Парамона Парамоновича. За обеденным столом, накрытым накрахмаленной скатертью, сидели гости — дебелая женщина с тяжелыми серьгами в ушах, с ожерельем и наголо выбритый мужчина в кителе без погон. Второй мужчина — он действительно оказался крепким, мордастым — нагловато смотрел на Родиона Трифоновича. Был он лет двадцати пяти, в хорошем пиджаке, в белой рубахе с расстегнутым воротом и расслабленным узлом на галстуке, в хромовых сапогах гармошкой. На тугощеком лице выделялись синие-пресиние глаза — я никогда не видал такие.
— Закрой дверь, — повторил Оглоблин.
— Зачем? — нахально спросил мужчина.
У Родиона Трифоновича дернулось веко. Ухмыльнувшись, мужчина шагнул к нему, и я увидел — хромает. Назревал скандал. Я посоветовал мужчине уйти. Он медленно перевел взгляд на меня, но сказать ничего не успел — в прихожую впорхнула Надежда Васильевна в шелковом халате с широкими рукавами.
— В военной одежде ты совсем другим стал.
Я поздоровался. Милостиво кивнув мне, Надежда Васильевна сказала мужчине:
— Это, Толик, Манин кавалер. Помнишь, я тебе рассказывала про него?
— Будущий родственничек, выходит? — Толик сделал гостеприимный жест. — Выпей с нами. Мы сегодня маленький сабантуйчик устроили по случаю дня моего рождения.
— В другой раз, — сухо сказал я.
На лице Толика появилось недоумение: от дармовой выпивки отказывается, вот чудак.
— Надолго приехал? — Надежда Васильевна принужденно улыбнулась мне.
— Четыре дня осталось.
— Зайди, если время будет. О Мане поговорить надо.
— Хорошо.
Толик и Надежда Васильевна удалились. В прихожей снова стало темновато: в комнате Родиона Трифоновича горела лишь настольная лампа под оранжевым выцветшим абажуром.
— Понял? — пробормотал он, когда мы сели: Оглоблин на кровати, я на единственном стуле; кроме этого стула и узкой кровати в комнате были стол, одностворчатый платяной шкаф, две табуретки, тумбочка, на стене висело несколько фотографий в дешевых рамках и большая картина, изображавшая пощипывавшего траву вороного жеребца.
— Загуляла?
— Парамон еще сгнить не успел, а она, сучья душа, уже с другим спуталась.
— Кто он?
— Похваляется, на фронте был, там, мол, и покалечил ногу. А мне сдается: с рождения хромает или, может, какая-нибудь беда в детстве случилась, как у Прохоровны было. Где и кем работает, не понять: то одно скажет, то другое. Она с ним в кино познакомилась, — сам слышал, как обо всем, что было, Сорокиной докладывала. Заметил, какие глаза у него? Да и сам в теле и лицом чист. Бабы на все это падки. Даже Анна Федоровна головой покрутила и языком поцокала, когда увидела его. Помяни мое слово, обдерет он ее как липку — и только пятки сверкнут. Если бы она молоденькая была, то я, наверное, не думал бы так. Сам посуди, ей уже сорок, а ему, если не врет, всего двадцать пять. Увидел, что она богатая и ума мало, и вцепился как клещ. От радости, что такому красавчику приглянулась, совсем голову потеряла: каждый раз что-нибудь дарит ему и распродает налево и направо то, что с Парамоном нажила. Попробовал ей глаза раскрыть, но она даже слушать не стала. Ему пожаловалась. Теперь он как сыч на меня смотрит и все подкузьмить норовит. Хотел врезать ему промеж глаз, но решил повременить. Парамона, конечно, не воротишь, однако, по моему разумению, вдовью честь соблюдать надо. Если бы она после войны шуры-муры начала и с подходящим ей по возрасту человеком, то я бы ни словечка не сказал.
Я слушал Оглоблина и вспоминал предсказание Парамона Парамоновича. Как только Родион Трифонович смолк, пробормотал:
— Интересно, продала она его инструменты или нет.
— Какая тебе разница? — вяло откликнулся Оглоблин.
В госпитале я дал себе слово никому, даже бабушке, не рассказывать про Парамона Парамоновича. Теперь же подумал: «Родиону Трифоновичу можно довериться».
Он меня не перебивал — лишь иногда шевелились брови и глаза обволакивал туман.
— Не осуждаю Парамона, — глухо сказал Оглоблин, когда я выложил все, — но и одобрить не могу. Она ему в жены не набивалась — сам посватался. Коль взвалил на себя ношу — неси. Я в эту квартиру в один день с ними вселился, вон сколько лет бок о бок прожили. Как на духу тебе скажу: хозяйка она — и позавидовать не грех. Все вымыто, вычищено, ни соринки, ни пылинки, и готовила хорошо. Зайдешь, бывало, на кухню — слюнки текут. Я себе яишенку с колбасой жарил да чаек кипятил, супчик редко-редко варил, а она не только возле окна сидела: или тесто месила, или мясо отбивала, или рыбу чистила, или капусту шинковала. Парамон любил сладко покушать, она, видать, тоже. А вот Маня к питанию полное равнодушие проявляла: намажет хлеб маслом и — сыта. Ее разными разносолами потчевали, а она нос воротила.
— Я до войны тоже привередливым был.
Родион Трифонович усмехнулся.
— Прохоровна жаловалась. Я советовал ей ремешком тебя похлестать, а она головой качала. Ты, наверное, единственный, кого в детстве не драли, — больше таких не встречал.
— Вам, должно быть, крепко доставалось от родителей?
Оглоблин помолчал.
— Я, брат ты мой, круглый сирота. Ни отца, ни матери, ни тетки, ни дяди. Подкидыш, одним словом, в приюте воспитывался. С двенадцати лет вкалывать стал. Лупили меня как Сидорову козу, и все кому не лень. Подзатыльники и шлепки не в счет.
Я вспомнил: бабушка говорила матери, что Оглоблина и Никольского роднит их одиночество, неудачно сложившаяся личная жизнь; спросил Родиона Трифоновича о жене.
— Не было! — бросил он.
— Почему не было?
Оглоблин побарабанил пальцем по столу. Я почувствовал: сейчас он откроет мне какую-то тайну.
— Даже Никольскому про это не рассказывал, — медленно, как бы с трудом начал Родион Трифонович, — а тебе, побарабанил по столу, обвел взглядом комнату. — В последнем для меня бою колчаковский снаряд не только моего любимого коня угробил, не только контузил, руку перебил и шрам на лице оставил, но осколок еще в одно место попал. С той поры и сделался я непригодным для семейной жизни.
Я вдруг с ужасом подумал, что угодившая в меня пуля могла попасть не в грудь, и от потрясения потерял дар речи. Родион Трифонович принялся утешать меня, хотя по логике вещей все должно было бы происходить наоборот.
— Такое редко случается, но случается, — сказал он напоследок и предложил выпить.
На моем ремне была фляжка с водкой. Во время семейного чаепития бабушка сообщила, что недавно на один талон продуктовой карточки неожиданно выдали пол-литра водки. Я сразу же попросил отлить немного мне. Мать сделала большие глаза. Спокойно достав бутылку, бабушка сказала ей: «Неужели ты думаешь, что там он не пил это?» Слово «там» бабушка произнесла уважительно, а «это» подчеркнуто сухо.
Я снял с ремня фляжку.
— Убери! — потребовал Родион Трифонович. — Сегодня я угощаю. — Открыв тумбочку, он вынул непочатую бутылку водки. — Закусь тоже найдется.
— Богато живете! — воскликнул я.
— Сапоги помнишь?
— Какие сапоги?
— Которые я перед самой войной купил. Так и не разносил их. Но пригодились: на продукты выменял. А это, — Оглоблин водрузил бутылку на середину стола, — по карточке выдали.
— Знаю.
Соорудив незатейливую закуску, Родион Трифонович разлил водку. Мы чокнулись. По телу расплылось тепло, помутнело в голове, поднялось настроение. Оглоблин расспрашивал про фронт, больше всего его интересовали «катюши». Узнав, что я не видел их в действии, он огорчился.
— Говорят, самым сознательным и дисциплинированным бойцам и командирам их доверяют.
Я подтвердил — об этом рассказывали в госпитале.
— И еще говорят, — добавил Родион Трифонович, — ничего особенного в их конструкции нет: обыкновенные рельсы на грузовиках. Вся хитрость в снарядах. Немцы до сих пор не разгадали их секрет.
В госпитале я слышал то же самое.
Оглянувшись на дверь, Оглоблин доверительно прошептал:
— Сдается мне, наш Валентин Гаврилович к этим самым «катюшам» касательство имеет.
— Вполне возможно… Кстати, как он живет?
— Не жалуется. Навестить сегодня обещал, да что-то не идет.
Никольский оказался легок на помине. Меня он не узнал. А когда узнал, то — так показалось мне — особой радости не выразил. Родион Трифонович хотел вскипятить чай, но Валентин Гаврилович сказал, что тоже выпьет граммов сто пятьдесят.
— Смотри, — предупредил Оглоблин и показал взглядом на его живот.
Никольский рассмеялся.
— Зарубцевалась! Недавно на рентгене был — никакой язвы нет.
Родион Трифонович хмыкнул.
— Одна моя работница до войны на сердце жаловалась, бюллетенила часто, теперь говорит: не болит.
— Мне такие случаи известны, — сказал Валентин Гаврилович.
— Чудеса! — Оглоблин покрутил головой. — Вроде бы все наоборот должно быть, верно ведь?
Из комнаты Надежды Васильевны доносились хмельные голоса, взрывы смеха. Вначале Валентин Гаврилович только прислушивался, потом, обратившись к Оглоблину, сказал:
— Быстро отгоревала твоя соседка.
— Сучья душа, — пробормотал Родион Трифонович.
Никольский усмехнулся.
— Просто живет как живется. У меня, к несчастью, так не получается. Очень хочется сына повидать.
— Давно не видел?
— С той поры, как расстался с женой. Это еще в Хабаровске было — восемнадцать лет назад. Он тогда материнскую грудь сосал.
— Переписываешься?
— Изредка. Недавно узнал — на фронте. Написал ему, но ответа пока нет.
— Придет, — обнадежил Оглоблин и разлил остатки водки в маленькие граненые стаканчики.
Я вышел с Никольским — тайком от него Родион Трифонович попросил меня проводить своего приятеля до дома. Как только мы очутились на свежем воздухе, Валентин Гаврилович достал папиросы, протянул пачку мне.
— Не курю, — сказал я.
Он одобрительно кивнул.
— Мне надо бы бросить, да никак не удается.
Я дипломатично промолчал.
Давно наступила ночь, какие бывают во второй половине сентября, когда днем еще достаточно солнечно, а к вечеру неизвестно откуда наползают тяжелые облака и начинает моросить дождь, совсем не похожий на летний, — обильный, стремительный, теплый. Дождя пока не было, но пропитанный влагой воздух свидетельствовал: ждать его недолго. Пахло прелыми листьями и почему-то грибами, хотя на нашем дворе они отродясь не росли, даже поганки не появлялись. Разбросанные там и сям домики, вход в которые я смог бы найти и с повязкой на глазах, словно бы сблизились, показалось — ищут друг у друга защиты. Такое впечатление возникло, наверное, от густой темноты. Все, что происходило до сих пор в моей жизни, было связано с этим двором. Отсюда я ушел в армию, сюда же, если посчастливится остаться живым, мне предстояло вернуться. Я вдруг отчетливо понял, как дорог и близок мне наш двор — маленькая частица Замоскворечья, которое ни с чем не сравнить: оно навсегда останется в памяти тех, кто жил там.
— Тихо и хорошо, как в деревне, — неожиданно сказал Никольский и жадно затянулся.
Огонек папиросы осветил его лицо — усталые глаза, острый нос. Я признался вслух, что очень люблю наш двор. Никольский отшвырнул окурок. Маленький огонек, прочертив дугу, промелькнул в темноте, напоминая трассирующую пулю; соприкоснувшись с травой, погас — даже легкое шипение послышалось.
— Мне очень тут нравится. Предлагали другую комнату, но я отказался переселяться.
Теперь я уже не помню, почему и как возник разговор о бабушке, — в памяти осталось только то, что сказал о ней Валентин Гаврилович. Вначале он с усмешкой напомнил, что Оглоблин очень уважает Варвару Прохоровну, но у него, Никольского, к ней другое отношение.
— Какое? — тотчас спросил я.
Никольский вытряхнул себе еще одну папиросу, чиркнул спичкой.
— Мне иногда кажется, что ваша бабушка стала образованной не по внутренней, так сказать, потребности, а по принуждению своих родителей, которым некуда было девать деньги. Я слышал, она по-французски и по-английски свободно разговаривает. Для собственного удовольствия, конечно, приятно почитать в подлиннике Бальзака и Диккенса, но какая, скажите, от этого польза людям? То, что есть в человеке и не отдано другим, представляется мне чуть ли не преступлением.
Я стал яростно защищать бабушку; сказал, что ей уже шестьдесят лет, что она внимательна и отзывчива.
— Не спорю, — устало откликнулся Валентин Гаврилович. — Когда Оглоблин начинает расхваливать Варвару Прохоровну, перед моими глазами моя собственная жизнь встает. Мой отец обыкновенным ремесленником был, очень хотел меня в люди вывести, с большим трудом определил в реальное училище. Учился я, как принято теперь говорить, на медные пятаки. Не берусь предугадать, как сложилась бы моя судьба, если бы не революция. Институт я уже при советской власти окончил, получил возможность совершенствоваться в той области науки, к которой с юных лет испытывал влечение. Ради бога, не думайте, что в нашей жизни все мне нравится, что я самоуспокоился. Нет! Но осознание, что мой труд, мои знания необходимы людям и моей стране, приносит мне моральное удовлетворение. Я часто спрашиваю себя: кем бы мог стать Родион Трифонович, если бы не контузия, сравниваю его жизнь не только с жизнью вашей бабушки, но и с жизнью многих-многих других людей…
— У бабушки свои трудности были, — сказал я.
— Разумеется, — согласился Никольский и попросил не обижаться на него.
До сих пор я считал: все обитатели нашего двора относятся к Варваре Прохоровне с одинаковым уважением, но теперь же убедился — это не так. В глубине сознания промелькнула мысль, что в словах Валентина Гавриловича есть правда. Признаваться в этом не хотелось.
Да и сейчас не хочется. Неужели моя бабушка была не такой, какой осталась в моей памяти? Неужели она жила только для себя, не сделала ничего полезного, доброго? О своей прежней жизни, как я уже говорил, она почти ничего не рассказывала, но по отдельным, вскользь брошенным фразам можно было догадаться, что жилось ей не очень-то хорошо: деспотичный отец, набожная мать, подвенечное платье и фата в шестнадцать лет, ворчливая свекровь, равнодушие мужа — для него она была просто выгодной партией. Несомненно, в бабушкиной жизни было что-то еще, очень важное: это подтверждали хранившиеся в шкафчике письма и перевязанные поблекшими ленточками коробочки. Они, эти письма и коробочки, могли бы, наверное, многое рассказать, но сразу после бабушкиной смерти мать, не прочитав ни одного письма и не раскрыв ни одной коробочки, все сожгла в печке — такова была последняя воля Варвары Прохоровны.
На следующий день я побывал у Надежды Васильевны, однако разговора о Мане не получилось: Петрова допытывалась, что говорит о ней и Толике бабушка, не поверила, когда я ответил: «Ничего». Я расспрашивал про Маню, очень хотел выяснить — вспоминает ли она обо мне в письмах к матери, но Надежда Васильевна, занятая какими-то своими думами, отвечала или нехотя, или невпопад.
— Ты не осуждай меня, — пробормотала она, когда я стал прощаться. — Я только теперь узнала, какая она, настоящая любовь. Тебе этого не понять.
Пять суток пролетели как один день. Несколько раз был в кино. Потолковал с Анной Федоровной. Она не роптала, не жаловалась, все время твердила, что теперь для нее самое главное — вырастить сыновей. Накануне отъезда я случайно встретился с Ленькой. Разговаривал с ним снисходительно, как и подобало фронтовику. Он, как мне казалось, осознавал мое превосходство. Пытаясь оправдать себя, сказал, что попросился на фронт, но начальник цеха не отпустил. Я ответил то, что думал:
— Кто хочет воевать не на словах, тот своего добьется!
Ленька так взглянул на меня, что я почувствовал: в наших отношениях оборвалась последняя ниточка.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Весной 1945 года, после неудачного для меня форсирования реки лодка перевернулась на самой стремнине, — я схватил воспаление легких, две недели пролежал в медсанбате, оттуда был переведен в армейский госпиталь. Там поставили диагноз: хронический бронхит, немного подлечили и — это произошло уже в июле — комиссовали «по чистой».
Радость возвращения была омрачена последним Маниным письмом. Вначале я получал от нее коротенькие дружеские письма, сам же писал ей чаще и пространнее. Потом Маня перестала отвечать. Я встревожился, отправил ей несколько писем подряд, даже Надежде Васильевне пожаловался, но не получил никаких разъяснений. На фронте некогда было вздыхать, предаваться унынию. Через некоторое время я успокоился, стал вспоминать Маню реже, иногда думал: «Таких, как она, на мой век хватит».
Так было только до тех пор, пока нежданно-негаданно не пришло от нее письмо. Еще не распечатав конверт, я удивился: обратный адрес был наш, московский. Испытывая внутреннюю тревогу, достал тетрадочный, мелко исписанный листок. «В последних письмах, — писала Маня, — ты спрашивал, как я живу. Я замужем, если это можно назвать замужеством. У меня ребенок — мальчику уже три месяца. Знает ли отец о его существовании? Сомневаюсь: он не москвич и мы не переписываемся».
Хотелось пожалеть Маню и одновременно обозвать самым обидным для женщины словом. Я не ответил ей, хотя несколько раз подолгу просиживал, покусывая кончик ручки, перед чистым листом бумаги.
И вот теперь мне предстояло не только увидеть Маню, но и что-то сказать ей. Я уже наслушался разговоров о тех, кого презрительно называли ППЖ — походно-полевая жена, сам встречал таких особ, нагловатых и самоуверенных, беззастенчиво использовавших в личных целях власть своих временных мужей и покровителей. Иногда мне казалось, что Маня тоже была такой же, но чаще я уверял себя, что она просто поддалась женской слабости.
Я решил, что свихнулся, что это галлюцинация, когда, очутившись во дворе, увидел бредущего навстречу Николая Ивановича Сорокина, сильно постаревшего и похудевшего, такого же пьяненького, каким он бывал до войны. Несколько мгновений он молча смотрел на меня: видимо, не узнал, потом вдруг широко улыбнулся, раскинул руки и, выражая всем своим существом неподдельный восторг, двинулся ко мне. Я понял, что он — плоть и кровь, когда ощутил на плечах его руки, а на лице винный перегар.
— Неделю назад возвернулся, — словоохотливо объявил Николай Иванович. — Как снег на голову свалился. Нюрка до сих пор не может поверить, что я живой. Уже все свои капиталы на водку извела, а у меня по-прежнему жажда. — Он посмотрел на мою фляжку. — Может, нальешь чуток по случаю нашей встречи и победы?
Перед выпиской я раздобыл литр чистого спирта. Половину распил в госпитале с ребятами, половина была в фляжке. Сообразил: Николай Иванович не отстанет и ничего не расскажет о себе, пока не выпьет. Воровато оглянувшись по сторонам, немного налил ему в крышку от солдатского котелка, отломил кусок сухаря.
— Учтите, чистый спирт!
— Не привыкать. — Держа крышку обеими руками, словно какой-нибудь бесценный дар, он немного постоял, созерцая покрывшую донышко жидкость; покосившись на сухарь в моей руке, пробормотал: — Только нюхну. — Бережно поднял крышку и, двигая кадыком, выпил спирт, перевел дух, понюхал сухарь. — Уважил — век помнить буду.
Я решил — можно расспрашивать.
— В плену был, — сообщил Николай Иванович в ответ на целый град моих «как» и «почему», — в самой Германии мыкался, пока не освободили. Потом строгая проверка была: интересовались, в какой части воевал, почему сдался, что в плену делал. Я понимал: надо так — в немецких лагерях разные людишки были. Встречал я там и сволочей, которым лишь одно наказание полагается — отсидка, а некоторым — только расстрел. Я в плен сильно раненный попал. Как выжил, сам удивляюсь. Первое время у немецкого кулака ишачил — там и отъелся маленько. От него меня в каменоломню перевели. Обматерил, понимаешь, хозяина, думал, что он ни бельмеса по-нашему не смыслит, а получилось — мат распрекрасно понимает. В каменоломне последние силенки подорвал. Если бы на месяц позже освободили нас, то, наверное, не увидел бы ни жену, ни сыновей. Когда после проверки документы в канцелярии выправлял, мне прямо сказали: никакой твоей вины нет; если работать не сможешь, инвалидность дадут и пенсию назначат.
— Какая у вас болезнь? — спросил я.
— Кашляю сильно, будто пушка грохает, и потею по ночам.
— Бронхит?
— Хуже.
— Неужели туберкулез?
— Вроде бы. Вчера в амбулатории был — в больницу ложат. Завтра в Сокольники поеду — туда направление дали.
— Вылечитесь.
— Надо бы. Все нутро болит — только водка и спасает. Выпью — полегче становится. Я даже там, — Николай Иванович сделал неопределенный жест, — всеми правдами и неправдами самогон раздобывал. Без него давно бы окочурился. — Он помолчал. — Все дома правильно, все меня радует, а вот сынок удивил.
— Ленька?
— Он, паршивец. Даже четвертинку отцу не выставил, хотя деньги у него есть. Нюрка в первый же день доложила: огребает он теперь прилично, раз в месяц промтоварные талоны как ударник труда получает. Однако матери денег дает мало и по талонам только себе одежонку покупает. Шевиотовый костюм справил, полуботинки на кожемите, три верхние рубашки взаперти держит. Не думал, что он таким станет. В мать, видать: она в молодости прижимистой была, только теперь поняла — не в деньгах счастье.
— Без них, однако, не прожить, — сказал я.
Николай Иванович согласился, вытер измятым носовым платком лицо.
— Кроме Леньки еще одна неприятность имеется: Нюрка призналась, что так и не отдала мой должок Никольскому.
— Сами отдадите.
Николай Иванович кинул на меня грустный взгляд.
— Поздно. Третьего дня схоронили его — от инфаркта помер.
— Не может быть!
— Сам в крематорию провожал. Богатые похороны были. Нас так хоронить не станут. Валентин Гаврилович, оказывается, изобретателем был. На гражданской панихиде, конечно, не объявляли, что он изобрел, но понять можно было — в оборонной промышленности работал.
— Оглоблин тоже на панихиде был?
— Обязательно! В три ручья слезы лил, — я даже не думал, что он такой.
— Дома он?
— Утром на бревнах курил, а где теперь — неизвестно. Наверное, в свою артель пошел.
Распрощавшись с Николаем Ивановичем, я поспешил домой. Проходя мимо окон Петровых, увидел Маню, вынужден был остановиться. В глаза бросилась прежде всего самодельная детская кроватка — бельевая корзина с приделанными к ней ножками. На спинках стульев висели скомканные пеленки. Огромный утюг сиротливо стоял на столе, на байковом одеяле.
— Не прожжешь? — я показал взглядом на утюг.
— Давным-давно остыл… Ты насовсем приехал или в отпуск?
— Насовсем.
— Что делать собираешься — учиться или работать?
— Постараюсь совместить работу с учебой.
— Это трудно.
— На фронте труднее было.
Маня помолчала.
— Ты очень возмужал.
Я посмотрел ей прямо в глаза.
— Ты тоже изменилась.
Она располнела, над переносицей пролегла складочка, придававшая лицу озабоченность, руки были красноватые от частых стирок и полоскания белья. Но еще больше меня удивила армейская одежда — гимнастерка с расстегнутым воротом и споротыми погонами, хлопчатобумажная юбка, а вот на ногах были разношенные шлепанцы. Я решил, что Надежда Васильевна, должно быть, распродала все Манины наряды. Видимо, уловив мое удивление, она объяснила:
— Ни одно платье не налезает. Надо бы перешить, да все недосуг.
Слово «недосуг» доказывало: Маня крутится как белка в колесе.
— Надежда Васильевна помогает тебе?
На Манино лицо набежала тень.
— У нее своих дел невпроворот. Про Толика слышал?
— Даже видел его.
— Неприятный тип, верно?
— Твоей матери он, кажется, нравится.
— Хотела расписаться с ним и тут поселить. Так, наверное, и сделала бы, если бы отец не объявился.
Я изобразил на лице недоумение.
— Не притворяйся, — сказала Маня. — Отец все-все рассказал. Мог бы написать мне, что встретил его.
— Не мог.
— Я не в претензии.
Я спросил, где живет Парамон Парамонович, приходит ли сюда.
— В Малаховке комнату снимает, — ответила Маня. — Два раза меня навестил. «Козу» внуку сделал, посюсюкал над кроваткой и — все. На развод и раздел имущества подал — мать, оказывается, его инструменты продала. Теперь они по адвокатам и судам бегают. Этот самый Толик воду мутит. Он теперь у матери — главный консультант. Увидел бы ты, как он на меня смотрит: словно кошка на сало. Пыталась поговорить с матерью по душам, а она: не твое дело!
— Внука она, надеюсь, любит?
Маня вздохнула.
— Шокирована, что рано бабушкой стала. За два года так изменилась, что мне иногда кажется: это не моя мать. У нас теперь все порознь: она сама по себе, я тоже.
— Тяжело тебе?
— Вот мое утешение. — Маня подошла к детской кроватке, наклонилась, что-то поправила.
Мне было интересно узнать, кто отец ребенка и почему Маня не переписывается с ним. Однако спросить об этом я не решился. Хотелось поскорее увидеть бабушку, но уйти было неудобно. Мы продолжали разговаривать. Два года назад такой разговор доставил бы мне удовольствие, сейчас же я испытывал лишь сострадание; внезапно подумал: «Причина — ребенок. Если бы не он…»
Женщина, которую я полюбил через десять лет, тоже была с ребенком. Меня это не остановило и не вызывало никаких «но» на протяжении всей жизни с ней: я любил, все остальное было несущественным.
Через много-много лет, когда мы уже жили в новом микрорайоне, я спросил Марию Парамоновну, согласилась ли она стать моей женой, если бы сразу после войны я сделал ей предложение.
— Нет, — не раздумывая, ответила она.
Я не поверил, и тогда Мария Парамоновна объяснила:
— Я только одного человек любила — отца своего сына. И сейчас его люблю.
— Почему же ты не разыскала его?
Мария Парамоновна улыбнулась.
— Он сам разыскал меня. Это еще в сорок шестом году было. Узнав о сыне, решил сразу же подать на развод — он еще до войны женился, но я не позволила. До сих пор переписываюсь с ним. Сын его фамилию носит. Я — Петрова, а он — Костромин.
Теперь Мария Парамовна на пенсии, живет отдельно от сына и невестки — купила себе однокомнатную квартиру в кооперативном доме, построенном в нашем микрорайоне. Ее сын и невестка — геологи, часто уезжают, внук тогда остается с бабушкой. Мария Парамоновна не нарадуется на него. Во время прогулок мы иногда встречаемся, вспоминаем наш двор и все, что было. Она охотно и доброжелательно говорит о всех, кроме Леньки. Когда он, Леонид Николаевич Сорокин, проезжает мимо нас на своем «жигуленке», лицо Марии Парамоновны становится каменным. Точно таким же оно было в тот день — в день моего возвращения, когда появился Ленька.
Думая о бабушке и матери, я машинально отвечал на вопросы. Маня вдруг устремила взгляд мимо меня. Обернувшись, я увидел безмятежно позевывашего на крыльце своего дома Леньку.
— Извини, пора ребенка кормить, — сказала Маня и поспешно отошла от окна.
Я припустился домой. И, наверное, никогда бы не связал внезапно оборванный разговор с появлением Леньки, если бы через несколько дней он не обозвал бы меня лопухом и не добавил бы с противной ухмылкой, что Маня вовсе не такая, какой прикидывается.
— Пояснее высказаться не можешь?
— Могу и пояснее. — Ленька похвастал, что незадолго до моего приезда переспал с Маней.
Я назвал его трепачом. Он снова ухмыльнулся, всем своим видом показал — было. В глазах потемнело. Я ударил его.
Я был покрепче — отъелся на казенных харчах, — так двинул Леньку по носу, что потекла кровь. Нас разняли. Примчалась Анна Федоровна:
— За что ты его?
— За дело!
Ленька моргал, хлюпал носом. Можно было подумать — ягненочек.
— Ответишь! — воскликнула Анна Федоровна. — Научился у Оглоблина рукам волю давать.
— На фронте этому научился.
— Здесь не фронт! — отрезала Анна Федоровна и, округлив щеки, дунула в свой свисток.
Через несколько минут появился постовой, отвел меня и Леньку в отделение. Мне, очевидно, пришлось бы отвечать по всей строгости, если бы дежурным не оказался фронтовик — пожилой капитан с орденской планкой на груди. Я рассказал ему все, как было. Неприязненно покосившись на Леньку, он спросил:
— Заявление писать будете?
Я почувствовал: Леньке хочется напакостить мне, но он боится. Капитан повторил вопрос, и Ленька процедил:
— Н-нет.
Когда он ушел, капитан поинтересовался, где я воевал, вспомнил своего командира полка, отстоявшего его после какой-то крупной неприятности. Напоследок сказал:
— Ты, браток, в общем-то, правильно поступил. Но впредь поаккуратнее будь — сейчас другая полоса жизни началась.
2
Помню, как улыбалась бабушка, когда после разговора с Маней я ворвался в комнату с возгласом: «Все, отслужил!» Помню, как мать уговаривала меня только учиться, утверждала, что ее зарплаты нам хватит. Помню поздравления соседей, разговоры о том, что теперь с каждым днем будет все легче и легче.
Повидаться с Оглоблиным в тот день мне не удалось. Бабушка сказала, что он до сих пор оплакивает своего друга, каждый день ходит на Даниловское кладбище, где погребена урна с прахом Никольского.
Проснулся я поздно, когда мать уже ушла на работу. Бабушка смотрела в окно. Доносились голоса, какой-то шум.
— Что случилось? — спросил я, приподнявшись на локте.
Бабушка не ответила. Я повысил голос, но она снова не услышала меня. В том, что у нее вконец расстроился слух, я убедился еще вчера. Во время моего разговора с матерью бабушка невпопад подавала реплики, вставляла слова. Было чуточку смешно и очень, очень грустно.
Прошлепав босиком к окну, я поцеловал бабушку в щеку.
— Проснулся? — она улыбнулась, показала взглядом во двор. — Что-то стряслось: милиционеры пришли и любопытных тьма.
Двор гудел как растревоженный улей. Быстро одевшись и наскоро поплескав на лицо, я помчался узнавать новости.
У Петровых производился обыск. Оказалось, что Толик был обыкновенным карманником, промышлял в универмагах, вчера его схватили с поличным. Два милиционера отгоняли от окон Петровых наиболее любопытных. Сквозь тюль смутно виднелись мужчины в штатском. Я представил себе, как стыдно сейчас Мане, как страдает она.
— Сколько веревочка ни вейся — конец будет! — громко сказала Анна Федоровна.
Она стояла с узелком в руке около мужа. Николай Иванович сильно кашлял, прикрывая рукой рот.
Работники уголовного розыска не нашли того, чего искали, и минут через десять или пятнадцать покинули наш двор. Но никто не расходился. Вышла Надежда Васильевна — расстроенная, почерневшая, в наспех наброшенной косынке.
— Подстроено! — крикнула она. — Не виноват он.
— Не болтай, — строго сказала Анна Федоровна. — Я давно тебя предупреждала: молодой, да больно ранний.
Надежда Васильевна поморщилась, с досадой на лице возразила:
— Ты совсем не разбираешься в людях.
Анна Федоровна повернулась к мужу:
— Пора ехать, Коль: к двенадцати назначено.
Они направились к воротам. Николай Иванович шел медленно; было видно, как сотрясаются от кашля его плечи. В воротах он обернулся, поклонился нам в пояс.
Тогда я и не подозревал, что вижу его в последний раз. После больницы он уехал на три месяца в санаторий, потом с полгода был дома. Бабушка рассказывала: в хорошие дни Анна Федоровна выводила его погреться на солнышке, он сидел спокойно, как старичок. Я этого не видел, потому что работал и учился, дома только ночевал. Через полгода Николай Иванович снова лег в больницу и вскоре умер там. Ленька — так рассказывали все, кто был на похоронах и поминках, — не проронил ни слезинки. Он вспомнил об отце, когда стало известно, что в ближайшие дни нам выдадут смотровые ордера. Эта новость взволнованно обсуждалась во дворе. Тревожно расширяя глаза, Ленька уверял всех, что их, Сорокиных, должны приравнять к семьям погибших и выделить квартиру получше, чем другим.
Теперь Леонид Николаевич Сорокин — мастер цеха, его портрет висит около проходной на Доске почета. Он женат, у него двое детей. Пока они были маленькие, Анна Федоровна жила в его семье, потом он отправил мать к братьям. Месяц у одного сына, месяц у другого, месяц у третьего — так она и живет. Ей уже восемьдесят лет. Иногда я прохожу мимо нее: она сидит на лавочке у соседнего подъезда. Ей, должно быть, всегда холодно: даже летом она не снимает прорезиненный потрепанный плащ.
— Здравствуйте, Анна Федоровна! — громко говорю я.
Она медленно поворачивает голову, неуверенно кивает.
Но чаще я прохожу молча. Она меня не видит и не слышит; в выцветших глазах — тоска. О чем думает Анна Федоровна? Что вспоминает?
— Пускай живет, — снисходительно говорит Леонид Николаевич, когда мы случайно встречаемся возле дома. — Помнишь, как она лупила меня? А я к ней с полным уважением — пою, кормлю. Скоро к брату отравлю: пора и там погостить.
Девятого мая, когда я надеваю свои награды, Леонид Николаевич поздравляет меня и добавляет:
— Это не только твой праздник, но и мой.
Он начинает рассказывать, как работал во время войны, как было голодно, холодно, он не помнит, а может быть, не хочет помнить, что до армии я тоже вкалывал, на собственной шкуре испытал все тыловые тяготы. Леонид Николаевич живописует, как трудно было в тылу, а перед моими глазами возникает мокрый от осеннего дождя лес, в котором наша рота ожидала сигнала к атаке. Еще полчаса назад все вокруг шуршало и шевелилось от дождевых струй; водяная пелена перед лесом, там, куда нам предстояло идти, казалась самой надежной маскировкой, теперь же от вздувшейся неподалеку речки наползал туман — реденький, напоминавший сильно разбавленное молоко; с шумом шлепались стекавшие с ветвей капли; ночная мгла постепенно рассеивалась, уступая место серенькому утру, которого мы ждали и боялись, потому что еще ночью, когда нашу роту внезапно передвинули в этот лес, поняли — неспроста. Взводные уже дали последние наставления командирам отделений, а те, в свою очередь, объяснили нам, солдатам, что роте приказано взять опорный пункт — ощетинившееся колючей проволокой и пулеметами сельцо. Нам не сообщили, пойдут ли впереди нас танки и сделаны ли проходы в проволочных заграждениях, но мы надеялись: танки будут прикрывать и саперы потрудились на совесть. Сидевший на пеньке парень сказал, что в стороне от лесной дороги видел, отойдя по нужде, «тридцатьчетверки». Эти слова очень ободрили меня.
Мы ждали артподготовку. Позвякивали котелки, кто-то простуженно кашлял; разговаривали все почему-то вполголоса, цигарки прятали в рукава. Махорочный дым стелился низко-низко, был таким же реденьким, как наползавший туман. В полумраке было трудно разглядеть лица однополчан, но я хорошо представлял, какие они, эти лица, и что на них. Все мы отлично понимали: сегодня кто-то будет убит — или повиснет изрешеченный пулями на колючей проволоке, или рухнет на поле, отделявшее лес от немецкого опорного пункта. Я вспоминал мать, бабушку, просил и бога и черта: «Пусть сия чаша минует меня».
Артподготовки все не было. Сидевший на пне парень пробормотал, что атака, должно быть, переносится или вовсе откладывается. И сразу же за лесом возник гул, над головой с воем понеслись снаряды. Несколько минут мы молча слушали эту музыку, то взглядывая вверх, то втягивая головы в плечи, потом начали подбадривать артиллеристов, как будто они могли услышать нас.
Сколько времени продолжалась артподготовка, я не знаю.
Вдруг наступила такая тишина, что мне показалось — оглох. И, словно опровергая это, отчетливо прозвучало многократно и разноголосо повторенное: «Вперед!» Держа карабины наперевес, мы высыпали из леса и, тяжело дыша, побежали по бугристому скользкому полю, на самом краю которого смутно виднелись соломенные и покрытые дранкой крыши. Танков не было. Но и немцы не открывали огонь. Я с радостью подумал, что они, наверное, покинули сельцо. И только тогда, когда перед глазами открылась колючая, в ржавчине проволока с проделанными в ней узкими проходами, поднялась такая пальба, что наш взвод вынужден был отойти и залечь в пересекавшей поле неглубокой впадине с пологими склонами. На дне стояла вода, но размышлять было некогда. Сырая шинель очень скоро стала совершенно мокрой, живот ощутил противный, липкий холод. Через несколько минут на мне не осталось ни одной сухой нитки.
От командира роты приполз связной с приказанием продолжать атаку. Мы поднялись, пробежали метров пятьдесят и, потеряв семь человек, снова откатились во впадину. Взводный — молоденький младший лейтенант с интеллигентным лицом — чуть не плакал и ругался, как ломовой извозчик с Конного двора. Если бы первый и третий взводы не ударили бы по немцам с флангов, то я не представляю, что было бы. На окраине сельца, когда до ближайшей избы остались считанные метры, перед моими глазами сверкнуло, грудь ощутила страшную боль, и я потерял сознание…
Нет, Леонид Николаевич, нет. Ты прекрасно работал, ты сделал для Победы все, что смог, но не надо сравнивать несравнимое. Я так думаю. Вслух ничего не говорю.
Надежда Васильевна настойчиво продолжала объяснять, что Толик не виноват, но все было ясно — нет дыма без огня. Когда люди разошлись, она устало спросила меня:
— Ты тоже думаешь, что он — вор?
— Милиционеры сказали — да, — ответил я.
Надежда Васильевна усмехнулась.
— Я тебя не про милицию спросила, а про то, что ты сам думаешь.
Я видел — ей больно, тяжело, не стал подливать масла в огонь, уклончиво сказал, что в ближайшие дни все выяснится. Она вздохнула.
— Надо передачу собрать.
Надежда Васильевна ушла. Я тоже возвратился домой, наскоро рассказал обо всем бабушке.
— Видела я этого Толика, — пробормотала она. — Красив, но без интеллекта.
Бабушка больше ничего не добавила: видимо, сочла такую характеристику достаточной.
Во второй половине дня появился Парамон Парамонович. Я в это время сидел, глазея по сторонам, на бревнах, видел, как он вошел в дом и как спустя несколько минут вышел. Окликнул его — хотел поздороваться. Легко переставляя костыли, он подошел, опустился на бревно. Костыли аккуратно положил один на другой.
— Убедились в моей правоте?
Я нехотя кивнул. Покосившись на окно своей комнаты, Парамон Парамонович с неприязнью сказал:
— Сегодня должны были встретиться у адвокатов и все обговорить, но она не пришла.
— Горе у нее.
— Разве это горе? Извела на него, негодяя, тысячи, столько разного добра распродала, что и сказать страшно. И все, между прочим, на мои деньги было куплено.
Я ждал, когда же Парамон Парамонович вспомнит дочь, внука, но он говорил только о проданных вещах и о предстоявшем разделе имущества. Слушать его было неприятно. Сославшись на дела, я стал прощаться.
— Мне тоже пора. — Парамон Парамонович обвел тоскливым взглядом двор, сунул под мышки костыли и направился к воротам.
После этого я встречался с ним еще раза два или три: расспрашивал о жизни, о самочувствии. Теперь Парамон Парамонович где-то под Москвой в собственном доме. Он женат, у него двое детей. Доволен ли он своей жизнью? Счастлив ли? Мария Парамоновна иногда рассказывает о нем, и всегда с оттенком снисходительности: так рассказывают о детских шалостях и причудах очень старых людей.
Совсем по-другому сложилась судьба Надежды Васильевны. После суда над Толиком, когда отпали последние сомнения в его виновности, она сдала: подурнела, перестала причесываться, одевалась кое-как, добровольно отдала Парамону Парамоновичу все, что он требовал, часто уходила куда-то: старухи утверждали — в церковь. С Анной Федоровной порвала и меня, как бывало раньше, не подзывала к себе. Питалась отдельно от дочери и всегда всухомятку. Старела Надежда Васильевна прямо на глазах, умерла она еще до переселения в новый микрорайон: в первые послевоенные годы на нашем дворе умирали часто — от старости, от ран.
Бабушка умерла еще раньше: уснула и не проснулась. Перед смертью она совсем оглохла — ничего не понимала даже тогда, когда я и мать кричали ей в самое ухо.
3
Поговорить с Родионом Трифоновичем мне удалось только через неделю: то его не было дома, то я возвращался слишком поздно.
Отколупывая ногтем прилипшую к столу хлебную крошку, он глухо сказал:
— До сих пор душа болит, до сих пор не верится, что нет Валентина Гавриловича. Ведь ему всего сорок пять лет было. Пока шла война, люди надеждой жили и не болели. Теперь все хвори проявились. Знакомец мой — тот самый — тоже недавно помер. Оправдали его тогда, на фураж поставили, поскольку он бывший кавалерист. Справился он с этим делом, даже орден заслужил. А когда узнал об отставке, слег и уже не встал. Вот, брат ты мой, какие дела-делишки. Сильно надеялся я, что доведется собственными глазами увидеть полную победу коммунизма. Теперь понимаю — без меня это будет.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Родион Трифонович уже не председатель артели.
— Грамотного поставили — фронтовика на протезе, — сообщил он.
— Теперь отдохнете, — утешил я.
— Зачем отдыхать? — возмущенно откликнулся Оглоблин. — В сторожа наймусь. Слух у меня острый, глаза хорошие и сплю мало.
Мы поговорили о Надежде Васильевне, Парамоне Парамоновиче, порадовались возвращению Николая Ивановича, пожалели Маню, одним словом, обсудили все новости.
На второй день после вселения в новый дом Родион Трифонович навестил меня.
— Устроился?
— Пока нет.
Он походил по комнатам, осмотрел кухню, санузел, встроенные шкафы.
— Все мне в этом доме нравится, а полы — нет. Тут линолеум, у нас же паркет блестел, которому износу не было и не будет. Давай-ка съездим и отдерем его. Настелим — шик получится.
— Разрешат отодрать-то?
— Спрашивать не станем. Все равно дом разрушат и сожгут. А что огонь не возьмет, на свалку вывезут.
Мы договорились поехать на следующий день утром. Сойдя с трамвая, увидели над нашим двором пыльное облако, услышали тарахтенье моторов. Переглянувшись, ускорили шаг.
По двору ползали бульдозеры, лязгал ковшом экскаватор. Еще один экскаватор с многопудовой грушей на проволочном канате стоял около дома Сорокиных. На месте нашего дома возвышалась огромная гора — полусгнившие балки, доски с поблекшей краской, битый кирпич, ржавое железо. Сиротливо торчали бревна — те самые.
— Опоздали, — пробормотал Родион Трифонович и, показав взглядом на бревна, добавил: — Так и не разрешили распилить их на дрова, теперь же — сам видишь.
Круто развернувшись, бульдозер содрал боком кору с березы.
— Осторожней, ч-черт! — крикнул Оглоблин.
Чумазый бульдозерист рассмеялся.
— Зря разоряешься, отец. Эти березы выкорчевать велено. Тут восьмиэтажный дом будет стоять. А разные деревца там посадят, где архитекторы наметили.
Над домом Сорокиных медленно поднималась многопудовая груша. Прошло несколько минут, и он рассыпался. В глазах Оглоблина была боль. А я мысленно устраивался в новой квартире, я даже не предполагал, что буду постоянно вспоминать маленький уголок Замоскворечья, мой двор, это долгое, долгое эхо…
ПРОСТО ЖИЗНЬ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
За стеной, в комнате сына, ревел стереомагнитофон, с кухни доносился приподнятый голос спортивного телекомментатора, и Доронин, еще не очнувшись от послеобеденного сна, понял: у сына гости, а жена смотрит показательные выступления фигуристов.
Откинув плед, он сел на диван-кровати, мысленно увидел табачный дым, бокалы с вином на журнальном столике, расслабленные позы молодых людей и их подружек, восседавшую на кухонной табуретке сытенькую, самоуверенную жену — легкомысленно-короткий халатик, круглые колени, полуоткрытый рот с крохотной родинкой над губой. Когда-то эта родинка волновала, теперь же вызывала раздражение. За последнее время Доронин сильно сдал, с грустью признавался сам себе: «Близка старость».
Жена не хотела считаться с этим. Она все еще была привлекательной, всячески подчеркивала это. Взять хотя бы легкомысленно-короткий халатик или джинсы, в которых она, располневшая, выглядела просто смешно. Несколько дней назад Доронин сказал ей об этом. Жена усмехнулась, перевела взгляд на сына, поблагодарила его ласковым кивком, когда он заявил, что теперь почти все женщины носят джинсы и мать смотрится в них не хуже других. Доронин не стал спорить — он давно убедился: мать и сын, что называется, спелись. В семейных спорах они всегда выступали сообща, даже тогда, когда Доронин был на сто процентов прав. Его возмущало потворство жены прихотям сына, подобострастие, с которым она встречала и провожала его гостей. Постоянно казалось: жена подлаживается под них, хочет понравиться.
Началось это еще на старой квартире. Тогда они жили в пятиэтажном доме, в малогабаритных комнатах. Самая маленькая была отведена сыну, другая служила одновременно и спальней, и гостиной. Кухня в пятиэтажном доме была — двоим не разойтись, поэтому обычно Доронин сидел в комнате, которую называли общей. Особенно остро он ощущал это, когда приходил с работы. Хотелось уединиться, почитать газеты, полистать книги, но сын включал телевизор, и приходилось смотреть всякую муру.
Три месяца назад они приобрели трехкомнатную кооперативную квартиру. Самую просторную комнату жена предоставила в полное распоряжение сына. Доронин молча согласился, хотя и подумал, что сам, когда ему было столько же лет, сколько сейчас сыну, ютился вместе с матерью в тесной комнатенке в шумной, многонаселенной квартире. В комнате поменьше была устроена спальня — жена купила великолепную кровать, трехстворчатый платяной шкаф, трюмо, поставила два низких кресла с широкими подлокотниками, повесила нарядные шторы. Третья комната, маленькая, досталась Доронину. Распахнув в нее дверь, жена с усмешечкой сказала, что теперь он может уединяться, шелестеть газетами сколько душе угодно.
«Предел мечтаний», — взволнованно подумал Доронин, оглядывая оклеенную светлыми обоями комнату. Лишних денег не было — пришлось довольствоваться той мебелью, которая стояла в старой квартире. Кроме испачканного чернильными пятнами письменного стола и диван-кровати, служившей почти десять лет брачным ложем, он взял два стула с выцветшей, но вполне прочной обивкой. Знакомый столяр пообещал соорудить стеллаж от пола до потолка. Узнав об этом, жена посоветовала купить чешские полки.
— Просто так их не купишь, — возразил Доронин.
— Надо достать!
— Не умею.
Жена промолчала. Она уже побегала по мебельным магазинам и убедилась: чешские полки — проблема.
Поначалу, пока в квартире устранялись строительные недоделки, Доронин вникал во все мелочи. Придя с работы, спрашивал — укрепили ли паркет, был ли сантехник. Потом, когда с недоделками было покончено, стал уединяться: расставлял книги, очищал от чернильных пятен письменный стол; с женой и сыном виделся только на кухне.
Был ли Доронин доволен своей жизнью? Он старался не думать об этом, жил как живется. В крупном издательстве, где он курировал несколько редакций, у него был приличный оклад, сын получал стипендию, жена тоже работала, хотя и не по своей специальности. Когда Доронин познакомился с ней, она была студенткой пединститута — того самого, который окончил он. Зиночка, несомненно, осознавала свою власть над мужчинами — от молодящихся доцентов с брюшком до самонадеянных аспирантов, не говоря уже о почти поголовно влюбленных в нее студентах. В те годы Доронин уже печатался в газетах и журналах, пользовался некоторой известностью. Высокий, поджарый, хотя и не красавец, еще холостой в свои тридцать лет, он считался партией что надо, был избалован вниманием незамужних женщин и девушек. Продолжительных связей Доронин избегал, никогда не клялся в любви, не обещал жениться. Ему очень хотелось полюбить так, как он любил в девятнадцать лет, когда, скитаясь по Кавказу, сошелся с Веркой — кубанской казачкой. Эта любовь осталась в памяти. Доронин часто думал, что красивей и желанней Верки никого не будет. Продолжал думать так и тогда, когда стал мужем Зиночки.
Познакомились они на вечере молодежи, куда Доронина затащил преподаватель пединститута, нуждавшийся в протекции. Темноглазая, темноволосая, с крохотной родинкой над губой, очень ладненькая, Зиночка сразу же заставила позабыть всех женщин и девушек. Ощущая удивление и радость, Доронин, придав лицу равнодушие, небрежно спросил:
«Кто такая?» Преподаватель понимающе улыбнулся: «Колесова, студентка третьего курса». — «Отличница?» — лучшего вопроса Доронин не нашел. «Просто хорошенькая», — ответил преподаватель и подозвал Зиночку.
Под крепдешиновым платьем угадывались строгие линии девичьего тела, новенькие лодочки подчеркивали стройность ног. Боясь услышать отказ, Доронин пригласил Зиночку на тур вальса и чуть не рассмеялся от удовольствия, когда она милостиво кивнула. К концу вечера даже слепой увидел бы, что Доронин «спекся». Зиночка не разрешила проводить себя, на вопрос, когда и где они встретятся, покачала прелестной головкой, про домашний телефон сказала — нету, и Доронин, шагая по ночной Москве, решил, что, кажется, влюбился.
На следующий день, браня себя мысленно и вслух, приехал, отпросившись с работы, на Малую Пироговскую, начал слоняться около старинного особняка, в котором размещался пединститут. Представительный мужчина с шикарным портфелем привлекал всеобщее внимание: студентки шушукались, юноши — их было немного — неприязненно косились. Один из них — костлявый, в очках — толкнул Доронина и даже, такой-сякой, не извинился.
Зиночка словно бы выпорхнула из подъезда, и Доронин восхищенно подумал, что она похожа на нарядную бабочку. Заметив его, девушка ни капельки не удивилась — направилась к трамвайной остановке, уверенно постукивая каблучками. За ней как тень двинулся костлявый студент. Обернувшись на ходу, Зиночка что-то сказала ему, и он, сразу посветлев лицом, пошел рядом с ней. Поджидая трамвай, они о чем-то болтали. Зиночка откровенно кокетничала, костлявый парень млел, и Доронин вдруг понял, что так она поступает нарочно, что этот студентик просто ширма. Жизненный опыт подсказал, как надо поступить. Изобразив на лице равнодушие, Доронин остановил такси и укатил. Он не сомневался — и это было действительно так, — что после его отъезда Зиночка турнет беднягу парня.
Через несколько дней Доронин узнал, где она живет: постарался преподаватель, которому он помог напечататься. Зиночка жила неподалеку от Киевского вокзала в деревянном доме — обветшалом, с маленькими, скособоченными окнами. Сам же Доронин только что получил комнату в хорошем доме, построенном еще в стародавние времена. Кроме него в коммунальной квартире было всего две семьи — седоголовый архитектор с хрупкой женой неопределенного возраста и молчаливая пенсионерка Мария Павловна. О себе Мария Павловна ничего не рассказывала, но было известно, что она — ветеран партии. Ее единственный сын, ровесник Доронина, погиб на фронте, муж умер. Она подолгу лежала в больницах, часто ездила в санатории, ей постоянно делали уколы — в квартире попахивало камфарой и какими-то другими лекарствами.
Своими жилищными условиями Доронин был доволен: светлая комната, просторная кухня, ванная. К нему часто приходили женщины, иногда оставались ночевать. Мария Павловна ничего не говорила, но Доронин чувствовал — не одобряет. Старик архитектор смущенно похохатывал, утверждал, когда на кухне не было жены, что сам куролесил в молодости. Его супруга грозила Доронину тонким, как церковная свеча, пальцем, игриво называла шалунишкой…
Встретившись вроде бы случайно с Зиночкой, он вмиг понял — обрадовалась: щечки порозовели, в глазах появился блеск. Доронин принялся болтать о разных пустяках, поинтересовался, как поживает молодой человек в очках. Она досадливо поморщилась.
Они встречались больше месяца, вовсю целовались, но, как только Доронин смелел, Зиночка с негодованием отталкивала его. Он догадывался, чего она добивается. Зиночкина непреклонность с каждым днем все больше распаляла Доронина. Через некоторое время, сам того не ожидая, он сделал ей предложение.
Старик архитектор стал относиться к Зиночке с галантностью, присущей лишь интеллигентам «из бывших», его супруга во всеуслышание говорила, что милей и приятней нет женщины, в словах и взглядах Марии Павловны проскальзывала настороженность. Зиночка отвечала ей тем же.
Стена, казалось, сотрясалась от магнитофонного рева. Доронин хотел попросить сына убавить громкость, но раздумал. Сложил плед, сунул его вместе с подушкой в ящик для постели, пошел умываться.
— Подойди-ка, — окликнула жена.
Кухня была большая, светлая, как во всех домах улучшенной планировки. Стараниями Зинаиды Николаевны — так теперь Доронин обращался к жене — она была превращена в кухню-столовую. Кроме электроплиты и стандартного кухонного гарнитура там стоял телевизор. На телеэкране кружилась, приложив конек к затылку, какая-то фигуристка.
— Немка? — спросил Доронин.
— Швейцарка, — ответила Зинаида Николаевна и, показывая свою осведомленность, добавила: — Дениз Бильман.
— Замечательно, — пробормотал Доронин.
Не отрывая глаз от телеэкрана, Зинаида Николаевна огорченно вздохнула.
— А наши девушки даже в первую десятку не пробились.
— Даже та? — Доронин смутно помнил: года два назад жена, большая поклонница фигурного катания, сказала, что в нашей сборной наконец-то появилась очень перспективная фигуристка.
— Была, да сплыла. — Зинаида Николаевна снова вздохнула и, по-прежнему не отрывая глаза от телеэкрана, показала пальцем на телефон. — Пока ты дрых, я с Кочкиными разговаривала.
— С ней или с ним?
— С Наташкой.
— Чего она сказала?
— Просила тебя позвонить им.
Доронин протянул руку к телефону. Зинаида Николаевна оторвала взгляд от телеэкрана, твердо сказала:
— Не дури, Алексей Петрович!
Доронин подумал:
«Зря она не позвонила бы».
— Обойдется! Что отрезано, то отрезано. Нечего тебе якшаться с ними.
Раньше Кочкины работали в том же издательстве. С Василием Афанасьевичем Кочкиным Доронина связывала многолетняя дружба. Именно ему, Кочкину, самому первому он сообщил о решении жениться на Зиночке. До этого Доронин был с ней у Василия Афанасьевича, уже женатого, в гостях и уже тогда обратил внимание на какую-то натянутость в поведении его жены. На следующий день, встретившись с Дорониным в буфете, Наталья Васильевна Кочкина ни словом не обмолвилась о Зиночке, хотя он ожидал услышать одобрение и восхищение. Это осталось в памяти.
Кочкины были хорошими работниками, особенно Василий Афанасьевич. Умный, начитанный, он умел убеждать, был принципиальным, честным. В издательстве к нему относились неодинаково: одни прислушивались к каждому слову, другие называли вольнодумцем.
«Наташка такая же», — часто напоминала Зинаида Николаевна и советовала мужу держаться от Кочкиных подальше.
В глубине души Доронину нравилось «вольнодумство» Кочкиных, и в то же время оно рождало какое-то беспокойство. Именно поэтому он ничего не сказал им, когда они решили уволиться. Доронин стал общаться с ними все реже и реже, и наконец их пути разошлись.
— Нехорошо, — пробормотал он.
— Ты о чем?
— Все о том же. Вспоминаю, какой напряженной ты становилась, когда Кочкины к нам в гости приходили.
Зинаида Николаевна кивнула.
— Я к ним с первого взгляда антипатию почувствовала.
— А пострадала мужская дружба.
— Невелика потеря! — заявила Зинаида Николаевна и добавила: — Лучше пойди и переоденься. Увидит тебя молодежь в таком виде — сыну краснеть придется.
Дома Доронин ходил в старье — в рубахах с оторванными пуговицами, в дырявых брюках; в такой одежде было удобно.
На кухне, когда он снова появился там, молодежь готовилась пить чай. Жена — чересчур оживленная, с азартным блеском в глазах — сервировала стол. Доронин возмущенно подумал, что Зинаида Николаевна хлопочет и суетится, как официантка в ожидании щедрых чаевых. Кроме сына и его девушки, предполагаемой невестки, Доронин увидел Андрея — давнишнего приятеля Вадима, приходившего к ним довольно часто и всегда с новой подружкой.
Отвесив общий поклон, Доронин перевел взгляд на подружку Андрея и чуть не ахнул — так она была похожа на его первую любовь: такие же золотистые, будто бы освещенные солнцем волосы, те же глаза густой синевы, тот же овал лица. Он никогда не ужинал с гостями сына, теперь же, когда Зинаида Николаевна, отдавая дань вежливости, пригласила его к столу, остался на кухне.
Доронин старался не смотреть на эту девушку, но голова помимо воли поворачивалась туда, где сидела она. Боясь выдать себя, он сделал вид, что внимательно слушает Андрея. Молодой человек рассказывал, должно быть, о чем-то интересном, но Доронин никак не мог вникнуть в смысл — продолжал изумляться сходству этой девушки с Веркой, мог бы поклясться, что не различил бы их, если с ее лица убрали бы косметику, надели бы на нее ватник, разваленные башмаки, голову повязали бы платком. «Может ли быть такое сходство?» — спрашивал себя Доронин. Захотелось рассказать всем, что в молодости он любил точь-в-точь такую же девушку, но промолчал: Зинаида Николаевна болезненно морщилась, когда муж вспоминал холостяцкую жизнь.
Перед сном, когда, проводив гостей, возвратился сын, Доронин стал осторожно расспрашивать его. Вадим рассказал до обидного мало: учится в мединституте, живет в общежитии, познакомилась с Андреем недавно и вроде бы не собирается с ним дружить.
Принужденно рассмеявшись, Зинаида Николаевна повернулась к сыну.
— Смекнул?
Вадим похлопал глазами.
— Ты о чем?
— Влюбился твой отец на старости лет.
— Ничего подобного! — с излишней горячностью воскликнул Доронин.
Сын рассмеялся, стал подтрунивать над отцом. Зинаида Николаевна твердо сказала:
— Андрюшка, как я давно убедилась, с порядочными девушками не знается. И эта, видать, шлюшка.
— Не смей так говорить! — рассердился Доронин.
Зинаида Николаевна обидчиво поджала губы. Вадим посмотрел на мать, миролюбиво сказал:
— Не отравляйте жизнь единственному чаду, предки.
Пожелав жене и сыну спокойной ночи, возвратился в свою комнату, разложил на столе рукопись, но читать не смог. Понял: и не уснуть.
Перед глазами вдруг явственно возник иссеченный овражками подлесок, понурые деревья с уже опавшей листвой, стожок на полянке, измятое сено, стыдливо отвернувшаяся от него Верка, стряхивавшая с юбки соринки, и он сам, тоже смущенный. Тогда, в сорок пятом, он был молод, силен, но и неопытен, как были неопытны все, кому в семнадцать лет пришлось надеть шинели, а в девятнадцать демобилизоваться по ранению. Позади был фронт — всего три месяца фронтовой жизни, оставившие в душе боль, госпиталь, а впереди — неизвестность, но и уверенность, что все будет как надо.
В Москве, куда после госпиталя возвратился Алексей, было голодновато, хотя и не так, как в сорок третьем, когда пришла повестка «прибыть с вещами». В коммерческих магазинах продавалось все, но на какие шиши мог купить Алексей колбасу, сыр, сливочное масло и прочее? Брюки, которые он носил до армии, не сошлись на поясе, рубахи оказались такими ветхими, что Доронин даже примерять их не стал. Хотелось поскорее сбросить гимнастерку, шинель, сапоги, но на барахолке, куда Алексей приехал поглазеть и прицениться, самая неказистая рубаха его размера стоила столько, что он присвистнул. Решил обменять сапоги на полуботинки, шинель на пальто, но осмотрелся и понял — не обменять: на барахолке продавалось столько армейской одежды, что даже в глазах рябило.
Удрученный, Алексей вернулся домой. Мать стала утешать его, напомнила о том, что демобилизованным, поступившим на работу, выдают промтоварный ордер, и через месяц-другой он обязательно сошьет себе костюм, а там, глядишь, появится возможность купить пальто и все остальное. Так, наверное, и было бы, но Алексею не терпелось, и он, не послушавшись матери, махнул на Кавказ, не думая о том, что и как получится.
…Верку он увидел на сухумском базаре, когда — голодный, отощавший, без копейки в карманах — слонялся около прилавков, предлагая покидать мешки, перенести ящики или выполнить какую-нибудь другую работу. От него досадливо отмахивались, и Алексей снова и снова думал, что он один-одинешенек и никому не нужен. На прилавках лежали оранжевые мандарины, краснобокие яблоки, сочные груши, но Алексей все время посматривал на пол-литровые банки с мацони и истекающую соком брынзу. Плыл пахучий дымок — прямо на базаре жарили шашлыки. Вынимай сотню и получай шампур с нанизанным на него мясом вперемежку с помидорами и лиловатым луком. Но где взять эту сотню? Трубили ишаки, повизгивали поросята. Усатые торговцы и темноликие торговки расхваливали свой товар, бранились, настороженно косились на Алексея, когда он подходил.
Золотоволосая, синеокая не то женщина, не то девушка — в этом Алексей еще не разбирался — отбивалась от настырного парня и была так хороша, что Алексей даже про голод позабыл. Парень — губастый, с чубчиком, в распахнутом пиджаке — продолжал, похохатывая, приставать, уверенный в своей силе и неотразимости.
— Постылый! — с гадливостью выкрикнула красотка и, упершись кулаками в грудь парня, увернулась от слюнявого поцелуя.
Прочитав в потемневших от гнева глазах мольбу о помощи, Алексей подошел, тихо сказал:
— Убери лапы.
Парень, удивленный, обернулся, смерил Алексея презрительным взглядом:
— Может, вдаришь?
— Топай, топай, — пробасил Алексей.
Издав похожий на кашель смешок, парень отвел руку, но Алексей опередил его.
Поднявшись, парень снова бросился на Алексея, но через несколько минут отвалил, харкая кровью, на лице Алексея осталась ссадина.
— Поспешим, пока целы, — сказала красотка. — Эта гадючка могет своих приятелев привесть.
— Плевать я хотел на них! — храбро ответил Алексей, но в душе все же струхнул.
— Береженого бог бережеть, — возразила красотка и, послюнявив кончик носового платка, убрала с лица Алексея капельку крови.
Верка — по дороге они познакомились — привела Алексея в небольшой дом на окраине города, что-то шепнула подслеповатой старухе в душегрейке, в дырявых валенках с отрезанным верхом. В крохотной комнате, куда вошли они, был полумрак; около стены стояла металлическая кровать, накрытая ватным, прожженным в нескольких местах одеялом с грязноватыми протертостями на краях; к другой стене примыкал квадратный стол; на единственном стуле с изогнутой спинкой лежало платье; на полу валялись пропитанные жиром мешки и веревки; чуть в стороне темнел облезлый фибровый чемодан с приподнятой крышкой, показавшийся в полумраке чудовищем с разинутой пастью.
— Я тольки в этой комнате ночую, когда в Сухум приезжаю, — объявила Верка и, швырнув платье на кровать, пригласила Алексея сесть.
От мешков шел тяжелый дух. Покрутив носом, Верка распахнула окно. Тотчас раздался старческий голос:
— Закрой!
— Дюже сильно воняеть, — объяснила Верка, повернув голову к стене.
В соседней комнате покашляли.
— Выкинь покуда мешки во двор, а с окном не балуй. Я пятый день хвораю.
Верка все же оставила щель. Наклонившись, стала собирать мешки. Доронин увидел длинные ноги в чулках, перехваченные широкими резинками, белую, как сахар, кожу и судорожно сглотнул. Усмехнувшись, Верка одернула юбку, пошла выносить мешки. Алексей стоял как истукан: перед глазами были длинные ноги и белая кожа.
— Тю-ю, — вернувшись, удивленно пропела Верка. — Я гадала — ты побойчей. Скидавай шинель и садись на стулу — снедать будем.
— А ты где сядешь?
— Стол к кровати придвинем.
Она была в поношенном ватнике, в разваленных мужских башмаках; клетчатый платок съехал на плечи. Повернувшись к Доронину спиной, Верка сняла ватник, сдернула платок, вложила его в рукав. Разулась, отбросила ногой башмаки, ватник повесила на гвоздь. Без ватника и платка она оказалась еще красивей, и Доронин несколько секунд молча смотрел на нее, не в силах сдвинуться с места.
— Тю-ю, — снова пропела Верка и, лукаво улыбнувшись, добавила: — Если не ндравлюсь, прямо скажи.
— Что ты, что ты, — запротестовал Алексей.
Она была — лучше не придумаешь. Тонкая талия, стянутая узким пояском юбки, подчеркивала округлые крепкие груди; плечи у Верки была хрупкие, шея — с красивым изгибом, и только огорчали слегка красноватые, огрубевшие от физического труда руки.
Пусть будет благословенна природа, сотворившая такие линии тела, такие глаза, брови, ресницы, такой высокий, чистый лоб и все остальное, что заставляло любоваться, рождало страсть и удивляло, потому что она, Верка, даже в скромной ситцевой кофтенке и полинявшей юбке была прекрасна.
Нарезав толстыми ломтями хлеб, круглый, видимо домашней выпечки, она аккуратно положила на стол шматок сала — желтоватого, густо облепленного солью, выкатила несколько помидорин, просто сказала:
— Чем богаты, тем и рады.
Алексей помог придвинуть к кровати стол, и они стали обедать, а может, ужинать — он уже потерял счет времени.
Последний раз Алексей перекусил два дня назад, хотел сразу же наброситься на хлеб и сало, но постеснялся. Съел ломоть хлеба, помидор, вежливо сказал:
— Спасибо.
— Спасибом сыт не будешь, — возразила Верка. — Ешь! По глазам вижу — оголодал.
Алексей не заставил упрашивать себя. Жалостливо поглядывая на него, Верка приговаривала:
— Мужики пожижей баб. Покуда мужик не поест, он ни на что не гож.
Алексей согласно кивал и мычал — рот был набит. Насытившись, он откинулся на спинку стула, достал кисет, огорченно вздохнул — там была только махорочная пыль.
— Зараз! — Верка сорвалась с кровати, присела на корточки перед чемоданом, порылась в нем, достала пачку папирос.
— Неужели куришь? — удивился Алексей.
Верка рассмеялась.
— Братану в подарок купила, а теперя уж ладноть.
Алексей блаженствовал, пускал колечками дым. Верка прихлебывала чай — кипяток с распаренной черносливиной. Он вспомнил, что до сих пор не узнал, где она живет, кем работает. Верка с гордостью назвала себя кубанской казачкой, сказала, что живет на хуторе, работает, куда пошлют, в колхозе.
— А тут что делаешь? — поинтересовался Доронин.
Ответила Верка не сразу. Сняла с рукава пушинку, дунула на нее, проследила, как она отлетает.
— Мешки видел?
— Конечно.
— Понял, с чего вонь?
— Н-нет.
Верка снова помолчала.
— Я, милок, курей в тех мешках вожу. Постирать бы их надоть, да некогда — утречком уезжаю. Здешние грузины люблять сациви и покупають кубанских курей не торгуясь.
Алексей нахмурился.
— Спекулируешь?
Верка поймала его взгляд, твердо сказала, покачав головой:
— Нет, милок. Спекулирують те, кто этим делом деньгу наживает, а я корм добываю. У меня тута, — она похлопала себя по шее, — ишо четыре души. Вота что война с нами сделала.
— Представляю, — пробормотал Алексей и сказал, что тоже воевал.
Верка кивнула.
— Это я по твоей медальке поняла. Чего ж тебя, такого молодого, раньше других отпустили?
— По ранению.
— Куды ж попал немец?
— В грудь.
— Хорошо, что руки-ноги целы.
Алексей хотел сказать, что в госпитале ему удалили часть легкого, но промолчал. Верка вздохнула. Синева в глазах помутнела, уголки губ скорбно опустились, лоб прорезала складочка.
— Мой братан тоже на войне был. Без ног возвернулся. Костыли поломал, теперя на подшипниках ездит. И пьеть. Пенсию в один день просаживает. Евонная жена, когда мы под немцем были, с полицаем путалась и сбегла с ним.
— Сука!
Верка покачала головой.
— Нет, милок, хужей. Сука своих щенят языком лижет и сосать себя даеть, а эта двоих детишков кинула. Самая что ни на есть… она. — Верка произнесла бранное слово спокойно, непоколебимо уверенная в своей правоте.
Они рассказали о себе все, что представлялось им самым важным, самым нужным. Алексей уже понял, как трудно живется Верке, его сердце переполняли боль и сострадание к ней, но чем он, все еще надеявшийся на что-то, продолжавший мечтать, мог помочь ей? Он был благодарен Верке за хлеб-соль, за отзывчивость, в которой нуждается каждый человек, а тот, кто мечется и ищет, нуждается в этом еще больше. Он страстно влюбился в Верку, хотел близости с ней, но говорил сам себе, что не пикнет, если она выпроводит его или, в лучшем случае, уложит на полу.
— Последний раз в этом доме ночую, — с грустью сообщила Верка. — Не придется теперя в Сухум наезжать, а жаль: курей тута просто с руками рвуть.
— Почему не придется? — прохрипел Алексей, встревоженный тем, что больше не увидит Верку.
— Тот, кого ты кулаком сшиб, проходу не дасть.
— Чего ему нужно?
Верка усмехнулась.
— Того, милок, чего все мужики от баб хотять. Месяца три назад переспала с ним. Сызнова, окаянный, требуеть, а мне противно.
Подивившись такой откровенности, Алексей ревниво спросил:
— Любила его?
— Нет.
— Зачем же?..
Верка смела в ладонь хлебные крошки, бросила их в рот.
— Пондравился мне поначалу, потом раскусила — кот. Он, оказывается, с нашей сестры деньги требуеть. Пользуется, гадючка, тем, что справных мужичков мало и бабам невмоготу.
«С ума сойти можно, — подумал Алексей. — Зачем она рассказывает про это, и так откровенно рассказывает?» До сих пор все женщины, с которыми он крутил любовь, в один голос твердили, что согрешили всего раз, да и то не по доброй воле. Верка не старалась показаться лучше, чем была, и Алексей все больше удивлялся.
За стеной покашливала хозяйка, в комнате стало темновато, вонь выветрилась, потянуло прохладой. Верка подошла к окну, опустила шпингалет.
— Наново открыла? — прошамкала старуха.
— Полуслепая, а на ухо вострая, — прошептала Верка и крикнула: — Померещилось тебе!
За стеной повозились.
— На кухне спать буду — там теплей.
— Ладноть! — отозвалась Верка и сразу тихо спросила: — Зажечь огонь или так посидим?
— Как хочешь.
Алексей продолжал сидеть на стуле, Верка — на кровати. Ощущая сухость во рту, напряженно ждал, что будет дальше.
— Переночуем, и до свиданьица, — печально сказала Верка.
— Ты очень понравилась мне, — признался Алексей.
— Я, милок, всем мужичкам ндравлюсь.
— Не поддавайся им!
Верка помолчала.
— Как же не поддашься, когда они хочуть этого. Да и я не железная. — Она снова помолчала. — Но ты, милок, не думай, что я с первым встречным… Если бы я не по любви сходилась, то давно бы не ведала, что такое нужда. Когда война началась, мне пятнадцать годков было, и я уже тогда про любовь думала. Пожалела одного солдатика. Три письма прислал он, а потом евонный товарищ написал — убитый. Дюже сильно горевала я в тот день. При немцах не до любви было. А как освободили нас и братан на костылях пришел, ездить в Сухум стала, потому что четверо душ, сама пятая, это тебе не пустяк. Пенсию братану положили — одна смехота. Но мы не жалимся, не требуем большего, потому что видим, какой разор принес немец. Даже страшно подумать, сколько силов отдадут люди, чтобы снова наладить жизню.
— Возьми меня на Кубань! — неожиданно выпалил Алексей и подумал, что лучшего себе не пожелает.
Верка устремила на него взгляд.
— Ты это шутейно или всурьез?
— Всерьез.
Продолжая пристально смотреть на Алексея, она тихо сказала:
— Не бери грех на душу. Ежели ты сбрехнул, чтоб легла с тобой, то я и без этого согласная.
— Нет, нет! — воскликнул Алексей. — Хоть к черту на рога с тобой полезу. Одно тревожит: никакой специальности у меня нет.
— Ты, как поняла я, грамотный?
— Девять классов до армии кончил.
— Лучшего не надоть! Ниловна, председательша наша, обязательно тебя в контору посадить или ишо что-нибудь придумаеть. Но жить станем порознь. Не хочу, чтобы казачьи женки языками мололи.
— Если нужно, давай сразу распишемся!
— Про распись, милок, рано гутарить. Ишо не переспали, а ты уже пачпорт измарать печатью порешил.
— Я же от чистого сердца…
— Вижу. Но все одно поспешать не надо. Семья — сурьезное дело… Отворотись-ка, милок, раздеваться буду.
Кровать была узкой, холодной; из прохудившегося матраца сыпалась соломенная труха, колола тело. Алексей несмело поцеловал Верку, она ответила на его поцелуй и… Ничего похожего Алексей до сих не испытывал, и все, что произошло несколько минут спустя, показалось ему сказкой.
Проведя рукой по груди Алексея, Верка наткнулась на вмятину, пересеченную широким рубцом.
— Господи, — прошептала она и осторожно прикоснулась губами к тому месту, где были перебиты ребра…
В квартире было тихо — только в уборной журчала в неисправном бачке вода. Доронин уже давно не курил, но сигареты держал — на всякий случай. И вот теперь они пригодились.
Стараясь вызвать неприязнь к жене, стал вспоминать все самое плохое, что было в их жизни.
Впервые Доронин по-настоящему рассердился на Зиночку, когда она была на седьмом месяце беременности. Округлившаяся, подурневшая, жена сидела на диване и, косясь на дверь, шепотком уговаривала мужа предложить Марии Павловне обменяться комнатами. Доронин отшучивался.
— Зачем ей двадцать квадратных метров? — сердито сказала Зиночка. — Наша — в самый раз.
— Мария Павловна персональная пенсионерка.
— Подумаешь! Надо прямо сказать ей, что она почти не живет в квартире: то больница, то санаторий. А нам через два месяца тесно станет.
— Обойдемся.
— Я о ребеночке думаю.
— Пойми же, — стал терпеливо объяснять Доронин, — неудобно обращаться с такой просьбой.
— Ничего неудобного в этом нет! — возразила Зиночка. — Твоя Мария Павловна одной ногой в могиле стоит, а нам еще жить и жить.
Доронин рассвирепел, обозвал Зиночку дрянью. Она надула губы и больше не проронила ни слова. Через несколько дней весело объявила:
— Я сама договорилась с Марь Павловной. Она согласна.
Встречаясь с персональной пенсионеркой на кухне или в коридоре, Доронин каждый раз испытывал стыд. Однажды, набравшись смелости, сказал Марии Павловне, что отругал жену.
— Пустое! — Старая женщина усмехнулась и — так показалось Доронину — с жалостью посмотрела на него.
Через год она умерла. На похоронах, подталкивая мужа локтем, Зиночка возбужденно шептала:
— Народу-то, народу-то сколько! И все венки с надписями.
Во время гражданской панихиды, ощупывая взглядом людей, она жадно слушала выступавших, недоверчиво покачала головой, когда выяснилось, что Мария Павловна несколько раз разговаривала с Лениным. В расширенных от изумления глазах не было ни боли, ни скорби — одно любопытство, и Доронин, мысленно отмечая это, снисходительно думал: «Глупенькая она еще, легкомысленная».
Сразу после похорон представилась возможность занять освободившуюся комнату, но Зиночка твердо сказала:
— Нам нужна отдельная квартира. Пусть маленькая, но обязательно отдельная!
Доронину не хотелось покидать насиженное место. Зиночка привела столько аргументов, проявила такую настойчивость, что муж начал хлопотать. Вскоре они поехали смотреть малогабаритную квартиру в Новых Черемушках, где в те годы вырастали, словно грибы после дождя, целые кварталы. Жена — раздобревшая, накрашенная, в дорогом пальто — открывала двери, восторженно ахала. Ей понравилось почти все — и светлые, изолированные комнаты, и крохотная кухня, и балкон, с которого был виден весь двор, обсаженный молодыми деревцами, с детской площадкой посередине.
— Жаль, что санузел совмещенный, — посетовала Зиночка и решительно добавила: — Переезжаем!
В Новых Черемушках они прожили почти двадцать лет. Наслаждаясь теперь покоем и относительной тишиной, Доронин с удивлением спрашивал себя, как он умудрялся в прежних условиях править рукописи, писать, читать.
Через два года после переезда на новую квартиру Зиночка устроила Вадика в детсад и пошла работать администратором в кинотеатре: два дня дома, один на службе.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Сын уже умотал в институт — он просыпался раньше отца и матери. У Зинаиды Николаевны был свободный день, и она, большая любительница понежиться в постели, должно быть, еще дремала. Наскоро позавтракав, Доронин отправился в издательство. Он мог приходить на работу в любое время дня; кроме того, раз в неделю ему полагался так называемый творческий день, но он не использовал его — всегда появлялся в издательстве ровно в одиннадцать.
Закрывшись в служебном кабинете, Доронин положил на край стола так и не прочитанную рукопись, пододвинул к себе папку с документами, но взгляд лишь скользил по строчкам. Он понял: сегодня не сможет ни читать, ни писать; сказал секретарше, что будет работать дома, и ушел.
На улицах было шумно, многолюдно — шуршали шины, взвизгивали тормоза, громко разговаривали люди. Все это мешало сосредоточиться, и Доронин, очутившись на Комсомольской площади, неожиданно для себя купил билет, сел в первую попавшуюся электричку и поехал куда привезет — лишь бы в одиночестве побыть.
Он сошел минут через сорок, постоял на мокрой платформе, к которой вплотную подступал лиственный лес, жадно вдохнул чистый, сырой воздух. Электричка умчалась, унося на хвосте два красных огня. В лесу было безлюдно: дачная и грибная пора уже кончалась. Размокшая тропинка виляла, огибая кусты, пахло прелью, и стояла такая чуткая тишина, что даже робкое дзиньканье синицы показалось громким. Задевая руками ветки, Доронин свернул с тропинки, углубился в лес. Почерневшие листья пружинили под ногами, концы брюк намокли. Найдя удобный пень, Алексей Петрович сел и тотчас позабыл, где он…
Почти в такой же осенний день он и Верка приехали в Курганную. На привокзальной площади, около коновязи, стояли две набитые пахучим сеном брички; дивчина в сапогах раструбом и степенный дед с окладистой бородой поглядывали, держа под мышками сыромятные кнуты, на немногочисленных пассажиров. Верка хотела нанять бричку, но дивчина и дед в один голос сказали, что едут в другую сторону. Алексей предложил идти пешком.
— Отсель до нашего хутора пятнадцать верст, — предупредила Верка, — а чеймодан, сам видишь, тяжелый: кой-что справила племяшам, мандаринок купила и полпуда тюльки везу — маманя и братан люблять посолонцеваться.
— Донесу.
— Смотри.
Шлях был широкий, с накатанной колеей, с неглубокими выбоинами, наполненными полузасохшей грязью. Верка сказала, что неделю назад сильно дождило, а теперь снова суховей. Во все стороны расстилалась гладкая, как стол, степь, покрытая уже побуревшим, ломким ковылем; кое-где виднелись черные проплешины, похожие на разлившийся мазут.
— Чернозем, — пробомортала Верка. — Раньше тута сеяли.
Алексей понял, о чем подумала она. Четыре года назад эта степь родила хлеб, теперь же на ней шелестел ковыль — некому было пахать, сеять, убирать урожай.
Чемодан оказался тяжелей, чем поначалу решил Алексей. Он перекладывал его из руки в руку, часто нес на плече.
— Чего все время на одно ставишь? — полюбопытствовала Верка. — На другом тоже неси — так полегше будеть.
— Нельзя.
Верка распахнула глаза, но сразу сообразила, в чем причина, с участливостью в голосе спросила:
— Болять ребрышки?
— Болят.
— Давай-ка чуток понесу.
— Сам.
Несколько минут они шли молча.
— Понял теперя, милок, какая она, спекуляция? — спросила Верка. — Когда курей на станцию везу, приходится бричку нанимать. Туда сотня, сюда сотня — на руках самая малость остается.
Ветер то стихал, то налетал снова, и тогда над проплешинами взвивалась черная, густая пыль; наперегонки неслись рыхлые шары сухой травы. Верка сбросила на плечи платок, расстегнула ватник. Алексей увидел стянутые кофтенкой груди и ощутил то, что возникало постоянно — и в переполненном вагоне поезда, и во время пересадок. Еще утром об этом можно было только мечтать, а сейчас, когда впереди показался прилепившийся к шляху иссеченный овражками лесок, он остановился, опустил чемодан, молитвенно сложил руки…
Именно с этого и начались вчера воспоминания, выстроившиеся теперь в строгую последовательность.
На хутор они пришли на исходе дня. Он находился на крутом, слегка подмытом берегу вспухшей от дождей речки, стремительно несущей мутные воды в другую речку, более широкую, впадавшую в Кубань. Алексей думал, что хутор — десяток хат, чуть больше, чуть меньше, а он оказался с подмосковную деревню, в которой до войны мать каждое лето снимала комнату. За хатами виднелись сады и огороды, в палисадниках увядали цветы с раскрытыми семенными коробочками. Щелкал кнут, мычали коровы с отяжелевшим от молока выменем; овцы торопливо дощипывали жесткую траву, словно хотели насытиться впрок.
По улице бегали с хворостинками пацаны и пацанки, гнали скотину к крытым соломой дворам. Стараясь не встречаться с любопытствующими взглядами, Верка торопливо шепнула:
— Никому не сказывай про то, что мы порешили. — Остановившись около покосившейся хаты с треснувшим в одном окне стеклом — на трещине лежала, как пластырь на ране, бумажная наклейка, добавила: — Побудь тута. Зараз кину чеймодан и — к Ниловне.
Как только она скрылась в хате, к Алексею подвалил белоголовый, будто вывалянный в пуху дедок с клюкой в руке, в лихо заломленной казачьей фуражке.
— Чей будешь?
— Приезжий.
— Откель тебя бог принес?
— Издалека.
Дедок потоптался, скребанул желтыми от никотина ногтями щетину.
— Курящий?
Алексей достал пачку, в которой осталось несколько папирос.
— Благодарствую. — Дедок выудил одну, осмотрел, положил за ухо. — В хате скурю… Почем они теперя?
— Дорогие.
Дедок кивнул.
— А мы тута самосад смалим. Хотишь?
— Давайте.
Дедок вытащил кисет, дал газетный лоскуток.
— Наш самосад, конешно, похужей папиросок, но самый крепкий во всей округе.
Чувствовалось, дедку хочется посудачить, и он даже крякнул, когда появилась Верка.
— Пошли к Ниловне! — громко сказала она.
Дедок встрепенулся. Проворно работая клюкой, устремился туда, где стояли, подперев руками головы, пожилые женщины.
— Про что гутарил с ним? — обеспокоенно спросила Верка.
— Интересовался, чей я и откуда.
— Самый вредный дед, — с неприязнью сказала Верка. — В сто раз хужей наших баб.
Она определенно была взволнована, но почему, Алексей не мог понять, расспрашивать же постеснялся — на них глазели все, кому это доставляло удовольствие.
Уверенно, не постучавшись, Верка вошла в хату, и Алексей подумал, что она, должно быть, пользуется особым расположением председательши.
Впоследствии он убедился: это не совсем так. Просто нравы на хуторе были такие — люди жили открыто, не таились друг от друга. Да и как можно таиться, когда все на виду — и ворвавшееся в дома горе, и радость тех, чьи сыновья и мужья остались живы. Скоро они вернутся, скажут ласковые слова тем, кого не видели долгих четыре года, о ком тосковали — матерям с иссохшимися грудями, бойким, языкастым женам, привезут хоть какие-нибудь гостинцы босоногим пацанам и пацанкам, народят новых детей, и снова наладится жизнь, не сразу, конечно, но наладится. Так было и при царях-батюшках, и после гражданской войны, так будет и теперь. Побелеют рубцы телесных ран, уберут с полей и покосов покореженные пушки, подрежет лемех плуга маслянистый чернозем, кубанская степь снова станет бескрайним пшеничным морем, и только в душах надолго-надолго, может до самой смерти, останется боль — память о тех, кто убит, повешен, сожжен.
В хате было пусто. Верка окликнула Ниловну, подождала и повела Алексея на баз — крытый потемневшей соломой скотный двор, расположенный на некотором отдалении от жилья; около него, под навесом, лежал сложенный штабелем кизяк.
Председательша — грузная, в косынке, в кирзовых сапогах — сидела на низенькой скамеечке и, оттягивая набухшие сосцы, сердито говорила пегой кормилице:
— Да стой же, неладная, спокойно! Как отдашь молочко, легче станет.
— Здравствуй, — сказала Верка.
— Взаимно, — откликнулась Ниловна. — Как съездила?
— Грех жалиться.
— А мне нагоняй был.
— За то, что отпустила?
Председательша кивнула.
— В хату ступайте — я мигом.
Она пришла минут через десять, устало опустилась на стул. Волосы у нее были русые, лицо круглое, доброе.
— По делу ко мне или просто так?
— Завербовала! — с гордостью объявила Верка, кивнув на Алексея. — Порешил в нашем колхозе работать.
Председательша перевела на него взгляд. Смотрела долго, внимательно. Алексей понял: Ниловна хочет составить о нем собственное мнение, потом уж начинать разговор.
— Откуда прибыл, молодой человек? — Она назвала Алексея на «ты», и это понравилось ему.
— Москвич.
Председательша не оживилась, как оживлялись все, когда узнавали, что Алексей москвич.
— До войны была там три дня — с делегацией ездила. На Сельскохозяйственную выставку нас водили и в Большой театр. На выставке мне понравилось, а в театре — нет. Поют, а про что — не понять. И пляшут не так, как у нас. Задерет ногу и стоит, тощая — смотреть не на что. А он, обтянутый, вся срамота на виду, раскинет руки и ходит, ходит вокруг нее. — Ниловна помолчала. — Представлять надо так, чтоб всем понятно было! Когда на хуторе праздник, наши любо-дорого поют: или слезы на глазах, или радость в груди. А пляшут — любой танцорке поучиться не грех.
Доронин любил балет, оперу, до войны часто ходил в Большой театр. Однако возражать не стал: у Ниловны были свои соображения, свой вкус.
Узнав, что Алексей грамотный, Ниловна обрадовалась, словоохотливо объяснила, что кончила всего четыре класса и грамотней счетовода, горького пьяницы, на хуторе никого нет.
— Самое трудное для меня, — призналась она, — отчеты в район составлять. Подписи поставить сумею и печать красиво приложу, а сочинить — маета.
— Плевое дело, — сказал Алексей.
— Вот и ладно! Трудоднями не обижу.
— От твоих трудодней ноги протянешь, — вставила Верка.
Председательша приложила к щеке палец, задумалась.
— Может, его в богатую се́мью на фатеру определить?
— Таких семей на хуторе мало.
— Мало, но все же есть. — Ниловна помолчала. — Надо его к Матихиным отвесть…
В Веркиных глазах появилось беспокойство.
— Там же Танька…
— Правильно! Она девушка красивая, работящая. Может, слюбятся.
— Нет! — решительно сказала Верка и, назвав Алексея в третьем лице, добавила: — Им у Матихиных не пондравится.
Ниловна устремила на нее подозрительный взгляд.
— Ты-то чего кипятишься? К тебе дорожка уже протоптана. Пока на Кавказе была, он опять приезжал.
Алексей почувствовал, как напряглась Верка.
— Знаю. Только вошла в хату — братан налетел: выходь взамуж, и все. Ему-то это с руки: самогон бесплатный и скольки хошь.
Алексей догадался: сейчас окончательно выяснится, почему была взволнована Верка.
— Женишок у нее есть, — объяснила Ниловна. — В райцентре живет, уже полгода сватает, а она кочевряжится.
— Лучше руки на себя наложу, чем с постылым жить стану! — воскликнула Верка.
— Дура, — спокойно сказала председательша. — Он хоть и в годах, всем женихам жених. Дом — полная чаша: корова, овцы, куры. Хата — другой такой же не сыскать. Даже велосипед имеется — на нем и приезжает.
— Не люб, — бросила Верка.
— Про племяшей подумай, про хворую мать!
— Не люб.
— Заладила! Вот не отпущу вдругорядь на Кавказ — враз поумнеешь.
— Ты меня, Ниловна, не пужай. — Веркины глаза потемнели, на лбу образовалась складочка. — Я уже поняла, что такое жизня, и меня теперя никому не испужать.
Председательша вяло махнула рукой, давая понять о бесполезности этого разговора. Они снова принялись обсуждать, где поместить Алексея, и получилось: лучше, чем у Матихиных, квартиры не найти.
— Сама отведешь или мне пойти? — спросила председательша.
Верка усмехнулась.
— Лучше ты ступай. Мы с Танькой сызмальства соперницы: то она верх одерживает, то я.
— Обогнала тебя по трудодням, — сказала Ниловна.
— Цыплят по осени считают, — возразила Верка. — До конца года ишо два месяца.
…Хата Матихиных была повыше и пошире других хат. Во всех комнатах — дощатые полы. Даже в колхозной конторе таких не было. Жили теперь Матихины похуже, чем до войны, но все же не бедствовали, как Верка. Хозяин уже дослужился до офицерских погон. Этой весной, когда дивизию, в которой служил капитан Матихин, перебрасывали на Дальний Восток, он прикатил на несколько часов домой. Как сумел — это уж его дело. Сбежались все, кто только мог ходить. Вышел хозяин на крыльцо — гул покатился: мать честная, наград-то сколько! Позвякивали медали, сияли ордера. Не грудь — иконостас. И ведь не пикой колол врага капитан Матихин, не шашкой рубил — гвардейскими минометами командовал. От этого ему награды, почет, уважение и все прочее, что другим не положено. Смотрели хуторяне на бравого вояку и думали: «Лихой казак!» Матихин и сам понимал это, часто говорил солдатам и сержантам: «Я, ребята, простой человек, без всякой интеллигенции в башке. Дадут приказ — выполню». И выполнял. Но при этом понимал: война войной, а жизнь жизнью. Здоровенный чемодан — пуда на четыре потянет — приволок Матихин в подарок жене и дочери. Чего только не было там! И платья, и отрезы, и туфли на высоких каблуках, и даже три кружевные исподницы, по-интеллигентному — ночные рубашки. Страшное дело война. Но Матихин чувствовал: другого шанса не будет.
Поладили быстро.
— Пускай остается, — сказала Анна Гавриловна, хозяйка. — Свободная комната есть, и лишняя кровать найдется.
Была она статной, еще довольно молодой, что называется — в самом соку. Толстая, в руку, коса, небрежно скрученная в огромный пучок, оттягивала голову, придавая лицу надменное выражение; плавные движения рук и напевная речь, наоборот, вызывали доверие. Узкий лоб, невпопад моргавшие глаза, растерянная улыбка свидетельствовали об отсутствии острого ума, но отнюдь не об отсутствии житейской хитрости, которой славились все Матихины. Ее очень беспокоила дочь. Татьяна была «порченая»: еще девчонкой согрешила с мальцом-соседом. От людей этот грех удалось скрыть. Ее родители договорились с родителями мальца поженить детей, как только им исполнится восемнадцать лет. В назначенный срок свадьба не состоялась и уже не могла состояться: нареченный сложил голову на фронте. Невольно приходилось думать о Татьянином будущем. Девку с изъяном всегда трудно было сбыть с рук; теперь же, когда женихов с гулькин нос, будет еще труднее. Оставалась, правда, надежда на богатое приданое, но Анна Гавриловна по старинке думала: «Приданое приданым, а честь честью». Она с радостью согласилась взять постояльца — Алексей показался ей покладистым парнем.
От матери Татьяна ничего не унаследовала. Да и отцовского в ней было мало — только нос с горбинкой. Смугловатая, глазастая, чуть суховатая, с тяжелыми — в виде полумесяца — серьгами в маленьких розовых ушах, вся как будто бы опаленная кухонным жаром, она и лицом, и повадками походила на цыганку.
Увидев в окно Алексея с Ниловной, она метнулась в комнату, где стоял сундук с приданым, надела широкую цветастую юбку, нацепила монисто, доставшееся ей от бабки, такой же смугловатой, глазастой, суховатой, рассыпала по плечам длинные и прямые, словно бы льющиеся волосы, смоляные, как воронье крыло, и лишь после этого появилась на кухне, где мать толковала с Ниловной.
В переговорах участвовал и свекр — тот самый дедок, которого Алексей угостил папироской. Он все время встревал в разговор, расхваливал сноху и особенно внучку, без всякого повода колотил клюкой пол. Татьяна спровадила деда погулять, села чуть в стороне, расправив юбку. Хороша! Но Алексей думал о Верке, прикидывал, где они свидятся и когда.
Ему отвели самую лучшую комнату. «Залу», — так напевно сказала Анна Гавриловна. Между окон темнел пузатенький комод с расставленными на нем пустыми флакончиками и коробочками разной величины; у стены была двухспальная кровать, накрытая богатым покрывалом; на еще не просохшем полу с облупившейся кое-где краской лежала домотканая дорожка. Алексей почистил шинель, попросил горячей воды — решил выстирать хотя бы гимнастерку. Анна Гавриловна тотчас заявила, что стирка не мужское занятие, пообещала к утру выстирать и отутюжить не только гимнастерку, но и брюки. И дала взамен мужнину одежду.
— Зараз в баньку пожалте, — пропела она. — Мы уже помылись, но жар в ней по сю пору стоить.
Алексей попарился, выстирал майку, трусы, носки, просушил все это над горячими камнями.
Его уже ожидали. На столе дымился борщ с янтарными кружочками на поверхности, аппетитно утопали в рассоле огурчики и помидоры с лопнувшей кожицей, на тарелках лежали розовые ломтики сала. Литровая бутылка с тугой бумажкой в горлышке придавала столу праздничность.
Как только Алексей опустился на стул, дедок схватил бутылку, проворно выдернул самодельную пробку; позвякивая горлышком о стаканы, разлил самогон. Себе и Алексею налил до краев, снохе и внучке — меньше половины.
— Дай-то бог.
Анна Гавриловна подержала стакан около губ и выпила разом. Помахала в рот ладошкой, покрутила головой.
— Крепк!
Татьяна пожеманилась, но тоже не оплошала.
Алексей наворачивал борщ, искренне говорил, что никогда не едал такого. Татьяна игриво поглядывала на него, дедок расспрашивал о Москве, Анна Гавриловна предлагала сало, огурчики.
— Коли сметанки хотите или, к примеру, творожку, то я мигом! — спохватилась она.
Алексей помотал головой и незаметно для других ослабил ремень.
Сытый, чуточку пьяный, он лег и сразу утонул в перине. Лежал с открытыми глазами и удивлялся неожиданному повороту в своей судьбе. Из кухни доносились голоса, плеск воды. Потом все стихло. Алексей хотел повернуться к стене и уснуть, но скрипнула дверь, появилась Татьяна в кружевной исподнице. Она помешкала на пороге, чуть слышно вздохнула и пошла назад. Он вспомнил, как откровенно поглядывала на него эта девушка, и, беззвучно рассмеявшись, подумал, что на фронте и в госпитале ребята были правы: красивых девчат теперь действительно навалом, как говорится, на любой вкус и цвет.
Алексей еще не был искушен в амурных делах: мимолетная связь на переформировке, интрижка в госпитале — вот и все его похождения. Это, однако, не мешало ему то многозначительно, то покровительственно покашливать, когда однополчане или однопалатники рассказывали о своих победах, — хотелось казаться опытным.
Ловя ухом звук удалявшихся шагов, Алексей вдруг представил Татьяну нагой. Думать об этом было приятно. Но еще приятней было думать о том, что он парень и может привередничать: захочет — пожалеет, захочет — оттолкнет. С этой мыслью Алексей и погрузился в сладкий сон…
Утром он уже сидел в конторе и строчил отчет. Счетовод — дядька с рыхлым, пористым носом — опасливо выспрашивал его. Убедившись, что Алексей ни черта не смыслит в бухгалтерии, успокоился. Заглянула Ниловна. Увидела, как бойко водит пером Алексей, расплылась в улыбке, помчалась по колхозным делам.
Стали появляться молодки. Шуршали юбки, терлись о дверной косяк плюшевые жакеты, отваливалась на выметенный пол грязь с резиновых бот и сапог — шел дождь. Татьяна по-хозяйски вертелась около стола, задевала Алексея юбкой. Навалившись на спинку стула, глянула через его плечо. Он рассерженно обернулся, и она с неохотой отошла.
Молодки подходили к счетоводу, что-то спрашивали, сами же косились на Алексея. Он делал вид — наплевать. Потом примчалась Ниловна и выгнала посторонних.
После обеда в окне промелькнула Верка. Алексей чуть выждал, положил ручку на стол.
— Уборная далеко?
— За конторой.
На крыльце поджидала Верка.
— Как стемнеет, милок, к балочке приходь.
— Дождь же.
— Небось не сахарный. Да и распогодится скоро.
— Обязательно приду. Только где эта балочка?
— Дойдешь до ракит и — вбок.
— Налево или направо?
— Направо.
— Как бы не сбиться.
Верка брызнула синевой глаз.
— Захотишь помиловаться — не собьешься.
И ушла. Алексей вернулся в контору.
Повертев в руках исписанные листы, Ниловна сказала:
— Прочитай-ка лучше сам.
Алексей читал громко, с выражением. Председательша кивала, очень довольная.
— Складно составил. В районе, поди, удивятся… Завтра с утра наглядную агитацию делать будешь — напишешь печатными буквами фамилии и около них цифры проставишь, чтоб все видели, кто как работает. — Ниловна помолчала. — Фатерой-то доволен?
— Доволен.
— К Матихиной Татьяне приглядывайся, а про Верку брось думать.
— Я и не думаю.
— Врешь. Вчера по твоему лицу все поняла.
Алексей отвел глаза. Ниловна вздохнула.
— Скажи Анне Гавриловне, что я велела аванс тебе выдать. Пускай придет к кладовщику и получит.
— Спасибо.
— Устал?
— Ни капельки.
— Все равно на сегодня хватит — отдыхать ступай.
Действительно, распогодилось, но воздух был по-прежнему сырой, неприятный. Земля разбухла, на сапоги налипала грязь. Над хатами ломались дымы, расстилались по улице; пахло горелым кизяком.
— Эй! — услышал Алексей и остановился.
Увязая подшипниками на размякшей дороге, его нагнал мужчина с нездоровым от перепоя лицом. Алексей догадался: Веркин брат.
— Здорово живешь! — сказал инвалид и, задрав голову, изучающе посмотрел на Алексея.
— Здравствуй.
— Москвич, говорят?
— Точно.
— Воевал-то где?
— До границы с Польшей дошел.
— А меня под Курском садануло.
Алексей сочувственно помолчал. Веркин брат вынул кисет, свернул «козью ножку», угостил табачком. Алексей высек огонь, поднес тлеющий шнур к лицу инвалида; их глаза встретились. Веркин брат выдохнул дым, с нарочитым безразличием спросил:
— Что ты с Веркой-то сотворил, а?
Алексей встревожился. Инвалид усмехнулся.
— Вернулась с Кавказа — будто опоена чем-то. Она и раньше, шалава, взбрыкивалась, но так — никогда.
— Не понимаю, о чем говорите, — сказал Алексей.
— Врешь небось?
Алексей вспомнил Веркин наказ, храбро ответил:
— Зачем мне врать!
Инвалид отшвырнул окурок, вдел руки в ремешки на деревяшках.
— Ты, браток, ей мозги не пудрь. Пускай живет, как жила.
Алексей промолчал. Ловко работая деревяшками, Веркин брат покатил по улице, выбирая места посуше. На душе сразу стало тревожно, в лицо бросилась кровь.
Татьяна, как только он вошел, спросила, не тая любопытства:
— Про что с Веркиным братом гутарил?
— Просто покурили.
— Из окна смотрела — вспыхнул.
— Жарко было.
Татьяна кивнула, и Алексей не понял — поверила или нет. После ужина она достала карты, предложила перекинуться в подкидного дурачка. Алексей покосился на окно: «Время еще детское». Анна Гавриловна внесла керосиновую лампу. Дедок сидел на лавке, прислонившись спиной к печи, шевелил мохнатыми бровями, что-то бормотал.
— Ты чего? — спросила Татьяна.
Дедок конфузливо шмыгнул носом.
Алексей продул три партии подряд. Татьяна поиграла глазами.
— Вон как тебе в любви-то везет.
«Знаю!» — чуть не выкрикнул Доронин.
Она предложила сыграть еще, но он снял с гвоздя шинель.
— Прогуляюсь.
— Мне тоже надоело сидеть.
«Влип», — подумал Алексей.
Они вышли, постояли на крыльце.
— Тебе куда?
— Туда, куда и тебе.
Алексей терпеть не мог липучих особ, грубо сказал:
— В контору пойду — поработать надо!
Татьяна не обратила внимания на грубость, призывно рассмеялась.
— Смотри, весь ум изведешь на писанину — ни на что другое не останется.
— Придется обойтись без другого! — насмешливо выпалил Алексей и сбежал с крыльца.
На дне балочки лопотал ручей, неподалеку клокотала речка, с плеском бухался подмытый водой дерн. За балочкой смутно виднелись кургашек с приплюснутой верхушкой и кусты. Прошло пять, десять минут — Верка не появлялась. На хуторе брехали собаки. Беззлобный, ленивый брех напоминал уже потерявшую остроту ссору казачьих женок, когда израсходован весь пыл, надо бы повернуться и уйти, да самолюбие не позволяет: вот и приходится говорить слова, от которых никому ни жарко ни холодно. Пронзительно и тоскливо вскрикнула какая-то птица. Чуть в стороне от хутора, около фермы, качался, тревожно помигивая, огонек, и Алексей вдруг подумал, что в эти минуты кому-то так же одиноко и тоскливо, как ему. Верки все не было. Алексей решил, что пошел, наверное, не той тропкой, хотел вернуться к ракитам. В это время послышались торопливые шаги.
— Заждался? — Верка протянула бидончик, наполненный пенистым молоком. — На ферму бегала. Ниловна иной раз позволяет чуток домой отнесть.
— Разве в твоей семье нет коровы? — удивился Алексей.
— Тольки коза. Испей-ка колхозного молочка, милок. Не молочко — сласть.
— Лучше племянникам отнеси.
Верка улыбнулась.
— Дома ишо целый жбанчик. Сегодня два раза доить бегала.
Алексей выпил ровно половину.
— Остальное тебе.
— Не откажусь. Люблю молочко: от него сила и сытость. — Верка выпила, провела рукой по губам. — Как разбогатею, обязательно корову куплю. У нас до войны дойная была, да продали.
— Почему?
Верка помолчала.
— Папаня сбег, а маманя дюже хворала, все по докторам ездила. На это, милок, деньги были нужны.
— Я думал, твой отец на фронте погиб.
Верка поправила платок, чуть слышно вздохнула.
— Нет, милок, сбег. От хворой жены сбег. Я тогда ишо в школу ходила. Всего три класса отучилась — больше не пришлось. Братан на срочной был, а евонная половина уже в те года подолом полоскать начала — все в станицу, будто по делам, ездила, где тот кобель, что посля полицаем сделался, кладовщиком работал. Маманя то в больнице, то на печи, племяши-двойняшки — голодные, немытые, в соплях. Заставила меня жизня хозяйство на себя взваливать. Двенадцать годков мне в ту пору было.
«Глядя на нее, не скажешь, что живется ей так трудно», — подумал Алексей, любуясь Веркой. У другой от такой жизни потускнели бы глаза, почернело бы лицо, посеклись бы волосы, изменилась бы стать. А она, Верка, восхищала молодостью, силой, красотой — той красотой, которая и немощного старца принудит остановиться и посмотреть вслед.
— Так и будем стынуть? — спросила Верка.
Алексей с готовностью раскинул руки. Она рассмеялась.
— Погодь. Сперва про Таньку скажи.
— Что сказать?
— Пондравилась или нет?
Алексей хотел солгать, но признался:
— Хороша!
Верка кивнула.
— Кабы охаял, не поверила бы.
— Почему? Как говорится, на вкус, на цвет — товарища нет.
Верка помотала головой.
— Красивость, милок, завсегда красивость.
В памяти возник Татьянин взгляд, призывный смех, от которого покачивались в ушах серьги и позвякивало монисто — мелкие серебряные монетки, искусно припаянные к тонкой цепочке, вспомнилась смугловатая нагота, просвечивавшая сквозь ткань исподницы, тихий, разочарованный вздох.
— Уж очень липучая она.
— Виснеть?
— Можно и так сказать.
— Взамуж хотить!
Алексею вдруг стало грустно-грустно.
— А ты, хотя и сватают, не торопишься.
Верка сколупнула с его шинели комочек присохшей грязи.
— Мне, милок, про племяшей надоть думать, про хворую мать. Мне проще отдать, чем взять. Я на все согласная, но с нелюбым канитель тянуть не стану.
— Еще в Сухуми предлагал расписаться.
— Вгорячах, милок, вгорячах! — проникновенно возразила Верка…
С грохотом проносились пассажирские и товарные поезда, оставляли после себя такие вихри, что даже сырые, прилепившиеся к шпалам листья вспархивали и начинали метаться в взбаламученном воздухе. Раздвигались пневматические двери электричек, выпуская или впуская двух-трех человек, а чаще ни одного.
Доронин ничего не видел, не слышал, очнулся только тогда, когда стал моросить дождик — надоедливый осенний дождик. Он мог моросить и час, и два, а мог в любое время превратиться в ливень. Лицо было мокрое. «От слез или от дождя?» — подумал Доронин. Понял: всплакнул. Так бывало и раньше, когда в душе возникало какое-то особое настроение. Слезы восхищения или умиления могли вызвать написанные с болью страницы, грустная песня, национальный гимн, под звуки которого на флагшток медленно вползал алый стяг, — одним словом, все то, что проникло в самое сердце. Зиночка изумленно расширила глаза, потом усмехнулась, когда — это было в первый год их совместной жизни — Доронин стал объяснять, почему расчувствовался. С тех пор он перестал делиться с женой сокровенным. Если начинало пощипывать в глазах, уединялся или сдерживался.
Достав носовой платок, Доронин вытер лицо, поднял воротник плаща и через несколько минут очутился на платформе, к которой приближался электропоезд, пробивая лучом прожектора помутневший воздух.
…Открыв своим ключом дверь, вошел в просторный холл, который даже и сравнивать было нельзя с крохотной прихожей в их прежней квартире, сразу же услышал уверенную поступь жены.
— Где тебя носит? — в привычном для нее повышенном тоне спросила Зинаида Николаевна.
Доронин не ответил — решил подождать, что последует дальше.
— Эта особа не соизволила мне объяснить, куда ты умотал.
«Этой особой» Зинаида Николаевна называла секретаршу Доронина — умненькую, воспитанную девушку.
Он усмехнулся. Зинаида Николаевна нахмурилась, кинула на него недовольный взгляд.
— Все же интересно узнать, где тебя носило?
— Гулял.
Зинаида Николаевна округлила глаза.
— Неужели к Кочкиным ходил?
Доронин вспомнил, что так и не позвонил им.
— Спасибо, что напомнила. Завтра обязательно позвоню или, быть может, схожу.
Зинаида Николаевна осуждающе помолчала.
— Ужинать сейчас будешь или Вадика подождешь?
— Подожду.
Очутившись в своей комнате, Доронин несколько минут постоял, потирая виски. Хотелось снова очутиться в прошлом, но шум — в квартире был включен телевизор — отвлекал. Он подумал, что прошлое возникнет позже, когда в квартире наступит ночная тишина…
Зинаида Николаевна вмиг сообразила, что муж немного не в себе, однако это не вызвало у нее никакой тревоги. За двадцать с лишним лет совместной жизни она изучила Доронина и полагала — изучила хорошо. Зинаида Николаевна не строила никаких иллюзий в отношении его холостяцкой жизни, в первые годы была бдительной, как никакая другая жена, но муж всегда возвращался с работы в одно и то же время, и она успокоилась. То, что вчера он слишком часто поглядывал на синеглазую девушку, было вполне естественным: в определенном возрасте все мужчины «сходят с ума». После сорока лет Доронин увлекался несколько раз. Зинаида Николаевна могла точно сказать, кем и когда. И хотя эти женщины, родственницы и знакомые их общих знакомых, были молоды и красивы, она не паниковала. Да и зачем было паниковать, когда — Зинаида Николаевна сама убедилась в этом — молодые женщины просто флиртовали. Муж, наверное, думал: это всерьез. Но пусть он что угодно думает — для нее важны намерения женщин. Они не пытались разбить семью, только строили глазки, а это такие пустяки, что и думать не стоит. Немножко флирта не повредит: разгонится кровь, посвежеет лицо. После непродолжительных увлечений муж становился сговорчивым — это тоже приходилось учитывать. Разумеется, если бы что-то такое случилось в первые годы их жизни, то она бы закатила скандал. Но все течет, все меняется — меняются и взгляды на семейную жизнь.
Не составляло труда догадаться, чем привлекла Доронина эта девушка. Такое прелестное личико, такая синева в глазах — тут и дура догадается. Зинаида Николаевна сама была хорошенькой; в молодости, да и не только в молодости, разбила столько сердец, что просто ужас. Вспоминать об этом было приятно. Слово «шлюшка» вылетело само собой, и Зинаида Николаевна, переставляя на плите кастрюли, испытывала что-то похожее на угрызения совести.
Пора было ужинать. Появившись на кухне, Доронин многозначительно кашлянул.
— Спрашивала же! — рассердилась Зинаида Николаевна.
— Проголодался.
— Скоро Вадик придет.
— Когда?
Зинаида Николаевна взглянула на кухонные часы.
— Вот-вот должен.
— Слишком много развлекается, — проворчал Доронин, опускаясь на кухонную табуретку.
— Не больше, чем другие!
Доронин хотел возразить, но решил: «Бесполезно».
На кухне было тепло, уютно. Работал телевизор; модный стеклянный абажур — Зинаида Николаевна выстояла в «Ядране» огромную очередь, чтобы купить его, — рассеивал мягкий свет. Все было вымыто, вычищено, надраено, и Доронин подумал, что Зинаиде Николаевне не откажешь в умении вести хозяйство.
Именно такие, как она, были отличными женами. Он мог бы назвать десяток, если не больше, мужчин, восхищавшихся Зинаидой Николаевной, при каждом удобном случае утверждавших, что ему, Доронину, повезло. Но у него такого ощущения не было. Особенно остро он чувствовал это теперь.
— Вадик жениться собирается, — неожиданно сказала Зинаида Николаевна.
Доронин уже давно не вмешивался в личную жизнь сына, равнодушно буркнул:
— Это его дело.
— Уж очень не ко времени это и, признаться, рановато. Всего-навсего третий курс.
— Ты тоже на третьем была, когда мы поженились, — напомнил Доронин.
— Мы — совсем другое дело. Ты тогда с положением был.
Доронин с грустью подумал, что Зинаида Николаевна не обратила бы на него внимания, если бы в те годы он не печатался бы в газетах и журналах, не имел бы отдельной комнаты.
— Если Вадик действительно женится, — сказала жена, — то придется квартиру разменять.
— Отсюда я — никуда!
— Значит, с невесткой будем жить.
Такой вариант тоже не устраивал Доронина. После рождения внука началась бы суета, передвижение мебели, он мог бы остаться без комнаты. До сих пор Доронин не думал, как будет, когда женится сын, теперь же понял: все не так просто. Появилось и стало расти раздражение. В молодости его, Доронина, никто не снабжал деньгами, никто не расчищал ему дорожку. Все, что он имел, чего достиг, было результатом его собственных усилий. Сравнивая свою молодость с молодостью сына, Доронин убежденно думал, что Вадим наверняка расхныкался бы, если бы хоть раз испытал то, что было с ним, отцом, во время войны и в первые послевоенные годы. По мнению Зинаиды Николаевны, роптать на сына было грешно: Вадим хорошо учился в школе, без протекции поступил в институт, его чаще хвалили, чем бранили. Но именно эта спокойная, размеренная жизнь представлялась Доронину какой-то не такой.
Хлопнула дверь. Зинаида Николаевна выкатилась в холл, громко сказала:
— Раздевайся, Вадик, мой руки и — ужинать. Отец уже сердится.
Был сын таким же высоким, как и отец, только пожиже в талии и плечах. Длинные волосы Вадим уже не носил — переболел этим в школе. Прическа у него была обыкновенная, хотя и не такая, как у отца, — Доронин продолжал стричься по старинке; опустившись в кресло парикмахера, всегда говорил: «Полька!» Лицом сын походил на мать, но что-то отцовское в нем, несомненно, было. Зинаида Николаевна утверждала, что у Вадима отцовские брови и глаза, сам же Доронин думал: «Ничего подобного». Но даже посторонние люди, посмотрев на них, уверенно говорили: «Отец и сын».
— Что сегодня на ужин? — Вадим возбужденно потер руки.
Готовила Зинаида Николаевна вкусно. Даже тогда, когда они откладывали на кооператив, кормила разнообразно. На ужин были битки в сметане и яблочный кисель. Сын разочарованно вздохнул:
— Не люблю рубленое мясо.
Доронин поперхнулся.
— Постыдись! Я в твои годы…
— Знаю. Сколько можно говорить одно и то же?
— Пока не поймешь!
— Давно понял, а ты все напоминаешь.
Зинаида Николаевна перевела взгляд на сына.
— Перестань, Вадик. Видишь, отец не в духе.
Сын склонился с оскорбленным видом над тарелкой. Доронин виновато кашлянул, придвинул к себе хлеб.
После ужина Зинаида Николаевна порекомендовала посмотреть фильм, который должны были «крутить» по четвертой программе, но Доронин сказал, что хочет поработать. Слово «поработать» означало, что он будет писать или, как говорила Зинаида Николаевна, сочинять, и она, чтобы ничто не отвлекало мужа, уменьшила громкость.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Утром Матихины дали почувствовать — недовольны. Анна Гавриловна ходила, нахмурившись, по хате, Татьяна не обольщала взглядом, дедок, пригорюнившись, грелся около печи и, как только вошел Алексей, умотал, побуравив его напоследок выцветшим глазом. Хозяйка выставила на стол, расплескав молоко, небольшую крынку, отрезала ломтик хлеба:
— Покамест не стряпали!
В печи весело потрескивал хворост, аппетитно пахло жареной картошкой. Усмехнувшись про себя, Алексей подчеркнуто вежливо поблагодарил Анну Гавриловну и, быстро расправившись с молоком и хлебом, потопал в контору.
По небу плыли облака, низкие и тяжелые, воздух был влажным — лицо сразу покрылось мелкими, как бисер, каплями. Погода явно испортилась. Алексей подумал, что через несколько дней около балочки не останется ни одного сухого кусочка и негде будет миловаться с Веркой.
Ниловна принесла лист плотной сероватой бумаги. Похвастала:
— Еще летом разжились.
Из окна были видны хозяйственные постройки — два обмазанных глиной амбара и сарай. Пара впряженных в телегу быков с равнодушными, мокрыми мордами, с впалыми — все ребра пересчитать можно — боками лениво пережевывали жвачку. Женщины накладывали на узкую и длинную телегу с торчащими в разные стороны жердинами навоз, приседали под тяжестью вил. Заметив среди них Верку, Алексей ощутил стыд: он, мужчина, рисует буковки, а женщины вкалывают в поте лица. Надо помочь им, да и размяться не грех, и Алексей положил на стол ручку. Увидев его, женщины оживились, принялись вразнобой утверждать, что теперь работа пойдет шибче, потому что, как ни верти, мужик — это мужик, а баба — баба.
Вначале у Алексея ничего не получалось: то навоз скатывался, то отваливалась такая глыба, что не поднять. Это веселило женщин, вызывало беззлобный смех, шуточки. Верка тоже смеялась, но он чувствовал: для отвода глаз. Потом дело наладилось — даже майка прилипла к телу. Подошла Ниловна, одобрительно покивала.
— Скоро вернутся, девоньки, наши казачки, и легче станет.
— Твой-то вернется! — выкрикнула тонкогубая молодка в драной телогрейке, в мужских сапогах.
— Вернется, — как эхо откликнулась Ниловна. — А сыны — никогда.
Женщины опустили вилы и, опершись о них, помолчали, сочувствуя председательше и тем, чьи близкие уже не увидят родной хутор, не вдохнут напоенный разнотравьем степной воздух.
— Слышь-ка, Ниловна, — нарушила молчание тонкогубая казачка, — ставь его, — она кивнула на Алексея, — попеременно на фатеры, чтобы всем без обиды было. В понедельник вели у одной ночевать, во вторник к другой посылай, и так до самого воскресенья. И Таньке Матихиной хватит, и нам радость.
Раздался смех, одобрительные возгласы. Алексей, смущенный, улыбался. В Веркиных глазах то густела, то светлела синева, и он догадался: ей и лестно, и тревожно.
Потом все разошлись на обед. Алексей хотел остаться в конторе, но Ниловна сказала:
— Ступай, ступай… Не чужое обедать будешь. Давеча видела, как Матихина продукцию на тебя получала.
После обеда, поработав в конторе, Алексей снова пошел грузить навоз. Он все ждал: Верка шепнет, куда и когда приходить. Но это ей не удалось.
Расстроенный, Алексей разулся, юркнул на кухню — погреться. Там мылась над тазом Татьяна. Была она в широкой юбке, в белом бюстгальтере, четко выделявшемся на смугловатой коже.
— Извини.
— Постой. — Татьяна рассыпала смех.
Весь день Алексей томился, надеялся уединиться с Веркой. А Татьяна была так хороша, так обольстительна, что помутнело в голове. Она обвила его шею, стала что-то нашептывать. И в это время ввалился дедок. Внучка метнула на старика такой взгляд, что он ринулся прочь, бодренько постукивая клюкой.
Вечером Татьяна спросила:
— Сегодня опять убежишь?
— Н-нет.
Она рванулась к печи, достала противень с подсолнухами, высыпала их на стол.
— Лузгай!
Подсолнухи были крупные, еще тепловатые, с белыми ободками.
— В комнаты ступайте, — проворковала Анна Гавриловна.
— Пойдем?
— На кухне теплее.
— Здесь посидим! — объявила Татьяна и пододвинула к Алексею подсолнуховую горку.
Он неумело разгрыз один, пожевал маслянистое ядрышко. Татьяна прыснула.
— Разве так лузгают? Вот как надо, — и полетела семечковая шелуха.
Она не только лузгала, но и рассказывала о себе. Алексей узнал, что Татьяна окончила семилетку, собиралась поступить в педтехникум, да началась война.
— Кабы не это, — вставила Анна Гавриловна, — наша Танюшка уже высоко бы была.
— Теперь поступай, — посоветовал Алексей.
Татьяна махнула рукой.
— Перезабыла все. Одного хочу — свою личную жизнь устроить.
В этих словах была такая тоска, что Алексей невольно опустил глаза.
Нет, Татьяну не тревожило, что она «порченая», хотя мать под горячую руку частенько напоминала об этом. Была война, через хутор проходили войска, и девки на выданье не только перемигивались с молодыми солдатами и офицерами. После освобождения хутора Татьяна познакомилась с красивеньким лейтенантом, целых четыре дня была его невенчанной женой. Анна Гавриловна ни о чем не догадалась — дочь уже была ученой. Красивенький лейтенант обещал писать, но не прислал ни одного «треугольничка»: может, был убит, а может, позабыл Татьяну. А она помнила его! Помнила поцелуи, объятия, мужскую силу. Это совсем не походило на то, что было с мальцом-соседом. Татьяна грешить с кем попало и где попало не хотела: боялась ухмылочек, дурной молвы, крутого нрава отца. Ей нужен был муж — хороший, добрый муж, от которого она собиралась нарожать много-много детей. Она была совсем не плохой, эта Татьяна: просто кровь играла в жилах — горячая кубанская кровь. Женское чутье подсказало: другого такого случая не будет, и она с первого же дня принялась обольщать Алексея.
Поглядывая на дочь и москвича, Анна Гавриловна напряженно думала. Кабы не изъян, москвичу не удалось бы отвертеться. Во все времена даже ловких парней удавалось накрыть в нужный момент и — под венец. Хозяйка морщила узкий лоб, прикидывала так и сяк, но ничего не решила.
На столе росла горка подсолнуховой шелухи, стекло керосиновой лампы покрылось изнутри копотью. Анна Гавриловна то и дело поправляла фитиль, озабоченно бормотала:
— Керосин дюже поганый.
Было тепло, уютно. Алексей сожалел, что не приехал на Кубань сразу же. И как только он подумал так, перед глазами возникла Верка. Что она делает в эти минуты? Но Татьянина речь, быстрая и порывистая, как она сама, спутала мысли. Ее густые волосы водопадом спадали на спину, тонкие ноздри трепетали, в вырезе кофты виднелись смугловатые тяжелые груди, разделенные глубокой ложбинкой. Все это волновало, притягивало.
За окном была непроглядная тьма, стекла позвякивали от упругих дождевых струй. Кутаясь в пуховый платок, Анна Гавриловна сказала, что теперь, похоже, будет дождить и дождить.
— Срок, — вякнул дедок, очень довольный, что ему наконец удалось вставить слово.
— До войны в эту пору свадьбы играли, — пробормотала Анна Гавриловна.
Татьяна кинула на Алексея такой откровенный взгляд, что он смутился, невнятно пробормотал:
— Пора на боковую.
— Посиди.
— Завтра рано вставать.
Алексей не собирался изменять Верке, уже обдумал, что скажет Татьяне, если она придет. А в том, что она придет, он не сомневался.
Было слышно, как бродит, постукивая клюкой, дедок, доносились приглушенные голоса. Побаливали мускулы, но это была приятная боль… Проснулся Алексей, может, через час, может, через два, тотчас понял: около него Татьяна. Хотел возмутиться, но нога соприкоснулась с ногой, спина ощутила волнующую тяжесть оголенной груди. Проклиная себя, он перевернулся на другой бок и обнял Татьяну…
По комнате плавал табачный дым, в пепельнице дымились окурки с надкушенными мундштуками. Побаливала голова, першило в горле. «Перекурил», — решил Доронин. Открыл окно, представил, как будет ворчать врач, когда узнает, что он снова начал курить.
— А я думала, ты сочиняешь, — раздался разочарованный голос жены.
Зинаида Николаевна умела появляться бесшумно. Доронин настолько привык к этому, что даже не обернулся.
— Плоховато себя чувствую.
— Еще бы! Вон как начадил. А клялся — навсегда бросил.
— Не получилось, — сказал Доронин и обернулся.
Зинаида Николаевна устремила на него пытливый взгляд.
— Неприятности?
Ее лицо выражало участие, и Доронин неожиданно для себя спросил:
— Ты любила меня?
Зинаида Николаевна приподняла брови.
— Какая муха тебя укусила?
— Ответь.
— Сколько лет прожили — и вдруг…
— Не увиливай!
Зинаида Николаевна натянуто улыбнулась.
— Если бы не любила, то не вышла бы за тебя.
— Даже если бы я был гол как сокол?
Жена машинально поправила на стеллаже неровно стоявшую книгу.
— С милым рай в шалаше только в романах бывает.
Доронин кивнул.
— Так я и думал.
— Что… что ты думал?
Доронин вдруг ощутил страшную усталость. Захотелось лечь и сразу же уснуть, но Зинаида Николаевна не собиралась уходить. Розовощекая, упругая, очень подвижная, она была раздосадована: рот приоткрылся, в глазах появился гневный блеск. Глядя на жену, Доронин отметил, что она еще очень привлекательная. Он не испытывал к ней ни любви, ни ревности, впервые в жизни подумал: «Теперь, когда сын стал взрослым, нас уже ничего не связывает».
— Объяснись же! — потребовала Зинаида Николаевна.
Что он мог объяснить? Да и нужно ли было это? Позади было двадцать лет совместной жизни, а впереди…
— Давай в другой раз поговорим.
Зинаида Николаевна фыркнула и ушла, хлопнув дверью.
Татьяна уходить не хотела. Напрасно Алексей повторял, что их могут увидеть.
— Наплевать, — беспечно роняла она и продолжала ластиться.
— Дай хоть немного поспать, — взмолился Алексей.
— Спи.
— Если не уйдешь, на кухню смоюсь.
— Боишься?
— За тебя.
Татьяна неохотно сползла с кровати, неторопливо натянула ночную рубашку, направилась к двери, вызывающе шаркая босыми ногами.
— Тише ты.
— Раскомандовался! — громко сказала Татьяна.
«Сейчас прибежит хозяйка и…» От волнения даже во рту пересохло. Но все обошлось.
Утром Анна Гавриловна спросила:
— Как спалось, молодой человек?
Алексей кашлянул.
— Хорошо спалось.
Анна Гавриловна покрутила головой.
— По твоему обличию этого не скажешь.
Алексей воровато глянул на свое отражение в начищенном самоваре: ни черта не понять.
Задевая его широкой юбкой, Татьяна моталась по кухне: побросала на стол вилки и ложки, выставила чугунок с картошкой, покрошила соленые огурцы, лук, покропила салат растительным маслом. Ее лицо с темными полукружьями под глазами светилось.
За ночь сильно развезло. Побелка на хатах потемнела, с ветвей свинцово капало, собаки отряхивались, обдавая брызгами испуганно шарахавшихся кур. Вначале Алексей шел осторожно, прикидывал, куда бы ступить. Сапог каждый раз проваливался в черную и вязкую, как гуталин, грязь, и Алексей, подобрав полы шинели, потопал прямо по лужам.
Ниловна, когда он вошел в контору, дула в телефонную трубку, то и дело нажимала на рычаг. Поздоровавшись, объяснила:
— Надо в район позвонить, а он, — она кивнула на телефон, — оглох.
Алексей тоже подул в трубку и даже поколотил аппарат — никакого результата.
— Пусть молчит, — сказала Ниловна и послала Алексея на ферму — списать показатели.
Он обрадовался — надеялся увидеть там Верку. Записывал, что говорила учетчица, сам же посматривал по сторонам. Потом — тоже по поручению председательши — сбегал в телятник. Верки нигде не было. Алексей встревожился. В голову пришла шальная мысль, что Татьяна уже проболталась и теперь Верка прячется от него. Решив проверить это, покосился на столпившихся около конторы женщин. Показалось, они поглядывают как-то не так. Он вконец расстроился, хотел разыскать Татьяну и спросить — сболтнула или нет, но увидел задумчиво потиравшего небритый подбородок Веркиного брата и направился к нему.
Инвалид был как стеклышко, сразу же попросил взаймы.
— Ни копейки! — Алексей похлопал по карманам.
Веркин брат выругался.
— Опохмелиться самое время, а в долг никто не наливает. У сеструхи наверняка припрятаны гроши, но она божится — истратила.
Алексей изобразил на лице равнодушие.
— Кстати, где она?
Инвалид тоскливо вздохнул.
— С двойняшками сидит. Захворали, стервецы, и оба враз. Фельдшера бы надо, а телефон, будь он неладный, испортился.
Захотелось взглянуть на Верку — о большем Алексей и не помышлял.
— Может, я смогу помочь?
Инвалид уныло поскреб под мышкой.
— Какая от тебя польза…
Алексей подумал, что умрет с тоски, если не увидит Верку.
— На фронте я, между прочим, санитаром был.
— Так бы и сказал!
Мать Алексея была педиатром. В довоенное время, когда она работала на периферии, они жили на территории больницы; в их комнате пахло лекарствами, постоянно велись разговоры о детских болезнях. Кое-что осело в памяти. Алексей решил, что сможет дать хотя бы совет.
Как только они вошли, Верка порозовела, синева в глазах стала тревожной. Алексей поспешно сказал, что хочет посмотреть ребятишек.
— На фронте санитаром был, — объяснил инвалид.
Еще в Сухуми Алексей сказал Верке, что был простым солдатом. Было совестно смотреть ей в глаза, но она все-все поняла, пригласила в комнату, где лежали ребятишки.
Он много раз представлял себе, как живет Верка, но то, что увидел, оказалось в сто раз хуже. Расшатанный стол, три стула с продавленными сиденьями, сундук с выпуклой крышкой, обитый полосками жести, старая металлическая кровать — вот и вся мебель. Около двери висело на гвоздях какое-то тряпье. Потолок был низкий, прогнувшийся.
С лежанки послышался вздох.
— Там маманя, — сказала Верка.
Снова послышался вздох.
— Кто пришел-то?
— К племяшам.
Алексей кашлянул, придал лицу озабоченное выражение.
— Какая у матери болезнь?
Инвалид прокатился по комнате, рассерженно бросил:
— Доктора разное толкуют. А она все чахнет и чахнет.
— Скоро помру, — послышалось с лежанки.
— Бог с тобой, маманя! — воскликнула Верка.
Инвалид шумно высморкался, поднял на Алексея тоскливый взгляд.
— Вот так и живем, браток.
Он подошел к разметавшимся на кровати ребятишкам. Худенькие, давно не стриженные, с влажными от пота волосами, они лежали валетом, были в полузабытьи. Даже самый неискушенный человек определил бы с первого взгляда — сильный жар. Откинув рваное одеяло, Алексей посмотрел, нет ли сыпи.
— Сульфидинчика бы раздобыть.
— А поможеть? — тотчас спросила Верка.
— Надеюсь.
— Достану!
— Где? — усомнился брат.
— У Матихиных спрошу.
— Не дадут.
— Авось смилостивятся.
Верка и Алексей старались вести себя как чужие, но каждый взгляд, каждый жест выдавали их с головой. Если бы Веркин брат был бы более внимательным, то без труда догадался бы: их что-то связывает, но он напряженно думал, как бы выцыганить на шкалик.
— И не надейся! — твердо сказала Верка.
— Шалава, — выругался инвалид и, оставляя на земляном полу две четкие полоски, покатил раздобывать самогон — даже про Алексея позабыл.
С Веркой было хорошо, приятно. Ощущая в себе тихую радость, он подумал, что может просто смотреть на нее, сколько угодно смотреть: час, два, три.
— Ступай, милок, ступай. Знак дам, куда и когда приходить, — тихо сказала Верка.
— Еще чуть-чуть, — взмолился Алексей.
Она покачала головой, но по глазам он понял: ей тоже не хочется расставаться, да нельзя…
На улице Алексея поджидала Татьяна:
— Зачем ходил к ней?
— Не твое дело!
— Очень даже мое.
— Иди куда шла!
От Татьяны не так-то просто было отвязаться. Она уже поверила в свое счастье, никому не хотела уступать москвича. Сказала с видом оскорбленной добродетели:
— Больше не нужна?
— Тише ты.
— Сроду тихоней не была.
Затравленно покосившись на окна Веркиной хаты, Алексей перевел дыхание: «Слава богу, не смотрит».
— Вечером поговорим.
— Зачем же вечером? Давай зараз.
— Прямо на улице?
— Ага.
Татьяна ничем не рисковала: мало ли о чем можно толковать с постояльцем. А Алексей откровенно трусил.
— Чего ты хочешь?
Она почувствовала: уступает, с наигранным великодушием сказала, кивнув на Веркину хату:
— Увидела, как вошел туда, и решила подождать.
— Пацанята болеют, — объяснил Алексей.
— Ты разве фельдшер?
— Кое-что в медицине смыслю.
Татьяна вспомнила: мать москвича — врачиха.
— Так бы и сказал.
— Собирался, да ты допрос учинила.
— Не серчай.
Теперь их роли переменились. Доронин нахмурился, строго спросил:
— Сульфидин дома есть?
— Лекарство?
— Да.
— Папаня привез какие-то порошки, а от чего они, у мамки спросить надо.
Анна Гавриловна с явной неохотой, отсчитала пять порошков. Вообще Матихины были внимательны и предупредительны к нему: ловили каждое слово, ласково улыбались. Алексей понимал почему и решил во что бы то ни стало уговорить Верку расписаться с ним.
Алексей решил отнести сульфидин сам — это давало возможность еще раз увидеть Верку.
Он смело вошел к ней, отдал сульфидин, спросил, дома ли брат.
— Опять умотал, — ответила Верка.
Косясь на лежанку, где постанывала больная женщина, Алексей пробормотал:
— Не могу без тебя. Давай распишемся — и точка.
— Не пожалеешь, милок?
— Даже думать об этом не смей!
Веркино лицо — осунувшееся, побледневшее — осветилось улыбкой.
— Ладноть! Ворочусь с Кавказа — тогда и объявимся.
— Разве ты уезжаешь?
— Придется. Пока племяши хворають, все капиталы изведу. Ниловна отпустит, хотя и поворчит. Вота тольки куда ехать?
— Ты же говорила, торговать лучше всего в Сухуми.
— Так-то оно так, милок. Но вспомни-ка, что ишо я тебе гутарила.
— Губастого боишься?
— Боюсь.
— Вместе поедем!
— А ежели он своих приятелев приведеть?
— Если бы да кабы…
— Смотри, — пробормотала Верка и, спохватившись, добавила: — А можеть, тебе лучше на хуторе остаться? Наши бабы вмиг обо всем догадаются, ежели мы совместно поедем.
— Пусть догадываются!
Договорились уехать, как только поправятся ребятишки.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Доронин проснулся и сразу понял: высокая температура. Глаза слезились, нос распух, во рту было сухо. Из кухни доносился шум воды и шипение — так бывало всегда, когда Зинаида Николаевна вставала рано. С трудом оторвав голову от подушки, Доронин накинул халат, поплелся на кухню. Склонившись над плитой, Зинаида Николаевна переворачивала кончиком ножа ломтики поджаренного хлеба, была уже причесанной.
— Пить, — прохрипел Доронин.
Зинаида Николаевна оглянулась, сдвинула с плиты сковороду.
— Дождался? Разве можно было с твоими-то легкими курить и у раскрытого окна торчать!
— Пить, — повторил Доронин.
Жена выпроводила его, принесла питье, лекарство.
— Сегодня отпроситься с работы не удастся.
Доронин попросил вызвать врача.
— Этой особе тоже позвонить? — поинтересовалась жена.
Он представил, как и каким тоном она будет разговаривать, покачал головой. Зинаида Николаевна усмехнулась, и Доронин понял: она не только позвонит на работу, но и нагрубит славной девушке.
Начался кашель. Заглянул сын, сочувственно поцокал.
— Извини, отец, дела.
Через некоторое время ушла и Зинаида Николаевна, сказав напоследок, что постарается вернуться пораньше. В ответ Доронин только глаза прикрыл — таким сильным был кашель. Потом кашель стих, в голове прояснилось. Наткнувшись взглядом на телефон, Доронин вспомнил о Кочкиных, перенес аппарат на постель, набрал номер и, услышав голос бывшего сослуживца, бодро сказал:
— Привет, Василий Афанасьевич!
— Привет. — Кочкин настороженно помолчал.
— Не узнал?
— Узнал.
— Позавчера не мог позвонить… Как живешь и все прочее?
Наступила пауза. Было слышно, как на другом конце провода дышит Кочкин.
— Это не телефонный разговор.
Доронин виновато вздохнул.
— Рад бы приехать, да не могу — кашель и температура.
— Поправляйся.
— Взял бы да и приехал сам.
Доронин услышал: Кочкин окликнул жену. Потом трубку накрыли. Чуть погодя Василий Афанасьевич спросил:
— Зинаида Николаевна дома?
— На работе.
— Тогда, если не возражаешь, я с Наташкой приеду.
— Давай!
Приехали Кочкины минут через двадцать. После непродолжительной суеты и восклицаний Василий Афанасьевич сказал, нервно поглаживая сильно поредевшие волосы и оглядываясь:
— А ты неплохо устроился.
Доронин кивнул. Наталья Васильевна, жена Кочкина, суматошно порылась в сумочке, достала пачку «Явы», размяла пальцами спрессованный табак, нерешительно посмотрела на Доронина.
— Кури, кури, — поощрительно сказал он. — Я тоже подымлю.
— Ты же бросил!
— Позавчера снова начал.
— Что-нибудь случилось?
Захотелось рассказать Кочкиным про Верку, но Доронин поборол это желание, спокойно сказал, что живет, как жил: не лучше и не хуже. Наталья Васильевна усмехнулась, Василий Афанасьевич провел рукой по волосам. Раньше он был густоволосым, подтянутым, с лукавинками в глазах, теперь же полысел, сидел сгорбившись, бессильно опустив плечи. А вот Кочкина внешне почти не изменилась. Доронин восхищенно подумал, что стареет она как-то незаметно: в молодости, когда Василий Афанасьевич познакомил их, была такой же строго-красивой, только чуть тоньше, Зинаида Николаевна в те годы часто говорила, что Наташа боится испортить фигуру, поэтому и не рожает. В действительности же Кочкины хотели иметь детей, но… Не станешь же расспрашивать о том, что и без расспросов причиняет боль.
— Рассказать тебе, как мы жили в последнее время? — с вызовом спросила Наталья Васильевна и стряхнула пепел в самодельный кулечек. — На него, после ссоры с начальством, — она указала сигаретой на мужа, — во всех издательствах и редакциях косились.
Надо было отвечать, и Доронин проворчал:
— Позвонили бы мне — и все утряслось бы.
— «Позвонили бы»! — передразнила Кочкина. — Твоя благоверная не очень-то жаловала меня, а он, — Наталья Васильевна снова указала на мужа, — видел это и страдал. Из-за нее и развалилась ваша дружба. Пока вместе работали, была хоть какая-то нить, а как перестали видеться — оборвалась.
Кочкина сказала то, о чем Доронин постоянно думал сам. Ему уже давно стало ясно, что не он руководит женой, а она им. До сих пор вспоминался жалостливый взгляд Марии Павловны. Почему-то казалось: персональная пенсионерка уже в те годы поняла, как сложится его жизнь. Теперь Доронин, разумеется, не позволил бы жене обменяться комнатами, а тогда восхитился в душе предприимчивостью молодой супруги. И продолжал восхищаться, когда Зиночка, очаровывая всех родинкой, свивала свое гнездышко. Доронин вынужден был признаться, что его вполне устраивала такая жизнь. Достаток в доме, красивая жена. Разве этого мало? А душевная неудовлетворенность — это, как утверждали некоторые, интеллигентные выверты. А раз выверты, то помалкивай, будь доволен тем, что имеешь. Квартиру купил? Купил. Оклад хороший? Хороший. Сын студент? Студент. Зачем же искушать судьбу? И не смей роптать на жену! Она совсем молоденькой была, когда расписалась с тобой. Не она, а ты виноват, что между вами душевный вакуум. Можно снова и снова вспоминать Марию Павловну, привести другие доказательства Зиночкиной бессердечности, но будет ли это главным, определяющим в жизни? Кто мог бы понять тебя, если бы ты отважился рассказать о своей семейной жизни? Кочкин, пожалуй, понял бы. Однако о своих женах они никогда не толковали. Обо всем толковали, а о женах — нет. Доронин сам не хотел этого. А почему не хотел, не мог объяснить. Попробуй разберись в самом себе, в своих сомнениях и ощущениях, подчас смутных, непонятных, но всегда тревожных.
Веселое щебетание Зиночки, наивность и непосредственность многих ее суждений в сочетании с практичностью, рождение сына — все это представлялось Доронину в первые годы самым важным. Семья стала для него убежищем, в котором он прятался от лжи, ханжества, подлости. Ему иногда казалось: вне семьи он просто плывет по течению, устремленному в неизвестность. Но пришел час, и Доронин убедился: в семейной жизни тоже нет ни покоя, ни радости.
У одних людей есть дар чувствовать, понимать, сострадать; другим это не дано. Каких людей больше, каких меньше — не так уж важно. И те и другие дышат одним и тем же воздухом, видят одно и то же небо, слышат одинаковые шумы. Но дышат, слышат и видят они по-разному. Натуры чувствительные совестливы от природы, их души похожи на музыкальные инструменты: достаточно легкого прикосновения, чтобы вызвать отклик. И несдобровать им, когда они осмелятся рассказать о своих печалях, сомнениях, о своей боли, которая спрятана так глубоко, что сразу и не определишь, есть ли она.
«Зачем осложнять свою жизнь?» — подумал Доронин и словно в ответ услышал взволнованный голос Кочкина:
— Хорошо ли ты жил, Алексей, правильно ли жил?
— Не понимаю, — пробормотал Доронин, хотя отлично понял все.
— Я же говорила! — воскликнула Наталья Васильевна.
Кочкин привстал.
— В самом деле не понимаешь?
«Понимаю. Все понимаю!» — хотел крикнуть Доронин, но промолчал.
— Лучше скажи, чем могу быть полезен тебе.
Кочкин усмехнулся.
— Это тебе, Алексей Петрович, помощь нужна. А уж мы как-нибудь. Не скрою, хотел тебя попросить кое о чем, теперь решил: не стоит.
Так и не объяснив, зачем они приходили, Кочкины поднялись и направились к двери. Щелкнул замок. Сразу стало тоскливо-тоскливо и очень одиноко.
Узнав, что Алексей собирается уехать на несколько дней, Татьяна требовательно спросила:
— Куда?
— Куда надо! — огрызнулся Алексей.
Она вскинула голову. Румянец стал гуще, черные брови разлетелись, как два крыла, звякнуло монисто.
— Не пущу.
Алексей рассмеялся.
— Не пущу! — выкрикнула Татьяна и, сорвав с гвоздя плюшевую жакетку, выбежала вон.
Из кухни вывалился дедок, помотался по комнате, стуча клюкой.
— Поругались?
Алексей кивнул. Дедок шмыгнул носом, деловито растоптал клюкой какого-то жучка.
— С Веркой-то ты где спознался?
— Как понимать — спознался?
Дедок удивленно поморгал.
— А так и понимай. Я, к примеру, с тобой в тот самый день спознался, когда ты на хутор притопал.
Алексей спокойно сказал, что они познакомились в Сухуми, на базаре.
Дедок сплюнул.
— Живеть — хужей не найтить, а нос дерет, ровно богачка. — Потоптался, пожевал беззубым ртом. — Как полагаешь, кресты носить можно?
— Какие кресты?
— Егорьевские. Я ишо при царе награжденный был. — Дедок приосанился, провел рукой по рыжеватым от никотина усам. — Сына пытал, когда тот на побывке был, но он извернулся. Так и не понял я — повелят снять, коль нацеплю, или оставят.
За войну многое изменилось. Каких-нибудь четыре года назад слово «офицер» считалось чуть ли не бранным. Теперь же все командиры, начиная с младшего лейтенанта, называли себя офицерами, носили погоны. С гордостью произносились фамилии царских генералов, прославивших русское оружие.
Доронин сказал, что, по его мнению, кресты носить можно: они давались за храбрость.
Хлопнула дверь.
— Внучка, — буркнул дедок.
Татьяна вернулась с матерью.
— Я думала, ты с понятием, — обратилась к Алексею Анна Гавриловна, — а ты вон какой!
— Какой?
Хозяйка испуганно смолкла, перевела взгляд на дочь — та стояла, прислонившись плечом к шифоньеру. Дедок шумно сглотнул, ненароком долбанул клюкой.
— Попользовался, а теперь бежишь? — пробормотала Анна Гавриловна.
— Я не навязывался.
— Это еще доказать надо.
В комнате наступила тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием. На улице сгущался туман, накатывался на окна, оставляя на стеклах влагу. Скрипнула половица — пошевелился дедок. Алексей старался поймать Татьянин взгляд, но она смотрела себе под ноги.
— Давайте же объяснимся! — воскликнул Алексей.
— Давно бы так. — Анна Гавриловна придвинула к столу стул, велела сесть и Татьяне.
Дедок тоже двинулся к столу, но хозяйка зыркнула, и он с виноватым видом пристроился около печи.
Стараясь говорить спокойно, Алексей сказал, что ему необходимо отлучиться дней на пять — семь.
— С Веркой поедешь? — спросила Анна Гавриловна.
— Н-нет.
— Не верь, маманя! — Татьяна вдруг словно бы проснулась. — С ней укатит.
Страдая в душе от необходимости лгать, Алексей терпеливо объяснил, что вдвоем добираться до станции веселее; в Армавире они расстанутся: она поедет к морю, а он в Кисловодск.
— Зачем тебе туда?
— Дружок там в госпитале лежит! — вдохновенно солгал Алексей и сам поверил в это.
Анна Гавриловна кивнула. Дедок переступил с ноги на ногу. Татьяна недоверчиво усмехнулась.
Они приехали в Сухуми затемно. Алексей валился от усталости с ног, но Верка сказала, что тех кур, которые в чемодане, надо продать немедля, а то пустят душок, и они прямо с вокзала направились на базар. В чуткой предрассветной тишине отчетливо слышались шаги, пахло морем. Согнувшись под тяжестью мешка, Верка старалась не отставать, а Алексей все ускорял движение — хотелось поскорее очутиться на месте, сбросить поклажу, расслабить мускулы.
— Постой! — взмолилась Верка.
Алексей опустил чемодан, сбросил мешок, пошевелил одеревеневшими пальцами.
— Даже представить трудно, как ты справлялась с такой тяжестью.
— Справлялась. Когда при деньгах была, тележку нанимала, а нет — или подсобить просила, или как придется тащила.
— Долго еще топать?
— Теперя уже близко.
Из-за горной вершины выкатилось солнце; на стены домов легли рыжие пятна; в крупных каплях, застывших на вечнозеленой листве, переломились лучи; подернутое легкой дымкой, но уже наливавшееся голубизной небо обещало жаркий, безветренный день.
— Отдохнула?
Верка взвалила на себя мешок.
— Потише иди.
Базар встретил их суетой, гортанными выкриками, красками, от которых зарябило в глазах. Верка нашла свободный прилавок, смела с него сухие листья, раскрыла чемодан и, по-быстрому обнюхивая куриные тушки, стала раскладывать их, озабоченно бормоча, что мешки ветерочком обдувало, а эти куры взаперти находились. Все они были одна к одной — мясистые, с жирком, с желтоватой пупырчатой кожицей. И хотя Верка назначила высокую цену, их покупали. Усатые мужчины, поглядывая больше на Верку, чем на кур, платили не торгуясь, а женщины, приценившись, всплескивали руками, просили уступить. Когда покупательница отходила, Верка виновато объясняла:
— Тута богато живуть.
Подошел генерал, ослепив блеском орденов и медалей, осторожно приподнял тушку.
— Сколько?
Опередив Верку, Алексей скосил цену наполовину. Она удивленно поморгала. Генерал покосился на темные полоски, оставшиеся от погон на плечах Алексея.
— Давно демобилизовался?
— Четвертый месяц идет!
Генерал перевел взгляд на Верку.
— Жена?
— Так точно!
— По выговору ты вроде бы не с Кубани.
— Москвич, товарищ генерал!
— Ясно. Я тоже из Москвы. Здесь на отдыхе.
Расплатившись, он поискал кого-то глазами, окликнул разодетую женщину с кошелкой — она покупала овощи. Когда женщина подошла, похвастал, указав пальцем на курицу.
— Сам купил!
— Наверное, три шкуры содрали. — Женщина окинула Верку и Алексея недовольным взглядом.
Генерал сокрушенно хохотнул.
— Ни черта в ценах не смыслю.
Алексей решил восстановить справедливость:
— Цена божеской была.
Женщина недоверчиво усмехнулась.
— Интересно, какая же?
Услышав цену, она перевела вопросительный взгляд на генерала и, как только он кивнул, поспешно отошла, сунув курицу в кошелку. Генерал виновато кашлянул и тоже отошел.
— Вертить им, как хотит, — пробормотала Верка.
Торговать было скучно, да и совестно. Алексей решил пройтись.
— Ступай, милок, ступай, — обрадовалась Верка.
Рассмеявшись про себя, Алексей подумал, что Верка сразу же повысит цену и возместит убыток.
Солнце припекало все ощутимей — даже шинель пришлось расстегнуть. Изредка налетал ветерок, поднимая пыль. Шагая мимо прилавков, Алексей размышлял о том, какой станет его жизнь, когда он распишется с Веркой. Перед глазами возникла хата с низким, прогнувшимся потолком, с разбегавшимися по стене трещинами, похожими на отпечаток огромной паутины. Даже думать не хотелось, что придется жить с больной тещей, свояком-инвалидом, чумазыми ребятишками. Встревоженный этими мыслями, Алексей незаметно для себя очутился на прилегавшей к базару пыльной улице и, пройдя два или три квартала, вдруг увидел Веркиного обидчика, стоявшего в компании таких же, как и он, нагловатых парней. Первым побуждением было повернуться и — наутек. Алексей пересилил страх, сунул для собственного успокоения руку в карман и, ощущая в коленях дрожь, с нарочито независимым видом прошагал мимо парней, опасливо смолкших при его приближении. Да и как было не бояться, когда рука в кармане могла означать финку или трофейный вальтер. За углом Алексей перевел дух, вытер пот и помчался к Верке. Поначалу хотел рассказать ей о встрече с губастым, но решил — расстроится.
Перехитрить Верку оказалось не так-то просто. Как только Алексей подошел, она внимательно посмотрела на него.
— Соскучилась? — смутился он.
— Лица на тебе нет, и глаза бегають.
— Должно быть, перегрелся.
Верка недоверчиво покачала головой.
Базар по-прежнему волновался, шумел, но уже был не таким, как утром. Покупатели подходили все реже. Приценившись, удалялись, никак не выражая своего отношения к стоимости курицы. Спустя некоторое время Верка сказала, что те, кто охоч до сациви, уже стряпают, а о ценах справляются перекупщики.
— Закругляемся? — обрадовался Алексей: ему очень надоел базар.
Верка перевела взгляд на трех оставшихся на прилавке кур.
— С чеймодана они.
— Авось не испортятся.
— Авось да небось, а мне, милок, риск.
— Без риска торговать нельзя.
Верка прыснула.
— Купец с тебя, как…
— Договаривай, — обиженно пробормотал Алексей.
Верка вытерла кончиком платка выступившие слезы.
— Ладноть! Одну сегодня сварим, другую утром, а третью тетке Маланье отдадим.
— Кому?
— Фатерной хозяйке. Она раньше на нашем хуторе жила. Сродственница Матихиным. Сбоку припека, но все же сродственница.
Открыв дверь, тетка Маланья удивленно прошамкала, подняв мутные глаза.
— А говорила — больше не приедешь.
— Пришлось.
— Самовар поставить?
— Обязательно!
Хозяйка была в той же душегрейке, в тех же валенках с отрезанным верхом, шею обмотала полотенцем сомнительной чистоты; пахло от нее чачей.
— Все хвораю.
— Вижу.
— Доктора побожились — ничего нет, а меня каждый день лихорадка бьет. Только чачей и спасаюсь.
Верка погасила в глазах веселые искорки.
— Мы тоже сегодня выпьем.
Тетка Маланья оживилась, пообещала сменить на кровати простыни.
Верка открыла чемодан, вынула две курицы.
— Одну себе возьми, другую свари.
Тетка Малачья прикинула на руках, какая тушка потяжелей.
— С чего это ты расщедрилась-то, а? Закуску бесплатно выставлю, а чача — по обычной цене.
— Могла бы не предупреждать.
— Не предупредишь — накладно станет.
— Разве я тебя обманывала?
— В прошлый раз вдвоем ночевали, а в оплату всего червонец дала.
— Господи! — воскликнула Верка, вытащила из-за пазухи узелок с деньгами, отсчитала десять измятых рублевок. — Возьми.
На лице тетки Маланьи отразилась душевная борьба. Показывая глазами на кур, она прошамкала, демонстрируя великодушие:
— Заняты руки-то. Да и невелики деньги — червонец.
Они, наверное, долго бы пререкались, если бы Алексей не сказал, что голоден. Шаркая валенками, тетка Маланья унесла кур. Сунув рублевки в карман ватника, Верка вздохнула.
— Денег у нее, милок, не пересчитать.
— Что-то не верится.
— Правду говорю. Ишо до войны не плошала. За рупь, бывало, купит, втридорога продасть. Потом съехала от нас — взамуж вышла. Гутарять, хорошо жили. Как помер муж, сызнова мухлевать стала. У Матихиных это, видать, в кровях.
Ужинали на веранде с мозаичными стеклами. Кроме большого стола и нескольких расшатанных стульев там были две поставленные углом кушетки. Давно не метенный пол прогибался, поскрипывал; на пыли оставались отпечатки подошв. К веранде подступали кусты и деревья, смутно видневшиеся сквозь разноцветные стекла.
— Замечательная веранда! — сказал Алексей, радостно вдыхая свежий воздух: в комнатах, как и в прошлый раз, попахивало.
Тетка Маланья кивнула.
— Не простынешь? — с едва уловимой насмешкой обратилась к ней Верка.
— Две кофты поддела, — призналась хозяйка. — На воздухе тоже бывать надо, а то все взаперти и взаперти.
— Неужто даже на базар не ходишь?
— Не хожу. — По щеке тетки Маланьи скатилась, повиснув на подбородке, крупная слеза. — Отоварю карточки и — назад. Постояльцы меня не обижают: то домашней колбаски дадут, то сальца, а овощь своя — с огорода. Огурчиков насолила, помидорок — до самой весны хватит.
— Пенсию ишо не выхлопотала?
— Говорят, стажа нет. А где его взять-то? Колхозный не в счет, а такого у меня всего пять годков. — Тетка Маланья стерла размашистым движением слезу, помолчала. — Как помру, все, что нажила, Татьяне отойдет.
— Ейной матери, — возразила Верка. — Она самая главная твоя сродственница.
— Ей и ему — вот. — Тетка Маланья выставила кукиш. Седые пряди растрепались, в глазах появилась осмысленность. — Третьего дня бумагу подписала — все Татьяне. Только она мне письма слала, с днем ангела и другими праздниками поздравляла. Недавно фотку прислала — вся в покойницу-бабку.
Чача была крепкой и чистой, как слеза. Тетка Маланья быстро пьянела, жаловалась на свою жизнь. В невнятном бормотании была тоска, и Алексей подумал: «Нет ничего страшней одиночества». Опрокинув еще рюмку, хозяйка вконец раскисла, понесла ахинею.
— Уложим, а сами ишо чуток посидим, — сказала Верка и отвела тетку Маланью спать.
Они сидели на веранде, перебрасываясь словами.
— Слышь-ка, — неожиданно сказала Верка, — перед самым отъездом столкнулась с Татьяной. Хвостом она вертела и гляделками так улыбалась, что меня сомнение взяло. Может, переспал с ней, а?
Алексей хотел признаться, но смалодушничал.
— Типун тебе на язык!
Верка удовлетворенно кивнула. А если когда-нибудь обман раскроется… О том, что произойдет тогда, думать не хотелось.
Было темно, тихо и прохладно.
— Надоть мешки на веранду вынесть, — сказала Верка и, кутаясь в платок, встала.
Когда Доронин возвратился в комнату, она уже лежала. Разбросав где попало гимнастерку, ремень, брюки, трусы, майку, он скользнул под одеяло и, прижавшись к Верке, в тот же миг позабыл и о своих тревогах, и о Татьяне — обо всем на свете позабыл.
Утром, расчесывая перед поставленным на подоконник осколком зеркала свои чудесные волосы, Верка пожаловалась, лизнув кончиком языка губы:
— Вона какие стали! Даже торговать будет совестно.
— Ничего, ничего, — проворчал Алексей, скрывая свою стыдливость, любовь к Верке.
— Тебе-то хорошо гутарить, а мне на базаре глаза прятать придется. — Она поднесла к лицу осколок, сокрушенно поводила головой…
Кур хватали — только давай.
— Выходной, — пояснила Верка, пересчитывая на опустевшем прилавке деньги. — Послезавтрова дома будем.
Уехать не удалось: в горах произошел обвал. Можно было добраться до Курганной кружным путем, но Верка сказала:
— Тольки намучимся.
Она поохала, попричитала о племянниках и матери, которые без нее как без рук, вспомнила о брате. Смирившись с неизбежным, спросила:
— Чего делать-то будем? Может, в кино сходим — давно не была.
Они посмотрели какой-то фильм, погуляли по набережной. Утром сбегали на вокзал — поезда по-прежнему отправлялись только в сторону Тбилиси.
— Беда, — пробормотала Верка.
Чувствовалось: бездельничать ей непривычно. Алексей предложил сходить к морю, посидеть в каком-нибудь безлюдном местечке.
Неподалеку от дома тетки Маланьи была бухточка, неприступно окруженная нависшими друг над другом скалами с прозеленью в щелях. К ней вела узенькая тропка, терявшаяся в россыпи голышей. Несколько кустов с вечнозеленой листвой оживляли этот мрачноватый пейзаж. Море было спокойное, сияло солнце: трудно было поверить, что уже глубокая осень, в Москве идут дожди и, быть может, выпал снег. Алексей снял шинель, растянулся во весь рост на нагретой гальке. Верка села рядом. Закрыв глаза, он слышал, как она перебирает пахнувшие морем камушки, берет их в горсть и сыплет: некоторые из них, отлетая, падали на него, небольно ударяя то в грудь, то в живот. Ни о чем не хотелось говорить и думать ни о чем не хотелось.
— Благодать, — тихо сказала Верка.
Смахнув с живота и груди камушки, Алексей сел и увидел спускавшихся по тропке парней во главе с губастым. Верка повернула голову и охнула, изменившись в лице. Удирать было поздно, да и некуда: впереди море, позади скалы, а тропка одна-единственная. Конечно, можно было бы крикнуть, позвать на помощь. Но кого?
— Выследили, — пробормотала Верка.
Расправляя на ходу гимнастерку, Алексей направился к парням. Никакого плана у него не было — просто маленькая надежда, что все обойдется. Заслонив проход, в который уползала, взбираясь на кручи, тропка, парни остановились расставив ноги. Трое из них были похожи на губастого: такие же нахальные рожи, расстегнутые пиджаки, расклешенные брюки, кепки-малокозырки с пуговками посередине. Пятый парень был высокий, стройный; бледное лицо с тонким, породистым носом выражало не то скуку, не то брезгливость; светлый коверкотовый костюм сидел как влитой. Алексей машинально подумал, что о таком костюме он даже мечтать не смеет. Хотел потолковать с этим парнем, но не успел и рот раскрыть — губастый пнул ногой в пах, и сразу же посыпались удары. От боли потемнело в глазах, нос распух. Высокий парень молча наблюдал. Заслоняя локтем вмятину на груди, Алексей попятился, нанося беспорядочные тырчки, и вдруг увидел выскочившую из-за его спины Верку. Налетев на губастого, она стала дубасить его, плача и что-то крича. Тот обернулся, сгреб ее в охапку.
— Мы тебя хором — будь спок.
— Сама, сама лягу! — заголосила Верка, отбиваясь от губастого. — Тольки его не бейте!
Алексей рванулся к ней и сразу упал, сшибленный кулаком. Парни загоготали. Тело уже ничего не ощущало — стонала и рыдала душа, вторя продолжавшей голосить Верке. Он видел ноги парней, слышал их издевательские реплики и молча плакал от сознания собственного бессилия. Поймал холодный взгляд высокого парня. Несколько мгновений они смотрели друг на друга.
Все, что произошло дальше, было как в сказке. Высокий парень неожиданно приказал губастому и его дружкам уняться. Они не послушались, и тогда он вынул браунинг…
«Неужели это было?» — подумал Доронин, чувствуя приближение кашля. Принял таблетку. Она не помогла: грудь сотрясалась, по щекам катились слезы, стало трудно дышать. Откинувшись на подушку, Доронин судорожно кашлял, держа около рта носовой платок. Пришел врач. Пожурил, как и ожидал Доронин, за курение, но успокоил: ничего страшного, обыкновенная простуда. Потом Доронин уснул.
Проснувшись, понял: жена и сын дома. Наволочка была влажной, волосы тоже, появился аппетит. Зинаида Николаевна принесла омлет, чай с лимоном.
— Наташка одна приходила или с мужем?
Доронин сделал большие глаза. Жена усмехнулась, показала на бумажный кулек, в котором лежал выпачканный помадой окурок. Он сконфузился.
— Ты прямо Шерлок Холмс!
Зинаида Николаевна не откликнулась на шутку.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Ночью началась рвота. Звучно шлепая босыми ногами, Верка носилась как угорелая: приволокла таз, ведро, тряпку, напоила Алексея чем-то кисленьким. Появилась тетка Маланья — заспанная, простоволосая, в наброшенной на ночную рубаху телогрейке.
— Я еще вчера смекнула — пьяный. Все денежки на него, обормота, изведешь.
Верка досадливо поморщилась.
— Ступай отсель, ступай!
Тетка Маланья обидчиво поджала губы.
— Чай, не я у тебя живу, а ты у меня.
Окунув резким движением тряпку — даже вода выплеснулась, — Верка выпрямилась.
— Неужто не видишь — избитый он!
Тетка Маланья нагнулась, подслеповато посмотрела на Алексея.
— А я решила — пьяный. Как приберешься, сразу же потуши свет. Сюда рублевка, туда рублевка — не напасешься.
От кисленького мутить перестало. По телу растекалась слабость, голова была пустой, гулкой. Верка выполоскала тряпку, вынесла ведро, потушила свет.
— Подвинься-ка, милок.
— К стене ложись — вдруг опять.
Она послушно перелезла через Алексея. Он вдруг вспомнил, как кричала она и что кричала, хрипло спросил:
— Неужели бы отдалась?
— Не пожалела бы себя, — просто ответила Верка.
Алексей сглотнул, отодвинулся на самый край постели.
Он долго не мог проснуться, а когда проснулся, понял: страшно болит голова. В амбулатории, куда его привела Верка, сказали: «Сотрясение мозга. Необходим полный покой». Целыми днями Алексей или лежал, или сидел на веранде. Завал разобрали, поезда отправлялись точно по расписанию. Верка беспокоилась о матери, племянниках, брате, размышляла вслух, как они обходятся без нее. Вдруг сказала: «Надо ехать». Пообещала вернуться недели через две.
— За этот срок поправишься, силов поднакопишь. Распродадимся и — назад.
— Значит, опять кур привезешь?
— Обязательно, милок! Надоть же дорогу оправдать.
Алексея пугали недобрые предчувствия, но он полагался на случай, на везение — до сих пор это всегда выручало его.
Погрузив в вагон вещи, они до самого отхода поезда бродили по перрону. Все, что хотелось сказать, было уже сказано. Сердце щемила тоска. Алексей вдруг с ужасом решил, что больше никогда не увидит Верку. Она шла молча, чуть наклонив гладко причесанную голову, пальцы теребили кончик откинутого на плечи платка, сквозь частокол длинных ресниц прорывалась синева, вызывая в душе то радостный, то тревожный трепет. Сновали люди, мелькали мешки, чемоданы, баулы, раздавались возгласы, пахло дымом; паровозный пар, ударившись тугой струей в почерневшие от мазута шпалы, растекался по перрону, оставляя на лицах тепловатую влагу, но Алексей и Верка, занятые своими мыслями, ничего не видели, не слышали, не чувствовали. «Что будет и как будет?» — спрашивал себя Алексей и старался найти хоть какой-нибудь ответ на Веркином лице. Но попробуй отгадай, что на уме у женщины, рано познавшей тяготы жизни, привыкшей отдавать все другим, не помышлявшей до недавних пор о счастье лично для себя.
О чем думала в эти минуты Верка? Может быть, о матери, племянниках, брате, для которых была не только дочерью, сестрой и доброй теткой, но и добытчицей хлеба насущного, главной опорой в их изуродованной войной жизни. А может быть, она думала о себе, о том, что судьба ниспослала ей большую любовь как наказание. Разве она не грешница? Разве можно сравнить эту любовь с тем, что было раньше то с одним, то с другим, то с третьим? Она не спрашивала себя и не собиралась спрашивать, чем присушил ее Алексей. Присушил и — баста. Было радостно видеть и слышать его, втайне умиляться, когда он хмурился. Силой покрепче любого мужика, а повадками — ребятенок. Хвастал, что спал с бабами. Не соврал, конечно. Но не так было, как с ней, и никогда не будет ни с кем так — только с ней. И ей такой любви больше не видать.
Заглянуть бы в будущее хоть одним глазком, поглядеть бы, что там и как. Зачем? Чему суждено, то сбудется, а что не предназначено тебе — не бери. Два берега никогда не сойдутся, хотя видятся каждый день. Там, где суживается река, кажется: руку протяни и — вместе. Но это — обман…
Утром тетка Маланья спросила:
— Проводил?
— Проводил.
Она еще не умылась, не причесалась: была косматой, в скособоченной юбке, напоминала ведьму.
— Похвалялась — деньжат тебе оставила.
Алексей кивнул. Тетка Маланья прошлась по веранде, провела пальцем по крышке стола. Поднеся палец к самым глазам, посмотрела — нет ли пыли.
— Много ли оставила?
— Экономно жить — на две недели хватит.
Тетка Маланья вздохнула, поскребла под мышкой.
— Продукты на базаре кусаются, а ты без карточек.
— Как-нибудь проживу.
— Сухомяткой обойдешься или варить станешь?
— Мне все равно.
— От сухомятки — вред. Внесешь пай — на двоих стряпать стану.
Алексей сунул руку в карман.
— Сколько с меня?
— Смотря что стряпать. Если постное — одна цена, с мясом — другая.
Алексей подумал.
— Мамалыга — самое милое дело.
Тетка Маланья понимающе усмехнулась.
— Пожадничала Верка.
— Ничего подобного! Ей каждая копейка потом и кровью достается.
Продолжая усмехаться, тетка Маланья сказала, подтянув юбку:
— Я, парень, про все, что на хуторе делается, с Татьяниных писем узнаю. Пока ты дрых, почтальонша еще одно принесла. Наследница справляется, с кем Верка приезжала. Твою личность описала — точь-в-точь.
Алексей мучительно покраснел. Тетка Маланья окинула его взглядом с головы до ног. В мутноватых глазах появилась враждебность.
— Шустрый ты, как я погляжу. И с Веркой поусердствовал, и с Татьяной не оплошал.
Алексей шумно вздохнул.
— То-то, — проворчала тетка Маланья и, волоча ноги, ушла.
Полчаса назад было солнечно, тепло, а сейчас собирался дождь: сквозь разноцветные стекла виднелись низкие, будто почерненные дымом облака. Поднялся ветер. Оголенные ветки стучали в рамы, стекла тоненько позвякивали, словно жаловались на что-то. На душе было тревожно, грустно. Хотелось плюнуть на недомогание, купить билет и — к Верке. Но на перроне, прежде чем подняться на ступеньку вагона, она взяла с него слово не дурить и добавила: «Уговор, милок, дороже денег».
Полил дождь, смывая с разноцветных стекол пыль. Потолок на веранде был дырявый. Через несколько минут образовалось мокрое пятно и стало капать. Тетка Маланья принесла таз, поставила его под капель.
— В комнату ступай — простынешь.
— Мне не холодно.
Она уже умылась, расчесала волосы, сменила юбку и, кажется, хлебнула: дряблые щеки порозовели и смягчилось выражение глаз.
— Наследнице-то что написать?
Тетка Маланья смотрела пристально, словно хотела сама определить, о чем в действительности думает Алексей, потому что на собственном опыте убедилась: иногда говорят одно, а в мыслях держат другое. В Татьянином письме было такое смятение, такая горечь, что тетка Маланья, сама многократно обманутая, прониклась к ней состраданием. Как-никак Татьяна была единственной ниточкой, связывавшей ее с прошлым, в котором остались и девичьи мечты, и надежды, и многое-многое другое. Позабылись обиды, уже не так обостренно, как в былые годы, воспринималось бессердечие; время притупило, а то и вовсе стерло собственные грехи — те, что были, и те, что приписала ей молва. А молодость нет-нет да и всплывала перед старческим взором, тревожила сердце. Начать бы жизнь сызнова! Может быть, не было бы тогда растраченных понапрасну лет, не отвернулись бы от нее хуторяне, жила бы она не среди чужих людей, которых не понимала и не старалась понять. Вспоминая прошлое, она мечтала хоть одним глазком взглянуть перед смертью на родимый хутор. Ночами ей снилась привольная кубанская степь, нагретая солнцем заводь, где она, раздевшись догола, плескалась с бойкими, веселыми девками. Заплыв на стремнину, вскрикивала, попав в леденящий поток; колотя ногами воду, устремлялась назад; взвизгивала, присев по шейку, когда на берег высыпали молодые казаки, собирали в охапку исподницы, кофты, юбки, требовали, скалясь и балагуря, показаться им в чем мать родила. Было и боязно, и стыдно, но и радостно, потому что среди парней косил на нее карим глазом тот, кто в скорости стал мил-дружком. Давно это было, еще до прежней войны. Затерялся след кареглазого казака. Может, сложил буйную головушку на гражданской войне, а может, тоскует о родной Кубани под чужим солнцем в далеких краях. Господи, боже ты мой, даже не верится, что все это было! Сколько страданий перетерпели люди, сколько еще перетерпят. Муж ей хороший достался, хотя и седой. Да и она в ту пору уже не молоденькой была. Жила с ним — жаловаться грех, но все же не так, как могло быть с кареглазым мил-дружком. До сих пор помнит она его руки, пахнувшие табачищем губы. Нет, она не жалеет о том, что произошло. Повалилась вместе с ним в ноги отцу-матери: «Благословите!» Даже в смертный час вспомнится ей родительское «благословение»: за косы таскала мать, вожжами хлестал отец. Почти месяц взаперти сидела на хлебе и воде. Каждый день талдычили ей, что мил-дружок — голь перекатная. После этого и пошла жизнь наперекосяк. Завидуют ей — денег много. Давно копить начала: то десятку в кубышку сунет, то сотню. Раньше гордилась — богатая. А теперь… Мил-дружка не вернешь и счастья себе не купишь, хоть все до последней копейки выложи. Недавно весь капитал в сберкассу снесла и написала — Татьяне. Пусть хоть она попользуется. Да и память будет. Недолгая, но будет.
Тетка Маланья не сводила с Алексея взгляда, но он молчал.
— Твое дело, — пробормотала старуха.
Она больше ничего не сказала, да и не нужно было говорить: Алексей думал о Верке, и тоска о ней помимо воли отражалась на его лице.
Это уже потом — через несколько лет — он научится скрывать свои чувства, будет с беспристрастным выражением выслушивать нелепые рассуждения, поддакивать, называть белое черным, а черное — белым. Жизнь внесет в его слова и поступки коррективы, и он, возмущаясь и протестуя в душе, покорится, сделается, как говорят, шелковым.
…Поначалу тетка Маланья хотела выгнать Алексея, но поразмыслила и решила: червонцы на улице не валяются. Если бы она отказала от места, то пришлось бы возвратить деньги, оставленные Веркой в оплату за комнату. Кроме того, парень хворал, и тетка Маланья, сама хворая, временами испытывала к нему жалость. Она не сомневалась: Татьяна устроит свою личную жизнь — кто-нибудь обязательно польстится на предназначенные ей деньги. Да и обличьем, судя по фотке, наследница была пригожей. Смущало другое: уж очень жалостливым было Татьянино письмо, такая боль-тоска заключалась в строчках, что хоть слезы лей. «Не в деньгах счастье», — снова подумала старуха и снова вспомнила кареглазого мил-дружка. Захотелось помочь родственнице, но как поможешь, когда она согласная, а он — нет. Тетка Маланья решила положиться на божью волю, хотя в бога не верила.
Дождь кончился, выглянуло солнце. Алексей остался на веранде, а тетка Маланья поплелась на огород. Три грядки позади дома было смешно называть огородом, но она мысленно и вслух всегда говорила: «Мой огород». Кроме этих грядок тетка Маланья владела несколькими яблонями, сливами и хурмой, на которой еще доспевали плоды. Некоторые из них уже стали оранжево-красными, и старуха, большая любительница хурмы, сорвала самый спелый плод и, обтирая сок с подбородка, принялась с удовольствием уплетать чуть вяжущую мякоть. Хурма оказалась наивкуснейшей, солнышко пригревало, как весной. Умиротворенная этим, тетка Маланья расчувствовалась, прикинула так и этак и неожиданно для себя решила пригласить наследницу в гости. Не откладывая дела в долгий ящик, пошла на почту, отбила, не поскупившись, длинную, полную намеков телеграмму.
Температура спала, голова была ясной. Доронин снял с полки нашумевший роман, который давно собирался прочитать, но вошел сын, по-хозяйски опустился на стул.
— Утром как вареный рак был, а сейчас нормально выглядишь.
Доронин выжидающе помолчал. Сын посмотрел на обложку.
— Муть!
— Неужели осилил?
Вадим учился в техническом вузе, художественную литературу читал от случая к случаю. Раньше это огорчало Доронина, потом он махнул рукой. Зинаида Николаевна предпочитала детективы.
Сын сказал, что не собирается читать этот роман, потому что все говорят: скука смертная. Доронин с горечью подумал, что Вадим никогда не имел собственного мнения — всегда ссылался на Зинаиду Николаевну и приятелей.
— Мама тебе сообщила, что я собираюсь жениться?
— Сообщила.
— Хотелось бы услышать твое мнение.
Девушка, с которой дружил Вадим, нравилась Доронину, как нравились ему почти все молодые женщины в тесных брючках, в майках с надписями и рисунками. Они умело пользовались косметикой, и Доронин вынужден был признаться, что в годы его молодости таких красивых женщин не было. «За исключением Верки», — мысленно сказал Доронин и подумал, что Татьяна и Зиночка тоже были дай бог, хотя и одевались похуже. Захотел, и не смог представить Татьяну в джинсах — она оставалась в памяти в широкой цветастой юбке, в кофте с глубоким вырезом. Зиночка чаще всего вспоминалась в дешевых ситцевых платьях — она сама кроила и шила их. Это уже потом жена стала бегать по портным и портнихам.
— Чего молчишь? — в голосе сына было нетерпение.
— Думаю.
— Очень долго думаешь!
Доронин чуть помедлил:
— Рановато тебе жениться.
Вадим усмехнулся.
— Мама переменила свое мнение.
— Да?
— Да. — Вадим многозначительно помолчал. — Мы решили отдельно жить.
— Правильно решили.
— Ты не мог бы помочь нам вступить в кооператив и дать денег на первый взнос?
— С кооперативом, наверное, помогу, а деньгами мама распоряжается.
— Она сказала: поговори с отцом.
— Так и сказала?
— Конечно.
Доронин попросил позвать жену. Откинув простыню, Зинаида Николаевна присела на край дивана, деловито сообщила, что на сберкнижке всего триста рублей. Вадим обеспокоенно поерзал.
— Какой же выход? — спросил Доронин.
— Занять придется.
До сих пор Зинаида Николаевна никогда не брала в долг и мужу не разрешала, воспротивилась даже тогда, когда они решили вступить в кооператив.
— К чему такая спешка? — удивленно проворчал Доронин.
Вадим потупился. Зинаида Николаевна объявила:
— Обстоятельства так сложились!
Доронин понял, что скоро станет дедушкой.
…В тот день, когда на крыльце раздались радостные возгласы, Алексей ринулся туда и остолбенел, увидев Татьяну, по-родственному обнимавшую тетку Маланью.
— Вот и свиделись, — проворковала Татьяна, и было непонятно, кому предназначены эти слова.
Голова раскалывалась от тревожных мыслей: «Танька приехала, а Верки нет. Почему?» Неужели предчувствия сбудутся? Сквозь дощатую перегородку Алексей слышал, как Татьяна рассказывает хуторские новости. Потом послышался шепот. Алексей приложился ухом к стене, но ничего не разобрал. Ночью прислушивался к шорохам, боялся, что Татьяна придет. Но она не пришла.
Утром тетка Маланья позвала Алексея на веранду.
— Сядь и послушай, что скажу.
Стараясь не встречаться с Татьяниным взглядом, Алексей сел.
— Верка для семейной жизни непригодная, — твердо сказала тетка Маланья. — За полтора года насмотрелась: то с одним, то с другим. Моя наследница не в пример ей. Она мне все как на духу выложила. Не прогадаешь, если распишешься с ней.
— Я и Верка — жених и невеста, — пробормотал Алексей.
Татьяна презрительно усмехнулась.
— На что жить-то будете?
— Она беднячка! — подхватила тетка Маланья. — И у тебя в кармане — вошь на аркане.
— Проживем.
С Татьяниных щек опал румянец.
— Не бывать этому! На весь хутор ославлю! Ты чужак, я казачка — мне будет вера!
— Постыдись…
— Да или нет — вот и весь сказ! — Тетка Маланья положила руку на стол. — Коли нет, ступай отсюдова. Комната на десять дней была нанята, а ты уже третью неделю матрац протираешь.
Алексей понял: тетка Маланья и Татьяна настроены решительно. Он не мог сказать «да» — все его помыслы были устремлены к Верке. Завернул в газету свои немудреные пожитки и навсегда покинул этот дом.
Идя к железнодорожной станции, Алексей стал придумывать слова, с которыми обратится к Верке. А в голове помимо воли утверждалась мысль, что она не простит. Да и с Татьяниной угрозой приходилось считаться. И Алексей струсил.
Через несколько дней он очутился дома, в Москве.
Ему не суждено было узнать, почему не приехала Верка. Возвратившись домой, она застала мать совсем плохой, брата — пьяным, двойняшек — зареванными. Сразу навалилось столько забот, что хоть разорвись. Матери с каждым днем становилось все хуже и хуже, брат всеми правдами и неправдами раздобывал самогон, племянники требовали ласки, внимания, и очень скоро Верка поняла: не управится в срок. Понадеялась на сообразительность Алексея и ошиблась. Умерла мать. Убитая горем Верка думала об Алексее и продолжала думать о нем, когда после отпевания гроб несли на кладбище и опускали в сырую могилу. Она все ждала, все надеялась. Вскоре узнала, куда ездила молодая Матихина, и впервые подумала: «Не любил». Ей было горько сознавать это, потому что сама она любила…
Хочу, но не сумею выразить словами все, что думаю о тебе, Верка. Склоняю перед тобой голову. Ты будешь являться ему в снах. Проснувшись среди ночи, он станет вспоминать тебя и убедится, что никого не любил, как тебя, хотя в любви ему всегда везло: и он любил, и его любили. Но как тебя — никого. И его никто не любил, как ты. Боясь разбудить любовницу, а позже жену, он тихо вздохнет, погрустит, мысленно представит, где и с кем ты, а утром, приняв холодный душ и растеревшись докрасна мохнатым полотенцем, снова забудет о тебе. Не суди его слишком строго, Верка, — такой уж он человек. Ты один берег, он другой — не судьба вам быть вместе. Ты лучше его. Все мои чувства — тебе, потому что ты — это ты. Не изломают твою жизнь наветы, не убавят они в тебе ни красоты, ни душевной силы. В памяти останутся его жесты, глаза, поцелуи, горячие руки, любовная сладость. Ты распознала в нем то, о чем в те годы он даже не подозревал. Выкинь из памяти этого безвольного человека, вырви его из сердца! Не можешь или не хочешь? И не можешь, и не хочешь: любят не только уверенных в себе, слабых душой тоже любят, и, наверное, больше, потому что любовь для них — опора. Почему ты не разыскала его? Гордость не позволила, да и подумала: «Не один он. Зачем ишо чью-то жизню ломать?» Признайся, Верка, была и другая причина: не могла простить его, хотя и себя не считала безгрешной. Ненадежный он человек, Верка. Пусть ненадежный — все равно люб! А может быть, все это блажь, может быть, вбила ты в голову, что любишь? Так и этак раскидывала, до помутнения в глазах думала — милее его никого не было. Не ошибаешься? Вспомни-ка молоденького солдатика, с кем впервые согрешила, по ком горевала, когда пришло известие — убит. Вспомни всех, кто любил тебя и кого любила ты. Все равно не то!
Жена и сын о чем-то громко разговаривали, и Доронин внезапно решил, что они, должно быть, толкуют о предстоящей свадьбе. Захотел, но не смог представить себя в роли свекра и деда, с грустью подумал: «Вот и прошла жизнь».
До сих пор Доронин не спрашивал себя, хорошо или плохо он жил, теперь же, взволнованный разговором с Кочкиными и воспоминаниями о Верке, почувствовал, что жил скверно — не так, как следовало бы жить. Нет, он не подличал, никого не подсиживал — просто жил, надеясь на что-то хорошее, что могло бы в один прекрасный день изменить его жизнь. В душе Доронин продолжал оставаться таким же мечтателем, каким был тридцать лет назад, когда, не послушавшись матери, махнул на Кавказ. Тогда, в молодости, мечта побудила его действовать, пусть неразумно, но все же действовать, теперь же… «Чего мне ждать, на что надеяться, когда виски седые и скоро придется нянчить внука?» — спросил сам себя Доронин. Он не сомневался: после рождения внука Зинаида Николаевна и Вадим не позволят ему распоряжаться свободным временем по собственному усмотрению. «Заставят пеленки полоскать, коляску возить», — с неприязнью подумал Доронин. Это тотчас родило протест. Душа стремилась обрести независимость, которой не было до сих пор, и Алексей Петрович сказал сам себе: «На старости лет не худо бы пожить так-, как хочется».
В памяти возникла поездка на курорт. Зинаида Николаевна предпочитала отдыхать в Крыму, но в тот год — это было лет десять — двенадцать назад — ему предложили три путевки в Сухуми, и он сразу же согласился. Вначале было какое-то смутное желание побывать там, где он мыкался, искал свою мечту; потом все чаще и чаще стала возникать перед глазами Верка. Он и до этого вспоминал ее, но вспоминал как-то мимолетно, без душевной боли. Теперь же, перед отъездом на курорт, он думал и думал о ней. Зинаида Николаевна несколько раз удивленно приподнимала брови и даже спросила: «Что с тобой?» В ответ Доронин сослался на служебные дела, которых перед отпуском накопилось больше, чем нужно. Почему-то казалось: в Сухуми он обязательно встретится с Веркой, и не где-нибудь, а на базаре, около прилавков с битой птицей. В глубине души Доронин сознавал: такого не может быть, но продолжал думать о встрече с Веркой — это доставляло ему удовольствие, возвращало его в прежнее, уже полузабытое время. Всю предшествующую отъезду неделю он провел в лихорадочном ожидании какой-то радости, во всем соглашался с женой, помогал ей по хозяйству, стал, как пошутила она, образцово-показательным мужем.
В Сухуми они летели самолетом, обратно было решено ехать поездом — Зинаида Николаевна собиралась покупать на пристанционных базарчиках дешевые фрукты.
Расположившись в пансионате и искупавшись в море, Доронин вызвался сходить на базар. Зинаида Николаевна сказала, что сама это сделает, когда спадет жара и отдохнет Вадик.
— Тогда я просто пройдусь. — Доронину не терпелось побывать на базаре, побродить по городу, увидеть все то, что было в памяти.
— Иди, — ответила жена, удобно располагаясь в шезлонге на открытой веранде, окруженной тенистыми деревьями.
Доронин сразу же помчался на базар, но без посторонней помощи не смог отыскать его. Шел и удивлялся: раньше не было ни этих улиц, ни этих площадей, ни великолепных санаториев и пансионатов с широкими окнами. Чем ближе подходил к базару, тем меньше оставалось надежды, что он встретит Верку. Так и получилось. И базар оказался совсем другим — ничем не напоминал прежний. На прилавках лежали куры, но не кубанские — это Доронин с первого взгляда определил. В расположенном наискосок ларьке тоже продавали кур — импортных, в целлофановой обертке. Он побродил по базару, приценился к фруктам, купил стакан орехов, но не смог разгрызть твердую скорлупу — «мост» во рту угрожающе пружинил.
Возвращаться в пансионат не хотелось, и Доронин, несмотря на жару, пошел в город — решил отыскать хотя бы то место, где находился дом тетки Маланьи, и ту самую бухточку.
Наткнулся он на нее довольно быстро. Так же нависали скалы с прозеленью в щелях, таким же ласковым было море. Закрывавшие доступ к нему камни были убраны, вниз вела лестница с пластиковыми перилами. На пляже пестрели плавки, купальники, бикини. Доронин без труда нашел место, где нежился на солнце, вспомнил, как пятился от наседавших на него парней. В ушах возник Веркин крик, по телу рассыпались мурашки, и Доронин тотчас же подумал, что она, Верка, действительно не пожалела бы себя, в отличие от многих-многих других людей, готовых на самопожертвование только на словах.
От бухточки было рукой подать до навсегда оставшейся в памяти улицы. Доронин даже не надеялся увидеть в сохранности дом тетки Маланьи и разволновался, когда обнаружил его на прежнем месте в окружении других домов, крепких и добротных. Бывшее его пристанище совсем обветшало, но фасад был обновлен, как и обвитая плющом веранда все с теми же разноцветными стеклами. Во дворе появилась водонапорная колонка, все остальное было прежним. А вот изгородь была другая — металлическая сетка с крупными ячейками. Облокотившись на нее, Доронин начал жадно разглядывать дом. Показалось: сейчас появится тетка Маланья — в душегрейке, в стоптанных валенках с отрезанным верхом. Но вместо нее вышла какая-то незнакомая женщина, молча посмотрела на Доронина и направилась к грядкам…
Поезд, на котором возвращались Доронины, на Курганной не останавливался. Как только он покатил по равнинам Краснодарского края, Алексей Петрович прилип к окну — хотелось хоть мельком взглянуть на станцию, от которой до Веркиного хутора было всего пятнадцать километров. «Рок», — сказал он сам себе, когда состав неожиданно остановился на Курганной. Проводник не хотел открывать дверь вагона, но Доронин упросил его сделать это, спрыгнул на испачканный мазутом гравий, устремил взгляд туда, где исчезал в полуденном мареве шлях. Появившаяся в тамбуре Зинаида Николаевна попросила посмотреть, продают ли фрукты. Он досадливо махнул рукой, перевел взгляд на здание вокзала, построенного на месте полуразрушенной хибары. Коновязи на привокзальной площади, от которой начинался шлях, не было — три газика, «Москвич» и синяя, покрытая мохнатой пылью «Волга» дожидались там своих пассажиров. «Каких-нибудь полчаса, и я у Верки», — подумал Доронин, борясь с искушением плюнуть на все, сойти с поезда.
— Зеленый дали, — сказал проводник и пригласил в вагон.
Мгновение Доронин колебался, потом обреченно поставил ногу на ступеньку. Состав дернулся, стал набирать скорость. Перед глазами поплыли пристанционные постройки, мелькнул и исчез шлях.
«Зря уехал», — подумал Доронин, натягивая на себя сбившееся одеяло. Почему-то казалось: Верка по-прежнему живет в том же хуторе, вспоминает его. Он решил после выздоровления съездить на несколько дней на Кубань и сразу же подумал, что она, Верка, должно быть, стала совсем другой — не такой красивой, какой была.
Жена и сын продолжали громко разговаривать, а Доронин все терзался, все взвешивал, все спрашивал себя, что ему делать, как жить…
РАССКАЗЫ
СВАДЬБА
Отпуск у меня. Целых десять дней отвалили, не считая дороги. Сперва к Марусе Новиковой рвану — она в наш госпиталь с шефами выступать приезжала. Голос у нее оказался — другого такого нет. У меня от хлопанья даже ладони покраснели. После концерта мы и познакомились. Четыре письма прислала мне Маруся, а я ей — ни одного. Я тогда о Зойке думал. Но моя одноклассница Зойка, с которой я дружил с пятого класса, с которой поцеловался перед уходом в армию, теперь жена другого — об этом мне мама написала. Я, конечно, очень расстроился, а потом, когда боль стихла, решил: женюсь на Марусе! Завтра же распишусь с ней и — домой: надо и маму повидать. Служить недолго осталось. Одни утверждают — через месяц-два нас по домам распустят, другие говорят: еще с полгодика придется на брюхе ползать и по мишеням палить. По мишеням, а не по людям: война этой весной кончилась, а сейчас осень, середина сентября.
От станции до Марусиной деревни — двадцать километров с гаком. Вьется, бежит дорога среди поля скошенного, от соломы рыжего. Пухом стелется пыль под ногами, на солдатских сапогах оседая. Гребнешь чуть — расчихаешься. Жмутся к обочине подорожники, лежат кругляки коровьи, червяками источенные.
Вот она, Марусина деревенька, — километра полтора осталось.
Чу! Голоса хмельные, бубенцы звенят переливчато, кобыла в струпьях, к плугу приученная, и два мерина-тяжеловеса в бричку, свежевыкрашенную, лентами перевитую, впряжены. Пьяненький дед к плетню привалился, розовые десны показывает — улыбается.
— Свадьба, никак?
— Точно, служивый, свадьба!
— А женится кто?
Словно обухом по голове стукнули: Маруся Новикова замуж выходит.
— За кого же?
— Айда, служивый, в избу — сам глянешь. Погуляй с нами — уважь. Тем более что жених твоего поля ягода — с войны пришел только что.
Сидит в красном углу, под образами, при орденах и медалях, с воротом расстегнутым, от жары разомлевший жених — старший сержант Коровкин Василь Архипыч, 1921 года рождения, хмельной сильно, губастый, с чубом мягким, в баньке вечор вымытым.
— Давай сюда, браток! Праздник у меня нонче — женюся!
Счастьем искрится, плечом жениха касаясь, невеста чернобровая, фатой накрытая — довольная. Увидела меня — в лице переменилась, хотела сказать что-то, но молвы людской испугалась, языков острых.
На лице жениха озабоченность появляется, он что-то сообразить пытается — морщин на его лбу что оврагов в поле. Не даются Василию Архипычу мысли, выскальзывают они из хмельной башки, как птички из распахнутой клетки. А у меня на душе кошки скребут: теперь ни Зойки, ни Маруси.
— Пей-ешь, служивый! Веселися! — вразнобой галдят гости.
— Штрафную ему! — командует старший сержант и — цап огромной ручищей, к стали, железу привыкшей, невесту свою — Марусю Новикову.
Вертит головой она, стесняется: непривычная еще к этому — молодая, глупая.
Весело булькают самогон и бражка, лежат на блюдах деревянных и тарелках с голубыми ободочками соления разные и мясо вареное: ешь-пей — не хочу!
Мясо — это хорошо, мясо я люблю — на фронте с харчами по-разному было: когда густо, когда пусто.
— Горькаа!
— Гоорь-каа!
Кажется, рухнет изба от этих криков. Все довольны, всем хорошо — мне плохо. И не только мне. Смотрят на Марусю завистливо девки грудастые, заневестившиеся. Да и как не смотреть, не завидовать, когда повезло Маруське: и двух месяцев после школы в девках не просидела — выскочила. За пять дней окрутила-околдовала старшего сержанта Коровкина Василь Архипыча. Погулять всласть и то не сумел воин бравый. Везучая она, чтоб пусто ей было!
Тычет вилкой щербатой в соленый груздь Петр Тимофеевич, Марусин учитель. Дрожит рука — не слушается. Скользит по тарелке груздь, не хочет на вилку лезть.
Плохо в этом году с грибами — сушь одолела. А без грибков какое питье? Для Петра Тимофеевича закусь самая лучшая — грибки, особливо белые. Но белых нет. Если, бог даст, дожди пойдут — будут. А пока, Петр Тимофеевич, не обессудьте.
Гоняет учитель груздь по тарелке, в глазах хмельных — слезы. Эх, Маруся, Марусенька, голова твоя дурья, что отчудила-выдумала? Прощай теперь консерватория и успех, который прочили тебе. «Нет, — окрыляет себя надеждой Петр Тимофеевич, — не дам гибнуть таланту! Я для нее все одно что отец родной».
Верно, ценит Петр Тимофеевич Марусю, верит в нее.
— Повезло Василию, — задумчиво бормочет Петр Тимофеевич и отправляет в рот стопку, так и не поймав грибка.
— Это кому повезло? Ваське? — Архип Фомич Коровкин, отец жениха, тут как тут на дыбки. — Не ему повезло, а ей. Пущай всю жизнь бога молит, что моему сыну приглянулась.
— Голос же у нее!
— У всех голос.
— У нее не такой! Она в Большом театре петь будет.
— То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.
— Будет! — бухает кулаком по столу Петр Тимофеевич. — Если, конечно, жизнь вы ей не поломаете.
— Эка куды хватил! — кривит губы Архип Фомич. — А учитель еще. Нешто мы без понятия — пущай поет.
— Знаю я тебя. Для тебя главное — хозяйство.
— Верно! — соглашается Архип Фомич. — Хозяйство кормит-поит. А песни играть — не велика хитрость. У нас, почитай, полдеревни поет.
— Да ведь не так же!
— Может, и не так, — запускает руку в густую, посеребренную сединой бороду Коровкин-старший. — Но хозяйство — это хозяйство. Мне надоть, чтобы сноха дело делала, а песни — это потом.
— То-то и оно! — вздыхает Петр Тимофеевич и роняет на стол отяжелевшую от вина голову.
А Коровкина-старшего на разговор тянет. Пьяно дыша мне в ухо, он кричит:
— Гляди, служивый, какой сын у меня, а? Весь в отца — добытчик!
Что верно, то верно: сын у Коровкина-старшего — хозяйственный малый. Три чемодана, перетянутых ремнями, приволок с войны. Кроме чемоданов радиоприемник привез, аккордеон в футляре и еще много чего. Мог бы кровать двуспальную, львиными мордами украшенную, захватить, только как провезешь ее, кровать-то, большая она, тяжелая, одним словом, буржуйская.
Взвизгивает гармошка. Хромоногий Федька жарит вальсы и польки. Федька для девах — утеха. И не то плохо, что хромоног и конопат он, в другом беда — неспособный.
— Слышь-ко, Архип Фомич, — говорит Федька, — дай-ко аккордеончик трофейный испробовать — какой на голос он?
— И не думай! — пугается Коровкин-старший. — На своей жарь.
— Дай-ко, — нудит Федька.
— Сказано: нет!
— Дык у вас никто не играет! Будет лежать ни себе, ни людям.
— Пущай лежит. Эта штуковина больших денег стоит. За нее шесть тыщ взять можно, а ежели с умом, то и все восемь.
Маруся наклоняется к жениху и что-то шепчет ему на ухо.
Пьяно икнув, старший сержант командует:
— Вынай аккордеон, батя! Пущай поиграет человек, ежели хотит.
Архип Фомич кидает на сноху недобрый взгляд и, кряхтя, снимает с шифоньера аккордеон:
— Осторожней! Вам, чертям, чужое добро испоганить — плюнуть раз.
Горит-сверкает перламутром аккордеон. Глядите, люди, какой трофей привез с войны старший сержант Коровкин Василь Архипыч!
Федька пробегает пальцами по клавишам:
— Хорош!
Расплывается в улыбке Коровкин-старший, а в глазах испуг: не покорежили бы, не поломали бы.
— «Барыню»!
Каку таку «барыню»? Пущай невеста споет: учитель все уши прожужжал — голос у нее.
— Просим!
— Просим!
Маруся взглядывает на меня, словно спрашивает: «Помните, как я пела в госпитале?» Я подтверждаю кивком — помню.
— А ну, ти-ха! — горланит старший сержант. — Моя жена петь будет.
Плывет по избе, вылетая в распахнутые окна, песня — хорошая, задушевная песня, про любовь, про разлуку, про женскую долю. Голос Маруси — густое контральто: хоть сейчас в Большой театр.
Чудится мне, как и тогда в госпитале, что поет Маруся для меня. Только для меня. Пропоет куплет и кинет взгляд туда, где я сижу. Может, утешает? Не нуждаюсь! Я и так проживу — без утешений. А может, все это только кажется мне?
Плывет по избе песня. Слушает Марусю, подперев рукой щеку, жених; слушает, блаженно улыбаясь, Петр Тимофеевич; слушает Архип Фомич, поглаживая пушистую, похожую на веник бороду; слушают бабы хмельные, девки заневестившиеся. Замуж хочется девкам, а женихов нет. С войны покуда только Коровкин возвернулся. А длинный тот нежданно-негаданно, на свадьбе очутившийся, не в счет: он по обличью чужой, у него, поди, в городе невеста есть.
Шепчутся по углам бабы. Как у Христа за пазухой будет жить теперь Маруська. Много добра разного поднакопил за войну Архип Фомич, мужик оборотистый, хитрющий. Умен. Каждый месяц на базар ездил — овощи продавал. А когда на танк собирали, три тыщи всего дал. «Нету больше», — сказал. Соврал, хрен старый. В сундук, медью окованный, спрятал денежки. А сейчас расщедрился. Да и как не расщедришься, когда сын женится. А убытки покроются. Вон сколько добра привез с войны Василь Архипыч. Хоть бы одним глазом глянуть в те чемоданы. Но куда там! Припрятал Архип Фомич добро — не найдешь.
Шепчутся по углам бабы, расточают льстивые улыбки. А я ем. Живот как барабан стал, а я ем — дармовщина!
Бегают по клавишам Федькины пальцы. Бьют пол сапогами, смазанными дегтем, девки и бабы. Давненько не гуляли так — с весны сорок первого.
Старший сержант губы развесил — рассказывает про свои фронтовые дела:
— Я фрицев этих уложил — не сосчитать.
Цветет Архип Фомич:
— Вона какой сын у меня — герой!
— Мог бы и Героя схватить — промашка вышла.
— Кака така промашка?
— Да так…
— Э-эх! огорченно крякает Архип Фомич и думает: «Кабы пришел Васятка с геройским званием, понаделали бы мы делов. Герою все можно. Их не густо, Героев-то. Ну да что там! Хорошо, что непокалеченным вернулся. И грудь, между прочим, не пустая. Вона сколько у него орденов и медалей. Не то что у того длинного, на дармовщину охочего».
А я все ем. Вкусная штука, черт побери, мясо с малосольными огурцами! Вот только хлеба маловато. Всего по двести граммов зерна пока еще выдают в этом колхозе на трудодень. Теперь побольше будет.
— Пей! — льется, расплескиваясь, мутноватый самогон.
— После-дний но-нешний де-не-чек гу-ля-ю с ва-ми я, друзь-я… — выкрикивает Коровкин-младший. — Прощевай, моя жизнь, холостая, вольная!
— Не женился бы, коли воли жалко, — усмехается высокая деваха с глазищами как небо, с пышной косой, небрежно брошенной на грудь.
Смотрю на нее: «Красавица!»
Деваха переводит взгляд на меня и глядит так, что глаза мои сами в стол упираются.
Другие девки тоже на меня смотрят, словно прикидывают что-то. А что прикидывать-то? Я человек городской, к плугу-косе не приспособленный. Мне Зойку надо — одну ее! Я бы всех этих девах, вместе с Марусей в придачу, за Зойку бы отдал. Я бы ей все простил. Но Зойка сейчас, наверное, с мужем целуется.
— Чего зажмурился, браток? Пей! Веселися! — Крутит старший сержант корявыми пальцами колесики трофейного приемника. Хрип. Треск. Зеленым немигающим глазом смотрит приемник на нашу русскую свадьбу, где и выпить умеют, и поесть — было бы что.
— Ти-ха!
Прорывается сквозь треск голос Левитана. Указ читает. Еще одна демобилизация. Вот и мой черед.
— Па-падаешь? — спрашивает Коровкин-младший.
— Ага.
— Па-здравляю! Давай по этому случаю еще по одной дернем! Налетай, девки, жених объявился!
Смотрят на меня девки.
— Молодой еще, — говорю. — Погулять надо.
— Пра-вильнаа! — соглашается старший сержант.
Льется-расплескивается самогон. Тает на тарелках мясо. А солений еще много — до утра закусывать хватит.
— Пей! Веселися!
Куда там! Спит, положив на стол худые руки, Петр Тимофеевич. Прикорнул на сундуке Архип Фомич. Спит Федька, прижавшись щекой к трофейному аккордеону, даже во сне думает: «Три шкуры спустит Архип Фомич, если поломаю». Тянут хмельными голосами песни бабы и девки — кто про что. Все кругом пьяны — только мы с Марусей трезвые. Не совсем, но все ж.
Лежит на столе чей-то кисет, набитый самосадом. Сворачиваю себе самокрутку, неумело сворачиваю — первый раз в жизни. Оглядываюсь — где спички?
— Нате! — Маруся кидает мне через стол коробок.
Выхожу на крыльцо. Тишь. Благодать. Холодком тянет.
Скрипит дверь — Маруся.
— Душно в избе.
— Душно.
— Я думала — вы курящий.
— Не ошиблась.
— Неправдочки.
Вижу Марусины глаза — черные, блестящие. Запах тела чувствую. Но ничего не попишешь: на чужой каравай, как говорится, рот не разевай.
— А ведь я писала вам, — говорит Маруся.
Я молчу.
— Почему не отвечали? — продолжает допытываться она.
— Не мог, — хриплю. — Служба!
— Если бы вы пораньше приехали бы, — задумчиво и тихо произносит она и косится на окно, в котором виден как на ладони Коровкин-младший.
Бродит в голове хмель. «Где найдешь, где потеряешь?» — думаю я. С грустью думаю, но без боли.
Мы стоим, очарованные тишиной, — той тишиной, когда ни листик на деревьях не трепыхнется, ни соломинка не прошуршит на крышах, почерневших от дождей и времени.
— Эй, жена!
— Не обижайтесь, — шепчет Маруся и мчится в избу.
Я смотрю на плывущую в облаках луну, прислушиваюсь к тяжким вздохам коровы и думаю: «Вот и кончилась моя солдатская служба. Сколько изъезжено-пройдено, сколько увидено-услышано. Куда мне теперь? Первым делом — домой, в райвоенкомат. Получу военный билет, паспорт, отдохну недельку. А потом что? Может, на сверхсрочную остаться? Одежка готовая, паек и все прочее. Только навряд ли меня оставят в армии: тяжелое ранение, контузия — потому и попал под демобилизацию. Может, на Кубань махнуть? На фронте и в госпитале говорили: девчата там — красивей не бывает. Возьму себе в жены казачку — с домом, с коровой. Месяца два просто так проживу, потом на тракториста выучусь, землю пахать стану, заживу себе кум королю, сват министру. В гости в Москву приеду: „Смотрите, люди, жена у меня какая — в сто раз красивее Зойки!“»
Спит деревня, в хмель погруженная. Парным молоком пахнет, навозом и душистым сеном. Хорошо все же, что война кончилась и живым я остался…
ШЛА ПЕХОТА…
Зина стала регулировщицей по воле случая: в преддверии наступления из тридцати семи девчат, прибывших на фронт, шестерых срочно переучили на регулировщиц. Генерал, отдавший этот приказ, распорядился отобрать в регулировщицы девчат посимпатичнее, полагая, что они будут улучшать настроение солдат и тем самым повышать боевой дух: на войне мужчины подолгу не видят женщин, и женское лицо, особенно красивое, для них праздник. Отдавая такое распоряжение, генерал руководствовался личным опытом: он служил в Управлении военных дорог и много ездил…
Быть регулировщицей Зине нравилось. Ей нравилось подчинять взмахам своих флажков движение по дорогам танков и бронетранспортеров, грузовиков с боеприпасами, нравилось смотреть на солдат, шагающих в строю с туго скрученными скатками через плечо. Ей было приятно, когда у развилки или перекрестка, где дежурила она, останавливалось на отдых какое-нибудь подразделение, и молоденькие лейтенанты с петушиными голосами с самым серьезным видом уверяли ее, что они еще не встречали такой красивой девушки. Ее смущали глаза солдат, не осмеливавшихся приблизиться к ней в присутствии офицеров, и взгляды старших командиров — майоров и подполковников, которые проезжали мимо нее на «виллисах» и «эмках» и останавливались расспросить дорогу. Ей доставляло удовольствие лихо приветствовать генералов, не обращавших, казалось, на нее ни малейшего внимания. Несколько дней назад мимо Зины промчался на новеньком «виллисе» в сопровождении вооруженного эскорта сам командующий фронтом, и она подумала тогда, что этот генерал, должно быть, смелый, потому что до переднего края отсюда один бросок и мало ли что может произойти.
Техника и люди представляли в Зинином воображении один сплошной поток, прикативший сюда из тыла и растекавшийся теперь по воле Зины и других регулировщиц на более мелкие потоки. Те, в свою очередь, превращались в еще более мелкие, достигали заранее намеченных рубежей на переднем крае. По движению этого потока Зина научилась определять, где и когда предстоит наступление, артналет или перегруппировка.
Части 3-го Белорусского фронта стремительно продвигались к границам Восточной Пруссии, и вместе с ними продвигалась Зина и ее подруги, обживая на день, на два, иногда на неделю новые перекрестки и развилки.
Несмотря на то что Зина стала регулировщицей совсем недавно, она уже побывала под бомбежкой. В тот день на автомашины с пехотой налетели «юнкерсы». На какое-то мгновение Зина потеряла слух и, ничего не понимая, смотрела на разбегающихся в разные стороны солдат, на вспыхнувшие грузовики. Потом, когда слух возвратился, она услышала крики, надрывный рев самолетов, наших и немецких. Задрав голову, глянула в небо и радостно вскрикнула, когда самолет с черными крестами на крыльях свечкой устремился вниз, оставляя позади себя дымный след… С дороги убрали искореженные машины, раненых увезли в медсанбаты и госпитали, убитых похоронили в общей могиле, и колонна снова двинулась в путь. А Зина осталась на перекрестке и, взмахивая флажками, старалась не смотреть на кровавые пятна.
Бомбежку она продолжала вспоминать и много дней спустя, когда линия фронта передвинулась далеко на запад. И чем больше она думала об этом, тем острее ощущала то опьяняющую радость (это чувство охватывает людей, когда они избегают смертельной опасности), то тревогу: Зине почему-то казалось, что другой такой бомбежки не пережить. В эти минуты ей становилось все нипочем, и тогда она начинала напропалую кокетничать с молодыми солдатами и офицерами, даже влюблялась в некоторых из них, иногда на час или два, а чаще на несколько минут, пока этот человек был рядом. И очень хотела влюбиться по-настоящему, мечтала испытать то, о чем рассказывали подруги — такие же регулировщицы, как она. А иногда ее вдруг охватывал страх, и она, боясь новой бомбежки, украдкой взглядывала на небо. Вот уже неделю небо было серым, однообразно-скучным; повсюду, насколько хватал глаз, клубились облака, нависая над верхушками сосен…
Младшие сержанты Виктор Митрохин и Михаил Панченко прибыли на фронт осенью, когда с блеклого неба нудил и нудил мелкий колючий дождь. Фронтовые дороги развезло. Битюги тащили пушки с налипшей на колеса грязью, скользкой и тяжелой. Раздавались выкрики, брань; щелкали кнуты, которыми ездовые щедро нахлестывали коней, покорных и безучастных к своей судьбе. Митрохин с жалостью подумал, что коням на войне тяжелее, чем людям, что они тоже гибнут. «Но без них не обойтись, — решил Витька. — Это только на политбеседах говорится, что нынешняя война — война моторов». Он хлюпнул носом и произнес вслух:
— Сколько топаем — ни одного тягача!
— Одни лошадиные силы, — подтвердил Панченко и по давнишней привычке потрогал уши — руки у младших сержантов были свободны.
Митрохину и Панченко предстояло дойти до развилки. Оттуда до хозяйства старшего лейтенанта Самохвалова, в чье распоряжение направлялись они, было километров шесть.
— Если, конечно, по прямой идти, — добавил капитан, работник штаба. Он посмотрел на их сапоги и убежденно произнес: — Доберетесь! Полгода назад младших командиров в обмотках присылали.
— Доберемся, товарищ капитан! — ответил Митрохин и тоже посмотрел на сапоги: они чуть жали ему, даже портянки пришлось заменить — вместо байковых, зимних, намотать бязевые, летние.
Где-то впереди образовался затор. Колонна остановилась. Кони тяжело дышали, их лоснящиеся от дождя бока вздувались, становились похожими на огромные бочки. Бойцы достали кисеты, и над колонной повис дым.
Митрохин и Панченко шли сами по себе и не остановились, когда на дороге образовался затор, — продолжали свой путь в хозяйство старшего лейтенанта Самохвалова, выбирая места посуше. Слева и справа вовсю дымили бойцы, посматривали на небо, радуясь короткой передышке, рассуждали о том, что кабы не дождь, то «он» дал бы прикурить. Митрохин тоже подумал об этом, пробормотал задумчиво:
— Вот он какой, фронт.
— Это еще не фронт, мил человек, — возразил усатый солдат, — это только дорога туда.
Панченко угодил сапогом в грязь, которая обрадованно чавкнула. Он попытался высвободить сапог, но вытянул только ногу, туго обмотанную байковой портянкой.
— Вона как держит! — воскликнул усатый солдат.
— Зараза! — выругался Панченко и сунул ногу обратно. Схватив голенище руками, стал вытягивать сапог. Грязь пускала пузыри, но с добычей не расставалась.
— Давай помогу. — Митрохин протянул другую руку. — Раз, два, взяли! — сказал Митрохин и потянул Панченко на себя.
Грязь приподнялась вместе с сапогом, утробно чавкнула и выпустила его. В образовавшуюся яму полилась коричневая жидкость, очень похожая на кофе, который по утрам выдавался в школе младших командиров.
— В такую погоду на печи бы сидеть, — сказал Панченко.
Усатый солдат усмехнулся. Панченко покосился на него, снова потрогал уши.
— Прикажут — на брюхе поползем! — жестко сказал Митрохин.
— «Прикажут, прикажут»! — передразнил Панченко.
«Чего он?» — подумал Митрохин и объяснил:
— Немцам по таким дорогам труднее драпать, они к асфальту привыкли — не то что наш брат Иван.
— Нашел чем хвастать. У них дороги — удовольствие, а у нас — смотреть стыдно, — проворчал Панченко. Он хмурился, бормотал что-то сквозь зубы.
«Раскис, — определил Митрохин. — А я ничего. Я, значит, покрепче». И спросил:
— Трусишь?
— А ты?
— Я? — Митрохин чуть помедлил. — Я — нет.
— И я нет.
Митрохин не соврал. Еще совсем недавно он испытывал что-то похожее на страх, а сейчас не ощущал ничего такого, ибо сейчас ничто не напоминало ему фронт — тот, который показывали в кинохронике и про который он читал в книжках.
Наконец колонна снова двинулась в путь. Короткий отдых, видимо, хорошо подействовал на ездовых: они реже хлестали коней и реже бранились.
В школе младших командиров Митрохин много раз представлял себе фронт, но в его воображении никогда не возникала фронтовая дорога, по которой он шагал сейчас, приближаясь с каждой минутой к хозяйству старшего лейтенанта Самохвалова.
Еще неделю назад Митрохин носил на погонах по одной лычке. Ефрейтор, острили в школе младших командиров, поважнее генерала будет, потому что о них даже Верховный в приказах не упоминает. Верховный только к солдатам, старшинам, сержантам, офицерам и генералам обращается, а к маршалам и ефрейторам — нет. Много всяких историй ходило в школе младших командиров про тех, кто на погонах по одной лычке носит. Рассказывали, например, про то, как генерал вошел в казарму, а дневальный — солдат-первогодок — возьми да и брякни ему: «Уматывай отсель, товарищ генерал! Увидит наш ефрейтор, что чужой вошел, распсихуется».
Все эти байки Митрохин слышал раз сто. Ему по лычке на погоны шлепнули через месяц после того, как он в школу младших командиров прибыл. За что? Митрохин над этим и сам голову ломал. Звезд с неба он вроде бы не хватал, служил, как все, и вдруг — лычки. Панченко — они вместе не только призывались, но и в одном дворе жили — объяснил:
— Сдается мне, Витьк, что начальству твоя «фотокарточка» приглянулась.
«Фотокарточка» у Митрохина действительно подходящая: ресницы длинные, брови темные, взгляд твердый. Рослый, крепкий, статный. Панченко часто говорил с завистью, что такие, как Митрохин, девчатам нравятся. А почему так говорил — непонятно: Мишка Панченко тоже парень ничего — и ростом взял, и лицом, вот только уши у него оттопыривались. Это доставляло Панченко много огорчений: он то и дело трогал уши, на ночь обвязывал голову полотенцем.
— Кончай! — конфузился Митрохин, когда Панченко упоминал о «фотокарточке». Конфузился он потому, что с девчатами ему дело иметь не приходилось. Когда началась война, Митрохину было пятнадцать лет. Потом эвакуация, работа в три смены — не до девчат было. Последние два года показались Митрохину целой жизнью. А четыре месяца назад повестка пришла — с вещами. И забрали Витьку Митрохина вместе с Мишкой Панченко в школу младших командиров.
Панченко шел позади, ругаясь вполголоса. Митрохина стало раздражать это, он решил пристыдить Мишку по-настоящему, но в это время показалась развилка — та самая.
— Шесть километров осталось! — воскликнул Витька.
— Нашел чему радоваться, — процедил Мишка, и Митрохин снова подумал, что Панченко трусит, и трусит, видно, отчаянно.
На развилке заправляла регулировщица в наброшенной на плечи плащ-накидке, из-под которой виднелась шинель, туго опоясанная ремнем. Бойцы помоложе останавливались возле регулировщицы, заигрывали с ней.
— Нечего, нечего, — отвечала им девушка. — Дальше топайте!
Бойцы улыбались, перебрасывались грубоватыми шуточками. Девушка придавала своему лицу строгое выражение, но лукавый блеск глаз говорил: ей хорошо, весело.
Пехоту регулировщица направляла на дорогу, ведущую влево (эта дорога была замощенной), пушки же посылала на другую дорогу, изрытую копытами, с такими глубокими колеями, что колеса проваливались в них больше чем наполовину, а зарядные ящики гребли грязь.
Подойдя к регулировщице, Митрохин козырнул и спросил, как добраться до хозяйства старшего лейтенанта Самохвалова. Девушка показала флажком на одиноко стоящее дерево и произнесла с хрипотцой:
— Мимо того дерева ступайте. За ним овраг будет. Переедете через него — деревушку увидите. Там и размещается одно из подразделений хозяйства Самохвалова. Только полевей держите, потому что направо, за рекой, немцы.
Панченко часто уверял Митрохина, что девушки засматриваются на него, что они не прочь познакомиться с ним, Витькой. Но никто из этих девушек не нравился Митрохину по-настоящему.
Регулировщица не обратила на Митрохина никакого внимания, и он с обидой подумал, что Панченко, должно быть, врал ему, когда говорил про девушек. Он подумал так потому, что регулировщица понравилась ему, и понравилась сразу. Митрохину понравилось в ней все: и хрипловатый голос, и жесты, и взгляды, которыми она отшивала наиболее настырных солдат, и ладную фигурку ее не могла скрыть даже грубая солдатская шинель. А лицо девушки — скуластенькое, с явной примесью азиатской крови — показалось Витьке красивей красивого. Он подумал, что на такое лицо можно смотреть и смотреть. Решил познакомиться с девушкой, но как — не знал. Выразительно посмотрел на дружка — тот ни при каких обстоятельствах не упускал случая покалякать с девушками.
Панченко не обратил внимания на взгляд Митрохина, и тогда Митрохин решил попытать счастье сам. Чувствуя, что краснеет, поинтересовался:
— А другой дороги в хозяйство Самохвалова нет?
— Есть, — сказала девушка. — Только она немцами пристреляна.
— Понятно, — Митрохин посмотрел на девушку и покраснел еще больше.
«Еще один вздыхатель», — Зина усмехнулась про себя и спросила:
— Вы — пополнение?
Митрохину очень хотелось сказать, что он уже воевал, но соврать он не смог, ответил:
— Только что прибыли.
— Зеленые, выходит, — проговорил молодой ефрейтор.
Зина уже давно заприметила этого ефрейтора. Он не заигрывал с ней, как другие, спокойно покуривал, поднося к губастому рту обмусоленный окурок. В прорези полураспахнутой шинели виднелись нашивки за ранения и боевые медали. Лицо у ефрейтора было смуглым, цыганского вида, в глубине черных как угли глаз таилась какая-то отстраненность. И внешностью, и своим поведением ефрейтор отличался от других поклонников. Зина поглядывала на него с тревожным любопытством: «Он? Неужели это он?»
— Зеленые, выходит, — повторил ефрейтор и сунул окурок в рот.
Митрохин покосился на ефрейтора и тотчас вспомнил все, что пришлось пережить ему из-за этих проклятых лычек. «Конечно, — подумал он, — младший сержант не бог весть что, но две лычки — это уже не ефрейтор». Он хотел было осадить ефрейтора, но решил, что не имеет на это права: судя по медалям, ефрейтор воевал давно, а он, Митрохин, только что прибыл на фронт.
— Обкатаются, — сказал ефрейтор, обращаясь к регулировщице.
Митрохин уловил в его голосе покровительственные нотки и понял, что ефрейтор старается произвести впечатление на регулировщицу. Митрохин почему-то решил, что такие парни, как этот ефрейтор, чаще всего обманывают девушек, и он почувствовал, как в нем поднимается неприязнь к этому человеку.
— Конечно, обкатаемся, — с насмешкой произнес он. — Ты же обкатался.
— Я? Я другое дело, — возразил ефрейтор, не удостаивая Митрохина взглядом, показывая тем самым, что ему, фронтовику, не с руки говорить на равных с каким-то сосунком. По-свойски подмигнув регулировщице, ефрейтор добавил: — Тут, дорогой товарищ, фронт.
Подмигивание и тон ефрейтора — все это не понравилось Зине. Она вдруг почувствовала, что симпатизирует младшему сержанту, который не стушевался перед бывалым ефрейтором.
Не замечая Зининого взгляда, ефрейтор добавил с обидной снисходительностью:
— Тут пули, между прочим, как мухи, летают.
— Да ну! — воскликнул Митрохин в тон ефрейтору. — Спасибо, что предупредил.
Ефрейтор перевел взгляд на Митрохина, скривив губу.
— Шустрый! Хорошо, если и в бою таким же окажешься.
— Постараюсь, — сказал Митрохин и подумал, что еще неизвестно, как он поведет себя в бою. Ему хотелось отличиться, хотелось получить боевую награду, а еще лучше две, хотелось дойти до Берлина. Он мечтал об этом с того дня, когда получил повестку из военкомата.
По лицам глазеющих на регулировщицу солдат Митрохин определил, что все они на стороне ефрейтора. Он воспринял это безболезненно, потому что сообразил: его безусая физиономия, лычки на погонах и новенькое обмундирование не внушают доверия.
— Что еще скажешь? — спросил Митрохин, глядя на ефрейтора.
— Ты вроде бы ничего парень, — процедил ефрейтор. — А вот напарник твой скис.
— Иди ты, — вяло откликнулся Панченко.
Бойцы гоготнули и переключили внимание на Панченко. Тот хмурился, озирался по сторонам, даже уши перестал трогать.
— Устал он, — заступился Митрохин за друга.
— Смотрите, какой он нежный! — воскликнул ефрейтор. И стал насмехаться над Панченко.
Витька почувствовал обиду и принялся защищать товарища. Он говорил взволнованно, сбивчиво. Ефрейтор возражал. Сначала с ленцой в голосе, потом раздраженно. Митрохин не уступал — ему ли было не знать друга.
И чем больше раздражался ефрейтор, тем симпатичней казался Зине младший сержант. Она подумала, что так может защищать только настоящий друг. И сказала об этом вслух. Ефрейтор хмыкнул, скривил губы, а младший сержант зарделся, стал таким хорошеньким, что Зина разволновалась от предчувствия того, что уже случилось и вот-вот должно было войти в ее сердце. Все прошлое — бомбежка, проезд командующего фронтом, разговоры с безусыми лейтенантами, взгляды солдат — отодвинулось куда-то. Ей хотелось узнать имя и фамилию младшего сержанта, номер его полевой почты, и Зина, наверное, спросила бы об этом, если бы не ефрейтор. Решила спровадить его и, не скрывая раздражения, сказала:
— Ну чего пристал к людям? Топай куда топал. Твоя пушка вон уже где.
Ефрейтор усмехнулся.
— Иди, иди, — погнала его Зина и снова подумала, что сейчас она поговорит с младшим сержантом, узнает его имя, фамилию и все прочее.
Ефрейтор сделал две затяжки, отбросил окурок и, не попрощавшись, побежал к своей пушке.
— И нам пора, — запинаясь, сказал Митрохин.
«Подожди!» — хотела крикнуть Зина, но не посмела: она стояла на посту и вокруг были люди.
Митрохину тоже хотелось узнать имя, фамилию и почтовый адрес регулировщицы, но он ничего не спросил — постеснялся.
— До свидания! — Он козырнул девушке и, обернувшись к Панченко, проворчал: — Потопали.
Отойдя метров на пятьдесят, он обернулся — регулировщица смотрела ему вслед. Он почувствовал себя счастливым из счастливейших, сорвал с головы шапку, помахал регулировщице.
— Влюбился? — недовольно спросил Панченко.
Митрохин не ответил — он все еще находился во власти охватившего его восторга.
— Дурак, если так, — сказал Панченко. — Самая обыкновенная девчонка!
— Придержи язык! — Митрохин подумал, что друг его ни черта не смыслит в женской красоте.
Митрохин и Панченко шли по стерне. Вода хлюпала, как на болоте, комья грязи прилипали к сапогам. Дождь не утихал, сыпал и сыпал. Они миновали глубокий, с крутыми склонами овраг. Сапоги Митрохину жали, он ругал себя за легкомыслие — обрадовавшись сапогам (курсанты носили обмотки), он не примерил их как следует и взял те, что показались ему покрасивее.
Выбравшись на противоположный, более высокий склон, друзья увидели деревушку с костелом на окраине. Издали деревушка казалась уютной и нарядной. С другой стороны к ней примыкало небольшое озеро с аккуратным мосточком. На мосточке стоял, опустившись на одно колено, солдат и что-то полоскал, неуклюже поводя рукой. Около костела дымила полевая кухня. В километре от деревушки темнел лес. Он огибал деревушку полукольцом, переходил с одной стороны в перелесок, с другой стороны стоял неприступно, будто стена. В лес вползала ужом дорога. Она рассекала деревушку на две части, убегала в поле, где находились сейчас младшие сержанты.
— Глянь-ка, — Панченко показал Митрохину на красновато-глинистый холмик с торчащим из него куском фанеры на колышке.
«Вот они какие — братские могилы», — подумал Митрохин с горечью.
На куске фанеры чернильным карандашом были написаны фамилии и поставлены даты. Митрохин определил, что все эти люди погибли в один день — две недели назад. Буквы и цифры на фанере расплылись, и он с тревогой подумал, что очень скоро дождь сотрет фамилии погибших и нельзя будет установить, кто похоронен тут. «Может, и мне придется лежать в такой же могиле», — подумал он.
— Эй! — окликнул его Панченко.
Митрохин обернулся.
— Туда посмотри, — сказал Панченко, боязливо приподнимая руку.
Митрохин посмотрел и обмер: по дороге, выходящей из леса, выползали танки. Он сразу определил, что танки немецкие. Были они зеленовато-грязные, с желтыми разводьями на броне. Шум моторов напоминал тарахтение тракторов. До войны каждое лето Митрохин проводил в пионерском лагере, расположенном неподалеку от МТС, видел синеватые дымки над трубами тракторов, готовых выйти в поле. Он помотал головой, чтобы избавиться от возникшего перед ним видения.
В деревушке переполох. Солдат, полоскавший белье, бросился к костелу, волоча за собой постирушку. Башня на одном из танков повернулась, пушка чуть приподнялась и… Когда дым растворился, друзья увидели распростертого на земле солдата.
— Сматываться надо, — проскулил Панченко.
Митрохину тоже стало страшно. Он хотел крикнуть Панченко: «Айда!» — но вспомнил фронтовую дорогу, регулировщицу и почувствовал: страх ослабел.
— Бегом! — гаркнул Митрохин.
Панченко повернулся и, работая лопатками, помчался к оврагу.
— Стой! — Митрохин поймал его за руку.
— Там же… там же… — залепетал Панченко. — А у нас ни гранат, ни винтовок.
— Все равно туда надо! — упрямо повторил Митрохин и побежал к деревушке.
Панченко всхлипнул и побежал следом.
Старшим в деревушке оказался старик ефрейтор. Посматривая с опаской на приближающиеся танки, он сказал Митрохину, что тут размещался хозвзвод батальона Самохвалова, что утром взвод передислоцировался на другое место, а их задержала поломка.
— Гранаты у вас есть? — спросил Митрохин.
— Есть, — откликнулся ефрейтор.
— А автоматы?
— Два. У остальных винтовки. — Ефрейтор вздохнул: танки подходили все ближе, на них сидели автоматчики — человек двадцать.
Кроме ефрейтора в деревушке оказалось еще пять бойцов, не считая убитого, в основном старички — народ немногословный, степенный. Они не стали прекословить Митрохину, когда тот начал распоряжаться: видимо, подействовали лычки на погонах. Митрохин решил, что костел самое удобное прикрытие, расположил бойцов за выступами, приказал им подпустить танки поближе и по команде открыть огонь.
Послышался лязг гусениц. Ветерок донес вонь синтетического бензина. Панченко озирался по сторонам и всхлипывал. А Митрохин будто забыл, что ему тоже всего восемнадцать лет, что жизни он еще не видел и ничего не испытал, но ему и в голову не пришло спрятаться в какой-нибудь ямке и отсидеться там. Он вспомнил насмешливый взгляд ефрейтора, околачивавшегося возле регулировщицы. Пришел черед доказать, что он, Митрохин, вовсе не зеленый, а настоящий боец.
— Не дрейфь! — приободрил Митрохин друга, не отрывая глаз от танков: он еще не представлял, что и как будет делать, когда они подойдут совсем близко.
Старик ефрейтор притащил откуда-то противотанковое ружье. Митрохин чуть было не запел от радости.
— А патроны есть, отец? — поинтересовался он.
— Есть, есть, — ответил ефрейтор. — Четыре штуки. Оно давно у нас, — стал объяснять ефрейтор. — Сдать его хотели, да все недосуг.
Танки шли на деревушку как на прогулку. Они, видимо, не ждали заслона. Автоматчики сидели на броне, в открытых люках стояли танкисты в черных комбинезонах. Митрохин прицелился в ближайший от него танк, выстрелил и промахнулся. Кто-то из старичков-солдат не выдержал — бросился наутек.
— Назад! — закричал Митрохин.
Но было поздно. Танк рыгнул короткой пулеметной очередью, и солдат упал. Митрохин заплакал. Он плакал как мальчишка, размазывая по лицу слезы. И не стыдился их, потому что понял — крышка! Старик ефрейтор отполз за выступ и замер там. Митрохин видел краем глаза только дуло винтовки с примкнутым к нему штыком.
Танки открыли огонь. На Митрохина и Панченко посыпалась штукатурка, пули и осколки проносились с противным визгом над головой, впивались в землю. Осенняя, потерявшая свою свежесть трава начала гореть. Стебли скручивались в спирали, чадили, язычки пламени перебегали с травинки на травинку, дым ел глаза, вызывал слезы. Митрохин прижал приклад ПТРа к плечу, стал целиться. Целился долго, тщательно, старался попасть в гусеницу. И не обращал внимания на дым, на барабанящую по спине штукатурку. Нажал на спусковой крючок. Танк крутанулся на одном месте и остановился.
«Попал!» — хотел крикнуть Митрохин, но вышел хрип. А Панченко приободрился, закричал, что не так страшен черт, как его малюют.
— Огонь! — скомандовал Митрохин.
Бойцы отсекали пехоту от танков.
Один из танков попытался взять остановившуюся машину на буксир. «Не пройдет номер!» — зло подумал Митрохин и приказал Панченко и ефрейтору бить по люкам, чтобы не дать танкистам высунуть носа.
Танков было три. Один из них стоял с подбитой гусеницей, свирепо поводя пушкой, два других стали отходить.
«С той стороны хотят», — сообразил Митрохин и приказал Панченко и ефрейтору перетащить ПТР. А сам схватил автомат и начал строчить по пехоте.
— Готово! — донесся до него голос Панченко.
Митрохин спешил и поэтому не пригибался. Подкованные сапоги гулко цокали по каменным плитам, на стыках которых пробивался бурый мох, образуя ровные квадраты. И вдруг он ощутил толчок и почувствовал — падает…
Митрохин лежал на каменных плитах. В голове стучало, перед глазами все плыло. Прозвучал выстрел противотанкового ружья, и следом раздался радостный вопль Панченко. Митрохин попытался улыбнуться, но не смог. Он понял, что умирает. «Чем же пахнет?» — думал он. Напрягшись в последнем усилии воли, сообразил: пахнет дождем, холодом, каменными плитами, на которых лежит он. Этот запах был запахом жизни. И Митрохин потянулся к жизни, потому что очень хотел встретиться с регулировщицей…
Митрохин не слышал, как подоспела помощь, не слышал, как рыдал над ним Мишка Панченко, которому усатый сандружинник объяснил, что его друг Витька, может, выживет, а может, помрет, потому что рана опасная…
Зина по-прежнему взмахивала флажками, направляя поток войск, вспоминала младшего сержанта, потому что поняла — влюбилась в него, ругала себя за то, что направила его кратчайшим путем, а не в обход. «А вдруг?» — тревожилась Зина.
У развилки остановилась санитарная повозка с брезентовым верхом. Усатый сандружинник подошел к Зине разузнать дорогу.
— Кого везешь? — поинтересовалась она.
— Раненого, — ответил сандружинник. — Бой неподалеку был. Наших шесть душ, а у немцев три танка и автоматчики. Хотели сюда, на эту дорогу, прорваться и пошуровать тут. Задержали их, пока подмога не подоспела.
Зина собралась было взглянуть на раненого, но в это время на дороге показалась танковая колонна, и она не посмела оставить пост.
— Довезешь его? — спросила Зина сандружинника.
— Постараюсь, — ответил тот.
Лес рассекает фронтовая дорога — длинная, как калмыцкая песня. Топает по дороге пехота — пар валит. «Вольно» идет пехота, потому что путь долог и «ножку держать» все время трудновато. Шаркают подошвы: то булыжник под ними, то асфальт, от которого одно название осталось, то просто земля. Обгоняют пехоту танки, пушки, грузовики с боеприпасами.
— Эй, славяне, шире шаг!
Пыхтит пехота: им, чертям, хорошо — они на колесах. А на своих двоих да с полной выкладкой не очень-то поорешь.
— Ехайте, ехайте! — отвечает пехота.
Дождь нудит. Облака плывут низко. По обе стороны стоит лес вперемежку с болотами, вспухшими от дождя. Ну и погодка — туды ж ей в бок! В такую погоду на печи бы сидеть, а не по дороге топать. Хорошо на печи, тепло, особенно если рядом жена.
Мало ли что взбредет пехоте. Приказали идти — она и идет. Уже не один десяток верст отмахали, а еще топать и топать, покуда до места доберешься. А там неизвестно что. Может, прямо в бой, а может, отдохнуть маленько дадут: обсушиться надо, грязь с сапог счистить, горяченького похлебать, потому как от сухомятки никакой сытости.
Топает по дороге пехота. Танки ползут, артиллерия. Стоят на развилках регулировщицы — симпатичные девчата с флажками в руках. Ох и хорошо же придумал тот генерал, что приказал поставить на перекрестках и развилках самых пригожих девчат, от которых взгляд не оторвешь! Одни, глядя на них, невест вспоминают, другие — жен, третьи — дочерей, что там, в тылу, остались. Ну как тут удержишься, как словечко не кинешь? Парень-шофер по пояс из кабины высунулся:
— Эй, черноглазая, кто ты такая?
— Не видишь разве? — отвечает девушка.
— Я не о том! Может, адресочек дашь — письма писать стану.
— Пиши.
— Куда?
— На кудыкину гору!
Улыбается пехота — перец-девка! Оно и правильно. Разный люд на дороге попадается, и обидеть могут. А она, видать, хорошая, соблюдает себя.
— А я посвататься хотел, — не унимается шофер.
— У меня уже есть парень, — отвечает регулировщица и вдруг становится грустной.
— Кто он?
— Младший сержант.
— А по фамилии?
— Чего привязался? — спохватывается регулировщица. — Незачем тебе знать его фамилию!
А сама думает: «Где он, младший сержант? Неужели не встретимся?» — и не верит этому.
Смотрит пехота на девушку: счастливец тот младший сержант!
Шофер виновато улыбается:
— До свидания, черноглазая! Может, свидимся!
— Обязательно! — отвечает регулировщица. — В Берлине!
Шофер скрывается в кабине и включает скорость.
Пехота морщит лбы: далековато до Берлина-города, хоть и в Германии мы.
Топает пехота — безусые пареньки и мужики в годах. Встряхивают гривами кони. Моторы гудят. Взлетают в воздух флажки регулировщиц. Фронтовая дорога обычной жизнью живет…
Примечания
1
Господи! Разреши мои сомнения (лат.).
(обратно)2
«С нами бог!» (нем.).
(обратно)3
Примечание к «Братьям Карамазовым». Полное собр. соч. Достоевского Ф. М., 1976, т. 15, с. 560.
(обратно)4
Ляга — яма с водой.
(обратно)5
Гайтан — шнурок, на котором носят нательный крест.
(обратно)6
Непорядно — сверхурочно.
(обратно)7
Тороп — порывистый ветер.
(обратно)8
Жарник — топка в печи.
(обратно)9
Вывод — печная труба.
(обратно)10
Втымеж — в ту пору.
(обратно)11
Пургач — вьюжный ветер.
(обратно)12
Персонаж из оперы „Евгений Онегин“.
(обратно)13
Государственный Комитет Обороны. Был создан 30 июня 1941 года, наделялся всей полнотой власти в СССР.
(обратно)
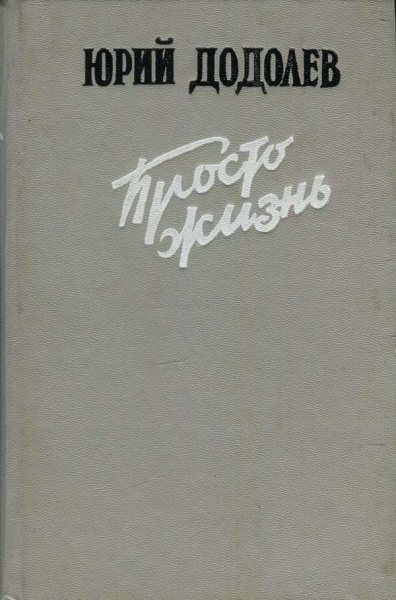







![Блакітны зніч [Лірычнае]](https://www.4italka.su/images/articles/504217/primary-medium.jpg)

Комментарии к книге «Просто жизнь», Юрий Алексеевич Додолев
Всего 0 комментариев