Итак, уже третий день, как я в этом грустном заведении. Привез меня сюда Филидор, и положили меня, как это ни грустно, в ту самую палату номер один, о которой я отзывался в предыдущем произведении исключительно в багровых тонах.
И вот там поселился и я.
Все, в принципе, оказалось так, как я и предполагал.
Привязывают к кровати, дверь закрыта, кормят как зверей, внося в комнату поднос.
Первый день я пролежал в обычной тоске, народ в палате (так и хочется написать – «камере») был что-то очень громок, и только те, кто был в тусклой алкогольной коме, – тускло молчали.
Поводом для насмешек был тихий человечек (своеобразный тип Акакия Акакиевича – алкоголика) со странной фамилией – Сидоров.
Мои добрые товарищи по палате придумали ему дружеское прозвище – Царь зверей.
Он какой-то деревенский, в смысле – колхозный, но настоящее его призвание иное – санитар-любитель.
Когда я в первый раз после капельницы открыл глаза, то сразу увидел перед собой расплывчато-доброе лицо Сидорова.
– Может, пить хочешь? – с тайной надеждой спросил он.
– Да нет, спасибо, – пересохшими губами ответил я.
Потом он с живейшим интересом наблюдал за движением жидкости в капельнице, и когда осталось капель восемьдесят семь и нужно было привешивать иной пластиковый пакет с очередной гадостью, он бросился к двери и с тревогой в голосе стал звать медсестру.
12.08.2009 (среда, утро)Прервался вчера, потому что писать в таких условиях невозможно.
Пишу я это уже в палате номер два, куда меня (слава кому-то там из пантеона) перевели в понедельник вечером.
Там писать было невозможно из-за практических причин: там не дают ни ручек, ни карандашей (очевидно, чтобы пациенты случайно не поранили друг друга), ни телефонов, ни часов и так далее, там у нас отбирают все, даже одежду, выдавая взамен кальсоны, тоненькую белую рубашку из какого-то простынного (кто-нибудь вроде Казановы написал бы, просто из одного упрямства – «льняного») материала с грустным треугольным вырезом на груди, и – по желанию, если вдруг человеку станет холодно – шерстяную рубашку с символическими квадратами разных цветов.
Во второй же палате – три наркомана, один старый зэк и так далее.
Шум стоит жуткий, часов до пяти утра.
Но, как любил говорить Ахимас Вельде – как там это будет по-немецки – итак, все по порядку.
Когда привозят какого-нибудь новенького, Сидоров в любое время дня и ночи, спит он или нет, встает рядом с кроватью новенького и тщательно следит, чтобы ему несильно привязывали руки, приносит ему попить (у нас на всех одна двухлитровая бутылка воды, которую мы наполняем, когда нас ведут в туалет, туалет только днем, ночью же в нашей палате рядом с дверью ставят ведро для отправления естественных нужд) или же просит сестру принести утку, что помогает, к сожалению, не всегда.
Это все я пишу для разминки, просто чтобы ожили рефлексы и рука снова начала писать.
Это чисто физическое упражнение.
Получается пока плохо.
Сижу сейчас во дворе храма Святого Пантелеймона на детских качелях и пишу, держа тетрадь на коленях.
Это довольно неудобно.
Храм очень похорошел за последние полтора года.
Немного, правда, раздражают иномарки, стоящие во дворе, они могут принадлежать только священнослужителям, так как миряне оставляют машины за закрытыми воротами.
Разбили еще несколько клумб, увеличилось число скамеек во дворе.
Есть даже небольшой фонтан.
Перед входом в храм, обрамляя ступени, равносторонним треугольником, лишенном нижней стороны и с вершиной в виде двери, ведущей в храм, высажены – по английской моде – цветы в больших кадках.
Сейчас время утренней службы (я решил каждый день ходить к утренней и вечерней службам), наконец-то после бесконечного «святый боже, святый крепкий» ударили колокола и стало повеселее.
Качели все еще покрыты росой.
Ну что ж, типа, Бог терпел и нам велел.
Грустно, что во дворе церкви нельзя курить.
Это довольно-таки неудобно.
Но я, типа, пытаюсь вырабатывать в себе позитивное мышление (правда, я не знаю, что это такое, но все равно пытаюсь его вырабатывать – типа, прощать страждущих, не гневаться на подающих и тому подобное).
Ладно, пойду-ка я все-таки за ворота покурить, а там уже скоро и на процедуры.И только последний больной окончательно сломал Сидорова.
Это был молодой зэк в жутком состоянии.
Его привезли ночью, и Сидоров, несмотря на сон, все-таки проснулся и, отчаянно зевая, встал над его кроватью.
– Ну и зачем ты тут встал, пидор? – спросил его зэк (который позже стал нашим общим другом, условия в палате настолько плохие, что общий ужас поневоле сближает пациентов).
– Да вот буду следить за тобой, за капельницей, – богоугодным голосом ответил Сидоров.
– Я тебя убью, сука, – внятно сказал зэк по фамилии Абрамов, – когда мне развяжут руки, – я тебя убью, дальше пошел сплошной мат пополам с истерическим смехом.
Общий смысл слов Абрамова был простым и даже понятным: «Развяжите мне руки, чтобы я смог убить эту тварь прямо сейчас».
В принципе, какой-то определенный разумный смысл в его словах был.
Сидоров очень обиделся и пошел спать.
Спасло его только то, что утром его перевели в другую палату, причем не на первый, а сразу на второй этаж. Утром Абрамов, как это всегда и происходит, был тих и печален. Как сюда попал, он вспомнить так и не смог.Прочитал тут в газете, как будет по-бурятски «горький пьяница» – красивое выражение из четырех слов.
Специально вырвал из газеты этот кусочек, да он потом куда-то делся.
Такие дела.Люди в палате малоинтересные, но с разносторонними методами – например, один татарин (по виду типичный Абдул из «Смерти Ахиллеса»), бредил целый день, капельницу ему поставить не смогли, даже привязав руки к кровати, он дотянулся и зубами перекусил капельницу, и тогда его связали совсем уж жестко и наконец-то воткнули иглу в вену.
Что поразительно, во время обеда и непрекращающегося бреда он вдруг проснулся и тоже потребовал обед.
Ему освободили руки и поставили обед на тумбочку, и он прекрасно все съел и снова уснул.
Рассказывал он (как и многие) про внеземные формы жизни.
Инопланетяне заставили его выбрить голову, чтобы удобнее было прикрепить датчики и овладеть его сознанием, но он каким-то образом сумел избежать этой страшной судьбы, однако его ждало еще одно испытание – он должен был бежать вдоль столбов линий электропередач, провода периодически срывались, но всякий раз ему чудом удавалось избежать смерти, фатального прикосновения в миллион вольт.
Что было дальше, он точно не помнил, но то, что он остался жив, во-первых, доказывало, что он сумел избежать и датчиков и линий электропередач, а во-вторых, все-таки в какой-то степени подтверждало его историю.
Лично я поверил ему сразу – он просто не смог бы придумать такого выражения, как «датчики мозговой активности».
У другого, который все время спал и с которым я ни разу не поговорил, тоже были проблемы с инопланетянами, причем конкретно с тремя особями.
Что там было точно, я не помню, его привезли в три часа ночи, когда я наконец-то уснул, и я его ненавидел всей душой. Потом, уже после капельницы, эта тварь нагадила на кровать, пришлось звать дежурную сестру, менять простыни, вытирать пол и так далее.
В процессе этого его снова разбудили, и добрая нянечка снова спросила его о зловещих инопланетянах.
Он достаточно ясным голосом ответил, что никаких инопланетян не существует, и что нашей доброй и ласковой планете Земля в этом смысле ничего не угрожает (по крайней мере, в ближайшее время), и что ему просто нужно успеть на корабль, и что этот корабль уходит с минуты на минуту и может уйти без него, и тогда он не сможет попасть туда, где всего этого нет, и прежде всего – нас.
Ему поставили вторую капельницу, и он уснул навсегда. Во всяком случае, когда меня перевели в палату номер два, он все еще спал.
Я нечто вроде средневекового художника на окраине Нижнего Тагила, рисующего на солнечной улице 3-го Интернационала солнечное затмение.
Я точно так же выделяюсь на этих детских качелях напротив входа в церковь – фигурка в джинсовой коричневой куртке со склоненной головой к тетрадке, что-то лихорадочно записывающая.
Только изредка я переменяю колено, когда затекает нога, иногда достаю из внутреннего кармана куртки морковь, которую мне сегодня принесла добрая Аля, и откусываю от нее.
Прохожие смотрят на меня с тревогой и удивлением.
Доброта к пьяным куда сильнее, нежели неприятие непонятного.В первой палате я почти не спал.
Чуть ли не каждую ночь привозили новых, а это бодяга часа на полтора: в палате горит свет, добрые соседи по палате прекрасно спят, новенький кричит или стонет, и, зевая, пользуясь случаем, раз дверь открыта, выходишь в туалет – курить.
Сигареты есть только у меня, а так как в палате восемь человек, из которых курят пять-шесть, около одного человека не курит (в нашем случае – человек, которому инопланетяне пытались вживить датчики наблюдения), и один-два человека, которые просто не могут встать с кровати, хотя курить они, конечно, тоже хотят.
Сигареты для первой палаты хранятся в особой коробке, в особом шкафчике, в особой каморке, о чем непосвященные никогда не догадаются.
Если у обитателей первой палаты есть свои сигареты, то на пачках пишут фамилии владельцев, и нянечка, следящая за порядком в городе, выдает их исключительно владельцам.
Все неподписанные пачки сигарет считаются общими.
Их иногда передают нянечке для первой палаты обитатели других, нормальных палат, особенно те, кто когда-то в этой самой палате лежал.
Правда, сигареты самые дешевые, а ведь в палатах лежат иногда очень богатые люди, которые курят сигареты рублей по сто.
Но именно эти люди никогда никому не помогают.
Зажигалка в коробке только одна, и, выйдя из туалета, ее надо обязательно вернуть нянечке.
Это чтобы не курили в палате, так как сигареты можно стрельнуть в туалете, спрятать на теле и так далее.
Впрочем, все равно приходится это делать – доставать зажигалку, прятать сигареты, потому что когда выключают свет, никто не может уснуть, кроме тех, кто спит с самого утра.
Сигареты прячут в ножках кроватей, зажигалки – в батарее.
Открываешь осторожно окно, так как от дверей первой палаты до поста медицинских сестер ровно шестьдесят девять сантиметров, и, максимально прижавшись лицом к решетке, быстро и нервно куришь.
В последнюю ночь, перед тем как меня перевели, я курил дважды, еще, что довольно забавно, сестра заставила нас вечером переставлять кровати, так как поступил тяжелый и нужно было пространство для капельницы.
Причем две кровати были те самые, в ножках которых мы с Малининым спрятали на ночь пять сигарет.
Даже мое искусное перо не сможет описать те мучения, которые испытали мы с Малининым, передвигая эти кровати.
Ночью всем, почему-то кроме меня, сделали укол, и все отрубились, а я – голова все-таки не в порядке – просто забыл из-за этих перестановок, в какие ножки каких кроватей мы спрятали сигареты, и, подняв чуть ли не все кровати с людьми килограмм по девяносто, наконец-то нашел сигареты.
В прошлый раз зажигалку прятал старый партизан Сидоров, а у меня уже не было сил, и я просто положил ее под подушку, и конечно утром ее нашли, и конечно был скандал: «Я так и знала, Курашев, что это ты куришь, сейчас будет смена, и я все ей передам» и так далее…
Я – в обычной своей роли униженного и оскорбленного – «Ну не надо, пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста…»
В палате я за главного, я решаю все вопросы с едой (в смысле с добавкой – жрать хочется ужасно, а теми порциями, которыми здесь кормят, наесться невозможно, и приходится унижаться, относя поднос с тарелками на кухню: «Валентина Васильевна (так зовут раздатчицу. – Авт.), ну пожалуйста, если останется, дайте добавки и хлеба и чаю…»
Она (добрая): «Ну если останется, я принесу…»
Почти всегда остается, потому что богатые в столовую не ходят.
Но иногда бывает, что и не остается.
И мы сидим в своей палате за столом в ожидании того, принесут нам добавку или нет, а пациенты из других палат, подходя к посту медицинских сестер, смотрят на нас сквозь стекло двери, как на отвратительных и опасных зверей.13.08.2009 (четверг, утро)Сегодня наконец-то спал нормально (проснулся, правда, в семь), соседи жалуются, что я храплю, и это довольно неприятно: раньше жена утверждала, что я храплю только пьяным и разговариваю во сне на незнакомых языках.
Стал принимать контрастный душ утром, потом дыхательная гимнастика, потом несколько физических упражнений, потом – зеленый чай, вот уже скоро и завтрак. Аля вчера принесла суп, надо попросить раздатчицу его разогреть, правда, у меня нет специальной пластиковой посуды, ну да, может быть, у нее есть.
Скоро обход, надо будет пожаловаться врачу на спину и глаза, болят они у меня ужасно.
Спина-то еще ничего, но вот глаза… Прочтешь страницу – и начинают болеть, даже сейчас, когда пишу, время от времени закрываю глаза и пишу вслепую.
В принципе, их можно понять.
Хороших людей в палате нет, это как бы такие изначально плохие хорошие люди, которые стали в итоге плохими.
Живем мы очень мирно, ни одного скандала, потому что мы все-таки – братаны…
Есть только один мальчик совсем уж несчастный, его расспрашивала врач, в принципе, она опрашивала всех, кроме меня, так как я стараюсь совершенно не доставлять никаких проблем и, видимо, произвожу впечатление самого нормального человека в палате.
Всем задают обычные вопросы о том, какой сегодня год, где мы живем, в какой стране и так далее.
Все напряженно пытаются запомнить правильные ответы других.
Мальчик (его фамилия Эшпаев) ответить смог только на очень немногие вопросы. Год он вспомнил, месяц август назвал девятым месяцем, день не смог вспомнить, на вопрос: «Где мы находимся?» – ответил, что в очень плохом месте, на вопрос: «Сколько пил?» – ответил, что месяц. (Это я его научил; когда его привезли, он сказал, что три дня, и ему, конечно, не поверили. Еще он сказал, что ему нужен хирург… «Чтобы ноги тебе отрезать? – поинтересовалась добрая медсестра. – У нас здесь хирургов нет…» И я сказал ему: «Скажи, что ты просто алкоголик…»)
К сожалению, пока его опрашивали, меня вызвали на укол, и я многое пропустил.
Задержал 22-летнего мальчика Эшпаева наряд милиции, когда он босой бродил по Дому офицеров (тому самому, где на стенах изображение Медузы Горгоны символизирует эмблему железнодорожных войск) и стучал во все кабинеты, пытаясь попасть в свою квартиру.
Сам он из Красноуфимска (я связно передаю вопросы врача и бессвязный шепот Эшпаева), еще у него есть сестра Катя, которая старше его ровно на три минуты, кесарева сечения не было, родились они вполне нормально, родители, как это водится у пациентов первой палаты, были сильно пьющими, и их лишили родительских прав, когда ему было семь лет, их с Катей забрала к себе тетка из Саратова, где они и жили, потом они вместе с Катей поступили в какое-то училище, где он учился на сапожника, а она – на швею.
Ах да, вспомнил: в школе они учились плохо, оставались на второй год, просто, как сказал о себе Эшпаев, «у меня плохая память, я все время все забываю»…
Потом все-таки пришел какой-то врач и перебинтовал ему ноги.У меня тоже начались проблемы с памятью, причем довольно серьезные – я часто не могу вспомнить какое-нибудь слово, а имена вообще почти перестал запоминать.
Вот сегодня утром спросил у соседа по палате (имя которого я, кстати, тоже не помню), как зовут моего лечащего врача, который был моим лечащим врачом и в прошлый раз. Сосед ответил: «Олег Сергеевич»…
Вот сейчас это я еще помню, а завтра утром, вполне вероятно – уже забуду…Училище они, в общем, окончили, Эшпаев стал сапожником, а Катя – швеей, он устроился в какое-то армейское училище, но через три месяца уволился, так как получал он там восемьсот пятьдесят рублей («Разве можно на эти деньги жить?» – задал вполне резонный вопрос Эшпаев), и с тех пор уже не работал.
Врач спросила про жену и детей, и неожиданно выяснилось, что у Эшпаева есть ребенок, и даже не просто ребенок, а – девочка, чему врач очень удивилась («А ты хоть знаешь, как дети делаются?»). Типа, в этом училище он познакомился с одной девушкой, которая тоже училась на швею и которую тоже звали Екатериной, потом они с Катей уехали в Екатеринбург. (Дальше я восстанавливаю с недостоверных слов обитателей первой палаты, так как именно в этот момент меня вызвали на укол, а когда я вернулся – врача уже не было.)
Эшпаев лежал и смотрел в пустоту.
В общем, Катя, видимо, вышла замуж и уехала в Екатеринбург, забрав с собою брата.
Потом кто-то случайно или ездил в Саратов, или приехал из оного и сказал, что, типа, Катька сказала, что у него дочка родилась.
Такие дела.
– А на что же ты пьешь? – спросила врач.
– Так моя сестра Катя родила второго, – ответил Эшпаев. Мы все, чей средний интеллект, даже включая мой, равен тридцати двум, не поняли. Но врач поняла сразу: «Ах, так она за второго ребенка деньги получила…»
По истории болезни (у него, оказывается, даже есть история болезни; может, и у меня есть?) последний запой у Эшпаева длился одиннадцать месяцев.Эшпаев проспал примерно полтора дня, а потом в пустоту просил покурить. Мы ему объясняли, что в палате курить нельзя.
Наконец он всех достал, и мы стали стучать в дверь, типа, Эшпаеву надо в туалет.
Сам идти он не мог, и мне пришлось вместе с еще одним братаном тащить его на себе.
Там мы покурили.
– Доведешь его, ладно? – попросил я братана и пошел обратно в палату.
– Ну, как он там? – поинтересовалась у меня добрая нянечка.
– Да пошел он на хуй, – с неожиданной злобой ответил я, – т о т его доведет обратно…Сейчас заходил врач, человек, в сущности, добрый – тот самый Олег Сергеевич – и позвал меня в кабинет.
Пришли результаты анализов. Биохимия – три из пяти показателей не в норме, флюорография (никогда не понимал, что это такое) в порядке, только в печени обнаружен ацетон, и это довольно грустно.
Откуда бы ему там взяться?
Потом я стал ему жаловаться – на сон, на боли в спине, на зрение (у меня что-то совсем плохо стало с глазами, то есть зрение у меня всегда было плохое, но сейчас стоит прочесть страницу или написать страницу, глаза очень быстро устают и как-то набухают) и так далее.
Он пообещал направить меня к неврологу и окулисту.
– Что же вы так вздыхаете-то тяжело, Станислав? – спросил он. – У вас просто очень необычный случай, вы выйдете отсюда, и все начнется по-прежнему, вам необходима психиатрическая помощь.
Договорились, что когда завтра приедет жена, мы втроем обсудим это.
Я знаю точно, что в психиатрическое отделение я не хочу, и попытаюсь завтра добиться этого. («Я не хочу идти в Морию», – ясным голосом сказал Леголас.)
Я и так пытаюсь вырабатывать в себе светлый взгляд на вещи – вот, типа, сижу на качелях, у меня есть сигареты и морковь, которую принесла Аля (я и вчера брал с собой морковь), в церкви звучит пластинка с литургией, батюшка тем временем у входа в церковь перетирает какие-то свои базары по беспроводному телефону. Ко мне подошел один из братанов, которого тоже перевели из первой палаты (один из самых неприятных – тихий зэк лет сорока, весь в наколках):
– О, ты тоже здесь! Чё, верующий, что ли?
– Да нет, – ответил я, – так просто здесь сижу, здесь спокойно.
– У тебя есть три рубля на свечку?
– Нет.
– Подвинься, что ли, – сказал он, и мы стали вдвоем качаться на качелях.
– Чё пишешь? – поинтересовался он. (Это самый распространенный вопрос, который меня просто уже задолбал, как будто человек не имеет права что-то писать в тетради; каждый, вплоть до последнего подонка, интересуется, что я там пишу в тетради…)
– Письмо, – отвечаю я, – пишу девушке, доберусь до Интернета – отправлю.
– Вон мужики идут, спрошу у них, – он ненадолго отошел. Потом вернулся:
– Дали денег, поставил свечку за упокой родителей.
– Будешь морковь? – предложил я.
– Давай, – безрадостно согласился он.
– Ладно, пошли покурим за ворота.
– А где там за здоровье-то ставить? – спросил он.
– Откуда я знаю? Я вообще неверующий. А ты?
– Верующий, – ответил он.
– А чё, типа, верующие пить могут?
– Типа, нет, – сказал он.
– А я, братан, – сказал я, – типа, о хорошем пытаюсь думать, вот солнце – хорошо, деревья – хорошо, живой – хорошо, ну и так далее.
– Пошли на фонтанчик, что ли, посмотрим, – неожиданно сказал он.
– Ну пошли, – ответил я.
Хоть фонтанчик и в тридцати метрах от качелей, я туда еще ни разу не подходил. Мы дошли до фонтана.
– Видишь, какая красота, братан, – грустно сказал я, – типа, люди, видишь, красоту создают, а мы только мерзость делаем… К тебе приходит кто-нибудь?
– Да нет, сестра в Магнитогорске, а баба на Уралмаше живет. «Нахуй, – говорит, – я в такую даль попрусь?» Она сама здорово бухает, я раньше так не бухал до нее, она, типа, старше меня, но выглядит еще ничего…
– Помогают тебе во второй палате?
– Да ниче, помогают, Саша – изумительный человек – чифир дает. У меня же денег вообще нет с собой, как домой поеду – хрен знает…
– Ладно, пошли, – сказал я, – скоро ужин…
У него цирроз печени и он очень скоро умрет.Вышел после ужина покурить на улицу. Опять один из местных уродов (который меня особенно раздражает):
– Ты так и не рассказал пацанам, чё ты там пишешь. В это время Саня огибает угол здания, чтобы через окно передать в первую палату чифир.
Мной овладел обычный приступ безумной злобы, но я вспомнил, что благородный муж не должен впадать в гнев, и спокойно ответил:
– Да ничего не пишу…
– Мемуары, что ли?
– Да я даже слова такого не знаю. Чё ты все время лезешь ко мне?
– Нет, ну скажи, ты вот в какой палате?
– Какая разница? Я же тебя не спрашиваю, в какой ты палате.
– Так ты спроси.
– Да мне все равно, – сказал я, бросил окурок в урну и пошел к себе на второй этаж.14.08.2009 (пятница, утро)Снилось что-то очень длинное, мы с дедом легли очень поздно, наши счастливые сопалатники уснули гораздо раньше.
У деда своя личная персональная лампочка, которая горит всю ночь, из-за чего к нему возникают претензии.
Дед вчера долго объяснял преимущество совы перед жаворонком (или наоборот, я уже не помню точно), и мы при тускло-ярком свете этой лампочки читали до трех часов: он тщательно штудировал «Вечерний Екатеринбург», принесенный вчера доброй женой, а я Акунина – «Детскую книгу».
Деду 69 лет, его зовут Рудольф, а жену – Луиза.
Такие дела.
Как объяснил дед, родители жены как-то, типа, посмотрели, типа, пьесу Шиллера «Коварство и любовь», и она, типа, их зарубала, и они назвали свою дочь в честь т о й Луизы… (дед, к сожалению, излагал все это куда более литературным языком).
Дед вообще интересный человек. В школе его дразнили Адольфом, и он сменил имя на Роберт (почему – бог знает), а потом, типа, сменил обратно.
Он преподаватель физики, всю жизнь пишет какой-то труд – о мягкой механике твердых тел, и каждое лето сознательно уходит в запой, а потом ложится сюда.
Перпетуум-мобиле.
– То есть ты только летом пьешь? – спросил я.
– Почему? – обиделся дед.
Как выяснилось, в обычное время он пьет, по его выражению, по системе Хемингуэя – тридцать граммов в час: пройдет час – еще тридцать и так далее.
В ожидании нового часа он читает.
Что он читает, я забыл спросить. Очевидно, «Вечерний Екатеринбург».
Зовут на завтрак.
Запомнил только конец сна – что будто бы мы с Максом и Тимофеем спим в одной постели, Макс посередине, прижавшись к жирному телу Макса, причем Тимофей его целует (фу, какая гадость!), потом мы идем по городу, мне надо ехать в больницу, а я все думаю: не выпить ли мне с ними, а потом поиграть во что-нибудь, мы доходим до цирка, и они садятся в какой-то девятый автобус (который вообще там не ходит) и уезжают, а я остаюсь.В туалете первого этажа видел Эшпаева, он сидел один.
– А где братаны? – спросил я.
– Уже покурили, – ответил он.
– Видишь, – сказал он мне с гордостью, – я уже сам могу ходить…В понедельник вечером неожиданно во время ужина меня перевели во вторую палату, мы как раз ели выпрошенную мной добавку картошки.
Помню, кто-то из поступивших тяжелых очнулся во время подобного ужина и спросил, что там на ужин.
– Картошка, – ответил кто-то из нас.
– С чем? – спросил он, и мы все засмеялись.
Это п р о с т о картошка, даже не пюре.
Во второй палате были одни нарки и один очень старый зэк, я пару раз с ними чифирил, но потом надоело.
Какими только таблетками они не закидываются, чего только не делают, шум в палате – туда набивается человек двенадцать – стоит до самого рассвета.
Особенно Саня – человек, который никогда не спит и все время кому-то что-то прогоняет, рассказывая бесконечные истории, – выглядит он на удивление хорошо, хотя чего только не делает с собой.
Впрочем, словами это не описать, это надо видеть.
Человек он, в сущности, добрый, войдя в столовую, всем желает приятного аппетита, и уже несколько раз я с его помощью передавал в первую палату чифир.
Он законченный наркоман, большие проблемы с памятью, раз десять спрашивал меня, как меня зовут.
Помню, когда я курил на улице рядом с Олей – это такая нимфетка-наркоманка, к которой все испытывают тайно-явное влечение и которую родители хотят закрыть здесь на несколько месяцев, так она их достала – она вдруг сказала: «Блядь, я уже целый час сижу и думаю, почему сигарета не горит…»
Она просто забыла ее зажечь…В общем, пошел я к старшей сестре (очень милая, такая стильная девушка, в смысле – женщина) и попросил, если есть места наверху, отправить меня наверх.
Она сжалилась, и я оказался в восьмой палате.
Все соседи тут оказались спокойные, интеллектуалов здесь нет, интеллигентный человек один – Рудольф, но днем он всегда молчит, а ночью читает «Вечерний Екатеринбург» и тому подобный ужас.
Еще был один нарк, который постоянно зависал у нас во второй палате, но его выписали в тот же день.
На его тумбочке лежала книга «Буддизм. Энциклопедия» – как он мне объяснил, он хотел узнать, что такое нирвана.
Все молодые нарки, лежащие здесь, одинаковы: это дети богатых родителей, готовых сделать все что угодно, лишь бы чадо родное не плакало, лишь бы дитятко родное – насытилось…
Пример разговора нарка по телефону: «Мамочка, привези завтра голубцы и фаршированный перец. Сделаешь, ладно? Мне что-то пищи домашней захотелось. Ладно, мамочка?»
Все они говорят на своем специфическом языке, половину слов в котором – увы мне, хронолингвисту – я не понимаю…
А все вокруг, похоже, прекрасно понимают.
Похоже, я живу не в той стране или не в том году.
Только что подошли двое из первой палаты (то есть которых тоже перевели из первой палаты) – татарин и тот, о котором я писал вчера:
– Привет.
– Привет.
Татарин:
– Чё, в таком виде-то пустят? (Он до сих пор в униформе первой палаты.)
Я:
– Конечно, богу один хрен.
Больше из первой палаты так никого и не выпустили, и они там становятся все злее.
Первой палате я помогаю как могу – тем, кто там лежал, не понять, насколько там все плохо.
Впрочем, есть такой Фарид, крепкий мужик лет пятидесяти, он лежал со мной в первой палате, когда никого из братанов еще не было.
Сейчас он тоже на втором этаже, он очень богатый, собственный коттедж, навалом продуктов, они лежат в холодильнике нашей палаты.
Я подходил к нему:
– Фарид, помоги братанам.
– Их же там кормят.
– Ты же сам там лежал, неужели не понимаешь…
– Лучше не напоминай.
Причем он всегда ходит в столовую и всегда забирает хлеб с собой.
Это такая сволочь, для описания которой нужно перо искуснее моего.
Дважды я покупал им сигареты, один раз сделал обход всех палат – типа помочь надо людям сигаретами. Некоторые давали.
Купил им новые карты – тем картам, что в палате, наверное, лет пятьдесят, и на них биллион бактерий, да и мастей почти не видно.
И даже передавал им продукты, когда Аля принесла мне передачу – плавленый сыр, печенье, жевательную резинку, конфеты, огурцы, и еще потихоньку отрезал от продуктов соседей, когда их не было в палате, по сто грамм сыра и колбасы.
Мои соседи – люди, что называется, любящие пожрать, и весь холодильник забит их продуктами.(день)Вчера звонил участковый, просил прийти, я сказал, что лежу в наркологии, через какое-то время он позвонил опять и поинтересовался, где именно я лежу, даже номером палаты.
Я весь вечер ждал, что за мной приедут и увезут уже навсегда.
Может, приедут сегодня, для ожидания времени у меня предостаточно, живым им меня все равно не взять (я всегда любил такие красивые и бессмысленные фразы).
Как же меня все достало.
И во всем этот я виноват сам.
Итак, как я уже писал, соседи – люди тихие, лежат они здесь давно, скоро выйдут, и им уже абсолютно все равно, им хочется только поскорее выйти отсюда.
И если бы к ним подселили человека с двумя головами, то их бы это не особенно взволновало.
Они вяло поинтересовались, что я там пишу, и тут же забыли об этом.
Рассказали, что до меня на моей кровати лежал человек, который тоже все время что-то писал.
Он чертил какие-то формулы и диаграммы, пытаясь изобрести вечный двигатель.
Как они рассказали, иногда у него получалось, и он засыпал счастливым.
Но очнувшись утром, он опять находил какую-то очередную ошибку в своих расчетах, и снова весь день чертил формулы быстрой и нервной рукой.
Жаль, что я его не застал. Очень жаль.В туалете с Рудольфом почему-то зашла речь о религии.
Поговорили о православии и буддизме, правда, дед путает буддизм с индуизмом (но это не так важно, я и сам не понимаю, в чем там разница).
– А ты верующий? – спросил я его.
– Я атеист, – ответил он.
– Я тоже.
– Я же советский физик, как же я могу верить в Бога?
– А чё, разве среди физиков не бывает верующих?
– Да, были такие, – ответил Рудольф, помрачнев, – пидорасы, как у них все это только в голове совмещалось – религия и физика? Именно из-за таких моральных выродков мы и не построили коммунизм…Вернувшись сегодня с процедур, присел рядом с Олей, которая, как всегда, сидела на корточках, чуть поодаль от крыльца, рядом с цветами, и курила.
Я присел рядом:
– Как настроение?
– Да так, вот думаю лежать дальше или выписываться.
– А родители что?
– Да они вообще хотят месяца на два-три, боятся, что сорвусь снова.
– Чё, так и не ешь?
– Нет, да я всегда так, только кофе и шоколад – и всё.Ну вот, векторы хронологий, воспоминаний, реминисценций и лайва сошлись воедино, чего я подсознательно боялся.
Полпервого дня, я сижу за столом, дед спит, один читает газету, другого нет на месте – уехал домой на выходные.
Теперь нужно параллельно вести дневник и пытаться обдумывать продолжение романа.
Никаких идей по поводу продолжения романа у меня нет.
Пойду курить на улицу.
Приезжала жена, был долгий и тяжелый разговор с врачом, он – вполне резонно – считает, что все проблемы у меня в голове и меня должны лечить психиатры.
Беда в том, что я совершенно не верю в психиатрию.
Сейчас нужно переключиться на роман. Единственное, что я пока придумал, – это добавить линии Зигфрида и Анны, а также линию «Классификация любовь Д», которую нужно будет дописать.
Эта дата, последний срок сдачи романа – двадцать шестое сентября, день рождения Марины – висит надо мной как дамоклов меч.
Нужно писать примерно шесть страниц в день – это реально, если бы я знал, о чем писать.
После шестой главы передо мной стоит каменная стена.
Мне банально не хватает знаний о Берлине сорок первого года, что и как там было, что предпочитали в пивных, сколько стоил хлеб и так далее.
Я могу писать о безвоздушном пространстве страниц сорок, но писать об этом большой роман довольно проблематично.
Впрочем, это не так важно, дело ведь не в улицах, написал же я «Довольно короткий отдых в Марселе».
Это, типа, должна быть любовно-детективная история, причем Анна – это ангельское создание – должна стать отрицательным персонажем, который просто развлекается.
А та, которую он должен был бы любить, будет описана в «Классификации».
И в эту игру должен вмешаться еще кто-то третий – может быть, Эрика?15.08.2009 (суббота, утро)Восемь утра, идет дождь, тусклый и серый, как сны Чарльза Огастеса Милвертона.
В такие дни у персонала психиатрических больниц, вероятно, прибавляется проблем с пациентами.
Да и на здешних обитателей дождь тоже действует угнетающе.
Дед читает газету.
Другой сосед, с которым мы уже притерлись друг к другу, раскладывает свой бесконечный пасьянс.
Он называл мне свое имя, но я не могу его вспомнить – память на имена все ухудшается.
Проснувшись, пошел курить в туалет. Там двое – Олечка с сигаретой и стаканом чая в руке и тихий грустный работяга из соседней палаты, который когда-то в ванной комнате, где мы умываемся, предложил мне свою пену для бритья, видя, что я перед бритьем намыливаюсь обычным больничным мылом.
Я ( следуя заветам Лао Шэ ):
– Доброе утро!
Тихий алкоголик:
– Доброе утро.
Олечка ( задумчиво ):
– Кому-то доброе, а кому не очень…
Святой Пантелеймон (у церкви которого я и пишу, сидя на качелях) был довольно занятным человеком.
Его казнили в четвертом веке совсем молодым.
Когда он всех достал своими проповедями, обличениями и нравоучениями (типа, любите друг друга, не обижайте друг друга), его решили казнить.
Что с ним только ни делали – сжигали, топили в реке и так далее… Но даже хищные звери, которые должны были его – по плану – разорвать, лизали ему ноги, а Пантелеймон все это время продолжал обличать какого-то римского наместника.
Почувствовав, что пора уже что-то решать, его привели в оливковую рощу (вполне современно) и попытались отрубить ему голову мечом, но меч сделался мягким и ничего не произошло. Тогда наконец римляне поняли, что перед ними святой, и пали на колени, обливаясь слезами и умоляя простить их.
Однако Пантелеймон на этом не успокоился.
Он сказал, что их ждет наказание за невыполнение приказа, и он готов принять смерть.
Раньше-то, спрашивается, в чем проблема была?
Меч снова стал твердым, и солдат со слезами на глазах отрубил ему голову.
Из шеи потекла не кровь, а молоко, а масличное дерево, под которым происходила казнь, тут же покрылось спелыми плодами…
С фантазией у автора жития были, конечно, проблемы.
Если бы я писал житие, я бы там такого наворотил, что вся планета была бы заставлена храмами в честь Пантелеймона.К Рудольфу приехала жена, милая такая старушка, которая очень о нем заботится. Если я доживу до возраста Рудольфа, то мы с женой будем выглядеть так же, но это вряд ли.
Он всегда собирает по всей столовой оставшийся хлеб и потом передает его жене в огромных пакетах.
Что она с этим хлебом делает – неизвестно.
Приезжает она почти каждый день.
Вчера видел жену и мать Сани. Мать вроде нормально выглядит, а жена смотрится еще хуже Сани – алкоголизм в последней стадии, и на вид ей лет пятьдесят, хотя ей всего 24 года.
Такие дела.16.08.2009 (воскресенье, день)Спал без сновидений, во всяком случае, их не запомнил.
Уснул часа в два ночи, под бесшумный свет лампочки деда, упорно читающего, на этот раз почему-то – Russian News-week…
Проснулся ровно в восемь, выполнил весь обычный утренний туалет.
Все еще спали.
Потом утром смотрел по телевизионному приемнику интересный и образовательный сюжет о том, как вчера задержали распространителя героина, который делал закладки (то есть оставлял товар в определенных тайниках, известных покупателям) на Сибирском тракте, в районе остановки «Психбольница».
А ведь это наша остановка…
На завтраке в столовой встретил Малинина с подбитым глазом (перевели, наконец, из первой палаты).
Он, как затравленное, но выздоравливающее животное, ел кашу – обычная гадость, геркулес, естественно, без масла, соли и сахара.
– Чё, одежды нет нормальной? – спросил я.
Он до сих пор был в приятной и успокаивающей униформе первой палаты.
– Да меня только ночью перевели…
– Тебе же недолго вроде осталось?
– До девятнадцатого, а потом на платное лечение.
– Чё, дядя постарался?
– Да они все стараются…
Звучит немного странно. Когда меня перевели во вторую палату и вернули телефон, он попросил позвонить его деду и, как запасной вариант – дяде.
Его увели обратно в первую палату, а я стал звонить деду, который страдал – скажем так – проблемой со слухом.
Только раз на третий мне все удалось объяснить деду, и дед сказал: «Так он уже пять лет в тюрьме отсидел (Малинину двадцать три года. – Авт.), эта тварь бухает все время, так что пошел он на хуй».
И перед тем как дед Малинина в последний раз прокричал в трубку: «Пошел он на хуй!», я успел крикнуть: «Позвоните дяде, пусть он мне перезвонит!»
Дядя вскоре позвонил и оказался более трезвомыслящим человеком. Выслушав меня, он сказал: «А я-то чем этому уроду смогу помочь? Я сейчас за тысячу километров от Сибирского тракта». (Дядя находился где-то на арктическом побережье, отчетливо слышались крики чаек и взволнованные голоса матросов.)
«Позвоните второму дяде, – закричал я, пытаясь заглушить чаек, – пусть он приедет».
Второй дядя находился, по словам Малинина, где-то совсем рядом, типа, в Нижнем Тагиле, но его номер Малинин не помнил.
В это время жутко ударил судовой колокол, все звуки слились в одно, и телефон дяди отключился.
Больше мне никто из многочисленных родственников Малинина не звонил, но, видимо, все-таки сигнал «Mayday» (международный сигнал бедствия. – Ред.) дошел до кого-то из них.
Сегодня что-то уж совсем многолюдно у церкви (в церкви, надо полагать, еще больше), все качели и почти все скамейки заняты, повсюду бегают эти мерзкие дети и кричат.
Среди прихожанок изредка попадаются симпатичные.
Сегодня какое-то причастие, какое именно, я не знаю.
Сегодня у меня в куртке яблоко – из числа тех, что принес вчера Тимофей.
Вечером мы сидели на скамейке центральной аллеи психбольницы, к нам подошла старушка, что называется, божий одуванчик:
– Возьмите, ребята, яблочков…
У нее был полный пакет маленьких таких, грустных деревенских яблок.
– Да нет, спасибо…
Лицо у нее в добрых старческих морщинах – первый признак умирания у таких старушек, которые в с е г д а переживают своих мужей.
– А их моему не передают, а ему еды не хватает, иногда берут, иногда нет, я вчера пирожки с яйцом и луком приносила и жареную картошку, он ее очень любит, так разрешили передать, а раньше не давали, искала-искала этот корпус, где лежат психи, еле нашла… Моему-то тут еще три месяца лежать, врачи говорят… Да возьмите, ребята, яблочков, они хорошие, потом съедите! Погода-то какая хорошая, ласковая, ни ветерка, и солнышко такое нежаркое… А вы из какого отделения?
– Из третьего, – ответил я.
– Наркоманы?
– Наркоманы, – ответил я.
– Ну лечитесь, бедные, – сказала она, – дай Бог вам здоровья…
Есть ли, интересно, такая болезнь и ее латинское название, как нелюбовь к собственной планете?
Не люблю я эту планету.
Если бы я ходил по психиатрам и вдалбливал им это, то, может быть, потом я бы стал сенсацией в среде психиатрии и меня показывали бы, как Шарикова: «Говори, Москва, разговаривай, Расея…»
Сходил к невропатологу, она сказала, что позвоночник искривлен у меня с детства, типа, с рождения, из-за этого мышцы действуют неправильно, что и причиняет сильную боль, и что это в моем возрасте уже неизлечимо, и даже правильная осанка (как я всегда думал) не поможет.
Может, поэтому у меня такой грустный характер?
Сходил с соседом на «Поющий родник» (семь минут ходьбы), принесли десять литров воды на двоих.
И даже после такого небольшого усилия я был совершенно измотан: обливался потом, болело сердце, чувствовал себя, как пьяный. А я-то ощущал себя в последнее время здоровым человеком… И только сейчас понял, что здоровье мое подорвано окончательно, что я болен неизлечимо, что былая сила ушла и уже никогда не вернется.
Завтра надо ехать к участковому, и завтра меня, возможно, переведут в психиатрическое отделение.
Ни то, ни другое не сулит мне ничего хорошего.
Уже восемь дней, как я здесь, но так и не написал ни одной строчки и – скорее всего – не напишу.
Поговорил с церковным охранником. Малоинтеллектуальный старичок, тоже когда-то лежал в третьем отделении.
Получает шестьсот рублей за смену. Делать ничего не надо – несмотря на то что храм находится на территории психбольницы, никаких инцидентов на его памяти не было.
Может, мне тоже устроиться в какой-нибудь храм в городе?
Проблемы только с неверием и курением, да и в армии я не служил.
Но я еще не умер.
Никто не знает, что я гений.
Никто. Ни один человек.
Они занимаются одним видом искусства, а я – совершенно другим, хотя названия у них одинаковые.
Так прошла моя жизнь.17.08.2009 (понедельник, утро)Сегодня опять снилось что-то интересное, связанное с моей матерью, но я опять не запомнил.
Заснул поздно, часа в три, проснулся в восемь тридцать, но успел до утреннего обхода все сделать, все свои обычные процедуры.
Зашел Саня, необычно трезвый, вернувшийся из своей трудной субботней поездки домой с двенадцатью рублями в кармане.
Вчера выпил, говорит, всего-навсего три пива и бутылку водки. Закусывал, видимо, несвежей рыбой, и сейчас – как он изящно выразился – у него «греческая болезнь».
– В смысле, диарея? – спросил я.
– Да, – ответил Саня.
Такие вот тут мы все интеллигенты.
Завтра его выписывают – зачем приехал, хрен знает.
Деда сегодня тоже, к сожалению, выписывают, и вместо него, видимо, подселят одну из этих жирно-богатых морд с дорожными сумками, которые с утра сидят в коридоре.
Пишу уже в самом храме, служительница меня не трогает, в храме во время утренней службы ни одного человека, только я.
Сейчас надо на процедуры, а потом в Чкаловское РОВД.
По поводу романа мыслей по-прежнему нет, разве что если седьмая глава начнется с линии Анны, то, может, синхронизировать ее с линией Зигфрида, то есть начать с того же дня, откуда начинает Зигфрид, типа, Эрика в шутку рассказывает ей про этот безумный отдел и не совсем официальные отчеты Зигфрида, и ей становится любопытно, и она приходит туда, чтобы поиздеваться над ним, а он в нее – влюбляется.
И она в конце должна разрушить всю его жизнь.
Финал должен быть мощным, сокрушительным по силе, финалом «Классификации любовь Д». Нужно сделать что-то уж совсем запредельное по трогательности и тоске. Еще нужно третью или четвертую линию (включая «Классификацию») в романе – Эрики или Герхарда.
(день)Ездил в город, был на допросе, встречался с женой, через месяц – суд, надо примиряться с соседями, выплачивать ущерб, собирать характеристики (кто мне их даст, интересно?).
В общем – мерзость.
В четверг опять на допрос.
Завтра утром пойду к психиатру и буду разговаривать о возможности психиатрического лечения.
В церкви во время вечерней службы аж целых два прихожанина, но и те уже ушли.
На улице сильнейший ливень.
Поставить, что ли, свечку – вот только за что?
А если бы меня не было в церкви и она была бы совершенно пуста?
Как, наверное, красива и бессмысленна вечерняя служба в пустом храме.
18.08.2009 (вторник, утро)Заснул нормально, только все время просыпался, в три часа ночи выходил курить, сейчас полседьмого утра, снилось, будто бы меня отпустили домой на пару дней и я пью с Джаном, и нам хорошо и весело, потом Джан засыпает, а мне не хватило водки, чтобы заснуть, и я ищу водку, думаю, должна же была остаться, но в холодильнике только минеральная вода и уксус. Потом Джан исчезает.
Следующее утро. В этот день приезжает мать, и Карлик где-то в шесть вечера должна ее встретить.
Утром я неожиданно нахожу в холодильнике бутылку водки, причем там нормально еще так осталось, грамм триста пятьдесят, потом приходят Тимофей и Жаба.
Структура квартиры совершено иная, и структура улиц совершено иная. Тимофей дарит мне сто рублей, а я, словно забыв и о водке в холодильнике, и о ста рублях, иду искать деньги у него в куртке в прихожей, куда ведет длинный коридор. Денег в куртке (у него такой надежный тяжелый куртофан) тоже сто рублей. В коридор выходит Жаба, как всегда, со своим дурацким смешком:
– Чё ищешь?
– Деньги.
Она открывает какой-то ящик в прихожей, там один доллар и несколько сотен евро. Блин, думаю, где же я их сейчас поменяю? Вспоминаю вдруг о восьми пустых бутылках, спрятанных где-то под мостом, недалеко – каждая бутылка десять рублей, вполне хватит – и иду за ними, почему-то голый, беру четыре и иду обратно, уже почему-то в плавках, из-под моста нужно подниматься по длинной лестнице, навстречу мне скейтбордисты и роллеры. Приношу домой эти четыре бутылки, уже полночь, звонит Карлик, типа, мать встретила, если хочешь получить деньги – завтра приходи ко мне домой.
Рядом с компьютером стоит коробка, и я вдруг замечаю, что на ней заводским шрифтом напечатан адрес: «Московская» и дальше там что-то, вплоть до домофона.
Странно, думаю я, мать приехала, но что-то не спешит ко мне домой, да и Карлик чего-то… Все это время я пытаюсь вспомнить одну песню, это такая классная женская песня, но когда я настраиваю свой мозг на воспоминание, мне почему-то лезет в голову: «то взлетая прямо в небо»… А, ладно, думаю, хрен с ним, сто рублей есть, пойду-ка я за водкой, а завтра вернусь в больницу. И тут, на этом месте, просыпаюсь.
Ночью было что-то жуткое. Бухало полбольницы, выгнали четырех человек, в том числе Абрамова и Малинина, видел их сейчас на скамейке у входа, сидят похмеляются пивом, прежде чем идти на остановку. Предлагали и мне.
Сколько же здесь людей с неудачной кармой… В сущности, почти все. И есть люди, на которых уже поставлен крест, типа Абрамова и Малинина, их пути просты – тюрьма и смерть.
Один из немногих более-менее нормальных людей – это Коробейников, мой сосед по палате. Человек с обаятельной улыбкой, когда у него хорошее настроение.
Сидим с ним вдвоем за столиком в столовой (наши соседи в столовую не ходят, и их можно понять).
Заходит сестра, пожилая женщина лет пятидесяти:
– Коробейников здесь?
Коробейников, на армейский манер, прикладывает руку к голове.
– Кончай завтракать, сейчас к хирургу пойдем. (У него что-то с ногой.)
– Вместе пойдем?
– Да, вместе.
– Оу, – говорит Коробейников, – надо будет тогда у аптеку зайти…
– Хорошая шутка, – замечаю я, и мы начинаем смеяться.Я никогда не пытался понять своих героев – вот в чем проблема.
Я всегда шел с другого конца – я их просто создавал, и они были довольно живые.
Понять их психологию никогда не пытался.
В Зигфриде я нарочно соединил две крайности – нацизм (а Зигфрид непременно должен быть нацистом, чтобы усилить впечатление разлада) и романтизм, неудовлетворенность, недовольство, в том числе и самим собой, благородство, интеллигентность и так далее.
И вот я все это вложил в него, а он, бедный, мучается.
Понятно, что ничем хорошим для него это не закончится.
Сейчас я в первый раз решил пойти «от персонажа» и разобраться в психологии Анны Гьелаанд.
Раз я решил, что она будет жестокосердна, пусть будет такой, но – почему?
Мать на хорошей должности, они вполне обеспеченны, загородный домик и так далее, никаких проблем, война идет где-то совсем далеко и кажется нереальной, только строчки в газетах да радиоголоса.
Понятно, что отца у Анны нет и мать ее избаловала.
Анна так же умна, как Зигфрид, но если у него в душе постоянно происходит конфликт – между сердцем и разумом, между сном и явью – и он пытается найти хоть какой-то компромисс между добром и злом, еще не понимая, что компромисс этот – невозможен, то Анна и не пытается бороться со злом в своем сердце с самого младенчества, она не имеет души и просто развлекается, ей все скучно – и сверстники и политика партии, она слишком умна для всего этого.
Может, начать писать хотя бы чистый текст с пропусками – типа, «я купила хлеб за…» и пробел, и если чистый текст пойдет, то можно будет потом все пробелы – заполнить.
Это же не историческая книга, в конце концов.Сегодня в церкви людей побольше – целых пять человек.
Священник все время кашляет, читая текст.
Хоть вживую, а не пластинка, как обычно.Сходил в четырнадцатое отделение (для психов), куда меня хотят положить, долго ждал врача после обхода, но она была крайне занята и назначила собеседование на завтра на полдесятого утра.
Завтра – вот ключевое слово! Сделать завтра, написать завтра, отложить до завтра – нет большего счастья для меня.
Инфантилизм, как сказал бы Герман Геринг.
Поговорил с пациентами. Там два сектора: один для настоящих психов, который тщательно охраняется (когда открывают дверь, видно, как они там бродят в пижамах), другой – с более щадящим режимом, для почти нормальных, у которых шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и так далее.
По виду никогда не догадаешься.
Они говорят, что тут условия даже хуже, чем у нас, выход на улицу из «нормального» сектора далеко не у всех, и так просто не выйдешь, дверь всегда заперта и надо звонить.
Психиатр с ними не работает, только изредка бывают какие-то тренинги, где все, взявшись за руки, послушно рассказывают о своих горестях.
В общем – бред.
Туалет лучше, чем у нас, а вот телевизор только один.
Тяжелым ставят уколы (у нас – капельницы), всем остальным дают таблетки.
Так стоит ли туда переводиться?
В ожидании врача сидел на скамейке рядом с симпатичной девушкой, она принесла передачу для мужа, которого вчера сама туда и сдала – в сектор для настоящих психов, – и спрашивала санитара с испугом: «А он оттуда не сможет вырваться, не сможет убежать? А то он вчера хотел меня убить…»(вечер)Днем что-то задремал. Вечером на скамейке философский диспут по поводу кодировки.
Один очень толстый пациент объясняет, что вся кодировка суть плацебо и держится исключительно на самовнушении.
Другой – собравшийся кодироваться аж на пять лет – внимает этому с явной тоской.
Коробейников его очень остроумно называет Солнышком – из-за его синей футболки, на которой пламенеет ярко-желтое солнце.
Все девять дней, что я здесь лежу, он ходит только в этой футболке.
Если бы вдруг ему пришло в голову помыться и переменить футболку, то вряд ли бы его кто-то узнал.
19.08.2009 (среда, утро)Заснул в полчетвертого, проснулся в семь, потому что сосед Влад (я его никак не зову, не помню его настоящего имени. Коробейников вчера тоже озаботился этой проблемой: я, говорит, называл его Владом, а приехал Вовка (еще один наш сосед, который на стационаре) и стал называть его Славой. Я говорю: «Ну, типа, значит, его Владиславом зовут, вполне логично и разумно». Но Коробейников на этом не успокоился: «Может, Вячеслав?» Я говорю: «Ну с чего Вячеслав-то?» (В это время старая нянечка моет пол в палате.) Коробейников: «Давай спросим у независимого эксперта. Вот, по-вашему, Вячеслав и Владислав – это одинаковые имена?» Нянечка: «Ну вроде разные, хотя буквы у них одинаковые…») зачем-то поставил будильник в переносном телефоне на семь утра. Как он объяснил, так его попросила сделать Олечка… (Почему Олечка сама не поставила – бог знает.) Загадки, загадки.
В коридоре уже кипит жизнь – кто-то умывается в ванной, на двери туалета скромная табличка – «Женщины».
Через секунду оттуда выглядывает Олечка и просит туалетной бумаги (значит, она знала заранее, что все именно так и будет), я оставляю соседу эту приятную миссию, а сам спускаюсь курить в туалет первого этажа, там в туалете уже вся первая палата в полном составе.
Спрашиваю о здоровье Эшпаева – говорит, все нормально, ноги в порядке, сегодня выписывают, за ним приедет сестра Катя, если сегодня не приедет, то врач оставит еще на день до ее приезда.
Ночью, в три часа, в туалете – я, Коробейников и Олечка.
Олечка, как всегда, разговаривает с кем-то по телефону.
Коробейников:
– О Господи, неужели в такой час кто-то еще может быть там – на другом конце провода?Из плакатов четырнадцатого отделения, висящих на стене:
«О возможности суицида предупреждают следующие признаки:
– высказывания больного о своей ненужности, греховности, неискупимой вине;
– безнадежность и пессимизм в отношении будущего, нежелание строить какие-либо планы;
– наличие «голосов», советующих или призывающих его покончить с собой;
– убежденность больного в наличии у него смертельного, неизлечимого заболевания;
– внезапное успокоение больного после длительного периода тоски и тревожности. У окружающих может возникнуть ложное впечатление, что состояние больного улучшилось. Он приводит свои дела в порядок, например пишет завещание или встречается со старыми друзьями, которых давно не видел…»
(sic!) [1]
Давно я так не смеялся, читая информацию на стенах отделения.До чего все-таки непунктуальны люди! Я даже не доел завтрак, чтобы успеть к половине десятого в четырнадцатое отделение, и вот уже десять двадцать пять, а я все сижу и жду, когда меня вызовет Ауэрбах.
Разговор на улице у входной двери. Человек, тоже живший в Улан-Удэ до восемнадцати лет:
– Ну, я, короче, стрелять начал, а потом то ли всех эльфов убил, то ли патроны кончились, не помню точно…
– Из чего стрелял-то?
– Из «Осы»… Да, я помню, что у меня в «Осе» было четыре патрона, и в кармане еще четыре, а утром уже ничего не было…(день)Очень жаркий день, соседи – Вячеслав и Коробейников – спят полезным дневным сном, новенький в нашей палате – жирно-богатый человек – сидит на скамейке у входа в отделение и перетирает базары с такими же клоунами, как он.
Он заставил уже окончательно продуктами весь холодильник, свою тумбочку и обеденный стол (Коробейников в шутку сказал ему, что у нас здесь нечто вроде круглого стола).
Нашего бедного холодильника определенно уже хватит, чтобы пережить наступающую ядерную осень.
Сижу на качелях. Сегодня яблочный Спас, и у меня в кармане тоже яблоко, но, честно говоря, совершенно случайно, просто ничего больше не осталось – печенье и вот это яблоко.
Беззастенчиво питаюсь колбасой и сыром соседей.
Коробейников вчера принес два пирожка, ему на аллее дала их какая-то юродивая старушка, типа, для больных, и он из соображений лояльности их взял.
Никто их есть не решился, только я – как единственный мужественный человек в палате.
Из дверей церкви несет елеем (или ладаном, или как там это еще называется).
Дождался наконец Ауэрбах, поговорили ни о чем, она предложила альтернативу: либо лечь к ним и купить лекарства, либо лечиться амбулаторно и тоже покупать лекарства.
И на то и на другое нужно много денег.
Я решил долежать здесь до субботы, так как Ауэрбах еще нужно заключение психолога, а психолога сегодня нет, и будет ли завтра – неизвестно.
С Олегом Сергеевичем тоже не удалось поговорить, в смысле, решить все окончательно – сначала он был занят, а потом резко срубился.
Завтра опять на допрос в Чкаловское РОВД.
Читаю книгу «СС. Орден «Мертвая голова», особо полезной информации там нет, да и автор все время перескакивает из одного года в другой – из сорок четвертого в тридцать второй – и так постоянно.
Подошел церковный охранник (не тот, о котором я писал выше, а другой, «старый» – из «21 дня»):
– В майке нельзя сидеть на территории больницы.
– Так жарко ведь…
– Нет, нельзя.
– С волками жить – по-волчьи выть…
– Вы всегда улыбаетесь, когда вам плохо? – спросила у меня Ауэрбах.
– Нет, ну что вы, – ответил я в обычной своей манере, – просто вы мне симпатичны и я хочу вам понравиться.
За те полтора часа, что я ее ждал, поговорил еще с несколькими пациентами «нормального» сектора. Все они говорят, что лечение им не помогло, и даже стало, наверное, хуже (некоторые там уже три недели).
Я, со своей обычной простотой, передал эти слова Ауэрбах. Она ужасно обиделась и начала сетовать на их неблагодарность.
Кого они там могут вылечить? Кого? На этом постоянно обновляющемся конвейере? За то время, что я ждал ее, она была занята только посетителями, но не пациентами.
Колеса, может быть, помогут, хотя хрен его знает, на меня почти совсем не действуют таблетки, такой организм, где иному хватит одной таблетки – мне нужно десять.20.08.2009 (четверг, утро)Спал плохо.
Бодрость и торжество материи жирно-богатого человека начинают утомлять.
По телеприемнику передача про мою любимую Печерникову.
Какая все-таки феноменальная женщина! Если искать хоть какое-то подобие Марины в постмаринином мире, то это, наверное, и будет Печерникова.
И тоже, кстати, лечилась от алкоголизма.
(день)Весь день жара. В субботу выписывают.
Ездил в город на допрос (ничего хорошего), повидался с женой.
Что будет дальше – не знаю.
По-видимому, ничего хорошего, но так, конечно, думать неправильно.
Были бы деньги… Но денег нет.
Читаю Лескова, оказывается, душевный писатель, впрочем, как я и предполагал.
Ходил к психологу. Цифровые тесты, как и в прошлый раз, я прошел, по ее словам, феноменально быстро. С запоминанием двенадцати зрительных образов за десять секунд вышло хуже: десять, десять, семь, девять, одиннадцать.
Потом нужно было распределить рисунки по категориям. Я разложил их на категории, как я их назвал, «Сельские мотивы», «Движущиеся механизмы», «Спортсмены», «Вода», «Рабы», – и оставил три карточки вне категорий, хотя по-ихнему, наверное, вышло неправильно. Например, рабочего с тачкой я положил к рабам (ко всяким рабочим лошадям, тянущим повозку), а рисунок фабрики с дымящимися трубами оставил вне категорий.
Завтра в девять тридцать надо идти снова, заключение же будет готово на следующей неделе, потом это заключение отнести Ауэрбах и так далее.
Скоро будет ужин. Вчера мы с Коробейниковым в дополнение к капусте, которая ожидалась на ужин, взяли из холодильника три сосиски (которые и поделили по-братски: одну целую и шестьдесят пять сотых сосиски – мне, одно целую и тридцать пять сотых – ему) плюс кетчуп. Сосиски нам подогрела раздатчица, и остальные в столовой, в чьих тарелках была только капуста, молча смотрели на нас – медленных гурманов.
21.08.2009 (пятница, утро)Все как обычно: проснулся в полвосьмого, ничего смешного не было. Коробейников впервые проснулся сам. Обычно я бужу его утром.
Вчера я ему сказал, как всегда:
– Уже без четверти девять, сейчас будет обход и потом завтрак. Он кое-как очнулся и ответил:
– Мне сейчас снился твой голос, как ты считаешь: «четверть», «половина», «половина» – и так очень долго, а потом резко: «без четверти»…
Сходил к психологу, закончил все оставшиеся тесты, ничего особенно интересного, разве что вчера прошел тест «Ассоциативные рисунки к словам» и сегодня надо было по рисункам восстанавливать слова. Я, как обычно, пользовался математическими символами.
Вопросы у психолога вызвал только один рисунок. Под названием «Счастье», где я изобразил пять карт одной масти.
– Что это значит? – спросила она меня.
– Это флеш, – ответил я.
– Ах да, – сказала она, – как же я сразу не догадалась… Она, оказывается, тоже играет в покер. Поговорили о печальной судьбе этой игры в нашей стране.
Она сказала, что когнитивные способности у меня еще не совсем разрушены и что у меня более развито правое полушарие, нежели левое, и что такие люди более подвержены воздействию алкоголя.
Довольно странное утверждение. Что-то не замечал я среди пациентов третьего отделения людей с воображением, если, конечно, не считать воображением белую горячку.
Ванную второго этажа закрыли навсегда после экзерсисов Коробейникова – он там замачивал джинсы в ванной и мылся в душе, и, типа, внизу стал протекать потолок.
Теперь приходится ходить на первый этаж.Помню, Коробейников после этого зашел в палату очень довольный и показал нам скрученный, мокрый и очень маленький кусок материи. – Это джинсы, – сказал он и на всякий случай, если его слова не дошли до нашего сознания, повторил: – Это джинсы.
Утром почему-то службы нет, звучат православные радиостихи о Ветхом Завете, а сейчас будет радиопостановка по Шмелеву. Пойду покурю за ограду.
(день)Я опять у церкви.
Значит, в романе будут главы «Зигфрид», «Анна» и «Элльга». Нужна ли четвертая сюжетная линия?
От лица Герхарда писать как-то не хочется, остается только от лица Эрики. А может, сделать Эрику влюбленной в Герхарда и т. д.?
Единственное, в чем я пока вижу ясность, – это в «Классификации». Так как эта вещь написана от лица девочки, больной шизофренией, мне будет легко написать еще страниц сорок «Классификации».
Записка, которую Герхард найдет на столе, должна быть написана рукой Эрики, хоть в этом есть какая-то ясность.
Значит, у меня сейчас есть семь написанных глав: шесть – Зигфрида и одна – Элльги, но кем начать восьмую главу – Анной или Эрикой, и если Анной, то в какой именно день?
Все это вопросы тяжелые и пока что неразрешимые.
Надо думать.
Коробейников постепенно превращается в зомби, ему навезли кучу продуктов и он только спит, много ест и смотрит телевизор.
Вячеслав выписался, завтра уеду я, и они останутся с Димоном (богато-жирный человек) наедине, тогда он, видимо, сломает его окончательно.
Коробейников ничего не читает, начал толстеть, и если раньше он робко говорил о пробежках, потом о прогулках, то сейчас уже молчит об этом и только изредка выходит на улицу покурить.
Я тоже много ем (а что делать – когда не пьешь, всегда много ешь, и наоборот), но все-таки меньше, чем они.
22.08.2009 (суббота, утро)Проснулся и подумал: семь тридцать две. Так и оказалось.
Сделал обычные процедуры, соседи еще спят.
На первом этаже встретил нарка в оранжевой футболке, его речь была абсолютно бессвязна, он уронил ложку, я ему подал ее, он снова уронил, и я пошел дальше.
Этого нарка (с золотыми руками) два дня пытались заставить мои добрые соседи по палате настроить DVD (у них он никак не настраивался), но нарк либо был под капельницей, либо еще по какой-то причине был нетранспортабелен, и только вчера вечером им удалось привести его в палату, он чуть не уронил телевизор, криво, не глядя воткнул несколько проводов – и сразу же появилось отличное изображение.
– Это что – абсент? – тускло спросил нарк, указывая на зеленую воду в бутылке Коробейникова.
– Тархун, – ответил тот, с тревогой наблюдая за нарком.
– Один хрен, – сказал нарк, сделал несколько крупных глотков и, не закрывая, уронил бутылку на пол и с трудом вышел из палаты.
Вчера за обедом (первое – пустые щи, практически одна вода) нарк:
– Ах, какая вкусная сегодня курочка, зажаристая, просто чудо, спасибо повару.
Коробейников ( радостно оборачиваясь ):
– Ты заметил, да? Правда заметил?
Нарк:
– Так а как не заметить? Тут полкурицы на тарелке лежит. Страус практически!
Коробейников:
– Ну ты хоть кости собакам оставь, которые у входа в будке сидят…
Нарк:
– Обязательно, всенепременно!
Съев щи и дойдя до второго (раздавленная вареная картошка), нарк как-то погрустнел, но вскоре, взбодрившись, сказал:
– Вот что мне еще нравится – что картошка у них настоящая, не из каких-нибудь там пакетиков…
Наташа (землячка Коробейникова) плотно сошлась с Адидасом (лысоватый мужичок лет пятидесяти, вечно бухой, как и Наташа), как я их зову – Красавица (это надо видеть Наташеньку, чтобы понять юмор) и Чудовище.
– А кто из них Чудовище? – вполне резонно спросил Коробейников.
Бухают с Адидасом каждый день (совместный уровень интеллекта – минус сто двенадцать), но ее все-таки тянет к Коробейникову, типа того. Коробейников выражается туманно: пусть синяки с нее сначала сойдут и протрезвеет, а там посмотрим.
Вчера вечером опять заходила к нам:
– Ну пойдем, поговорим с тобой, пойдем, земеля, поговорим…
Коробейников (не поворачивая головы):
– Завтра, завтра поговорим. При себе иметь чистую простыню, полотенце.
Я:
– И справку.
Коробейников:
– И справку…
Адидас сегодня утром уже вернулся с полным пакетом из магазина – люди занимаются делом, типа, не зря проводят свою жизнь.Итак, сегодня я выписываюсь. На первом этаже старшая сестра (милая блондинка с живым лицом, которую не портят даже ее сорок лет), глядя сквозь стекло двери первой палаты, другой сестре: – Посмотрите, как им весело, как они смеются, как они радостно разговаривают друг с другом, как им хорошо вместе…
Примечания
1
sic ( лат .) – «так».
Оглавление11.08.2009 (вторник, день)12.08.2009 (среда, утро)13.08.2009 (четверг, утро)14.08.2009 (пятница, утро)(день)15.08.2009 (суббота, утро)16.08.2009 (воскресенье, день)17.08.2009 (понедельник, утро)(день)18.08.2009 (вторник, утро)(вечер)19.08.2009 (среда, утро)(день)20.08.2009 (четверг, утро)(день)21.08.2009 (пятница, утро)(день)22.08.2009 (суббота, утро)

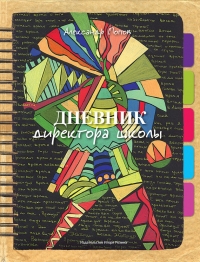







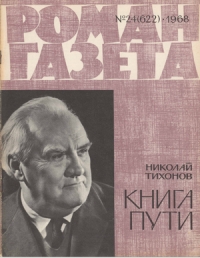
Комментарии к книге «14 дней в поезде, который совершенно никуда не идет», Станислав Сергеевич Курашев
Всего 0 комментариев