Ричард Йейтс Нарушитель спокойствия
Richard Yates
DISTURBING THE PEACE
Copyright © 1975, Richard Yates
All rights reserved
© В. Н. Дорогокупля, перевод, примечания, 2018
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
* * *
Высший класс! Пронзительная история, которая еще долго не даст вам успокоиться.
The Boston Globe«Нарушитель спокойствия» — пожалуй, самый сильный роман Йейтса со времен «Дороги перемен».
Kirkus ReviewsСамый тонко чувствующий автор двадцатого столетия.
The TimesЙейтс — реалист высшей пробы, наследник Хемингуэя с его энергичной скупостью и предшественник Рэймонда Карвера с его глубоким минимализмом. Но есть кое-что еще: некая особая, почти фицджеральдовская прозрачность…
Кейт АткинсонПо чутью и слуху Йейтс не знает себе равных.
EsquireОдин из важнейших авторов второй половины века… Для меня и многих писателей моего поколения проза Йейтса была как глоток свежего воздуха.
Роберт СтоунРичард Йейтс — писатель внушительного таланта. В его изысканной и чуткой прозе искусно соблюден баланс иронии и страстности. Свежесть языка, резкое проникновение в суть явлений, точная передача чувств и саркастический взгляд на события доставляют наслаждение.
Saturday ReviewУдивительный писатель с безжалостно острым взглядом. Подобно Апдайку, но мягче, тоньше, без нарочитой пикантности, Йейтс возделывает ниву честного, трогательного американского реализма.
Time OutТонкий, обманчиво прозрачный стилист, Йейтс убийственно точен в диалогах: его герои встают со страниц как живые.
The Boston GlobeРичард Йейтс, Ф. Скотт Фицджеральд и Эрнест Хемингуэй — три несомненно лучших американских автора XX века. Йейтс достоин высочайшего комплимента: он пишет, как сценарист, — хочет, чтобы вы увидели все, что он описывает.
Дэвид ХэйрЙейтс — это в каком-то смысле американский аналог Фердинанда Селина, разве что не такой брюзга. ‹…› Стандартные драматические коллизии не привлекают Йейтса, главная трагедия для него таится не в том, что с человеком происходит, но в том, что с ним никак не может случиться.
OpenSpace.ruЭтот бородатый человек с нездоровым лицом всю жизнь писал одну книгу — о том, что людям сложно ужиться друг с другом, а еще сложней — с самими собой. Ему, наверное, и в голову не приходило, что когда-нибудь его будут издавать в России. На родине Чехова, на которого книги Йейтса, откровенно говоря, очень похожи.
FashionTime.ruРоманы Йейтса называют хроникой «века беспокойства», беспощадным приговором тому времени, когда, как считал Йейтс, Америка упустила шанс на подлинную свободу, прельстившись мнимым потребительским счастьем. Десятилетия спустя его книги совершенно не устарели, наоборот: потеряв историческую актуальность, жизненная трагедия его героев стала еще болезненнее и острее.
КоммерсантЙейтс будто рентгеном высвечивает в своих персонажах все то меленькое, мелочное и жуткенькое, что люди обычно предпочитают скрывать от окружающих. И получается, что именно эти недоговорки, недопонимания, крошечные неврозы и идиотские заблуждения, вроде бы не сильно страшные сами по себе, в конечном итоге и накапливаются в снежный ком настоящей нешуточной трагедии.
Newslab.ruЙейтс пишет о хитросплетениях человеческих отношений и о вселенной души. И его тексты — точные, едкие, проникающие в суть и трагичные, как сама жизнь. Йейтсу не присуща витиеватость слога, он не нагружает текст лишними эпитетами. Все ясно и так: есть картинка, есть ситуация, есть герои. Есть неказистая, странная, путаная жизнь.
Санкт-Петербургские ведомостиЖизнь его не щадила в той же мере, в какой он не щадил ее. Однако Йейтс не стал ни новым Буковски, ни вторым Олгреном. Строгостью письма он напоминает, пожалуй, Генри Джеймса с его «Поворотом винта» или Тургенева лучших времен. Романы Йейтса социальны, но эта социальность естественна, как дыхание… Еще одним действующим лицом его романов является госпожа Пошлость — во всех ее милых, задушевных и смертоносных проявлениях, которые у русского читателя вызывают в памяти чеховские «Три сестры», чтобы не вспоминать хрестоматийные «Крыжовник» и «Ионыч». «Тонкая», «изысканная», «естественная», «чуткая», «проникновенная» — все эпитеты, которые сегодня с удовольствием прилагают к прозе Йейтса, совершенно адекватны.
OpenSpace.ruПосвящается Монике Макколл
Глава первая
Жизнь Дженис Уайлдер выбилась из колеи в конце лета 1960 года. И самым неприятным — самым жутким, как она говорила впоследствии, — обстоятельством оказалась внезапность этих перемен, заставших ее врасплох.
Дженис исполнилось тридцать четыре года, и у нее был десятилетний сын. Увядание молодости ее не особо печалило — все равно эта молодость не была беззаботно-счастливой и не изобиловала яркими событиями, — как не огорчало и то, что ее брак стал результатом скорее взаимного согласия, нежели пылкой любви. Ничья жизнь не идеальна. Ей нравилось размеренное течение дней; нравились книги, которых в их доме было великое множество; нравилась квартира с высокими потолками и широкими окнами, из которых открывался вид на небоскребы Среднего Манхэттена. Это жилище нельзя было назвать элитным или стильным, однако оно было вполне комфортным — а слово «комфорт» занимало почетное место в лексиконе Дженис Уайлдер. Другими излюбленными словами Дженис Уайлдер были «цивилизованный» и «разумный», а также «упорядоченность» и «взаимосвязанность». Мало что на свете могло ее расстроить или напугать, за исключением — иногда вплоть до стынущей в жилах крови — событий, выходивших за рамки ее понимания.
— Я не понимаю, — сказала она мужу в телефонную трубку. — Почему ты не сможешь прийти домой?
И тревожно оглянулась на их сына, который сидел на ковре и грыз яблоко, поглощенный вечерним выпуском новостей Си-би-эс.
— Что? — переспросила она. — Я тебя плохо слышу. Что ты сказал?.. Погоди, я сейчас перейду в спальню.
Растянув телефонный шнур и очутившись за двумя закрытыми дверями, она продолжила:
— Теперь порядок, Джон. Давай начнем сначала. Где ты сейчас находишься? В Ла-Гуардии[1]?
— Слава богу, нет. Я наконец-то выбрался из тамошнего бардака. Два часа круги описывал, прежде чем удалось взять такси. Как назло, мне попался один из этих несносных болтунов, который…
— Ты что, пьян?
— Ты дашь мне закончить? Нет, я не пьян. Я выпил, это верно, однако я не пьян. Знаешь, сколько раз мне удалось нормально поспать в Чикаго? За всю эту неделю? Ни единого раза. От силы пару часов за ночь, а в последнюю ночь вообще глаз не сомкнул. Ты, конечно, мне не веришь? Ты никогда не верила правде.
— Скажи мне только, откуда ты звонишь.
— Да я и сам точно не знаю: я в какой-то телефонной будке, рядом с Центральным вокзалом. Кажется, в «Билтморе». Нет, погоди — это «Коммодор»[2]. Я застрял в баре «Коммодора».
— Но, дорогой, это же совсем недалеко от дома. Тебе нужно всего лишь…
— Проклятье, почему ты меня не слушаешь? Я ведь только что сказал, что не смогу прийти домой.
Она скорчилась на краю широкой постели, упираясь локтями в колени и крепко сжимая трубку обеими руками.
— Почему? — спросила она.
— Боже мой, да по сотне разных причин. Если начну их все перечислять, то никогда не закончу. Во-первых, я забыл купить подарок для Томми.
— Брось, Джон, это же нелепо. Ему уже десять лет, и совсем не обязательно привозить подарок всякий раз, когда ты…
— Ладно, тогда послушай вот что: на совещании в Чикаго я познакомился с девчонкой-пиарщицей из одной алкогольной фирмы, а потом мы с ней пять раз трахались в «Палмер-Хаусе». Что ты думаешь об этом?
Подобные новости доходили до нее не впервые — с девчонками он путался частенько, — но это был первый случай, когда он высказался напрямик, под стать бравирующему подростку, который пытается шокировать свою маму. Она хотела ответить: «А что, по-твоему, я должна об этом думать?» — но промолчала, не доверяя собственному голосу: если тот прозвучит уязвленно, это будет ошибкой, а если сухо и сдержанно, будет еще хуже. К счастью, он недолго ждал ее ответа и продолжил:
— Сказать, что об этом думаю я? В самолете на обратном пути я то и дело поглядывал на свою льготную кредитку от авиакомпании. Знаешь, что мне хочется сделать с этой карточкой всякий раз, когда на меня находит такое настроение? Мне хочется послать все к чертям. Сесть в большую серебристую птицу и улететь в какое-нибудь место типа Рио, а там валяться под солнцем, пить и ничего не делать, абсолютно ничего не делать…
— Джон, я не собираюсь все это выслушивать. Просто скажи мне, почему ты не придешь домой.
— Ты в самом деле хочешь это знать, дорогая? Потому что я боюсь не сдержаться и убить тебя, вот почему. Убить вас обоих.
Пол Борг, как и сын Уайлдеров, в это время смотрел новости по каналу Си-би-эс. Он чертыхнулся, услышав телефонный звонок, потому что Эрик Севарейд как раз начал анализировать шансы сенатора Кеннеди обойти на выборах вице-президента Никсона[3].
— Я возьму трубку, — донесся голос его жены из шипяще-скворчащей кухни.
— Нет-нет, все в порядке. Я отвечу сам.
Иногда клиенты звонили ему домой и в таких срочных случаях предпочитали обходиться без лишних приветственных церемоний. Но этот звонок был не от клиента.
— А, — сказал он. — Привет, Дженис.
— Пол, извини, если оторвала тебя от ужина, но я очень беспокоюсь из-за Джона…
Он выслушал рассказ Дженис, прерывая его вопросами, и этих уточняющих вопросов оказалось достаточно, чтобы выманить из кухни жену, которая медленно пересекла комнату, выключила телевизор и подошла почти вплотную к телефону, изумленно округляя глаза. Когда он переспросил: «…боишься, что он может тебя убить?» — щеки жены порозовели и она, инстинктивно вскинув руку, прижала пальцы к своим губам.
— Да, конечно, я сделаю все, что в моих силах, Дженис. Я сейчас же отправлюсь туда и — для начала — просто с ним побеседую, попытаюсь выяснить, в чем проблема. А ты не паникуй и постарайся успокоиться, хорошо? Я приеду к тебе так скоро, как только смогу… О’кей, Дженис.
— О боже! — ахнула его жена, когда он положил трубку.
— Где мой галстук?
Она отыскала галстук и достала из стенного шкафа его пальто с такой поспешностью, что металлическая вешалка брякнулась на пол.
— Он что, и вправду грозился ее убить? — Жена прямо-таки сияла от возбуждения и любопытства.
— Ради бога, Натали. Нет, конечно же, это не было настоящей угрозой.
Судя по всему, у него что-то вроде нервного или эмоционального… Когда вернусь, я все тебе расскажу.
Он захлопнул за собой дверь, но жена тут же вновь ее открыла и прошла за ним полпути до лифта:
— Пол, а что с ужином?
— Поужинай без меня, я где-нибудь перекушу. И пожалуйста, не звони сейчас Дженис. Ее телефон не должен быть занят, чтобы я мог дозвониться до нее в любую минуту. О’кей?
Они жили в одном из новых высотных зданий к северо-западу от Гринвич-Виллидж[4]; Борг прикинул, что поездка до «Коммодора» займет не больше десяти минут. Выезжая с парковки и направляясь вдоль Гудзона, он получал удовольствие от превосходной управляемости своей машины и от собственных ловких маневров в потоке транспорта. Он был доволен тем, как изменился голос Дженис в конце их разговора, переходя от отчаяния к спокойствию и новой надежде, а также тем, что она первым делом обратилась именно к нему. Во время остановки на красный свет он быстро осмотрел себя в зеркале заднего вида, убедившись, что его галстук и прическа в порядке, а заодно полюбовавшись своим серьезным, вполне мужественным лицом. И лишь раздраженные автомобильные гудки сзади заставили его перевести взгляд на уже горевший зеленым светофор.
Борг заметил его сразу, как только вошел в бар на первом этаже «Коммодора». Джон Уайлдер сидел в одиночестве за столиком у дальней стены и, подперев лоб рукой, не отрывал взгляда от своего бокала. В планы Борга входило изобразить эту встречу совершенно случайной, что было не так уж и трудно: они оба работали в офисах по соседству и вечерами нередко встречались в этом баре, пропуская по паре бокалов перед тем, как разъехаться по домам. И сейчас, дабы все выглядело естественно, он пристроился на табурете у стойки, заказал виски с содовой — «сделайте послабее», — сосчитал до ста и только потом рискнул еще раз бросить взгляд на Уайлдера. Никаких перемен. Он пятерней взъерошил себе волосы, что само по себе уже говорило о многом, ибо Уайлдер всегда тщательно (чтобы не сказать тщеславно) следил за своей прической. Лицо его находилось в тени, что не позволяло определить степень его опьянения, или усталости, или… черт знает чего еще. В остальном же он выглядел так же, как всегда: низкорослый, но ладно скроенный, в добротном деловом костюме, при свежей рубашке и черном галстуке. На полу рядом с его коленом примостился дорогой чемодан.
Борг вновь повернулся к бару, надеясь, что Уайлдер его все же заметит и обратится первым. Потом досчитал до ста и, прихватив свой бокал, нарочито ленивой походкой пересек зал.
— Привет, Джон, — сказал он. — А я думал, ты в Чикаго.
Уайлдер поднял голову. Выглядел он ужасно: очень бледный, с бусинками пота на щеках и подбородке, с расфокусированным взглядом.
— Только что вернулся? — продолжил Борг, выдвигая стул и присаживаясь за его столик.
— Недавно. А ты что здесь делаешь в такой поздний час?
По крайней мере, Уайлдер еще не утратил чувства времени.
— Проторчал в офисе до семи. Адский выдался денек. Совещания, звонки. Бывает, что все наваливается разом. Да ты и сам это знаешь.
Но Уайлдер, похоже, его не слушал. Одним жадным глотком осушив свой бокал, он спросил:
— Сколько тебе сейчас, Пол? Сорок?
— Без малого сорок один.
— Сукин ты сын. А мне еще нет и тридцати шести, однако я чувствую себя старым, как библейский патриарх. Официант! Куда подевался этот чертов официант?
Когда он вновь повернулся к Боргу, его взгляд был уже ясным и сосредоточенным.
— Скажи мне вот что: как получилось, что мы оба женились на дурнушках?
Борг ощутил прилив крови к голове, от воротника до самой макушки.
— Ладно тебе, — сказал он. — Не говори глупостей.
— Тем не менее это правда. Черт, это еще как-то объяснимо в моем случае, поскольку я всегда был коротышкой. В детстве все говорили, что я похож на Микки Руни, а с такими данными сложновато клеить красоток[5]. Думаю, Дженис меня привлекла большими сиськами, которые в ту пору выглядели офигенно. Из-за этих сисек я перестал обращать внимание на все остальное: на ее короткие ноги, на сутулые плечи и на лицо — так бы и скрылся от всего навсегда у нее на груди. Очуметь! Но это мой случай, а как было с тобой? Я о том, что ты высокий. Как тебя-то угораздило связать судьбу с крокодилицей типа Натали?
— Ну все, хватит, Джон. Ты слишком много выпил.
— Черта с два! Откуда тебе знать, сколько я сегодня выпил? Просто мне нужно выспаться. Практически не спал всю неделю в Чикаго. Катался по постели в «Палмер-Хаусе», нервы на пределе, а в голове такая карусель, как… как сам не знаю что. Часть этого времени вместе со мной кувыркалась одна милая крошка, но даже это не помогло успокоиться. Но знаешь, что я тебе скажу? В результате я многое узнал о себе. Иногда бессонница наводит на неожиданные мысли — меня, по крайней мере. И я многое начал понимать. А потом, по дороге из аэропорта, мне попался один из этих болтунов-таксистов, и знаешь, что он сказал? Он сказал… О боже, да ты злишься на меня, Пол? Ты злишься оттого, что я назвал Натали крокодилицей?
— Я не злюсь. Мне тревожно за тебя. Ты плохо выглядишь и несешь всякую чушь. Честно говоря, я думаю, что в таком состоянии тебе не стоит сегодня возвращаться домой.
Уайлдер шумно и с явным облегчением выдохнул:
— Я и сам так думаю, старина. Я сейчас в кошмарном состоянии. Пытался сказать это Дженис, но она меня не поняла. Послушай, может, ты ей позвонишь? Объясни ей все.
— Конечно, Джон. Я позвоню ей позже.
— Я к тому, что она все поймет, если ты ей объяснишь. Она считает тебя чуть ли не Авраамом, язви его, Линкольном.
— Я все сделаю, Джон.
— Ты счастливый засранец, Пол, ты это знаешь? В том смысле, что юристы — это профессионалы, как врачи или священники: люди верят их словам, что бы они ни сказали. Ты не какая-то грязь под ногами, вроде меня. Таксисты, официанты — всю жизнь я терпел обиды от всяких тупых ублюдков. Всю жизнь они надо мной издевались.
— Так что же сказал таксист?
— А, этот умник. Он гнал как сумасшедший, и я много раз просил его сбавить скорость, я метался, как в клетке, на заднем сиденье, и тут он говорит: «Тебе бы к психиатру, приятель, нервишки у тебя ни к черту». Да, ты счастливец еще и потому, что у тебя нет детей. Боже, да если бы не Томми, я бы воспользовался своей льготной карточкой и на большой серебристой птице улетел в какой-нибудь Рио, чтобы валяться на солнечном пляже, пока не закончатся деньги, и потом всадить себе пулю в башку. Это кроме шуток.
— Шутки в сторону. Посуди сам, Джон: варит ли вообще твой котелок после недели без сна? Сейчас тебе нужна медицинская помощь, что-нибудь успокоительное. Давай-ка я отвезу тебя в больницу.
— Отвянь, Борг, ты вроде без дерьма, у тебя был трудный день в конторе, и я сожалею, что назвал твою жену крокодилицей, потому что она тоже без дерьма и, возможно, сейчас ждет тебя дома с кастрюлькой куриной лапши, но ты станешь полным дерьмом, если попробуешь закрыть меня в психушке.
— Никто и не думает тебя закрывать. Врачи установят причину бессонницы, дадут снотворное, и уже завтра утром — самое позднее, послезавтра — ты выйдешь из больницы обновленным. Каким был прежде. Всего-то дел.
Последовала пауза.
— Это надо обдумать.
Обдумывание подразумевало еще одну порцию выпивки, половину которой Уайлдер заглотил махом.
— У меня есть идея получше, — сказал он. — Отвези меня на Варик-стрит.
Борг поморщился, ибо с самого начала боялся услышать эту просьбу.
Несколько лет назад они вместе сняли задешево квартиру на Варик-стрит (полуподвал типа тех, что считаются непригодными для проживания) и обустроили там притончик для отдыха от семейной жизни. Привели все в божеский вид, побелили стены, поставили двуспальную кровать, домашний бар с неслабым выбором напитков, холодильник и кухонную плиту с распродажи и прочие мелочи для создания достаточного уюта, включая незарегистрированный телефон. Идея была такова: если кто-нибудь из них, по выражению Уайлдера, «поймает пташку» — то есть познакомится с милой и легкодоступной девицей, — он сможет уединиться с ней в этом гнездышке на вечер, а то и на пару ночей под предлогом срочной командировки в другой город и проведет это время как счастливый, почти раскрепощенный холостяк. Увы, в теории это звучало лучше, чем обстояло на практике: «пташки» попадались в их сети далеко не так часто, как хотелось бы.
— Сейчас тебе не стоит ехать на Варик-стрит, Джон.
— Почему это не стоит? Или ты на сегодня застолбил это местечко для себя?
— Нет. Я не появлялся там уже несколько месяцев. Но если тебе не помогла уснуть та девчонка в Чикаго, почему ты думаешь, что это сработает с какой-нибудь другой девчонкой здесь?
— Во всяком случае, стоит попробовать. Знаешь Риту? Ну, журналистку в Тайм-энд-Лайф[6]. Хотя сейчас ей звонить уже поздновато. Может, позвать ту пухленькую? Как ее имя? Та, что замужем за врачом? Нет, погоди: она ведь переехала в Бостон.
— Угомонись, Джон. Попробуй реально смотреть на вещи.
И тут Уайлдер сломался:
— Реально, да. Вот в чем моя проблема. Я никогда не был реалистом. Я тебе не рассказывал о своих киношных планах? — Он залпом допил виски. — Ладно, Борг, я согласен. Еще по стаканчику, и я стану самым отпетым реалистом. Официант!
Он вытянул руку с пустым бокалом так далеко в проход, что мог бы упасть со стула, если бы не ухватился свободной рукой за край стола.
— Нет нужды так громко кричать, сэр, — сказал, подходя, официант.
— А тебе нет нужды умничать, молокосос.
— Послушайте, мистер, я ведь могу отказаться вас обслуживать.
— Вот как? Но ты ведь не откажешься поцеловать мой зад, макаронник хренов?
— Все в порядке, — сказал Борг, щедро выкладывая на стол банкноты. — Все в порядке, мы уже уходим. Вставай, Джон, я возьму твой чемодан.
— Какого черта, или ты думаешь, что я не способен сам нести свой багаж? За инвалида меня держишь?
Однако справиться со своим багажом Уайлдеру оказалось непросто: он застрял в стеклянных дверях отеля и ругался так громко, что все головы повернулись в его сторону, а на пути до Лексингтон-авеню часто ставил чемодан на землю, однажды чуть не сбив проходившую мимо женщину, и все время жаловался то на затекшую руку, то на отдавленную ногу.
В машине он сидел тихо, пока Борг пробирался по запруженным центральным улицам Манхэттена, но, когда они ускорились на Седьмой авеню, начал беспокойно ерзать, приваливаясь плечом к пассажирской дверце и поднимая левую руку, словно защищал ею лицо.
— Ради бога, Пол, нельзя ли снизить скорость? К чему такая гонка?
— Успокойся, Джон, я и так еду медленнее обычного.
В отделении экстренной помощи больницы Святого Винсента вечер выдался суматошный — носилки с больными ставились прямо на пол, над ними склонялись интерны и санитары, немолодая женщина с окровавленным лицом громко стонала на диагностическом столе, — и Борг с трудом нашел дежурного врача: молодого человека в белом халате, сидевшего за столом в отгороженной ширмой нише.
— Доктор, это не то чтобы экстренный случай, но мой друг сильно переутомлен. Он не спал целую неделю и нуждается в успокаивающих средствах. Честно говоря, мне кажется, что у него что-то вроде нервного…
Впоследствии Борг не мог вспомнить, как он закончил эту фразу; ему запомнились только глаза доктора за толстыми стеклами очков, поочередно взирающие на каждого из них. Уайлдер уже давно ослабил галстук и воротник, а теперь попытался расстегнуть еще одну пуговицу рубашки, но так неуклюже, что пуговица оторвалась, упала и юлой завертелась на полу. Доктор предложил ему сесть, и он, шумно уронив свой чемодан, опустился в старомодное кресло-каталку из лакированного желтого дерева — других сидений поблизости не оказалось. Он выглядел маленьким и беспомощным в этом просторном кресле, особенно когда от толчка оно покатилось назад и было перехвачено возникшим невесть откуда санитаром.
— Пожалуйста, отойдите за перегородку, сэр, — сказал доктор Боргу, и тот безропотно подчинился.
Его ноги ныли от усталости. Он проголодался и хотел скорее со всем этим покончить. «Ах, я даже не знаю, как тебя отблагодарить, Пол, — скажет Дженис. — Не представляю, что бы я без тебя делала».
Ширма была тонкой. Борг не мог разобрать задаваемые доктором вопросы и ответы Уайлдера, но, судя по интонациям, это был рутинный опрос при приеме нового пациента: имя, возраст, место работы, ближайшие родственники, перенесенные ранее заболевания, предыдущие случаи бессонницы и так далее, — но затем обстановка резко накалилась.
— …Да, черт возьми, ты прав — я употреблял спиртное! А что бы ты, щенок, стал делать, когда не можешь уснуть? Обжираться сладостями?
Смотреть ночные телешоу? Мусолить свою пипиську? Так вот что я тебе скажу, многознайка ты сопливый, педик замухрышный! Слушай: за эту неделю я узнал массу вещей о самом себе. Я узнал такие вещи, до которых ты не дойдешь своим умишком и за сотню лет…
Возвращение Борга в нишу за перегородкой совпало с треском дерева: Уайлдер сломал подставку для ног в каталке, сгоряча ударив по ней каблуком.
— Эй, мистер, полегче! — подал голос санитар.
Доктор уже встал из-за стола, по которому были беспорядочно разбросаны бумаги, а Уайлдер тем временем продолжал:
— Всю жизнь я чувствовал себя грязью под чужими ногами и только теперь открыл в себе истинное величие! Да, во мне есть величие, и если ты не прекратишь на меня вот так пялиться, если мне откажутся помочь в этой вшивой богадельне, я сорву с твоей рожи очки и забью их в твою вонючую пасть! Я понятно выражаюсь?
Тут санитар развернул кресло с Уайлдером и покатил его по коридору, а доктор стал объяснять Боргу, что у них сейчас нет свободных мест, поэтому он может лишь перенаправить пациента в больницу Бельвю и позаботиться о том, чтобы машина «скорой помощи» была подана незамедлительно.
— Я им позвоню сейчас же, — добавил доктор. — Там вас будут ждать.
Борг и опомниться не успел, как очутился на узком боковом сиденье «скорой» с зажатым между ног чемоданом. Он всегда считал, что пациентов транспортируют на носилках лицом вверх, однако Уайлдера положили на живот и удерживали в таком положении усилиями трех-четырех санитаров, при этом он говорил без умолку, но разобрать удавалось только слова «дерьмо», «хреновый» и «величие». В розоватом полумраке Борг не сразу разглядел, что пиджак и рубашка Уайлдера задраны до самых лопаток. Он поправил одежду и слегка помассировал напряженную, мокрую от пота спину, надеясь, что это принесет бедняге хоть какое-то облегчение.
— Джон, — сказал он, не зная, слышит его Уайлдер или нет, — ты хотел отдохнуть и скоро получишь такую возможность. Успокойся, все будет хорошо.
Тем временем машина набрала скорость и включила сирену, которая с низких тонов перешла на пронзительный вой, сопровождавший их маневры в транспортном потоке.
— Ой! — раз за разом восклицал Уайлдер, как будто они ехали не по ровному асфальту, а по ямам и колдобинам, вызывающим болезненную тряску. — Ой!.. Ой!.. Ой!..
Больничный комплекс Бельвю, похожий на огромный лабиринт, поверг Борга в растерянность. Он стоял с глупо разинутым ртом и чемоданом Уайлдера в руке, пока ему не вручили бланк со штампом «Город Нью-Йорк, Департамент медицинских учреждений» и не разъяснили, что он должен вписать туда свое имя, номера домашнего и рабочего телефонов, а также слово «друг» в графу «Кем приходитесь пациенту». Он постарался справиться с этим как можно быстрее, чтобы успеть напоследок пообщаться с Уайлдером, но общения все равно не получилось: два дюжих санитара взяли вопящего Джона под руки и уволокли его в сторону лифта. Там их поджидал третий с креслом-каталкой, в которое его и впихнули, вдобавок привязав ремнями. Когда они загружались в лифт, Борг успел заметить на спинке кресла трафаретную надпись: «ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ».
— Будьте добры, — обратился Борг к первому попавшемуся человеку в белом, — скажите, какие процедуры у вас тут приняты?
Человек улыбнулся, пожал плечами и забормотал на языке, который мог быть итальянским или испанским.
— Вы доктор? — спросил Борг.
— Я? Нет. Доктор позади вас.
— Это ваш чемодан, мистер? — прозвучал за его спиной другой голос.
— Нет. То есть да… погодите… я его возьму.
Он обернулся:
— Доктор, извините, но я слегка… Хотелось бы узнать подробнее про ваши процедуры.
Этот врач был примерно одних лет со своим коллегой в больнице Святого Винсента, но гораздо смазливее: вполне сгодился бы на романтическую роль в каком-нибудь фильме про будни муниципальной клиники.
— Процедуры?.. Спасибо, милочка, — сказал он, адресуя благодарность медсестре, которая принесла ему гамбургер и бумажный стаканчик кофе.
— Всегда пожалуйста, — откликнулась та.
— Я, собственно, вот о чем, — продолжил Борг. — Вы не могли бы сказать, что будет дальше с мистером Уайлдером?
— Уайлдер… — Доктор поставил кофе на стол, взял планшет и просмотрел последние записи. — Ах да. Вы, должно быть, его сопровождающий? Мистер Берг?
— Борг. Я адвокат.
И он оправил свой пиджак как бы в подтверждение адвокатской респектабельности. Густой и теплый аромат гамбургера вызывал у него голодное головокружение.
— Что ж, мистер Борг, с ним будут обращаться так же, как с любым другим пациентом, — с набитым ртом произнес доктор. — Первым делом его погрузят в сон.
— А как скоро он сможет покинуть больницу?
— Трудно сказать. Сейчас вечер пятницы, а в понедельник будет День труда[7]. Психиатры выйдут на работу только во вторник и смогут заняться им не раньше среды или четверга. Дальнейшее будет зависеть от результатов обследования.
— Боже правый, я и забыл про День труда! Я бы не подписал бумагу, если бы… Я к тому, что все складывается очень… неудачно.
— На вашем месте я бы не переживал на сей счет, — сказал доктор, роняя с губ хлебно-мясные крошки. — Вы как раз поступили наилучшим образом. Судите сами — вот вы, как адвокат, наверняка имеете дело с полицией?
— Нет. Мои клиенты… Короче, с полицией я дел не имею.
— Ладно, пусть так. Но вы же видели, в каком он сейчас состоянии. — Он вытер губы рукавом белого халата, оставив на нем алое пятно кетчупа. — Что, по-вашему, будет лучше: какое-то время подержать его здесь в безопасности или позволить ему бродить по улицам, пока копы не задержат его за нарушение общественного спокойствия?
Глава вторая
Он проснулся весь в поту, вдыхая спертый, зловонный воздух. В глаза светила лампочка без абажура; он лежал на откидной койке, железная рама которой крепилась цепями к стене, подобно койкам на войсковых транспортах или в тюрьмах.
— Подъем! — раздался чей-то голос, а затем послышались другие звуки: стоны, проклятия, сиплый кашель, отхаркивание, громкий пук, скрип и бряканье коек, складываемых и закрепляемых вдоль стен. — Живее, живее! Подъем!
Когда он сел, спустив ноги с койки, чья-то рука схватила его за плечо и сбросила на пол. На нем была серая хлопчатобумажная пижама на несколько размеров больше нужной: босые ноги путались в штанинах, а рукава доставали до кончиков пальцев. Пошатываясь и щурясь от яркого света, он закатал рукава, обнажив пластиковый браслет с надписью: «Уайлдер, Джон К.». Затем наклонился, чтобы заняться штанинами, но вдруг получил пинок под зад, упал с упором на руки, а испуганно подняв глаза, увидел злобное лицо негра, одетого в пижаму под стать его собственной.
— Не выпячивай жопу, чувак. Это общий коридор, а ты загораживаешь проход. Кончай вошкаться, поднимайся и топай вперед.
Так он и сделал. Поверх сложенных коек уже натягивали проволочную сетку, не позволявшую ими воспользоваться, — это и вправду был коридор, и он предназначался для ходьбы. Окрашенный в разные цвета — желтый, зеленый, коричневый, черный, — он был не очень широк и не слишком узок; и по этому коридору перемещалось множество людей всех возрастов, от стариков до подростков, и разных цветов кожи: белых, черных, латиносов. Половина из них шагала в одну сторону, а половина в другую — жутковатое разнообразие лиц, то возникающих в свете ламп, то теряющихся в тени. Некоторые обменивались репликами, кто-то говорил сам с собой, но большинство двигались молча. Он шаркал босыми ногами по теплой шероховатой поверхности, пока не наступил на что-то скользкое, а затем, приглядевшись, заметил, что черный пол впереди был заляпан пятнами выкашлянной мокроты. Мало кто из ходоков имел замызганные хлопчатобумажные тапочки, и он им позавидовал. Некоторые закуривали, доставая сигареты из нагрудных карманов; и у него защипало нёбо от дыма. Заметив, что среди пижам тут и там попадаются смирительные рубашки, он чуть не расплакался, как малое дитя.
В обоих концах коридора находились затянутые стальной сеткой окна, серый свет за которыми свидетельствовал о раннем пасмурном утре либо позднем пасмурном вечере, а за окнами не было видно ничего, кроме глухих стен и вентиляционных труб.
Посреди коридора стоял чернокожий санитар в зеленой больничной форме, и Джон устремился к нему с намерением задать множество вопросов («Скажите, где моя одежда? Где мой бумажник? Где здесь телефон? Что вообще происходит?» и т. п.). Однако, оказавшись с ним лицом к лицу, он вдруг почувствовал себя очень маленьким и жалким, забыв обо всем, кроме своего уже готового лопнуть мочевого пузыря.
— Извините, — пробормотал он, — где здесь туалет?
— Вон там, — указал пальцем санитар.
За указанной дверью обнаружилась отделанная белым кафелем вонючая уборная, где люди восседали на унитазах или теснились вдоль длинного лотка писсуара.
— Вот ваша зубная щетка, — сказал ему другой санитар. — Не ошибетесь, потому что на ней написано ваше имя. Видите наклейку с фамилией Уайлдер? Почистив зубы, кладите щетку на эту полочку. Никто посторонний не должен пользоваться вашей зубной щеткой, и вы никогда не берите чужую, поняли?
Это чтобы не подхватить какую-нибудь заразу. Вам все ясно?
Однако безопасные бритвы в личное пользование не предоставлялись. Четверо-пятеро человек ждали, когда очередной пациент побреется перед мутным зеркалом под бдительным присмотром санитара.
— …Сполоснув бритву, кладите ее на полочку. И не пытайтесь фокусничать — все равно не сможете вынуть лезвие, оно сидит в гнезде намертво…
— …Душ полагается только новичкам. Только новичкам, я сказал! Не тебе, Гонсалес, а ну быстро вышел оттуда!..
В общей душевой не было мыла и ручек на кранах — температура воды не регулировалась. Новички топтались на скользком дощатом настиле, пытаясь хоть как-то помыться, после чего каждый получал полотенце в одну руку и свою стеганую пижаму в другую.
— А можно тапочки?
— Тапок нет. Все давно закончились.
Он снова очутился в коридоре, где не было других занятий, кроме ходьбы. Проходя мимо запертой двери с глазком, он заглянул в него и увидел тесную камеру, пол и стены которой были покрыты матами наподобие борцовских. Эта камера была пуста, но в соседней на полу лежал лицом вниз человек в смирительной рубашке, неподвижный, как труп, с расплывшимся на бедрах темным пятном мочи.
— …Мне все равно! Мне все равно!
Обе колонны ходоков подались в стороны, давая пространство устроившему этот спектакль белому парню, который молотил кулаками воздух посреди коридора. Он разделся до пояса, оторвал штанины пижамных брюк, превратив их в подобие боксерских трусов, и теперь вел «бой с тенью», пританцовывая, уклоняясь от воображаемых ударов противника и выполняя ответные джебы и хуки среди кружащихся золотистых пылинок.
— Как вы не понимаете, идиоты? Мне все равно! Видел бы меня сейчас папа!
— Хорошо, Генри, а теперь успокойся, — сказал санитар, приближаясь к нему сзади и кладя руку на его плечо, но «теневой боксер» круто развернулся и принял стойку лицом к нему:
— Не называй меня «Генри», тупой черномазый ублюдок! Зови меня Доктором, а не то я переломаю все твои поганые кости…
— Ты ничего никому не сломаешь, Доктор, — подключился второй санитар, и оба дружно схватили парня за руки.
Каждый из санитаров был крупнее и сильнее его, так что им не составило труда протащить его по коридору. Парень теперь даже не пытался вырваться, но продолжал кричать уже со слезами в голосе:
— Проклятье, я хочу, чтобы папа увидел меня вот таким! Вы не имеете права, тупые черные неграмотные ублюдки…
— Твой папаша не увидит тебя в любом случае, Доктор. Веди себя тихо, если не хочешь, чтобы Роско тебя вырубил.
— Да, да, вырубайте меня, только это вы и знаете! Нашли чем напугать. Жалкие кретины, ради чего вы это делаете? Чтобы вечером похвастаться перед своими женами: «Детка, я сегодня уделал белого доктора. Всадил настоящему белому доктору смачный заряд прямо в зад»? Имейте в виду, я запомнил ваши имена, как и вашего дружка Роско, который уже пытался сплавить меня в Уингдейл[8]. Я готовлю иск о зло… о зло… о злоупотреблениях в этой больнице, и, когда все факты… когда факты выплывут наружу, вас всех…
Он исчез из виду, а продолжение его речи потонуло в смехе, свисте и улюлюканье. Еще один негр в зеленом быстро шагал по коридору со шприцем в руке. Он на секунду задержался под лампой, поднес шприц к глазам, слегка надавил на поршень, так чтобы на кончике иглы появилась капелька, и вновь устремился в сторону крикуна.
— Всади ему, Роско! — подзадорил кто-то. — Угости его доброй дозой.
Последовал новый взрыв смеха, а затем колонны продолжили движение по коридору.
Уайлдер почувствовал прикосновение к своему локтю, и тихий голос рядом произнес что-то вроде:
— Хочешь меня поцеловать?
— Что?
Ему улыбался хорошенький темнокожий юнец в сделанном из пижамной куртки тюрбане, свободный конец которого эффектно драпировал его плечи, подчеркивая красоту обнаженного торса. В кулаке юнец сжимал свой частично эрегированный пенис.
— Хочешь меня поцеловать?
— Нет.
— Да я ведь не против. Совсем не против. Ты можешь меня поцеловать, если хочешь, но сначала ты должен сказать: «Я люблю тебя».
Настало время завтрака. В одном конце коридора распахнулась двустворчатая дверь, к которой тотчас ринулись люди из обеих колонн, и началась давка.
— Эй, там, не напирайте! Не напирай, кому сказано! Подходите по двое. А ну выстроились по двое, или все останетесь без еды!..
Ощущение безысходности только усилилось, когда он попал в столовую: пациентам приходилось в полусогнутом состоянии продвигаться бочком в щели между длинным столом и несдвигаемой скамьей с высокой спинкой. Уайлдер очутился между дряхлым беззубым стариком и жирным парнишкой с широко разинутым слюнявым ртом — возможно, от боли, поскольку край столешницы врезался ему в пузо. Каждый получил миску клейкой овсяной каши на консервированном молоке и кружку тепловатого кофе. Уайлдер и не осознавал, насколько он голоден, пока не зачерпнул кашу солдатской оловянной ложкой, явно попавшей сюда с распродажи излишков армейского имущества. Если он был в состоянии есть эту кашу и пить этот кофе, а потом еще смог бы разжиться сигаретой и найти телефон, сохранялась надежда на возвращение в нормальный мир. Старик не мог донести трясущуюся ложку до своих десен, не разбрызгав большую часть каши, а жирный парень взял свою миску обеими руками и погрузил в нее лицо, чавкая по-собачьи, и каша стекала ему на живот. За соседним столом раздался пронзительный, панический вопль:
— Я хочу выйти отсюда! Пустите меня! Пустите меня!..
Позавтракав и покинув столовую, он заметил, что наименее чокнутные на вид пациенты группируются в том конце коридора, где рядом с главной дверью на высоком конторском табурете восседал полисмен — не больничный охранник, а настоящий нью-йоркский коп со значком, дубинкой на поясе и пистолетом в кобуре. Он размеренно жевал резинку и не общался ни с кем, даже с санитарами, а солнцезащитные очки с зеркальными стеклами не позволяли заглянуть ему в глаза — вместо них вы видели лишь двойное отражение собственной вытянутой физиономии. И все же это место казалось лучше всех прочих: здесь было больше шансов обнаружить проблески здравомыслия.
— А вот и Коротышка! Как самочувствие сегодня, приятель?
Сказавший это человек был не намного выше Джона и к тому же на редкость уродлив — землистого цвета лицо с близко сидящими глазами и гнилыми зубами, обнаженными в широкой безрадостной улыбке, — но притом нагрудный карман его оттопыривала сигаретная пачка.
— Я видел, как тебя приволокли прошлой ночью, — продолжил он. — Ты был сильно на взводе.
— Вот как? — Уайлдер не помнил ничего о прошлой ночи, кроме поездки на «скорой» и Пола Борга, трущего ладонью его спину.
— Вопил, визжал и тараторил без умолку. Тебе всадили дозу, но и после этого ты не вырубился. И я подумал: «Вот это реально крутой клиент. Должно быть, здоровенный сукин сын». А потом я увидел, что ты даже меньше меня, и как начал хохотать! Чуть не помер со смеху.
— Да, понимаю… Не угостишь сигареткой?
— Я тебя спасу, — заявил урод и отвернулся.
— Не спасет, — раздался рядом другой голос. — Он никогда никого не спасает. Натуральный говнюк.
В этот момент отворилась дверь, впустив струю прохладного воздуха — не свежего, но прохладного и не столь затхлого хотя бы потому, что исходил он из более просторного и не так загрязненного коридора, — и тотчас грянул хор приветственных воплей:
— Чарли!.. Привет, Чарли!.. Как дела, Чарли?..
Вошедший — негр в зеленой санитарской форме — был далеко за шесть футов ростом и сложен как боксер-тяжеловес, возвышаясь над всеми окружающими. Он сунул в карман связку ключей и неторопливо покатил по коридору медицинскую тележку.
— Доброе утро… доброе утро… — говорил он густым басом, и на сей раз даже коп откликнулся: «Доброе утро, Чарли», перед тем удостоверившись, что тот не забыл запереть за собой дверь.
— Чарли, можно тебя на секунду?
— Чарли, ты помнишь, о чем я тебя вчера просил?
Они стекались отовсюду, окружая его плотным кольцом, а он продолжал катить тележку, пока не остановился посреди коридора, после чего поднял голову и обратился сразу ко всем.
— Угощение, джентльмены! — возгласил он, поворачиваясь сначала в одну, а затем в другую сторону вдоль коридора. — Угощение, джентльмены!
На полках медицинской тележки теснились стаканчики с жидкостью, внешне похожей на виски или на кленовый сироп, и, хотя эта жидкость не являлась ни тем ни другим, в ней можно было уловить слабый привкус обоих.
— Ты принес мне газету, Чарли? — спросил мужчина с целой пачкой грязных газет под мышкой.
— Будет вам, мистер Шульц, у вас и без того полно газет. Сначала используйте те, что есть, и тогда я, может быть, принесу вам новую.
Чарли обернулся к одному из санитаров:
— Сколько новичков поступило за прошлую ночь?
— Восемь. Теперь на отделении сто семнадцать человек.
Чарли поморщился, качая головой:
— Это перебор. И еще будут новые поступления сегодня, и завтра, и в понедельник. Нам негде их всех разместить.
Звякнув ключами в связке, он открыл дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен», за которой Джон успел разглядеть нечто вроде маленькой комнаты отдыха — стол, стулья, полки с посудой, электроплитка, кофейник, — и вышел оттуда с двумя пачками сигарет.
— Только по одной, джентльмены, — сказал он толпе, жадно сплотившейся вокруг. — Станьте в очередь справа от меня, пожалуйста. По одной штуке в одни руки. Вы не в счет, мистер Джефферсон, у вас уже есть пачка в кармане. Сами знаете правила: это казенные сигареты…
С приходом Чарли, с этим «угощением» и «казенным куревом», обстановка слегка изменилась к лучшему — свет ламп уже не так резал глаза, а тени не казались столь темными. Теперь обнаружилось и кое-что, ранее не замеченное Уайлдером: длинная скамья вдоль одной из стен и еще несколько мест для сидения в промежутках между секциями сложенных коек, а также ниша с четырьмя засаленными матрасами в дальнем конце коридора, где можно было прилечь без риска угодить под ноги дефилирующих пациентов. Еще здесь имелись шесть глухих камер с мягкими полами и стенами, в одной из которых лежал спеленатый смирительной рубашкой пациент, рано утром боксировавший с тенью и грубо оскорблявший санитаров. Рот его был широко открыт и перекошен, как будто яростный вопль мог в любую минуту прорваться сквозь наркозный сон, а его темные волосы блестели от пота.
— Кто вырубил доктора Спивака? — раздался зычный голос Чарли.
— Это сделал Роско, Чарли. Уж очень он буянил.
— А что с его штанами?
— Он сам их порвал, корчил из себя боксера. Потом разорался про злоупотребления, про иск и все такое. Не было другого способа его утихомирить.
— Не понимаю. Мне казалось, что в последнее время он идет на поправку.
— У него бывают хорошие дни и дурные дни, Чарли.
— Мм, — протянул Чарли, вновь доставая связку ключей. — По крайней мере, мы можем отпереть дверь. Я не хочу, чтобы он проснулся и обнаружил себя в запертой камере. И найдите для него новую пижаму.
— Хорошо, Чарли.
— Ах, Чарли, ты прекрасный человек, — молвил тщедушный трясущийся старикашка лет семидесяти. — Ты лучший из людей. Клянусь Богом… клянусь Богом, ты воистину святой, Чарли.
— Спасибо за комплимент, мистер Фоли, но я уже раздал все сигареты, и я хорошо помню, что одна из них досталась вам, поскольку вы пытались заполучить сразу две.
— Матерь господня, как вы можете говорить о каких-то сигаретах? Я нуждаюсь в духовной поддержке, Чарли. В духовной поддержке.
— Это не по моей части. Почему бы вам не посидеть на скамеечке? А я пока займусь другими пациентами. Вот вы, сэр, вы один из недавно прибывших? Как вас зовут?
— Уайлдер. Джон Уайлдер.
— Вы получили порцию угощения, мистер Уайлдер?
— Ага, «угощение», — вмешался старикашка. — Знаете, что это такое? Это формальдегид.
— Довольно, мистер Фоли! Ступайте!
Когда тот удалился, Чарли продолжил:
— Это паральдегид, мистер Уайлдер. Вам будут давать его трижды в день, он очень полезен. Успокаивает нервы.
— Ясно. А вы здесь старший санитар или… или кто?
— Я дежурный медбрат, моя смена длится с восьми до пяти.
— Тогда у меня к вам просьба: я должен срочно сделать телефонный звонок, это очень важ…
— Нет-нет, мистер Уайлдер, отсюда вам звонить никто не позволит.
— А как скоро… то есть когда меня сможет принять доктор?
И только теперь он узнал, что психиатры выйдут на работу во вторник и смогут им заняться, скорее всего, не раньше четверга, а продолжительность его дальнейшего пребывания в клинике будет зависеть от их вердикта.
— А до той поры, — сказал Чарли, — постарайтесь устроиться здесь по возможности комфортно.
Он покатил тележку дальше по коридору, сопровождаемый другими просителями, а Уайлдер стоял и глядел ему вслед, казалось, целую вечность.
— Комфортно… — пробормотал он и затем вдруг сорвался с места, бегом устремляясь за Чарли, вновь наступая на скользкую мокроту и сам удивляясь пронзительности своего голоса. — Комфортно устроиться в этом гадюшнике? Да ты рехнулся, что ли?
Чарли развернулся, возвышаясь над суетливым окружением и предупреждающе поднимая длинный указательный палец:
— Мистер Уайлдер, я вам рекомендую понизить тон и сдерживать свои эмоции. И повторять это дважды не буду.
Желтый, зеленый, коричневый и черный; черный, коричневый, зеленый и желтый. Единственным способом отгородиться от звуков и запахов этого места была безостановочная ходьба с концентрацией внимания на раскраске коридора. В одну сторону мимо уборной до копа у двери; в другую сторону мимо столовой, потом разворот. Человек небольшого роста мог двигаться в такой толпе, оставаясь практически незаметным, если он держал рот на замке, смотрел прямо перед собой и избегал задевать окружающих. При этом он мог без помех обдумывать свое положение и строить планы действий; он мог даже беззвучно расплакаться, и никто бы этого не заметил.
Но он не расплакался, а вместо этого занял единственное свободное место на скамьях в коридоре; и тотчас по его бедру скользнула коричневая рука.
— Я не против.
— Что?
— Я не против. Можешь меня поцеловать, если хочешь, но сначала ты должен сказать: «Я люблю тебя».
Он поднялся и пошел дальше, а еще через три круга увидел, что один из матрасов в дальнем конце коридора не занят. Сидеть было лучше, чем ходить, а лежать было еще лучше, несмотря на густой запах пота и грязных ног. Проскользнув туда, он распластался ничком на матрасе — к чертям все на свете! — и даже смог недолго вздремнуть (либо представить себя спящим), но, когда вновь открыл глаза, оказалось, что его соседи на уложенных впритык матрасах вовсю занимаются мастурбацией.
После обеда опять прозвучал призыв: «Угощение, джентльмены!» — и опять раздавались казенные сигареты, а потом он очутился в бредущей толпе рядом с доктором Спиваком. Джон не сразу его узнал, поскольку тот был облачен в новую пижаму, аккуратно причесан и не выказывал признаков истерии, при этом на лице его застыла сардоническая ухмылка.
— Это тебя доставили прошлой ночью?
— Да.
— Половина этих несчастных ублюдков даже не понимают, где они находятся. А ты понимаешь, где ты сейчас?
— В Бельвю.
— Это слишком общее определение, приятель. Госпиталь Бельвю — огромное медицинское учреждение. А мы…
— О’кей: мы сейчас в психпалате.
— И ты серьезно полагаешь, что здесь только одна такая палата? Бог мой, старик, да в Бельвю целое крыло полностью занято отделением психиатрии. Семь этажей, и чем выше, тем хуже. А мы на самом верхнем, здесь хуже некуда. Это «Палата для мужчин, склонных к насилию». Ты что, слепой? Разве ты не видишь этих клоунов в смирительных рубашках? Не видишь копа у двери? Здесь полагается дежурить копу, поскольку на некоторых пациентов заведены уголовные дела. То есть это преступники. Но кто именно из них преступник, здесь не известно никому, в том числе, думаю, и санитарам. Сомневаюсь, что даже Чарли это известно.
До этого момента он шагал быстро, так что Уайлдер, спотыкаясь, едва за ним поспевал, но тут вдруг резко остановился, схватил Джона за предплечье, развернул его лицом к себе и нацелился в него указательным пальцем:
— А как насчет тебя, а? Ты преступник?
— Нет. Может, отпустишь мою руку?
Спивак рассмеялся и ткнул его кулаком в плечо. Вроде бы дружеский тычок, но получилось весьма болезненно.
— Да ладно, я же просто шучу. Я по твоему лицу сразу понял, что с тобой все в порядке. Знаешь, на кого ты похож? На малыша, потерявшего свою маму в универсальном магазине. Как тебя зовут?
И на протяжении следующего часа доктор Спивак продолжал говорить, водя Уайлдера туда-сюда по коридору и лишь изредка прерывая свой рассказ небольшими полезными советами.
— Никогда не ложись тут спать, разве что станет совсем невмоготу, — заметил он, проходя мимо ниши с матрасами. — Это логово онанистов.
Но большая часть его рассказа была автобиографичной. Он происходил из «медицинской семьи», по его выражению. Все его предки по мужской линии были выдающимися врачами в Германии, пока его отец в тридцатых не переехал вместе с семьей в эту страну. Его старший брат был «спецом высшей пробы: первостатейным кардиологом в Корнеллском медицинском центре». Второй брат также неплохо устроился, если учесть, что великим умом он никогда не блистал: получил работу рентгенолога в госпитале «Маунт-Синай».
— Вообще-то, он тупица, но его тупость того типа, что не бросается в глаза. И он женат на самой шикарной телке, какую ты когда-либо видел: одна из тех крупных висконсинских блондинок с ногами, как… как… с ногами, просто не поддающимися описанию.
Еще у него имелась сестра, которую угораздило спутаться с психиатром, — что может быть глупее и позорнее? Его родная сестра, подумать только, стала женой одного из этих фрейданутых поганцев! Затем наконец дошла очередь до самого младшего и самого лучшего члена семьи: до него самого.
— …Я сполна испил свою чашу страданий после прибытия в Америку. Моя мама вскоре скончалась; в школе меня называли писклявым жиденком и периодически расквашивали нос — но не волнуйся, я не собираюсь пичкать тебя жалостными историями. Я всегда верил, что все смогу преодолеть, и я преодолел. Кстати, в сексуальном плане у меня никаких проблем, так что на сей счет будь спокоен. Никогда не чувствовал в себе склонности к гомосятине и всяким извращениям. Потерял невинность в пятнадцать лет на пляже в Фар-Рокэвей и с той поры натурально барахтался в кисках. Именно что барахтался. Ты женат, Уайлдер?
— Да.
— Что ж, некоторым этого бывает достаточно, но я буду сукиным сыном, если какая-нибудь телка охомутает меня до того, как я сам почувствую себя готовым к браку. Чем ты занимаешься, в смысле работы?
— Продажами.
— Вот как? Это забавно. А на вид ты не настолько туп. У торгашей, по моим наблюдениям, обычно низкий скошенный лоб. Что продаешь?
— Пространство.
Доктор сделал шаг в сторону и посмотрел на него с изумлением:
— Боже правый, да осталось ли хоть что-нибудь в этом мире, не охваченное продажами? Ты продаешь пространство? Какое именно? Воздушное или космическое?
— Думаю, ты сам знаешь, о чем я, — сказал Уайлдер. — Рекламное пространство на страницах журнала.
— А, вот оно что, понимаю. Рекламное пространство. В каком журнале?
— «Американский ученый».
— Кроме шуток? Это впечатляет. Они публикуют очень заумные, навороченные тексты. Если ты врубаешься в такие вещи, ты должен быть…
— Я не понимаю, что пишут в этих журналах. Я просто их продаю.
— Как же ты можешь продавать то, в чем сам ни черта не смыслишь?
— А разве не тем же занимаются психиатры?
За этот ответ он был вознагражден еще одним болезненным тычком и визгливым смехом Спивака.
— А ты не так прост, Уайлдер, — сказал он. — Ну вот, стало быть, я всегда верил, что все смогу преодолеть, и я преодолевал. Сплошь высшие баллы в колледже и мединституте, потом стажировался в клинике Джонса Хопкинса[9] и пару лет назад получил работу здесь. Терапевтом. Считал, что работать в Бельвю — это большая честь; и моя семья считала так же. И я был очень даже хорош в своем деле. Это не бахвальство: я действительно был отменным спецом. А потом — бац! Нехитрая административная уловка — и вот где я очутился в результате. Оцени иронию судьбы.
Уайлдер хотел бы услышать поподробнее об административных уловках, но предпочел воздержаться от вопросов, а Спивак после паузы вновь сменил тему.
— Говоря о гомиках, — сказал он, — ты уже в курсе, что палата ими просто кишит? Извращенцы, наркоманы, опустившиеся пьянчуги. Ты заметил, как часто тут говорят о спасении? «Спаси меня, дружище» и все такое? Под «спасением» здесь подразумеваются сигареты — просьба оставить окурок, — но на самом деле эти слова превратились в подобие примитивной молитвы: ведь их можно услышать и от людей, которые совсем не курят. Все они хотят быть спасенными. Вообще здесь многие подвинулись на религии. Один тип возомнил себя Иисусом Христом во втором пришествии. Возможно, он тут не один такой — Иисус популярен среди маниакально-великих, — но этот вдобавок еще и буйный. Долгое время держится тихо, а потом как закатит сцену! Побудешь здесь подольше — наверняка увидишь. Еще одна деталь: ты заметил, что санитарами здесь работают одни ниггеры? А знаешь почему?
— Нет. Почему?
— А у самого нет догадок? Может, потому, что они от природы «добрые» и «обходительные»? Или потому, что у них врожденное чувство ритма? Еще они боятся привидений и без ума от арбузов[10]. Ты что, только вчера родился? Да просто потому, что ни один белый не согласится работать в таком месте за те деньги, которые им платят. Знаешь, сколько получают эти санитары, тот же Чарли? Угадай.
— Извините, мистер Уайлдер, — произнес Чарли, возникая перед ними. — Эта пижама вам не по размеру, не так ли?
— Да… великовата.
— Иногда наши ночные дежурные проявляют небрежность в таких вещах.
У нас предусмотрено всего три размера пижам: малый, средний и крупный. Человеку вашего телосложения явно требуется малый размер. Я об этом позабочусь.
— Да, позаботься об этом, Чарли, — сказал Спивак. — А заодно почему бы тебе не разобраться с твоим дружком Роско? Я хочу, чтобы этому мелкому гаду было назначено дисциплинарное взыскание. А если он вырубит меня еще хотя бы раз, я отберу у него лицензию. Я понятно выразился?
— Хорошо, только постарайтесь не повышать голос, Доктор.
— Чарли здесь единственный мало-мальски приличный сотрудник, — сказал Спивак, когда они вдвоем продолжили ходьбу по коридору. — Кстати, тебе известно, что это жуткое строение было возведено еще в девятнадцатом веке и с той поры нисколько не изменилось? Взгляни сюда. — Он указал на скамью у стены. — А на столы и скамейки в столовой обратил внимание? Это же все старинные вещи! Антиквариат! Если показать это какому-нибудь ушлому антиквару, он с ходу выложит по тысяче баксов за штуку. Да, вот еще тебе совет: остерегайся Роско. В мое первое здешнее утро он на полтора часа оставил меня сидеть в моей собственной моче. Полтора часа! И это после того, как я семь раз попросил его выделить мне медицинское судно. И всякий раз этот ублюдок отвечал: «Идите в уборную. Идите в уборную».
— А почему ты не пошел в уборную?
Спивак раздраженно шлепнул себя ладонью по лбу:
— Ты упускаешь самую суть, Уайлдер! А суть в том, что, если пациент просит у санитара судно, санитар должен его предоставить. Черт, мне было померещился в тебе проблеск интеллекта, но ты такой же болван, как все эти долбаные… Знаешь что, исчезни ты с моих глаз на какое-то время, о’кей? Завтра меня придут проведать отец и сестра, и мне надо кое-что заранее обдумать.
И вновь Уайлдер остался один среди толпы, но вскоре ему действительно выдали пижаму малого размера, что подействовало на него ободряюще. Затем он присоединился к группе пациентов, набившихся в одну из «мягких камер», дверь которой забыли запереть. Среди прочих там был и человек с газетами, разложивший на полу часть своей коллекции и занятый ее изучением, а также два подростка, белый и черный, которые сидели у дальней стены, увлеченно беседуя.
— …В тот день мы тусовались на пустыре за рекламным щитом «Брейеровского мороженого», — говорил белый, — и я сглупил: надо было пойти домой, когда уходили другие. Но получилось так, что уже в сумерках мы остались за тем щитом вдвоем с Коварски, сначала курили и болтали ни о чем, а потом он…
— Погоди, Ральф, не так быстро. Кто такой этот Коварски?
— Я тебе о нем рассказывал. Самый крутой парень в нашей округе; все ребята его боятся. Я о том, что он реально здоровенный, ругается через каждое слово и уже имеет судимость. Взлом и проникновение. Ему девятнадцать. Так вот, когда все уже расходились, он предложил мне остаться, и я сказал: «О’кей». Я понимал, что нарываюсь на проблемы, но мне это вроде как… вроде как…
— Польстило, да? — подсказал черный парнишка. — Это я вполне могу понять. И что было потом?
— Потом он начал угощать меня сигаретами и говорить всякие гадости, перечислять всех девчонок в старшем классе, с которыми он трахался, ну и так далее. Сам знаешь.
— Да, я знаю парней такого типа. А тебе сколько лет, Ральф?
— Пятнадцать. То есть это сейчас мне пятнадцать, а тогда было четырнадцать. И вдруг он подходит ближе, спускает штаны и говорит мне… ну, ты понимаешь. Стать на колени. И отсосать.
— Ну и дела!
— Я сказал «нет» и дал было деру в обход щита, но он поймал меня и сказал, что сломает мне руку. Меня это не очень испугало — я знал, что он не рискнет ничего такого сделать, потому что и так уже стоит на учете в полиции, — и тут он говорит: «О’кей, мозгляк, у тебя есть выбор: или ты сейчас меня ублажишь и никто ничего не узнает, или беги домой, но тогда я сделаю так, что ты до конца жизни жалеть будешь».
— Ни фига себе! — выдохнул черный.
— Ну, я убежал, а на другой день прихожу в школу, а там со всех сторон шуточки типа: «Эй, Ральф, каково это на вкус?» Грязные шуточки. Или гладят себя промеж ног со словами: «Может, прогуляемся за тот рекламный щит, Ральф?» А чуть позже, в кондитерской, кто-то придумал мне кличку: Вольп Членосос. Вольп — это моя фамилия. Так стали называть меня все, от малолеток до старшеклассников. И даже девчонки. Понимаешь, что сделал этот Коварски — он сказал всем, будто я сам напросился у него отсосать.
Второй подросток взглянул на него удивленно:
— Но почему ты не рассказал им правду?
— Да я рассказывал! Рассказывал снова и снова, тыщу раз, но все только смеялись. Что значило мое слово против его слова? Коварски — крутой чувак, а кто станет верить мне?
— Да, это печальный случай.
— В конце концов слухи дошли до моего отца.
— И что отец? Он тоже тебе не поверил?
— Понимаешь, он узнал это от отцов других детей. И вот он говорит: «Ральф, я хочу, чтобы ты рассказал мне в точности все, что случилось за тем рекламным щитом». Ну я и рассказал. «А я слышал совсем другое», — говорит он. Я начал клясться, что говорю правду, а он просто сидит и смотрит на меня так, словно я… словно я… даже не знаю что. И с тех пор, с тех самых пор…
Ральф не смог завершить фразу, отвернулся к стене и начал выдавливать прыщи на утратившей всякое выражение физиономии. Ногти на его руках были обкусаны до мяса.
— Да, жуткая история, — посочувствовал черный. — Слушай, у меня есть предложение. Давай угадывать фильмы. Ты знаешь эту игру?
Ральф не ответил.
— А как насчет тебя, приятель? Как тебя зовут?
— Джон.
— Я Фрэнсис, а это Ральф. Хочешь поиграть в фильмы? Это очень просто.
Я скажу фразу, а ты попробуй угадать, из какого она фильма. Вот, например, я говорю: «Если честно, дорогая, мне на это наплевать». Из какого это фильма?
— Ну, я так с ходу не…
— Не догадался? Черт, да это же «Унесенные ветром»! Кларк Гейбл говорит эти слова Вивьен Ли. Попробуем еще раз?
— О’кей.
— Сейчас вспомню, погоди минуту. — Фрэнсис начал тереть глаза в попытке сосредоточиться. — У тебя что-нибудь есть, Ральф?
— Нет.
— А у тебя, Джон?
— Пока нет.
— Сейчас-сейчас, погодите. Я знаю кучу отличных фильмов.
Однако его лицо, растерянное и мучительно-напряженное, наводило на мысль, что эта куча не так уж велика.
— Не все фильмы мне нравятся, — сказал он. — Например, «Психоз» — видели его? Который с Энтони Перкинсом[11]? Я к тому, что это дрянной фильм, вы понимаете, о чем я?
— Мм.
— Понимаю.
— Давайте подумаем еще.
И он подумал еще с минуту, а потом сказал:
— К черту, мне надоело играть в фильмы. Ты любишь музыку, Джон?
— Конечно. А какого рода музыку?
— Любого. Вот эта тебе нравится?
Он оторвал зад от пола, присел на корточки и начал интенсивно похлопывать себя по бедрам в стиле игры на бонгах, наконец поймал нужный ритм, запрокинул голову, закрыл глаза и начал петь — или, скорее, завывать и взвизгивать, выдавая что-то вроде ультрапрогрессивного джаза или африканских ритуальных заклинаний. Ральфу это, похоже, понравилось: его глаза заблестели и он начал покачивать головой в такт.
— Эй, взгляните на это, — сказал человек с газетами, аккуратно вырвавший из страницы «Нью-Йорк пост» спортивный заголовок: «СМОЖЕТ ЛИ МАРИС ОБОЙТИ БЕЙБА?[12]»
— Прочли? — сказал он. — А теперь я покажу кое-что еще. Минутку.
Из его растрепанной бумажной груды появилось с полдюжины клочков, но он повернулся так, чтобы скрыть их от зрителей.
— Минутку, — бормотал он, тщательно обрывая края, разглаживая и размещая клочки в определенном порядке.
— А теперь взгляните, — сказал он. — Взгляните вот на это.
На полу лежала большая фотография Мерилин Монро с заголовком над ней: «СМОЖЕТ ЛИ пАРИж ОБОЙТИсь без этой БЕЙБи?» А под снимком множеством разных шрифтов шла подпись:
Вяло течет по жилам кровь? ПОРА ОБСУДИТЬ ЦЕНЫ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА! АЙК ВЫРАЖАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ КОГДА тысячи людей спасаются бегством от городской жары; ФБР объединяет силы с полицией штата, чтобы ЛЕТАТЬ САМОЛЕТАМИ «ЭР ФРАНС».
— Занятно, — сказал Джон.
— Ну, это не самая удачная из моих комбинаций. Сейчас я составлю кое-что лучше. Минутку.
Музыка Фрэнсиса становилась все громче, вводя самого исполнителя в подобие транса. Из-за усилий, прилагаемых к пению, из его горла вылетели два сгустка мокроты, но он сумел на лету поймать их тыльными сторонами ладоней, при этом не сбившись с ритма.
— Мистер Уайлдер! — позвал из коридора Чарли.
Он цепко держал за локоть Спивака — то ли его подбадривая, то ли сдерживая, — а Спивак сердито щурился и так бурно дышал носом, что голова его слегка дергалась при каждом вдохе.
— Мистер Уайлдер, — сказал Чарли, — доктор Спивак будет рад, если вы составите ему компанию за ужином этим вечером.
— Ладно, ты можешь сидеть за столом рядом со мной, — сказал Спивак, когда они вместе вошли в душное помещение столовой. — Но больше не задавай мне вопросов. И вообще чтоб никакой гребаной болтовни, усекаешь?
Воскресным утром Уайлдер был вырублен.
Все произошло так внезапно, что впоследствии он не смог воссоздать картину событий и понять, что могло спровоцировать столь яростный приступ отчаяния, возмущения и ярости. Он позавтракал, получил «угощение» и «казенную сигарету», а затем стоял в одиночестве у одного из серых окон, глядя в никуда, и вдруг услышал вопль: «Дерьмо!.. Дерьмо!» Он не сразу узнал свой собственный голос. Затем, сделав шаг назад, он высоко задрал ногу и нанес удар босой грязной пяткой по предохраняющей стекло сетке из стальной проволоки. На сетке образовалась вмятина, что его приободрило, и он продолжил наносить удар за ударом, углубляя вмятину и сопровождая эти действия хриплым криком: «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!..» Лишь очень смутно ему слышались другие голоса поблизости: «Потише, парень! А ну-ка уймись!» — и только когда его схватили за руки санитары, он понял, что дело дрянь.
— Эй, Чарли! — громко звал кто-то. — Чарли!
И тот не замедлил явиться, сердито раздвигая толпу. Под лампой он остановился, чтобы нажать на поршень шприца, пока на кончике иглы не блеснула капля. Санитары спустили с Уайлдера штаны, и подоспевший Чарли всадил укол ему в ягодицу.
— А ведь я вас предупреждал, мистер Уайлдер, — сказал он. — Я советовал вам сдерживать свои эмоции.
Дверь камеры приотворилась ровно настолько, чтобы туда можно было впихнуть Уайлдера, и тотчас захлопнулась; в замке лязгнул ключ. Уайлдер задыхался; он с большим трудом смог натянуть пижамные штаны, ползая на четвереньках по мягкому полу; а потом препарат начал действовать — накатываясь на него тяжелыми волнами сна, похожего на погружение в пучину, — и, прежде чем завалиться на бок, скрючиться и сгинуть в этой пучине, он успел подумать, что никогда в жизни не чувствовал себя так паршиво. Ничего хуже этого с ним еще не случалось.
— …Уайлдер! Эй, поднимай задницу, парень.
Эти слова могли прозвучать как десять минут, так и десять часов спустя.
— Уайлдер!
— Мм… Что?
— Поднимайся, к тебе пришли посетители.
Посетители.
Он ковылял по коридору, как пьяный: натыкался на пациентов, отшатывался то к одной, то к другой стене, упираясь в них ладонями. А когда равновесие более-менее восстановилось, ему пришлось еще ненадолго задержаться, чтобы проверить, застегнуты ли пуговицы на ширинке, и одновременно свободной рукой кое-как поправить растрепанные, спадающие на глаза волосы.
Столовую временно переустроили под комнату посещений: столы были отодвинуты к стенам, а скамьи попарно расставлены в центре для приватных бесед. Уайлдер несколько секунд моргал и щурился в дверях, пока не разглядел на одной из скамеек свою жену и Пола Борга. Стараясь не шататься, он приблизился к ним, сел напротив и поздоровался.
— Представляю, как тебе здесь плохо, Джон, — сказала Дженис, кладя руку ему на колено. — В таком месте.
Она предстала заботливой и любящей супругой — даже надела «его любимое платье», как сама его называла (сине-коричневое, выгодно подчеркивавшее грудь), — и на секунду-другую он вновь увидел перед собой ту самую единственную, из-за которой в давнюю пору вдруг перестал замечать всех прочих девчонок.
— Да. А что у вас? Как Томми?
— Мы в порядке. Не считая того, что мы по тебе соскучились.
— Что ты ему сказала обо мне?
— Сказала, что ты задержался по делам в Чикаго.
— Но ведь неизвестно, когда я отсюда выберусь. Врачи займутся мной не раньше четверга, и еще черт их знает с каким результатом. Я могу застрять тут на две недели, на четыре недели, на шесть недель. И что ты скажешь Томми?
— Ш-ш-ш. — Она сжала его колено. — Оставь на меня заботы о Томми, ладно? Обещаю, с ним все будет хорошо. А ты сосредоточься на том, чтобы как следует отдохнуть и поправиться.
— Я даже не могу ему позвонить, потому что здесь нет телефона. Кстати, ты не звякнешь после праздника в мой офис? Скажи Джорджу, что я подхватил грипп или что-нибудь в этом роде.
— Конечно, дорогой, я туда позвоню. Не беспокойся.
Пол Борг между тем оглядывал других пациентов в помещении, как будто пытаясь оценить степень безумия каждого. Потом он направил тот же испытующий взор на Уайлдера, они встретились глазами и тотчас их отвели. В этот самый момент Уайлдер заметил блок сигарет на колене Борга:
— Это курево для меня? Можно взять?
— …Что никак не укладывается у меня в голове, — говорил в этот момент Борг, — так это ситуация с врачами, поголовно отдыхающими в День труда.
— Угу.
— В таком большом учреждении, в государственной больнице, хотя бы один дежурный психиатр должен быть на месте всегда, включая уик-энды и праздничные дни.
— Да, конечно.
С сигаретой во рту, распечатанной пачкой в кармане и блоком под мышкой, Уайлдер сейчас был готов простить кого угодно за что угодно.
По окончании «посетительского часа» им пришлось проталкиваться через толпу взбудораженных пациентов перед входной дверью. Борг пожал Уайлдеру руку, а Дженис его обняла и поцеловала.
— Джон, — сказала она, — знаешь, что нам стоит сделать, когда ты вернешься домой? Надо будет выбраться за город вместе с Томми — пусть он даже пропустит несколько дней в школе. Побудем все вместе на природе, устроим себе небольшой отпуск. Может, на целую неделю. Как тебе такой план?
— Звучит прекрасно. Я… Да, это звучит прекрасно.
И дверь за ними закрылась.
— Эй, приятель, ты меня спасешь?
— Спаси меня, друг.
— Спаси меня…
Он находился в центре всеобщего внимания, раздаривая сигареты, пока не услышал голос Чарли:
— Мистер Уайлдер, будьте добры пройти со мной.
И он завел Джона в комнату с табличкой «Посторонним вход воспрещен».
— Этого курева вам хватит ненадолго, если будете швыряться им направо и налево, — сказал он. — Обычно, когда пациент получает сразу целый блок, мы храним его здесь и выдаем ему сигареты по мере надобности. Вот, глядите, я пишу на блоке ваше имя.
В процессе написания он поинтересовался:
— Та леди — это ваша супруга, мистер Уайлдер?
— Да.
— Очень приятная женщина и одевается со вкусом. У вас есть дети?.. Да, это здорово: иметь сына. А у меня три дочери, — продолжил он, когда они уже вышли в коридор. — Семи, восьми и девяти лет. В них вся радость моей жизни.
— Ну и как ты объяснишь это, Чарли? — заявил, подходя к ним, Спивак.
— Объясни мне это, если ты такой охренительно умный.
— Что именно объяснить, Доктор?
— А как по-твоему? Речь о моем отце и моей сестре. Я так их и не дождался. Проторчал у треклятой двери не менее часа, но никто из них не пришел. Знаешь, что я думаю?
Взгляд у него был столь же диким, как в то время, когда его вырубили после боя с тенью. Чарли положил руку ему на плечо, как бы намереваясь отвести в сторону для приватной беседы, но Спивак не двинулся с места.
— Знаешь, что я думаю? Я думаю, что этот вонючий задрот, именуемый ее мужем, задурил голову обоим, ей и отцу. Он убедил их, что я опасный психопат, и они попросту списали меня со счетов. Они оставят меня гнить в этой дыре!
— Успокойтесь, Доктор, я уверен, что могло быть множество причин, помешавших им приехать сегодня. Во-первых, как вы помните, ваш отец уже в преклонных летах, и для него поездка сюда из Уайт-Плейнс[13] представляет немалую трудность. А у вашей сестры есть своя семья, о которой нужно заботиться, и не исключено, что она…
— Чарли, ты большой и сладкий шоколадный батончик, однако ты ни черта не смыслишь в человеческой натуре. Даже мелкий тупой засранец Уайлдер разбирается в этом лучше тебя. Дай-ка мне твою ручку.
— Не надейтесь, Доктор, что получите от меня хоть что-нибудь, пока не извинитесь перед мистером Уайлдером и передо мной. За вашу грубость.
— Хрень господня! Грубость. Извинения. Ладно-ладно, я извиняюсь. Попробую выразиться иначе. Дражайший медбрат, не будете ли вы столь любезны одолжить мне вашу бесценную двадцатидевятицентовую шариковую ручку на срок приблизительно в двенадцать секунд?
Получив ручку, он извлек из кармана пижамной куртки клочок грязной бумаги, приложил его к стене и написал набор цифр.
— Вот, возьми. А теперь слушай внимательно. Это телефонный номер моей сестры. Я хочу, чтобы ты сегодня после смены позвонил ей и передал следующее послание. Скажи ей…
Но Чарли уже качал головой:
— Вы же знаете, что нам это запрещено.
Спивак сделал три шага назад и остановился, прочно расставив ноги, сжав кулаки и сверкая глазами:
— А что вообще тебе разрешено? Улыбаться? Читать проповеди? Ублажать убогих? Что вообще ты можешь делать, большой тупой гребаный…
— Доктор!
— Вот тебе и «Доктор». Черт, почему ты просто не вырубишь меня, чтобы с этим покончить?
— Я думал над этим, — сказал Чарли, — но мне кажется, что вы просто ведете со мной игру. А я в игры не играю, как вам известно. Кроме того, вы отнимаете у меня слишком много времени, а здесь, помимо вас, полно других пациентов, которыми я должен заниматься.
С этими словами он развернулся, примкнул к одной из бредущих по коридору колонн и сразу же был окружен пациентами, ищущими его внимания. Спивак одиноко прислонился к стене, и Уайлдер воспользовался этим, чтобы удалиться без лишних слов.
И сразу направился в туалет. Теперь у него в кармане была расческа — еще один подарок Пола Борга, — и, смачивая ее под краном, он смог наконец привести в порядок свою шевелюру: четкий пробор слева, сравнительно короткая середина челки зачесана назад, а более длинные волосы по краям — назад и вниз за ушами. Эту прическу он перенял у актера Алана Лэдда[14] после нескольких лет экспериментирования и полагал ее весьма эффектной. Сейчас, оглядев себя под разными углами в мутном, покрытом белыми и красными пятнышками зеркале, он нашел свое лицо солидным, мужественным и внушающим доверие. Пожалуй, несколько встревоженным, но отнюдь не невротическим и уж тем более не безумным. В этом свете совершенно нелепым представлялся сам факт его присутствия в «Палате для мужчин, склонных к насилию», и осознание этой нелепости побудило его слегка покачать головой и саркастически улыбнуться.
— Эй, что ты там делаешь? — раздался чей-то голос позади него. — Никак не налюбуешься собой?
— …Я о том, что поведение моей сестры вполне объяснимо, — говорил Спивак во время ужина, усаживаясь за длинный стол рядом с Уайлдером. — Она позволяет себя трахать этому скользкому ублюдку, который орудует своим старым членом так и эдак, пока не доведет ее до визга, и потому неудивительно, что она верит всей этой фрейдистской бредятине, которой он пичкает ее в дневное время. Но мой отец — это другой случай. Как и мои братья. Они же образованные люди! Они же медики! Они отлично понимают, что на меня здесь наехали под гнусно сфабрикованным предлогом, обвиняя… впрочем, оставим подробности. Нас ждут расчудесные макароны с сыром.
В числе новоприбывших в понедельник (или уже наступил вторник?) был седой негр с множественными травмами головы и лица, так что окровавленные бинты скрывали даже его глаза. Поскольку санитары не могли отправить на прогулку слепого, его оставили лежать на откидной койке, которую огибала колонна, идущая по этой стороне коридора. Уайлдер миновал его дважды, прежде чем заметил, что его кисти и щиколотки привязаны толстыми жгутами к раме кровати. Больной все время ворочался, стонал и невнятно бормотал; несколько раз он рывком приподнимался в полусидячее положение, издавая дикий вопль.
— Белая горячка, — пояснил Спивак.
— Ты уверен?
— Это же очевидно. Любой человек с медицинской подготовкой может распознать «белочку». Слышал, что он только что прокричал, когда к нему подходил Чарли?
— Я не разобрал слов.
— Он кричал: «У меня люцидации! Это люцидации!» Ты не понял? Он имел в виду галлюцинации. Это чучело высасывало по кварте в день на протяжении четверти века, пока его мозги не превратились в полужидкое дерьмо. А ты, Уайлдер, любишь выпить?
— Бывает.
— И как много? Четыре, пять, шесть порций в день?
— Точно сказать не могу.
— Восемь? Десять? Пятнадцать? Больше?
— Слушай, Спивак, во-первых, это не твое чертово дело…
— Ага, завелся! Выходит, я наступил на больную мозоль. А ведь ты вправду смахиваешь на алкаша. Забавно, что я не заметил этого раньше.
— Да, это забавно, — сказал Уайлдер. — И шел бы ты подальше со своими забавами!
В ответ Спивак торжествующе продемонстрировал средний палец и со словами «Сам иди подальше» исчез в толпе пациентов.
До конца этого дня (понедельника или вторника?) они избегали друг друга. Уайлдер попытался возобновить знакомство с Ральфом и Фрэнсисом, но Ральф, похоже, его не помнил, а Фрэнсис отказался играть в кинофильмы даже после того, как Уайлдер подкинул отличную фразу:
— Скажи, из какого фильма слова: «Сыграй это снова, Сэм»?[15]
Он помог «газетчику» выложить новую комбинацию, которая получилась совсем неудачной, и после того уже ни с кем не общался — просто шагал по коридору, смотрел на свое двойное отражение в зеркальных очках копа, курил сигареты, «спасал» страждущих и тихо паниковал про себя, подозревая, что он и в самом деле свихнулся.
А на следующий день, уже после обеда, услышав громкие стоны и охи слепца, он приблизился и увидел склонившегося над ним Спивака.
— В чем дело, Самбо?[16] — спрашивал Спивак участливым тоном. — Снова глюки? Хочешь похмелиться? Увы, с этим облом, Самбо, выпивку здесь не подают.
— Ох! Ох! Ох!
— Здесь ты можешь получить только паральдегид, смирительную рубашку, уколы в жопу и…
— Почему бы тебе не заткнуться? — прервал его Уайлдер.
Спивак выпрямился и повернулся кругом с чрезвычайно изумленным видом:
— Ну и ну, будь я проклят! — Он перевел взгляд с лица Уайлдера на его босые ноги и потом обратно. — Надо же, кто нынче взялся меня поучать!
Казалось бы, я уже слышал все виды проповедей от всех дебильных иисусиков в этом притоне, и тут вдруг возникает плюгавое ничтожество, мелкий пьянчуга-торгаш, и начинает учить меня какой-то ущербной «доброте», какому-то жалкому «состраданию», каким-то…
— Ты наглый, чванливый и мерзкий сукин сын, Спивак! Скотина…
Уайлдер пятился перед Спиваком, но это не было отступлением — он просто перемещался в более широкую часть коридора, менее людную и более подходящую для драки.
— А ты кем себя возомнил? Бойскаутом? Гунявым борцом за справедливость? Кем-то вроде святого? Или, может, самим Христом? А?
Оба остановились, сохраняя дистанцию в три фута, обмениваясь свирепыми взглядами, готовые ко всему. При этом ни один не принял боевую стойку — руки были опущены вдоль тел, — но Уайлдер расправил плечи и спросил:
— Хочешь схлопотать по роже, Спивак?
— От тебя? От нелепого алкаша-недоростка? Черт, да я вытру тобою этот пол за пять секунд, и ты сам это знаешь.
— Не будь в этом слишком уверен.
— Может, все же рискнешь? И тогда увидим, что получится.
В этот момент распахнулась дверь кабинета и на пороге возник улыбающийся, дружелюбный Чарли.
— Джентльмены, — сказал он, — вы не против того, чтобы составить мне компанию и выпить по чашке кофе?
Гостеприимно расставляя для них стулья и кладя в чашки растворимый кофе (на плите уже булькал ковшик с кипятком), Чарли как будто не замечал их раскрасневшихся лиц, тяжелого дыхания и подрагивающих конечностей.
— Я люблю выпить чашечку кофе в это время дня, — говорил он, — и тем более приятно сделать это в доброй компании. Если не возражаете, я притворю дверь. От этого воздух в комнате станет немного спертым, но я не хочу создавать впечатление, будто сегодня здесь день открытых дверей. Вам с сахаром и сливками, мистер Уайлдер?
— Да, благодарю вас.
— Конечно, это всего лишь заменитель, порошковые сливки, но на вкус весьма недурно. А вы, Доктор?
— Нет, спасибо. Просто черный кофе.
Сначала говорил один Чарли, а двое других лишь прихлебывали кофе и курили, наслаждаясь уютом, от которого уже успели отвыкнуть. Уайлдер ожидал, что этот монолог вот-вот перейдет в нравоучительную лекцию с выводом типа: «…Впредь чтобы я не видел никаких конфликтов между вами…» — но этого не произошло, и вскоре они смогли расслабиться. Они даже невольно переглянулись и едва не обменялись улыбками соучастия, как шкодливые мальчуганы, сумевшие набедокурить и не попасться с поличным.
— Я очень рад, что праздники закончились, — продолжал Чарли. — Такие затяжные уик-энды всегда несут с собой дополнительные осложнения. Палата переполняется пациентами, а число сотрудников, напротив, ограниченно. Слава богу, теперь врачи вышли на работу. Да-да, Доктор, мне известно ваше мнение о психиатрах, и нет нужды высказывать его снова. Со своей стороны, я рад врачам прежде всего потому, что они наконец-то распределят пациентов. Кто-то из этих людей теперь вернется к своим семьям, верно? Кого-то распределят по клиникам для лечения от алкогольной и наркотической зависимости; кого-то направят в Уингдейл, Рокленд или еще куда, а кое-кто — что ж, это не секрет — попадет на скамью подсудимых. Все эти вопросы должны быть решены как можно скорее, вы согласны?
Спивак нахмурился, тщательно гася сигарету в пепельнице.
— Чарли, — произнес он, — ты готов сказать мне правду?
— Постараюсь.
— Кто конкретно из этих «вершителей судеб» сказал тебе, что я — параноидный шизофреник?
Чарли откинулся на спинку кресла и от души рассмеялся, положив одну ногу в огромном белом ботинке на край столешницы.
— Ох, Доктор, ну и развеселили вы меня. Это не был ни один из них. Это были вы сами! Вы вышли из кабинета врача после беседы и сказали: «Приглядывай за мной, Чарли, я параноидный шизофреник». Это были ваши собственные слова!
Но Спивак отнюдь не выглядел веселым.
Отсмеявшись, Чарли убрал ногу со стола и доверительно наклонился вперед:
— Скажу вам одну вещь, Доктор. Это не то чтобы критика с моей стороны, но, как я понимаю, при каждой встрече с этими психиатрами вы заранее настраиваетесь на негативный лад. Представляю, как вы грозите им исками, и вполне могу вас понять. Вы сами врач и сейчас попали в трудное положение. Я бы вот что предложил: попробуйте в следующий раз их удивить. Держитесь вежливо, отвечайте на все вопросы, продемонстрируйте чувство юмора — пусть они увидят перед собой рассудительного, готового к сотрудничеству человека, каким вы и являетесь большую часть времени, в том числе при общении со мной и с мистером Уайлдером.
— Да-да, хорошо, — сказал Спивак. — Я задействую все свое обаяние. Кстати, я забыл вернуть ручку.
Он открепил зажим ручки от своего нагрудного кармана и подвинул ее через стол.
— У тебя здесь не найдется конверта, Чарли?
— Конверта? Нет.
— Хотя это и не важно. Даже найди я конверт, все равно мне еще понадобится почтовая марка. Дело в том, что я написал письмо сестре. Хочешь его прочесть?
— Пожалуй, не стоит, Доктор. Я не любитель читать чужие письма.
В дверь замолотили кулаком, и послышался крик:
— Чарли, тут валяется говно! Какой-то поганец обделался прямо в коридоре!
— Прошу меня извинить, джентльмены, — сказал Чарли и поспешно выпроводил их обратно в коридор. — Приятно было побеседовать.
Стоило ли опасаться возобновления конфликта между ними? Судя по всему, нет. Шагавший рядом Спивак был мрачен, но не агрессивен, а чуть погодя попытался завязать разговор на нейтральную тему.
— Вон того типа скоро спровадят в Уингдейл, — сообщил он, указав на мускулистого мутноглазого пуэрториканца в рабочей одежде: тяжелых ботинках, джинсовой рубашке и зеленых саржевых штанах на старомодных помочах. — Когда их вот так наряжают, за этим всегда следует отправка в Уингдейл. О боже, взгляни на это!
Глубокий старик стоял и плакал, как младенец — «Уа-уа-уа!» — когда санитар облачал его в смирительную рубашку. Он предпринял слабую попытку вырваться, при этом пижамные штаны соскользнули с его бедер, обнажив гениталии столь маленькие и сморщенные, что они вполне могли бы принадлежать младенцу, и старик поспешно закрыл их ладонью — то ли от стыда, то ли из предосторожности.
— Привет, секси-бой, — сказал ему Спивак, проходя мимо.
— Спаси меня, друг, — говорили пациенты, выклянчивая у них сигареты.
— Спаси меня…
— Да-да, мы вас спасем… Смотри-ка, Уайлдер, в логове онанистов сейчас ни души. Присядем? — Они опустились на запятнанные матрасы. — Может, прочтешь мое письмо? Я трудился над ним как проклятый, и сейчас мне очень важно, чтобы кто-нибудь оценил результат.
— Ладно, давай.
Уайлдер взял замусоленный, многократно сложенный листок, развернул его и приступил к чтению.
Дорогая Сис, дорогая мисс Присс, если в момент получения этого письма ты будешь небрежно просматривать «Нью-йоркер» за очередным бокалом сухого мартини, или менять ужасно элегантное коктейльное платье на что-то более вечерне-облегающее, или обрызгивать шею изысканными парижскими духами в предвкушении долгих и многообразных развлечений со своим мужем, то не отвлекайся и не трать время на дальнейшее чтение. Переправь его в корзину вслед за сломанными гардениями, бутылками из-под «Либфраумильх» и пригласительными на те рауты, которые ты предпочла пропустить.
Но если это письмо застанет тебя на коленях в рабочем комбинезоне скребущей кухонный пол, или натирающей волдыри на пальцах при чистке кастрюли после субботнего мяса по-бургундски, или, в лучшем случае, тужащейся и испускающей газы в месте, которое твой супруг именует отхожим, тогда не поленись прочесть это, малышка. Это важно. Это реальность.
1. Позвони папе.
2. Позвони Эрику и Марку.
3. Скажи своему мужу, что он самодовольный и претенциозный недоумок.
4. ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА.
ГЕНРИ
— И что ты об этом думаешь? — спросил Спивак.
— В целом написано весьма смачно, хотя общий тон кажется мне несколько…
— «Вызывающим», да? Это одно из любимых словечек психиатров.
— Я хотел выразиться иначе. Мне кажется, ты этим вредишь самому себе. Вряд ли попытка ее уязвить поспособствует достижению твоей цели.
Спивак вздохнул и спрятал письмо в карман пижамы:
— Думаю, ты прав. Впрочем, это чисто теоретический вопрос. У меня все равно нет конверта и нет марки.
Уайлдера вызвали на прием утром в четверг. Он стоял перед входной дверью, охраняемой копом, и в который уже раз поправлял свою прическу, а Спивак меж тем давал ему последние наставления:
— Это сродни судилищу инквизиции. Они задают вопросы — причем провокационные вопросы, которые считались бы недопустимыми в суде, — а когда ты отвечаешь, они даже не слушают, что ты говоришь. Они слушают, как ты это говоришь. Потому что их интересует не содержание, а манера твоей речи. Можно представить себе, как они думают: «Мм, интересно. Почему он запнулся в этом слове? Почему использовал именно этот оборот?» И они будут следить за тобой, как ястребы за добычей. Не только за твоим лицом — тут очень важно сохранять невозмутимый вид и смотреть им прямо в глаза, — но и за всем остальным. Начнешь ерзать на стуле, скрестишь ноги, поднесешь руку к лицу или что-нибудь типа того — и тебе крышка.
— О’кей, Уайлдер, — сказал санитар. — Идем.
В просторном кабинете было около дюжины людей в белом, но казалось, что их вдвое больше. Они занимали два ряда кресел с подставками для письма, как у студентов на семинарах, а Уайлдер — с потными руками и ляжками — в одиночку сидел напротив них на простом стуле, подобно преподавателю. Никто не улыбался. Крупный лысый мужчина в первом ряду прочистил горло и сказал:
— Итак, в чем тут у нас проблема?
Это продолжалось четверть часа. Сначала он постарался как можно более связно рассказать о своей командировке в Чикаго, о недельной бессоннице и запое, о Поле Борге, больнице Святого Винсента и последующих событиях, приведших его сюда, хотя эти события он помнил очень смутно.
Потом пошли вопросы. Бывал ли Уайлдер прежде в психиатрической клинике? Оказывали ли ему когда-либо психиатрическую помощь? Пытался ли он лечиться от алкоголизма? Случались ли у него проблемы, связанные с пьянством? На работе? В семье? С полицией?
— Нет, — отвечал он на все вопросы. — Нет. Нет. Нет…
При этом он сидел смирно, с каменным лицом, и не жестикулировал. Но после вопросов они все уставились на него в молчании, видимо ожидая, что он произнесет какие-то заключительные слова в свою защиту, — и вот тут все покатилось к чертям. Одна его рука взметнулась к потному лбу и осталась там, как будто прилипнув.
— Послушайте, — сказал он, — я понимаю, что если сейчас скажу: «Я не сумасшедший», это скорее убедит вас в обратном. И все же… такова моя позиция.
Его рука снова упала на бедро, но по скрипу стула он понял, что предательски ерзает.
— Я не считаю себя безумным, или душевнобольным, или психически неуравновешенным, или как еще это у вас называется.
Во рту у него было так сухо, что он явственно ощущал каждое движение своего языка, зубов и губ в мучительном процессе артикуляции.
— Конечно, в прошлую пятницу я вел себя неадекватно — или правильнее сказать: иррационально? — но это было в прошлую пятницу. А после двух ночей полноценного сна и нескольких доз формальдегида — то есть паральдегида, вы меня понимаете, — я ощущаю себя в полном порядке и поэтому… Господи, кто-нибудь меня слушает?
Его рука снова судорожно метнулась к голове и растрепала прическу, а глаза закрылись, не в силах больше видеть эти лица напротив.
— Почему вы думаете, что вас никто не слушает?
— Да потому, что я был заперт в чертовом… потому, что само по себе это место любого сведет… я не знаю почему…
Он открыл глаза, но справиться с собственной рукой никак не удавалось.
— Послушайте, я считаю, что попал сюда по ошибке и что меня нужно поскорее выписать. Это все, что я могу вам сказать.
И вновь обстановка напомнила ему учебный класс — на сей раз в ситуации, когда студенты смущены, поскольку их преподаватель выставил себя дураком, — так что лицо его скривилось в извиняющейся гримасе, и он сказал то, что зачастую говорят преподаватели в такие минуты:
— Есть еще какие-нибудь вопросы?
— Достаточно, мистер Уайлдер, — сказал санитар, после чего он был препровожден обратно в палату, где его охватило сильнейшее желание разбить свои кулаки о стену, или дико завопить, или повторно попытаться высадить оконную решетку грязными босыми пятками. Но вместо этого он лишь ходил по коридору и курил, обещая спасение другим пациентам.
— Как все прошло? — спросил Спивак.
— Черт, я и сам не знаю.
— Это гадкие скользкие типы, ты согласен? От них мурашки по коже. А как подумаешь о той власти, которую имеют над человеческой жизнью эти ублюдки с рыбьими глазами, поневоле вспоминается ФБР, вспоминается ЦРУ, вспоминается тайная полиция нацистов…
А где-то через час его отозвал в сторонку Чарли для разговора вполголоса у двери ординаторской:
— Вы отлично справились, мистер Уайлдер.
— Что? В самом деле? Откуда вы знаете?
— Не суть важно откуда. Просто я в курсе, что вы произвели достойное впечатление. Насколько понимаю, вас после обеда должны перевести в палату реабилитации. Там приятно и очень чисто; они редко задерживают у себя пациентов дольше чем на сутки. Проведут краткую консультационную беседу, оформят все документы, вернут вашу одежду и отпустят домой. А поскольку этот день у меня выдался очень хлопотный, я могу вас больше не увидеть, так что заранее прощаюсь и желаю удачи.
Он протянул для пожатия широченную ладонь:
— И еще: хорошо, что вы так поладили с доктором Спиваком, много с ним общались, сидели рядом в столовой. До вашего появления у доктора Спивака здесь не было ни одного друга. Он славный человек, как вам известно; беда лишь в том, что он… слегка не в себе. Ну, всего доброго, сэр.
— Спасибо. Спасибо, Чарли.
Он смотрел вслед Чарли, который, удаляясь по коридору, напустился на юного красавчика в тюрбане:
— Гейл, сколько раз я говорил тебе снять с головы пижаму?! И убери свой пенис в штаны, где ему самое место. Никому здесь не интересно смотреть на твое хозяйство.
После обеда были зачитаны шесть-восемь имен, обладателям которых велели подойти к входной двери. Уайлдер был в их числе.
— Ну и дела! — сказал, приближаясь к нему, Спивак. — Как тебе удалось выкрутиться? Ты их подкупил? Шантажировал? Облизал им задницы? Погоди секунду. У меня есть кое-что для тебя.
И он полез в нагрудный карман, к которому была прицеплена все та же шариковая ручка Чарли.
— Что, еще одно письмо?
— Не угадал, пьянчуга. Это мой адрес и телефон. Если я когда-нибудь отсюда выберусь, при случае угощу тебя в баре.
— Что ж, это очень… Да, спасибо.
— Вот тебе ручка: не оставишь мне свои координаты?
Уайлдер так и сделал.
— Буду рад встрече, Спивак, — сказал он.
— Да-да, только не слишком на это рассчитывай. Я вполне могу забыть о твоем гребаном существовании уже через пару часов. Как бы то ни было, держи хвост пистолетом, Уайлдер.
— Постараюсь. И тебе того же.
Дверь отворилась, но не для того, чтобы выпустить мужчин, а для того, чтобы впустить немолодую женщину в сопровождении дюжины юных девиц в накрахмаленных бело-голубых халатах и белых чулках.
— Боже ты мой! — выдохнул Спивак. — Студентки из школы медсестер. Прелестные крошки-студентки с ознакомительным обходом.
Он отступил вглубь коридора и остановился там, широко раскинув руки на манер церемониймейстера.
— Милые девушки, я счастлив вас приветствовать! Конечно, со стороны вашего начальства было жуткой глупостью направить вас в эту палату, потому что по завершении учебы никто из вас и близко к ней не подойдет, однако же и здесь вы сможете кое-чему научиться… Все в порядке, сестра, — обратился он к их предводительнице, которая, похоже, лишилась дара речи. — Я штатный врач; я с этим разберусь. Сестрички, здесь вы можете узреть реликт из девятнадцатого века. Это отнюдь не «психиатрическая клиника» в современном понимании; это самый настоящий дурдом…
Кое-кто из девушек выглядел озадаченным, некоторые были испуганы, но большинство начали хихикать в ладошки, тем самым показывая, что они находят Спивака «интересным».
— Офицер, — обратилась пожилая медсестра к полисмену, — кто является старшим медбратом в этой палате?
— Его зовут Чарли, мэм. Мне нельзя оставлять пост у двери, но я могу послать за ним кого-нибудь. Одну минуту. Эй, вы, там!..
— …Прошу учесть, сестрички, в данной палате содержатся опасные психопаты, совершившие насильственные преступления, а также мужчины с очень серьезными психическими расстройствами, вызванными венерическими болезнями, алкоголем и наркотиками. Среди них присутствует как минимум один Иисус Христос во втором пришествии. В то же время здесь есть и люди, которым совсем не место в этом заведении. Возьмем, к примеру, мой случай: меня можно назвать местным политзаключенным. Такова политика больницы, да и медицинская политика в целом. Не думаю, что вам на курсах что-нибудь говорили про медицинскую политику, хотя вам следовало бы это знать, потому что, поверьте, это очень жестокая, очень грязная…
— Доктор! — перекрыл его речь зычный голос Чарли, который быстро шагал по коридору сквозь толпу гогочущих пациентов. — Доктор, сейчас же оставьте в покое этих девушек…
Дверь опять отворилась, чтобы выпустить из палаты группу Уайлдера, и закрылась у них за спиной.
Палата реабилитации действительно оказалась приятной и чистой: настоящие кровати, кресла из хромированных трубок и искусственной кожи, полноценная душевая с мылом и специальным шампунем от вшей. Разговоры велись негромко и вполне вежливо: никто не искал неприятностей на свою голову.
«Консультационная беседа» на следующий день проводилась в комнате, тесно заставленной столами с пишущими машинками и напоминавшей офис биржи труда. Уайлдер общался с бледным мужчиной, который выглядел как типичный мелкий клерк из какой-то захолустной конторы, однако представился «психиатрическим социальным работником».
— …и после выписки отсюда вы будете периодически обследоваться у психотерапевта, не так ли?
— Ну, не знаю. Я еще об этом не думал.
Сотрудник перестал печатать, закрыл глаза и провел белыми пальцами по своему лицу:
— Знаете, я порой не понимаю людей вроде вас. Вы мужчина зрелых лет с хорошей работой и семейными обязанностями. Вы были принудительно госпитализированы и провели неделю в палате с самым жестким режимом из всех подобных мест в городе, и вы все еще «об этом не подумали»?
— О’кей, я буду обследоваться.
— Это в ваших же интересах, мистер. Далее. Вы можете себе позволить сеансы психотерапии в частном порядке или же будете приходить сюда, в амбулаторное отделение?
— В частном порядке.
— А как насчет алкоголя? Вы намерены с этим покончить?
— Честно говоря, я полагал, что это мое личное… Хотя, если вам это нужно для галочки, пишите «да». И все дела.
— Я гляжу, вы большой умник, даром что ростом не вышли. Попадаются и такие среди вашего брата.
Он закончил печатать, вынул из машинки листы, оторвал от них копирку, затем скрепил степлером и гневно шлепнул в нескольких местах резиновой печатью. Похоже, процедура подошла к концу.
— Теперь я могу получить свою одежду?
— Вы шутите? Несомненно, вы шутите. Или вы полагаете, что город Нью-Йорк так запросто выпустит вас отсюда, учитывая, каким путем вы сюда попали? Вас могут выписать только под поручительство мистера Пола Р. Борга; только после того, как он явится сюда и побеседует со мной лично, и только если он согласитсяподписать эти бумаги.
Он протянул руку к телефону.
— А сейчас отправляйтесь в палату и ждите. Меня порядком утомил вид вашей физиономии.
Ожидание не затянулось. Пол Борг появился в палате реабилитации с тревожной улыбкой на лице и мимеографической копией квитанции.
— Я подписал все бумаги, — сказал он, — а вот эта нужна для получения твоей одежды. Тут написано: «Комната три-Ф». Ты знаешь, где это?
Они отыскали нужную комнату лишь после долгих и бестолковых блужданий по коридорам, перемещений на лифте и расспросов людей, не говоривших по-английски. Переодевшись (это было невероятное удовольствие: его собственная одежда и ботинки, его наручные часы и его набитый купюрами бумажник), он сказал:
— Пол, я должен еще кое-что сделать. Надо найти здесь буфет или какой-нибудь киоск.
— Зачем?
— Долго объяснять. Идем. Скорее всего, это на первом этаже.
Буфет действительно нашелся на первом этаже, и Уайлдер приобрел блок «Пэлл-Мэлла». Затем достал из нагрудного кармашка собственную ручку, написал на блоке: «Для Чарли, с огромной благодарностью» — и присовокупил к этому свое имя.
— Ну вот, — сказал он. — Где тут лифт психиатрического отделения?
— Джон, что это значит?
— Не твое дело. Но это важно.
— «Палата для склонных к насилию»? — переспросил лифтер. — Здесь нет палаты с таким названием.
— Возможно, это неофициальное название, — сказал Уайлдер, — но я имею в виду палату на седьмом этаже.
— В любом случае я не могу вас туда доставить. Сегодня не день посещений.
— Я не посетитель, я… Короче, доставьте это в палату, отдайте копу у двери и скажите ему, что это для Чарли. Сделаете?
— Да, это я могу.
И дверь лифта затворилась.
— Сукин сын наверняка прикарманит сигареты, — проворчал Уайлдер. — А если все же передаст копу, тот заберет их себе. Надо было настоять и подняться туда лично. Я должен был действовать решительнее.
— Джон, оно того не стоит. Ты ведь понимаешь, что это не имеет значения?
— Нет, имеет. Такие вещи как раз имеют значение, вот и все.
Когда же они, пробравшись через все коридоры и приемные, наконец вышли на свежий прохладный воздух Первой авеню, Уайлдер выдохнул: «Ого!» Потом он сказал: «Боже мой!»
Была вторая половина ясного сентябрьского дня, и никогда прежде воздух улицы не казался ему таким сладостным. Высокие здания устремлялись в синее небо; меж ними кружили и планировали голуби; чистенькие автомобили и такси проезжали мимо, перевозя здравомыслящих, невозмутимых людей, которые здраво и невозмутимо занимались делами этого большого мира.
— Я припарковался за углом, — сказал Борг. — Доставлю тебя домой в момент. Джон? Что еще на этот раз?
Уайлдер остановился, чтобы прочесть надпись на извлеченном из кармана клочке бумаги: «Генри Дж. Спивак, врач», а ниже адрес и телефонный номер.
— Ничего, — сказал он, разжимая пальцы; бумажка, вертясь, опустилась на пыльный асфальт. — Ничего. Это не имеет значения.
Глава третья
«Загородные владения» Уайлдеров представляли собой дощатое бунгало и земельный участок в пол-акра на западном берегу Гудзона, в пятидесяти милях вверх по реке. По соседству располагались такие же хибарки, а прикрытием от посторонних глаз служили густые заросли кустов и деревьев с трех сторон дома и высокий, грубо сработанный забор с четвертой, что и создавало столь ценимое ими уединение. Неподалеку находилось озерцо, пригодное для купания.
Но самой лучшей, самой вдохновляющей частью загородной поездки была езда как таковая, когда они пересекали мост Джорджа Вашингтона и долго катили по трассе, любуясь пасторальными пейзажами. Что же касается прочих радостей семейного отдыха, то здесь их ожидания никогда не оправдывались в полной мере.
— …Между прочим, это мое любимое время года, — говорила Дженис, — когда воздух снова становится свежим после летней жары. Еще лучше будет через несколько недель, в пору осеннего разноцветья — все эти золотые, оранжевые, красные тона, — но и сейчас лес выглядит чудесно.
— Мм, — отозвался Уайлдер.
После его вчерашнего возвращения домой из больницы Дженис очень много говорила — в основном лишь ради того, чтоб избежать тягостного молчания, поскольку Джон был неразговорчив: только потягивал бурбон и смотрел из окна на улицу либо с некоторым изумлением озирал многочисленные полки, плотно забитые книгами.
— Пожалуй, — произнес он сейчас, сделав над собой усилие. — По мне, так нет отдыха лучше, чем просто валяться на одеяле посреди лужайки.
Томми на заднем сиденье молчал с момента отъезда из дома и только раз за разом вбрасывал новенький мяч в бейсбольную перчатку-ловушку; на голове его было кепи «Нью-Йорк янкиз». В этом сезоне «Янкиз» с большим отрывом лидировали в Американской лиге, а Томми предпочитал болеть за победителей.
— Как нам лучше поступить, чемпион? — обратился к нему Уайлдер. — Сначала искупаемся, а потом побросаем мяч или сначала мяч, а потом купание?
Уже в следующий момент он пожалел о том, что употребил слово «чемпион». Обычно он использовал это обращение — наряду с «ловкачом» или «здоровяком» — только при каких-то семейных неурядицах (к примеру, наутро после громких ночных перебранок с женой, понимая, что мальчик не спал и все слышал), стараясь сгладить ситуацию этаким панибратством. И он знал, что Томми это знает.
— Без разницы, — сказал Томми. — Мне все равно.
И гладкий асфальт продолжил стелиться под колеса их машины.
Так вышло, что они начали с игры в мяч, а между тем Дженис, в широкополой шляпе, занялась прополкой овощных грядок.
Игра шла так себе — без ощущения разогрева и проступающего пота, когда мышцы то напрягаются, то расслабляются при обмене бросками, без плавного полета мяча и приятного чпокающего звука, когда он попадает в центр перчатки, без шуток или поздравлений («Ну ты мазила!.. Это класс!..» и т. п.). Большинство бросков Томми были слишком сильными и неточными, заставляя его отца бегать туда-сюда по траве или ползать на четвереньках под кустами, где его хлестали по лицу ветки. Он запятнал на коленях чистые штаны и вдобавок чуть не выколол себе глаз, наткнувшись на сосновую иглу.
Постепенно его собственные броски стали получаться все хуже, и теперь побегать пришлось Томми, что хотя бы дало Джону возможность отдышаться.
— Давай попробуем с отскоком, — предложил он в надежде, что так будет легче для обоих, но на кочковатой земле ничего хорошего не получилось: мяч отскакивал в самых неожиданных направлениях, они метались и спотыкались, и кепи «Янкиз» слетело с головы Томми.
— Может, вам уже хватит? — с улыбкой спросила Дженис, сидя на корточках над грядкой. — Не хотите теперь искупаться?
— Как… как насчет купания, Том? Или еще не наигрался?
— Без разницы. Мне все равно.
На озере дела также пошли не лучшим образом, впрочем, это было предсказуемо. Дженис плавала отлично, и Томми был неплохим пловцом для своего возраста, а вот Уайлдер боялся воды — и боялся в этом сознаться — всю свою жизнь. В детстве и юности он по возможности избегал плавания, а когда это было неизбежно, выступал в роли этакого акваклоуна: барахтался и загребал по-собачьи, не в силах избежать попадания воды в желудок и легкие; страшился нырнуть, но все же выполнял потешно-неуклюжие прыжки с трамплина, дабы развлечь приятелей, хотя и не слышал их смеха, вслепую отчаянно стремясь поскорее глотнуть воздуха. Это была одна из первых вещей, которые узнала о нем Дженис еще до их свадьбы, и это стало причиной одной из их первых размолвок («Но это просто глупо, Джон, научиться плавать может каждый». — «Хорошо, в таком случае я глупец. И больше не будем об этом»). Пока Томми был малышом — лет до пяти-шести, — это не имело большого значения: он мог заходить глубоко в воду с вертлявым, визжащим сынишкой на плечах и получал истинное удовольствие, ощущая доверчиво сжимавшие его шею маленькие бедра и цеплявшиеся за волосы ручонки. Особенно ему нравилось купаться в штормящем море, когда никто не устраивал заплывы и он мог вместе со всеми просто подпрыгивать и вопить в волнах прибоя. Но несколько лет назад — на этом самом озере — Дженис научила Томми плавать. Причем сделала это весьма тактично: если мальчик спрашивал, почему его учит не папа, она говорила, что папа занят или устал или он не так любит плавание, как другие вещи, вроде того же бейсбола.
В этот день на берегу озера было многолюдно — обитатели всех окрестных бунгало поспешили воспользоваться кратковременным возвращением лета, — благодаря чему он почти не привлек к себе внимания, когда пугливо замешкался, тщательно расправляя покрывало и раскладывая в строгом порядке полотенца, ботинки, наручные часы, в то время как его жена и сын поплыли наперегонки к белому заякоренному плоту, всегда казавшемуся Джону неимоверно далеким. В этой пляжной суматохе вряд кто-нибудь заметил, что он забрел в озеро по самые ноздри, и лишь после того рискнул оттолкнуться ото дна и, задержав дыхание, отчаянно месил воду руками и ногами, пока не дотянулся до одной из мокрых цепей, которыми плот крепился к стальным бочкам-поплавкам. Ухватившись за цепь, он почувствовал себя увереннее и немного отдохнул, а затем уперся ладонями в край плота, рывком поднялся из воды и, обтекая, откинул назад волосы со вздохом облегчения, вполне сравнимым с победительным воплем атлета-рекордсмена.
— Привет, — сказала Дженис, и они с Томми подвинулись, давая ему больше пространства.
Невозможно было понять, наблюдали они за его плачевным продвижением от берега или нет.
— А воздух прохладный, ты не находишь? — сказала она. — Смотри, я вся покрылась гусиной кожей.
Джон посмотрел и убедился, что так оно и есть.
— Сегодня на озере прямо столпотворение, — продолжила она, понизив голос. — Не припоминаю, чтобы когда-либо прежде видела здесь столько народу. А ты?
Он тоже такого не припоминал.
И еще он прежде не видел ничего столь прелестного, как тоненькая девушка, которая в ту минуту пробиралась между заполнившими плот телами купальщиков, негромко повторяя просьбу освободить ей проход. Она носила бикини с очаровательной смесью смущения и гордости, а перед выходом на трамплин вытянулась в струнку и замерла, как будто отрешилась от всего и забыла о том, что на нее кто-то может смотреть. Затем она сделала три грациозных, выверенных шага вперед, обе руки и одно точеное бедро поднялись вверх, бедро тут же резко опустилось, доска прогнулась и завибрировала от сильного толчка, девушка взмыла над поверхностью воды и вонзилась в нее практически без брызг.
Он ожидал, что пара мускулистых мужских рук протянется ей навстречу, чтобы помочь вернуться на плот, но этого не случилось: она была здесь одна. Самостоятельно выбравшись из воды, она уселась на краю, встряхнула длинными темными волосами и ни с кем не обменялась ни словом. Помимо нее и молодой парочки, не замечавшей ничего вокруг себя, на плоту находились только дети и люди среднего или старшего возраста: лысые головы, обвисшая кожа, варикозные вены.
— Давайте вернемся на берег, — предложила Дженис. — Я хочу что-нибудь надеть и согреться. А ты?
— Ладно, вы плывите вперед, а я за вами через минуту.
Он посмотрел, как они плывут до берега классическим кролем и затем, подхватив свою одежду, исчезают в кустах, после чего перенес внимание на девушку, которая готовилась к очередному прыжку.
А когда она вынырнет, он с ней заговорит. Он не станет протягивать ей руку, помогая залезть на плот, — это может лишь все испортить, — но он запросто сможет присесть рядом, когда она будет обсыхать (в сидячем положении девушка не заметит, что он мал ростом, да и потом, поднявшись на ноги, она сама может оказаться не такой высокой, как выглядит со стороны). И пока она с сосредоточенным видом шагала вперед по доске, его воображение успело провести репетицию их счастливого знакомства.
«Должен сказать, у вас очень здорово получается».
«Да?» (Встряхивает волосами, не встречаясь с ним взглядом.) «Что ж, спасибо».
«Вы живете поблизости?»
«Нет, я приехала навестить родителей».
«Вы учитесь?»
«Нет, я в июне окончила школу в Холиоке[17]. Сейчас работаю в рекламном агентстве в городе».
«В каком именно? Дело в том, что я и сам тружусь на этом поприще».
«Неужели? Подумать только!..»
Она исполнила три танцевальных шага и элегантный подъем бедра, а его воображаемый диалог мчался дальше на всех парах:
«…Может, мы как-нибудь встретимся в городе и вместе пообедаем?»
«Вообще-то, я… да, было бы неплохо».
И позднее:
«Ох, это было чудесно, Джон! Я слышала о „представительских обедах“, но никогда по-настоящему…»
И еще чуть позднее, в такси, после их первого поцелуя, сдобренного ароматом бренди:
«Какая улица? Варик-стрит? Ты там живешь?»
«Не то чтобы живу. Просто это одно местечко, которое может тебе понравиться…»
Уже давно исчезли пузыри и круги после всплеска; он ждал появления ее головы над поверхностью, но ничего не происходило. Он встал на ноги (кому какое дело до его роста?) и начал озираться по сторонам, подобно бдительному телохранителю, заподозрившему неладное. Прошло не менее минуты, прежде чем он заметил ее вынырнувшей далеко от плота: тонкие руки техничными, как у Дженис, гребками быстро перемещали ее в сторону берега, достигнув которого она вскоре исчезла за деревьями — видимо, пошла домой. Сгорбившись, он еще посидел на краю плота, пока не успокоилось сердцебиение и не расслабились сведенные от досады челюстные мышцы. В конце концов ему ничего не оставалось, как соскользнуть в холодную воду и предпринять мучительный обратный заплыв.
Одно было хорошо: дома в кухонном шкафчике обнаружились изрядные запасы бурбона. Переодевшись, он достал из холодильника кубики льда и налил себе двойную — а то и тройную — порцию.
— Выпить не хочешь? — спросил он у Дженис.
— Нет, спасибо.
Она в рабочих брюках сидела на высоком табурете и лущила над решетом стручковую фасоль на ужин.
— Не рановато для выпивки? — спросила она, не поднимая головы.
— По мне, так в самый раз.
Выйдя из кухни во двор для первых жадных глотков, он только там понял истинную причину охватившего его гнева. Дело было не в той девчонке на плоту (к черту ее вместе с плотом!), не в словах Дженис о ранней выпивке и не в сухом потрескивании стручков фасоли под ее пальцами (хотя звук этот всегда его раздражал). Дело было в табурете, на котором она сидела, зацепив перекладину ногой в теннисной туфле, — на таком же табурете восседал коп перед дверью психпалаты в Бельвю.
— Сучий потрох! — громко прошептал он, делая круг по двору, и его спрятанная в карман свободная рука сжалась в дрожащий кулак. — Сучий потрох!
Потому что это было нелепо, нездорово, безумно: он все еще злился. Казалось бы, выявление причины иррационального гнева должно было этот гнев погасить. Известная истина, разве нет? Но почему тогда это не срабатывало? Сейчас ему хотелось только одного — вернуться на кухню и сказать: «Дженис, сейчас же слезь с этого табурета!»
«Что такое, дорогой?» — спросит она.
«Ты меня слышала. Сейчас же подними свой зад с этого гребаного табурета!»
Она будет потрясена, как от удара по лицу. Решето начнет соскальзывать с ее коленей на пол, но Джон успеет его подхватить и с силой запустит в стену; фасоль разлетится по всей кухне.
«Клянусь Богом, если ты сию же минуту не встанешь, я ссажу тебя с табурета затрещиной! Ты меня поняла?»
«Джон, — скажет она, вставая и пятясь в испуге. — Джон, что с тобой? Джон, ты…»
А он схватит табурет, поднимет высоко над головой и с такой силой шарахнет об пол, что ножки и перекладины расколются в щепки. Она в страхе прижмется к стене, и это зрелище побудит его поднять голос до громоподобного яростного рыка:
«Ты возомнила себя кем-то вроде копа? Вроде копа, сидящего на страже в дурдоме? А? Возомнила себя задастой полицейской сучкой, посаженной тут, чтобы следить за психами на выгуле? А? А?»
К тому времени Томми уже будет рыдать в дверях кухни, беспомощно сжимая ширинку на своих штанах (подобно тому как старец в Бельвю сжимал свои сморщенные гениталии, что побудило Спивака назвать его «секси-боем»), и по инерции он перенесет свою ярость на сына.
«Вот-вот, ты должен следить за своим внешним видом, малыш, не забывай об этом. Пора уж тебе поумнеть. Я — твой отец. А это твоя мать. Я психопат со справкой, а она коп, ты это понимаешь? Коп! Коп!»
Ничего этого в реальности не произошло, но лишь потому, что он выговорился шепотом, тяжело дыша, обхватив рукой ствол высокого, шелестящего листвой дерева в тишине заднего дворика.
Следующее утро выдалось ясным, но слишком прохладным для купания, и он делал то, что назвал «лучшим отдыхом» по дороге сюда: валялся на одеяле посреди лужайки.
Еще задолго до полудня он принялся через каждые минут двадцать вставать якобы для разминки и, благодушно улыбнувшись Дженис (на тот случай, если она поднимет голову от своих грядок), заходить в дом, чтобы сделать добрый — лечебный — глоток виски в закутке у кухонной раковины. Иногда, если шум транзисторного приемника Томми в соседней комнате гарантировал, что его не застанут врасплох, он делал два или три глотка подряд.
После обеда он вздремнул и проснулся уже ближе к вечеру. С трудом оторвавшись от матраса и спустив ноги с кровати, он позвал Дженис, которая пришла и села рядом с ним.
— Послушай, — сказал он. — Знаю, что ты планировала провести здесь еще несколько дней, но я хочу завтра уехать в город. Думаю, мне нужно показаться в офисе.
— С этим нет никакой спешки, дорогой, — сказала она. — Джордж Тейлор может подождать.
— Разумеется, он может подождать. Дело не в нем, а во мне. Мне кажется, чем раньше я вернусь к своей деловой рутине, тем скорее приду в норму, вот и все.
Он и не рассчитывал услышать от нее фразу типа: «Поступай как знаешь», но по крайней мере, она не стала с ходу возражать. Вместо этого она какое-то время молча разглядывала испещренные тенью листьев прямоугольники солнечного света на дощатом полу, а потом дотронулась до его колена и сказала:
— Хорошо.
Он был на кухне, наливая первую из двух (и не более, как он поклялся себе) порций виски перед ужином, когда до него донесся голос жены, сообщающей Томми об изменении планов:
— Милый, мы с папой решили завтра вернуться домой. Ты не против?
И Томми сказал, что ему без разницы, ему все равно.
— Кого я вижу! Привет, бродяга, — произнес Джордж Тейлор, огибая свой массивный стол с протянутой для приветствия рукой. — А Дженис говорила, что ты проболеешь еще целую неделю.
— Ты же знаешь, как бывает с этим гриппом: иногда он валит с ног надолго, а в другой раз оказывается скоротечным.
И Уайлдер позволил шефу сплющить костяшки своих пальцев в крепком рукопожатии.
— Ты отлично поработал в Чикаго. Я получил оттуда несколько очень позитивных отзывов.
— Ах, это… да, рад слышать.
Как ни странно, сам Уайлдер почти ничего не помнил о своем пребывании в Чикаго.
— Сегодня же обсудим кое-что из твоих наработок. И еще на подходе парочка новых проектов. Составишь мне компанию за обедом?
Он вернулся к столу и нажал одну из множества кнопок на громоздком телефонном аппарате.
— Милочка, — сказал он по громкой связи, — нам с мистером Уайлдером нужен столик в «Раттацци», на два тридцать. Займись этим.
В половине третьего на втором этаже ресторана они предстали перед метрдотелем, именовавшим их джентльменами — под стать медбрату Чарли в Бельвю. Мартини здесь подавали в бокалах на толстой короткой ножке, по объему больше подходивших для пива. Еще до того, как Джордж Тейлор покончил с первым из них, стало ясно, что ему наскучила чикагская тема, как, впрочем, и новые проекты: он не завершал фразы и с завистью поглядывал на веселые компании за другими столиками. Похоже, ему не хотелось думать ни об «Американском ученом», ни о рекламе, ни о делах и деньгах вообще — да и кто мог его в этом винить?
Он был крупным мужчиной пятидесяти шести лет с густой рыжей шевелюрой, которая местами начала седеть. Как вице-президент компании, курирующий сферу сбытовой рекламы, он достиг пределов роста в корпоративной иерархии. Причем солидная зарплата и дивиденды по акциям составляли менее половины его доходов; остальное он получал от операций с ценными бумагами, порядком набив руку в этом деле. Жил он в элитном поселке за городом, в округе Рокленд; его дети уже были взрослыми, обзавелись своими семьями и подарили ему троих внуков. Кто-нибудь другой на его месте увлекался бы гольфом, или яхтами, или коллекционированием старинного оружия, но главным увлечением Джорджа Тейлора были юные девицы. Их с Уайлдером совместные трапезы почти всегда сопровождались рассказами о новых пассиях, которые просто не мыслили себе жизни без Джорджа и гонялись за ним повсюду, добиваясь его благосклонности, а как минимум одна из них прорыдала всю ночь в его объятиях после формальной помолвки с каким-то юристом из недавних выпускников Г арварда.
— Ну вот, я готов повторить. А ты как, Джон? — сказал он, демонстрируя пустой бокал.
— И я не прочь.
Второй бокал мартини подвиг Джорджа на исповедальный монолог.
— …Ты даже представить себе не можешь, что творит со мной Сэнди! Я об этой знойной милашке, этой ходячей проблеме, этом прелестном клубке гремучих змей.
Смешливая полногрудая Сэнди одно время, на протяжении полугода, была его личной секретаршей.
— Сколько нервов она мне попортила, работая здесь, но, когда я пристроил ее в другую контору, стало только хуже. Помнишь, я рассказывал, что нашел ей работу у «Дрейка и Корнфилда», в недавно открывшемся агентстве на Пятьдесят девятой? Типичная новомодная фирмочка, где у всех не сходит с языка слово «креатив». Девчонки там разгуливают по офису босиком, а среди клерков полно молодых самцов, всегда готовых поразвлечься. Потому я решил, что это место как раз для Сэнди. Но, черт возьми, Джон, она не желает со мной расставаться! Хуже того, я и сам этого не хочу. Три-четыре вечера в неделю, половина моего отпуска — только представь! Чумовая крошка. Двадцать два года, и помешана на сексе. Натурально помешана на сексе. Говорит, что на дух не выносит парней ее возраста. А со мной у нее якобы идеальная совместимость. На прошлой неделе жена удивилась: «С чего это ты стал надевать пижаму?» А знаешь, почему я это делаю? Да потому, что у меня вся спина исцарапана коготками Сэнди. Чумовая, шальная крошка. Между прочим, она терпеть не могла свою прежнюю квартиру. Она снимала ее на пару с подругой и вечно сетовала на недостаток интима при наших свиданиях. Тогда я нашел для нее отдельную квартиру — она сама оплачивает аренду и все прочее, в этом плане она очень щепетильна, — но теперь я должен появляться там почти каждый вечер, не то она начнет трезвонить мне домой. А около месяца назад она попросила: «Отвези меня в Филадельфию». Я сказал: «Зачем нам ехать в Филадельфию?» А она: «Потому что я хочу сделать тебе отсос, когда ты разгонишься до восьмидесяти миль в час на Джерсийском шоссе».
— И она это сделала?
— Еще как сделала, дружище! На скорости восемьдесят миль. С ума сойти!
Они опорожнили еще по бокалу и только после этого приступили к еде, уже успевшей остыть; затем был кофе маленькими глотками и унылая перспектива офисной возни до вечера. Тейлор посетовал на необходимость готовиться к декабрьской — чтоб ее! — итоговой конференции, а Уайлдера ждала на столе пачка головоломных расходных счетов из Чикаго, с которыми надо было как-то разобраться, после чего ему предстояло сделать массу телефонных звонков по накопившимся за неделю вопросам.
И все же офис был куда лучше психушки. Стены здесь были чисто-белыми, а свет не резал глаза; здесь присутствовали не только мужчины, но и женщины; все сотрудники носили цивильную одежду, и никто не просил о спасении, не вопил, не мастурбировал и не пытался выбить ногой окно. Но при всем том в каждом лице замечалось нарастающее нетерпение по мере того, как рабочий день приближался к концу; а когда часовая стрелка достигла заветной пятерки, это было сродни сигналу больничного копа, готового открыть дверь палаты и отпустить восвояси выписанных пациентов.
— Привет, — сказал он, входя в свою квартиру, теперь уже свободный не только от офиса, но и от грохочущей передвижной темницы подземки.
— Привет, — откликнулась Дженис, а Томми оторвал взгляд от телевизора и промычал что-то невнятное, поскольку в это время грыз яблоко.
Сняв пальто и галстук, он сразу прошел на кухню за бурбоном и льдом. Дженис последовала за ним.
— Тебе налить? — спросил он.
— Чуточку. Примерно треть от того, что наливаешь себе.
Во время ужина зазвонил телефон. Дженис отправилась в гостиную и вскоре вернулась с сообщением, что к ним собирается заглянуть Пол, выпить по стаканчику и поболтать.
— Ты ведь не против? — спросила она.
— Конечно нет.
Он действительно был не против этого визита, но вполне мог бы и возразить, не будь за столом Томми, методично кромсавшего ножом свиную отбивную. Он знал, о чем заведет разговор Борг: наверняка он порекомендует какого-нибудь авторитетного психиатра, и Дженис будет одобрительно кивать, а то и возьмет мужа за руку в порядке моральной поддержки.
Но откуда Борг узнал об их преждевременном возвращении в город? Хотя ответ на этот вопрос был очевиден: Дженис позвонила ему днем и рассказала о «странном» поведении Джона и о том, что он провел большую часть уик-энда в пьяном ступоре. Без сомнения, эти двое действовали сообща с того самого вечера, когда у него случился срыв. (Размышляя во время прогулок по коридору психушки, он очень скоро пришел к выводу, что появление Борга в «Коммодоре» отнюдь не было случайным.)
Пол явился поздно, уже после отхода Томми ко сну. Рубашка с открытым воротом и мешковатый свитер как бы указывали на то, что у него нет никаких серьезных поводов для визита. Только немного скотча — «спасибо, этого достаточно» — и побольше льда.
Начали с разговора о политике, как у них повелось в последние год-полтора.
— Если на то пошло, любой кандидат будет лучше Никсона, — говорил Уайлдер, — но Кеннеди я тоже не особо доверяю. Богатый гламурный мальчик, не вякнувший ни слова против Маккарти[18] — даже позднее, когда это было уже не опасно. Кандидат, купивший праймериз и одурачивший партийный съезд.
В завершение своей речи он заявил — как не раз делал прежде, — что лично он является твердым сторонником Стивенсона[19].
— Но согласись, Джон, — сказал Борг, — что Стивенсон по своей натуре подобен эллину, а Кеннеди — римлянину. Сейчас наша страна нуждается в римлянах.
Эту фразу Борг также произносил не впервые, и Уайлдер подозревал, что столь образное сравнение было им где-то вычитано.
В любое другое время Дженис сказала бы: «Точно подмечено», как будто слышала это высказывание впервые и только теперь поняла, почему Стивенсон всегда казался ей мягкотелым и недостаточно решительным, но сейчас она промолчала и, поднявшись, отправилась на кухню варить кофе. Она знала, что этим вечером им предстоит обсуждение более насущных вопросов и тогда Боргу ее поддержка будет нужнее.
После ее ухода Борг еще немного потянул время и наконец дал первый залп.
— Джон, — сказал он, старательно приминая пальцем табак в чашечке трубки (обычно он курил сигареты, а трубкой пользовался только в особых случаях, включая общение с трудными клиентами). — Джон, ты уже думал о психотерапии?
Самого этого слова оказалось достаточно для того, чтобы выманить Дженис из кухни обратно в гостиную. Она тихо приблизилась и, отводя глаза от мужа, поставила на кофейный столик поднос с мелко трясущимися чашками и блюдцами.
Вопрос повис в воздухе. Пол и Дженис ждали ответа, готовясь мигом осадить Уайлдера, если тот вдруг повысит голос. Спальня Томми находилась в конце коридора, за двумя дверями, но все равно лучше было перестраховаться: этот разговор никак не предназначался для его ушей.
Думал ли Джон об этом? Да, думал. Правда, всего однажды, в свой последний день в Бельвю, когда въедливый мелкий клерк вынудил его согласиться на сеансы психотерапии как условие его освобождения под поручительство Борга.
— Если ты выступаешь моим поручителем, или как там оно называется, тогда тебе следует обращаться не ко мне, а к тому клерку. И Дженис с собой прихвати. Я уверен, что вы втроем найдете какое-то решение, даже если ради этого вам понадобится снова упрятать меня в дурдом.
По лицу Дженис было видно, как она борется с желанием сказать: «Джон, это несправедливо!» Но она лишь пригубила свой кофе, тем самым показывая, что намерена любой ценой удержать дискуссию в цивилизованных рамках.
А Борг хмурился сквозь клубы здравого смысла, поднимавшиеся из его зажатой в зубах трубки.
— Мы не добьемся толку, — сказал он, — если будем по всякому поводу поминать Бельвю. Ни я, ни Дженис никогда не хотели тебя «упрятать», о чем мы уже много раз говорили. И сейчас, выступая с нападками и подозрениями, ты ведешь себя…
— «Вызывающе», да? «Параноидно»?
— Это твои слова, не мои. Если хочешь, давай вспомним события, которые привели тебя в больницу. У тебя в Чикаго случился нервный срыв, и по возвращении оттуда ты вел себя неадекватно. Честно говоря… — Тут он опустил глаза. — Я только недавно, с большим опозданием понял, что определенные симптомы начали проявляться еще несколько месяцев назад.
— Симптомы? Какие симптомы?
— Прежде всего, усилившаяся тяга к выпивке. По сути, беспрерывное пьянство. И раздражительность: ты мог взорваться по самым пустячным поводам. Резкие перепады настроения; подавленность. Бывало, мы с Натали приходили к вам или вы навещали нас в гостях, и ты за весь вечер не произносил ни слова.
Уайлдер чуть было не сказал: «Да просто мне было с вами скучно», но вместо этого плеснул себе еще порцию виски и стал молча слушать, как Борг расписывает всю пользу, которую ему принесет общение с психиатром.
— Это не какой-нибудь закосневший во фрейдизме представитель «старой школы», но притом уж точно не из новых выскочек-недоучек. Это солидный, уважаемый специалист, который будет заниматься тобой дважды в неделю.
Борг извлек из заднего кармана записную книжку в твердой обложке, вырвал оттуда страницу и положил ее на столик. Там были написаны имя — доктор Джулс Бломберг — и адрес в Верхнем Ист-Сайде. По словам Борга, этот человек вытащил одного его клиента из почти суицидальной депрессии и вдобавок помог страдавшему ожирением другу того же клиента сбросить добрую сотню фунтов. В своей области он пользовался огромным авторитетом: его статьи печатались в лучших психиатрических журналах, он читал лекции во многих университетах…
— И разумеется, ты ему все обо мне рассказал? И уже договорился о встрече?
— Да, кое-что я ему о тебе сообщил. А встречаться с ним или нет — тут выбор за тобой.
Выбор за ним. Какое-то время в комнате стояла тишина; слышалось только побрякивание кубиков льда в бокале, который задумчиво вертел Уайлдер. Чем черт не шутит? Вдруг это поможет, вдруг сработает? А если нет, он в любой момент сможет это прекратить.
— О’кей, — сказал он, — я встречусь с этим типом.
И, драматизируя свою капитуляцию, водрузил ноги в ботинках на кофейный столик.
Но Дженис по-прежнему была напряжена, а Пол Борг обжигался, в третий или четвертый раз пытаясь вновь раскурить погасшую трубку. За отсутствием нужных навыков, эти его старания были обречены.
— Есть еще один важный момент, Джон, — наконец произнес он. — Доктор Бломберг ясно дал понять, что он согласен заняться тобой только при условии, что ты бросишь пить.
— В таком случае эта игра окончена, — сказал Уайлдер, вставая. — Доктор Бломберг остается не у дел. Доктор Бломберг садится в лужу. Как и ты, приятель… — Он нацелил указательный палец на Борга, а затем на свою жену, — и ты тоже. Возможно, у меня не все ладно с башкой и мне нужна «помощь», но я не являюсь и никогда не стану жалким пьянчугой.
Как бы в подтверждение этих слов он потянулся за бутылкой и налил себе почти полный стакан. Сейчас он был ближе всего к срыву с начала этой встречи, но все же не сорвался, остановленный не только мыслью о спящем неподалеку сыне, но и внезапно промелькнувшим воспоминанием о Чарли со шприцем в руке и фразой: «А ведь я вас предупреждал, мистер Уайлдер…»
— …Мы дружим уже много лет, Джон, — говорил тем временем Борг, — и я часто отмечал у тебя низкую выносливость к спиртному. Много раз мы выпивали на равных, порцию за порцией, и, когда я только начинал чувствовать себя навеселе, ты был уже… гм, сильно под мухой.
— Это твое субъективное мнение. Предвзятое мнение. Ты ведь выпиваешь каждый день, верно? Так же, как я?
— Да, каждый день. Я не пью за обедом, но пропускаю стаканчик-другой после работы, а потом дома после ужина.
— А это значит… — подхватил Уайлдер, — это значит, что каждый день примерно в полчетвертого или четыре ты начинаешь испытывать тягу к спиртному. Тебе так хочется выпить, что ты даже чувствуешь привкус виски во рту. Я угадал?
— Нет. Ничего такого со мной не происходит. К этому времени я обычно уже устаю, а к пяти часам усталость дополняется раздражением. Но после нескольких порций виски раздражение и усталость проходят. Только и всего. Конечно, я испытываю потребность в алкоголе, Джон. Но разница в том, что мой организм с этим справляется без особых проблем. Возможно, дело просто в обмене веществ.
— Я гляжу, ты неплохо устроился, — сказал Уайлдер. — Всему находишь объяснения.
В этот миг до них донесся слабый, неуверенный зов из комнаты Томми. Дженис поспешила туда, и Уайлдер воспользовался паузой, чтобы одним духом осушить свой бокал. По возвращении Дженис сказала:
— Он хочет видеть тебя, Джон.
— О боже. Но как он мог что-то услышать? Я не повысил голос ни разу за время этого дерьмового…
— Не в том дело. Он только что проснулся и сказал, что хочет видеть тебя.
В коридоре обнаружилось, что Уайлдер уже нетвердо стоит на ногах: пошатнувшись, он зацепил плечом стену.
Томми сидел на постели при включенном свете, в окружении символики «Янкиз» и предвыборных плакатов Кеннеди. Его пижама была смята, прямые волосы торчали во все стороны, и сейчас он не выглядел на свои десять лет. Скорее, лет на шесть или семь.
— Ну, привет, — сказал Уайлдер, присаживаясь на кровать.
Он сел достаточно близко к сыну, чтобы тот мог его обнять, если захочет. Так оно и вышло. Теплое прикосновение и сладковатый запах детского тела чуть не заставили его расплакаться.
— Что случилось, Том? Ты позвал меня, чтобы обняться, или ты хотел о чем-то поговорить?
Несколько секунд казалось, что все ограничится объятиями, но потом Томми произнес:
— Папа?
— Что?
— Ты ведь уезжал в Чикаго на неделю, да?
— Верно.
— А потом дела задержали тебя там еще на неделю?
— Да.
— Как тогда получилось, что твой чемодан лежит в мамином шкафу еще с прошлой субботы?
— И что вы ему ответили? — спросил доктор Джулс Бломберг несколько дней спустя.
— А что я мог ему сказать?
— Хм…
Доктор Бломберг был примерно его возраста или чуть моложе, круглолицый и почти лысый; толстые розоватые стекла очков сильно увеличивали его глаза. Кабинет был хорошо обставлен: дорогие с виду картины на стенах, дорогие с виду скульптуры на низких постаментах по периметру ковра. Была здесь и медицинская кушетка, ложиться на которую Уайлдер отказался, а также два глубоких кожаных кресла, в которых они теперь сидели лицом к лицу. На данный момент это было все, что он знал о докторе Бломберге помимо того, что он постоянно делал записи в блокноте и имел привычку неопределенно хмыкать.
— Да, задним числом мне приходили в голову более-менее удачные ответы, но в тот момент я совершенно растерялся. Я ведь тогда изрядно выпил, и мозги были… ну, сами понимаете. Только и смог, что прижать его к себе и сказать… я сказал, что это сложный вопрос, но я обязательно на него отвечу, только попозже, а потом понес какую-то чушь про то, что я никогда не нарушаю обещаний. Я чувствовал, что должен срочно уйти оттуда, пока не сорвался и не начал на него орать. Уложил его, выключил свет и вышел. Похоже, он вскоре заснул. Но суть в том, доктор, что именно в ту минуту я и решил обратиться к вам.
— Хм. И бросить пить.
— Да. И это тоже.
Следующие двадцать пять минут доктор Бломберг посвятил данной теме, заработав на этом двадцать пять долларов. Первым делом он посоветовал профессиональную помощь Общества анонимных алкоголиков как самой надежной и компетентной организации, занимающейся данной проблемой, а затем набрал номер на своем аппарате цвета мякоти авокадо и обратился к некоему мистеру Костелло:
— …Спасибо, я в порядке, а как вы? Рад за вас. Мистер Костелло, у меня здесь новый пациент, который желает присоединиться к Программе. Не могли бы вы взять его под свою опеку?.. Не хочу доставлять вам неудобство, но чем скорее, тем лучше. Завтра или даже сегодня вечером, если вас не затруднит… Нет, полагаю, визит к нему домой нежелателен — там, понимаете ли, маленький ребенок. Я подумал, быть может, вы могли бы встретиться с ним за чашечкой кофе…
За углом от этого офиса располагалось одно чересчур ярко освещенное кафе — по соседству с уютным полутемным баром, где Джон спешно опрокинул пару рюмок, дабы взбодриться перед встречей с Бломбергом, и где рассчитывал подкрепиться еще несколькими порциями впоследствии. Но телефонные собеседники договорились, что мистер Костелло будет ждать Уайлдера сразу по завершении сеанса в этом самом кафе. Далее Бломберг заработал еще несколько долларов на извинениях и благодарностях — «…Сожалею, что пришлось так срочно отвлечь вас от других дел, сэр… Высоко ценю вашу готовность…» — и на выслушивании ответных заверений мистера Костелло в том, что для него это ничуть не затруднительно и он всегда счастлив помочь.
Наконец доктор положил трубку на аппарат, все еще сияя после обмена любезностями, сверился с часами, обнаружил, что уже не успеет поднять новую тему, и вернулся к пункту, который ранее упустил при обсуждении работы Уайлдера в «Американском ученом»: что конкретно подразумевалось под термином «профильный специалист»?
— Видите ли, большинство рекламщиков продают журнальное пространство любым заказчикам, каких смогут найти. А меня переманили из другого журнала потому, что я имел налаженные связи в сфере торговли двумя видами продукции, прежде не охваченными «Ученым»: импортные автомобили и престижные алкогольные бренды. Оба весьма выгодные и перспективные.
— Хм. Стало быть, вы специализируетесь на этих «профилях», понимаю. Надо полагать, алкогольная составляющая вашей специализации не обходится без дегустаций продукции — так сказать, в рабочем порядке.
— Нет, все не так просто, доктор. Профессионалы в этой области строго соблюдают умеренность. Ту неделю я провел в Чикаго на конференции предпринимателей в алкогольной отрасли, и не обошлось без фуршетов, конечно, но проблема не в них: напивался я уже потом, в одиночку.
— Понятно. К сожалению, время нашей беседы истекло, мистер Уайлдер.
Кафе оказалось почти пустым, наводя на мысль, что обитатели квартала предпочитали ему соседний бар, куда не терпелось заглянуть и Уайлдеру. Впрочем, долго ждать ему не пришлось, и вскоре в дверях возник его «опекун» с портфелем в руке.
— Джон Уайлдер? Я Билл Костелло.
Он был одет с иголочки, румян, с жидкими седыми волосами, аккуратно причесанными на манер Гарри Трумэна, с обнаженным в широкой улыбке комплектом белоснежных вставных зубов и крепким рукопожатием, как бы демонстрирующим здоровье и силу, обретенные в результате победы над пьянством.
— Хочу вас поздравить, — заявил он, садясь напротив Уайлдера и кладя на стол локти, обтянутые добротной тканью в мелкую полоску. — Не только с решением по «АА», но и с обращением именно к доктору Бломбергу. Этот город буквально кишит психиатрами, и не мне вам говорить, что большинство из них — просто шарлатаны. Они годами морочат голову людям вроде нас, игнорируя наши проблемы и позволяя нам допиваться до психушки или до могилы. Черный кофе, пожалуйста. — Последняя фраза была обращена к официантке. — Доктор Бломберг является одним из редких, редчайших исключений. Я восхищаюсь этим молодым человеком.
— Вы были его пациентом?
— Я? Нет. Увы, я слишком стар, чтобы в свое время иметь это удовольствие. Полагаю, Джулс Бломберг был еще студентом, когда я присоединился к Программе. Однако вернемся к нашему делу. Когда вы в последний раз употребляли спиртное, Джон?
— Около часа назад, перед встречей с доктором.
— На посошок, да? — Билл Костелло добавлял в кофе больше сахара, чем Уайлдер видел когда-либо прежде. — «На посошок». Боже, как часто люди вроде нас произносят эту фразу. А на другой день мы открываем газету, читаем новость: «Ребенок был сбит пьяным водителем» — и думаем, что уж с нами-то такого не может произойти никогда. Не так ли?
— А как давно… в смысле, когда вы в последний раз выпивали?
— В следующем месяце исполнится девять лет с того дня. Шестнадцатого октября пятьдесят первого года. Поймите меня правильно, Джон, я этим отнюдь не хвастаюсь. Я счастлив оттого, что веду трезвый образ жизни, но хвастаться тут нечем. Когда на приемах и вечеринках мне предлагают выпивку, я прошу стакан коки или что-нибудь в этом роде. Если они настаивают, я говорю, что не пью, а если они не отстают и после этого, я объявляю себя алкоголиком. Не «бывшим алкоголиком» или «излечившимся алкоголиком», потому что таких не существует в природе. В «АА» мы никогда ничего не обещаем — ни себе, ни другим, — кроме обещания продержаться трезвым еще один день. Двадцать четыре часа. Вот почему так важно посещать собрания каждый вечер, особенно на первых порах. Но, черт возьми, Джон, я не могу так сразу все объяснить; вы сами постепенно разберетесь в Программе. Позвольте для начала снабдить вас кое-какими материалами.
Он извлек из портфеля пачку ярких брошюр («Кто? Я?» — гласило одно из названий) и разложил их на столике:
— Эту книжечку можете просто носить в кармане на всякий случай. А вот этот буклет важнее: здесь указано расписание встреч Общества в разных частях города. Адреса, даты, время начала. Так что каждый вечер у вас будет выбор из четырех-пяти мест — в спортзалах, подвалах церквей, офисных зданиях.
Вставные зубы Костелло сверкнули в приглашающей и одновременно вызывающей ухмылке.
— Может, начнете прямо сегодня? Вместе со мной?
Уайлдер, запинаясь, отказался под наспех сочиненным предлогом: мол, к нему сегодня на ужин придут гости.
— Тогда завтра вечером? Хотя нет, не выйдет. На завтрашний вечер у меня самого уже есть планы.
— Ничего страшного. Я пойду на собрание один.
— Хорошо. Это в самом деле хороший признак. Многие новички стесняются впервые прийти на встречу без сопровождения. В дальнейшем я непременно составлю вам компанию на нескольких встречах. А вот это… — продолжил он, вновь роясь в портфеле. — Но эта книга уже не подарок, Джон. Это вам на прочтение с возвратом. Не так важно, сколько вы продержите ее у себя, но в конечном счете я хочу получить ее назад. В процессе чтения вы поймете почему и захотите приобрести экземпляр для себя. Мы называем ее «Большой книгой» — это наш канонический текст.
Книга в темной обложке с виду напоминала Библию, но показалась Уайлдеру более увесистой.
— Не пытайтесь прочесть ее залпом; читайте по одной главе с перерывами. Пусть ее содержание прочно осядет у вас в голове. И еще: на последней странице буклета вы найдете номера моих телефонов, домашнего и рабочего.
По идее, ваш опекун должен быть всегда доступен по телефону на тот случай, если вы почувствуете, что вот-вот сорветесь, потеряете контроль над собой и вновь начнете пить. Тогда опекун приходит к вам, или вы с ним где-нибудь встречаетесь и беседуете. Проблема со мной в том, что я часто отлучаюсь из города, поэтому сделаем так: всякий раз перед отъездом я буду сообщать доктору Бломбергу номер другого человека, к которому вы сможете обратиться. И разумеется, поставлю в известность этого «запасного» опекуна. Вас это устраивает? Вот и славно, был рад познакомиться.
С небрежной щедростью высыпав на столик монеты, он встал и двинулся к выходу впереди Уайлдера.
— Вам в южную сторону? Тогда пройдусь с вами до «Лекса». В какой сфере вы работаете, Джон?
— В рекламной. А вы?
— Думаю, вы назовете это шоу-бизнесом. На телевидении.
— Вы актер?
— Нет, я по писательской части. Много лет делал сценарии для Голливуда, потом работал на радио. А сейчас делю свое время между этим и Западным побережьем. Являюсь одним из трех сценарных редакторов в «Давайте спросим папочку».
— Я слышал об этом шоу, но, к сожалению, никогда…
— И вам очень повезло. — Последовало еще одно крепкое рукопожатие, и зубные протезы еще раз сверкнули в свете уличных фонарей. — Я бы злейшему врагу не пожелал травиться этой теледрянью. Ну, всего доброго, Джон!
И Билл Костелло быстро удалился.
Выбирая место своей первой встречи с Анонимными алкоголиками, Уайлдер руководствовался его близостью к дому и поздним временем проведения, чтобы покинуть дом уже после того, как Томми ляжет спать. Правда, местом этим оказался подвальный зал церкви, а с церквями у него были связаны не самые приятные воспоминания. Какое-то время он нерешительно прогуливался по тротуару, наблюдая за прибытием членов Общества, а потом все же вошел в зал, где на столе рядом с дверью урчала пара кофеварочных машин и стояли подносы с двумя домашними тортами, шоколадным и кокосовым.
— Большинство из вас меня хорошо знают, — открыл собрание поднявшийся на кафедру мужчина, меж тем как Уайлдер съежился на складном сиденье в последнем ряду. — Однако я вижу здесь несколько новых лиц и потому начну с обычной процедуры представления. Меня зовут Херб, и я алкоголик.
В ответ громоподобно грянул хор:
— Привет, Херб!
— Сегодня нас ждет очень интересная встреча с двумя прекрасными ораторами, но сначала я попрошу Уоррена зачитать «Семь принципов».
— Меня зовут Уоррен, и я алкоголик.
— Привет, Уоррен!
«Семь принципов», казалось, будут зачитываться до бесконечности, а между тем воздух в зале все более сгущался от сигаретного дыма и сотрясался от кашля. Затем слово дали невзрачной девице («Привет, Мэри!»), которая еле слышным голосом зачитала «Двенадцать шагов».
— Наш первый оратор бывал здесь уже неоднократно, — сказал Херб, — но я возьмусь его представить, поскольку сам он вряд ли сделает это надлежащим образом в силу природной скромности. Боб — чрезвычайно успешный консультант по управлению. Настолько успешный, что, как я сегодня узнал — причем узнал совершенно случайно, — он недавно был избран президентом Нью-Йоркской ассоциации управленческих консультантов. Он всегда произносит вдохновенные речи, наводящие на размышления и… впрочем, пора уже передать слово ему.
Боб взлетел на кафедру с энергией человека, ежедневно пробегающего милю перед завтраком, оправил дорогой пиджак на мясистом торсе, объявил себя алкоголиком и, не дожидаясь угасания криков «Привет, Боб!», взял быка за рога.
— Конечно, слова «консультант по управлению» звучат красиво и солидно, — начал он, — однако в недалеком прошлом я был не в состоянии управлять даже самим собой, не мог консультировать даже себя без помощи тройной порции скотча, а мы все знаем, к чему приводят подобного рода консультации. Да, меня порядком потрепала война, оставив на память несколько шрамов — Гуадалканал, Тарава, Иводзима,[20] — но это никакое не оправдание: ведь миллионам других парней также пришлось пройти через подобное. Так вышло, что после службы в морской пехоте я оказался плохо приспособлен к гражданской жизни, — думаю, нет необходимости пояснять вам, что я имею в виду. Поступил в бизнес-школу, но был отчислен из-за пьянства; устраивался на пару работ и потерял их из-за пьянства. Затем я лишился… лишился жены из-за того же пьянства. Прекрасная женщина; она держалась, сколько было сил, ради нашей дочурки, но в конце концов не смогла… не смогла это терпеть. Вот когда… — В его голосе появилась очень уместная в таких случаях дрожь. — Вот когда я достиг дна.
Но остальная часть истории Боба уже шла в гору: он присоединился к Программе, получил всемерную поддержку превосходнейшего опекуна; вернулся к учебе, одновременно подрабатывая на стороне и помогая деньгами бывшей жене и дочери; успешно сдал экзамены, а затем череда счастливых случаев поспособствовала его дальнейшей карьере. Его бывшая вторично вышла замуж за достойного человека — вот счастливчик! — а его дочь получила прекрасное воспитание и стала прелестной девушкой, с которой он отлично ладил. Сам он также вторично женился на… на самой прекрасной женщине в мире.
— Да, мне повезло в жизни, — сказал он в заключение, — и я не устаю благодарить за это судьбу. Но, скажу вам, в моей жизни была только одна воистину чудесная вещь, а именно встреча с чудесными людьми вроде вас, чудесная организация «АА», это чудесное, чудесное содружество. Благодарю вас.
И он был вознагражден чудесными, продолжительными аплодисментами.
— Наш второй сегодняшний оратор, — снова взял слово Херб, — это милейшая леди, образцовая домохозяйка и мать, взявшая на себя много социальных и благотворительных обязанностей, но тем не менее находящая время для того, чтобы несколько раз в неделю приезжать сюда из Уэстпорта и участвовать в наших собраниях. Ей здесь всегда рады, и я уверен, что вы получите удовольствие от ее выступления.
На кафедру поднялась женщина лет сорока пяти, довольно симпатичная даже при слишком массивной челюсти, в красивом модном платье свободного покроя.
— Я Элеонора, — сказал она, — и я очень, очень благодарная алкоголичка.
Далее она поведала о том, как в свои худшие пьяные годы выпивала не одно, а три мартини в пять часов ежедневно: один бокал на кухне, чтобы подкрепиться в процессе приготовления ужина, второй у телефона в холле, если раздавался звонок — «без выпивки я боялась, я просто боялась подходить к телефону», — и третий у ванной комнаты перед тем, как проследить за купанием детей. Далее, разумеется, были вино за ужином и бренди после него, пока она однажды не поняла, что стала рабыней алкоголя. Во второй части ее речи — о счастливом исцелении с помощью Программы — чаще всего употреблялись слова «моя трезвость».
— Готов поспорить, что эта бабенка ни разу в жизни не была по-настоящему пьяна, — произнес сосед Уайлдера, ткнув его локтем в бок и дыхнув ему в лицо парами виски. — Расфуфыренная светская кукла, якобы почтенная матрона. Приезжает сюда из Уэстпорта на своем навороченном «линкольне-континентале» и балдеет от этих представлений. Потом еще будет самолично потчевать всех дерьмовыми тортами, вот увидишь.
Но Уайлдер не стал дожидаться этого момента. По рядам пустили корзинки для сбора пожертвований, затем был зачитан список пациентов различных клиник, которые наверняка были бы рады получить цветы и открытки, после чего все встали для хорового исполнения молитвы, и тут он смог улизнуть.
Он нашел самый темный бар в округе и пил там допоздна, когда, по его расчетам, Дженис уже давно заснула. Садясь в такси, он был уверен, что, если завтра прочтет в газете: «Ребенок был сбит пьяным водителем», в этом не будет его вины.
— Прежде чем мы начнем, — сказал доктор Бломберг на их следующем сеансе, — хочу сообщить, что сегодня говорил с мистером Костелло. Он был вызван в Лос-Анджелес и не знает, как долго там пробудет, но попросил меня дать вам вот это имя и номер на тот случай…
— Да-да, хорошо, спасибо.
— Вы посещали собрания?
— Два. Первое было никчемным… — И он попытался, хотя и без особого успеха, объяснить почему. — А второе, в Верхнем Вест-Сайде, было получше. Оно проходило в здании заброшенного кинотеатра, и мне там в целом понравилось. Выступал бывший коп, уволенный со службы за пьянство. Сейчас он работает охранником в банке, но понимает, что лишится и этого места, если вновь потянется к бутылке. Потом говорила бывшая проститутка, которой ее опекун нашел работу в парикмахерской…
— И вы в эти дни не выпивали?
— Нет.
Это была ложь — даже после второго, более удачного собрания он перед отходом ко сну тайком принял на кухне тройную порцию теплого бурбона, — но в такой ситуации ему показалось уместным соврать.
— На самом деле я предпочел бы побеседовать о других вещах, доктор. Я всегда считал, что во время психиатрических сеансов пациент обычно рассказывает о посещающих его мыслях. К примеру, сегодня по пути с работы сюда я думал о книгах в нашем доме. Их четыре или пять тысяч — я ничуть не преувеличиваю, — и только десятка два из них принадлежат мне. Все прочие — это книги моей жены. Я, понимаете ли, не читатель. Точнее, я очень-очень медленный читатель. Наверно, поэтому я большую часть своей жизни провел за просмотром фильмов. Я видел едва ли не все фильмы, выпущенные с тридцать шестого года. Но не позволяйте мне сейчас зацикливаться на кино, лучше поговорим о нем в другой раз, о’кей? Так вот, несколько лет назад жена затащила меня на платные курсы скорочтения, однако я оказался безнадежен. Другие люди там тоже были плохими читателями, но они не стеснялись этого так, как я. И они делали успехи с каждым занятием — все, кроме меня. Я бросил курсы на полпути, впустую потратив на них пять сотен баксов. Кажется, я страдаю тем, что вы называете психологической блокадой.
— Хм… Могу предположить, что у вас были трудности с обучением в школе.
Школа. Это слово заставило его скорчиться на стуле и сжать рукой лоб. Сразу же вспомнились предупреждения Спивака насчет таких жестов, но здесь был другой случай: этот врач работал на Уайлдера за его кровные деньги.
— Школа, — произнес он. — Вы и впрямь хотите разворошить змеиное гнездо? Обсудить мое несчастное детство? Моих безумных родителей?
— Ваших безумных родителей?
— Ну, они не были безумными в вашем смысле — то есть их никогда не запирали в клинике и не отправляли на сеанс к психиатру, — но притом они были совершенно чокнутыми. В годы Депрессии называли себя не иначе как «представителями деловых кругов», хотя отец был всего лишь бухгалтером в одной мелкой конторе, а мать — секретаршей в другой. Сколько помню, они вечно рассуждали о «менеджменте», «свободном предпринимательстве» и «стартовом капитале». Такова была их мечта: у мамы сохранились какие-то особые рецепты сладостей, которые издавна готовились у них дома в Небраске, и мои предки были убеждены, что им требуется лишь немного везения и небольшой стартовый капитал, чтобы открыть собственное дело. «Шоколад Марджори Уайлдер». Очень вкусный и очень дорогой: лакомство для снобов. Как по вашему, какое место в этих планах отводилось мне, их единственному ребенку? Сыну и наследнику? Предполагалось, что я изучу семейный бизнес с самых азов, что они воспитают меня как будущего главу фирмы, как долбаного принца крови. И к тому времени, как они отойдут от дел, мы все уже будем миллионерами, а после их смерти памятником им станет корпорация «Шоколад Марджори Уайлдер», возглавляемая Джоном Уайлдером. Теперь вы понимаете, что я имел в виду под их безумием?
— Не совсем.
— Я так и думал, что вы не поймете. Ладно, забудем об этом. Стало быть, школа. Начальные классы я посещал в обычной муниципальной школе, что было для предков чуть ли не смертельным унижением. Отправить меня в частную школу они не могли за нехваткой денег, но в конце концов придумали кое-что похлеще. Вы знаете епископальную церковь Благодати Божьей на Одиннадцатой улице? Она достаточно известна — по крайней мере, была когда-то, — а одной из главных тамошних достопримечательностей был хор мальчиков. При церкви имелась небольшая школа для хористов, и если ты хорошо пел, тебе не только давали бесплатное образование, но еще и приплачивали. Каждый школьник получал пять баксов в неделю, а солисты — по десятке. И очень скоро я стал сопрано-солистом. Конечно, с учебой у меня обстояло не бог весть как, но в церковной школе это не имело большого значения: они ставили мне нужные оценки по общим предметам только из-за моей крутизны на хорах. Блеснуть удавалось не каждую неделю, но по крайней мере на всех рождественских и пасхальных службах, когда в церковь приходило много людей послушать «Магнификат» или «Мессию». Я стоял в самом центре первого ряда, почти на голову ниже прочих хористов, выдавал сложные рулады и отчетливо чувствовал, что еще немного, и все женщины в зале натурально обделаются от восторга. Вы можете себе представить малыша Микки Руни с голосом ангела? Черт возьми!
— Боюсь, наше время уже истекло, мистер Уайлдер.
Их время истекало регулярно дважды в неделю, после чего Джон брел по Лексингтон-авеню, думая о вещах, которые не успел сказать, и шепотом беседуя сам с собой в вагоне подземки. Третий сеанс Бломберг начал с того же вопроса: посещал ли он собрания?
— …Да. Прошлым вечером побывал в новом месте, в Гринвич-Виллидж.
Там была совсем молодая девушка, которая пристрастилась к выпивке в колледже Сары Лоуренс, вступила в связь с одним из преподавателей, а когда он ее бросил, пыталась покончить с собой и в результате попала в Бельвю. Вот что забавно: это единственная бывшая пациентка Бельвю, которую я встретил, точнее, выслушал на всех этих собраниях Общества.
Он не стал рассказывать о том, как после собрания пытался подцепить эту девушку (худенькую и растрепанную, с большими страдальческими глазами), держа в уме Варик-стрит, или о том, как она в панике шарахнулась от его предложения «выпить где-нибудь по чашечке кофе» и удалилась почти бегом.
— А теперь, доктор, может, вернемся к тому, на чем мы остановились?
Разговор о школе, с отступлениями и скачками вперед-назад во времени, занял еще один часовой сеанс.
— Другие школьники всегда считали меня жалким засранцем — вне зависимости от моего статуса солиста. Вдобавок я был очень благочестивым засранцем. Мне нравились не только церковные песнопения, но и все эти треклятые религиозные формальности: ритуалы, облачения, молитвы, цветные витражи. Пожалуй, я был единственным учеником в школе, кому это нравилось. На хорах под шумок часто звучали протяжные пуки или скабрезные шуточки, из рук в руки переходили непристойные картинки, а иногда и фляжка виски, к которой прикладывались самые отпетые. Я вот к чему клоню: эти ребята, с их здоровым скептицизмом, познали всякие такие вещи на несколько лет раньше меня. В рождественский сезон нас каждый день нанимал для исполнения гимнов старый универмаг «Уонамейкерз», и никто, конечно, не возражал, поскольку это приносило несколько дополнительных баксов. Но только подумайте, какие реально большие деньги крутились при этом между чертовым универмагом и чертовой церковью! Как следовало понимать эту хрень?.. Когда начали ломаться голоса, многим ребятам не повезло: они оказались непригодными для хоральной работы, а если даже и годились, то все равно в хоре было лишь небольшое число теноров и баритонов, так что места всем не хватало. Мой голос при ломке изменился удачно — на соло, правда, уже не тянул, но был достаточно хорош, чтобы сделать из меня тенора и оставить в школе до двенадцатого класса. После того я пошел в армию. У нас еще осталось время?
— Несколько минут.
— Я спрашиваю потому, что если сейчас влезу в армейскую тему, это затянется надолго, да и не так уж это важно по сравнению с тем, что было впоследствии. Скажу только одну вещь. На призывном пункте у всех нас проверяли коэффициент интеллекта. Правда, там это называлось иначе — Армейский общеклассификационный тест, — но все понимали, что по сути это то же самое. Чтобы квалифицироваться на офицерские курсы или хоть на какую-нибудь приличную военную специальность, нужно было набрать сто десять баллов, а я набрал ровно сотню. На вопрос, можно ли пройти тест повторно, мне сказали, что я могу попросить об этом на «следующем этапе», которым оказался лагерь начальной подготовки в Северной Каролине. Я так и сделал. В этот раз нас, сдающих повторно, было всего полдюжины, а руководил этим спокойный дружелюбный лейтенант, который проверял результаты в нашем присутствии. Когда подошла моя очередь, он насчитал сто девять баллов и сказал: «Удивительное дело, ты ответил правильно на все вопросы, но успел добраться только до середины теста». Я сказал что-то вроде: «Но, сэр, если я не допустил ни одной ошибки, разве это не значит…» А он: «Это значит сто девять баллов. Все дело, должно быть, в том, что ты слишком медленно читаешь».
Спустя пару недель между ним и Дженис произошла бурная сцена, превзошедшая по накалу большинство из тех, что случались не только после Бельвью, но и задолго до того.
Все началось после ужина, когда посуда была уже вымыта, а Томми отправлен спать. Джон сидел на диване, озирая бесконечные ряды книг на полках и гадая, способен ли хоть кто-нибудь, с любым уровнем IQ, осилить эту уйму чтива, когда Дженис подошла и села рядом.
— Джон, я должна сказать, что очень горжусь тобой в эти последние… сколько прошло недель? — И она ближе придвинулась к нему, уютно свернувшись на диванных подушках. — Невероятно горжусь.
— Да-да, только давай-ка отложим невероятную гордость на потом. Я пока еще не так уж долго продержался.
— Но со стороны перемены заметнее. Сейчас ты выглядишь гораздо лучше, в тебе чувствуется больше уверенности, ты стал более оживленным. Короче, ты стал другим человеком.
— Тогда почему Томми все еще держится со мной отчужденно? Он ни разу не посмотрел мне в глаза со времени… ты знаешь, с того разговора в спальне насчет моего чемодана.
— Ох, Джон, тебя это до сих пор беспокоит? Дело прошлое. Я все ему разъяснила несколько недель назад.
— Что?! Проклятье, Дженис! Но ведь я обещал, что скажу ему это сам, когда придет время, и я тебя об этом предупредил. Ты не имела права… — Он вскочил на ноги в приступе гнева, и Дженис по старой привычке бросилась закрывать дверь гостиной, чтобы шум родительской ссоры не достиг ушей Томми. — Ты не имела права нарушать мое обещание!
— Ты должен говорить тише, — напомнила она, и Джон притих, стиснув зубы и тяжело дыша носом (метод самоконтроля, усвоенный в Бельвю), однако последняя фраза так ему понравилась, что он ее повторил, на сей раз полушепотом:
— Ты не имела права нарушать мое обещание.
— Я не сочла это нарушением. Думала тебе помочь.
— Думала мне помочь?
Он постарался произнести эту фразу презрительным тоном и усилить эффект, расхаживая по комнате с опущенными плечами и сжатыми в карманах кулаками, но все же не мог не признать, что испытывает облегчение. Она в самом деле ему помогла, но он ни за что не сказал бы этого вслух.
Дженис между тем вернулась на диван, но теперь села прямо, в своей привычной позе для «цивилизованных дискуссий».
— …Я спросила у Томми, знает ли он, что такое нервный срыв, и он сказал, что знает, хотя в этом я не уверена. И тогда я сказала, что люди иногда так изматывают себя работой, что их нервы не выдерживают напряжения, и тогда они ложатся в больницу для отдыха. И он, как мне показалось, все правильно понял. Не забывай, что ему почти одиннадцать, Джон. И я сказала…
— Да, да, да, могу себе представить. Ты сказала: «Разве не здорово, что твой папа уже не тот опустившийся алкаш, каким был прежде?»
— Джон, я ни единым словом не упомянула…
— Спасибо и на том, — оборвал ее Уайлдер, надевая пиджак, хватая с вешалки пальто и направляясь к двери, где остановился в драматической позе, взявшись за ручку. — Я ухожу. Может, на собрание, а может, на попойку. Если я не вернусь к утру, советую обратиться к копам — или к Полу Боргу, что, по сути, одно и то же. А что касается твоей Невероятной Гордости, можешь засунуть ее… засунуть ее себе…
Не договорив, он покинул дом и вскоре уже шагал по тротуару, сам не зная куда. Где-то в районе Двадцать третьей улицы завернул в бар — ограничившись только одной порцией — и просмотрел список Билла Костелло на предмет проходящих в данное время собраний. Одно такое должно было вскоре начаться на Вест-Хьюстон-стрит.
Местом встречи оказался четвертый, последний этаж складского здания, и с первых же слов ведущего стало ясно, что это собрание будет отличаться от других посещенных Уайлдером.
— У нас не выступают записные ораторы, — пояснил он для новичков. — Мы импровизируем сами. Мы предлагаем высказаться кому-нибудь из присутствующих, но, если этот участник не готов говорить, относимся с пониманием и не настаиваем. Слева от себя я вижу молодого человека, уже побывавшего тут несколько раз. Похоже, он не прочь взять слово, но сильно запыхался. Как насчет выступления, Карл?
На авансцену вышел крепыш лет двадцати с напряженно застывшим лицом и назвался Карлом, алкоголиком.
— Привет, Карл!
— Вы правы, Тони, я действительно запыхался. В Бруклине сел не на тот поезд; пришлось выйти на углу Бродвея и Деланси-стрит и проделать остаток пути бегом.
— Успокойся, Карл, можешь сделать паузу, — сказал Тони. — Пусть дыхание восстановится.
— Все нормально. Видите ли, я частенько плутаю в метро, потому что я не коренной ньюйоркец. Я из Канзаса. С подросткового возраста жил в отрыве от большого мира. В смысле: большую часть времени проводил в исправительных заведениях штата. Там было не так уж плохо: трехразовое питание, чистая одежда, чистая постель, много курева. И там я освоил свою нынешнюю профессию: я парикмахер. Но, выйдя на волю, я запил и уже не мог остановиться. Если бы это касалось только меня, все было бы еще терпимо — у меня приличный заработок, и я способен хорошо подстричь клиента, даже будучи под градусом. Но дело не только во мне. Уже около года, точнее, одиннадцать месяцев я живу с одной девчонкой в Бруклине. Проблема в том… проблема в том, что и это не помогает. Я не… она не… это не помогает совсем.
— Он помолчал несколько секунд. — Черт, я не хочу морочить вам голову обещаниями бросить пить, потому что это будет вранье. — Теперь его голос понизился почти до шепота. — Я боюсь, понимаете? Я боюсь, что она от меня уйдет. Вот почему я посещаю эти собрания. Вот почему, перепутав поезда метро, как сегодня, я бегу по улицам сломя голову. Оно того стоит, потому что здесь я как минимум… как минимум смогу провести час с людьми вроде вас, все это время — хотя бы один час — оставаясь совершенно трезвым. Спасибо за внимание.
Грянули аплодисменты, но Карл оставил их без реакции и поспешил вернуться на свое место. Там он принял позу, возможно усвоенную в исправительных учреждениях: спина прямая, руки на коленях, взгляд строго вперед и никаких улыбок, особенно если ляпнул глупость или, напротив, что-то заумное, — кроме тех случаев, когда ты хочешь сбить собеседника с толку.
— Я хотел бы обратиться к Карлу, — заявил новый импровизированный оратор, шатающийся старик с зубами наперечет. — Я хочу сказать тебе: Карл, не важно, как часто ты будешь садиться не в тот поезд. Не важно, сколько улиц тебе еще придется пробежать во весь дух. Главное, продолжай приходить сюда, парень, продолжай приходить. Ты на верном пути.
Потом выступили еще четверо или пятеро, после чего слово взял Тони.
— Сегодня у нас под занавес нечто особенное, — сказал он. — Мы празднуем годовщину. Сказать по правде, лично я всегда считал большинство годовщин в «АА» довольно нелепыми мероприятиями: вручают кому-нибудь торт с шестью, восемью, двенадцатью свечами по числу лет, проведенных без выпивки, называют его полные имя и фамилию, потом он произносит краткую речь, а ты сидишь и думаешь: «Зачем ему сейчас нужно наше Общество?
Просто хочет выпендриться или что?» Но первая годовщина — это совсем другое дело. Это реальное достижение. Черт, да вы сами знаете, как много значат эти первые двенадцать месяцев.
Он повернулся в сторону занавешенного угла зала, кивнул, и оттуда вышел розовощекий мужчина с улыбкой до ушей и розовым тортом, украшенным одной свечой, зыбкое пламя которой он прикрывал ладонью.
Тони вновь обратился к залу:
— А теперь попросим выйти сюда мистера Сильвестра Каммингса.
Долговязый негр в дешевом синем костюме встал со своего места и под аплодисменты и приветственные крики выдвинулся на всеобщее обозрение. Он пожал руку Тони и поблагодарил человека, вручившего ему поднос с тортом, но, когда кто-то из собравшихся затянул «С днем рожденья тебя!», поднял руку и произнес:
— Нет-нет, прошу вас, обойдемся без этого. То есть мне очень приятно, однако это детская песенка, а мне уже сорок семь лет. Даже мои собственные дети уже вышли из этого возраста, вышли и покинули родительский дом. — Он помолчал, глядя сверху вниз на торт. — Это кажется невероятным: целый год. Одно лишь я знаю наверняка: я никогда бы не смог этого добиться без вашей помощи — без помощи Тони и остальных. Я вспоминаю себя, каким был прежде — много лет подряд, так что и сосчитать их страшно, — а порой и вспомнить-то нечего, кроме своих пробуждений на коленях в обнимку с унитазом, выхаркивающим собственную желчь. И я говорю себе: «А ведь это твоя молитва, Сильвестр. Это единственный алтарь, которому ты искренне поклонялся долгие годы».
В зале оценили шутку, послышался смех, но сам оратор не улыбнулся.
— Я никогда не был особо религиозным человеком. Даже на наших собраниях, когда приходит время молитвы, я только шевелю губами и надеюсь, что никто не заметит моего молчания. Если честно, я и торты не особо жалую — буду рад, если кто-нибудь из вас поможет мне с ним разделаться. — Он вновь опустил взгляд и выдержал долгую задумчивую паузу. — Однако за прошедший год я все же кое во что уверовал. Теперь я верю, что лучше зажечь хотя бы одну свечу, чем без конца проклинать окружающий тебя мрак.
С этими словами он задул свечу, а зал, поднявшись, устроил ему овацию.
Всего этого оказалось достаточно для того, чтобы Уайлдер вернулся домой, не выпив по дороге даже бокала пива; достаточно для того, чтобы он разбудил жену и принес ей свои извинения.
— Я понимаю, дорогой, — сказала она. — Я понимаю…
По настоянию Уайлдера они с доктором Бломбергом не стали надолго задерживаться на армейской теме. Армия убедила его в том, что он не блещет умом, и вытрясла из него всю религиозность. В бою он побывал лишь однажды, под самый конец войны в Европе, а потом еще год провел в замшелых палаточных городках на территории Франции, где в периоды между обидно редкими увольнениями делать было абсолютно нечего, кроме как смотреть по вечерам фильмы.
— Я же говорил, что мы рано или поздно вернемся к кино.
— Хм…
— Что интересно: на гражданке люди в кинотеатрах сидят спокойно даже при просмотре откровенной дряни — никогда не услышишь громкого смеха во время нелепой любовной сцены или еще чего-нибудь в этом роде, — но в армии магия киноэкрана не действовала, и все мы превращались в громогласных, строгих и жестоких критиков. Мы за милю различали фальшь в сюжете или в эпизоде, сразу начиная топать, ругаться и высмеивать всякую дешевку, тривиальность или сентиментальность. Помнится, я тогда подумал об этих парнях: «Черт, а ведь они такие же, как я: все мы были взращены на кинофильмах и только теперь начинаем понимать, что большинство из них — это халтурные поделки». И вот сейчас я подхожу к сути: именно тогда я решил, что моим призванием является кино. Создание хороших фильмов. Конечно, я знал, что не могу быть режиссером — для этого требуется куда больше таланта, чем у обладателя ай-кью в сто девять баллов, — но я мог бы стать продюсером: человеком, который сначала находит идею, а затем деньги и одаренных людей для ее реализации. Вот к чему я стремился.
Разумеется, я не мог сказать об этом своим предкам — во всяком случае в ту пору это казалось мне невозможным. Когда я вернулся домой, они жили в той же старой квартире, работали на тех же работах и выглядели жутко постаревшими — обоим было далеко за пятьдесят, — но шоколадный проект занимал их мысли еще больше прежнего. Отец посвящал все свободное время сколачиванию стартового капитала — и, что самое смешное, у него это начало получаться. Все вокруг рассуждали о близящемся послевоенном буме, а это был самый подходящий момент, чтобы выйти на рынок с дорогим, но качественным продуктом. Он взял меня с собой на встречу с каким-то банкиром. «Это мой сын Джон. Двадцати лет от роду, ветеран войны, только что вернулся из Европы, служил в пехоте, участник Арденнской битвы[21], и все такое. Через месяц поступает в Йель. Я привлеку его к делу с самого начала».
Когда мы вышли оттуда, я сказал: «Папа, зачем ты приплел сюда Арденны? Ты ведь знаешь, что я там не был».
А он: «Тебе же дали медаль за Арденны, разве нет?»
На самом деле, доктор, я много, много раз говорил ему, что эти дурацкие медали давали всем солдатам, побывавшим в радиусе сотни миль от Арденн. И я сказал: «Послушай, папа, это может ничего не значить для тебя, но для меня это значит очень многое. Ты хоть это понимаешь?»
Но мелкий старый хрыч — он был еще ниже меня, с лицом как грецкий орех, в надвинутой на глаза старомодной фетровой шляпе, — шагал себе как ни в чем не бывало, только заметил, что мне предстоит еще многое узнать о мире бизнеса. Сдуреть можно.
Однако я и впрямь попал в Йельский университет, в тот самый колледж, который выбрали для меня предки. Они очень предусмотрительно выслали мне в Европу все нужные бланки заявлений и анкет, как только узнали, что война закончилась, так что я угодил в большую волну льготных ветеранов-абитуриентов. До сих пор удивляюсь тому, что меня приняли, а там я находился в постоянном страхе отчисления. Все эти толстые учебники были для меня хуже смерти — приходилось проводить за чтением ночи напролет, в то время как все прочие пьянствовали и гуляли с девчонками, — но я все же продрался через первый курс, а предки к тому времени завели-таки свое дело. Теперь у них была маленькая фабрика в Стэмфорде с полудюжиной работников; они отвалили уйму баксов дизайнеру за самую изящную упаковку, какую только можно было вообразить; они наладили ежедневный выпуск партий самого что ни на есть шоколадного шоколада, и они нашли для меня работу на летние каникулы: я стал помощником одного деляги, в обязанности которого входило распространение нашей продукции среди оптовиков по всему Нью-Йорку.
«Вы попробуйте хоть одну, вы только попробуйте, — твердил он, предлагая им шоколадки. — Угощайтесь». А я сидел рядом в стильном костюме, глупо улыбался и думал: «Неужели это мне на всю оставшуюся жизнь?»
Однако это не продлилось долго: следующий курс я завалил. Кое-как протянул первый семестр, а к апрелю не выдержал и сдался. Бросил занятия и уже не пытался подтянуть хвосты, проводя почти все время в кино. В июне меня отчислили.
Боже, это была семейная трагедия! Видимо, предки решили, что я сделал это намеренно, просто им назло. Стали пачками приносить домой каталоги других университетов, но я выбрасывал их, не читая. Признаться, я всегда об этом сожалел — наверняка во многих колледжах есть дополнительные занятия по чтению для людей вроде меня, — но мне становилось дурно от одной мысли о любом университете. Кроме того, я понимал, что мой диплом нужен родителям только ради проклятого «Шоколада Марджори Уайлдер». Ссоры, упреки, скандалы, слезы… В конечном счете я сказал: «Я вам вообще ничего не должен» — и ушел из дома.
Снял комнату в городе, по газетному объявлению нашел работу в фирме под названием «Кино для бизнеса». «Хочу освоить азы кинопроизводства», — написал я в заявлении. За тридцать пять долларов в неделю переставлял прожекторы, тянул кабели и приносил сэндвичи актерам и операторам. Все было бы ничего, если бы они выпускали мало-мальски сносные фильмы; ведь и рекламные ролики можно делать со вкусом. Но, как выяснилось, они просто гнали халтуру. Помню один фильм под названием «Где-то это должно быть», который они сделали для компании «Мид», занимающейся системами учета. Двадцать минут ни капли не смешного балагана про то, как в конторе затерялся важный документ. Боссы рвут и мечут, секретарши рыдают, ящики из картотечных шкафов летят на пол, а потом появляется человек из «Мида» и спасает ситуацию. Мигом находит документ, говорит: «Системы учета — это мой бизнес», добавляет несколько фраз саморекламы, и все. Конец.
Но больше всего меня раздражало то, что все сотрудники фирмы были счастливы и довольны своей работой, — никто из них, даже девчонки-актрисы, не стремился перейти в настоящее, большое кино. Я пригласил на ужин одну из этих девиц, завел разговор о кино, а она посмотрела на меня так, словно я был несмышленым ребенком: «Ты говоришь о художественных фильмах?» Как оказалось, она никогда не считала себя актрисой, и вообще актерская карьера ее не интересовала. Позднее выяснилось, что она спуталась с одним из боссов этой фирмы, а после его развода бросила работу и они свили гнездышко в Форест-Хиллз.
…Эх, не будь у меня кишка тонка, я бы автостопом добрался до Голливуда, а там ошивался бы у киностудий, пока не наймусь рабочим сцены или хотя бы посыльным. Решись я на это, глядишь, уже сейчас был бы продюсером — но я не решился. Может, я был просто не готов к такому полному разрыву с предками. Так или иначе, но я этого не сделал.
Однажды я случайно узнал, что «Геральд трибюн» набирает рекламных агентов на хорошо оплачиваемую работу и что они не слишком требовательны к наличию университетских дипломов. На собеседовании я сказал, что три года проучился в Йеле (накинув годик для солидности), и в результате попал на эту кухню. Где и познакомился с Дженис. Через год мы поженились, потом у нас родился сын. К тому времени я уже работал в журнале под названием «Век торговых сетей», откуда перешел в «Авангард», а затем в «Американский ученый», и в процессе этих перемещений как-то незаметно испарилась моя мечта стать кинопродюсером. Не беспокойтесь, доктор, я вовсе не хочу сказать, что мне связала руки семья. Вам не подловить меня на обвинении моей жены в тех вещах, вину за которые я не могу свалить на своих родителей или на какую-нибудь невротическую хрень. Честолюбивые планы исчезли, вот и все. Изредка я к ним мысленно возвращался — обычно в состоянии подпития, — но это не в счет. Виноват в этом только я сам, и никто другой. Хотите услышать, что случилось с моими родителями?
— Хм… — Доктор взглянул на часы.
— После рождения сына мы с ними формально помирились, но через некоторое время они нашли себе — как бы выразились специалисты — суррогатного сына: еще одного представителя «Лиги плюща»[22], только с полноценным дипломом, в отличие от меня. Постепенно к нему перешло реальное руководство компанией — то есть он занял место, которое по замыслу родителей должен был занять я. Дела шли в гору, и, когда старики удалились на покой, они были неимоверно богаты. Отец умер четыре года назад, а мама сейчас в доме престарелых и мало чем отличается от овоща после кровоизлияния в мозг, но зато чуть ли не в каждом американском супермаркете вы теперь можете наткнуться на вращающийся стенд под вывеской «Шоколад Марджори Уайлдер». Шесть баксов за коробку. Что вы скажете на это?
— Хм. Да. Что ж, я боюсь, наше время…
— Не спешите закругляться, доктор.
— Хм? — Глаза Бломберга заморгали за розовыми стеклами очков.
— Знаете что? Вы самый молчаливый вешатель лапши на уши из всех, кого я встречал. Я рассказываю вам историю своей долбаной жизни, а вы сидите тут и только изредка мычите, получая за это сотню моих баксов каждую неделю. Сказать, как это называется? Банальная кража.
Оба уже встали из кресел.
— Меня ждет следующий пациент, мистер Уайлдер.
— Ничего, подождет. Меня вы частенько заставляли ждать. У меня только один вопрос: когда вы наконец начнете говорить? Когда начнется эта ваша хваленая «работа», эта ваша «помощь», эта «терапия»?
— Мистер Уайлдер, я не знаю, что стало причиной вашей внезапной вспышки, но, полагаю, мы сможем обсудить этот вопрос в четверг.
Джон почувствовал, что здесь будет уместным повторить слова Спивака при их расставании в Бельвю:
— Да-да, только не слишком на это рассчитывайте.
— Вы планируете отменить нашу встречу в четверг?
— Очень может статься, — сказал Уайлдер, уже подойдя к двери и дрожа от ярости, — что наше с вами время истекло в более широком смысле.
— Вы хотите прекратить наши сеансы?
— Будем считать это завершением ваших тяжких трудов. Хотелось бы взглянуть на то, как вы сидите тут в одиночестве дважды в неделю, а мои денежки уплывают от вас прочь. Адью, розовоглазый.
Трясясь в вагоне подземки по пути домой, он задним числом измышлял новые смачные обороты для своей прощальной речи. Например, он мог бы сказать: «…как ты сидишь тут дважды в неделю с пальцем во рту или в жопе — что, разумеется, зависит от оральной либо анальной стадии твоей фиксации…» Но затем возникла мысль о том, что после его ухода Бломберг вполне мог поднять телефонную трубку цвета авокадо — или желто-зеленых соплей — и сообщить Полу Боргу об очередном нервном срыве Уайлдера. Проклятье. А вдруг он так и сделал?
— Дорогой, — начала Дженис, когда они тем вечером остались наедине, и он тотчас подумал о Бломберге и Борге, но оказалось, что речь о другом. — Я в твое отсутствие просмотрела несколько буклетов «АА». Ты не сочтешь это вмешательством в твои личные дела?
— Нисколько.
— Видишь ли, там написано, что присутствие на собраниях мужа или жены члена Общества нередко бывает полезным, и я подумала, что… я бы охотно пошла туда вместе с тобой. Особенно если это будет собрание вроде того, о котором ты рассказывал, — с речью про зажженную свечу и окружающий мрак.
— Ну, я не знаю… Хотя почему бы нет? Я не против.
Они поднимались по лестнице на верхний этаж складского здания, когда Уайлдеру вдруг пришло в голову, что как раз этим вечером его могут попросить высказаться. Так и случилось уже под конец собрания, когда указательный палец Тони нацелился ему прямо в лицо.
— Я вижу там позади мужчину, бывшего с нами несколько раз в последнее время. Не желаете сказать пару слов, сэр?
Кровь гулко стучала у него в висках, пока он шел к сцене, а голос, обратившийся к собранию сквозь клубы табачного дыма, мало походил на его собственный голос.
— Меня зовут Джон, и я алкоголик.
— Привет, Джон!
— Я присоединился к Программе недавно, но уже посетил встречи в разных частях города и считаю ваше собрание лучшим из всего, что я нашел. Проблема в том, что мне впервые предложили выступить, и меня немного смущает присутствие здесь моей жены в качестве гостя. Хотя чего уж там — ей далеко не впервой видеть, как я выставляю себя болваном.
Послышались отдельные смешки, а Джон вдруг задался вопросом: а что, если в данной группе не принято даже намекать на семейные узы или приводить с собой каких бы то ни было «гостей»?
— Я работаю рекламным агентом, и я всегда считал, что регулярная выпивка — это неотъемлемая часть моей профессии. Но какое-то время назад эта моя убежденность дала трещину, когда меня на целую неделю заперли в клинике Бельвю…
Далее он начал путаться, как будто со стороны слыша собственные слова — «до сих пор страшно», «благодарен», «с вашей помощью», — но все же кое-как закруглил фразу и произнес финальное «спасибо». По звуку аплодисментов было трудно определить, прохладные они или сердечные. Он даже не заметил, продлились ли хлопки все то время, что он потратил на перемещение обратно через зал к своему месту, где Дженис ободряюще сжала его руку.
— Ты выступил прекрасно, — сказала она, когда они уже снова были на улице.
— Ни черта подобного. Понес жалостную чушь про Бельвю, да еще это фальшивое самоуничижение. Я чувствовал себя идиотом.
— А по-моему, ты отлично справился. Да и так ли это важно? В конце концов, это ведь не шоу-бизнес.
Уайлдер едва не остановился на тротуаре, чтобы развернуть ее лицом к себе и прокричать, что это как раз и есть самый настоящий шоу-бизнес — вся эта чертова Программа, от Билла Костелло до Сильвестра Каммингса, была одним большим шоу; и психотерапия также была шоу, с безразличным розовоглазым шарлатаном в качестве публики, — но он сдержался и не стал затевать очередную ссору в столь неподходящий момент.
— Давай немного пройдемся, — предложила она. — Я люблю эту старую часть города, хотя не была здесь уже много лет. Помнишь наши прогулки в этих местах еще до свадьбы?
— Угу.
— Хьюстон, Канал и Деланси, а рано утром мы ходили на Фултонский рыбный рынок, пешком по Бруклинскому мосту.
— Хм.
— Странно, — сказала она на следующем перекрестке, — это должна быть Седьмая авеню, но на табличке написано что-то другое; я не могу разглядеть отсюда.
— Думаю, это Варик-стрит. Она переходит в Седьмую авеню через несколько кварталов.
— Ты меня поражаешь, Джон. — При повороте за угол она обхватила его локоть и прижалась к нему в доверительной, чуть ли не флиртующей манере. — Мне кажется, ты знаешь все улицы.
Нет, конечно же, далеко не все, но некоторые он знал неплохо. И еще за квартал от секретной квартиры он заметил проникающий сквозь шторы свет в полуподвальном окне. Чем бы и с кем бы Пол Борг ни занимался там в этот момент, мрак он явно не проклинал.
— Ты сегодня еще не заглядывал в «Таймс»? — поинтересовался Джордж Тейлор, присаживаясь на край письменного стола Уайлдера. — Плохие новости.
Как обычно в последние дни, ему потребовалось усилие, чтобы вникнуть во что-то связанное с работой. Он слышал слова Тейлора: «Маккейб потерял „Норт-Ист“» — и видел его губы, артикулирующие множество других слов в порядке дополнительной информации. Он произнес: «Черт побери», поскольку это казалось уместным в данной ситуации, и опустил голову, якобы обдумывая новости, а на самом деле пытаясь разгадать смысл только что сказанного. Его голова как будто заполнилась песком.
Компания «Норт-Ист дистиллерс», гигант алкогольной отрасли, через крупное рекламное агентство «Маккейб-Дерриксон» на протяжении нескольких лет регулярно выкупала для рекламы своей продукции цветную четвертую страницу обложки «Американского ученого», принося Уайлдеру немалую долю его доходов. Так что новости были действительно плохими.
— Какое, говоришь, агентство сменило Маккейба? Хартуэлл и кто?
— «Хартуэлл и партнеры». Что-то новое, никогда о них не слышал. Возможно, им нет и полугода — одна из этих чертовых «креативных» фирмочек. В любом случае тебе нужно с ними связаться. Попробуй договориться о презентации.
Тейлор тяжело соскользнул со стола; выглядел он ошеломленным и порядком постаревшим.
— В голове не укладывается, — пробормотал он. — Такое солидное, консервативное предприятие, как «Норт-Ист», вдруг выкидывает такой фортель. Это просто безумие какое-то, — добавил он, уже удаляясь. — Похоже, что после избрания Кеннеди все вокруг пошли вразнос.
На коммутаторе агентства «Хартуэлл и партнеры» возникла какая-то путаница, когда Уайлдер пытался связаться с человеком, ответственным за рекламу «Норт-Ист». На другом конце провода сменялись нетерпеливые голоса, пока не нашелся некто по имени Фрэнк Лейси, которому, судя по голосу, не было и тридцати.
— Презентация? — переспросил Фрэнк Лейси таким тоном, словно этот термин уже вышел из моды (возможно, так оно и было). — Почему бы нет, мистер Уайлдер. Сейчас у нас обстановка несколько сумбурная, но, я думаю, мы выкроим для вас время. Подождите секундочку. Как насчет десяти утра в среду?
В условленное время он поднялся на тридцать девятый этаж башни из стекла и стали, неся в потной руке портфель с материалами для презентации.
«МЫ НЕ СУЕМ НОС В ЧУЖИЕ ДЕЛА»
Такова была надпись на первой странице перекидного альбома, который он после краткого и нервного вступления разместил на столе в зале заседаний. Далее шел следующий текст:
Вот почему «Американский ученый» никогда не спрашивает своих читателей, что они пьют, сколько они пьют и в какое время дня они это делают. Нет ничего предосудительного в вопросах об охоте, рыбалке, теннисе или гольфе, но обстоятельства вашего причащения к любимому зелью — это нечто интимное…
Его слушателями были пять-шесть молодых людей и три-четыре девушки, которые удобно расположились на диванчиках и в креслах, расставленных вокруг стола. Вид у них был не скучающий, но и не особо заинтересованный, что побудило Уайлдера рискнуть и выдать небольшой экспромт.
— Предполагалось, что я зачитаю вам это вслух, — сказал он, — причем с выражением и даже с подчеркиванием пальцем каждой строчки, но я вас от этого избавлю. Спору нет, «Американский ученый» — это большой и серьезный журнал, но я никогда не понимал, где они находят людей, сочиняющих эти тексты для презентаций. Во всяком случае, сам я вряд ли смог бы додуматься до фраз типа: «обстоятельства вашего причащения к любимому зелью».
Смех был негромким — притом что сам он, подобно Сильвестру Каммингсу, воздержался от улыбки, только снижающей юмористический эффект, — но это был вполне искренний и добродушный смех, после которого Уайлдер почувствовал себя непринужденнее и даже стал чуточку развязным, по мере того как переворачивал страницу за страницей.
…Однако было бы разумным предположить, что шестьсот тысяч постоянных читателей «Американского ученого» могут послужить отличным рынком сбыта для качественных алкогольных напитков, каковым рынком они уже являются для дорогих автомобилей, фотоаппаратов, стереопроигрывателей и туристских путевок в Европу.
Чтобы с этим разобраться, мы выполнили простое логическое упражнение. Во-первых, был составлен коллективный портрет потребителей элитной алкогольной продукции. Затем мы сравнили его с коллективным портретом читателей «Американского ученого». Ниже приводятся результаты сравнения по всем параметрам…
На последней странице альбома, разделенной надвое, убедительно доказывалась полная идентичность среднестатистического читателя журнала и типичного потребителя элитного алкоголя. Ознакомление с этими данными потребовало несколько большего времени, что дало ему возможность осмотреть картины на стенах — во многом схожие с картинами доктора Бломберга, кроме какого-то комикса в рамке, — а также присутствующих людей, в первую очередь девушек. У одной была прическа в стиле Джеки Кеннеди и лицо, от которого у Джона екнуло сердце, но его вожделение угасло уже через несколько секунд, когда он увидел ее длинные стройные ноги и пришел к выводу, что стоя она окажется выше его.
— Полагаю, с этим мы разобрались, — продолжил он свое выступление. — У меня для вас есть еще кое-что. Сей увесистый том… — он почувствовал себя Биллом Костелло, вручающим «Большую книгу», — является результатом очень тщательного демографического исследования и называется «Автопортрет подписчика». Надеюсь, вы найдете время с ним ознакомиться. А я постараюсь вкратце представить вам нашего среднестатистического читателя. Ему около сорока лет. Он зарабатывает больше двадцати тысяч в год, и его работа настолько технически сложна, что мы с вами попросту не сможем понять ее суть. Но он никогда не читает журнал на работе; он читает его дома и тратит примерно четыре часа на изучение каждого выпуска. Я не знаю, как поступаете вы, проводя четыре часа за чтением журнала у себя дома, но я непременно дополнил бы это занятие… скажем так… причащением к любимому зелью.
Пора было закругляться с презентацией.
— Как вам известно, компания «Норт-Ист дистиллерс» размещает свою рекламу на задних обложках шести наших номеров ежегодно. Остальные шесть пока не заняты, и вы примете верное решение, если поспешите их выкупить. Благодарю вас за внимание.
Пожав руки Фрэнку Лейси и еще нескольким людям, он быстро направился к выходу из зала в приемную.
— Это было занимательно, — произнесла шагавшая рядом с ним девушка. Та самая, с очаровательным лицом и длинными ногами; как ни странно, сейчас ее макушка оказалась всего лишь на уровне его уха.
— Спасибо, — сказал он. — Если честно, меня всегда страшили эти чертовы презентации.
— Потому и вышло занимательно. То есть я заметила, что вам это дело не по душе, и все же вы неплохо справились. Думаю, все были впечатлены.
Они уже вышли в приемную, где не было никого, кроме них двоих и секретарши, склонившейся над телефоном и, судя по нежному мурлыканью, обсуждавшей отнюдь не деловые вопросы.
— Вы были на нашей террасе? — спросила девушка. — Это единственное по-настоящему приятное место во всем здании.
Одна из панелей стеклянной стены отодвинулась, и они вышли на просторную, продуваемую ветром площадку с белым галечным полом. Тут имелось несколько столиков и стульев из кованого железа, а также каменные скамьи, но девушка сразу повела его к низкой балюстраде, откуда открывался вид на город. При взгляде вдаль захватывало дух, при взгляде вниз он испугался чуть не до смерти.
— Летом мы проводим на террасе большую часть времени, — сказала она, — но сейчас мне здесь нравится даже больше.
Похоже, ее совсем не волновало то, что ветер может испортить ее прическу а-ля Джеки Кеннеди, и он был уже почти влюблен в ее походку — она шагала по гальке с горделивым изяществом балерины, — в большие карие глаза и выразительный рот.
— Давно вы здесь работаете?
— С тех пор, как окончила колледж в июне. Меня привлекло разнообразие обязанностей — здесь нужно делать все понемногу, но в целом впечатление… трудно сказать. Вы меня понимаете. — Она пренебрежительно сморщила нос.
— Это же всего лишь реклама.
Он узнал ее имя (Памела Хендрикс) и тут же, заправив под пиджак выбившийся галстук и пытаясь пригладить взъерошенные ветром волосы, предложил вместе пообедать, что явилось для нее полной неожиданностью.
— Нет, я… к сожалению, не могу…
И глаза ее столь быстро утратили блеск, что он не решился задать следующий вопрос: «Тогда, может быть, завтра?» Вероятно, она была любовницей Фрэнка Лейси (Уайлдер вспомнил, что во время презентации этот плечистый увалень с квадратной челюстью сидел рядом с ней, бедро к бедру) и сейчас вытащила его на террасу, просто чтобы вызвать во Фрэнке ревность — этак вполне по-девчоночьи.
— Тогда, может быть, созвонимся в более удачное время.
— Может быть.
Вернувшись в приемную, они пожали руки на прощание, и, пока лифт пролетал тридцать девять этажей вниз, он чувствовал себя падающим с небес обратно в реальность.
Менее недели спустя он подошел к телефону в своем офисе, чтобы ответить на звонок, и услышал голос:
— Это Джон Уайлдер? Говорит Фрэнк Лейси, «Хартуэлл и партнеры». Скажите, шесть обложек под рекламу еще не заняты?
— Пока нет.
— Хорошо. Мы готовы их выкупить; я пришлю вам контракт сегодня во второй половине дня.
— Что ж, это будет… очень хорошо.
— Это великолепно! — воскликнул Джордж Тейлор. — Видит бог, Джон, я знал, что, если эту сделку можно провернуть, никто не справится лучше тебя. Я бы угостил тебя обедом, но сейчас дел по горло.
И слово «обед» благополучно проследовало вслед за Джоном к его рабочему столу, где он набрал номер «Хартуэлла» и попросил к телефону Памелу Хендрикс.
— О, здравствуйте, — сказала она. — Мои поздравления.
— Откуда вы узнали?
— Ну а как иначе: слухом земля полнится.
Это могло подразумевать, что Фрэнк Лейси упомянул об этом в постели, когда она лежала рядом, поглаживая его широкую грудь.
— Я, собственно, хотел узнать, не пообедаете ли вы со мной сегодня?
— Спасибо, но, к сожалению, я не могу…
На сей раз он прервал ее с решимостью человека, которому уже нечего терять:
— Тогда как насчет встречи после работы? Посидим где-нибудь за бокалом вина.
На том конце возникла заминка.
— Хорошо, договорились.
Теперь нужно было сделать еще два звонка.
— …Дженис, сегодня из Лондона прилетает этот тип с контрактом по «Ягуару»; Джордж попросил меня угостить его ужином. Ничего особенного, надеюсь закончить с ним до десяти, а потом отправлюсь на одно из собраний… О’кей… Увидимся утром.
Со вторым звонком было сложнее.
— Мистера Пола Борга, пожалуйста… Пол? Это Джон. Послушай, я только хочу узнать, не собираешься ли ты сегодня вечером на Варик-стрит… Вот и славно. Там хотя бы прибрано? Простыни чистые? А полотенца?.. Что значит, как мои дела? Мои дела в порядке. А как твои?..
Он повел ее ужинать в «Плазу», надеясь впечатлить, но с первых минут стало ясно, что она уже неоднократно бывала в этом ресторане. Первая порция виски пошла так приятно, что он предоставил Памеле вести разговор, а сам сидел рядом, смаковал напиток и разглядывал ее профиль. Кончик ее маленького носа слегка дергался вверх и вниз при произнесении слогов, начинающихся с «п», «б» или «м», и ему эта особенность показалась очаровательной.
Она рассказывала о своем вермонтском колледже под названием Марлоу — небольшом экспериментальном заведении, о котором Уайлдер никогда не слышал.
— Это типа Беннингтона[23], только еще более либеральный, и обучение в нем совместное.
Далее речь зашла о ее отце и старшем брате, который был «абсолютно гениальным пианистом», и Уайлдер начал понимать, что эта девчонка богата — возможно, даже очень богата.
— А чем занимается ваш отец?
— Он банкир. Специалист по инвестициям. Такие вот дела…
За второй или третьей порцией аперитива она объяснила, почему никогда не бывает свободна в обеденное время.
— Я все лето, как говорится, «встречалась» с Фрэнком — Фрэнком Лейси, — пока его консультант по вопросам семьи и брака не посоветовал ему это прекратить, что он и сделал. Но мы по-прежнему каждый день обедаем вместе, этим как бы подтверждая, что мы остаемся друзьями. Звучит глупо, я понимаю.
— И ты все еще без ума от него.
Она покачала головой и поджала губы:
— Нет. Теперь уже нет. На мой взгляд, мужчина, позволяющий какому-то консультанту принимать решения за него, не может… не может считаться настоящим мужчиной. Ты ведь женат, не так ли?
— Да, я женат.
— И ты бы позволил какому-нибудь консультанту по брачным вопросам убедить тебя… Впрочем, не бери в голову. Это все слишком сложно.
Когда подали запеченную говядину с вином, она тоскливым голосом сообщила, что большинство студентов в Марлоу были «чудовищно креативны».
— Нет, я не о креативности в пошлом варианте рекламщиков, пойми меня правильно… — И ее нож убеждающе нацелился острием ему в горло.
Она имела в виду настоящее творчество: поэзию, живопись, скульптуру, музыку, танцы; она имела в виду театр.
— Что там только не ставили, от Софокла до как его, ну, ты знаешь… до Беккета. А я всегда была скучной бесталанной заурядностью. Собственно, ею и остаюсь.
Когда пришел черед кофе и коньяка, она сделалась менее разговорчивой и начала поглядывать на него как бы сквозь романтическую дымку; в такси он наконец ее обнял.
— Как-как называется улица? — переспросила она. — И что там находится?
— Просто одно местечко, которое, я надеюсь, тебе понравится.
— Ты очень милый, Джон.
И она подставила рот для первого, ритуального поцелуя, позволив его ладони ласкать ее грудь, пока они катили по длинной Седьмой авеню.
Она была шикарна. Во всяком случае, именно это слово то и дело срывалось с его уст, когда они обнимались, катались, переплетались и сливались воедино на постели ниже уровня тротуара, а подземка Седьмой авеню грохотала у них под полом.
— Ох, ты шикарна… ох, детка, ты… о боже, как ты шикарна… ты шикарна…
Она не говорила ничего, но ее вздохи, стоны и долгий финальный крик вполне убедительно свидетельствовали о том, что и он был… скажем, не слишком плох.
Позднее они долго лежали в молчании, и он мысленно переваривал удивительное открытие: ему было тридцать шесть лет и он до сих пор ни разу не получал такого удовольствия от секса. Он чуть было не сказал это вслух — «Можешь себе представить? Мне тридцать шесть лет, и это был самый лучший…» — но вовремя сдержался. Она могла бы посмеяться над таким признанием или пожалеть его, после всех «чудовищно креативных» парней в Марлоу и бурного лета в объятиях Фрэнка Лейси. Вместо этого он спросил:
— Памела, сколько тебе лет?
— В феврале исполнится двадцать один.
Она отделилась от него, встала и нагишом прошла по линолеуму через комнату, напомнив ему девчонку на плоту в тот первый уик-энд после Бельвю. Удивительно, как можно иметь столь длинные ноги при ее невысоком росте?
— За первой дверью только туалет, без раковины, — предупредил он. — Если тебе нужна раковина, она есть на кухне.
— А, понятно, — откликнулась она. — Это похоже на квартиры во Франции.
Выходит, она также побывала во Франции — а может, и всю Европу объездила еще с детства, каждый год проводя там каникулы. Направляясь к бару, он позволил своему сознанию заполниться сводящими с ума картинами: юная Памела смущенно раздвигает ноги перед елейным соблазнителем-аристократом во время завтрака с шампанским в Булонском лесу; Памела в исступлении царапает спину пыхтящего испанского крестьянина на грязной соломе в хлеву; Памела, распростертая на песке адриатического пляжа, шепчет «Te amo»[24] в ухо итальянскому автогонщику…
Но вскоре она вернулась к нему. Он наполнил два бокала и натянул штаны, а на Памеле уже был старый плащ Пола Борга, обнаруженный ею в шкафу. Они пристроились рядышком на краю постели.
— Очень уютное местечко, — сказала она. — Когда мы ночью здесь появились, я не успела его разглядеть, потому что была слишком… ну, ты понимаешь… слишком увлечена…
Он еле удержался от восклицания: «Увлечена? Неужели? Мной?!»
— …но теперь вижу, что здесь и вправду мило, — договорила она.
— Эта квартира не предназначена для постоянного проживания, — пояснил он. — Она используется только… короче, мне здесь тоже нравится.
Он звонко чокнулся с ее бокалом.
— Полагаю, это можно назвать «причащением к любимому зелью».
— Хм… — промычала она на манер доктора Бломберга, и он понял, что слабыми шуточками Памелу Хендрикс не проймешь.
Пусть ей было всего двадцать, но, чтобы вызвать ее смех, требовалось нечто по-настоящему уморительное. И еще: ни разу за весь вечер она не спросила его о жене, или о наличии у него детей, или о том, сколько девчонок он приводил сюда до нее. Отсутствие этих вопросов само по себе уже выделяло ее на фоне прочих женщин.
Чуть погодя она встала и, меланхолически расхаживая по комнате в плаще Борга, вернулась к той же — видимо, излюбленной — теме: собственной серости и бесталанности.
— …Вот что интересно, — рассуждала она, пока он наливал себе новую порцию, — я не могу играть на сцене или делать классные фотоснимки, мне не под силу писательство, а если кто-нибудь даст мне кинокамеру, я не буду знать, что с ней делать, однако мне почему-то всегда казалось, что я вполне могла бы продюсировать фильмы. Хорошие фильмы.
Он уже плеснул виски на кубики льда, но после этих слов долил туда же еще одну порцию, а затем посмотрел в ее широко открытые, предельно серьезные глаза.
— Со мной то же самое, — сказал он.
Глава четвертая
В горах Вермонта воздух на редкость прозрачен, и горожанину здесь все представляется нереальным. Стена леса нависает и подавляет зрителя, коричневые и зеленые цвета неправдоподобно ярки и насыщенны, ну а небо — его просто слишком много.
— Это за следующим поворотом, — сказала Памела Хендрикс. — Ты увидишь знак.
Взятый напрокат желтый автомобиль катил столь мощно и плавно, что казалось, будто он сам выбирает дорогу, независимо от сидящего за рулем Уайлдера; заднее сиденье было заполнено их вещами и бутылками бурбона.
— Это поразительно, — сказал он Памеле. — Я словно попал в другую реальность. Не могу поверить, что это происходит на самом деле.
— Лучше тебе начать верить, — сказала она, — потому что вот оно. Притормози, а то мы проскочим мимо. Вот и знак — видишь?
И он увидел придорожный указатель с надписью: «КОЛЛЕДЖ МАРЛОУ, 5 миль».
Вновь было позднее лето, а прошедшие полгода стали самым счастливым временем в его жизни. В первые недели зимы он под предлогом ночных собраний Общества уединялся с ней на Варик-стрит, а затем их встречи переместились в «фешенебельную» квартиру Памелы в Верхнем Ист-Сайде, аренду которой оплачивал ее отец. Каждый раз, отправляясь туда, он испытывал страх: вдруг она ему не откроет или, что еще хуже, дверь откроет другой мужчина, какой-нибудь рослый атлет. Но она всегда была там одна, порой еще в уличной одежде, порой в просторном махровом халате после душа, порой в тонкой ночной рубашке, обреченной вскоре невесомо соскользнуть с ее плеч на пол перед постелью.
Первое время они большей частью говорили о кино, и в одну из самых памятных ночей он во всех подробностях пересказал сюжет фильма «Чемпион»[25] — с Уоллесом Бири и Джеки Купер, — который смотрел еще в семилетнем возрасте.
— Боже, какая память! — восхищалась она по ходу рассказа, а в конце чуть не прослезилась.
— Разумеется, это был далеко не первый увиденный мною фильм, — сказал он. — В ту пору к семи годам многие мальчишки становились уже завсегдатаями кинотеатров, но это был первый фильм, который меня реально потряс. До глубины души. Финальная сцена, когда старина Бири умирает от сердечного приступа после того, как вернул себе чемпионский титул, и все пытаются увести из комнаты его маленького сына, а тот повторяет: «Я хочу чемпиона! Я хочу чемпиона!» — для меня это было уже слишком. Я не заплакал только потому, что в этом возрасте для мальчишек очень важно не распускать сопли, но вышел из кинотеатра с горячим комком в горле, а когда вернулся домой и лег в постель, разревелся как последний слюнтяй.
Он рассказал ей о других фильмах, которые посмотрел и полюбил еще до ее рождения, но не все из них ей нравились. Некоторые она видела по телевизору и назвала китчем, другие посмотрела в Музее современного искусства и сочла слишком претенциозными. Когда он высказался о «Ганга Дине»[26] как о «возможно, лучшем мальчишеском фильме всех времен», она скучливо поморщилась:
— Неужели тебе нравится сцена после гибели Сэма Джаффе, когда они устраивают этот парад и цепляют его медаль на полковое знамя, а потом какой-то актер, загримированный под Киплинга, читает его стихи? Даже если бы я была мальчишкой, я бы смеялась над этой пошлятиной.
— Вряд ли ты смеялась, когда под чтение стихов там возникает призрак Сэма Джаффе в британской форме и отдает салют.
— Да, в тот момент меня чуть не стошнило.
В другой раз она довольно долго распространялась об одной странной закономерности: почему на основе популярных романов — и даже очень хороших романов — так редко удается создавать хотя бы мало-мальски удачные фильмы?
— Ладно, экранизации Диккенса удаются неплохо, особенно англичанам, но это, я думаю, оттого, что его проза сама по себе очень визуальна.
— Хм.
— Но когда вспоминаешь обо всех жалких провалах типа «Мадам Бовари» с этой Дженнифер, женой как-его-там[27]…
Уайлдер продолжал неопределенно хмыкать или поддакивать при упоминании книг, ни одну из которых он не читал. Меньше всего ему хотелось, чтобы Памела узнала о его проблемах с чтением.
— …коробит при мысли, во что они превратили «Отныне и во веки веков»![28]
— Да.
По правде говоря, ему понравился этот фильм, под впечатлением от которого он бы даже попытался осилить роман, не будь тот объемом почти в тысячу страниц.
— А ты видел, какое уродство они состряпали из «Великого Гэтсби»? С Аланом Лэддом в главной роли?
Тут он смолчать не мог. У Алана Лэдда он учился не только причесывать волосы; он также перенимал его походку, разворот плеч и тот особый взгляд, каким низкорослый мужчина может смотреть на девушку, не оставляя у той сомнений в его чувственных намерениях.
— Это настоящее предательство по отношению к роману, — сказала она. — Они превратили его в дешевый гангстерский боевичок.
— Но, черт возьми, фильмы ведь не книги. Это два разных вида искусства, только и всего. Кроме того, согласись, что Алан Лэдд здорово сыграл в «Шейне»[29].
— Боже правый! «Шейн». Как и «Ровно в полдень»[30]. Вестерны для взрослых. Знаешь, что такое «вестерн для взрослых»? Это оксюморон.
— Ладно, тогда назови мне лучший из всех виденных тобой американских фильмов.
— Самый лучший? Ну, не знаю. Возможно, «Гражда…….»
— Ну да, «Гражданин Кейн»[31]. Так я и думал. А ты можешь себе представить соответствующую книжку? Наверняка получилась бы халтурная псевдобиография по мотивам жизни Уильяма Рэндольфа Херста, состряпанная каким-нибудь криворуким Гарольдом Роббинсом[32] в погоне за очередной сенсацией. Улавливаешь мою мысль?
Она закусила губу, медленно кивнула и впервые за эту ночь взглянула на него с уважительным интересом.
— Европейцы поняли это давным-давно, — поспешил продолжить он. — Фильмы должны быть фильмами — хотя некоторые из твоих европейских любимчиков в последнее время манкируют этим правилом. Я говорю о твоем Феллини, твоем Антониони, о том выпендрежном болване, что снял «Хиросима, любовь моя»[33], а также о твоем… твоем священном и неприкосновенном Ингмаре Бергмане.
Ее зубы отпустили губу, глаза сузились. Она вновь была готова спорить:
— А что не так с Бергманом?
— Отчасти то, что он «священный и неприкосновенный». Любой нью-йоркский критик, у которого хватит духу назвать Бергмана незаслуженно перехваленным, рискует мгновенно лишиться работы. Но главный его недостаток даже не в этом.
— А в чем?
— В том, что он начисто лишен чувства юмора. Подумай об этом. Творческий человек без чувства юмора.
Она подумала, рассеянно поглаживая его грудь, и наконец объявила, что в этом он, пожалуй, прав.
Но их первая настоящая ссора не имела отношения к фильмам. Она случилась вскоре после неудачного вторжения на Кубу, сразу же окрещенного журналистами «Операцией в заливе Свиней».
— И что ты теперь думаешь о своем Вундеркинде, крошка? — спросил он после того, как вошел в ее квартиру, налил себе виски и удобно устроился в кресле.
— У него были плохие советники. — Она была полностью одета и расхаживала по ковру, скрестив руки на груди. — Это не его вина.
— А кто, по-твоему, отдал приказ этой разношерстной банде ублюдков отправиться на Кубу, чтобы их там стерли в порошок? Кто? И потом еще лгал об этом! Сделал из Эдлая Стивенсона козла отпущения перед всем белым светом! Это самый бестолковый, заносчивый, трусливый…
— Послушай, Джон, если ты сегодня настроился впустую сотрясать воздух, то я не желаю…
— Кто здесь сотрясает воздух? Я рассуждаю о политике, только и всего.
— В том-то и дело, что нет. Это тебе так кажется. А знаешь истинную причину твоей антипатии к Кеннеди? Все из-за того, что он высокого роста.
— Э, да брось ты.
— Тем не менее это правда. Он высок и хорош собой, он герой войны, имеет красавицу-жену и вдобавок репутацию ловеласа… Он олицетворяет собой все, чего нет у тебя, и ты не можешь этого вынести. Это просто отвратительно. Думаю, сегодня тебе в этом доме делать нечего.
Эффект от ее слов был примерно такой же, как от удара ногой в пах, однако он попытался изобразить примирительно-веселую улыбку, крутя кубики льда в своем бокале:
— Могу я перед уходом допить этот бурбон?
— Обойдешься. Ты и без этого выглядишь так, будто пил весь день. Может, просто встанешь и уйдешь, пока не выказал себя еще большим дураком?
Когда он шел к двери, на языке вертелся вопрос: «Могу я тебе позвонить?»
— но в тот момент она запросто могла сказать «нет». Поэтому он лишь небрежно накинул на плечи плащ и выдал напоследок: «Честь имею кланяться». А уже в лифте до него дошло, что выражение «Честь имею кланяться» считалось старомодным уже в тридцатые; она, возможно, никогда с ним не сталкивалась и сочла просто пьяным бредом — если вообще обратила внимание на его слова.
Первый бар, в который он заглянул, был полон горластых ирландцев, украшен гирляндами с трилистником, зеленым плакатом с надписью: «ERIN GO BRAGH»[34] и — только этого не хватало — большим поясным фотопортретом президента Кеннеди, смотревшегося здесь и вправду очень рослым. Шесть-семь лет назад на том же месте вполне мог висеть портрет сенатора Джозефа Маккарти. Он ушел оттуда, быстро проглотив пару порций, и вскоре отыскал полутемное, милосердно аполитичное заведение с глубокими кожаными креслами и задрапированными зеркалами, где не раздавалось никаких звуков, кроме позвякивания массивной посуды и приглушенной работы музыкального автомата. Что он сейчас мог сделать? Звонить ей было нельзя хотя бы потому, что он уже слишком много выпил и только усугубил бы ситуацию.
— Я потерял мою крошку, — шептал он, склоняясь над бокалом, и мог бы даже расплакаться, но вовремя сообразил, что в барах такого сорта не терпят плаксивых пьянчуг. Надо было составить план.
Он решил, что не будет ей звонить на протяжении двух недель — или одной, хватит и того. А когда наконец позвонит и договорится о встрече, он предстанет перед ней с робкой, абсолютно трезвой улыбкой на устах, перед которой не сможет устоять ни одна девчонка. Если она предложит ему выпить, он скажет: «Нет, спасибо, еще рановато для этого», и тогда, при некоторой доле везения, он сможет ее вернуть.
Как ни странно, неделя пролетела очень быстро. Хуже всего было на работе — всякий раз, когда звонил телефон, он ожидал услышать голос Памелы, — но в целом это было терпимо, как и семейная жизнь. Вечерами вместо собраний он ходил в кино, а если посещал бары, то лишь после кинотеатров, и старался ограничиваться пивом. В последний день этой недели он был весь на нервах: уронил две монеты на пол телефонной будки и лишь с третьей попытки попал в щель автомата, а его палец дрожал, крутя наборный диск.
— О, — произнесла она, взяв трубку.
— Послушай, можно мне… Ничего, если я загляну к тебе сегодня?
— Да, конечно. Приходи, когда захочешь. То есть — ну ты понял — когда сможешь.
Так он и сделал, прихватив букет роз, что вызвало у нее смех.
— Почему ты так долго не звонил?
— Я думал, ты на меня злишься.
— Да, я злилась, но это было целую неделю назад.
Он не стал спрашивать, «встречалась» ли она с кем-нибудь другим на прошедшей неделе, а когда они очутились в постели, это уже не казалось существенным.
А еще через несколько ночей, разродившись очередным бессвязным автобиографическим монологом, он среди прочего поведал ей о Бельвю.
Сначала он попытался ограничиться кратким и поверхностным описанием, но она требовала все новых и новых деталей, сидя на постели и беспрерывно куря, а когда его рассказ, спотыкаясь, добрел до конца, сказала:
— Боже мой, а ты когда-нибудь задумывался, какой фильм можно сделать на этом материале?
Об этом он прежде не думал, да и теперь задумался только после того, как встал и прогулялся до холодильника за парой пива.
— Не вижу здесь темы для фильма, — сказал он. — Это тянет разве что на разоблачительную статью в «Нью-Йорк пост» о «жутких условиях содержания пациентов в городских клиниках».
— Ты не прав, — возразила она. — Это неверный подход; все должно быть по-другому. Подумай об атмосфере, о персонажах, о сценах. Из этого можно создать — я понимаю, что использую клише, — микрокосм общества. А ты предстанешь одним из очень немногих пациентов за всю историю клиники, сумевшим запомнить все в мельчайших подробностях, потому что ты все это время оставался в совершенно здравом уме. Знаешь что, Джон? По самой манере твоего рассказа я чувствую, что ты рассматривал ситуацию с кинематографической точки зрения. Причем начал делать это еще в то время, когда находился там.
— Ну, не знаю. Хотя, если подумать, в какой-то мере так оно и было.
— Разумеется. Эта история прямо просится на экран. Тебе не приходило в голову, что ты, возможно, единственный человек в Америке, кто может сделать такой фильм правильно?
— Что значит «сделать фильм»? У меня для этого нет ни таланта, ни денег.
— Но, по твоим же словам, ты всегда хотел быть человеком, который находит деньги и привлекает к работе таланты. Разве не так?
— Это так, крошка, но давай будем реалистами. В конце концов, я всего лишь торговец, и у меня семья, которую нужно обеспечивать, и я…
— Джон, я не позволю тебе отвергнуть такую прекрасную идею только потому, что ты сегодня ощущаешь себя тупым обывателем. Помолчи и пей свое пиво; дай мне подумать.
И вскоре начали вырисовываться очертания ее смелого плана: есть возможность, сказала она, сделать такой фильм с минимальными затратами. Во-первых, со сценарием проблем не будет. В колледже Марлоу был замечательно талантливый парень по имени Джерри — Джерри Портер. Еще студентом он опубликовал один из своих рассказов в «Атлантике», но потом заинтересовался кинематографом и написал несколько классных сценариев, один из которых был одобрен и едва не запущен в производство известным продюсером. Она позвонит ему сегодня же — и уверена, что сможет его заинтересовать, — а если Джон договорится с ним о встрече, они смогут в ближайшее время начать работу над сценарием. Во-вторых, у Джерри есть приятель по имени Джулиан Форд, также выпускник Марлоу, но года на три-четыре старше. Этот Форд отличный режиссер — «волшебник с камерой». Он провел лето во Франции, где работал с самим Трюффо[35], потом был ассистентом режиссера в Голливуде и снимал документалки о правах черных на Юге, но недавно вернулся в Нью-Йорк и, как она слышала, сейчас не занят ни в одном крупном проекте. И Джерри, и Джулиан располагают собственными средствами — их семьи неимоверно богаты — и могут даже помочь с финансированием проекта или, по крайней мере, согласятся работать бесплатно. То же самое можно сказать еще об одном ее знакомом из Марлоу — художнике и декораторе — и о многих актерах. Боже, да в Марлоу было больше одаренных актеров, чем Уайлдер может себе вообразить!
— Секундочку, милая. Мы не можем взять ребятишек из колледжа на роли пациентов Бельвю. Как насчет всех этих негров и пуэрториканцев?
— Я уже подумала об этом. Их наберет Джулиан. Он знает кучу таких парней.
— Ты хочешь сказать, что среди его друзей много черных?
Но она уже его не слушала, подбираясь к триумфальному заключению: если разобраться со сценарием, кастингом и репетициями до середины лета, они смогут все вместе отправиться в Марлоу и провести съемки в одном из тамошних огромных амбаров. Это ж сколько денег удастся сэкономить! Конечно, надо будет получить разрешение декана, но с этим не должно быть проблем, поскольку декан Уолкотт любит вещи такого сорта: экспериментальные фильмы, снимаемые на территории кампуса.
— Сколько сейчас времени? — спросила она. — А, так еще не слишком поздно. Я позвоню Джерри прямо сейчас.
Джерри Портер оказался худощавым молодым человеком с очень подвижным лицом, которое можно было бы назвать детским, не будь щегольски закрученных вверх усиков, на которых оседала пена, когда он пил пиво. И он действительно заинтересовался проектом. Регулярно общаясь с Джерри на протяжении пяти-шести недель, Джон рассказывал все, что мог вспомнить о Бельвю, — о том, как выглядело, как звучало и как ощущалось это место, о Чарли, о Спиваке и других. Джерри морщил лоб, слушал, делал записи и задавал вопросы, а когда сценарий начал обретать отчетливую структуру, он познакомил Уайлдера с режиссером, Джулианом Фордом.
— Похоже, у вас есть заготовка для недурного фильмеца, мистер Уайлдер, — сказал он, как и предсказывала Памела. — Буду рад с вами сотрудничать.
Коренастый и мрачнолицый, он носил рабочие блузы расстегнутыми до середины волосатой груди, заставляя предположить, что темный волосяной покров распространяется по всему его телу, от ноздрей до лодыжек. Его квартира-студия на верхнем этаже здания в Ист-Виллидж впоследствии использовалась ими для кастинга и репетиций.
— Все складывается прекрасно, — сказала Памела, — верно ведь?
— Придержи все мои звонки, дорогуша, — сказал Джордж Тейлор своей секретарше. — Итак, Джон, что я могу для тебя сделать?
— Одолжение. Я знаю, что мой отпуск назначен на июль, и я его возьму, но я прошу дополнительно две недели в конце августа. Устрой мне какую-нибудь липовую командировку.
Благодушное выражение вмиг исчезло с лица Джорджа. Теперь он смотрел на Уайлдера так, словно они едва знакомы.
— Устроить липовую командировку? — переспросил он.
— Черт, Джордж, ты же в курсе, что я намного перевыполнил свою норму. Кому, как не тебе, знать, сколько денег я принес журналу за последние два года. А сейчас дело в том… дело в том, что я завел себе подружку.
Этого оказалось достаточно. Далее посыпались вопросы. Как она выглядит? Сколько ей лет? Как они познакомились?
— А теперь прикинем, — сказал наконец Тейлор, возвращаясь к делу. — Пара недель в августе? Строго между нами, я думаю, что это… это в пределах возможного.
Его заранее страшил «законный» отпуск все в том же бунгало, пока Дженис не заявила, что ничего не имеет против его поездок в город несколько раз в неделю ради собраний. А в последний день отпуска, сидя с ней на плоту, он как бы между прочим ввернул в разговор свою ложь насчет августа.
— Целых две недели в Бостоне? — удивилась она. — Джордж никогда не отправлял тебя в Бостон на такой долгий срок.
— Он не то чтобы меня «отправляет», Дженис; мы приняли это решение с ним вместе. Если начистоту, это в основном моя идея. Ты же знаешь, что за последнее время у нас было слишком много проблем с «Норт-Ист дистиллерс»…
Говоря это, он смотрел вниз, на ее полное бедро, растекшееся по влажным доскам помоста, а потом выше, на вырез ее купальника. Каким же юным и неискушенным он был когда-то, если поверил в то, что эта женщина предназначена ему судьбой. На всю жизнь?
— Эй, мам, посмотри, — позвал Томми. — Посмотри на это.
Томми разбежался на плоту (он был костляв, но довольно высок для своего возраста и уже начал обрастать мышцами; по крайней мере, ему не суждена была участь коротышки, как его отцу), сделал три или четыре неловких шага по трамплину, взлетел, размахивая руками и ногами, и шумно плюхнулся в воду.
— Прекрасно, дорогой, — сказала Дженис, когда его мокрая голова вновь возникла над краем плота.
И Уайлдер также сказал:
— Неплохая попытка, Том… У них произошла смена руководства, — продолжил он свои объяснения. — Потому есть вероятность, что они порвут с «Маккейб-Дерриксон» и заключат договор с одним из этих новых небольших агентств. В этом случае они могут точно так же порвать и с «Ученым». В первую неделю будет проходить конференция, и я просто там покручусь и налажу контакты, как обычно, но вторая неделя очень важна: мне надо будет сделать все, чтобы убедить «Норт-Ист» не менять агентства — или, если смена все же произойдет, убедить их по-прежнему покупать рекламное пространство в «Ученом».
— Боюсь, я не уловила суть. Я всегда плохо разбиралась в твоем бизнесе.
— Проще говоря, если они покинут наш журнал, для меня лично это приведет к потере свыше шести тысяч дохода.
— Шести тысяч в год?
Это она уяснила отлично и после долгого почтительного молчания высказала лишь надежду, что он будет вести себя осторожно и постарается посещать собрания Общества.
— О, конечно же. Думаю, в Бостоне не менее разветвленная сеть «АА». На этот счет можешь быть спокойна.
— Как видишь, это местечко не очень похоже на типичный кампус, — сказала Памела. — Больше напоминает старую новоанглийскую деревню или вроде того, что весьма странно, если учесть стоимость здешнего обучения: она выше, чем в любом другом колледже Америки. Когда мой отец спросил у них, почему все так бедно выглядит, ему сказали, что большая часть денег идет на оплату преподавателей — а платят им очень и очень щедро.
— Ого.
— В этих зданиях находятся учебные классы и студенческие общежития, — рассказывала она, когда их машина проезжала между двумя рядами дощатых строений. — Дальше будет столовая и… Погоди! Остановись! Это же Питер!
Она выскочила из машины и кинулась обнимать худосочного парнишку в старых выцветших джинсах и с молодой бородкой, которую он застенчиво теребил пальцами, когда их представляли друг другу.
— …Питер — тот самый замечательный дизайнер, о котором я тебе говорила. А это Джон Уайлдер.
Уайлдер ожидал, что парень протянет ему вялую ладошку со словами «Привет, чувак» или посмотрит мимо него на машину и скажет: «Клёвая тачка» — с виду он был как раз юнцом такого сорта, — однако тот крепко пожал ему руку и сказал: «Как поживаете, сэр», точно так же как обучали приветствовать незнакомцев молодежь поколения Уайлдера.
— А где остальные? — спросила Памела. — Есть здесь кто-нибудь? Где Джерри и Джулиан?
— Они все в амбаре «П». Подбросите меня?
— Амбар «П» — это сокращение от «амбара Пибоди», — пояснила Памела, пока парень смущенно втискивался на переднее сиденье рядом с ней, — а амбар «К» — это «амбар Карлтона» — это ведь там вы устроили съемочную площадку, Питер? А амбар «Л» — это…
— У вас что, весь колледж состоит из амбаров?
— Не глупи; я ведь только что показала учебные корпуса и общаги. А старые амбары используются просто для… всяких мероприятий.
Джерри и Джулиан в расслабленных позах сидели перед большой двустворчатой дверью амбара «П», как будто позируя для фото в каком-нибудь этнографическом журнале, но с приближением машины Уайлдера быстро поднялись на ноги.
— Заходите внутрь, — пригласил Джулиан, и они, расступившись, пропустили Памелу и Уайлдера в помещение, похожее на зал примитивной деревянной церкви.
Большая часть обширного внутреннего пространства терялась в тени, но от расположенных высоко окошек тянулись вниз лучи солнца с клубящимися в них пылинками, оставляя на полу желтые прямоугольники света. Аромат марихуаны смешивался с более густым и солидным запахом старого дерева. Уайлдеру пришлось подождать, пока глаза привыкнут к полумраку, прежде чем он разглядел у стен группы людей, сидящих на скатанных матрасах и рюкзаках. Он узнал актеров, которых ранее видел в студии Джулиана, и догадался, что остальные должны быть операторами и техниками.
— Ну, — сказал крупный негр, приглашенный на роль Чарли, — вот и он.
Послышались краткие вежливые приветствия и от нескольких других:
— Здравствуйте, мистер Уайлдер… Привет, мисс Хендрикс…
Кто-то протянул Уайлдеру пластиковый стаканчик с красным вином, но он сказал:
— Спасибо, очень приятно, но у меня в машине есть кое-что получше.
Вновь очутившись на улице под нежарким предвечерним солнцем, среди шелестящих листвой развесистых деревьев, он почувствовал озноб. Достал виски из салона автомобиля, но на обратном пути остановился в нескольких шагах от амбарной двери, чтобы собраться с духом, ожидая, когда исчезнет слабость в коленях и замедлится сердцебиение. Он стоял на лужайке самого дорогого колледжа в Америке. Он собирался вернуться к любимой девушке и компании людей, для которых он был «тем самым человеком». Всего этого было многовато, чтобы переварить вот так с ходу.
— Класс! — воскликнул кто-то при виде виски.
— Жаль, у нас нет льда, — добавил другой.
— Кому нужен лед?
— Лед есть в буфете при столовой, — сказала Памела.
— Столовая заперта, Пэм. И буфет тоже.
— Где же тогда мы будем питаться?
— Думаю, придется топать по шоссе до «Грязного Эда» или шиковать втридорога в «Старом Колониале».
Она приуныла, но только на секунду:
— Ладно, не будем думать об этом сейчас. Ведь пока еще никто не голоден. Послушай, Джулиан, ты уже провел генеральную репетицию? И завтра начнешь съемки?
— Верно.
— Тогда мне кажется, сейчас самое время для последнего прогона сценария, — сказала она и вышла на середину зала, чтобы обратиться сразу ко всем присутствующим.
В ее поступи, в движении ног, туго обтянутых белыми брюками, Уайлдеру почудилось нечто агрессивное. На мгновение она напомнила ему богатую маленькую девочку, которая привыкла командовать и навязывать другим детям свои игры. Он был влюблен в нее, но сейчас обнаружил, что временами она бывает не очень-то приятной в общении.
— Джерри может зачитывать сценические ремарки, — говорила она, — а актеры будут читать свои реплики. Таким образом, мы сможем…
Как минимум трое парней застонали, а по лицам остальных было видно, что им совсем не по душе эта идея.
— Нет, — сказал Уайлдер, — оставь это, Памела. Они и так работали весь день.
Она повернулась к нему, сверкая глазами:
— Тогда, может быть, мы хотя бы проведем собрание?
— Что ты имеешь в виду под «собранием»?
— Притащим стулья, все усядемся с Джулианом во главе и устроим дискуссию. Таким образом, если у кого-нибудь есть какие-то проблемы, мы сможем решить их все вместе. Я к тому, что это наш последний шанс, ведь завтра уже начнутся съемки.
Возможно, потому, что она выглядела такой беспомощной, — или потому, что она была единственной женщиной в компании, — все согласились. Включили свет, нашли складные стулья где-то в укромном углу амбара, расставили их полукругом, и собрание было объявлено открытым.
— О’кей, — сказал Джулиан, — есть у кого-нибудь проблемы или типа того?
Ни у кого ничего такого не нашлось, и все обменивались смущенными улыбками, пока не поднялся актер, играющий роль Чарли.
— У меня было какое-то смутное беспокойство по поводу моей роли, — сказал он, — но только сейчас я понял, в чем дело. Чарли — это единственный из всех негров — не считая мелкого гомика, — он единственный из негров в актерском составе, говорящий на «правильном английском», как это называют белые. А все остальные говорят на стереотипном языке «полуграмотных ниггеров», и по такому поводу я заявляю протест. Я вижу в этом проявление расовых предрассудков.
Джулиан повернулся за ответом к Джерри, который казался озадаченным.
— Если на то пошло, Клей, — начал он, быстро моргая и нервным движением убирая за ухо прядь волос, — я заметил, что в жизни ты сам говоришь точно так же, как Чарли в сценарии.
— Че-ерт! Послушай, старик, я ведь актер. Это моя профессия. Я посещал актерскую школу, где обучался «правильному языку». Я играл роль Отелло с белыми ребятами, из-за чего всех нас заставили освоить британский акцент. Но дело не во мне. Дело в том, что Чарли простой санитар. Он-то где этому учился и зачем? Как это объяснить?
— Может, мистер Уайлдер поможет нам в этом вопросе? — сказал Джерри.
И Уайлдер испугался:
— Прежде всего, Клей… боюсь, я не припоминаю твоей фамилии…
— О, вы боитесь? Ну а я боюсь, что не могу вспомнить ваше имя, мистер Уайлдер.
— Джон.
— Брэддок.
— Прежде всего, мистер Брэддок, я не утверждаю, что Чарли говорит на «правильном языке». Он, скорее, использует нейтральный вариант английского — или, скажем так, нейтральный американский вариант английского — что-то вроде акцента, характерного для телефонисток или дикторов радио. Конечно, он всего лишь медбрат, но он в течение многих лет ежедневно имел дело с пациентами психушки и, возможно, усвоил эту манеру речи как наиболее подходящую для… скажем… поддержания своего авторитета. Годится такое объяснение?
— Более-менее, — сказал Клей. — Более-менее годится.
Когда разговор перешел на другие темы, Памела сжала локоть Уайлдера — пожалуй, чересчур крепко — и прошептала:
— Это было чудесно. Знаешь, что ты сделал? Ты только что практически спас весь фильм.
— У меня нет проблем, — говорил актер, играющий роль Спивака (или Клингера, как он был назван в сценарии). — Совсем напротив: я в восторге от своей роли. Пользуясь случаем, хочу вас поблагодарить, мистер Уайлдер, поскольку в Нью-Йорке мне не представилась такая возможность. У меня очень сложная, интересная роль, и она идеально мне подходит.
Он был весь в белом, как будто оделся для тенниса, — белые шорты и майка, белые носки и теннисные туфли.
— Я говорю не о профессиональном интересе, хотя он, конечно, также здесь присутствует. Эта роль заинтересовала меня прежде всего в личном плане. Видите ли, я сам три года регулярно посещал психоаналитика, и для меня это будет катартический опыт, лучше которого и не придумаешь. Клингер может стать моей прорывной ролью: язвительный, саркастичный эгоманьяк, которому ненавистно само слово «психиатр». Кстати, я считаю удачей то, что мы так и не выяснили первопричину его попадания в клинику. Плюс туманные намеки на кровосмесительную привязанность к его родной сестре — все это идеально. Идеально.
— Что ж, рад за вас, — сказал Уайлдер. — Но я думаю, благодарить вам следует в первую очередь Джерри.
— Да, я так и сделал, так и сделал — и за прекрасно написанный сценарий, и за то, что он взял меня на эту роль. Но я испытываю огромную благодарность и к вам, поскольку идея исходила от вас. Ох, вы как будто смутились. Я вас смутил своими речами?
— На этом объявляю собрание закрытым, — сказал Джулиан, и тотчас раздался дружный скрип освобождаемых стульев.
Уайлдер нашел местечко в тени, где они с Памелой могли спокойно посидеть и выпить теплого виски, но вскоре к ним подошел Джулиан, сопровождаемый Джерри и Питером.
— Хотите взглянуть на съемочную площадку? — спросил Джулиан. — Питер вкалывал над ней как каторжный, и я подумал, что вы, быть может, захотите уделить немного внимания его трудам.
В наступающих сумерках все пятеро на двух машинах поехали через кампус к амбару «К», при входе в который Джулиан щелчком выключателя зажег сразу множество ламп. Сначала Уайлдер увидел только лабиринт из древесноволокнистых плит, но Джулиан быстро повел их к ближайшему проему между панелями.
— Если начнете обход отсюда, вы увидите все, что мы сделали — постарались сделать, во всяком случае. Поскольку мы снимаем черно-белый фильм, цвета не имеют значения. Вот ваш больничный коридор. Знаю, вы скажете, что он коротковат, но не беспокойтесь: грамотно используя кинокамеру, можно превратить тридцать футов в шестьдесят. То же касается откидных коек: у нас их только восемь штук, но я могу создать иллюзию, что их в пять-шесть раз больше. Питер нашел койки в приюте для отсталых детей, который сносят неподалеку, потом прикрепил к ним дверные петли, а цепи и сетки раздобыл на свалке металлолома. Глядите.
Он сложил пару коек, прикрепив их скобами к стене, и натянул сверху проволочную сетку.
— Это похоже на то, что вы видели в клинике?
— Да, отлично, отлично.
— А вот и ваши «мягкие камеры». Покрытие пола и стен также является плодом вдохновения Питера: он позаимствовал маты в здешнем спортзале. Похоже на настоящие?
— Да, очень похоже.
Однако Памелы и Питера с ними не было, и он начал задаваться вопросом, куда они подевались.
— А это одно из ваших окон. Стойте здесь, а я зайду с той стороны и подсвечу его, и вы скажете, как все получилось.
Получилось хорошо: освещение соответствовало пасмурному утру либо пасмурному вечеру.
— …а что касается вашей столовой, пройдите сюда…
— Отлично, — повторял он. — Где вы нашли такие скамьи?
— Питер одолжил их в библиотеке. Вот входная дверь и табурет копа, а это дверь комнаты Чарли с надписью…
Все было отлично, но его тревожило исчезновение Памелы.
— …И вот еще, — продолжал Джулиан. — Следуйте за мной. Это ваше «логово онанистов».
Мерзостный притон был скопирован почти идеально, и как раз там обнаружились Памела и Питер — сидели, скрестив ноги, на единственном грязном матрасе и по очереди затягивались самокруткой.
— Что за дела? — спросил ее Уайлдер. — Разве ты не хочешь увидеть съемочную площадку?
— Я слишком устала, — сказала она. — И потом, мне нет нужды ее осматривать, я и так знаю, что Питер сделает все в лучшем виде.
— Да, это правда. Он молодец.
— Кроме того, я жутко проголодалась. Не пора ли нам ужинать?
Уайлдер проехал, как ему показалось, много миль до ресторана, где жесткие и очень дорогие стейки подавались официантами в узких бриджах и чулках по моде восемнадцатого века.
— …Да, кстати, Пэм, — пробубнил с полным ртом Джерри. — Забыл тебе сказать. Догадайся, кто сейчас находится в кампусе?
— Кто?
— Бог.
— Не может быть!
— Да. Старый Бог Отец собственной персоной. Он уезжал на лето в Англию, но там ему наскучило, и он вернулся домой пораньше. Теперь сидит почти безвылазно в своем кабинете. Узнав от меня про фильм, он сказал, что хотел бы познакомиться с Джоном. И еще сказал, что будет особенно рад повидаться с тобой.
— В самом деле? Ох, это было бы здорово! Как по-твоему, еще не слишком поздно для визита?
— Вряд ли он будет против. Но сперва я все же ему звякну.
Уайлдер наконец-то смог дожевать и проглотить кусок жилистого мяса, чуть им не подавившись.
— Кто-нибудь скажет мне, что происходит? Объясните, ради бога, кто такой этот «Бог».
— О, это просто-напросто чудесный, чудеснейший человек, — сказала Памела. — Пожалуй, это самый светлый, самый умный и самый прекрасный из всех известных мне людей. Он профессор философии. Зовут его Натан Эпштейн, он вдовец, и ему — я точно не знаю — около шестидесяти? Мы прозвали его Богом или Богом Отцом, потому что мы все его обожаем. Скоро ты сам поймешь почему.
— А он знает, что вы называете его Богом?
— Нет, конечно же. Он бы ужасно смутился. Это всего лишь одна из глупых выдумок наших старшеклассников.
— Я не был бы в этом так уверен, Пэм, — возразил Питер. — Это прозвище появилось задолго до нас. Вполне возможно, что оно в ходу со времени его первого появления здесь — десять, двенадцать лет назад.
Джерри вернулся от телефона и сообщил, что мистер Эпштейн ждет их в гости через полчаса.
Его дом на окраине кампуса был очень мал — типичная обитель одинокого ученого, — а когда он открыл дверь, оказалось, что и сам хозяин мал под стать дому, едва ли выше Уайлдера. Густые седые волосы торчали в разные стороны, а старый, предельно изношенный свитер, казалось, вот-вот расползется и упадет с его плеч на пол, но лицо действительно излучало мудрость — примерно такое выражение придал бы какой-нибудь коммерческий художник официальному портрету члена Верховного суда.
— Памела! — воскликнул он, раскрывая руки для объятий, в которых она и растаяла. — Моя маленькая ницшеанка! Не помню, говорил ли я вам, — обратился он через ее плечо к остальным гостям, — что эта юная леди написала одну из лучших курсовых работ по Ницше из всех когда-либо мною виденных? Джерри… Джулиан… Питер… — Он ухитрился пожать им руки, не прекращая обнимать Памелу. — Как мило, что вы меня навестили. А вы, должно быть, мистер Уайльд? Или Уайлдер?
— Уайлдер. Рад познакомиться, мистер Эпштейн.
Только теперь профессор выпустил Памелу из объятий, которые она покинула с заметной неохотой.
— Я много слышал о вашем проекте и должен сказать, это звучит интригующе. Но почему бы всем нам не пройти в соседнюю комнату? Там мы выпьем кофе и немного бренди.
Соседняя комната оказалась библиотекой или рабочим кабинетом. Вдоль всех четырех стен, от пола до потолка, располагались книжные полки — здесь было больше книг, чем даже у Дженис, и это впечатляло еще сильнее потому, что лишь немногие из них имели яркие обложки: остальные были старомодно темными. Здесь также имелись письменный стол со стопками рукописей и пишущей машинкой, полочка с хорошо обкуренными трубками (в отличие от Пола Борга, мистер Эпштейн явно знал толк в этом деле) и достаточно стульев, чтобы усадить всех гостей, пока хозяин возился с бутылкой бренди и бокалами. Пребывание в таких комнатах и общение с такими людьми всегда напоминали Уайлдеру о его собственном недолгом студенчестве и порождали болезненное ощущение утраты.
— Итак, Джерри, — сказал Эпштейн, — несомненно, работа над сценарием — это полезный опыт, но я все же надеюсь на твое скорое возвращение к художественной прозе. Тот рассказ в «Атлантике» был реально потрясающим.
А ты, Питер, меня слегка разочаровал: тратишь время на сценическое оформление, когда тебе следовало бы писать картины. Джо Барретт говорил мне… Хотя не важно, что он мне говорил. Ты и сам отлично знаешь, насколько ты талантливый художник.
— Я вернусь к живописи, мистер Эпштейн, она никуда не денется. Но сейчас я втянулся в этот кинопроект. Точнее, меня втянул Джулиан.
— Да, я не сомневаюсь в том, что наш друг Джулиан способен втянуть кого угодно во что угодно. А вы, сэр, — сказал он, подходя к Уайлдеру с бутылкой бренди, — не откажетесь немного просветить меня насчет… этого фильма? Насколько я понимаю, действие происходит в психиатрической клинике? В Бельвю?
— Именно так. Видите ли, у меня накопилось довольно много материала на эту тему, и я всегда любил кино. История с Бельвю показалась мне вполне подходящей для экспериментального фильма, вот и все.
— Хм. Вы психолог по профессии, мистер Уайлдер?
Только теперь стало ясно, что Эпштейн не знал всей правды. Ученики ему не рассказали — да и с какой стати? Зачем вообще кто-то должен рассказывать кому-то подобные вещи? Но уже в следующий миг сам Уайлдер, поддавшись непонятному импульсу, ляпнул:
— Нет. Вообще-то, я был в Бельвю пациентом.
— Вот как?
— Но только одну неделю, — поспешил добавить он, — да и то потому, что попал туда накануне выходных и Дня труда. Но как бы то ни было…
В смятении слыша собственный голос, он удивлялся, почему было не назваться социальным или медицинским работником? Ребята не стали бы его разоблачать. Тогда почему он вдруг начал выворачиваться наизнанку перед этим Эпштейном? Чтобы показаться ему более достойным интереса? Но так ли много «интересного» в том, что тебя держали под замком в дурдоме?
— …как бы то ни было, я прошел через это лично, — закончил он фразу, гадая, не стыдятся ли за него Памела и прочие.
— Подумать только! — сказал Эпштейн. — И теперь вы пытаетесь превратить этот печальный эпизод своей жизни в произведение искусства. Думаю, это очень… интересно.
С полки была взята одна из трубок, набивая которую он спросил:
— Джулиан, ты не будешь против, если я как-нибудь загляну к вам и понаблюдаю за процессом?
— Вы доставите нам удовольствие, мистер Эпштейн. Я найду для вас копию сценария.
Эпштейн сказал, что это было бы прекрасно, и в течение следующего получаса, пока он любовно раскуривал свою трубку и пускал колечками дым, разговор уже не затрагивал Уайлдера. Речь шла исключительно о прошлом — старый профессор, посмеиваясь, вспоминал счастливые деньки в компании четырех любимых учеников, — а потом пришла пора расставаться.
— Что ж, мистер Уайлдер, — сказал он, провожая их до двери, — если хотите создать хороший фильм, думается, вы попали в удачное место. В Марлоу есть нечто особенное — нечто бодрящее и вдохновляющее. Я почувствовал это сразу же, как только впервые сюда приехал, и решил, что уже не буду работать ни в каком другом колледже. В здешней атмосфере постоянно присутствует креативное напряжение, и я до сих пор не могу истолковать или объяснить этот феномен. Не хочу показаться фантазером, но все же рискну заявить, что сам по себе колледж Марлоу накладывает заклятие творчества на всякого сюда входящего… — Тут он самокритично усмехнулся. — Конечно, скажи я это кому-нибудь из моих нью-йоркских друзей, последуют циничные шуточки про заклятия, проклятия и так далее, однако я в это верю.
Возвращаясь к общежитию, Уайлдер позволил Памеле говорить за двоих («Не правда ли, он чудесный?..» и т. п.), а сам вел машину со стиснутыми зубами, ощущая слабость во всем теле и острую нужду в выпивке. Он хорошенько приложился к бутылке, едва закрылась дверь их комнаты, и уже заметно опьянел к тому времени, когда она развесила свою одежду и приняла душ. Он хотел спросить, испытала ли она стыд, когда он поведал Эпштейну о своем пребывании в клинике; он хотел обсудить пробудившуюся в нем странную тягу к саморазоблачению — стремление выставить напоказ свои слабости и недостатки как нечто «интересное», — но никак не мог подобрать слова. А чем больше он пил, тем больше эта тема отступала в его сознании на задний план, вытесняясь иррациональной, болезненной ревностью.
— Ты вообще думаешь ложиться? — спросила она, накрываясь простыней.
— Чуть погодя.
К тому времени он уже разделся до трусов и расхаживал босиком по холодному полу со стаканом в руке, периодически проведывая оставленную на столе бутылку.
— Сначала ответь мне на пару вопросов, — сказал он. — Чем вы с Питером занимались в том «логове онанистов»?
— Что? Джон, я не понимаю, о чем ты…
— Ты все отлично понимаешь. Ты и этот мелкий говнюк с романтическим взглядом, этот вшивый дизайнер, обкуривались и лапали друг друга. Скажи, сколько раз ты с ним переспала в те прежние деньки?
— Я даже слушать не хочу этот бред.
— Нет, ты меня выслушаешь! А как насчет Джерри? Он ведь такой симпатяга, такой одухотворенный молодой автор. А Джулиан? Или ты надеялась, что я не пойму характера твоих отношений с этими юнцами? Ладно, с ними ты еще могла бы меня дурачить, но ты полностью выдала себя со старым профессором. Да-да: «Моя маленькая ницшеанка». Бог-хренов-Отец, язви его душу! Сколько раз этот грязный старый пердун забирался тебе под юбку? А?
А?!
В этот самый момент он запнулся обо что-то (о мусорную корзину? о чемодан?), и пол комнаты увесисто и жестко врезался ему в плечо. Памела уже через секунду была рядом и помогла ему подняться на ноги — что оказалось нелегко и отняло последние силы у обоих, — после чего они доковыляли до постели и забрались под одеяло.
— Ох, Джон, — сказала она, — ты пьяный, злобный, мерзкий ублюдок, и ты наполовину безумен, но я люблю тебя.
Что он мог сделать теперь — когда страстный порыв иссяк, а вся ревность растаяла, — что он мог сделать, кроме как пробормотать: «Ох, малышка» — и, обняв ее, провалиться в тяжелый сон?
Глава пятая
— Мне все равно! Мне все равно! Как вы не понимаете, идиоты? Мне все равно! Видел бы меня сейчас папа!
— Хорошо, Генри, а теперь успокойся…
— Не называй меня «Генри», тупой черномазый ублюдок! Зови меня Доктором, а не то я переломаю все твои поганые кости…
— Ты ничего никому не сломаешь, Доктор…
— Стоп! Снято! — сказал Джулиан. — О’кей, сделаем паузу. В чем проблема, Джон?
— Не то чтобы проблема, — сказал Уайлдер, — просто мне кажется, что санитарам надо жестче обращаться с Клингером. Он им не нравится; он часто скандалит; он обзывает их макаками и мумбо-юмбами; к тому же они очень устали после ночного дежурства. Хотелось бы видеть, как они по-настоящему его хватают и заламывают ему руки, прежде чем сделать укол.
— О да! — сказал актер, играющий Клингера. — Это как раз то, что нужно.
Мистер Эпштейн объявился на третий вечер съемок и на цыпочках, прижав указательный палец к губам, проследовал к тому месту, где стояли Уайлдер и Памела. Какое-то время он молча наблюдал за игрой актеров, за работой кино- и звукооператоров, осветителей и техников, а после того, как Джулиан в очередной раз объявил: «Снято!» — спросил:
— Можем мы втроем поговорить снаружи?
Вслед за Эпштейном они покинули амбар и зашагали по густой траве, ярко зеленевшей под солнцем.
— Я прочел сценарий и нашел его превосходным, — сказал Эпштейн, — и я твердо верю в режиссерский талант Джулиана, а также в актеров и техперсонал. Но я должен сказать, мистер Уайлдер, — при этом отнюдь не желая вызвать у вас чувство неловкости, — я должен сказать, что из всех участников этого проекта именно вы достойны наибольшего восхищения. — Он сделал паузу, во время которой слышался только шум ветра в ветвях деревьев. — Пережить такое, все время сохраняя ясность ума и остроту восприятия, несмотря на неизбежные эмоциональные потрясения, а затем беспристрастно воссоздать это в фильме, придать упорядоченную структуру самому хаосу — я нахожу это выдающимся достижением.
Никогда еще никто не говорил Уайлдеру таких слов, и этой похвалы оказалось достаточно, чтобы он ощутил жжение в глазах и подступающий к горлу комок.
— Спасибо, сэр, — пробормотал он, а Памела сжала его руку, тем самым подчеркивая значимость момента.
— Я же говорила вам, что он особенный, — сказала она Эпштейну.
Когда Эпштейн двинулся через лужайку в сторону своего дома, Уайлдеру очень хотелось последовать за ним — хотелось составить ему компанию в чудесной библиотеке и продолжить разговор об «упорядоченном хаосе», — но Памела потянула его обратно в амбар. К моменту их возвращения дневная работа на съемочной площадке уже закончилась, и люди расслаблялись за стаканчиками вина и оживленным обсуждением фильма.
— …Я воспринимаю Чарли как некое подобие Христа, — говорил один молодой человек. — Он чрезвычайно силен и притом чрезвычайно мягок в общении с пациентами. Он на самом деле пытается спасать людей, и он…
— Нет-нет-нет, — прервал его другой. — Подобием Христа — распятого Христа — здесь выступает Клингер…
— Чушь, — сказал Джулиан. — С каких это пор во всяком фильме кто-нибудь обязательно должен уподобляться Христу? Это фильм о сумасшедшем доме, и он останется таковым. А если кто-то пожелает найти в нем скрытые смыслы — ради бога, но это личное дело каждого. Можно представить психушку как все наше общество в миниатюре — с этим я готов согласиться, — но даже такую аналогию я не намерен подавать публике в разжеванном виде. Черт возьми, пусть фильм говорит сам за себя.
— Золотые слова, старик, — сказал Клей Брэддок.
А Джон Уайлдер — участник проекта, достойный наибольшего восхищения, — прихлебывал виски и улыбался всем вокруг, наслаждаясь происходящим. Придать упорядоченную структуру хаосу — ну конечно же, именно к этому он и стремился всю свою жизнь.
— …И что отец? Он тоже тебе не поверил?
— Видишь ли, он узнал это от отцов других детей. И вот он говорит:
«Ральф, я хочу, чтобы ты рассказал мне в точности все, что случилось за тем рекламным щитом». Ну я и рассказал. «А я слышал совсем другое», — говорит он. Я начал клясться, что говорю правду, а он просто сидит и смотрит на меня так, словно я… даже не знаю что. И с тех пор, с тех самых пор…
— Постойте… Прошу прощения, Джулиан.
— Стоп! В чем дело, Джон?
— Мне кажется, эту сцену лучше подать с некоторой долей сомнения. В ее нынешнем виде все представляется так, словно мы все безоговорочно верим Ральфу — его печальной истории о жестокости и непонимании, — и это вполне нормально. Но что, если сыграть это так, чтобы зритель слегка усомнился: а стоит ли верить всему сказанному? Я вовсе не хочу делать из Ральфа примитивного лжеца, но он представляется мне очень сложным, проблемным подростком. Он так часто излагал свою историю всем подряд, что теперь даже сам не вполне уверен, насколько она правдива. Хочется, чтобы зритель самостоятельно оценил его рассказ, как бы читая между строк. Я подразумеваю возможность… как бы получше выразиться… возможность двойственного толкования. Кто-нибудь понял, к чему я клоню?
Джулиан понял.
— С этим я согласен, Джон, — сказал он.
И юноша, игравший Ральфа, понял тоже, после недолгих раздумий. Он и его темнокожий партнер в этой сцене, привлеченные из Высшей школы искусств и музыки, были, пожалуй, самыми способными актерами из всех присутствующих. И со второй попытки они сыграли именно так, как хотел Уайлдер.
— …Да, жуткая история. Слушай, у меня есть предложение. Давай угадывать фильмы. Ты знаешь эту игру?..
Памела поджидала его за пределами съемочной площадки.
— Получилось безупречно! — сказала она.
— Безупречно или нет, но второй дубль действительно понравился мне больше.
— Ты всегда подаешь отличные идеи, — сказала она. — У тебя и вправду природный дар к таким вещам.
— Не хочешь прогуляться?
Был теплый вечер шестого или седьмого съемочного дня. В его планах было забраться с ней поглубже в заросли, найти какую-нибудь цветущую полянку, расположиться на мягком мху и с удовольствием послушать, что еще она расскажет о его природном даре.
— Прогулка? — удивилась она. — Нет, только не сейчас. Я не хочу упускать ни минуты из всего этого.
Чуть погодя Джулиан объявил десятиминутный перерыв, и Уайлдер воспользовался этим, чтобы высказать мысль, формировавшуюся в его голове на протяжении нескольких дней.
— Послушай, — сказал он, — я знаю, как ты относишься к христианскому символизму, Джулиан, но Спивак — то есть Клингер — по ходу действия рассказывает о человеке, который считает себя «Христом во втором пришествии» и периодически закатывает сцены. И если уж мы о нем упоминаем, то почему бы его не показать? Если он закатывает сцены, то почему ни одной из них нет в фильме?
— Мм… а что именно он будет делать? — спросил Джулиан.
— Да мало ли что. Он может во всю глотку цитировать Нагорную проповедь, пока его не вырубят уколом, а может, к примеру, попытаться сам себя распять. Я предпочел бы второй вариант просто потому, что визуально он более эффектный. Скажем, какой-нибудь тощий парнишка сделает подобие набедренной повязки из куска пижамы, заберется на спинку скамьи, прислонившись спиной к стене, раскинет руки в позе распятия и простоит там, пока подоспевшие санитары его оттуда не снимут. Представляете?
Все молчали, ожидая реакции Джулиана, который не спешил с ответом и задумчиво морщил лоб.
— Ну, я не знаю, Джон, — сказал он наконец. — Это будет уж слишком нарочито.
— А мне так не кажется, — возразил актер, игравший Клингера. — Эта сцена может стать украшением фильма, если подать ее в правильном ключе.
— По правде говоря, — сказал Джерри, — при работе над сценарием мне приходило в голову нечто подобное, но я просто не нашел, куда вставить этот эпизод.
— Подумайте о воздействии на публику, — вступил в беседу еще один актер. — Действие ограничено стенами палаты со всем этим убожеством и уродством, и вдруг — надо же! — перед зрителем возникает классический образ…
— Плюс ирония! — подхватил еще кто-то. — Распятие в дурдоме. Думаю, это будет грандиозная сцена. Грандиозная.
Джулиан мерил шагами пол на небольшом свободном пятачке.
— А мне это не нравится, — сказал он. — Сентиментальная пошлятина.
— Пошлятина?! — вскричала Памела. — Джулиан, ты упускаешь самую суть. Это прекраснейшая идея из всех, до сих пор кем-либо предложенных. Она может символизировать весь этот…
— …весь этот гребаный символизм. Извини, Памела, но я просто не вижу эту сцену в фильме, вот и все.
Сразу несколько человек, перекрикивая друг друга, начали ему возражать. Когда стало ясно, что большинство поддерживает его идею и Джулиан рано или поздно сдастся, Уайлдер потихоньку удалился. Он выступил с предложением и уже не чувствовал необходимости его отстаивать; сейчас ему больше хотелось уединиться и подышать свежим воздухом.
Стаканчик виски он прихватил с собой, но после пары маленьких глотков желание пить пропало, и, аккуратно поставив стакан на траву у стены амбара, он отправился на прогулку.
Это была самая красивая сельская местность из всех когда-либо им виденных, но не только красота пейзажа заставляла его сердце биться учащенно; сказывалось и стремительное повышение самооценки в течение всего лишь одной невероятной недели. Эпштейн назвал его «достойным наибольшего восхищения»; Джулиан соглашался с ним по всем спорным вопросам; Памела употребляла фразы типа «получилось безупречно» и «это прекраснейшая идея» — от таких вещей немудрено голове пойти кругом. Без сомнения, он был рожден именно для этого — для упорядочения хаоса, — а все предыдущие годы были только пустой тратой времени. Наконец-то Джон Уайлдер нашел свою стезю в жизни, в этой реальности, и он дрожал от переполнявших его радости и гордости, каких не испытывал с одиннадцатилетнего возраста, когда его сделали сопрано-солистом в церковном хоре.
— Glo-o-o-o-ria in excelsis De-e-o[36]… — затянул он.
Под ногами пружинила болотистая почва, он постоянно запинался о кочки, каковые запинки породили в его голове ритм, который начал превращаться в стишки или песенку. Эта песенка продолжала звучать, даже когда он остановился, обняв рукой древесный ствол:
Если встретите кого-то, кто без толку просадил Половину своей жизни, сам не зная почему; Если он вам попадется обнимающим деревья Или на колени павшим, знайте: этот человек…Он оторвался от дерева, оставившего смолистое пятно на его рукаве, и зашагал дальше, ощущая что-то вроде покалывания сотен мягких иголок по всему телу. Его зрительное восприятие исказилось — перед глазами зависли или плясали бесцветные мушки, — но песенка не кончалась, словно кто-то незримый (может, Эпштейн?) нашептывал слова ему в уши:
Если хаос он в порядок замышляет привести, Если страсть свою стремится на экран перенести, Если в нужный миг придет…— Здравствуйте, мистер Уайлдер, — поприветствовал его исполнитель какой-то второстепенной роли, торопившийся на съемки.
— Привет… Эй, погоди… погоди…
Студент обернулся и посмотрел на него долгим, странным взглядом.
— Не подскажешь, как мне добраться до дома мистера Эпштейна?
— Конечно. Вы идете в правильном направлении. Видите эту грунтовую дорогу? Она приведет вас прямо к дому, до него отсюда ярдов двести. С вами все в порядке, мистер Уайлдер? Вы выглядите…
— Как я выгляжу?
— Ну, в целом… — Парень опустил глаза, как смущенная девица. — В целом нормально, просто мне показалось… Но это не важно. Кстати, мистер Уайлдер, я думаю, это будет великий фильм. Реально великий.
Стало быть, он изначально двигался в правильном направлении, а двести ярдов может осилить всякий, даже если у него подгибаются колени. И теперь песня в его голове уже явственно озвучивалась голосом Эпштейна:
Если в нужный миг придет и ответ на все найдет, Знайте: этот человек…Он не хотел смотреть вверх, поскольку и без того знал, что голубизна неба уже сменилась красно-золотым закатом; и он не хотел оглядываться назад, поскольку знал, что Памела и прочие столпились на опушке, чтобы его подбодрить — «Давай, Джон, давай», — так что он смотрел только вниз, на свои шагающие ноги. Эти самые ноги из года в год несли его по жизни, полной ошибок и фальши, но теперь они наконец-то месили пыль верной дороги — правильной, трудной и одинокой дороги самопознания…
— О, мистер Уайлдер? — произнес Эпштейн, открывая белую входную дверь.
Уайлдер перешагнул порог и, еле держась на ногах, прислонился к стене прихожей. Он вгляделся в спокойное, мудрое лицо Эпштейна, который, в свою очередь, смотрел на него внимательно и ободряюще, как будто много лет ждал этой самой встречи.
«Давай, Джон, — звучали в его голове слова ребят. — Давай скажи это».
Но он был парализован нерешительностью. Если он скажет то, что предположительно от него ожидают, на этом все может быть кончено. Он останется самим собой, но он может стать…
— Слушаю вас.
И тогда он вдруг выпалил:
— Браток, не подкинешь десять центов[37]?
Эпштейн, похоже, нисколько не удивился:
— Десять центов? Да, конечно, буду рад помочь. Может, пройдете и подождете в гостиной, пока я…
— Нет… нет, спасибо. Я подожду здесь.
Эпштейн удалился в кабинет, но пробыл там недолго.
— Вот вам истертая, но зато ярко блестящая монетка, — сказал он и, вручая ее, посмотрел Уайлдеру прямо в глаза, после чего с улыбкой протянул руку для церемонного прощания.
Если монетка не сработала как импульс, то могло сработать рукопожатие, и Уайлдер вновь заколебался. «Давай, Джон, пусть это случится», — нашептывали голоса.
Эпштейн перестал улыбаться и теперь казался несколько встревоженным, однако не убрал протянутую руку, и Уайлдер протянул свою навстречу:
— Надеюсь, у вас все в порядке, мистер Уайлдер?
— Да, все в порядке.
Почему-то он был уверен, что данному рукопожатию должен сопутствовать громоподобный подтверждающий звук, и, не услышав такового, попытался издать его сам — получилось что-то вроде гула бронзового колокола, застрявшего у него глубоко в глотке.
Эпштейн слегка опешил:
— Боюсь, я не вполне… Могу я предложить вам стакан холодной воды? У нас тут чудесная родниковая вода.
— Нет. Не надо воды. Ничего не надо.
Кое-как оторвавшись от стены, он сжал монету в потном кулаке и засунул этот кулак поглубже в карман своих мятых летних брюк. В эти минуты он явно подвергался какому-то испытанию и пока что не прошел его до конца. Намечалось что-то еще; должно было случиться что-то еще.
— Спасибо, — выговорил он с трудом из-за ужасной сухости во рту. — Сожалею, если я…
И, развернувшись, зашагал по тропинке к дороге, ощущая затылком взгляд Эпштейна.
У него хватило соображения пойти обратно тем же путем, каким он пришел к дому старого профессора, при этом он не разжимал кулак с монеткой, чтобы та не затерялась среди прочей мелочи в том же кармане. Должно было случиться что-то еще — и тут, как бы в подтверждение, резко изменилась погода. Пошатываясь, он брел по лесной дороге, когда небо быстро потемнело, ослепительно сверкнула ветвистая молния и раздался громовой раскат как раз того сорта, какой он ожидал услышать в момент рукопожатия с Эпштейном. Внезапный и яростный порыв сырого ветра взметнул к небу склоненные ветви деревьев, обнажая бледную изнанку листвы, а холодный ливень загнал его в ближайшее укрытие, каковым оказалась телефонная будка на обочине. Только теперь он догадался о назначении десятицентовика и понял, что Эпштейну оно было известно с самого начала.
Если в телефонной будке вдруг привидится вам некто, Не знающий, что делать с подаренной монетой…Когда он закрыл дверь-гармошку, под потолком будки приглашающе загорелась лампочка, но он был вынужден присесть на низкую полочку под автоматом, дожидаясь, когда замедлится сердцебиение и прояснится голова. Потом очень тщательно вставил монетку в щель.
Это будет второе пришествие Это будет второе пришествие Знайте: это второе пришествие…Он набирал номер неспешно, делая паузу после каждой из семи цифр, и насчитал десять гудков, прежде чем нажать отбой и дать монете пролететь сквозь таксофон в отсек возврата. Ошибка; но если попробовать снова, все может получиться. «Терпение, — увещевал его голос Эпштейна. — Терпение и смелость, Джон. Время еще есть». Он закрыл глаза, и семь цифр отчетливо нарисовались на внутренней стороне век; он набрал их быстро, но аккуратно, и после седьмого гудка раздался щелчок.
— Алло? — произнес женский голос на том конце линии.
— Здравствуйте. Это… Скажите, вы моя мама?
— Сожалею, но вы ошиблись номером.
— Нет, не ошибся. Пожалуйста, не кладите трубку. Послушайте, я стараюсь связать все воедино, но у меня есть только одна монета.
— Молодой человек…
— Да. Я еще здесь, но мое время истекает. Пожалуйста, подождите.
— Я бы охотно вам помогла, но, судя по всему, вы ошиблись…
— Прошу вас. Немного терпения. Я знаю, что вы принимаете меня за сумасшедшего, но это не так. Я очень, очень серьезно настроен, и все это очень важно. Подождите. Сейчас мне придет в голову правильный вопрос.
— Молодой человек?
— Да, я здесь. Пожалуйста, не вешайте трубку.
Но она это сделала, и монета исчезла в недрах автомата. Впрочем, невелика потеря: десятицентовиков у него было навалом. Главное, продолжать попытки, звонить снова и снова, пока…
Кто-то постучал по стеклу с другой стороны; он обернулся и увидел перед будкой девушку. Видимо, дождь прекратился, потому что ее одежда и волосы были сухими. Она попыталась открыть дверь, и ему пришлось встать прямо, чтобы ей помочь.
— Джон? Ты знаешь, сколько времени ты провел в этой будке?
— Нет.
— И ведь ты даже не разговаривал, только вставлял монеты, набирал номер и… Ох, Джон, ты в порядке?
— А ты еще кто? Недоделанная Мария Магдалина?
— Что? Я?!
— Одну минуту.
Он закрыл глаза и сдавил двумя пальцами свою переносицу.
— Кто же ты тогда? Может быть, Джинни Болдуин?
Джинни Болдуин была его первой любовью; и если она сейчас ответит «да», это будет означать, что ему самому всего лишь семнадцать, что впереди целая жизнь и все его ужасные ошибки еще не совершены.
— Джон, ради бога, прекрати! Ты отлично меня знаешь.
— Нет, пока не узнаю. Который сейчас час?
— Почти шесть.
— Шесть часов утра или шесть часов…
— Джон, если ты дурачишься, я тебе этого никогда не прощу. Либо ты просто дурачишься, либо… о боже! Пойдем, я отведу тебя домой.
И он позволил увести себя по траве прочь от телефонной будки.
— То есть, по-твоему, все это было просто иллюзией? — спросил он, с трудом за ней поспевая.
— Что ты сказал?
— Я о том, что в реальности ничего этого не происходило.
— Чего не происходило в реальности?
— Ладно, забудь.
— Джон, ты вспомнил наконец, кто я такая? Вспомнил, где ты находишься и что вообще происходит?
— Нет, я… нет.
— Тогда слушай внимательно. Меня зовут Памела Хендрикс. Сейчас август тысяча девятьсот шестьдесят первого года, и мы находимся в колледже Марлоу в Вермонте.
— В Вермонте?
И вот тут он расплакался, потому что все ею сказанное и впрямь походило на правду; но если это было правдой, значит все остальное было лишь видением — и тогда он выставил себя в глупейшем свете перед всеми в колледже Марлоу (кто не видел лично, вскоре узнает от других). Он уже чувствовал на себе их взгляды, когда шел через кампус и пытался костяшками пальцев смахнуть слезы со щек, — презрительные и насмешливые взгляды тех самых людей, чьи голоса подбадривали его на пути к Эпштейну и потом в его доме; а вскоре и сам Эпштейн, конечно же, присоединится к хору насмешников.
В пропахшей смолистым деревом спальне общежития она действовала как грамотная сиделка. Первым делом велела ему снять одежду и лечь в постель, а затем опустилась рядом на скрипучий стул.
— Джон, ты меня слышишь? — спросила она, когда он перестал плакать и вновь потерял представление о времени: мог быть полдень, а могла быть и полночь.
— Да.
— Я тебя оставлю на несколько минут. Ты обещаешь не покидать эту комнату?
— Да. Но тогда и ты пообещай мне кое-что.
— Хорошо, милый. — Она потрогала его лоб прохладными пальцами, как молодая мать, проверяющая, нет поднялась ли у ребенка температура.
— Что бы ни случилось, обещай, что не позволишь им забрать меня отсюда.
— Ох, ну конечно же. Я обещаю, милый. Я никому не позволю тебя забирать куда бы то ни было.
После этого, казалось, прошло много часов — спал он или бодрствовал? — пока не послышался легкий стук в дверь, а затем голос Эпштейна:
— Мистер Уайлдер?
— Одну секунду.
Он бросился к стенному шкафу, схватил свои штаны и натянул их на голое тело, прежде чем впустить профессора.
— Что… чем могу быть полезен? — сказал Уайлдер.
— Я ни в чем не нуждаюсь, спасибо. — Эпштейн опустился на стоявший у стены стул. — Честно говоря, мистер Уайлдер, я пришел сюда только потому, что я за вас беспокоюсь.
— А, вот оно как? Это весьма занятно, поскольку я, со своей стороны, беспокоюсь за вас. Возможно, я не такой человек, каким хочу казаться, но в этом плане вы еще хуже. Вам известно, что студенты колледжа между собой именуют вас Богом? Что они именуют вас Богом Отцом?
Легкий смешок Эпштейна прозвучал раздражающе.
— Бросьте. Во-первых, я не поверю этому ни на миг, а во-вторых, я не вижу, какое отношение это может иметь к…
— Ах вы не видите? А между тем это имеет отношение ко всему. Послушайте. Послушайте меня. Или профессора философии никогда никого не слушают, а только говорят сами? Прежде всего, как я узнал, по этому кампусу издавна гуляет слишком много шуточек религиозного свойства. Бог Отец, Бог Сын и Святой Душок в придачу — все в таком роде. Если заявите, что вы ничего такого не слышали, я назову вас лжецом. Будь я здешним студентом, я дал бы вам еще несколько определений. Я назвал бы вас лицемерным старым жуликом — и не важно, сколько умных книг вы храните у себя в библиотеке. Если бы у меня была возможность узнать вас получше, я мог бы назвать вас грязным старым развратником. Какую вы там фразочку недавно завернули? Ах да: «Марлоу накладывает заклятие творчества на всякого сюда входящего». Неслабо сказано — и юные девицы, каждую осень сюда приезжающие, готовы лезть из кожи вон, чтобы впечатлить мудрого педагога. Но я вас раскусил, Эпштейн… Погодите. Дайте мне досказать…
И он досказал свою речь, хотя это заняло немало времени. В какой-то момент Эпштейн произнес: «Боюсь, мне уже пора», а потом щелкнул замок закрывшейся за ним двери, но Уайлдер продолжил говорить, обращаясь к пустому стулу. При этом он выкурил все сигареты и тщетно искал в комнате спиртное, а потом бросился к раковине и стал горстями пить холодную воду, как будто умирал от жажды. Он наградил Эпштейна всеми гадкими прозвищами, какие только смог придумать; он обвинил Эпштейна во всем плохом, что случилось в его собственной жизни, и предложил Эпштейну опровергнуть эти обвинения, если сможет; он говорил и говорил, пока не рухнул на постель, совершенно обессиленный.
Некоторое время спустя он услышал голоса за дверью. Там были Эпштейн, и Памела в слезах, и еще приглушенные, вежливые голоса двух или трех мужчин, которые он не смог распознать.
Когда пара сильных рук помогла ему подняться, он воспринял это как проявление трогательной заботы; точно так же был воспринят и укол иглы в ягодицу. После этого его кое-как одели, и несколько мужчин помогли ему забраться на заднее сиденье большой машины, а потом наступила тишина. Машина куда-то ехала; он еще немного всплакнул, но вскоре отдался на волю тяжелых волн сна, похожего на погружение в пучину.
Пробудившись, он сразу понял, что находится уже не в колледже Марлоу. Все запахи здесь были другими, а у его изголовья сидела не Памела. Это была старуха с голубовато-седыми волосами, одетая как медсестра и читавшая какой-то роман в мягкой обложке.
— Мисс? — позвал он.
Она отложила книгу в сторону и, прежде чем ответить, взглянула на свои часы:
— Да, сэр?
— Скажите, где я нахожусь?
— В больнице Элизабет Фэннинг.
— А где это?
— В Мидлберри, штат Вермонт. Как вы себя чувствуете, мистер Уайлдер?
— Я чувствую… я не могу пошевелить…
— Не двигайте этой рукой, сэр, там капельница.
Она быстро поднялась, чтобы проверить, не нарушил ли он чего-нибудь.
Его рука была примотана к обтянутой марлей дощечке, а вверх от нее поднималась прозрачная пластиковая трубка, вероятно ведущая к капельнице над его головой. Алюминиевые решетки ограждения по бокам койки были подняты, словно кто-то опасался, что он может с нее упасть.
— Что со мной случилось?
— Мне об этом ничего не известно, сэр; я дежурю только в утренние смены. Постарайтесь расслабиться и не двигайтесь; мне нужно отметить в журнале время вашего пробуждения. Потом я измерю вашу температуру, артериальное давление и все, что полагается, и выполню еще несколько мелких процедур. Вряд ли нам еще понадобится эта капельница, но подождем, что скажет доктор. Полагаю, все худшее уже позади, мистер Уайлдер, и вы очень скоро подниметесь на ноги.
— А это что за стопка бумаг?
— О, это счета за услуги персональных сиделок. У вас платный круглосуточный уход, и счета постепенно накапливаются, но вам не стоит волноваться по этому поводу. У вас ведь есть медицинская страховка?
— Думаю, да.
— Вот видите, значит, все в порядке. Я вот что вам скажу, мистер Уайлдер: насколько я могу судить, вы до сих пор были образцовым пациентом. Конечно, я дежурю только по утрам и не могу говорить от имени других сиделок, но в мои дежурства вы вели себя безупречно. Лучше не бывает. Ни малейших проблем, утро за утром. Вы много говорили, но это было даже занятно.
— Говорил? О чем я говорил?
— Да обо всем на свете. Я не всегда могла уловить суть, но все равно слушать вас было интересно…
Он, должно быть, заснул под звуки ее голоса, потому что, когда он открыл глаза, в комнате находилась уже другая сиделка, значительно моложе прежней и с очками на носу.
— К вам посетительница, мистер Уайлдер.
И появилась она — как всегда, красивая и свежая, в ярком летнем платье. Усевшись рядом, она так порывисто схватила его за руку, что несколько медицинских счетов слетели с тумбочки на пол.
— Ты выглядишь гораздо лучше, — заявила она и, не теряя времени даром, начала вводить его в курс всех дел.
Прежде всего, съемки были завершены (здорово, правда?); осталось только снять вид Бельвю снаружи. Потом Джулиан займется монтажом (это, ясное дело, потребует времени) и музыкальным сопровождением (лично она считала, что без музыки только лучше, но Джулиан непременно хотел задействовать флейты и гитары), и в результате они получат качественный, полностью готовый к демонстрации фильм.
— Однако все ужасно беспокоятся за тебя, — сказала она. — Единственное, что я могла сделать, — это удерживать их от ненужных визитов сюда, в больницу.
— Мне надо кое-что уточнить. Видишь ли, у меня в голове еще не совсем прояснилось… — Он понимал, что следующий вопрос лучше не задавать, но все же сделал это, чтобы проверить Памелу. — Почему я здесь? Что со мной случилось?
— Ты в самом деле не помнишь? — Она понизила голос. — У тебя был нервный срыв, мой милый. Просто жуткий срыв.
Далее последовала ее версия событий, и он слушал очень внимательно, стараясь понять, что ей было известно насчет его бредовой иллюзии с Христом. Похоже, она ничего об этом не знала и даже не догадывалась.
— …твоими последними словами перед тем, как я отправилась на поиски Джерри, Джулиана или еще кого-нибудь, были: «Не позволяй им забрать меня отсюда». Ты это помнишь?
— Смутно, — сказал он и продолжил слушать, стараясь не пропустить ни одной подробности, как полицейский следователь или психиатр; а ее чистый мелодичный голос меж тем набирал обороты.
— …Когда я вернулась к общежитию, там на ступеньках крыльца сидел мистер Эпштейн, курил трубку и казался таким спокойным, как старый… не знаю, как старый священник, наверно. Он сказал, что уже вызвал медиков из больницы Элизабет Фэннинг, чтобы они тебя забрали. Я стала возражать: «Но я только что ему пообещала…» — а он обнял меня одной рукой и сказал:
«Памела, моя ответственность важнее, чем твои обещания». Разве это не мило?
— Очень мило.
— И еще он сказал, что ты добрый и чувствительный человек, но такие вещи временами случаются даже с лучшими из нас и что понимание этого придет ко мне с возрастом.
— Ты уверена, что «добрый» и «чувствительный» — это единственные слова, которые он использовал применительно ко мне?
— Нет, помнится, он употреблял и другие выражения — все очень лестные. Ты ему нравишься, Джон, на этот счет можешь быть спокоен. Да, был еще один забавный эпизод. Когда медики повели тебя к своей машине, ты вдруг выпрямился, словно готовясь произнести речь, и сказал: «Я никогда не зависел от доброты незнакомцев».
— Я в самом деле это сказал?
— Да. А что?
— Дело в том, что это не просто слова, это цитата — последняя реплика главной героини в «Трамвае „Желание“»[38]. Только в моем случае она… как это называется… перефразирована. Героиня пьесы произносит эти слова, когда ее увозят в психушку, но у нее это звучит так: «Я всегда зависела от доброты незнакомцев».
— Да, ты действительно нечто, Джон. Мистер Эпштейн, услышав эту фразу, предположил то же самое, однако он не был полностью уверен — а ведь он самый образованный, самый начитанный человек из всех, кого я знаю.
Вечером он поужинал, сидя в постели; на следующий день ему выдали тапочки и позволили сидеть в кресле, где его и застала Памела; а когда закончился отведенный для посещений час, ему разрешили медленно прогуляться по коридору.
— Извините, мистер Уайлдер, но дальше вам заходить нельзя. Видите ли, это закрытое отделение.
А еще через день или два к нему в комнату пришел психиатр — очень молодой, но не очень-то следящий за собой человек: его трусы в темную полоску откровенно просвечивали сквозь тонкую нейлоновую ткань больничной униформы.
— Как ваше самочувствие? — спросил он.
— В целом неплохо, но у меня накопилось много вопросов, доктор. Не уверен, что вы сможете сразу ответить на все. Скажите, вы когда-нибудь имели дело с пациентом, воображавшим себя Иисусом Христом? Потому что именно это случилось со мной. Во время моего… ну, вы знаете, моего срыва… мне казалось, что я превращаюсь в своего рода Мессию, что это второе пришествие Христа.
— Хм… — Доктор присел одним бедром на подоконник и начал поигрывать шнуром от жалюзи.
— Я понимаю, что это плохой признак — признак умопомешательства — и догадываюсь, что вы порекомендуете мне обратиться к психиатру по возвращении в Нью-Йорк, но это исключено.
Уайлдер начал задыхаться, во рту пересохло, и он почувствовал, как лицо его искажает упрямая, злая гримаса, словно отработанная годами комбинация из образов Микки Руни и Алана Лэдда вдруг обернулась оскалом смертельно раненного Джеймса Кэгни[39].
— Дело в том, доктор, что я не поддаюсь психоанализу. Я это знаю, потому что уже пробовал. На меня он почему-то не действует. Возможно, в этом виноват я сам, но поиск виновных все равно ничему не поможет. Суть в том, что со мной этот метод просто не срабатывает. Вы меня понимаете?
— Мне кажется, да. — Доктор изучал шнур от жалюзи так сосредоточенно, словно только что обнаружил уникальный образчик веревочного плетения. — Откровенно говоря, мистер Уайлдер, я и сам не очень высокого мнения о подобных методах, хотя в данном случае мне трудно быть объективным. Моим учителем был один из основоположников новой школы психиатрии. Медикаментозная терапия. Химические препараты. Таблетки. Обычные транквилизаторы были только началом, это уровень пятидесятых. Сейчас в нашем распоряжении широкий спектр препаратов — антидепрессантов, стимулянтов, антипсихотиков, — которые будут повышать или понижать ваш тонус четко выверенными и контролируемыми дозами. И буквально с каждым днем эта новая методика становится все более изощренной и эффективной…
И он принялся развивать эту мысль. Неужели Уайлдер никогда не слышал о Майроне Т. Бринке? Такое трудно себе представить, если он имеет обыкновение просматривать журнал «Тайм», который буквально недавно поместил фото доктора Бринка на своей обложке. Именно этого человека доктор упомянул ранее как пионера медикаментозной терапии, ставшей для него, тогда еще студента, настоящим источником вдохновения. В последнее время Бринк много путешествовал, внедряя свои передовые методы в других странах, — не далее как в прошлом месяце он получил государственную награду ЮжноАфриканской Республики, где его терапия помогла резко сократить число пациентов в психиатрических клиниках, и это лишь последний из множества подобных случаев. При этом он все еще — хотя и в очень ограниченных масштабах — занимался частной практикой у себя в Нью-Йорке, в Верхнем Ист-Сайде. В его отсутствие пациентов принимал один из трех его помощников, также очень компетентных специалистов. Еще одним преимуществом обращения к доктору Бринку было то, что он брал за свои услуги вполне умеренную плату. Ну как, мистер Уайлдер еще не заинтересовался?
— …Разумеется, я не гарантирую, что он возьмется за ваш случай, — заключил доктор, — но мы можем попробовать. Я напишу ему сегодня же. Сейчас же. Не хотите сообщить мне еще что-нибудь о себе, мистер Уайлдер? Помимо того факта, что вы воображали себя Христом.
С трудом верилось, что этот обходительный юноша являлся дипломированным психиатром, последователем какой-то там прогрессивной школы. Эта мысль не оставляла Уайлдера в то время, как его собственный голос все громче и увереннее отвечал на незатейливые вопросы доктора. Все складывалось даже слишком хорошо, чтобы походить на правду, — то же самое можно было сказать и о его поездке в Марлоу, и о знакомстве с Памелой. Казалось, после всех несчастливых лет удача наконец-то поворачивалась к нему лицом. А почему бы и нет? Разве еще не пора? Разве он не отбыл достаточно долгий срок на каторге неудачников этого мира?
— Ты уже в курсе? — спросила запыхавшаяся Памела, влетая к нему в комнату одним прекрасным утром. — Сегодня после обеда тебя выписывают. Хорошо, что я прихватила с собой твои вещи. Впрочем, я делаю это каждый раз, приезжая тебя проведать. На всякий случай.
— Как мы поедем домой? На машине?
— Ну уж нет, это затянется до бесконечности. Машина взята напрокат, ты не забыл? Просто сдадим ее в аэропорту Мидлберри и оттуда полетим в Нью-Йорк. А пока не хочешь прогуляться по коридору? Или, может, нам позволят спуститься вниз и погулять во дворе, раз уж тебя готовят к выписке? Я еще не говорила про погоду? Сегодня роскошный день, начало осеннего разноцветья.
Услышав про разноцветье, он только теперь вспомнил о своей жене. Он обещал вернуться из Бостона через две недели, а прошло уже почти три.
Когда они добрались до аэропорта, день еще был в разгаре — значит, Томми должен был находиться в школе, — и он закрылся в телефонной будке, чувствуя себя провинившимся мальчуганом.
— …Дженис? Послушай, я буду дома через пару часов; сейчас я в бостонском аэропорту. Дело в том, что я был болен, лежал в больнице и не мог позвонить раньше.
— Ничего страшного, — сказала она. — Мы тебя и не ждали.
— То есть как это «вы меня и не ждали»?
— А ты не думаешь, что мы с Томми уже привыкли не ожидать от тебя слишком многого?
Струйка пота побежала по его спине под летним костюмом.
— Мне кажется, это несправедливо. Неужели тебя ничуть не волнует то, что я был в больнице?
— Что ж, надеюсь, тебе сейчас лучше. Наверняка лучше, иначе они бы тебя не выпустили.
— Дженис, я…
— Ладно, Джон, поговорим, когда ты будешь дома.
Глава шестая
— Да-да, припоминаю, — сказал Майрон Т. Бринк, мускулистый и седовласый, в хорошо подогнанном костюме. — Вы тот самый человек, о котором мне сообщил мой юный друг из Вермонта, верно? Что ж, взглянем на вашу историю болезни.
Он раскрыл на коленях папку и откинулся на спинку черного кожаного кресла. Аккуратные стопки таких же скоросшивателей лежали на ковре слева и справа от него, создавая впечатление, будто деятельность всемирно известного психиатра носит по преимуществу канцелярский характер.
— Хорошо, мистер Уайлдер, — сказал он. — Думаю, мы с вами сработаемся. Для начала позвольте задать вам несколько стандартных вопросов, после чего я выпишу лекарства, и вы отправитесь по своим делам. Вас это устраивает?
В тот день У айлдер прибыл домой с четырьмя флаконами таблеток, брякавшими в карманах пальто. Он уже собрался поместить их в аптечный шкафчик, но вдруг сообразил, что будет лучше держать их не здесь, а в своем офисном столе или в квартире Памелы. Разглядывая каждый флакон при ярком свете в ванной, он попытался запомнить мудреные названия препаратов. Бринк заверил его, что названия ничего не значат — это всего лишь глупые выдумки фармацевтов, — однако они сбивали с толку, как иностранные слова, вкрапляемые в чью-то речь. И как ему, черт возьми, прикажете отличать хилафон от халдола или плитиум от плутола? Один из этих препаратов был транквилизатором, другой антидепрессантом, третий Бринк назвал антипсихотиком, помогающим оправиться после нервного срыва. Да, Бринк давал ему пояснения к каждому из рецептов, но все это начисто изгладилось из его памяти сразу же по выходе на улицу. Не лучше, чем с названиями, обстояли дела и с дозировкой. «100 мг, три раза в день», — значилось на одной этикетке; «8 мг, одна капсула перед сном», — гласила другая. Но разве можно ожидать от человека, страдающего провалами в памяти, точного соблюдения всех этих предписаний?
— Ужин готов! — громко сообщила Дженис, и это значило, что он должен вымыть руки и принять безмятежный вид. — У нас сегодня любимое блюдо Томми, — сообщила она, когда Уайлдер уселся за стол. — Мой фирменный мясной рулет, печеный картофель со сметаной и простенький зеленый салат. Когда-то и ты это любил, Джон. А как сейчас?
— Спрашиваешь! Особенно мясной рулет. Можно мне еще кусочек?
— Конечно угощайтесь, добрейший господин, — сказала она шутливо. — Я чрезвычайно польщена. Однако мне известно твое самое любимое блюдо, и, если будешь хорошо себя вести, я приготовлю его в воскресенье.
— И что это за блюдо?
— Ростбиф, разумеется. Сочный ростбиф с йоркширским пудингом и брюссельской капустой. Как ты мог такое забыть?
— Верно. Это было бы здорово, Дженис. Жду не дождусь воскресного обеда.
Неужели все это происходило наяву? Неужели она действительно сидела рядом с ним, вилкой отправляя в рот кусочки рулета и промокая губы салфеткой, а Томми действительно сидел по ту сторону стола? Как могла столь несчастливая семья каждый вечер устраивать эти спектакли и как долго это могло продолжаться?
— Как дела в школе, Том?
— Вроде ничего себе, — ответил жующий Томми и, проглотив кусок, добавил уже более внятно: — Я учусь всего-то вторую неделю.
— Понравились новые учителя?
— Да, особенно мистер Колдуэлл, математик. Очень забавный, ему бы комиком выступать в телешоу или типа того. Ребята из старших классов сказали, что он не только поначалу, а всегда такой, весь учебный год.
— Будем надеяться, что и ты весь год будешь держать планку.
— Какую планку, папа?
— Я о твоей учебе, о чем же еще? Не ты ли закончил прошлый год со средним баллом «Би»?
— Я уже и не помню.
— Вообще-то, средний балл у него был ближе к «Би-плюс»[40], — сказала Дженис, и все трое провели за обсуждением этой темы большую часть ужина.
— А десерт будет, мама?
— Как же без него? Что ты выбираешь — мороженое с пекановым маслом или кокосовый кекс?
Это было уже за гранью реальности.
— Ты по натуре эскапист, Уайлдер, — так говорил старый учитель латыни в церковной школе, и он вспомнил эти слова в вагоне метро, направляясь к любовнице после того, как сбежал из дому якобы на очередное собрание Общества. — Ты эскапист в чистом виде. Я каждый день вижу, как ты страдальчески затаскиваешь свое бедное усталое тело в этот класс и как после звонка ты молнией летишь к двери, под стать заправскому спринтеру, и я все понимаю. Что с тобой такое? Ты хочешь прожить всю свою жизнь эскапистом?
— Я так не думаю, сэр.
— Что? Говори громче, я тебя не слышу. Вот еще один признак эскапизма. Ты вполне можешь быть громким, когда захочешь, — я слышал эти твои сольные партии в хоре, — но в другое время ты тише воды ниже травы. А сейчас я хочу, чтобы ты открыл рот так же широко, как делаешь это в церкви, и повторил свои последние слова.
— Я сказал: «Я так не думаю», сэр.
— Что ты не думаешь?
— Не думаю, что мне хотелось бы на всю жизнь остаться эскапистом.
— Тогда тебе нужно исправляться. Знаешь, что говорят во флоте нерадивым матросам? — Уайлдер давно забыл имя этого старика, но никогда не забывал эту его лекцию, а равно дурной запах из его рта, дрожание его морщинистых рук и канцелярскую скрепку, которую он использовал в качестве зажима для галстука. — Знаешь, что говорят во флоте? Там говорят: «Исправляйся или выметайся». И это же правило будет применяться к тебе, пока ты учишься в моем классе и пока эта маленькая нелепая школа оплачивает мой труд. Уяснил?
Он так никогда и не «исправился» должным образом — чаша сия его миновала, — но и «выметаться» откуда-либо ему не пришлось, если не брать в расчет отчисление из Йеля. В разных ситуациях всегда находился какой-нибудь компромиссный вариант, и Уайлдер неизменно выбирал его. И вот сейчас, когда монотонно грохочущий поезд углублялся в тоннель под Центральным вокзалом, когда не было других занятий, кроме созерцания физиономий попутчиков (сплошь и рядом типажи Бельвю), он понял, что старый учитель латыни был прав: он вырос натуральным эскапистом и останется таковым до конца своих дней.
Но к тому времени, как двери поезда выпустили его на станции близ дома Памелы, он сумел освободиться от мрачных мыслей. Этот вечер не был предназначен для мучительных самокопаний.
— Привет, — сказала она. — Выпьешь?
— Не сегодня; сделаю паузу.
— Как?! Ты отказываешься от выпивки? Серьезно?
Да, он был серьезен. А все потому, что доктор Бринк сегодня его напугал, сказав напоследок:
— Вы много пьете, мистер Уайлдер, не так ли? Тогда имейте в виду: после приема вот этого… — он продемонстрировал один из рецептов, но Уайлдер почти сразу забыл, который именно, — я бы на вашем месте воздержался от выпивки. Это антипсихотик, и он совершенно несовместим с алкоголем. Запомните: совершенно несовместим.
— Сегодня был на приеме у нового доктора, — сообщил он, когда они вдвоем уютно расположились на голубых диванных подушках и ее голова пристроилась у него на груди.
— Да? И как он тебе?
— Весь в делах и заботах. Шутка сказать, он выкраивает время для приема пациентов между поездками в Южную Африку, в Китай, или куда там еще его черти заносят. Но впечатление в целом хорошее. Приятно иметь дело с таким доктором, который не заставляет тебя говорить и говорить без умолку. Ты даже не представляешь, насколько это приятно.
— Угу.
Что это, просто сонливость или же признак того, чего он опасался со времени госпитализации в больнице Элизабет Фэннинг: нарастающей усталости от разговоров о хрупком психическом здоровье Уайлдера? Спросить напрямую он не решился и предпочел сменить тему:
— А как прошел твой день?
— Да как обычно: все та же рутина в офисе, где Фрэнк Лейси целый день ко мне клеился. Боже, я начинаю презирать этого человека. Почему он меня просто не уволит, чтобы с этим покончить?
— Ты всегда можешь уйти сама.
— Нет, этого я не хочу. Работа все же неплохая, а искать новую — это жуткая морока. И потом, мой отец счастлив оттого, что я самостоятельно зарабатываю на жизнь. Да, Джон, чуть не забыла — сегодня звонил Джулиан.
— Он уже начал монтировать фильм?
— Нет, и насколько я поняла, он собирается отложить этот проект в долгий ящик. Нам надо будет на него надавить. Он, как всегда, спрашивал о тебе и пригласил нас обоих на вечеринку в его студии на следующей неделе. Само собой, там будут Джерри, Питер и еще многие из Марлоу. Ты не против?
— Конечно не против. Они славные ребятишки.
После этих его слов в комнате повисло долгое, все боле тягостное молчание, а потом она сказала:
— Знаешь что, Джон? Я не хочу, чтобы ты называл моих друзей ребятишками. Как-никак они взрослые люди. Вот скажи, тебе бы понравилось, если бы тебя называли пацанчиком в их возрасте, уже после армейской службы и прочего?
В конечном счете он согласился выпить с ней за компанию («Только сделай послабее», — добавил он в стиле Пола Борга), поскольку не видел других способов разбавить этот вечер хоть какой-то романтичностью. Более того, хоть он и боялся признаться в этом даже самому себе, выпивка казалась единственной гарантией от фиаско в постели. Что же такое с ним сегодня творилось?
— Боже, это было нечто, — сказала она после того, как оба довели себя до изнеможения. — Знаешь, Джон, я провела весь день в скучной конторе, ожидая этого. Именно этого.
— Да. Я тоже.
Однако он лежал, глядя в темноту — точно так же он мог бы лежать рядом с Дженис — и думая о том, как бы потихоньку принять еще порцию виски. «О, разумеется, очень слабую, доктор, я обещаю; самую слабую из всех вами виденных». Много ли будет от нее вреда в первую ночь, когда препараты еще только начали циркулировать в его крови?
— Милый, где ты? — позвала она. — Куда ты пошел? Тебе уже пора домой?
— Еще нет. Я сейчас к тебе вернусь.
В полумраке гостиной он прямиком направился к мерцающему отблесками огней домашнему бару, а оттуда на кухню за льдом.
— Ну же, тише… — говорил он себе, как мать, успокаивающая малыша. — Тише… тише… тише…
Вид на город из окна гостиной Памелы был великолепен, ничуть не уступая виду с террасы в ее офисе, и он наблюдал за играми света и тьмы, делая маленький глоток и выдох, маленький глоток и выдох. Он не спешил, растягивая процесс и сознавая его важность, ибо этот раз должен был стать последним.
Студия Джулиана, если освободить ее от декораций и слегка затемнить, вполне подошла бы для мероприятий типа празднования единственной свечи Сильвестра Каммингса, но в этот вечер ее разноцветье резало глаз, рок-н-ролл оглушал, вырываясь из мощных динамиков и отражаясь от стен, а в плотной галдящей толпе не попадалось ни одного лица, которому на вид было бы больше двадцати пяти.
— Пэмми! — крикнул Джулиан из дверного проема своей спальни. — И Джон! Рад тебя видеть, старик! Выглядишь отлично! Уже совсем поправился?
— Да, спасибо.
Когда Джулиан отобрал у них плащи и небрежно швырнул их на груду другой одежды на своей постели, стало заметно, что он под градусом или под кайфом, — а может, просто опьянен ролью хозяина столь многолюдного сборища.
— Мы с Джерри пришли к выводу, что ты угодил в больницу по нашей вине, — сказал он Уайлдеру. — По крайней мере, мы приложили к этому руку — я говорю обо всех нас. Это были сумасшедшие две недели. Но и веселые, не правда ли? То есть они были бы веселыми, если бы ты не заболел.
— Да-да, было весело.
— Джулиан, — начала Памела, — сейчас не самый лучший момент для таких разговоров, но я все же спрошу: когда ты планируешь довести фильм до ума?
— Пэмми, я ведь объяснил тебе по телефону. На меня сейчас свалилось столько всяких проектов, что мне, если честно, просто некогда заниматься этим, — разница в том, что другие проекты приносят реальный доход. Нужно ведь иногда и подзаработать, не так ли? Впрочем, вы не беспокойтесь: «Бельвю» сохраняет высокий приоритет в моих планах. Но к чему сейчас говорить о делах? Это же гулянка! Я хочу, чтобы вы оба славно повеселились. Развлекайтесь! Расслабляйтесь! Я знаю, что ты не балуешься травкой, Джон, но у нас полно вина, есть пиво в тазике со льдом, а кое-что покрепче ты всегда найдешь в углу по соседству с Честером Праттом. О’кей?
— О’кей, Джулиан.
Они уселись на пол, отыскав свободное место неподалеку от тазика с пивными бутылками, а вскоре к ним подошел Джерри и примостился рядом с Памелой. Он сделал самокрутку, по очереди затягиваясь которой эти двое завели негромкий разговор между собой.
— …Не уверена, что хочу с ним знакомиться, если у него все тот же кошмарный вид, — говорил Памела. — Он что, вообще не просыхает?
— Я и сам не устаю этому поражаться. Не знаю никого другого, кто мог бы поглощать такое количество алкоголя. До сих пор я встречался с ним раз пять или шесть, и всякий раз он был пьян почти до беспамятства. Даже в тот вечер, когда я присутствовал на его лекции в Принстоне.
— В таком случае когда же он работает?
— Понятия не имею. Однако ему это удается. Боже, что за книга!
— А как ты с ним познакомился, Джерри? Ты не рассказывал.
— Просто написал ему письмо. О том, что хотел бы экранизировать его роман. И он мне ответил.
— О ком вообще речь? — спросил Уайлдер.
— О Честере Пратте, — сказала Памела, — авторе книги «Сожгите свои города». Сейчас он стоит вон там.
— Пойдем, — сказал Джерри, вставая с пола и протягивая ей руку. — Я вас обоих с ним познакомлю. Не каждый день выпадает шанс встретиться с незаурядным писателем.
В кои-то веки Уайлдер не почувствовал себя неловко в присутствии рослого человека. А ведь Пратт был еще и знаменит, и Памела говорила о «большом счастье» с ним познакомиться, используя обращение «сэр». Незаурядный писатель был действительно высок, но при этом оказался болезненно худым и даже каким-то хрупким, а его искаженное пьяной гримасой лицо вызывало ассоциацию скорее с печальным и слабым ребенком, чем со зрелым мужчиной.
— Что представляет собой эта книга? — спросил он у Памелы, когда они вернулись на прежнее место рядом с пивным тазиком.
— Мне его роман показался шедевром, но сейчас я в этом уже не так уверена. Ты когда-нибудь встречал подобную ходячую развалину?
— …Пэмми! Ох, Пэмми, как я рада тебя видеть!
— …Пэм!
Вмиг она очутилась в удушающих объятиях девиц из Марлоу, с которыми не виделась со времени выпуска, — девиц всех типов и габаритов в самых разных нарядах, от вычурных до повседневных, с безмолвно-улыбчивыми кавалерами на буксире, — и, хотя Памеле удалось подхватить общий радостный тон, до восторженности подруг ей было далеко.
— …и еще Рут, Грейс и Полли. А это Джон Уайлдер.
Все они были очень рады знакомству; все они много о нем слышали; а когда все они наконец удалились, Памела спросила:
— Джон, я кажусь тебе такой же юной пустышкой?
— Вовсе нет.
— И то ладно. А знаешь что? Ты был прав, они тут все действительно еще дети. Не только девчонки, но и парни. Джулиан с его свингующей студией, стробоскопами и оглушительным роком; Джерри с его Незаурядным Писателем, вокруг которого — ты заметил? — он увивается весь вечер. Может, поедем ко мне?
— Но еще нет и десяти.
— Я знаю, но мне все это опротивело. Я ни капельки не пожалею, если никогда снова не увижу никого из этих людей. И хорошо, что еще так рано, значит мы сможем дольше побыть вдвоем.
…Дженис, как обычно, уже спала, когда он вернулся домой и перед отходом ко сну исследовал книжные полки в поисках книги Честера Пратта. И он ее нашел у самого пола, ярко-желтую с багровыми буквами. На четвертой странице обложки был снимок автора, и он с трудом опознал Пратта, — вероятно, тот сфотографировался в трезвом виде.
Следующий визит к доктору Бринку состоялся почти через месяц, и единственным затруднением для Уайлдера была необходимость приврать насчет выпивки.
— …Да, со времени нашей последней встречи мне случалось изредка выпивать, — говорил он, пока доктор делал какие-то пометки на страницах в папке. — Но только по чуть-чуть, и это были очень слабые напитки.
Его нервировала манера доктора слушать рассказ, при этом не отрываясь от своих записей.
— Ну, не думаю, что очень слабые напитки, изредка и в малых дозах, будут для вас смертельными, мистер Уайлдер, — сказал он, продолжая писать и лишь изредка поднимая глаза словно для проверки: здесь ли еще пациент. — А в целом как себя чувствуете? Улучшения заметны?
— Еще как заметны! Та история с нервным срывом в Вермонте теперь кажется чем-то очень давним; сейчас даже трудно поверить, что со мной случалось такое.
— Стало быть, вы на верном пути.
— Доктор…
— Да?
— Я понимаю, что это не моего ума дело, но все-таки: как у вас получается разговаривать со мной и что-то писать одновременно?
Реакцией доктора была легкая, сухая усмешка.
— Не обращайте внимания на записи, я делаю их почти автоматически. Если бы вы поработали в этой области столько же, сколько я, вы бы тоже научились совмещать разные занятия. — Он отодвинул папку и встал из-за стола. — А теперь я немного поиграю в доктора. Не могли бы вы снять пиджак и закатать левый рукав рубашку? Я хочу кое-то проверить.
Он подошел к Уайлдеру, крепко схватил его за кисть и начал интенсивно сгибать и разгибать его руку в локте.
— Нет-нет, вы напряжены. Просто расслабьтесь, пусть рука обмякнет. Так, уже лучше… Еще лучше… Хорошо.
Он вернулся в свое кресло, быстро что-то написал и закрыл папку.
— Судя по всему, дела у вас идут очень хорошо, мистер Уайлдер. Как следствие, с сегодняшнего дня я исключаю халдол — это антипсихотик — из вашего комплекса, так что можете чуть меньше осторожничать с напитками. Конечно, в разумных пределах, потому что ни один из этих препаратов не предназначен для приема вместе с алкоголем. Просто запомните, что эффект от одной порции для вас будет примерно таким же, как от двух. Все могло бы пойти по-другому, будь вы закоренелым алкоголиком, но я не думаю, что вы им являетесь. Закоренелые алкоголики не занимают высокооплачиваемые должности в солидных журналах. Кстати, я надеюсь, что однажды, когда у нас будет больше свободного времени, вы расскажете мне подробнее об «Американском ученом».
— Вы его читаете?
Надевая пиджак, Уайлдер так радовался полученному алкогольному послаблению, что обмен безобидными фразами о его работе пришелся как нельзя кстати. Он даже забыл спросить, что означали все эти сгибания-разгибания его руки.
— О, я уже много лет как его подписчик. Все началось с оформления его обложек, которое нравилось моей жене — она сама художница, — а потом и меня зацепило, но уже его содержание. Я даже написал для них статью в прошлом году. Приятно удивляет то, что им удается поддерживать очень высокий для коммерческого журнала уровень научной достоверности.
— В каком номере была опубликована ваша статья, доктор? Я обязательно ее прочту.
— Право, не стоит себя утруждать. Она была, кажется, в августовском номере. Не хочу вас торопить, мистер Уайлдер, но сегодня у меня очень загруженный день.
Он встал и, пожав руку Уайлдеру, проводил его до двери кабинета, уже готовый к приему следующего пациента.
Несколько дней спустя Уайлдер обнаружил на своем рабочем столе экземпляр прошлогоднего августовского номера — ранее он попросил одну из сотрудниц найти его в архиве, — и в нем была та самая, устрашающих размеров статья: «Майрон Т. Бринк. НОВАЯ ПСИХИАТРИЯ». У него не было времени для ее изучения в офисе, но он принес журнал домой, пообещав себе непременно прочесть статью. Впоследствии журнал каким-то образом попал в квартиру Памелы, а когда по прошествии долгого времени, уже в рождественские праздники, Уайлдер о нем вспомнил и поинтересовался, она сказала, что, скорее всего, выбросила его вместе с прочей макулатурой.
И вот снова пришла весна, а Джулиан так и не приступил к монтажу фильма, не говоря уже об озвучке, о всяких гитарах и флейтах. Как выяснилось, даже кадры с видами Бельвю снаружи так и не были сняты. И теперь Джулиан уже не оправдывался необходимостью зарабатывать деньги; все его разговоры в эти дни сводились к экранизации книги «Сожгите свои города», которой он занимался совместно с Джерри, видя здесь возможность профессионального прорыва для них обоих.
— Я готова его на куски порезать, — сказала Памела после очередного безрезультатного звонка Джулиану из своей квартиры, где в тот вечер находился и Уайлдер. — Похоже, он не считает нужным даже извиниться перед нами. До сих пор я думала, что режиссеры становятся высокомерными и бессердечными после обретения хоть какой-то известности, но все же не до того.
— А я вот чего не могу понять, — сказал Уайлдер. — Как же Пратта угораздило доверить экранизацию своего романа парочке неопытных юнцов? Я к тому, что, если это и вправду такой великий роман, его автор должен был получить и другие предложения, в том числе от больших голливудских шишек.
— Насчет других предложений я сильно сомневаюсь. Книга так и не стала бестселлером; это очень мрачная, пессимистическая история. Кроме того, его самолюбию наверняка льстит то, что молодежь пляшет перед ним на задних лапках и без конца восхваляет его Незаурядность. Но что касается нашего фильма, тут дело не в Пратте. Дело в самом Джулиане. Знаешь, что мне недавно пришло в голову? Мне кажется, он разочаровался в «Бельвю» и потерял к нему интерес, но боится нам это сказать.
— В любом случае, — сказал Уайлдер, — мы с тобой мало что можем с этим сделать.
— Все, что мы можем, — это не давать ему покоя, все время стоять у него над душой. Я намерена трезвонить ему днем и ночью, я его замучаю звонками.
И тебе надо делать то же самое. Обещай, что будешь периодически звонить ему из офиса.
Он пообещал и, по крайней мере, честно попытался: трижды набирал номер Джулиана, но слышал короткие гудки, а когда приготовился сделать это в четвертый раз, телефон вдруг сам зазвонил у него под рукой.
— Это ты, Джон? — услышал он голос Дженис. — Не хотелось отрывать тебя от работы, но это очень важно. Можем мы встретиться где-нибудь в твой обеденный перерыв?
— Боюсь, не получится, дорогая. Джордж попросил меня…
— Ладно, погоди. Дай мне подумать.
— Что случилось? С Томми все в порядке?
— В том-то и дело. Речь как раз о Томми.
— Что? Что с ним такое?
— Это не телефонный разговор.
И ему ничего не оставалось, как сидеть с трубкой в руке, пока она думала. В соседней комнате одна из девушек взвизгнула и рассмеялась, перекрывая стрекот пишущих машинок, а другая игриво сказала:
— Ох, мистер Тейлор, какой вы негодник!
Он встал с намерением закрыть дверь кабинета, но телефонный шнур оказался слишком коротким.
— Дженис, ты еще там?
— Да, я думаю. Хотя, постой — мы ведь можем обсудить это вечером. Я только что вспомнила, что у тебя сегодня нет собрания. Сделаем так: скажем Томми, что идем в кино, а сами отправимся в это симпатичное новое кафе за углом — не помню, как оно называется. Ты его видел: все в черно-красных тонах, и у них отличные пирожные. Там мы сможем поговорить без помех в уютной обстановке.
Всю оставшуюся часть этого дня, с его скучным деловым обедом и скучными деловыми звонками, Уайлдер не находил себе места — ни дать ни взять ответственный семейный человек. Вот только мысли, отвлекавшие его от работы, касались не Томми, а Дженис. Как ему, в конце концов, поступить с Дженис? Вспоминалось, каким несчастным был ее голос, когда она говорила о черно-красном кафе с отличными пирожными, где двое уставших, взаимно отчужденных родителей могли бы «в уютной обстановке» обсудить нечто болезненно близкое сердцам обоих.
— Ах, это будет чудесно! — сказала она за ужином в тот вечер. — Мне кажется, я сто лет не была в кино.
— Не преувеличивай, мама, — сказал Томми. — Ты ходила в кино на прошлой неделе.
— Я не это имела в виду, — поспешила исправиться она. — Я говорила о походе в кино вместе с твоим папой. Это будет что-то вроде старомодного свидания, да, Джон?
— Да, вроде того.
— Может, позвонишь Боргам, дорогой, и, если они свободны сегодня вечером, пригласишь их за компанию? Вчетвером будет еще веселее.
Что она замыслила? И как он должен был на это реагировать? Он бросил взгляд на сына, прежде чем ответить:
— А разве Пол не в командировке до конца этой недели?
— Ах да, я и забыла. Конечно, мы можем позвать Натали — думаю, она была бы рада, — но втроем веселье уже не то, верно?
Искоса взглянув на жену, Уайлдер заметил, как она заговорщицки прищурила один глаз. Смешные потуги — если учесть, что Томми думал о чем-то своем и не обращал внимания на родителей.
— Я уже сыт, можно выйти из-за стола, мама?
— Конечно иди.
Ночь была теплой, и она надела летнее платье — то самое сине-коричневое, эффектно обтягивающее грудь, в котором навещала его в Бельвю и которое всегда считала его самым любимым нарядом. Но поскольку ближе к ночи могло похолодать, она прихватила легкую меховую накидку и сейчас несла ее, перекинув через руку. Эта накидка была еще одной головной болью для Уайлдера. Несколько лет назад он купил ее жене в подарок на день рождения, перед тем увидев такую же на плечах одной из девушек в офисе. Но та офисная девчонка умела элегантно носить подобные вещи — драпируясь в них, как в просторную шаль, — а Дженис этим умением не обладала. С того момента, как она в разгар празднования устремилась к большому зеркалу в прихожей и стала позировать перед ним в обновке («Ах, какая прелесть, Джон…»), он понял, что она никогда не сможет носить ее правильно: накидка перекручивалась и болталась у нее на локтях, как пучок веревок, и с каждой ее попыткой что-то изменить становилось только хуже.
— Мы уходим, Томми, — пропела она уже от двери. — Ложись спать, как только закончится передача. И никакого баловства сегодня, договорились?
— Зачем было приплетать сюда Боргов? — спросил он в лифте.
— Сама не знаю. Просто надо было о чем-то говорить, чтобы он не заметил, как я нервничаю.
Новое кафе по соседству с их домом было сродни тому, в котором Билл Костелло расписывал ему достоинства Анонимных алкоголиков, но этот вечер оказался еще более драматичным.
— Дайте мне определиться, — сказала она подоспевшему к их столику официанту-пуэрториканцу. — Пожалуй, я возьму ваш дивный вишневый торт-суфле и кофе со сливками — сливок побольше. Вы гарантируете, что торт самый свежий?
Официант не смог ответить на этот вопрос и, обливаясь потом, смущенно застыл перед ними с блокнотиком в руке.
— Один кусок вишневого торта и два кофе, — сказал ему Уайлдер.
— Боже, — простонала Дженис еще до того, как официант удалился за пределы слышимости, — кто-нибудь в этом городе еще говорит по-английски?
— Тише…
— Да-да. Вечно забываю, как изменился Нью-Йорк в последнее время. Все изменилось. Но сейчас не об этом. Начну издалека. В прошлую пятницу был звонок из школы. Оценки Томми снизились по всем предметам, а два из них он вообще завалил. Они собираются оставить его на второй год, Джон. Он не перейдет в седьмой класс вместе со сверстниками, и при такой учебе у него мало шансов когда-нибудь поступить в колледж. Но это еще далеко не все.
Она извлекла из своей сумочки упаковку косметических салфеток, взяла сразу несколько штук и прочистила нос.
— Извини, — сказала она. — Я знала, что непременно расплачусь.
Ему ничего не оставалось делать, как потянуться через влажный пластиковый стол и взять ее за руку.
— Послушай, Дженис, тут не из-за чего расстраиваться. Для подростков такие сбои — это обычное дело. Можно записать его в летнюю школу. Видела бы ты мои оценки, когда я был в его возрасте!
— Ну да, и ты потом блистал в Йеле, не так ли? Ты сделал удивительную, выдающуюся карьеру, не так ли? Да, зарабатываешь ты неплохо, спорить не буду, но с каких пор главным мерилом успеха является… ох, извини, извини, не позволяй мне срываться. Это все оттого, что я так…
— Ладно, успокойся.
— Я так одинока, Джон, и не с кем посоветоваться, когда возникает проблема. Я бы сама пошла к психоаналитику, если бы верила, что из этого выйдет толк… О, спасибо, официант, все хорошо. И торт вполне свежий — видимо, приготовлен этим утром… Спасибо, это пока все.
— Миссис хочет чего-то еще?
— Нет, я только сказала… — Она закрыла глаза и прошептала сквозь стиснутые зубы: — Боже, боже…
— Пока нам больше ничего не нужно, — отчетливо произнес Уайлдер, и официант с растерянной улыбкой удалился.
— Но это было только начало, — продолжила она. — Это было на прошлой неделе, и звонили из офиса директора. А вчера был еще один звонок, на сей раз от школьного психолога.
— От кого?
— От их психолога. Теперь в школах ввели такую должность. Он не захотел говорить по телефону и попросил меня прийти к нему, что я и сделала. Думала, это снова об оценках, и отчасти так оно и было, но дальше оказалось хуже, гораздо хуже. Он сказал… ох, Джон, он сказал, что Томми эмоционально неустойчив, и посоветовал показать его психиатру. Как можно скорее.
Уайлдер когда-то давно — кажется, на уроке естествознания то ли в церковной школе, то ли в колледже — узнал, что втягивание яичек у самцов млекопитающих — это естественная реакция, призванная защитить репродуктивные органы в опасных или просто неприятных ситуациях, например продираясь через густой, достающий до бедер подлесок в джунглях. Он не был уверен, что все правильно понял — а когда он вообще правильно понимал учителей? — но само по себе объяснение выглядело убедительным. Как бы то ни было, именно это происходило с ним сейчас, прямо в кафе: его яички начали непроизвольно сжиматься, подтягиваясь вверх.
— Что значит «эмоционально неустойчив»?
— Это выражается в агрессивном, асоциальном поведении, — сказала она. — У него совсем нет друзей. В последнее время он дважды — а может, и трижды — внезапно выдергивал стулья из-под сидевших на них мальчиков, и те получали травмы — одному даже пришлось делать рентген позвоночника.
Говоря это, она аккуратно нарезала свой торт сочными дольками, а потом подцепила одну из них ложечкой, но на полпути к ее рту та развалилась, упав на платье; и эта микрокатастрофа, в дополнение к рентгену чьей-то спины, спровоцировала новый приступ рыданий.
— Детский психиатр? — переспросила Памела. — Тебе не кажется, что это уже чересчур?
— Я и сам так подумал сначала. Сходил в школу и лично встретился с тамошним психологом, затем попытался потолковать по душам с Томми, но все без толку. Нет смысла отрицать: он действительно угрюм и замкнут. Дженис говорит, что мне следует больше времени проводить дома, и я считаю, что в этом она права.
— Значит, ты считаешь, что она права? А я думаю, что это просто эмоциональный шантаж.
— Как это так?
— Ох, Джон, ты просто невыносим. Неужели ты думаешь, что она до сих пор не догадалась о твоей связи на стороне? За все это время?
Она резко села в постели — но не с намерением напасть на Уайлдера, как ему в первый миг показалось, а чтобы погасить окурок, чуть не прожегший простыни.
— Иногда ты меня поражаешь своей способностью тонко чувствовать и вникать в суть вещей, а иной раз бываешь таким тупым и наивным, как… как черт знает что. Ну конечно же, ей все известно. И если она не спросила обо мне напрямик, значит это часть ее стратегии.
— Да, я наивен, — согласился он. — Надо быть очень наивным, чтобы рассчитывать на твое понимание в подобных ситуациях.
— Ну да, вот только я заметила, что для женатых мужчин это обычное дело. Тот же Фрэнк Лейси в свое время замучил меня историями о своих семейных дрязгах.
Это было уже плохо. Если она начала сравнивать его с Фрэнком Лейси, вечер мог закончиться плачевно. Уайлдер поднялся с постели, накинул махровый халат, подаренный ему Памелой на Рождество, и в момент прикосновения халата к телу его озарила свежая мысль.
— Давай-ка сменим тему, — сказал он. — Давай вообще не будем разговаривать. Предлагаю петь.
— Петь?
— Да. Если есть в мире что-то, что я знаю еще лучше, чем старые фильмы, так это старые песни. Разве я тебе этого не говорил? Погоди, надо устроить все в лучшем виде.
Он зашел в ванную комнату, быстро ополоснул лицо, причесался перед зеркалом и расправил отвороты халата. Теперь он был готов.
— Ты готова? — крикнул он. — Тогда включай свет, сейчас будет мой выход.
Дождавшись щелчка выключателя, он распахнул дверь ванной и двинулся к ней через комнату, пританцовывая и напевая:
Колумб открыл Америку, Гудзон открыл Нью-Йорк, Франклин открыл электроток, А Эдисон лампочку первым зажег, Маркони открыл радиосигнал И над волнами морскими послал. Но нет открытий важней с того дня, Когда я внезапно открыл тебя, А ты открыла меня.[41]— Шикарно! — сказала она, закончив смеяться и хлопать в ладоши. В процессе представления она сидела неподвижно, обхватив руками колени, как маленькая девочка, а теперь лицо ее восторженно сияло. — Ты даже пел хорошо. То есть ты не просто попадал в мелодию, ты по-настоящему пел.
— Чему тут удивляться? — сказал он, держась на достаточной дистанции, чтобы она не могла услышать, как сильно колотится его сердце. — Не зря же я солировал в церковном хоре.
— Получилось типа облегченно-игривой версии Эдди Фишера[42], — сказала она, — или чуток остепенившегося Фреда Астера[43]. Я требую продолжения концерта! Повтори свой выход из ванной и спой еще что-нибудь.
— Нет, так не пойдет. Секрет успеха любого артиста состоит в умении вовремя остановиться. Кроме того, мне уже пора… сама понимаешь. Пора домой.
— Тогда обещай, что непременно споешь мне в следующий раз.
— Запросто. У меня в репертуаре миллионы песен.
Он грузно присел на край постели и уперся взглядом в свои стоящие на полу ботинки. Должно быть, он выглядел очень несчастным даже со спины, потому что руки Памелы вскоре нежно обвили его торс, а пальцы начали теребить волосы на его груди.
— Бедненький, — сказала она. — Я знаю, ты очень переживаешь из-за своего сына.
— Нет, дело не в этом. Это… черт, ты ведь сама понимаешь. Надо возвращаться домой.
А возвращение домой означало долгую поездку в метро вместе с потерянными и побитыми жизнью ночными обитателями города, — поездку, во время которой ему будет нечем заняться, кроме как вспоминать давние ночи в компании простой и славной девчонки Дженис Брейди, с любовью говорившей о Бруклинском мосте и статен-айлендском пароме, — и все это потому, что «Колумб открыл Америку» была самой лучшей из множества песен, которые помогли ему покорить сердце Дженис Брейди.
Он действительно стал проводить больше времени дома, сообщив Дженис, что отныне будет посещать лишь два-три собрания «АА» еженедельно вместо прежних пяти. Теперь он реже виделся с Памелой, зато начал ощущать себя почти образцовым родителем. Дважды он раньше срока покидал контору, чтобы сходить с Томми на бейсбол (не так ли поступают все образцовые отцы?), а после матчей, потягивая пиво в какой-нибудь забегаловке рядом со стадионом, пытался вызвать сына на откровенный разговор.
— Как дела в летней школе, Томми?
— Не знаю, вроде ничего.
— Сможешь подтянуться в следующем учебном году?
— Не знаю.
Один раз он спросил его про психиатра: «Ты хорошо ладишь с доктором Голдманом?» — но тут же понял, что вторгается в сугубо личное пространство, и поспешил добавить: «Конечно, ты не обязан отвечать на этот вопрос, если не хочешь», а Томми только угрюмо жевал свой хот-дог да помалкивал.
— Он когда-нибудь говорил с тобой о психиатре? — позднее спросил он у Дженис.
— Ни слова. И я не знаю, хороший это признак или плохой. А ты как думаешь?
Встречи с Памелой два или три раза в неделю отличались от прежних: теперь у нее каждый раз было полно новостей, не имеющих никакого отношения к Уайлдеру.
— Сегодня я обедала с Честером Праттом, — сообщила она в один из вечеров. — Точнее, я договорилась пообедать с Джерри, а он привел Честера Пратта. Кстати, он очень мил, когда трезв.
— В самом деле?
— Джерри вел себя как кретин — впрочем, тебя это вряд ли удивит, — болтал без умолку, все время называя его Четом. Но когда Пратт вставлял фразу-другую, у него это получалось очень мило. Толково, остроумно и… да, очень мило, представь себе.
— Он уже взялся за новую книгу?
— Нет, и это печально. Он сказал, что сейчас ему не до сочинительства: слишком много накопилось долгов. Он должен своей бывшей жене, он просрочил уплату налогов и всякое такое. Так что он, стыдно сказать, вынужден искать работу.
— А что в этом стыдного? Большинство людей работают, чтобы прокормиться.
— Само собой. Я другое имела в виду — это стыдно потому, что он потрясающе талантлив. Но поскольку ты не читал его книгу, тебе этого не понять.
— Чтобы удержаться на постоянной работе, ему надо будет поменьше налегать на спиртное.
— Как это мелочно и глупо! Если он был пьян на вечеринке у Джулиана, это еще не значит… Кстати говоря, ты и сам много пьешь, однако все еще держишься на постоянной работе.
— А какого рода деятельность его интересует?
— Он сказал, что подумывает вернуться в рекламный бизнес — он занимался этим раньше — или найти работу в Голливуде. При этом ни то ни другое его нисколько не привлекает.
Но Честер Пратт не занялся ни тем ни другим. Две или три недели спустя Уайлдер сидел в приемной доктора Бринка, пролистывая последний номер «Ньюсуик», и наткнулся на следующую заметку в разделе «Перископ»:
Министерство юстиции
После нескольких месяцев поисков подходящего человека у генерального прокурора наконец появился спичрайтер. Им стал 37-летний писатель Честер Пратт (автор романа «Сожгите свои города»), рекомендованный на эту должность гарвардским критиком Т. Дж. Уайтхедом, близким другом семейства Кеннеди.
— Да, я в курсе, — сказала Памела тем же вечером. — Джерри мне сообщил. По его словам, Пратт назвал себя единственным человеком в команде Кеннеди, работающим не за идею, а только ради денег.
То был первый из нескольких вечеров, когда она отказалась заниматься любовью — «Извини, Джон, сегодня я не в настроении», — а через неделю позвонила ему в офис и сказала, что неважно себя чувствует — «грипп или типа того» — и перезвонит, когда поправится.
Уайлдер предощущал назревающий разрыв, как горький привкус желчи во рту, и это ощущение присутствовало постоянно, пока он занимался текучкой в конторе или по вечерам изображал из себя примерного семьянина, без конца терзаясь одним и тем же вопросом: с какого момента все пошло не так? Оглядываясь назад, он теперь ясно видел, что их отношения уже не были прежними после его нервного срыва в Марлоу, — и чему тут было удивляться? Стоило ли ожидать, что нормальная здоровая девушка будет нянчиться с каким-то психически неуравновешенным типом?
Два-три раза он действительно посещал собрания «АА», а в остальные вечера слонялся по барам или сидел дома с Дженис, по мере сил стараясь поддерживать бесконечные разговоры об их сыне. Порой Томми ненадолго оживлялся, а однажды за ужином он так увлеченно — даже похохатывая — описал сценку из своего любимого комедийного шоу, что Дженис растрогалась и впоследствии сказала мужу:
— Я начинаю видеть свет в конце тоннеля, а ты?
Но уже следующим вечером тьма сгустилась вновь: летняя школа прислала первую выписку из табеля успеваемости, согласно которой Томми так и не смог осилить все ту же пару злополучных предметов.
Памела наконец выздоровела и позвонила, ее голос по телефону был скорее вежливым, чем исполненным страсти, но все равно мысль о том, что он увидит ее этим вечером, придала ему сил и помогла достойно высидеть званый ужин с Боргами.
— …Может быть, ты с ним поговоришь, Пол? — сказала Дженис после того, как Томми ушел в свою спальню.
— Почему я?
— Потому что он тебя любит и уважает. Он всегда, чуть не с младенчества, относился к тебе как к родному дяде.
— Мне очень приятно это слышать, но, я думаю, ты преувеличиваешь, Дженис. В любом случае мне не кажется, что из такого разговора выйдет толк, и тут я согласен с Джоном. По-моему, вы и так делаете все возможное; сейчас остается только ждать и надеяться на лучшее.
— Пол прекрасно ладит с детьми, — сказала Натали Борг. — Я всегда говорила, что из него вышел бы чудный отец, если бы…
Она никогда не упускала возможности поговорить об операции по удалению матки, которую ей сделали еще в молодости. Уайлдер пересидел ее излияния смирно, прихлебывая кофе и втайне гордясь своим ангельским терпением.
— К сожалению, я вынужден вас покинуть, — сказал он, улучив момент. — У меня сегодня собрание.
Всю дорогу в подземке он был занят подбором песни для этого вечера. Отверг «Ты на вершине», «Я без ума от тебя» и еще несколько популярных вещиц, тем более что Памела знала их слова, и это ослабило бы эффект от его выступления. И только при подъеме на эскалаторе ему вспомнился идеально подходящий номер: давно забытая песенка Эла Джолсона под названием «Куда Робинзон Крузо ходил с Пятницей субботним вечером?»[44]. Он чуть не хихикнул вслух, представляя, как будет исполнять этот старый шлягер в махровом халате.
— Нам надо кое-что обсудить, — сказала она при встрече, и уже по интонации он догадался, что на самом деле никакого обсуждения не предвидится. Просто она хочет сказать нечто важное — и наверняка неприятное, — а ему желательно сидеть тихо и слушать.
Так он и поступил, столь бережно сжимая в руках бокал, словно это был последний виски на свете, тогда как Памела, все еще одетая по-офисному, описывала круги по комнате со скрещенными на груди руки.
— Я уезжаю, — сказала она. — Я увольняюсь с работы, отказываюсь от этой квартиры и покидаю Нью-Йорк — возможно, навсегда. Это означает прекращение наших с тобой отношений, о чем я сожалею, но мы ведь с самого начала знали, что это не может продолжаться бесконечно, не так ли?
— Да, — сказал он, удивляясь собственному голосу, прозвучавшему спокойно, без надрыва. — Да, пожалуй, мы знали это всегда.
На самом деле ему хотелось вскочить на ноги с криком «Кто он, твой новый приятель?!» или же пасть на колени и с мольбами обхватить ее бедра, но он ничего такого не сделал, чувствуя, что эта сцена должна быть разыграна по ее нотам. Какая-то крошечная, иррациональная частица его сознания допускала возможность того, что если он до конца выдержит свою роль, если он будет вести себя «цивилизованно», сдерживая эмоции, это может настолько ее впечатлить, что она в последний момент изменит свое решение. Он сделал маленький глоток виски, прежде чем спросить:
— И куда ты поедешь?
— В Вашингтон.
Теперь она уже сидела на стуле, стряхивая пепел с сигареты и явно испытывая облегчение оттого, что самое трудное осталось позади. Расслабившись, она сказала больше, чем, видимо, намеревалась:
— У меня там есть друг, который считает, что я могу претендовать на должность в Министерстве юстиции, а это слишком хороший шанс, чтобы его…
— Секундочку. Ты ведь говоришь о Честере Пратте.
— Даже если и так, что с того?
К черту цивилизованность, к черту все на свете! Он вскочил и двинулся на нее, охваченный ревнивой яростью.
— Как давно ты спишь с этим ублюдком? Скажи! Я задал несложный вопрос: как давно это продолжается?
— Джон, у тебя нет причин кипятиться. Это попросту…
— Как давно, черт побери?! Отвечай!
— Это не тот вопрос, который заслуживает ответа.
В следующий момент его ярость сменилась агонией самоунижения.
— Малышка, не делай этого. — Он дотронулся рукой до ее плеча. — Прошу, не надо. Ты мне нужна, я без тебя не могу…
Таким образом, он сделал обе ошибки, избежать которых стремился изначально, — поднял грозный крик, а после опустился до мольбы, — и в результате все было потеряно.
— Я знала, что это будет нелегко, — сказала она, — но то, что ушло, уже не вернуть. Нам было хорошо вместе, однако… с этим покончено, вот и все.
Теперь его единственной целью было покинуть квартиру прежде, чем она сама выставит его вон; и с этим он справился в состоянии, близком к ступору, что худо-бедно могло сойти за сдержанное достоинство.
— Такие дела… — произнес он и, уже взявшись за ручку двери, сделал паузу длиной в десять ударов сердца, давая ей последний шанс позвать его обратно. Не дождался, сказал: «Прощай» — и вышел.
Далее был ирландский бар с большим фотопортретом Кеннеди (возможно, Бобби ростом несколько уступал своему брату, но нельзя было отрицать, что все члены семейства Кеннеди, как мужчины, так и женщины, производили впечатление очень высоких людей). Он поглощал двойные бурбоны и разглядывал в зеркале свою прическу в стиле Алана Лэдда и свое до боли знакомое микки-руниевское лицо, не представляя, как он сможет жить дальше.
Глава седьмая
Уайлдеру некому было поверить свои печали, кроме Бринка.
— Произошли большие перемены, доктор. Я потерял свою девушку. Она теперь будет жить со спичрайтером Бобби Кеннеди.
— Это, конечно, тяжелый удар для вас, — сказал доктор, быстро делая записи в папке. — Но, с другой стороны, теперь ваша жизнь станет гораздо менее сложной, не правда ли? Попытайтесь взглянуть на это с позитивной точки зрения.
Однако с позитивной точки зрения он не видел почти ничего.
Он был доволен, когда Томми все же наскреб проходные баллы в летней школе и смог воссоединиться с прежними соучениками уже в седьмом классе. Он был доволен, когда из разговоров Томми за ужином создавалось впечатление, что у него появились друзья. Но он не мог разделить торжество Дженис по этим поводам. Если они уже сейчас не находили общего языка с Томми, то чего можно было ожидать в дальнейшем, в его тринадцать, пятнадцать, семнадцать лет… Они не могли рассчитывать на спокойную жизнь как минимум до тех пор, когда он в двадцать один год, по окончании колледжа, станет полностью самостоятельным человеком с минимальной — если вообще хоть какой-то — привязанностью к родному дому.
С фильмом дела обстояли все так же: было ясно, что Джулиан так его и не завершит. Когда Уайлдер попробовал до него дозвониться, девушка-оператор ответила, что этот номер больше не обслуживается. Впрочем, Уайлдеру не составило большого труда выбросить это все из головы. Сейчас уже казалось абсурдом, что когда-то он носился с планами создания фильма. Уход Памелы лишил затею всякого смысла, и он с этим смирился.
Ранней осенью он завел интрижку с молодой сотрудницей одной из компаний-рекламодателей, но эта связь не приносила ему удовлетворения, поскольку девица ничуть не походила на Памелу. Она беспрестанно смеялась и даже разговаривала сквозь смех; кожа у нее была грубой, со складками на бедрах и под ягодицами. Он провел с ней три или четыре вечера на Варик-стрит, после чего перестал ей звонить.
Зато на работе все шло превосходно: до конца года он запродал рекламное пространство еще двум автомобильным фирмам из Европы и принес конторе вдвое больше доходов, чем любой другой рекламщик. Джордж Тейлор называл его «ценнейшим кадром», да только ему самому это было нисколько не в радость.
Даже разговоры о политике не вызывали у него прежнего энтузиазма. Пол Борг посвятил как минимум один октябрьский вечер обсуждению кубинского ракетного кризиса, настаивая, что Кеннеди справился с ним «мастерски» и что разворот русских кораблей «ознаменовал собой прекращение холодной войны на обозримую историческую перспективу», и Уайлдер с ним почти не спорил, только один раз спросил тихим голосом — тут же перекрытым голосами их жен, — что, по мнению Борга, случилось бы, не поверни эти русские корабли назад.
Пару месяцев спустя Борг пустился в пространные рассуждения о президентском брате Бобби, которым он с недавних пор все больше восхищался: мол, как же он «вырос» на посту генерального прокурора, превратившись в ответственного и самостоятельного политика. Все шло к тому, что Движение за гражданские права чернокожих сделает его своим героем — «Ты читал что-нибудь из его недавних речей?» — а через шесть лет он вполне мог стать достойным преемником своего брата на президентском посту.
— Да, я тоже так считаю, — сказала Дженис. — Как приятно сознавать, что наши судьбы находятся в столь хороших руках! И у них такая прекрасная семья! Все они прекрасны, не так ли?
Тут Уайлдер извинился и покинул их, сославшись на очередное собрание.
Он действительно посещал собрания — и не только на Вест-Хьюстон-стрит, но и в других местах. Однажды ему показалось, что в зале мелькнуло лицо его давнего опекуна Билла Костелло. Он направился к нему в обход кофеварочных машин, однако человек с седыми волосами оказался недружелюбным слесарем-поляком.
В канун Рождества он сидел в гостиной с Дженис, которая заворачивала и перевязывала ленточками подарки, чтобы затем разместить их под чахлой рождественской елкой. Эти елки, казалось, год от года становились все меньше и невзрачнее, но пахли они все так же, и этот горьковатый хвойный аромат напоминал ему о раннем детстве. Он чуть было не сказал: «Почему мы не купили елку получше?» — но это бы только испортило тихое, благостное настроение вечера. Вместо этого он прошелся вдоль книжных полок, отыскал «Сожгите свои города» и вытянул эту книгу из ряда.
— Стоящая вещь? — спросил он.
— Отзывы были хорошие, — сказала сидевшая на ковре Дженис, откидывая с глаз прядь волос. — Но мне показалось, что автор несколько… перегибает палку. А почему ты спросил?
— Просто я с ним однажды встречался. С автором.
— Да? И где?
— На собрании «АА». В свое время и у него были проблемы с алкоголем.
— Он произнес там речь?
— Нет, меня только ему представили, и все.
— Возможно, тебе эта книга понравится, Джон. Не хочу навязывать свое мнение.
Уайлдер был тронут ее верой в то, что он сможет осилить целую книгу и даже получить от этого удовольствие.
— Нет, — сказал он, — вряд ли я за нее возьмусь. Сказать по правде, мне не очень-то понравился ее автор.
— Тогда не стоит. У тебя всегда было особое чутье на людей. Наверно, это одна из причин твоих успехов в рекламном деле.
— Не уверен. То, чем я зарабатываю на жизнь, по силам почти каждому.
— Почему ты все время прибедняешься? Лично я считаю эту работу очень сложной, а ты один из лучших в своей профессии.
Она поднялась с пола и выключила весь свет, кроме гирлянды цветных лампочек на елке, заполнивших комнату мягким розоватым сиянием. Потом с ногами уселась на диван и спросила:
— Как тебе елка?
— Прекрасно, — сказал он, садясь рядом. — Сейчас она выглядит прекрасно.
Затем, помявшись, как стеснительный юнец, добавил:
— В Рождество ты всегда все делаешь правильно, Дженис.
— Хочешь, включу радио и поймаю рождественскую музыку?
— Нет, и так все хорошо. Давай просто… посидим.
И Уайлдер не успел опомниться, как они оказались в объятиях друг друга. Последовавшее за этим кувыркание на диване со вздохами и стонами было бы больше под стать парочке очумелых тинейджеров.
— …Ох, Джон, — сказала она, сопровождаемая Уайлдером в ванную, — это было так долго.
— Не очень-то и долго; просто так кажется.
— Я не о том. Так долго пришлось ждать, чтобы мы с тобой снова… по-настоящему… ох, Джон.
В минуты секса с женой он вспомнил о Памеле лишь мельком и почти сразу выкинул ее из головы. С этим было покончено. Он возвращался на круги своя.
Дженис называла это «нашим вторым медовым месяцем» (хотя Уайлдер морщился, если она в тот момент на него не смотрела), и продолжалось это всю зиму и значительную часть весны. То, что он все еще мог заниматься с ней любовью не просто из чувства долга, само по себе оказалось приятным открытием, но этому сопутствовал и другой позитив: в их общении стало меньше пустословия — она уже не торопилась заполнить болтовней каждую паузу, — а чуть заметные перемены в ее поведении намекали на возросшую самооценку и некую новую умиротворенность.
Вновь наступило лето; близился его тридцать девятый день рождения.
Когда они отдыхали в своем загородном бунгало, на озерном плоту частенько резвились сразу три-четыре девчонки, чьи свежие молодые тела были для него источником каждодневных мук; а на кухонных полках не было ни единой бутылки спиртного, даже дешевого шерри, используемого для приправ.
— Я, пожалуй, после ужина съезжу в город, на собрание, — как-то раз сказал он жене, занятой лущением фасоли.
— Хорошо, — согласилась она. — Но ты с начала недели посетил уже три собрания. Разве этого не достаточно?
— В таких вещах мне самому виднее, достаточно или нет, — сказал он.
По прибытии в город он прямиком направился в «Билтмор» и пил там до полуночи, а потом переместился в нижний бар «Коммодора» — тот самый, откуда Пол Борг некогда увез его в клинику, — и там просидел до самого закрытия. Далее сил едва хватило на то, чтобы добраться до номера, который он снял в этом же отеле. Звонить Дженис он не стал, понимая, что его выдаст голос, и отложил вранье на следующий день: мол, забарахлила машина, ремонт в мастерской затянулся до утра, а будить ее звонком в столь поздний час он не стал. И она вроде поверила, хотя впоследствии его не раз посещала мысль, что их «второй медовый месяц» завершился именно в ту ночь.
Осенью ничего существенного не происходило вплоть до того дня в конце ноября, когда они с Джорджем Тейлором, возвращаясь в офис после обеда, увидели толпу перед витриной телемагазина. Некоторые женщины плакали, да и кое-кто из мужчин был готов пустить слезу, и вскоре стало ясно почему: президент был тяжело ранен выстрелом в голову. Телевизоры показывали толпы шокированных и скорбящих людей на улицах Далласа, а потом на экранах возник Уолтер Кронкайт[45], который трагическим тоном повторил последние новости.
— Пожалуй, мне лучше вернуться домой, Джордж.
— Правильно. Я тоже так сделаю.
К тому времени, как он прибыл домой, Кеннеди уже скончался.
— Это одно из самых ужасных событий в истории, — сказала Дженис, не отрывая взгляда от экрана. Ее глаза покраснели и часто моргали; она то и дело подносила к ним бумажную салфетку, а другой рукой обнимала Томми, которого раньше обычного отпустили из школы.
— Он был великим человеком и таким молодым. Его карьера только начиналась…
Если она еще не позвонила Полу Боргу, то скоро наверняка позвонит — ибо кто лучше Борга сможет разделить ее горе?
— …тяжелейшее потрясение для нации и для всего западного мира, — вещал Уолтер Кронкайт.
А Уайлдер все это время сидел в каком-то оцепенении, почти не издавая звуков и удивляясь самому себе.
Уже ближе к ночи в новостях показали далласских копов, ведущих подозреваемого по имени Освальд — щуплого субъекта в тенниске, с неразличимым лицом, — а потом другой коп продемонстрировал репортерам винтовку с оптическим прицелом. И только тогда Уайлдер разобрался в своих ощущениях и сразу поспешил на кухню, чтобы украдкой приложиться к бутылке виски, которую Дженис держала для гостей. Суть была в том, что он в глубине души сочувствовал убийце и наконец-то осознал причину этого. Кеннеди был слишком молод, слишком богат, слишком красив и удачлив; в нем сочетались элегантность, ум и талант. А его убийца был воплощением слабости, неврастенического мрака, безнадежной борьбы и саморазрушительного, яростного невежества — то есть всего того, что было очень хорошо знакомо Джону Уайлдеру. Настолько хорошо, что он почти поверил, будто сам нажал на тот курок, но в следующий момент с облегчением обнаружил себя трясущимся на своей кухне, в полной безопасности, в двух тысячах миль от Далласа.
— Да, это ужасное событие, — сказал он, возвращаясь в гостиную к жене и сыну. — Ужасное, ужаснейшее событие.
Все круто изменилось в феврале.
Он сидел в офисе, прикидывая, не провести ли остаток рабочего дня за выпивкой в ближайшем баре — «ценнейший кадр» мог себе позволить такие вольности, — когда зазвонил телефон, и это была Памела.
— Ну надо же! — сказал он. — Где ты сейчас?
Голос ее звучал скованно, как будто она не была уверена, стоило ли звонить.
— Я остановилась в «Плазе». Если есть желание сегодня повидаться, загляни в здешний бар.
Она слегка отличалась от прежней Памелы — таким было первое впечатление, когда он увидел ее в баре. Изгиб губ и глаза стали другими — более взрослыми, «умудренными», — а в ее посадке на стуле и манере говорить появилась какая-то новая уверенность. Однако Уайлдер лишь мимоходом отметил эти детали, сосредоточившись на давно и хорошо знакомом: легком колебании кончика ее носа, когда она произносила звуки «п», «б» и «м». Она заявила, что «с Вашингтоном покончено», — этим, видимо, подразумевалось, что покончено и с Честером Праттом.
— …Собственно, работать в Минюсте мне очень нравилось, — говорила она. — Я попала в отдел общественной информации — это буквально дверь в дверь с кабинетом генерального прокурора — и вряд ли когда-нибудь еще найду столь же интересную работу. Главной проблемой было пьянство Чета — он реально жуткий алкаш, и его вряд ли взяли бы в штат, узнай Боб об этом вовремя.
— Кто такой Боб?
— Бобби Кеннеди. Но обращение «Бобби» на самом деле употребляют только члены его семьи. Он нанял Чета впопыхах, потому что срочно нуждался в спичрайтере, а фэбээровцы завершили проверку и прислали отчет лишь через два или три месяца. В отчете было полно данных о его алкоголизме, но к тому времени он уже стал членом команды, и у Боба не хватило духу его выгнать. Да и Чет, надо признать, старался — написал несколько хороших речей, — но если он проводил весь день трезвым, то считал себя вправе оторваться по полной ночью и уж тем более в уик-энды. Меня это порядком бесило. А ближе к концу, уже перед самым убийством, это начало сказываться на его внешнем виде — изнуренное лицо, трясущиеся руки. Чтобы продержаться до конца рабочего дня, он бегал выпить водки в бар через улицу. Я понимаю, что это звучит ужасно, но убийство оказалось ему на руку: сотрудники начали массово подавать в отставку и среди прочих он смог уйти без скандала и позора. Тогда же ушла и я.
— А где он сейчас?
— Думаю, где-то здесь, в Нью-Йорке. Честно говоря, не знаю, да и знать не хочу. Я порвала с ним в прошлом месяце и отправилась проведать папу. Сейчас кажется, что это было много лет назад.
А все потому, что поездка к отцу изменила ее жизнь.
— Я всякий раз забываю, насколько он стар, — сказала она. — Сейчас ему за шестьдесят, а иногда он выглядит еще старше. Думаю, после смерти мамы он никогда не чувствовал себя счастливым. И он часто говорил, что я и Марк — это все, что у него осталось в этом мире. Я тебе рассказывала о Марке?
— Только то, что он гениальный пианист.
— Я так сказала? Наверно, это правда. Он уехал учиться в Рим и провел там года четыре или больше, а прошлым летом папа решил его навестить. Думаю, он хотел сказать ему, что пора уже закругляться с учебой и переходить к концертным выступлениям. Он нашел его… Джон, только пообещай не смеяться и не язвить. Обещаешь?
— О’кей.
— Он нашел его в недорогом отеле, где Марк работал тапером, развлекая туристов. Но это только часть истории, остальное еще хуже. Он живет с другим мужчиной в квартире с кучей зеркал и драпировок из черного бархата. Он оказался геем, можешь себе представить?
— Ну и дела.
— Возможно, какой-то другой родитель с этим бы как-то смирился, но только не наш отец. Он мыслит категориями Содома и Гоморры. Он говорит, что впредь не желает знать Марка, и настроен он серьезно. И вышло так, что из-за всего этого он сделался суперотцом по отношению ко мне, если ты можешь понять, о чем я.
— Кажется, понимаю.
— Когда я к нему приехала, он спросил: «Чего ты хочешь, Памела? Какое у тебя самое заветное желание?» Должно быть, он надеялся услышать про замужество и детей, но я все еще не чувствую себя готовой к этому, а может, и не буду готова никогда. Я попросила несколько дней на раздумья — такие вещи требуют серьезного осмысления, — а потом сказала, что больше всего хочу заниматься производством фильмов. Я даже немного рассказала ему о тебе.
— Обо мне?
— Ну не то чтобы конкретно о тебе. Я только сказала, что познакомилась с человеком, который так же интересуется кино, и что мы вместе работали над экспериментальным фильмом, но не смогли завершить проект. И вообрази, я еще не успела договорить, как он потянулся к своей чековой книжке. Я знала, что денег у него куры не клюют, но ничего подобного не ожидала. Он спросил: «Ты хочешь отправиться в Голливуд?» На это я сказала, что и помимо Голливуда есть много мест, где можно делать фильмы, а он в ответ: «Да, и помимо Детройта есть много мест, где делают автомобили, но, если ты хочешь сделать что-то стоящее, лучше делать это в самом правильном месте». И он предложил мне профинансировать фильм, в пределах пятидесяти тысяч долларов.
— Солидная сумма.
— Я не сразу в это поверила. — (На мгновение Уайлдер увидел в ней богатую девочку, похваляющуюся щедрым папиным подарком на день рождения.) — Но он сказал, что я уже не ребенок и вполне могу брать на себя ответственность. И еще он сказал так: «Если ты нацелилась на такое дело, ты явно не собираешься быть бедной». И, Джон… — Она достала из пачки сигарету и прикурила ее от золотой зажигалки, возможно также подаренной ее отцом, хотя это мог быть и подарок от Честера Пратта. — Джон, я очень хочу сделать фильм в Голливуде, но не хочу ехать туда в одиночку. Я предпочла бы заняться этим вместе с тобой.
— Вплоть до нового появления протрезвевшего Честера Пратта?
— Я ожидала примерно такой реакции. Как я могу тебя убедить? Знаешь, прошлой ночью я перечитывала тот сценарий Джерри и плакала, думая о тебе. Послушай… — Она положила сигарету на край пепельницы, потянулась через стол и обеими руками сжала его кисть; и в тот миг Уайлдер понял, что изначально привлекало его в этой девушке даже больше, чем ее прекрасное тело: то был ее голос. — Послушай. Почему бы тебе не поехать со мной? Или у тебя есть более интересные планы на будущее?
— Дженис, — сказал он спустя несколько вечеров, — у меня к тебе важный разговор.
Он решился взглянуть ей в лицо лишь после того, как самое трудное было произнесено: он хотел с ней разойтись; он уезжал в Калифорнию; у него появилась возможность стать продюсером; у него была другая женщина, — а когда все же поднял глаза, то увидел ее бесстрастное лицо. Он так и не понял, было ли это проявлением «цивилизованности», или она просто остолбенела.
— …денег на моем банковском счете тебе и Томми хватит года на два, — продолжил он. — Хотя вам вряд ли придется ждать так долго. При любом раскладе я начну регулярно высылать вам деньги самое позднее через год, а может, уже и через полгода. И разумеется, я всегда…
— То есть ты уже все для себя решил, — прервала его Дженис.
— Да, решил.
— Тогда любые мои слова будут бесполезными, да?
Она встала с кресла и отошла на несколько шагов, высоко подняв плечи. Когда она повернулась, Уайлдер ожидал увидеть гневную гримасу, но лицо ее было спокойным и даже красивым — на свой простоватый манер. Взгляд ее был ясен и светел.
— Ох, Джон, — произнесла она, — а ведь мне начало казаться, что у нас с тобой все хорошо.
— …И я пробуду там долго, — говорил он сыну следующим вечером. — Может, полгода, а то и дольше. Но мы будем поддерживать связь.
— О’кей, папа.
— А когда я там обустроюсь, возможно, ты прилетишь ко мне в гости. Как тебе такая перспектива?
— Было бы здорово.
— Думаю, для тебя перелет на Западное побережье станет хорошим приключением. В Лос-Анджелесе есть что посмотреть — кстати, и бейсбол там отличный.
— О’кей, папа.
— Это самая большая глупость, какую я слышал в своей жизни, — сказал Джордж Тейлор. — Бросая всех своих клиентов, ты не только ставишь меня в трудное положение, но и демонстрируешь полную — полнейшую — безответственность. Помчаться в Калифорнию, не имея никакого понятия… Джон, это же так глупо: потратить много лет на создание чего-то стоящего, а затем просто послать все к черту. А что будет с Дженис, ты подумал? Что будет с твоим сыном?
— Они хорошо обеспечены.
— Я не об этом. Я о том, что человеку нужен собственный дом, черт возьми! Ты хочешь эту девчонку, отлично, так имей ее в свое удовольствие, но помни простое правило: никогда не гадь там, где ешь.
Судя по багровому лицу и надутым губам Джорджа, он был расстроен и в то же время доволен тем, что высказался без обиняков.
— Ладно! — продолжил он, выставляя перед собой ладони, как будто готовился отразить удар. — Ладно, пусть это меня не касается, но вот это… — он ткнул указательным пальцем в поверхность своего стола, — вот это уж точно мое дело. Это вся твоя карьера, Джон, которую ты выбрасываешь псу под хвост.
— Я никогда не думал об этом как о «карьере», Джордж. По правде говоря, мне никогда не нравилась эта работа.
Тейлор воздел глаза к потолку:
— Никогда не нравилась, это ж надо! Стать лучшим в своей профессии, а потом вдруг решить, что никогда… А, к черту! Устал я с тобой спорить. Ведешь себя не как серьезный мужчина, а как чокнутый тинейджер. Фильмы! Скажи, Христа ради, что ты вообще знаешь о фильмах?
— Давайте посмотрим, — сказал доктор Бринк, листая страницы толстенной, похожей на энциклопедию книги. — Лос-Анджелес. У меня нет знакомых врачей в тех краях, но с медицинским центром Калифорнийского университета промаха быть не должно. Запишите это имя: Бертон Л. Роуз. Наверняка это компетентный специалист, раз он возглавляет отделение психиатрии.
С этими словами он закрыл справочник.
— А теперь к вашим лекарствам. Не вижу необходимости что-либо менять. Если таблетки закончатся, обратитесь с моими рецептами к Роузу. Будь это обычная деловая поездка, я бы этим и ограничился, но сейчас меня немного беспокоит… неопределенность ваших планов.
— Меня это беспокоит тоже.
— Очутившись в непривычной обстановке, вы будете часто попадать в стрессовые ситуации.
— Именно этого я и боюсь, доктор. Точнее сказать, не боюсь, а испытываю некоторые опасения.
— Опасения, верно, — молвил доктор так, словно сам пытался подобрать нужное слово и теперь был рад подсказке.
Он задумчиво постучал колпачком серебряной ручки по своим зубам и начал заполнять рецептурный бланк.
— Не будем рисковать. Поступим следующим образом. Я выпишу вам три дополнительных препарата, которые следует принимать только в критические моменты, когда вы окажетесь на грани срыва. Скрепите их резинкой и спрячьте поглубже в свой чемодан. Отдельно от остальных лекарств. Это будет ваш «комплекс экстренной помощи». Понятно?
— Вполне. И еще, доктор. Возможно, мы с вами больше не увидимся, и потому я хотел бы сейчас поблагодарить вас за… вы понимаете… за все…
— Не стоит благодарности, — сказал Бринк, вставая и пожимая ему руку.
— Было приятно иметь с вами дело.
Глава восьмая
Аэропорт Лос-Анджелеса изрядно потрепал им нервы, и Памела уже чуть не плакала, когда их взятый напрокат автомобиль наконец-то выехал со стоянки и углубился в лабиринт автострад.
— На что мне ориентироваться? — спросил Уайлдер, имея в виду огромные бело-зеленые дорожные указатели, которые появлялись один за другим, проносились над их головами и исчезали позади.
— Ориентируйся на бульвар Сансет, — сказала она. — По крайней мере… осторожнее, Джон!.. По крайней мере, для начала это подойдет.
Уайлдер дважды побывал здесь в кратких деловых поездках, но все его знания об этом городе сводились к тому, что Лос-Анджелес не был настоящим городом в обычном понимании. По нему можно было проехать много миль в любую сторону и не встретить ни одного нормального городского квартала, а район города, именуемый Г олливудом, представлял собой настоящую головоломку. Так что он был согласен с Памелой: начинать свое пребывание здесь все же лучше с бульвара Сансет, чем с Г олливудского бульвара и Вайн-стрит.
— Ладно, — сказал он и, заметив нужный знак, свернул на красивую, обсаженную пальмами авеню. — Насколько понимаю, если ехать дальше, не сворачивая, мы попадем на Стрип[46].
Он все понял правильно, и они сняли номер в мотеле на Стрипе, неподалеку от ресторана «Сирано». Вскоре он уже лил виски на кубики льда, обнаруженные в холодильнике, а она скидывала туфли, чтобы растянуться на двуспальной кровати. Они добрались до места, и это было уже кое-что.
— Твое здоровье! — сказал он, салютуя бокалом.
— Полагаю, в первую очередь нам следует снять квартиру, — сказала она. — И это желательно сделать еще до звонка Эдгару Фримену.
Эдгар Фримен являлся их единственной зацепкой — он был режиссером и продюсером в «Коламбия пикчерз», а его дядя дружил с отцом Памелы. На ее письмо он ответил кратким жизнерадостным посланием: мол, с удовольствием встретится с ними «за обедом в киностудии».
— Согласен, — сказал Уайлдер. — Выделим два дня на поиски квартиры. Максимум три.
Они потратили на поиски четыре дня и остались не очень-то довольны результатом. Квартира находилась на одной из улиц к югу от Стрипа, и в плюс ей можно было записать лишь первый этаж с отдельным входом. Гостиная была выдержана в желто-зеленоватых тонах и только выиграла от удаления со стен глазастых репродукций Кина[47]. Спальня произвела на них более приятное впечатление, но в целом это пристанище казалось обезличенным и временным, как номер в мотеле.
— Ничего, это ведь ненадолго, — сказал он на пятый день, когда они выгружали из машины только что купленные продукты, постельное белье и кухонную утварь. — Мы найдем место получше, как только освоимся в этом городе. Во всяком случае, квартира недорогая и со всеми удобствами, включая телефон, а ничего больше нам сейчас и не нужно.
— Я так рада, что мы не заключили сгоряча двухлетний договор аренды, — сказала она, — или что-то типа того.
Он наблюдал за Памелой, когда та говорила по телефону с Эдгаром Фрименом, отмечая ее напряженную, фальшивую улыбку при словах: «Как приятно, что вы меня помните…» — а потом радостный кивок, когда она переспросила: «Сегодня? Это было бы чудесно, если только вас не затруднит… Да, отлично… В половине первого… До встречи, мистер Фримен…»
Всю дорогу от дома до парковки рядом с громоздким, мрачноватым корпусом «Коламбия пикчерз» она держала на коленях копию сценария «Бельвю».
— Фримен? — уточнил вахтер в униформе, дежуривший на проходной. — Второй этаж, четвертая дверь налево.
Добравшись до этой двери, они увидели металлическую табличку с надписью «Компания Фримена».
— Один момент, — произнесла хорошенькая секретарша с ярко выраженным британским акцентом, и буквально сей же момент появился он — высокий и стройный, элегантно одетый в стиле Мэдисон-авеню[48], улыбкой и всем своим видом излучая такую радость, словно встреча с Памелой и Уайлдером была самым желанным событием его рабочего дня.
— Входите-входите и присаживайтесь, я буду в вашем распоряжении через секунду, — сказал он, распахивая перед ними дверь в большую солнечную комнату, посреди которой стояли четверо или пятеро мужчин.
Фримен представил их гостям столь стремительно, что Уайлдер не смог запомнить ни одного имени, после чего хозяин кабинета возобновил прерванную их появлением беседу. Уайлдеру с Памелой оставалось только ждать, сидя на мягком диванчике у стены.
— Думаю, это выход, Эдгар, — говорил один из мужчин. — Если мы не получим поддержки здесь, можно будет обратиться к японцам.
— Шансы невелики, — сказал Эдгар Фримен, — однако попытаться стоит. Сейчас вызову Сару.
Он уселся за внушительных размеров стол, нажал кнопку, и в дверях появилась британская секретарша. Фримен сразу начал диктовать:
— …письмо господину И. К. Мойото, исполнительному продюсеру корпорации «Джапаниз уорлд филмз», Токио, Япония. Дорогой мистер Мойото, вспоминая наш приятный разговор на международной конференции кинематографистов в июне прошлого года, буду рад ознакомить Вас с прилагаемым сценарием фильма «Окинава». Надеюсь, Вы согласитесь со мной в том, что он предоставляет блестящую возможность для совместного японоамериканского производства. Абзац.
— Блестяще, — сказал один из мужчин.
— Как Вы сможете убедиться, — продолжил диктовку Фримен, — сценарий основан на тщательном изучении всех аспектов исторической битвы, причем с обеих сторон, а некоторые из самых трогательных и запоминающихся эпизодов показывают героизм и самоотверженность — нет, вычеркни это, Сара, — показывают гуманность, героизм и самоотверженность японских военнослужащих. С нетерпением жду ответа. Искренне Ваш, и так далее.
— Блестяще, — повторил тот же человек. — Именно то, что нужно, Эдгар.
Разговор продолжался еще какое-то время, но Уайлдер перестал за ним следить, а потом группа мужчин покинула кабинет, и Фримен поднялся из-за стола.
— Извините, что заставил вас ждать, — сказал он. — Иной раз выдается на редкость суматошное утро. Ну как, вы не прочь отобедать?
В обеденном зале не подавали спиртное (что оказалось первым разочарованием Уайлдера), и там совсем не было окон, зато через два столика от них сидела итальянская секс-бомба, а среди прочих посетителей попадались пусть и не столь крупные, но достаточно известные кинозвезды.
— Сегодня у меня есть повод для празднования, — сказал Эдгар Фримен.
— Это мой сороковой день рождения — как говорят, важная веха в жизни. На самом же деле это лишь означает, что я больше не смогу называть себя молодым режиссером. Пора уступать дорогу новому поколению.
— Как много фильмов вы сделали? — поинтересовалась Памела.
— Ох, дайте вспомнить… — Он подцепил вилкой политую соусом креветку и задумчиво на нее уставился. — Семьдесят два. Нет, погодите, семьдесят четыре.
— Семьдесят четыре фильма?!
— И это отнюдь не рекорд. Хотя это ближе к рекорду для людей моего возраста, особенно если учесть, что почти все мои картины принесли прибыль. Большинство из них я сделал для «Бонанзы» в течение последних двенадцати лет. Многие ругают эту компанию, но мой опыт сотрудничества с ними был очень удачным.
— Минуточку, — сказала она, — это не та компания, что выпускает всякие пляжные фильмы для подростков?
— Пляжи и байкеры, все верно. Еще они делают фильмы ужасов. «Бонанза» первой оценила и начала разрабатывать этот рынок, добившись впечатляющих успехов. Там заправляют делами очень умные и дальновидные бизнесмены. А если вы услышите, как кто-нибудь в этом городе поливает грязью «Бонанзу», причиной тому чаще всего оказывается лишь банальная зависть. Многие хотели бы узнать секрет их процветания. Я же перебрался на «Коламбию» только потому, что решил: пришло время заняться более амбициозными проектами хотя бы ради того, чтобы подкрепить свою европейскую репутацию — мои работы, прежде всего фильмы ужасов, всегда имели хорошую прессу в Европе, особенно во Франции, — но пока что я далеко не в восторге от этой киностудии.
— Он отправил в рот последнюю креветку и аккуратно отодвинул на край стола тарелку с остатками соуса. — Точнее, кое-кем из ее руководства. Никак не сойдемся с ними во мнениях по поводу жанровой специфики. Мы подготовили три-четыре отличных — на мой взгляд, отличных — сценария, но ни один не вызвал у них энтузиазма. Сначала я предложил им чрезвычайно увлекательный конфедератский вестерн.
— Конфедератский вестерн — это как? — озадачился Уайлдер.
— Кавалерия северян, военная тюрьма, побег пленников-конфедератов, индейцы, погони, перестрелки, насилие… Благодарю вас, — сказал он официанту, подавшему рагу из говядины и почек. — Потом я принес им добротный гангстерский сценарий, основанный на бойне в Валентинов день[49], а сейчас продвигаю фильм о битве за Окинаву[50]. Вести дела с этими людьми так же приятно, как посещать зубоврачебный кабинет. Если мы в ближайшее время не договоримся о чем-нибудь, я перейду в другую студию… Но хватит о моих делах. Скажите, что там у вас?
С этими словами он потянулся через стол за сценарием «Бельвю», лежавшим рядом с тарелкой Памелы.
— Не думаю, что вас это заинтересует, — быстро сказала она. — Это экспериментальная короткометражка. Мы с несколькими друзьями…
— Сценарий Джерома Портера, — прочел он вслух. — А это, случайно, не тот самый Джером Портер, что написал сценарий «Сожгите свои города»?
— Да. Я не знала, что этот фильм…
— Он еще не вышел на экраны, — сказал Эдгар Фримен, — однако разговоры о нем уже идут вовсю. Режиссером там некий Джулиан Форд, совсем молодой парень, но потрудился он на славу.
— Правда? А ведь Джулиан режиссировал и вот этот наш фильм. Видите ли, он был практически полностью снят у нас на востоке, но до монтажа дело так и не дошло. Мы…
— Вот оно как? — сказал Фримен, бегло перелистывая страницы. — Что ж, вы оказались в неплохой компании.
— Они сейчас здесь? — спросила Памела. — Я о Джерри и Джулиане.
— Либо здесь, либо в Нью-Йорке. Возможно, работают над новыми проектами. Думаю, с этих пор они станут очень занятыми молодыми людьми. Что вы будете на десерт: ромовую бабу или шоколадное парфе?
— Подумать только! — сказала Памела, когда они уже были на парковке внизу. — Пляжи, байкеры и ужастики. Вот вам и мистер Эдгар Фримен.
— Не расстраивайся, он не единственный продюсер в Голливуде.
Однако он был единственным, кого они здесь знали, и эта мысль сделала их возвращение домой безрадостным. Столь же безрадостным выглядел и район, через который они проезжали, — киоски «Оранж Джулиус», автозаправки, чудовищных размеров супермаркет, грязно-белая махина «Голливуд-Палладиума», — и Уайлдер вел машину очень аккуратно, стремясь без приключений добраться до квартиры и поскорее пропустить стаканчик.
— Даже если Джерри и Джулиан сейчас находятся в Лос-Анджелесе, — чуть погодя сказала Памела, расхаживая по комнате с бокалом в руке, — как нам с ними связаться? И даже если свяжемся, что они могут для нас сделать?
— Не знаю, крошка. Нам сейчас только и остается, что подбирать мелодию на слух.
Он и сам не был уверен в смысле этого образного выражения (какую, к черту, мелодию? и как ее подбирать?), но прозвучало оно убедительно, а дальнейшее снятие напряжения можно было доверить старому доброму виски.
Премьера фильма «Сожгите свои города» состоялась на следующей неделе и прошла одновременно во множестве кинотеатров по всей стране. Они прочли об этом в «Лос-Анджелес таймс». Отзывы критиков были очень благожелательными:
В своем режиссерском дебюте молодой Джулиан Фельд продемонстрировал мощь и талант, достойные зрелого мастера. Качественный, крепко сбитый сценарий Джерома Портера очень точно передает суть романа Честера Пратта, а Фельд по максимуму использует все его сильные стороны. Мало кто из зрителей останется равнодушным после просмотра данного фильма, а многие наверняка сочтут его одним из важнейших кинематографических событий этого года…
Памела написала письма Джерри и Джулиану на адрес их продюсерской фирмы, и в ожидании ответов они занялись осмотром города. Беверли-Хиллз выглядел богато, соответствуя своему статусу, однако хваленые виллы — по крайней мере, те из них, которые удалось разглядеть с дороги, — были расположены как-то уж очень близко друг к другу. Голливудские холмы больше радовали глаз, а с некоторых открывались весьма живописные виды, но каньоны между ними слишком быстро переходили в гигантские трущобные пригороды долины Сан-Фернандо. Деловой квартал Лос-Анджелеса не принес никаких сюрпризов, и они решили, что самая привлекательная часть города должна находиться западнее, но там им попадались только занесенные песком улочки и обшарпанные лачуги. Из этих поездок они возвращались домой измотанными, голодными и жаждавшими поднять тонус выпивкой. У них было много свободного времени и много денег, но это приносило мало утешения.
— Каждый раз одно и то же, — сказала Памела однажды вечером. — Мы приезжаем домой, выпиваем по одной, две, три или четыре порции, потом ужинаем в каком-нибудь новом ресторане, снова выпиваем и ложимся спать. И некому позвонить, некого навестить, не с кем пообщаться.
Он мог бы напомнить ей, кому из них двоих принадлежала вся эта безумная идея поездки сюда практически наобум, но ему не хотелось нарываться на ссору. И без того обоим приходилось несладко; теперь не хватало еще только вцепиться друг другу в глотки.
— Не падай духом, крошка, — сказал он. — Рано или поздно что-нибудь подвернется.
Когда наконец-то пришло письмо от Джерри с нью-йоркским почтовым штемпелем, она надорвала конверт дрожащими от волнения пальцами.
Рад, что вы оба замахнулись на Лос-Анджелес, и надеюсь повидаться, если приеду туда еще раз. Наш с Джулианом фильм, как вы могли слышать, стал чуть ли не гвоздем сезона, и теперь мы с ним глубоко увязли в новых проектах…
Я знаю в тех краях одного человека, который может помочь вам с «Бельвю». Это очень богатый продюсер-аристократ, который интересуется в первую очередь артхаусными проектами, как он их называет. В целом человек неплохой. Зовут его Карл Манчин, он живет в Малибу. Сегодня же напишу ему и расскажу о вас с Джоном, а дальше уже действуйте по ситуации…
Они еще считали дни до того, когда можно будет позвонить Карлу Манчину с уверенностью, что тот успел ознакомиться с письмом Джерри, когда Карл Манчин позвонил им сам, — и это было самое приятное событие со времени их приезда в Лос-Анджелес.
— Почему бы вам не прислать мне почтой копию сценария, мистер Уайлдер? — сказал он. — Я его прочту и затем вновь с вами свяжусь.
Это обернулось еще несколькими днями ожидания, когда они не покидали квартиру вдвоем из опасения прозевать звонок, но в конечном счете Манчин действительно позвонил.
— Думаю, у этой вещи есть потенциал, — сказал он. — Я не сомневался, что текст будет сделан добротно, потому что Джерри Портер хороший сценарист, но не ожидал, что материал сам по себе окажется настолько интересным. Вы не могли бы приехать ко мне сегодня вечером, чтобы все это обсудить?
Он жил в той части Малибу, до которой они никогда не добирались во время своих неудачных поездок к побережью, — в нескольких милях к северу от общественных пляжей, в особняке, незаметном со стороны шоссе.
Обстановка там являла собой удивительное смешение деталей внутреннего и внешнего дизайна: на просторной садовой террасе было так много мебели, что она напоминала гостиную, а в гостиной было так много всяких растений, что ее можно было принять за продолжение сада. Их встретил хозяин — большой, загорелый и лысый — вместе с маленькой загорелой женой; оба были в куртках-сафари одного покроя. Когда Карл Манчин держал речь, Хелен Манчин не сводила глаз с его лица, словно боялась упустить хоть слово. И только во время пауз она позволяла себе взглянуть на гостей, всем своим видом говоря: «Не правда ли, Карл великолепен? Ну разве я не счастливейшая женщина на свете?»
— …В нынешнем виде мы имеем небольшой и весьма оригинальный артхаусный проект, — говорил Манчин, когда они попивали джин с тоником на террасе, созерцая закат над мерцающим океаном. — Критики вполне могут поставить этот фильм в один ряд с некоторыми заграничными короткометражками. Он может собрать зал на нескольких сеансах в Нью-Йорке и еще от силы на парочке в Сан-Франциско, но будет проигнорирован остальной страной. Возможно, в Европе его примут чуть лучше. В этой связи у меня к вам есть предложение, одновременно деловое и творческое, — я имею в виду коммерчески перспективный проект. Сейчас поясню. Прежде всего, в вашем сценарии есть один недостаток, который сразу же бросается в глаза. Образ главного героя — того человека, с которым происходит вся эта история в Бельвю, — практически не раскрыт.
— Так было задумано с самого начала, — сказал Уайлдер. — Понимаете, мы хотели, чтобы он был просто безымянным наблюдателем, рядовым человеком, случайно попавшим в эту среду.
— Но это невозможно. Нельзя вести повествование от лица кого-то безликого. — С этими словами Карл Манчин покачал указательным пальцем и хитро улыбнулся, как преподаватель в колледже, готовый озвучить главную мысль своей лекции. — Только через частности мы сможем прийти к обобщениям. — Он сделал паузу, чтобы они могли оценить сказанное, а затем поднялся и начал вышагивать по каменным плитам в своих безупречно чистых замшевых ботинках. — Каким он был до того, как попал в Бельвю? Как пребывание в клинике повлияло на его дальнейшую жизнь? Я хочу, чтобы ваш пересмотренный и слегка сокращенный сценарий лег в основу первой части фильма. А после нее я хочу увидеть вторую и третью части. Улавливаете мою мысль?
— Не вполне, — сказал Уайлдер. — А что будет происходить во второй и третьей частях?
— Надо будет нанять хорошего сценариста, чтобы он развил эту тему. В общих чертах мне это видится примерно таким образом: во второй части обстановка постепенно накаляется, готовя почву для очередного — и теперь уже настоящего — нервного срыва героя, а в третьей части этот срыв происходит. Герой напрочь слетает с катушек. Конечно, если бы сейчас был сорок пятый или сорок шестой год, можно было бы обставить все иначе: передать его в руки блестящего психиатра и посвятить всю третью часть борьбе за его чудесное выздоровление — скажем, сеанс психоанализа помогает ему вспомнить какой-то ключевой эпизод из своего детства, и это устраняет все проблемы, — но сегодня люди на такой финал уже не купятся. Публика стала более взыскательной. Так что пусть он реально сойдет с ума. Надо его уничтожить как личность.
— Может, сделать его преступником? — предложил Уайлдер. — Пусть он совершит что-нибудь ужасное, вроде убийства Кеннеди.
— Это может сработать, но без Кеннеди, конечно, — всем известно, кто его убил. Однако мне он не видится преступником. Достаточно сделать его добровольным изгоем, который больше не способен жить в цивилизованном обществе. Сделаем его самым натуральным шизофреником. А если нашему сценаристу понадобятся детали, снабдим его диктофоном и командируем в Камарильо.
— Куда?
— В Камарильо. Это психиатрическая больница. Пусть съездит туда, посмотрит на пациентов, сделает диктофонные записи. Глядишь, и появятся свежие идеи.
— М-да… Что скажешь, Памела? — спросил Уайлдер.
Она не спешила с ответом, пригубила коктейль и только после этого обратилась к Манчину:
— Извините, но я до сих пор не понимаю, почему нельзя что-то сделать с фильмом в его нынешнем виде. Может, Джон недостаточно четко объяснил вам, мистер Манчин, что этот фильм уже снят? Да, он так и не был смонтирован, но весь материал отснят под руководством Джулиана Фельда, того самого режиссера, который экранизировал «Сожгите свои города». Пусть прокат будет ограниченным, только для любителей артхауса, но это может стать шагом к более крупным проектам. Вы согласны?
— Конечно, — сказал Манчин, — надежда на это будет всегда. Но сейчас мы говорим о том, что интересно мне, не так ли?
Он дружелюбно улыбнулся, продемонстрировав два ряда крепких белых зубов:
— А меня интересует полнометражная версия, но никак не короткий метр.
Но Памела не сдавалась:
— А у вас нет на примете кого-нибудь, кто мог бы заинтересоваться нашей изначальной версией?
— Милая моя, — сказал он, продолжая улыбаться, — если бы даже я знал такого человека, я бы не назвал вам его имя.
Памела на миг потеряла дар речи, но Хелен жизнерадостным смехом дала понять, что ее муж всего лишь шутит, после чего Манчин снова наполнил их бокалы и вернулся к изложению своего плана:
— Отправим нашего героя в Бельвю, потом позволим ему вернуться к прежней жизни со всеми ее проблемами, и пусть эти проблемы доведут его до нового срыва, а мы будем наблюдать, как он все глубже увязает в трясине, из которой его уже не вытянет никакая психиатрическая помощь. Вот это я понимаю — сюжет что надо. Из такого материала хороший сценарист запросто слепит конфетку. А раздобыть хорошего сценариста несложно. Этот город кишит литераторами всех мастей. Если Джерри Портер не сможет поучаствовать, обратимся к агентам — у меня есть связи в двух-трех ведущих агентствах — и через них с легкостью найдем первоклассного специалиста.
— Ну, я не знаю, мистер Манчин, — сказал Уайлдер. — Нам надо подумать и обсудить ваше предложение.
— Разумеется. Вам трудно сразу оценить перспективы, потому что вас слишком многое связывает с этой короткометражкой, с историей про Бельвю, но постарайтесь мыслить шире. Полагаю, у нас есть задел для очень достойной картины.
Когда он произносил слова «очень достойной картины», его супруга аж зажмурилась от удовольствия, а затем встала из-за стола, показывая, что время коктейлей и приятных бесед закончилось.
— Вскоре мы с вами увидимся вновь и продолжим этот разговор, — сказал Манчин при прощании. — А пока не могли бы оставить мне копию сценария? Я хочу показать ее нескольким серьезным людям и выслушать их мнение. Был рад с вами пообщаться. До встречи.
— …Мы ведь даже не знаем, что он за человек, — говорила Памела, когда они ехали обратно по прибрежной автостраде. — Джерри назвал его продюсером-аристократом, но что это, черт возьми, означает? И вообще, его «великая идея» мне кажется отстойной. А как тебе?
— Пока трудно сказать. Я еще не обмозговал это как следует.
— А я жутко разочарована. Я думала, что его устраивает наш фильм в нынешнем виде, а он свернул куда-то в другую колею. Только представь себе, Джон, где бы мы сейчас были, если бы Джулиан в свое время довел «Бельвю» до кондиции. Мы бы приехали сюда с готовым фильмом и сейчас вели бы переговоры с дистрибьюторами, вместо того чтобы обхаживать всяких эдгаров фрименов и карлов манчинов.
В ответ он посоветовал ей забыть об Эдгаре Фримене. Другое дело Манчин. Как-никак он собрался показать сценарий неким серьезным людям, а это может привести к самым неожиданным последствиям.
— Лично я не считаю этот день потерянным зря, — заключил он, глядя вперед на дорогу и размышляя о том, как поднять ей настроение этим вечером: например, пойти в лучший из уже известных им ресторанов, освежить парой бокалов угасающий огонек джина с тоником, найти в меню какие-нибудь экзотические блюда и сдобрить их соответствующими винами. Попутно он смог бы убедить ее в том, что идея Манчина, если подумать, не такая уж и отстойная…
— А я говорю, это полный отстой, — упрямо возразила она, вертя в пальцах ножку коньячного бокала. — Чушь собачья. Ведь из его идеи следует, что любой человек, проведя всего неделю в Бельвю, обречен быть психом всю оставшуюся жизнь. Ну разве это не глупо?
Он чувствовал себя так, будто вновь пытается ей доказать, что «Ганга Дин» — это лучший мальчишеский фильм всех времен.
— А по-моему, ничего такого из этой идеи не следует, — сказал он. — Во всяком случае, ее можно будет подать в правильном ключе, если найдем хорошего сценариста. Да, я согласен, что Манчина сегодня порядком заносило, но в его болтовне звучали и здравые нотки. Хороший сценарист сможет оживить нашего героя-созерцателя, сделать его полнокровным персонажем со своими уникальными проблемами. И тогда история его падения будет следовать своей логике. Неужели ты этого не видишь?
— Нет.
— Ты просто в дурном настроении. Послушай, мне этот Манчин тоже показался самодовольным болваном, однако он может быть нам полезен. Давай — по его же словам — мыслить шире.
— О’кей, — сказала она, — все равно, кроме этого, мы мало что можем сделать.
Не прошло и двух недель, как они вновь прибыли в особняк Манчина, и на сей раз им составляли компанию еще четверо мужчин. Один из них был юристом, которого порекомендовал отец Памелы, другой был юристом Карла Манчина, а еще двоих — невысоких, темноволосых и похожих, как родные братья, — он назвал своими деловыми партнерами. И в финале этой встречи — после согласования и подписания нескольких мудреных документов — они оформили учреждение продюсерской компании.
— Это обычная практика? — спросила Памела. — Как-то уж очень все легко и быстро получилось.
— Вам так показалось потому, что у нас грамотные юристы, — сказал Манчин, наклоняя шейкер с мартини над ее бокалом. — Теперь осталось утрясти кое-какие организационные вопросы, и можно приступать к работе над фильмом.
— Итак, мы в деле, — сказал Уайлдер, когда они вечером возвращались домой. — Мы с тобой продюсеры.
— Да, и это, наверно, следует как-то отпраздновать, да только я не чувствую особой радости. Мне по-прежнему не нравится идея Манчина.
Очень скоро — едва ли не слишком скоро, как им показалось, — было устроено совещание с участием сценариста, раздобытого Манчином через одно из двух-трех ведущих агентств, в которых у него были связи. Им оказался высокий, тучный и нервный тип по имени Джек Хейнс.
— …Я вижу главного героя семейным человеком, — говорил Хейнс, бесшумно перемещаясь по плитам террасы в замшевых ботинках, которые выглядели бы точь-в-точь как у Манчина, будь они новыми и чистыми. — Он несчастлив в браке, он не ладит со своими детьми, он чувствует себя загнанным в угол. При этом он вполне обеспеченный представитель среднего класса. Пока не знаю, чем он зарабатывает на жизнь, но пусть это будет что-нибудь хорошо оплачиваемое, но по сути своей бессмысленное — скажем, рекламный бизнес. После выписки из Бельвю он напуган и растерян, он не находит себе места. Возможно, попадается на удочку одного из этих шарлатанов-психоаналитиков, что позволит нам разбавить сюжет юмором — черным юмором, конечно же, — а затем он встречает девушку. Эта девушка…
— Придержи коней, Джек, — прервал его Карл Манчин. — Вижу, ты основательно подумал над сюжетом, но у меня такое чувство, что все до сих пор тобой изложенное состоит из сплошных клише. Тоскливый рекламщик в сером фланелевом костюме и так далее. Наш герой не должен быть приземленным обывателем, чей крах проистекает из никчемной, грошовой меланхолии. Мы создаем трагический сюжет. Нам нужен человек, обреченный судьбой.
— О да! — сказала Хелен Манчин.
Джек Хейнс быстро заморгал, явно уязвленный этим замечанием, однако он быстро оправился:
— На сей счет будьте спокойны, Карл, все нужные вам качества проявятся в персонаже по мере написания сценария. Сейчас я всего лишь намечаю пунктиром сюжетную линию, и вы не можете делать подобные выводы только на основании… Так я могу продолжать? О’кей. Девушка пытается ему помочь. Благодаря ей у героя появляется надежда, и в его жизни наступает счастливый период — на такой оптимистической ноте заканчивается вторая часть, а потом вдруг: бац! В третьей части все летит в тартарары. Ему не удается хотя бы отчасти реализовать обретенные было надежды; эмоционально он все еще привязан к прошлому. По своей сути он «темный персонаж», и эта его внутренняя тьма…
— Он покончит с собой?
— Нет, но его ждет, пожалуй, худшая участь. Он систематически разрушает все доброе и светлое, что еще осталось в его жизни, включая любовь девушки, и погружается в глубокую, безысходную депрессию. А под конец он попадает в психушку, по сравнению с которой Бельвю покажется просто курортом. Я уверен, Карл, что, когда это будет изложено на бумаге, вы найдете там достаточно трагизма и обреченности. В герое с самого начала присутствует тяга к саморазрушению.
На этом он закончил, и только дрожь в руках — которую он попытался унять, прикурив сигарету, — выдавала его волнение.
— Не знаю, не знаю, — протянул Манчин. — Чего-то здесь не хватает, что-то упущено. А вы как думаете?
Уайлдер был настолько встревожен первой частью выступления Хейнса (Кто такой этот Джек Хейнс? Откуда он узнал все эти подробности?), что охотно воспользовался бы случаем его забраковать — и тогда они взяли бы другого сценариста с другим набором идей, — но решил обойтись без скоропалительных заявлений.
— Я понимаю вашу озабоченность насчет клише, Карл, однако мне сложно делать выводы о том, что еще не написано.
— А мне это показалось интересным, — сказала Памела, и Уайлдер взглянул на нее с недоумением, поскольку был уверен, что она воспримет этот сюжет в штыки.
— И где это все будет происходить? — спросил Манчин. — В Нью-Йорке?
— По большей части да, но я еще не проработал этот вопрос. Если хотите сменить место действия, это не проблема: он может уехать с девушкой куда угодно.
После сердечного прощания («Я свяжусь с тобой позже, Джек», — сказал Манчин) Хейнс укатил прочь в своем пыльном белом «фольксвагене», который выглядел слишком миниатюрным для его грузной фигуры и длинных ног.
— Что ты думаешь на самом деле, Памела? — спросил Уайлдер.
— Я уже сказала: мне это кажется интересным. Я только сейчас по-настоящему оценила идею Карла насчет трех частей.
— Что ж, хорошо, — сказал Манчин, — но имейте в виду, что Хейнсу всегда найдется замена. О нем я знаю лишь то, что несколько лет назад он опубликовал парочку невразумительных романов и что список его телесценариев будет длиной с вашу руку. Мы можем найти кого-нибудь покруче. Кстати говоря, буквально этим утром я прочел в местной газете, что к нам приехал Честер Пратт. Конечно, он сейчас может быть занят другими проектами; в ближайшее время я это выясню. Заполучив писателя такого калибра, можно быть спокойными, по крайней мере, за качество текста.
— Нет, Карл, это исключено, — сказал Уайлдер, ощущая прилив крови к лицу и боясь, что остальные это заметят. — Честер Пратт нам не нужен.
— Но почему, скажите на милость?
— Я с ним однажды встречался. Он горький пьяница.
Памела сосредоточенно разглядывала свои ногти.
— Однако он смог продержаться трезвым достаточно долго, чтобы написать шикарную книгу, — заметил Манчин.
— Ну, я бы не назвал ее шикарной, — сказал Уайлдер. — На мой взгляд, он там несколько перегибает палку.
— Так ты прочел его книгу? — удивилась Памела. — Я и не знала об этом.
На обратном пути, в машине, она спросила:
— Почему ты повел себя так нелепо, когда зашла речь о Пратте? Если Манчин сможет его привлечь, это станет большой удачей для нашего проекта.
— Просто не хочу иметь с ним дело. Должен сказать, я удивлен тем, что ты вновь готова общаться с Праттом.
— Ох, Джон, да нам и не придется с ним общаться. Он будет где-то в уединении работать над сценарием, а после того, как фильм запустят в производство, мы с ним, возможно, больше ни разу нигде не пересечемся.
Кроме того, что бы мы ни думали о его личных качествах, этот человек может сделать великолепный…
— Ладно, — сказал он, крепко сжимая руль обеими руками во избежание гневных жестов. — Ладно.
— В любом случае на это глупо даже надеяться. Не думаю, что Манчин сможет его уговорить.
Позднее тем же вечером, когда они возвращались домой после ужина в ресторане, Памела остановилась у киоска и купила пару местных газет.
— Зачем это тебе? — спросил он.
— Хочу проверить новость насчет Пратта. Интересно, что о нем пишут.
— Только не это! — сказал он, останавливаясь на тротуаре. — Я не позволю тебе заносить в дом эти мерзкие газетенки!
— Ты что, рехнулся?
Это была не первая их ссора после приезда в Лос-Анджелес, но она оказалась самой внезапной и впервые произошла на оживленной улице.
— Ну и ладно, читай их! — кричал он. — Читай! Но все равно ты не найдешь в них того, что ищешь: там не напечатают номер его телефона!
— Джон, это самое дикое, самое нелепое… Если ты сейчас же не прекратишь, клянусь, я…
— Что ты сделаешь? Бросишь меня, прихватив денежки своего папаши? Отлично! Залезай обратно в постель к Честеру Пратту! Прихвати еще и Манчина до кучи! Вы втроем сделаете классный фильм обо мне! Да, я «темный персонаж», я «обречен судьбой», у меня есть «тяга к саморазрушению», и во мне до хрена этой долбаной тяги…
Она прибавила шагу, отдаляясь от него, а троица праздношатающихся подростков в цветастых майках — два парня и девчонка — остановилась поглазеть на скандал. Ему только и оставалось, что развернуться и быстро идти в противоположном направлении, высматривая какой-нибудь бар как спасительное укрытие.
Первое попавшееся ему заведение было дешевым, шумным и многолюдным — здесь в основном тусовались молодые актеры, а место традиционного зеркала за рядами бутылок занимала доска с расписаниями репетиций. Протолкавшись к стойке, он выпил один за другим два бокала пива и покинул это место. Следующий бар был лучше, а третий оказался лучше всех — темный и мрачный, он настолько соответствовал его настроению, что Уайлдер был готов сидеть там до бесконечности, периодически подзывая официанта и слушая, как Тони Беннетт оставляет свое сердце в Сан-Франциско[51].
Успокаиваясь, он понемногу созревал для того, чтобы вернуться домой и попросить прощения у Памелы — если потребуется, он был готов ее разбудить, — но спешить с этим не стоило. Надо было все хорошенько обдумать.
— Сэр?
— Да, еще двойную, пожалуйста.
К тому времени, когда Уайлдер добрался до дому, он еле стоял на ногах. Посему он решил не будить ее для извинений, а просто лечь рядом и уснуть, но даже это ему не удалось. Сна не было ни в одном глазу.
Он сидел на диване в гостиной, прихлебывая пиво и дожидаясь прихода сна. И он по-прежнему был там, бодрствующий и что-то бормочущий себе под нос, когда дневной свет пробрался в комнату сквозь жалюзи.
— …Хорошая новость, — сказал по телефону Манчин несколько дней спустя. — Это еще не решено окончательно, но я думаю, что мы заполучим Пратта.
— Ох, — сказал Уайлдер.
— Его агент вчера запросил сценарий, и в ближайшее время Пратт должен его прочесть. По такому случаю у меня вопрос: если он возьмется за эту работу, вы сможете приехать сюда, чтобы с ним встретиться?
— На меня не рассчитывайте, Карл, — сказал Уайлдер, и трубка в его руке начала вибрировать. — Лично я вообще не хочу его видеть. Подождите, сейчас поговорю с Памелой.
Она сидела в кресле у дальней стены и читала британский журнал о кино, но прервала это занятие, услышав телефонный звонок. Когда Уайлдер в двух словах изложил суть дела, глаза ее расширились, а зубы прикусили нижнюю губу.
— Боже, я не знаю, — сказала она.
— Памела пока не знает, Карл, — сообщил он. — Она перезвонит вам через несколько минут, когда определится, хорошо?
Затем он повесил трубку и сказал:
— О’кей, крошка, решай сама.
— Я туда не поеду против твоего желания, — сказала она. — И ты это знаешь.
Как раз этого он не знал и был приятно удивлен, но постарался не выказывать свои чувства.
— Думаю, тебе все же стоит поехать, — сказал он. — Как-никак ты одна из продюсеров фильма.
— Так же как и ты. И если ты поедешь туда один, он, возможно, вообще не узнает о моем участии в проекте.
— Он уже это знает. Твое имя указано на обложке сценария.
— Ах да, я и забыла об этом.
Кончилось тем, что она позвонила Манчину и согласилась приехать в любой день, когда потребуется.
В назначенный для встречи день она собиралась дольше обычного, примеряя разные платья, пока он не заметил:
— Любой человек, увидев тебя сейчас, сказал бы, что ты прихорашиваешься.
— Да, ты прав, — сказала она, — это глупо. Надену простую кофточку и старые брюки. Ты твердо решил не ехать?
— Абсолютно.
Однако после ее отъезда он принялся ходить из угла в угол, грызя костяшки пальцев. Почему он не поехал? Разве не лучше было бы показать Пратту, что у нее есть другой мужчина? Он немного выпил — пообещав себе, что эта порция будет единственной, потому что ему нельзя было расслабляться, — а потом уселся на диван и стал ждать.
Когда Памела вернулась, он следил за ней очень внимательно, взвешивая каждый ее ответ, каждый взгляд, но не обнаружил ни малейших признаков фальши.
— Как все прошло?
— Знаешь, весьма удачно. В кои-то веки он оказался трезвым.
— И как он поступил, увидев тебя?
— Он вел себя очень сдержанно. Сказал только: «Мы уже знакомы», когда Манчин начал представлять нас друг другу, а в дальнейшем было только деловое общение. Кстати, некоторые из его идей показались мне интересными. Жаль, что ты со мной не поехал.
Честер Пратт взялся за написание сценария, на что ему требовалось несколько месяцев, а Уайлдер и Памела в это время с трудом находили, чем себя занять. Они еще не раз побывали у Манчина, где познакомились с несколькими режиссерами; они общались с разными агентами по недвижимости в безрезультатных поисках «симпатичного домика где-нибудь на холме», но по большей части дни их проходили впустую.
— На что бы потратить все это свободное время? — говорила она. — Может, выберемся на несколько дней в Сан-Франциско? Или в Мексику?
Но они так никуда и не выбрались.
Глава девятая
— Так в чем состоит ваша проблема, мистер Уайлдер? — спросил доктор Бертон Л. Роуз в медицинском центре Калифорнийского университета.
— Особых проблем вроде нет, но, возможно, вы заметите какие-то их признаки, доктор. Собственно, я приехал лишь затем, чтобы повторно получить лекарства — вот старые флаконы с этикетками, — но уже по дороге сюда подумал, что не помешала бы и консультация.
Едва закончив последнюю фразу, он пожалел о сказанном. Доктор Роуз был маленьким, тщедушным и бледным человеком не более тридцати лет от роду, с холодными немигающими глазами. Его кабинет, затерянный в лабиринте огромного здания, еле вмещал письменный стол, два стула и психиатрическую кушетку, которая здесь выглядела явно лишней, — кто же захочет поверять свои сокровенные мысли такому депрессивному юнцу с недобрым взором, да еще в такой клаустрофобной обстановке?
Доктор прочел надписи на флаконах и потянулся к пачке рецептурных бланков:
— Как давно вы начали принимать эти лекарства?
— Вы конкретно об этих четырех или вообще?
— Для начала об этих четырех.
— Дайте вспомнить. Месяца три назад. А до того я принимал другие, тоже набор из нескольких препаратов. Видите ли, доктор Бринк периодически прописывал мне что-нибудь новое взамен старого. В целом я сижу на разных таблетках уже два с половиной года.
— И о чем вы хотели поговорить сейчас?
Рука Уайлдера непроизвольно поднялась ко лбу, а уголок глаза начал подергиваться.
— Я и сам толком не знаю, все очень сложно. Если я начну рассказывать с самого начала, на это уйдет целый день.
— Вас что-то серьезно тревожит?
— Не уверен, что здесь подойдет слово «тревога», но можно использовать и его. Чтобы точнее объяснить мое состояние — или хотя бы попробовать это сделать, — мне пришлось бы начать издалека. Во-первых, я очень плохо сплю и, пожалуй, слишком много пью.
— Разве доктор Бринк не предупреждал вас, что эти препараты несовместимы с алкоголем?
— Он говорил, что эффект от одной порции будет для меня почти таким же, как от двух. Знаете что, пожалуй, я обойдусь без консультации. Возможно, все, что мне требуется, — это еще раз сменить лекарства. Вы не могли бы мне с этим помочь? Найдутся у вас более сильные антидепрессанты, или стимулянты, или еще что-нибудь?
— Я не волшебник, мистер Уайлдер. В любом случае я не вправе что-либо предпринимать, не имея достаточных сведений о пациенте. Я могу запросить у доктора Бринка выписку из истории вашей болезни, если вы дадите на это письменное согласие.
— О’кей.
Доктор выдвинул ящик стола и начал там рыться в поисках нужных бланков, и только теперь, избавившись от его пристального взгляда, Уайлдер смог нормально осмотреться. На бюваре валялось несколько шоколадных жевательных резинок в обертках из яркой фольги — того сорта, что продаются на кассе универмага по паре центов за штуку, — а наклонившись вперед, он заметил множество уже пустых оберток на дне жестяной мусорной корзины. Возможно, доктор Роуз пытался бросить курить. Или же он был конфетоманом и в отсутствие пациентов, которых он мог бы пронзать взглядом, тупо сидел, упершись этим взглядом в стену, мусоля во рту дешевую жвачку и таким образом приглушая собственные тайные и темные неврозы.
— Если захотите провести серию психотерапевтических сеансов, дайте мне знать, — сказал он. — Со своей стороны, я настоятельно советую вам отказаться от употребления алкоголя.
По пути домой Уайлдер несколько раз в сердцах стукнул кулаком по рулю, приговаривая: «Вот дерьмо!.. Вот же дерьмо!..»
— Что он собой представляет? — спросила Памела.
— Никчемный сопляк немногим старше тебя в кабинете размером с телефонную будку, набивающий рот шоколадными жвачками. Да и хрен с ним. По крайней мере, я получил препараты.
— Ты просил его дать тебе что-нибудь посильнее?
— Он сказал, что не может этого сделать, пока не проконсультируется с Бринком.
— Вот оно как… — пробормотала она, не отрывая взгляда от страницы «Ньюсуик» (скорее всего, читала раздел «Кино»).
Он плеснул себе виски, не спрашивая, составит ли она компанию, поскольку заранее знал ответ: она скажет, что еще слишком рано для выпивки.
— У меня идея, — произнес он чуть погодя. — Давай отправимся в один из этих шикарных ресторанов на Ла-Сьенеге, с фонтанами и бродящими по залу скрипачами. Гульнем по полной программе, без всякого повода.
— Нет, — сказала она. — Мы и так слишком часто бываем в ресторанах. Сегодня я приготовлю ужин дома. Не хочешь пойти со мной в магазин и помочь?
Он всегда ненавидел супермаркеты, а тот, в который она его привела, был воистину гигантским — больше проходов и больше касс, чем он мог сосчитать, и целые акры потолочных ламп, проливающих свет на акры яиц, моркови и туалетной бумаги. Памела резво катила двухуровневую тележку по одному из проходов по направлению к мясной секции, а он шел позади, мельком оглядывая товары и раздраженные либо озадаченные лица других покупателей. По идее, катить тележку следовало бы ему — а что еще могло подразумеваться под ее просьбой «помочь»? — но Памела ему этого не позволила со словами:
— Нет, мне так удобнее. Я знаю, куда направляюсь и где собираюсь остановиться.
Правда, она не учла множества незапланированных остановок из-за тележечных заторов или толпившихся в проходе людей.
— Разрешите, — беспомощно бормотала она. — Позвольте пройти.
— Надоело уже, — ворчал он. — С такими темпами мы никогда отсюда не выберемся.
— Осталось немного. Потерпи.
Следуя за ней по бескрайним просторам супермаркета, он все сильнее ощущал потребность выпить, и несколько выкуренных подряд сигарет только усугубили эту жажду. От нечего делать прислушался к фоновой музыке под сводами: в ту минуту звучала «I’ll Never Smile Again»[52], которую вскоре сменила «All the Things You Are»[53].
— Ну что, ты закончила? — спросил он чуть погодя.
— Не совсем. Еще нужны салфетки, хлеб и что-нибудь для салата, а также чистящий порошок, зубная паста и прочие мелочи. Может, подождешь меня снаружи?
— Нет, все в порядке.
— Сделай одолжение, — попросила она. — Я не хочу, чтобы ты таскался за мной по пятам с этим страдальческим видом. Прямо как маленький ребенок.
По пути к выходу («Разрешите… Позвольте пройти…») на глаза ему попадались «Даз», «Оксидол» и «Брилло»; затем он миновал «Грейп Натс», «Пост Тостиз», «Чериос» и множество других витрин с яркими упаковками, пока на наткнулся на то, что — как внезапно понял — боялся увидеть с момента прихода в магазин: стенд «Шоколада Марджори Уайлдер» в форме высокого шестигранного конуса, заполненный сотнями конфетных коробок и вращаемый скрытым где-то в его недрах электромотором. Плавное, медленное вращение вполне согласовывалось с тягучими ритмами фоновой музыки. «ИМЕТЬ… И ОТДАВАТЬ, — гласила вывеска. — АРИСТОКРАТЫ СРЕДИ СЛАДОСТЕЙ».
Интересно, что произойдет, если он сильным толчком обрушит этот проклятый стенд? Завизжат ли женщины? Бросятся ли к нему мужчины? Вызовет ли кто-нибудь полицию? Он крепко сжал кулаки в карманах, подавляя этот порыв. Несколько коробок на полках стенда были открыты, демонстрируя свое выпукло-аппетитное содержимое — шоколадки с нугой, с кокосом, со сливочной или ореховой тянучкой, — что вызвало в памяти давние разъезды по конторам оптовиков в компании навязчивого торговца, без конца повторявшего: «Попробуйте хоть одну, вы только попробуйте. Угощайтесь». А как приятно было бы увидеть эту затейливую конструкцию поверженной на пол, увидеть смятые коробки и рассыпанные в пыли под ногами людей конфеты!
— Еще минутка, и я закончу, — произнесла Памела, подкатывая к нему тележку. — На что ты уставился? А-а…
— Есть идея, — сказал он, беря с полки одну из коробок и кладя ее в корзину, — давай-ка угостим Роуза настоящими конфетами.
— Что-что? Кого угостим?
— Роуза. Моего маленького приятеля из медицинского центра. Чего уж там, пусть будет парочка.
Вот так это и случилось. Он потянулся за второй коробкой, опираясь одной рукой на край тележки, а когда та подалась вперед под его весом, он навалился еще сильнее. Тележка врезалась в стенд, и тот эффектно обрушился, рассеивая коробки и отдельные конфеты по линолеуму пола. Одна женщина действительно взвизгнула (то была ближайшая кассирша), и трое-четверо парней (все в белой форме) действительно ринулись с разных сторон к месту крушения.
— Уходим отсюда! — сказал он, хватая ее за руку. — Надо сматываться.
Он быстро протащил ее через толпу, мимо крайней кассы и через автоматическую раздвижную дверь с надписью «ВЫХОД».
— Джон, это безумие! — произнесла она, задыхаясь, уже на тротуаре.
— Быстрее. Садись в машину. Эти остолопы сейчас вызовут полицию.
— Да с какой стати? Это же была случайность.
— Точнее, преднамеренная случайность. Много лет я мечтал завалить хоть одну из этих чертовых штуковин, но никак не мог решиться.
Он перевел рычаг в положение «Drive» и поспешно вырулил с парковки, при этом задев бампер соседней машины.
— Смотри, куда едешь! Ох, Джон, а ведь я оставила внутри все покупки!
— Очень жаль. Но я не хочу провести следующие три часа, рассказывая историю своей жизни какому-нибудь магазинному менеджеру в присутствии копов с блокнотами. Если попробуешь встать на мое место, ты меня поймешь.
На скорости виляя между машинами и глупо рискуя, Джон добрался до бульвара Ла-Сьенега и затормозил перед одним из тех ресторанов, посетить который он предлагал ранее: шикарный, с фонтанчиком в вестибюле и скрипачами, перемещающимися среди богато сервированных столов.
— Закажете что-нибудь из бара, сэр?
— Да.
— Прошу тебя, — простонала она. — Может, ограничимся только едой?
— Нет. Я возьму двойной бурбон со льдом.
— Никогда в жизни не делала ничего глупее, — сказала она. — Удирать из магазина, как парочка воришек. Как теперь я смогу показаться в том месте?
— Тебя никто не опознает, это большой город.
— Я беспокоюсь о тебе, Джон. Дело не только в выпивке, хотя, конечно же, ты слишком много пьешь. Есть что-то еще. Что-то похуже. Думаю… думаю, ты нездоров.
— Спасибо за информацию, — сказал он. — Пожалуй, закажу еще порцию виски.
Затем по ее настоянию они заказали «бифштекс из филея по-нью-йоркски», который оказался одним из самых больших кусков жареного мяса, когда-либо им виденных. Он уставился на свою порцию, понимая, что если он ее осилит, это поможет восстановить некий баланс, станет чем-то вроде акта самоспасения, однако вид этого мяса вызывал у него тошноту. То же касалось огромной печеной картофелины с обильным добавлением сметаны и шнитт-лука, как и маслянистой горки салата. Сидевшая рядом Памела уплетала за обе щеки с явным удовольствием, и он поспешил отвести от нее взгляд. Единственным объектом на столе, к которому он не испытывал отвращения, был недопитый бокал виски. Уайлдер поднял его, повертел, раскручивая кубики льда, и сделал глоток, затем отрезал тонкий ломтик мяса и старательно прожевал, но проглотить его было практически невозможно.
— Тебе нравится еда? — спросил он у Памелы.
— Да, очень вкусно.
— Рад за тебя. А я совсем не голоден. Продолжай в том же духе, а я постараюсь на тебя не смотреть, только и всего. Честно говоря, меня слегка мутит от этого зрелища.
Она положила на стол нож и вилку, все еще жуя, затем проглотила пищу.
— Хорошо, скажи мне, что на этот раз? — спросила она.
— Они снова это делают.
— Кто делает что?
— Все в этом заведении. Смотрят на меня. Взгляни на того толстяка в шелковом костюме. Быстро взглянула, и хватит. А теперь на ту парочку размалеванных старых шлюх в углу. И на компашку откровенных педиков ближе к двери.
— Джон, никто на тебя не смотрит. Это все твои глюки.
— Глюки, вот как? Тебе нравится это словечко? Хочешь подкинуть его Честеру Пратту, чтобы вставил в сценарий? Взгляни еще раз. Взгляни на типа в шелковом костюме. Взгляни на каждого человека в этом…
— Джон, это абсурд. Ты ведешь себя…
— Как параноик, да? Это еще одно из твоих любимый словечек?
— Я собиралась сказать не это.
— Ладно, оглянись теперь, если ты мне не веришь. Все без исключения в этом долбаном ресторане…
— Ничего подобного.
— Но это так, черт возьми! Или ты думаешь, что я свихнулся?
Краем глаза Уайлдер заметил встревоженно семенящего к их кабинке пожилого официанта.
— Сэр, я вынужден попросить вас говорить потише, — произнес он с мягким итальянским акцентом.
— Ладно-ладно, — сказал Уайлдер.
В дальнем конце зала бродячие скрипачи заиграли в ускоренном темпе.
— Ты хочешь отсюда уйти, Джон?
— Нет. Я не хочу отсюда уходить. Я хочу спокойно посидеть здесь и допить свой виски. Плевать на них всех. Наслаждайся едой. Ешь, черт тебя побери!
Но есть она не стала, а вместо этого вдруг закрыла ладонями лицо.
— О боже, — простонал он. — Только этого еще не хватало. Слушай, я тебя предупреждаю: если ты сейчас распустишь нюни, это добром не кончится. Прекрати сейчас же. Я сказал, прекрати! Или ты хочешь, чтобы меня отсюда вышвырнули? Они это могут, ты же знаешь. Если продолжишь плакать, а я продолжу кричать, они мигом вышвырнут меня из этого тухлого гей-притона. Прекрати, я сказал…
Старый итальянец вновь направлялся к ним, умоляюще сложив руки, но теперь позади него маячили еще трое официантов, помоложе и покрепче.
— Сэр, — сказал он, — я уже один раз к вам обращался.
Вынужден повторно просить вас не повышать голос.
Уайлдер выложил на стол десятидолларовую купюру, потом добавил к ней вторую, потом третью. Этого должно было хватить.
— Вот вам, — сказал он. — А теперь отвалите.
— Ох, Джон… — выдохнула Памела.
Старый официант ошеломленно замер, открывая и закрывая рот, а его молодые коллеги быстро вышли вперед и обступили Уайлдера. Один из них выдвинул стол из кабинки со словами:
— Вы сами нарвались, мистер.
Уайлдер вскочил на ноги с намерением врезать тому, кто это сказал, но его слишком размашистый удар был аккуратно блокирован, после чего троица взялась за него всерьез: один сдавил его шею болезненным полунельсоном, а другие схватили под мышки. Таким манером они поволокли, а затем и понесли его через ресторанный зал, сопровождаемые удивленными взглядами посетителей и неумолкающей скрипичной музыкой.
— Сам нарвался… — то и дело повторял сквозь зубы все тот же официант, пока высвободившаяся рука Уайлдера не вцепилась ему в горло, надавив что было сил на адамово яблоко.
Где-то позади раздавались крики Памелы:
— О нет! Подождите! Остановитесь!..
Его протащили полутемным коридором и мимо фонтанчика в вестибюле.
Он продолжал, сколько мог, сжимать горло сказавшего: «Сам нарвался», видя в этом единственный способ сохранить остатки достоинства. Потом распахнулись массивные двери, и Уайлдера выбросили наружу. Он раскорякой шлепнулся на асфальт, сразу вскочил, но потерял равновесие, упал снова и затем поднялся уже медленнее.
Когда в дверях показалась Памела, он растерянно бормотал:
— Машина… где эта сраная машина?
— Ее перегнали на парковку… — сказала она. — Подожди, я…
Но служитель уже рысью мчался за машиной, а минуту спустя Уайлдер сидел за рулем и с возрастающей скоростью катил прочь от ресторана по бульвару Ла-Сьенега.
— Сейчас же останови машину! — потребовала она тоном на удивление твердым для только что рыдавшей женщины. — И дай мне сесть за руль, иначе ты угробишь нас обоих.
Однако он не пожелал уступить ей место, и Памела испуганно съежилась на пассажирском сиденье, пока он выполнял неверные повороты и резко перестраивался, провоцируя негодующие сигналы других машин, одной из которых он еще и поцарапал крыло.
Когда они все же добрались до дому, он сразу сделал себе двойную порцию виски. Она тоже немного выпила, видимо собираясь с духом, прежде чем сообщить важную новость.
— Я ухожу от тебя, Джон, — сказала она, с бокалом в руке меря шагами ковер. — Я больше не могу это выносить. Сегодня, пока ты ездил к врачу, я подыскала себе другую квартиру и уже внесла задаток. Перееду туда завтра утром.
Его шок — «Малышка, не уходи! Только не это!» — сопровождался, как ни странно, облегчением: ведь без нее он сможет выпивать в любое время, хоть рано утром. А ей все равно придется быть с ним в контакте, чтобы не пропустить следующую встречу с Манчином. Так что никуда Памела от него не денется.
— Там нет телефона, — продолжила она, — но, как только его установят, я сообщу тебе номер, чтобы мы могли быть на связи по поводу Манчина. Извини, Джон, но такая жизнь мне осточертела.
— Погоди, — сказал он, — я приму свой комплекс экстренной помощи.
— Что-что ты сделаешь?
— Бринк прописал мне комплекс для приема в экстренных случаях — сейчас, похоже, самое время.
— Брось, Джон, неужели ты до сих пор веришь во всякие чудодейственные снадобья? Ты не сможешь изменить самого себя с помощью таблеток.
— А я и не собираюсь изменять себя. Я всего лишь хочу, чтобы ты была со мной.
— Забудь об этом. Никакие таблетки не помогут… Где предпочитаешь сегодня ночевать: в спальне или в гостиной?
— В гостиной, — сказал он, прикидывая, что так будет проще добраться до выпивки. — Но прошу, Памела, подумай еще раз.
— Я думала над этим несколько недель. И додумалась наконец-то.
Уже четвертую — или пятую? — ночь подряд он почти не смыкал глаз. Даже изрядное количество виски не смогло вогнать его в сон, и он размышлял, то лежа, то сидя на диване, пока в щелях жалюзи не забрезжил рассвет.
— Я только сварю кофе, — сказала полусонная Памела, появляясь из спальни. — Не хочу за завтраком выдерживать очередную сцену.
И они разошлись без сцен. Машина досталась Памеле — «А ты возьмешь напрокат другую», — Уайлдер помог вынести вещи, и она уехала. В этой спешке он даже не вспомнил о прощальном поцелуе.
Оставшись в одиночестве, он первым делом достал из чемодана «комплекс экстренной помощи» доктора Бринка: три флакона с пилюлями, названия которых он позабыл сразу же после того, как их принял, запив водой из крана. В холодильнике нашлось вареное яйцо, и он жадно его съел, а затем сел на диван со стаканом основательно разбавленного виски и попытался думать о будущем.
На третий день стало невмоготу. Наручные часы остановились, но, судя по проникавшим сквозь жалюзи лучикам солнца, было около полудня, и он решил выйти из дому. На бульваре Санта-Моника подумалось о еде. После ухода Памелы он питался только тем немногим, что находил в холодильнике, и дешевыми гамбургерами из закусочной внизу. А сейчас по пути подвернулся ресторанчик, в котором он часто бывал с Памелой. Он решил плотно подкрепиться и заказал стейк с яичницей.
— Что-нибудь из бара, сэр?
— Ни к чему, спасибо. Хотя подождите. Я возьму «Кровавую Мэри».
За второй порцией «Кровавой Мэри», еще не приступив к остывающей еде, он вдруг обнаружил, что на него смотрят все посетители ресторана. И на сей раз это ему не почудилось: люди действительно смотрели на него, хотя и не осуждающе. Скорее, они ему сочувствовали. А встречаясь с ним взглядами, стразу отворачивались, однако по выражениям лиц было нетрудно догадаться, что они думают: «Эх, бедолага».
Он выпрямился на стуле, положил ладони плашмя на стол в надежде этим унять их дрожь и попытался представить, как он выглядит со стороны. Одет он был вполне прилично — свежая рубашка, чистый вельветовый пиджак и немятые брюки, — да и с лицом вроде все было в норме, не считая того факта, что утром он не побрился. Тем не менее всякий раз, когда он оглядывался по сторонам, кто-нибудь спешил отвести глаза с едва заметным покачиванием головы или легким вздохом: «Этот бедолага, должно быть, очень страдает».
Особенно это касалось лысого толстяка за столиком неподалеку; толстяк шелестел газетой, якобы ее просматривая, а на самом деле держал Уайлдера под постоянным участливым наблюдением. Были и другие: два патлатых юнца в джинсах и майках что-то шепотом обсуждали, как будто споря, стоит ли подойти к нему и завести разговор, а пухлая синеволосая дамочка в розовом брючном костюме, казалось, вот-вот расплачется от жалости к Уайлдеру.
Когда он попросил счет, официантка приблизилась как-то настороженно, а ее обильно подведенные глаза вопрошали: «С вами все в порядке, сэр?» Он хотел заверить ее, что он в порядке или, по крайней мере, будет в порядке, как только все вокруг перестанут на него пялиться, но вместо этого уперся взглядом в свою тарелку.
— Вас что-то не устраивает, сэр?
— Нет-нет, все хорошо. Просто я не очень голоден.
Когда она отошла, он накрыл тарелку мятой бумажной салфеткой, чтобы никому не было видно, что еда почти не тронута, оставил на столе вдвое больше монет против обычных чаевых и напоследок вновь осмотрелся. Все было так же, и те же лица поспешили отвернуться. Он поднялся и быстрым шагом покинул ресторан, чувствуя спиной их провожающие взгляды.
Улица была залита ослепительным солнцем. Он продвигался сквозь этот солнечный потоп, как сквозь песчаную бурю, прикрывая глаза козырьком ладони.
На ступеньках своего крыльца он встретил человека с седой кудрявой шевелюрой и, несколько раз моргнув, опознал управляющего, которому он платил за квартиру.
— С вами все в порядке, мистер Уайлдер? — спросил тот.
— На что вы намекаете?
Управляющий как будто смутился:
— Я только хотел узнать, как вы себя чувствуете. Дамы из соседней квартиры говорили, что вам, быть может, нездоровится.
— С чего они это взяли?
— По их словам, прошлой ночью вы громко стонали и издавали другие звуки, как при сильных болях.
— Неужели?
— Я к тому, что вы в нашем городе недавно и еще мало с кем знакомы. В этом доме все жильцы пользуются услугами доктора Чедвика. Если хотите, я могу ему позвонить…
— Нет необходимости. Я в норме. Но все равно спасибо за заботу.
Войдя в свою квартиру и заперев дверь на замок, он наконец-то оказался в одиночестве и безопасности. Теперь ему предстояло сделать важный звонок. Подкрепившись порцией виски, чтобы не дрожали руки, он сел перед телефонным столиком и набрал номер.
— Психоневрология, слушаю вас.
— Доктора Роуза, пожалуйста.
— Это мистер Уайлдер?
— Как вы догадались?
— Будьте добры, подождите секунду.
— Доктор Роуз слушает.
— Доктор, это Джон Уайлдер. Думаю, мне необходима ваша помощь. Дело в том, что я только что побывал в ресторане, где буквально все вокруг очень странно на меня смотрели, а на обратном пути я встретил управляющего домом, который сказал… Словом, не могли бы вы приехать и сделать мне укол или еще что-то?
— Мистер Уайлдер, эти ваши звонки уже становятся назойливыми.
— О чем вы? Это первый раз, когда я…
— Вы четырежды звонили мне вчера — три раза в офис и один раз домой — и дважды звонили позавчера. Я уже вдоволь наслушался ваших бессвязных речей про «комплексы экстренной помощи», «волшебные уколы» и тому подобное. И каждый раз я давал вам один и тот же совет: прекращайте пить. Если вы дадите согласие на несколько дней стационара, эту тему мы с вами можем обсудить завтра, в ходе назначенного вам приема.
— Стационар? Какой еще стационар?
— То есть больничная палата. Я могу договориться, чтобы вам выделили койку, если вы хотите…
— О боже, нет, только не это!
— В таком случае прекращайте пить, мистер Уайлдер. Жду вас завтра в моем кабинете.
Несколько секунд он тяжело дышал в микрофон, а потом сказал: «Ладно, Роуз, спасибо и на том» — и шмякнул трубку на аппарат.
Вероятно, после этого его ненадолго сморил сон, потому что, когда он посмотрел на окно, лучики солнца уже обрели закатную красноту.
— …Оператор, мне нужно связаться с доктором Майроном Бринком в Нью-Йорк-Сити. У меня нет его номера, но это на Манхэттене, в Верхнем Ист-Сайде.
— …Офис доктора Бринка.
— Междугородний звонок доктору Майрону Бринку.
— Кто вызывает, оператор?
— Все в порядке, оператор, я поговорю с этой леди. Алло?
— Это мистер Уайлдер?
— Я разговаривал с вами вчера?
— Да, сэр, несколько раз. Я вам сказала, что доктор Бринк находится в заграничной поездке и вернется не раньше второй недели июня.
— В самом деле? Тогда скажите вот что: я просил вас связать меня с одним из его помощников?
— Сэр, я вам сказала, что пациентами доктора Бринка занимается доктор Грейди, но вы не пожелали с ним общаться.
— Вот как? Тогда забудьте о моих прежних словах, о’кей? Надо сдвинуть это дело с мертвой точки. Свяжите меня с ним.
— Доктор Грейди слушает, — раздался в трубке голос с ирландским акцентом, и Уайлдер постарался по возможности связно и последовательно изложить свою проблему.
Когда он добрался до «комплекса экстренной помощи», доктор попросил его прерваться, найти флаконы и прочесть вслух надписи на этикетках. Потом он сказал:
— Насколько я понял, вы продолжили пить и после приема всего этого? Очень плохая идея, мистер Уайлдер. Все, что я могу вам сказать: немедленно прекратите употребление алкоголя. Помимо этого, я ничего не могу для вас сделать, находясь на другом конце страны…
Небо за окном уже почернело, когда он сделал следующий — по крайней мере, следующий на его памяти— звонок.
— Оператор, свяжите меня с мистером Полом Боргом, Нью-Йорк-Сити. Номер назвать не могу. Когда-то я знал его наизусть, но с тех пор многое позабыл.
— …Джон? Где ты сейчас?
— Я в Лос-Анджелесе. Послушай, у меня тут возникли сложности. Вообще все катится к черту.
— Что, не по зубам оказался орешек кинобизнеса?
— Напротив, он даже слишком легко раскалывается. Но беда в том, что кинобизнес может сделать то же самое со мной. Я сопродюсер фильма, который вот-вот расколет меня, как гнилой орех.
— Мне трудно уследить за твоей мыслью, Джон.
— Трудно уследить? Это весьма забавно, поскольку все прочие только и делают, что следят за мной, где бы я ни показался. А тут еще и девчонка меня покинула. Возможно, мне удастся ее вернуть, если я этого захочу, но в данный момент ее со мной нет. Собралась и была такова… Погоди, неужели я только что сказал: «Если я этого захочу»?
— Прозвучало именно так.
— Обалдеть! Значит, мне это не показалось. Думал, что с ума по ней схожу — чуть не помер, когда она меня бросила, — но сейчас уже не уверен, что хочу ее вернуть. Странное дело. Беда в том, что она слишком амбициозна для меня. Всегда готова пуститься во все тяжкие. Не в сексуальном плане — хотя, возможно, и в этом тоже, — а прежде всего в плане карьеры: будет идти напролом, пока не станет кем-то вроде Сэма Голдвина в юбке[54]. Впрочем, я обратился к тебе по другому поводу, Пол. Хотел спросить одну вещь: как ты думаешь, стоит мне сейчас позвонить Дженис?
— Думаю, это полностью зависит от того, что ты собираешься ей сказать. И от того, как ты это скажешь. Если ты перед этим выпил, ничего хорошего из разговора не выйдет. Тебе бы отдохнуть, выспаться как следует и уж потом…
— Ты что, издеваешься? Какой, к черту, может быть «отдых», когда у человека нервы на пределе? Слушай, ты помнишь тот вечер, когда отвез меня в Бельвю? Как по-твоему, сейчас моя манера общения похожа на тогдашнюю?
— Судя по тону, ты сейчас перевозбужден и… да, не вполне адекватен. Ты консультируешься у врачей, Джон?
— Да, черт возьми, консультируюсь. Меня консультирует столько врачей, что ты замучился бы их пересчитывать. Значит, по-твоему, мне не следует звонить Дженис?
— Не сейчас и не сегодня, я бы так сказал, если тебя интересует мое мнение.
— О’кей. Знаешь что, Пол? Ты, вероятно, лучший из всех моих друзей, но ты никогда мне особо не нравился. Передавай привет Натали.
Он повесил трубку. Все, теперь со звонками покончено.
— Памела, — обратился он к бокалу виски, — ты тоже никогда мне особо не нравилась.
Он поднялся и со всей силы запустил бокалом в дальнюю стену комнаты. Звонкий хлопок и длинное пятно от стекающего по стене виски доставили ему удовлетворение.
— Прости, малышка, — обратился он к своей последней, еще на две трети полной бутылке виски. — Прости, малышка, но твое время истекло. Было да сплыло.
Пройдя с бутылкой в ванную, он сначала тонкой струйкой, но потом все быстрее вылил ее содержимое в раковину.
— Было да сплыло, — повторил он, когда остатки бурбона, хлюпнув, исчезли в сливном отверстии. — Сплыло без остатка, моя дорогая Памела. Может, я и любил тебя до безумия, но ты никогда мне особо не нравилась.
С пустой бутылкой делать было нечего, кроме как разбить ее о стену, — звук получился столь же удовлетворительным, как и предыдущий. Затем он пошел обратно к телефонному столику, но внезапно пол гостиной вздыбился и ударил его по лицу. Последним, что он увидел, было расколотое стекло его наручных часов.
Когда его глаза открылись, все вокруг было белым и зеленым. Он голышом барахтался на больничной койке, вырываясь из рук трех или четырех людей в белом, которые пытались что-то воткнуть ему в руку. Среди них была молодая медсестра, левая грудь которой нависала над самым его ртом. Он укусил эту грудь, и девушка ойкнула, но очень сдержанно, — должно быть, профессиональная выучка была для нее превыше всего прочего; и это его так рассмешило, что он хохотал без умолку, пока не отключился снова.
При следующем пробуждении никакой борьбы не было, как не было и людей в белом, кроме одного санитара, который настраивал капельницу над его головой.
— Прошу прощения, — сказал Уайлдер, — можно узнать, где я нахожусь?
— В Голливудском пресвитерианском медцентре, сэр.
— Это психиатрическая или обычная палата?
— О, это терапевтическое отделение, сэр.
— Хорошо, благодарю вас.
Терапевтическое отделение. Возможно, он получил травму при падении, когда разбил свои часы, или же просто обессилел до крайности, что не потребовало привлечения психиатров. Как бы то ни было, он лежал в обычной терапевтической палате. Здесь никто не станет копаться у него в мозгах, да и дверь не заперта на замок.
— …Мистер Уайлдер?
Теперь вместо санитара перед ним стоял доктор Бертон Л. Роуз, казавшийся еще миниатюрнее прежнего.
— Откуда вы узнали, что я здесь?
— Мне позвонил доктор Чедвик. Видимо, он нашел мой номер рядом с телефоном в вашей квартире.
— Доктор… кто?
— Врач-терапевт, который привез вас сюда. Его зовут Чедвик. Насколько я понял, он обслуживает жильцов вашего дома.
— Ясно. И что вам от меня нужно?
— Полагаю, нужно перенести назначенный ранее прием на другой день, когда вы будете… в лучшем состоянии.
— О’кей, я вам позвоню, — сказал Уайлдер и закрыл глаза, чтобы поскорее от него отделаться.
Пробудившись в следующий раз, он неожиданно почувствовал себя здоровым — силы полностью восстановились как по волшебству.
Единственным желанием было встать, одеться и без промедления покинуть это место.
— Скажите, пожалуйста, — обратился он к санитару (не к тому, что был прежде), — я все еще нахожусь в Голливудском пресвитерианском центре?
— Да, сэр.
— И как давно я здесь?
— С позапрошлой ночи, насколько мне известно.
— И это по-прежнему терапевтическое отделение, да? То есть я могу выписаться, когда пожелаю?
— В принципе, да, сэр, но вы были очень…
— Я знаю, что был болен, однако сейчас я чувствую себя хорошо. Можно мне подняться?
— Конечно.
— И нельзя ли вытащить из моей руки эту трубку? Мне она больше не нужна.
— Об этом я должен справиться у дежурной медсестры, сэр. Сам я не могу…
— О’кей, тогда позовите ко мне медсестру.
А уже вскоре, одевшись и приведя себя в порядок, он заполнил чек в кассе на первом этаже и был выписан из Голливудского пресвитерианского центра так же легко и беспрепятственно, как из обыкновенного отеля.
— Где я могу заказать такси?
— Мы можем вызвать его для вас, сэр.
— Будьте любезны.
В такси он почувствовал себя так, словно владел всем Лос-Анджелесом, словно владел всем миром. В его бумажнике обнаружилась приличная сумма — больше двухсот долларов, — и тут же возникла идея, на что их частично потратить.
— Притормози, как увидишь торговца цветами, — сказал он таксисту. — Первого попавшегося.
Он купил дорогой букет из разных весенних цветов, а после недолгих раздумий взял и второй. Потом направил таксиста к своему дому, где нажал звонок на двери управляющего.
— А, мистер Уайлдер! Выглядите гораздо лучше. Как здоровье?
— Очень хорошо, спасибо. Я хотел бы принести извинения за все проблемы…
— Что вы, не было никаких проблем. Просто мне показалось, что вы нуждаетесь в медицинской помощи, и я позвонил доктору Чедвику.
— Вы поступили правильно. А это цветы для вашей супруги.
— О, благодарю. Это очень… трогательно, мистер Уайлдер. Не зайдете к нам на несколько минут?
— Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. Вы не знаете, дома ли сейчас две женщины, мои соседки? Я бы хотел извиниться и перед ними.
— Это будет очень любезно с вашей стороны. Насколько я знаю, они сейчас дома, но вы ведь и сами можете это выяснить, нажав их звонок.
Он ожидал увидеть двух дам почтенного возраста, однако старшей из них — весьма ухоженной особы с хитроватым лицом и окрашенными хной волосами — на вид было не более пятидесяти. Вторая — хорошенькая блондинка лет двадцати, — вероятно, была ее дочерью. Судя по всему, эта парочка приехала в Лос-Анджелес с намерением устроить младшей карьеру в Голливуде.
— Прошу прощения, — сказал он, — меня зовут Джон Уайлдер, и я живу в соседней квартире. Я только хотел сказать, что очень сожалею обо всем этом шуме и причиненном вам беспокойстве, — и вот, я принес вам это.
Старшая придирчиво оглядела его с ног до головы, прежде чем расплыться в благосклонной улыбке:
— Как это мило! Джой, взгляни на цветы! Не правда ли, они прелестны?..
Еще немного погодя он снова был один у себя дома, наслаждаясь чувством выполненного долга. Квартира нуждалась в уборке — битое стекло на полу, несколько опрокинутых стульев, коричневое пятно от виски на стене, — но все это были мелочи. Он уже много лет не испытывал такого прилива энергии. Похоже, опорожнив ту бутылку в раковину, он совершил самый разумный поступок в своей жизни.
Слишком славным выдалось это утро (или уже день), чтобы проводить его в четырех стенах; и вскоре он, даже не надев пиджак, отправился на прогулку по бульвару Санта-Моника, испытывая сильное желание улыбаться и приветствовать взмахом руки каждого встречного. Достигнув большого солнечного пятна на тротуаре между деревьями, он остановился и несколько минут медленно вращался на месте, подставляя лицо живительным лучам.
Затем подошел к киоску «Оранж Джулиус» и взял их фирменный напиток в бумажном стаканчике, оказавшийся приторно-сладким и не особо приятным на вкус; зато апельсиновый аромат напомнил ему о множестве простых радостей, которыми он был обделен в последние алкогольные годы. Далее ему подвернулся небольшой местный универмаг — не чета громадному супермаркету, где они были с Памелой, — и он заглянул туда с намерением купить что приглянется. Обратно он вышел, неся пакет с дюжиной персиков в одной руке и упаковку с дюжиной бутылочек содовой воды в другой, — это сочетание еды и питья показалось ему самым подходящим для такого дня.
По возвращении домой он первым делом жадно впился зубами в персик, а потом бросил несколько кубиков льда в высокий бокал и наполнил его содовой.
— Было да сплыло, — сказал он, сняв ботинки и погрузившись в мягкое кресло. — Прости, Памела, но все, что между нами было, то сплыло без следа.
Когда зазвонил телефон, он подумал, что это может быть Памела или Манчин, и потому не сразу взял трубку, настраиваясь на серьезный разговор.
— Мистер Уайлдер? Это доктор Чедвик.
— О, здравствуйте. Насколько понимаю, мы формально незнакомы, но я хочу вас поблагодарить. Сейчас я чувствую себя на миллион долларов.
— Вот и славно. А то я удивился, узнав, что вы покинули больницу.
— Просто я не видел причин там оставаться. Я был слишком здоров для больничных покоев.
— Понятно. И чем вы сейчас занимаетесь?
— Прямо сейчас? Ем персики.
— Очень хорошо.
— И запиваю их огромным количеством содовой.
— Чем-чем запиваете?
— Газировкой.
— А, отлично. — В трубке раздался короткий смешок. — Вы не будете против, если я зайду проведать вас завтра утром?
— Конечно заходите, если есть желание. Еще раз спасибо вам, доктор.
Вот это, пожалуй, был единственный нужный ему тип врача — и не только сейчас, но и вообще, — единственный тип врача, в котором он когда-либо действительно нуждался: опытный врач широкого профиля, который в критической ситуации не замедлит с отправкой его в больницу и который лишь одобрительно хмыкнет, узнав, что пациент пошел на поправку. К черту всю эту психиатрию! По большому счету, Джон У айлдер сам отлично знал, как о себе позаботиться.
Понемногу он начал тяготиться присутствием на столике телефона, готового в любую секунду зазвонить или, что еще хуже, способного одним своим видом подвигнуть Уайлдера на звонок, как это было в случае с Полом Боргом. Он мог позвонить Карлу Манчину; он мог позвонить доктору Роузу; он мог — если совсем утратит контроль над собой — позвонить Дженис и Томми.
С наступлением вечера пришла усталость, но не сонливость, а эйфория по поводу прекрасного самочувствия начала угасать. Единственным, что могло погрузить его в сон, была выпивка — всего одна или две порции, в качестве лекарства, — и посему он отправился в ближайший винный магазин, где купил бутылку виски.
— Эй, вы забыли сдачу! — крикнул кассир ему вслед. — Сэр, ваша сдача!
Но Джон Уайлдер не хотел терять время на такие пустяки; его голова была занята более важными планами. Надо было не только развязаться с Манчином, Памелой и их проектом, но и сделать это таким образом, чтобы сорвать производство фильма. Помимо этой, были и другие, еще более мрачные мысли, но они пока что не обрели четкой формы, и он решил оставить их на утро.
Он снял одежду и поставил бутылку на столик у кровати, а немного погодя забрался под простыню и лежал неподвижно, как труп, пока его не сморил сон.
Прошло, казалось, лишь несколько минут, когда он пробудился с таким чувством, будто весь мир разваливается на части. Ждать до утра было нельзя. Он выскочил из постели, еще не вполне понимая, что делать; а когда это понимание пришло, одеваться было уже некогда. Нагишом устремившись на кухню, он схватил самый большой нож, затем бегом вернулся к телефону и перерезал провод. Это было сделано вовремя: замешкайся он еще на мгновение, телефон зазвонил бы и голос, похожий на мистера Эпштейна из Марлоу, объявил бы ему, что он является Мессией.
С улицы донесся детский крик, а потом вой полицейской сирены, и внезапно он осознал чудовищный масштаб своего деяния. Связь нарушилась по всей стране — по всему миру, — и теперь нужно было действовать без промедления. Он натянул брюки и застегнул молнию на ширинке, но возиться с остальной одеждой не было времени. Выскочив на мертвую, пустынную улицу, он помчался в сторону бульвара Санта-Моника, не слыша ничего, кроме свиста ветра в ушах и собственного хриплого дыхания. Через два квартала ему попалась на глаза телефонная будка; он ринулся к ней, ввалился внутрь и сорвал трубку с рычага.
— Послушайте, оператор, это все из-за меня! Это я перерезал телефонный провод — я! я! я! Меня зовут Джон Уайлдер, и я всего лишь человек, вы понимаете? Обычный человек, а не…
Он не решался оглядеться вокруг, но все равно чувствовал, что улицы снова ожили, заполняясь людьми, которые разговаривали и улыбались как ни в чем не бывало.
— Эй, чувак… — окликнул его длинноволосый парень в джинсовой куртке, улыбаясь и хмурясь одновременно.
Уайлдер уже покинул телефонную будку, но парень шел за ним по пятам.
— Чувак, я не могу оставить тебя одного после того, что я только что услышал!
Уайлдер обернулся к нему, продолжая двигаться задом наперед.
— Очень даже можешь, чувак, — сказал он. — Ты это можешь.
Потому что ему надо было по возможности дольше оставаться в одиночестве. Если это неправда, пусть его оставят в покое. А если правда — пусть они его ищут. Пусть все услышат то, что услышал этот парень, а потом пусть попробуют его найти. Он удалялся от своего дом на запад по бульвару Санта-Моника, опустив голову, наблюдая за мельканием своих босых ног на фоне асфальта. Один раз он споткнулся, в падении оперся на руку и угодил большим пальцем в собачье дерьмо. Он вытер палец о штанину, однако запах не исчез, оставаясь единственным доказательством того, что он был простым смертным — обычным человеком. Никакой Христос во втором пришествии не испачкал бы палец в дерьме.
— …Утверждают, что этот человек сейчас находится в Лос-Анджелесе, — вещал Уолтер Кронкайт с телеэкранов по всей Америке, — и в одиночку разгуливает по улицам. Полицию Лос-Анджелеса предупредили насчет возможных самозванцев…
Он мог заглушить этот голос только одним способом: нюхая свой большой палец. Заметив подростка, сидящего в дверном проеме и перебирающего струны гитары, Уайлдер сел с ним рядом. Подросток также был бос, и он играл простенькую, вполне приземленную мелодию.
— Не прерывайся, — сказал ему Уайлдер, — это звучит здорово.
Продолжай делать то, что делаешь, а я буду делать свое.
— А что вы делаете?
— Нюхаю свой палец.
После этих его слов парнишка поднялся и быстро пошел прочь.
Если это была неправда, он выставлял себя на посмешище. Но что, если это была правда? Теперь он шел в сторону Стрипа, взбираясь на пологий холм. На изгибе дороги стоял коп в шлеме рядом со своим мотоциклом; из его рации доносились хрипы и потрескивание помех. Уайлдер приблизился к нему, улыбаясь и помахивая высоко поднятыми руками, чтобы продемонстрировать отсутствие агрессивных намерений, а потом ткнул пальцем в свою голую грудь.
— Это я, офицер, — сказал он.
— Не прикасайтесь ко мне, мистер! Не подходите ближе!
Рука полицейского лежала на ремне с кобурой.
— Нет-нет, вы не поняли. Это я. Тот самый.
— Идите-ка своей дорогой, мистер… Я сказал, проходите!
И он продолжил движение вверх по склону, к далеким огням Стрипа. Если вся полиция была сбита с толку предупреждением о самозванцах, как они смогут удостоверить его личность? Он швырнул на тротуар связку ключей, потом достал из кармана бумажник и начал на ходу выбрасывать все вещи, по которым его можно было бы опознать: водительское удостоверение, кредитные карточки, карту соцобеспечения. Когда документы закончились, он взялся за купюры, одну за другой через равные промежутки времени роняя их на асфальт — сначала долларовые, потом пятерки, потом десятки, потом двадцатки. Достигнув бульвара Сансет, он повернул на восток, в сторону дома. Люди сидели за выставленными на тротуар столиками ночных кафе либо шли в обоих направлениях под ярким светом уличных фонарей, и никто, похоже, не обращал внимания на Уайлдера.
— До сих пор нет сообщений из Лос-Анджелеса, — слышался телевизионный голос Уолтера Кронкайта. — Этот человек до сих пор не обнаружен…
Все его деньги закончились к тому времени, как он свернул на свою улицу, которую опознал скорее интуитивно, чем по каким-то внешним признакам. Дверь его квартиры была распахнута; он вошел внутрь и заперся на замок. Он давал им достаточно шансов, а теперь хватит, пусть найдут его здесь.
— …либо одно из величайших событий современности, — говорил Уолтер Кронкайт, — либо самый возмутительный обман. Теперь только время расставит все по своим местам…
Он ходил по квартире, зажав ладонями уши, но, как только закрыл глаза, на внутренней стороне век тотчас появился газетный заголовок:
СПАСИТЕЛЬ
ИЛИ
САМОЗВАНЕЦ?
Ничего не оставалось, кроме как ходить по квартире и ждать.
— Давайте, — бормотал он при этом. — Ну же, давайте…
Перед рассветом он услышал звук полицейского вертолета над крышей и был вынужден долго нюхать свой большой палец, пока этот звук не исчез. И лишь когда за окном забрезжил рассвет, он решился раздвинуть две планки жалюзи и выглянуть наружу, проверяя, не собралась ли перед домом толпа. Толпы не было — во всяком случае, пока, — и он возобновил ходьбу туда-сюда, а меж тем голубоватый свет за окнами медленно сменялся желтизной.
— …Область поиска сократилась до одного жилого квартала в Лос-Анджелесе, — говорил Уолтер Кронкайт, — но полиция пока не сообщает, о каком именно квартале идет речь, во избежание массового наплыва граждан, что может сделать ситуацию неконтролируемой. Съемочные группы Си-би-эс готовятся зафиксировать, возможно, величайший миг в…
ОБЪЯВИТСЯ ЛИ
ОН?
— Нет, погодите, — сказал Уайлдер. — Послушайте: я самый обыкновенный человек.
Чтобы подтвердить это, он мог бы еще раз выйти из дому и прогуляться по городу, если бы не боялся открыть дверь.
А вскоре он расслышал и шум толпы — густой, тяжелый звук, подобный шуму морского прибоя, — и, самую малость раздвинув жалюзи, увидел, что полиция перегородила улицу. Рискнув на секунду приоткрыть дверь, он быстро выглянул наружу и тотчас ее захлопнул, после чего продолжил бесцельные перемещения по квартире.
ЯВЛЕНИЕ!
В процессе ходьбы он старался убедить себя, что это неправда. Будь это правдой, квартира выглядела бы иначе: пепельницы не были бы переполнены окурками, а на стене не маячило бы бурое пятно от виски. Одежда в шкафу была снабжена метками с именем Джона К. Уайлдера — в этом мог убедиться каждый, — и грязные ноги, топчущие ковер, были ногами Джона К. Уайлдера. Джон К. Уайлдер был невысок ростом. Ему было тридцать девять лет, он приехал из Нью-Йорка, где перед тем продавал рекламное пространство на страницах журнала «Американский ученый»; и от его большого пальца все еще попахивало собачьим дерьмом.
Но что побудило его ночью выйти на улицу? Что заставило его пройти такое расстояние, швыряясь по пути деньгами? Что за телефонный звонок он успел предотвратить, перерезав провод?
Входная дверь мощно притягивала его к себе. Он вновь приоткрыл ее и в этот раз уже на целую секунду, а то и на две явил народу свое робкое, моргающее лицо.
Толпа ответила на это дружным вздохом — подобным плеску гигантской волны, — и он, уже закрывая дверь, расслышал жужжание и щелчки многочисленных кинокамер и фотоаппаратов.
ОН ЭТО ИЛИ НЕ ОН?
И опять он ходил по ковру, сжимая руками голову
— …Мы были свидетелями двух очень кратких явлений этого человека, но их оказалось достаточно, чтобы убедить многих скептиков в том, что вся эта невероятная история является мистификацией…
— Нет! — сказал Уайлдер. — То есть да! То есть погодите… Погодите немного.
Он замер, тяжело дыша и держась за ручку двери, а потом открыл ее, в третий раз высунул голову наружу и сразу же подался назад.
ЭТО УЖЕ ВЫГЛЯДИТ ГЛУПО
Теперь он передвигался по комнате какими-то нелепыми скачками, издавая жалобные стоны; при этом дверь осталась слегка приоткрытой. Потом он очень долго (как ему показалось) простоял, прижимаясь к дальней стене, рядом с пятном от виски, и собираясь с духом, пока спокойный и ясный внутренний голос не произнес: «Выйди к ним, Джон».
ПОГОДИТЕ…
Теперь, когда он шел по ковру через комнату, в каждом его движении ощущалось не просто достоинство, а даже некоторая величавость. Он широко распахнул дверь и, выйдя под лучи солнца, предстал перед взорами толпы и объективами камер. Немного постояв с опущенными вдоль тела руками, он сделал благословляющий жест, а затем, дабы окончательно развеять сомнения собравшихся, раскинул обнаженные руки в позе распятия и склонил голову набок.
ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ!
Простояв какое-то время в этой позе, он вновь опустил руки и медленно повернул голову сначала налево, а потом направо. Приветственных криков не было — напряженную тишину нарушали только щелчки фотоаппаратов и стрекотание камер.
Но вот из толпы выделился негр средних лет с небольшим черным саквояжем в руке, сопровождаемый крупной темнокожей женщиной в переднике, зачем-то прикрывающей ладонью свой рот.
— Мистер Уайлдер? — обратился к нему негр. — Я доктор Чедвик. Мы можем зайти внутрь?
Что ж, вполне понятное стремление должным образом зафиксировать великое чудо, — вероятно, доктор собирался проверить его пульс и другие жизненно важные показатели, а женщина, с виду горничная или служанка, была привлечена в качестве свидетельницы. Войдя, они первым делом подняли жалюзи, заполнив комнату солнечным светом.
— Вам многое пришлось перенести, мистер Уайлдер, — сказал доктор Чедвик, — и вы очень устали. Теперь вы нуждаетесь в основательном отдыхе.
Он опустил саквояж на кофейный столик и, открыв его, достал шприц.
— Вы хотите меня вырубить?
— Я всего лишь хочу, чтобы вы спокойно отдохнули.
Доктор выдавил каплю на кончике иглы и сделал укол в плечо Уайлдера.
— Он скоро придет в норму, — сказал доктор служанке, по-прежнему зажимавшей свой рот ладонью, а затем снял трубку с телефона и озадаченно ахнул, обнаружив перерезанный провод. — Я сделаю звонок от управляющего, — сказал он.
Служанка вполголоса произнесла фразу, которую Уайлдер не разобрал.
— Разумеется, мы это уладим сейчас же, — ответил ей доктор. — Мистер Уайлдер, вы не могли бы подойти сюда?
Они направили его к телефонному столику, с которым Уайлдер вступил в жесткий контакт, и бесполезный аппарат звонко брякнулся на залитый солнцем пол.
— Будьте добры поставить вот здесь свою подпись, — сказал доктор, — а остальное мы заполним сами.
Уайлдеру сначала показалось, что ему предлагают писать шприцем, но затем он разглядел в руке доктора шариковую ручку.
— Понимаю, — сказал он. — Это будет формальным подтверждением того, что я жив?
— Это будет подтверждением того, что вы живы, здоровы и отдаете себе отчет в своих действиях.
Первая попытка расписаться вышла неудачной: он нацарапал свое имя кривыми печатными буквами, что напоминало почерк маленького ребенка.
— Не годится, — сказал Уайлдер. — Дайте мне другой листок.
Вторая попытка уже больше походила на его обычную подпись, а третья получилась еще лучше. Водя ручкой по бумаге, он вдруг подумал, что этим самым, возможно, удостоверяет себя не как нового Мессию, а как первого человека в истории, полностью излечившегося от сумасшествия без всякой помощи психиатрии. Впрочем, первое как будто не противоречило второму.
Только после четырех или пяти подписей он заметил, что расписывается не просто на листках бумаги, а на страничках своей чековой книжки, которые терпеливо переворачивала и подставляла ему служанка.
— Он будет в порядке, — сказал ей доктор Чедвик, закрывая саквояж. — Побудьте с ним несколько минут, я скоро вернусь.
— Не хотите присесть и отдохнуть, мистер Уайлдер? — спросила служанка.
— Нет.
Он снова начал расхаживать по комнате, и служанка попыталась его остановить, схватив за руку:
— Не хотите одеться? Надеть свежую, чистую рубашку?
— Нет.
В этот момент они оказались напротив распахнутой входной двери.
— А куда подевались все? — спросил он. — Что произошло с толпой?
— О какой толпе вы говорите, мистер Уайлдер? По утрам на этой улице никогда не бывает толпы.
— Но здесь была большая… было очень много… были кинокамеры и… боже мой!
— Ну же, успокойтесь, мистер Уайлдер. Я много знаю о людях вроде вас.
— О боже мой!
— Я знаю, что для вас лучше, — сказала она. — Я знаюлюдей вроде вас.
Она подвела спотыкающегося Уайлдера к ванной комнате, где быстро открыла на полную мощность оба крана. Он и опомниться не успел, как лишился штанов — кто их снял, он сам или эта женщина? — и очутился в ванне, вразнобой молотя конечностями и расплескивая теплую воду через край.
— О боже мой! — повторял он раз за разом, ибо теперь ему стало ясно, что он виновен в каком-то чудовищном преступлении. Где он был и что делал прошлой ночью? А позапрошлой?
— …Человек, этим утром игравший чувствами миллионов верующих по всему иудеохристианскому миру, — вещал Уолтер Кронкайт, — вполне может оказаться не просто самозванцем, но и преступником, вероятным убийцей…
На разъяснения служанки рассчитывать не стоило: вряд ли она что-то знала о его преступных деяниях, а если бы даже и знала, она бы только постаралась его успокоить в ожидании доктора Чедвика, ушедшего звонить в полицию. Найдя точку опоры, он выкарабкался из ванны.
— Нет, не вылезайте! Теплая ванна пойдет вам на пользу.
— О боже мой!
Он натянул штаны прямо на мокрое тело и устремился к двери, но служанка преградила ему путь и, когда они столкнулись, сгребла его в охапку. Она была очень мягкой и очень сильной.
— Я не собираюсь убегать, — сказал он. — Я хочу явиться с повинной.
Он сумел освободиться от захвата и устремился к двери, но она настигла его уже на пороге. Продолжая борьбу, они спустились с крыльца и начали продвигаться по короткой дорожке от дома к тротуару. Несколько прохожих остановились, заинтересованные происходящим.
— Я убийца. Я убил Кеннеди! — твердил он.
— Нет, вы этого не делали, мистер Уайлдер. Его убил Освальд.
— Я убивал негров! Я убивал негров по всему Лос-Анджелесу!
— Это неправда…
Раз за разом пытаясь вырваться, Уайлдер подумал о самом худшем, что он мог совершить, и тут его осенило:
— О боже, я убил свою жену и своего ребенка!
Она изменилась в лице.
— Да, это так, мистер Уайлдер, — сказала она, — и как раз поэтому мы пытаемся вам помочь.
Он наконец-то вырвался и побежал вдоль тротуара, но уже через несколько шагов угодил в руки поджидавших его — нет, не полицейских, а четверых молодых негров, одетых во все белое.
— …Спокойно, мистер Уайлдер, — сказал один из них. — Дальше вы проследуете с нами.
Двое схватили его за руки, двое за ноги; и последнее, что он увидел, когда его запихивали в машину «скорой помощи», был доктор Чедвик, стоявший перед дверью управляющего и с мрачным одобрением наблюдавший за этой сценой.
— …Поехали, мистер Уайлдер.
Хлопнули дверцы, и машина резво тронулась с места. Он не мог выглянуть наружу и видел только своих спутников — двое ухмылялись, явно довольные успешным задержанием, а двое других выглядели устрашающе. Неужели он и впрямь убил Дженис и Томми? Но как?
Поездка оказалась недолгой. Вскоре Уайлдера извлекли из машины, и перед его глазами закачались, кренясь то в одну, то в другую сторону, стены и потолок коридора, а потом открылась дверь, и он увидел белую комнату, где еще один негр, высокий и худой, стоял рядом с наполовину приподнятой двухсекционной кроватью.
— Это мистер Уайлдер? — спросил худой негр. — Давайте его сюда. Добро пожаловать в «Эльдорадо».
В считаные секунды он был переодет в больничную рубашку, помещен на кровать и привязан к ее раме за кисти и щиколотки эластичными белыми ремнями. Ему вспомнился слепой старик в Бельвю, кричавший: «У меня люцидации!» Однако он догадывался, что находится не в больнице: уж очень зловещими были улыбки здешнего персонала. Он был не пациентом, а узником.
— …разыскивается для допроса по поводу жестокого убийства его раздельно проживающей супруги и их несовершеннолетнего сына Томаса, — между тем говорил Уолтер Кронкайт. — Он сумел ускользнуть от полиции, но был схвачен членами подпольной ячейки «Черных националистов», которые рассчитывают получить за него выкуп…
— Меня зовут Рэндольф, мистер Уайлдер, — представился худой негр, — и я здесь главный.
— Мне нужно домой, — сказал Уайлдер. — Я хочу своими глазами…
— Никуда вы отсюда не уйдете, мистер Уайлдер. Вы останетесь здесь, с нами. Кстати, вы заметили, что я говорю на «правильном английском»?
— Я действительно убил жену и сына?
— Не спрашивайте меня об этом. Разбирайтесь сами со своей совестью. И не советую тратить силы на попытки освободиться от этих ремней: вы надежно привязаны.
— Как долго… как долго вы меня тут продержите?
— До тех пор, пока мы от вас не устанем. А может, и дольше.
— Что вы со мной сделаете?
— Будем держать вас связанным, пока не начнете вести себя смирно. А там посмотрим. Мы много что можем с вами сделать. Не хотите посмотреть телевизор?
— Нет. Не включайте его. Прошу вас, не включайте!
Но Рэндольф уже возился с настройками большого телевизора, коварно прикрепленного к стене прямо перед глазами Уайлдера. На экране возникло изображение детской ступни, помеченной тонкими черными линиями в тех местах, где она была переломана.
— Выключите это! Выключите!
— Мистер Уайлдер, если вы не заткнетесь, я буду вынужден сам вас заткнуть.
— О боже, дайте мне умереть. Просто дайте мне умереть.
— Я обдумаю вашу просьбу, мистер Уайлдер. Я приму ее во внимание.
Мертвая нога все еще медленно вращалась перед камерой, но голос Уолтера Кронкайта, по счастью, слышен не был.
— Не могу настроить звук, — проворчал Рэндольф. — Проклятье! Мне что, придется теперь все время слушать только вас?
Он щелкнул переключателем, и нога Томми исчезла.
Чуть погодя в комнату вошел коренастый хмурый негр, вместо приветствия с порога пробормотав: «О’кей».
— Это Генри, мистер Уайлдер, — представил его Рэндольф. — Он будет какое-то время за вами присматривать. Генри, это мистер Уайлдер. Он говорит, что хочет умереть.
— Ну, это можно устроить запросто, — сказал Генри и, когда Рэндольф удалился, присел на стульчик рядом с кроватью. — Вы слыхали об электрическом стуле, мистер Уайлдер? — спросил он. — Так вот, под вами сейчас электрическая кровать. Мне достаточно лишь нажать эту кнопку… — Он продемонстрировал маленький пульт, соединенный с кроватью толстым изолированным проводом. — Но я не стану ее нажимать прямо сейчас. Сначала я хочу задать вам несколько вопросов. Вы ведь не жалуете чернокожих, не так ли, мистер Уайлдер?
— Это неправда, я всегда…
— Да, конечно, вы всегда голосовали за демократов, вы поддерживаете Движение за гражданские права и все тому подобное, вы восхищаетесь доктором Кингом[55], и вы считаете «просто ужасным» то, что случилось с Эмметтом Тиллом[56], однако я говорю не об этом. Я о том, что творится у вас в душе. А в глубине души вы хотите, чтобы нас всех просто не было. Наши губы кажутся вам слишком толстыми, а носы слишком плоскими, и вы содрогаетесь от отвращения при одной мысли о наших курчавых волосах. Все так и есть, мистер Уайлдер?
— Нет… нет…
— О, вы ничего не имеете против нас, когда мы говорим на правильном английском, как ваш приятель Чарли в Бельвю, правда? Так вот, у меня есть для вас послание от Чарли, который, к сожалению, не смог приехать и доставить его лично. А послание заключается в следующем…
С этими словами он поднял пульт и нажал кнопку. Раздалось электрическое жужжание, и приподнятая секция кровати под спиной Уайлдера начала плавно откидываться назад. Когда она проделала примерно половину пути до самой нижней позиции, Генри отпустил кнопку, и движение прекратилось.
— А теперь другое послание для вас, мистер Уайлдер, — сказал он. — На этот раз от Клея Брэддока — помните его? Это актер, которого вы привлекли к съемкам своего маленького артхаусного фильма. В колледже Марлоу, помните? Клей просил передать вам вот это — и, кстати, просьба была высказана на правильном английском.
Жужжание возобновилось, секция откинулась чуть дальше и вновь остановилась. Генри склонился над изголовьем, приблизив свое широкое лицо к лицу Уайлдера:
— Сказать вам, кто вы такой? Вы самый опасный враг, какой только может быть у истинного революционера. Вы либерал. А теперь перейдем к последнему посланию. Тому, которое опустит вас ниже некуда. Вы готовы, мистер Уайлдер? Это большое послание. Оно от всех нас.
Моторчик зажужжал, и секция приняла горизонтальное положение.
Уайлдер не чувствовал никакого проходящего через его тело тока — точно так же человек, вставивший себе в рот ствол дробовика, не слышит звука выстрела, когда нажимает на курок. Он сейчас вообще ничего не чувствовал, ничего не слышал, ничего не видел. Но, к своему удивлению, он все еще продолжал дышать.
— Как там наш клиент? — спросил Рэндольф, возвращаясь в комнату.
— Не замолкал все время, пока вас не было, — сказал Генри. — Только сию минуту заткнулся. Говорил о либералах и революционерах, об Эмметте Тилле и еще о чем-то, всего не упомнишь. Но сейчас притих — должно быть, задремал.
— Нет, я не хочу, чтобы он сейчас спал, — сказал Рэндольф. — Тогда он не будет спать всю ночь. Мистер Уайлдер!
— Прошу вас, позвольте мне умереть.
— Даже не надейтесь. Вы не заслуживаете такого легкого конца. Вас ждет кое-что похуже, мистер Уайлдер. — Снова заработал электромотор, и кровать вернула его в прежнее, полусидячее положение. — Кое-что гораздо, гораздо хуже. Вас ждет жизнь.
— …Голливудский пресвитерианский центр отказался принять его повторно, — говорил доктор Чедвик, — потому что они там не занимаются хроническими алкоголиками, — именно таким был поставленный ими диагноз. Так что мне пришлось отправить его в «Эльдорадо». Другого выбора не было.
— Что за «Эльдорадо»?
— О, это вполне солидное учреждение. Правда, они не привыкли к подобным пациентам. Это, видите ли, частный гериатрический пансионат — дом престарелых с медицинским обслуживанием. Его держат там уже почти две недели, гарантируя круглосуточный уход, но не более того. И еще мне сообщили о дисциплинарных проблемах: от него слишком много шума и это беспокоит постоянных пациентов. В общем, его нужно скорее оттуда забрать, так будет лучше для всех.
— Понимаю, — сказала Памела, прикусывая губу.
Они беседовали в офисе управляющего домом, а сам управляющий и его супруга находились в соседней комнате. Оттуда доносились звуки включенного телевизора, но Памела подозревала, что они вместо просмотра передач внимательно прислушиваются к разговору в офисе.
— Доктор Роуз дал мне вот это, — сказал Чедвик, выкладывая на стол напечатанный на машинке документ. — Ему лишь нужно это подписать, и его на добровольной основе переведут в медцентр Калифорнийского университета. Без сомнения, это наиболее подходящее для него место. Но я уже приносил ему эту бумагу три — нет, четыре раза, и он всякий раз отказывался ставить подпись. Кажется, он думает, что это чек. Видите ли, в то утро я убедил его подписать пару чеков — на оплату моих услуг, а также услуг женщины, которая за ним тогда присматривала. Потому он думает, что я хочу вытянуть из него деньги. И вот здесь пригодилась бы ваша помощь. Если документ ему на подпись принесете вы, это будет выглядеть совсем по-другому.
— Хорошо, — сказала она, — но что, если я тоже не смогу его убедить?
— И все же попытаться стоит. Ну что, едем?
— Сначала мне нужно позвонить, — сказала она и, набрав номер, продолжила говорить уже в трубку: — Чет, слушай, тут возникли некоторые осложнения. Мне нужно съездить… впрочем, я лучше объясню это при встрече. Просто имей в виду, что я могу задержаться и вернусь домой поздно…
Она ехала за Чедвиком на своей машине, в которой находился чемодан с вещами Джона Уайлдера, и через несколько минут они прибыли к трехэтажному зданию «Эльдорадо».
Доктор Чедвик взял у нее чемодан, они вошли внутрь и зашагали по выстеленному мягким ковром коридору. Несколько раз им навстречу попадались деловито спешившие молодые негры в белых одеждах. Двери комнат по обе стороны были открыты, и Памела мельком замечала там вазы с цветами, блестящие спицы каталок, а иногда седые головы дряхлых стариков или старух.
— Боже, — прошептала она, — это, наверно, очень дорогое заведение?
— Вот еще одна причина для переезда отсюда, — сказал доктор. — Да, оно очень дорогое. Его комната за поворотом коридора.
Уайлдера они услышали еще на подходе, за несколько комнат до его двери. Он пел, и голос его звучал ужасно, ничем не напоминая облегченно-игривого Эдди Фишера или остепенившегося Фреда Астера, его прежнюю манеру исполнения. Сейчас это был резкий, надтреснутый голос, не попадавший в мелодию, — нечто сродни пению уличного попрошайки.
— …Купи мне орешков и кучу попкорна; я буду болеть на трибуне упорно…[57]
Он сидел на кровати, привязанный за конечности к раме, смотрел на экран выключенного телевизора и пел с такой самоотдачей, что не заметил их появления.
— Привет, Рэндольф, как он себя чувствует сегодня? — спросил Чедвик у санитара.
— Трудно понять, доктор, когда он в таком состоянии.
— …Один, два, три страйка — и ты вне игры, ты уже вне игры!..
Когда песня закончилась, он наклонился вперед, насколько позволяли ремни, и заговорил как будто в микрофон:
— Ладно, малыш Томми, на сегодня хватит песен. Отправляйся спать, дружок. Стоп, снято!
И он закрыл глаза.
— Он принимает телевизор за кинокамеру, — сказал Рэндольф, — и поет песни для своего сына. Но когда мы включаем телевизор, становится еще хуже: всякий раз при виде рекламы детской обуви он думает, что его сын мертв. Знаете эту рекламу, где показывают маленькую ногу и поворачивают ее так и этак? Эй, мистер Уайлдер! Мистер Уайлдер, к вам пришли.
— Здравствуй, Джон, — сказала Памела.
— Значит, теперь и ты работаешь на Чедвика и компанию? В дополнение к Манчину и Честеру Пратту?
— Разумеется, нет. И ты сам это отлично знаешь. Я просто пришла тебя проведать. — Она повернулась к Рэндольфу. — Неужели нельзя обойтись без этих ремней?
— Мы бы рады, мисс, если бы он вел себя спокойно. В прошлый раз, когда мы сняли ремни, он разбил стулом телевизор. Пришлось заменять его новым.
— Но сейчас вы можете их снять без опасений. Он ничего не разобьет.
Когда Уайлдера освободили от пут, она села рядом и начала бережно массировать его натертые до красноты запястья, надеясь этим принести ему облегчение, притом что контакт с его телом был ей неприятен, и она не могла этого отрицать. Попытка сосредоточиться на его лице не улучшила общего впечатления. Он был умыт и гладко выбрит, но его прозрачные, широко открытые глаза казались — да чего уж там, были — безумными, а песенные потуги оставили свой след в виде струйки слюны, стекавшей из уголка его безвольного рта. Неужели она когда-то могла любить этого человека?
— Джон, — сказала она, — ты хочешь отсюда выбраться?
— И куда я попаду потом?
— В гораздо лучшее место, где тебе будут давать нужные лекарства и тебя больше не будут мучить жуткие видения. Что ты на это скажешь? Я привезла твою одежду, и мы сможем уйти прямо сейчас, если ты захочешь.
После долгого молчания он произнес: «О’кей», и Памела спиной почувствовала довольные улыбки доктора Чедвика и Рэндольфа.
— Все, что тебе нужно сделать, — сказала она, — это расписаться вот здесь. Я уже приготовила ручку.
— Нет. Забудь об этом. Я больше не подпишу никаких контрактов с тобой, Карлом Манчином и Честером Праттом. Стряпайте сами свои убогие фильмы, я в этом участвовать не буду. Я понятно выразился?
— Не придуривайся, Джон. Я знаю, что ты все понял правильно. Это не имеет никакого отношения к фильмам. Этот листок бумаги открывает путь к твоему выздоровлению.
Уговоры продолжались минут двадцать, и наконец в соответствующей графе документа появились закорючки, которые при желании могли быть расшифрованы как «Джон К. Уайлдер».
— Прекрасно, — сказала она, — теперь мы тебя оденем.
— Я позвоню в медцентр и предупрежу о нашем приезде, — сказал доктор Чедвик и удалился.
— Его бы следовало помыть, но, когда мы пытались это сделать в прошлый раз, понадобились трое мужчин, чтобы удержать его в ванне. Он думал, мы хотим его утопить. В жизни не слышал таких воплей и визга. Жалобы поступали даже из дальних концов этого здания.
Одетый и вставший на ноги, он выглядел уже лучше — почти нормально, хотя по тому, как на нем сидел костюм, было нетрудно догадаться, что одевался он не самостоятельно. Памела взяла его под руку с одной стороны, а Рэндольф — с другой, и таким манером они осторожно вывели его из комнаты. Чедвик ждал их в коридоре.
Рэндольф сопровождал их в университетский медцентр, сидя на заднем сиденье рядом с Уайлдером и держа его за локоть. Чедвик сидел впереди рядом с Памелой, которая вела машину.
— Мы едем в аэропорт? — спросил Уайлдер.
— Нет, Джон, я же тебе говорила: мы едем в такое место, где тебя будут лечить, пока ты не поправишься.
— А почему Рэндольф едет с нами?
— Потому что он о тебе заботится. Мы все о тебе заботимся, Джон.
— Вам всем на меня насрать.
— Так не следует разговаривать с леди, — строго заметил Рэндольф.
Она думала, что никогда не доберется до университетского кампуса, петляя по улицам Вествуда, а потом думала, что никогда не найдет здание медцентра, но помог доктор Чедвик: он успешно справился с ролью штурмана вплоть до того, что указал ей свободное место на ближайшей к медцентру стоянке и опустил нужное количество монет в парковочный счетчик. Потом они вчетвером поднялись на лифте и очутились в приемной психоневрологического отделения.
— Роуз? — удивился Уайлдер. — Какого черта здесь делает Роуз?
— Следуйте за мной, — сказал им доктор Роуз. — Я покажу его комнату.
Он заметно нервничал, ведя их через общий зал, где какая-то кучерявая женщина играла в китайские шашки с подростком, на вид весившим не менее четырехсот фунтов. Когда они достигли комнаты, где все уже было приготовлено для Уайлдера, появилась медсестра со шприцем.
— Все в порядке, мистер Уайлдер, — сказал Роуз. — Будьте добры снять пиджак и закатать…
— Да пошел ты, Роуз! Иди запихивайся своими шоколадными жвачками.
Ты не настолько большой, чтобы меня вырубить, и не настолько умный. И ты, Чедвик, проваливай с ним за компанию, наглый черномазый ублюдок. Сотри со своей рожи эту похабную улыбочку и скажи своему черному дружку, чтобы отпустил мою руку. Мудозвоны вы все! Мудозвоны! А знаешь, кто ты? — обернулся он к Памеле. — Ты грязная сучка! Грязная сучка. Грязная сучка…
Кончилось тем, что Рэндольф в борьбе повалил его на пол. Медсестра принесла смирительную рубашку; Рэндольф и Чедвик запихнули руки Уайлдера в рукава, затем перевернули его на живот и связали рукава между собой. Когда он был надежно спеленат, все вышли в коридор, и Роуз затворил дверь со звучным щелчком замка.
— Теперь он успокоится, — сказал Чедвик.
— Я бы не слишком на это рассчитывал, доктор, — возразил Рэндольф. — Уж я-то его фокусов насмотрелся. Он может продолжать в том же духе целыми днями.
— В любом случае, — сказал Роуз, нервно оправляя свой костюм, — я сомневаюсь, что мы сможем держать его здесь.
По звукам ударов и сотрясению запертой двери было сложно определить, чем именно начал биться в нее Уайлдер: плечом или головой.
При помощи друзей — он сам частенько удивлялся тому, как много у него было друзей, — Честер Пратт без труда нашел и снял симпатичный домик на склоне холма с видом на туманный каньон и с макушками пальм, колыхавшимися чуть ниже уровня крыльца. Этот дом его полностью устраивал: здесь хорошо работалось, хорошо спалось и хорошо сиделось на закате с бутылочкой кока-колы в руке.
Вся отрава уже вышла из его организма. Работа продвигалась успешно — если, конечно, считать «работой» киносценарную стряпню, — а по ее завершении он собирался вплотную заняться своим вторым романом. Он забраковал многие из набросков, сделанных в Нью-Йорке, и практически все, сделанные в Вашингтоне, — дрянь и убожество, — но, если дальше дело пойдет на лад, он сможет написать эту книгу в течение года. И это будет хорошая книга — возможно, даже лучше его первого романа.
Временами, когда он отвлекался от надоевшего сценария, в голову приходила какая-нибудь свежая идея для будущей книги, и он без промедления записывал ее на листке, который затем переворачивал чистой стороной вверх и добавлял к стопке таких же листков под пресс-папье на углу стола. Накапливая эти бумажки, он испытывал радость, подобную радости скряги, пополняющего заветный сундук: время от времени он брал всю стопку и проверял ее толщину большим пальцем. Он как раз был занят очередной такой проверкой, когда зазвонил телефон.
— Привет, детка, — сказал он. — …Ну, раз такое дело, не торопись. Я не буду тебя ждать вплоть до самого твоего прихода… О’кей.
Не успел он вновь расположиться за письменным столом, как раздался еще один звонок.
— …А, привет, Билл, — сказал он. — …Сегодня? Да, конечно же, мы с удовольствием, вот только я не знаю, когда Памела вернется домой. Она только что звонила сообщить, что задержится допоздна. Давай поступим так: если я не предупрежу тебя до шести вечера, значит эта договоренность остается в силе. «Браун Дерби» в Беверли, к половине восьмого… О’кей, Билл, спасибо за приглашение. Мы будем рады… Хорошо. Пока, Билл…
Освободившись наконец от телефона, он вернулся к работе над сценарием для Манчина. Изобразить процесс умопомешательства вроде бы вполне благополучного рекламного агента? Нет ничего проще: он сделал это на ста двадцати пяти страницах, первая треть из которых, правда, являлась слегка сокращенной переделкой несколько тяжеловесного текста Джерри Портера.
Изначально он планировал поездку в Голливуд только как способ заработать достаточную сумму для последующего возвращения на Восточное побережье, но с недавних пор его планы изменились. От добра добра не ищут: мягкий климат, хороший дом, выгодный заказ Манчина и — самое чудесное из всех возможных совпадений — встреча и возобновление связи с девчонкой из прежней команды Кеннеди. Он не очень-то ей доверял — однажды она его бросила и вполне могла бросить вновь, — и ему не нравилось то, как она обошлась с этим беднягой Уайлдером, пусть даже сам Пратт от этого только выиграл; но при всем том ему было с ней хорошо. Подобно стакану холодного молока, выпиваемого им ежедневно в одиннадцать утра, она заставляла его чувствовать себя молодым, здоровым и полным сил. Он не считал нужным что-то менять в их отношениях, а там будет видно. Анонимные алкоголики научили его не заглядывать в будущее дальше чем на день вперед.
Он работал без перерыва часа два или три и поднялся из-за стола, только когда услышал шум подъезжающей к дому машины.
— Боже, ну и денек! — сказала она, входя. — Даже не знаю, рассказывать тебе об этом или нет.
— Конечно, ты все расскажешь, — сказал он, — после того как выпьешь.
Он наполнил два бокала — бурбон со льдом для нее и кока-колу для себя, — пока она устраивалась в одном из шезлонгов на крыльце.
— Отлично! — сказала она после первого глотка. — Именно этого мне и не хватало.
И затем поведала ему обо всем: о Чедвике, «Эльдорадо» и университетском медцентре вплоть до слов Роуза: «Сомневаюсь, что мы сможем держать его здесь».
— В таком случае куда его отправят?
— Не знаю. — Она закрыла глаза и помассировала двумя пальцами свою переносицу. — Ох, Чет, я понимаю, что это очень дурно с моей стороны, но меня мало заботит, куда его отправят. Они врачи, им виднее. По крайней мере, он в хороших руках.
— Да, — сказал Честер Пратт, мысленно признавая ее правоту — вряд ли она могла сделать для Уайлдера что-то большее, — но был вынужден на секунду-другую вглядеться в ее лицо, прежде чем решить, что она ему все еще нравится.
— …И я никак не могу избавиться от чувства огромного облегчения, — продолжала она. — Эти его проблемы… они просто за пределами моего понимания, вот и все; бороться с ними выше моих сил. Ему нужна помощь профессионалов, и он ее получит.
Солнце опускалось к горизонту. Лучи его приобрели оттенок сухого вермута, и лицо Памелы только выигрывало при таком освещении. Как может кому-то не нравиться девчонка с такими скулами и такими ресницами?
— Какие планы на ужин? — спросила она. — Дом или ресторан?
— Ресторан. В половине восьмого мы встречаемся там с Биллом Костелло.
— Это такой противный мозгляк из телешоу? Как оно там — «Давайте спросим папочку»?
— Не говори так, Памела. Он мой хороший друг. Одному богу известно, где бы я сейчас был, не стань он моим опекуном сначала в Нью-Йорке, а теперь и здесь. Он для меня сделал больше, чем я даже могу…
— Не скромничай, ты сам отлично справился.
— Я никогда бы не справился без его помощи. И потом, Билл стареет, и он одинок. Это самое меньшее, что мы можем для него…
— Ладно-ладно. Если уж ты впал в сентиментальность, я ничего не могу с этим поделать. У меня есть время принять душ?
— Конечно.
— Что мне надеть?
— Не имеет значения. Ты прекрасно выглядишь в любом наряде.
Однако он оказался не готов к тому, как она будет выглядеть по выходе из спальни — в коротком вечернем платье с открытой спиной, — это было просто ошеломительно. Ему захотелось тут же сорвать с нее это платье, подхватить ее на руки и унести обратно в спальню, но вместо этого он лишь галантно поцеловал ее в шею.
— Ох, Чет, — сказала она, вытягиваясь на цыпочках навстречу поцелую. — Ты такой милый и такой высокий!
Глава десятая
Дженис Борг была согласна со своим мужем в том, что южная Калифорния по сравнению с северной частью штата куда менее интересна и впечатляюща. В Сан-Франциско они снимали номер в отеле «Фермонт», катались на канатных дорогах, посетили Норт-Бич, где ознакомились с книжными новинками в магазине «Сити Лайтс»[58] и угостились дивным эспрессо в итальянском кафе под классические записи Карузо. Затем все в том же неспешном темпе этого долгого и счастливого летнего отдыха они поехали на юг вдоль побережья. Дженис объявила Биг-Сур[59] «прекраснейшим из всех когда-либо виденных ею мест», а Пол ее рассмешил, посоветовав сохранить в памяти эту красоту, потому что в Лос-Анджелесе и смотреть-то будет не на что — только трущобы из пластика в окружении чахлых пальм.
О чем никто из них не упомянул (поскольку все было обговорено еще перед отъездом из Нью-Йорка), так это о намерении Дженис навестить в Лос-Анджелесе своего бывшего супруга.
Шел 1970 год, смутный и тревожный во многих отношениях, но кое в чем Дженис Борг все же везло. Грязная война во Вьетнаме продолжалась, и она благодарила судьбу за предоставленную Томми студенческую отсрочку от призыва. Ричард Никсон стал президентом, чего наверняка не случилось бы при живом Роберте Кеннеди, впрочем Пол говорил, что Никсон не совсем безнадежен и еще сможет подняться до уровня своей должности.
Когда они свернули с прибрежной автострады на бульвар Сансет, Пол умолк и продолжал молчать на протяжении многих миль. При этом лицо его как будто слегка помрачнело, но Дженис уже усвоила, что не стоит прерывать его периоды молчания. Это могло означать, что он думает о Натали, и она вполне его понимала, поскольку временами, хоть и не так часто, сама умолкала в раздумьях о Джоне. Впрочем, эти перерывы в общении никогда не затягивались надолго, и это было одной из множества прекрасных черт их семейного союза.
— Какое название тебе больше нравится? — наконец заговорил он. — «Беверли Уилшир» или «Беверли Хилтон»?
— Сам решай. Ты лучше меня разбираешься в отелях.
Он лучше разбирался и во всем прочем. Она не говорила этого вслух из опасения, что похвала прозвучит глупо, однако это была правда. Она не встречала никого другого, чьи суждения всегда были настолько безошибочными.
— Ох, какая прелесть! — восклицала она, когда их машина мчалась между рядами высоких пальм, а когда они подрулили к «Хилтону», переключилась на эпитет «чудесный».
Их номер был чудесным, как и поданный им ужин; и все было чудесно на следующий день, пока не пришло время покинуть Пола и отправиться в Камарильо.
— Я не поеду туда, если ты этого не хочешь, — сказала она. — Джон и знать не будет, что мы побывали в этих местах.
— Нет, — ответил Пол, — тебе лучше поехать. Так будет правильно.
Следуя по шоссе, а затем по нескончаемым проселочным дорогам, она не то чтобы испытывала страх при мысли о встрече с Джоном, скорее это было тревожное предчувствие, поскольку она просто не знала, чего ожидать. Нервничая, она сильно потела, прежде всего голова и подмышки.
Издали больничный комплекс мог произвести приятное впечатление, однако с приближением к нему вы начинали понимать, где очутились. На солнышке перед входом в главное здание бродили пациенты в серых или зеленых саржевых робах, а на лужайке рядом с парковочной площадкой пара дородных, медлительных родителей была занята мытьем своего взрослого сына. Сначала они сняли с него рубаху и обтерли туловище намыленной губкой, обмакивая ее в пластиковое ведро с горячей водой; затем отец повернул его лицом к стене здания, а мать спустила штаны и тщательно вымыла нижнюю часть, включая промежность.
— Эй, леди, не подкинете десярик на кофе? — уже в дверях обратился к Дженис беззубый старик, а когда она шла через холл к лифту, другой старик схватил ее за рукав со словами:
— Эй, леди, не подкинете десярик на булочку?
В приемной перед палатой Джона сердитый негр тер шваброй линолеум, разговаривая сам с собой. Кроме Дженис, тут было всего три-четыре посетителя, которые расположились за расставленными тут и там столами из пластика и хромированных трубок. Вскоре из палаты вышел низкорослый седой мужчина в зеленой робе, которого она не узнала, пока он не сел за стол перед ней.
— Привет, Дженис, — сказал он.
Перемены в нем не ограничивались сединой; кожа на лице обвисла складками, а во взгляде преобладало спокойное безразличие. Он напоминал обывателя средних лет, ведущего размеренную однообразную жизнь и никогда не испытывавшего никаких потрясений.
— Рада тебя видеть, Джон. Ты выглядишь очень хорошо.
— Ты тоже. Что ты делаешь в Калифорнии?
— Просто провожу отпуск.
Возникла пауза.
— Том передавал тебе сердечный привет. И еще это, взгляни. — Она с облегчением отвлеклась, чтобы покопаться в своей сумочке. — Вот, я привезла тебе несколько его фотографий.
Она выложила на стол три снимка:
— Я сделала их в Гарварде. Симпатичный молодой человек, ты согласен? Правда, волосы длинноваты, но сейчас вся молодежь так ходит.
— Да, выглядит он отлично. И, похоже, высокий.
— Пять футов одиннадцать дюймов. Почти шесть.
— Ух ты, неслабо.
— Через год он станет юристом. Чудесно, не так ли?
— Да. Снимки ты заберешь?
— Нет, оставь себе. Я для того их и привезла.
— Спасибо. — Он убрал снимки в нагрудный карман. — А как там Пол?
— О, Пол в порядке. Просил пожелать тебе… всего доброго.
— Вы с ним хорошо ладите?
— Очень хорошо.
— Рад за вас.
Несколько следующих секунд они просидели как незнакомцы, случайно оказавшиеся за одним столиком в кафетерии. Потом она сказала:
— Джон, ты в чем-нибудь нуждаешься?
— Нет, спасибо.
— Сигарет у тебя достаточно?
— Вполне. Тем более что я понемногу завязываю с этим делом. Сейчас выкуриваю меньше пачки в день.
— Это замечательно. А в целом… тебе здесь… есть чем заняться?
— Будь спокойна, нам тут скучать не дают. По утрам у нас обычно трудотерапия.
— Что это значит?
— Посильный труд в лечебных целях. Лично я занимаюсь отделочными работами по дереву: столы, стулья и все такое.
— Понятно.
— А после обеда мы занимаемся спортом. Я вхожу в софтбольную команду.
— Надо же! Вы играете с командами из других больниц… или как?
— Нет, это внутрибольничные состязания.
— А-а…
— Для дождливой погоды у нас есть другие занятия. Иногда здесь проводят танцевальную терапию.
— Тебе это должно нравиться, ты всегда был хорошим танцором.
— Это не танцы в обычном понимании. Просто такой термин.
— Вот оно что.
Она знала, что следующий вопрос будет трудным, но все же решилась его задать. Возможно, она больше никогда не приедет в Калифорнию; возможно, она больше его никогда не увидит. Ей пришлось выдержать паузу, пока не рассосался комок в горле, чтобы можно было доверять собственному голосу.
— Джон, — сказала она, — у тебя есть какие-то планы… в смысле… ты задумывался о том, что будешь делать, когда выйдешь отсюда?
Лицо его озадаченно вытянулось, словно она подкинула ему какую-то особо хитрую загадку.
— Выйти отсюда? — переспросил он.
Тут на пороге возник санитар и объявил, что их время истекло.
Примечания В. Дорогокупля
1
Аэропорт в нью-йоркском районе Куинс, на острове Лонг-Айленд.
(обратно)2
Отели «Билтмор» и «Коммодор» (просуществовавшие до конца 1970-х — начала 1980-х гг.) с двух сторон примыкали к манхэттенскому Центральному вокзалу и были связаны с ним подземными переходами.
(обратно)3
Эрик Севарейд (1912–1992) — американский журналист и телекомментатор, среди прочего подробно освещавший все президентские выборы с 1948 по 1976 г.
(обратно)4
Богемный квартал в Нижнем Манхэттене, в значительной мере сохранивший старинный облик и планировку улиц.
(обратно)5
При росте 157 см, актер Микки Руни (1920–2014) приобрел популярность ролями бойких провинциальных подростков.
(обратно)6
Название манхэттенского небоскреба, в котором расположены офисы издательской корпорации «Тайм», владеющей среди прочего журналами «Тайм» и «Лайф».
(обратно)7
Национальный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября.
(обратно)8
Поселок к северу от Нью-Йорка, близ которого в 1924–1994 гг. располагалась главная психиатрическая клиника штата.
(обратно)9
Больница и центр биомедицинских исследований при одноименном университете в Балтиморе.
(обратно)10
Якобы чрезмерное пристрастие афроамериканцев к арбузам было одним из расистских стереотипов, не до конца изжитых до сих пор (например, эта тема использовалась в карикатурах противниками президента Б. Обамы). В XIX в. рабовладельцы говорили: «Черных нетрудно держать в узде, если хоть изредка давать им отдых и дольку арбуза».
(обратно)11
Психологический триллер (1960) Альфреда Хичкока по одноименному роману Роберта Блоха; роль маньяка исполнил Энтони Перкинс (1932–1992).
(обратно)12
Речь о бейсболисте Роджере Марисе (1934–1985), который в 1960 г. смог побить державшийся более 30 лет рекорд по хоумранам за один сезон другого прославленного игрока, Бейба Рута (1895–1948).
(обратно)13
Городок к северу от Нью-Йорка.
(обратно)14
Алан Лэдд (1913–1964) — голливудский актер, помимо прически, сходный с Уайлдером невысоким ростом.
(обратно)15
Известная фраза из фильма «Касабланка» (1942), позднее в свою очередь ставшая названием пьесы Вуди Аллена (1969) и основанного на ней фильма (1972).
(обратно)16
Одно из презрительных обращений к афроамериканцам
(обратно)17
Небольшой город в штате Массачусетс, известный своими спортивными традициями (в частности, он считается родиной волейбола).
(обратно)18
Сенатор Джозеф Маккарти (1908–1957) в 1950-х гг. фактически возглавлял «охоту на ведьм» в США — масштабную антикоммунистическую кампанию, жертвами которой стали многие политики, госслужащие, деятели культуры и науки.
(обратно)19
Эдлай Стивенсон (1900–1965) — американский политический деятель, в 1952 и 1956 гг. бывший кандидатом Демократической партии на пост президента США. В 1960 г. он проиграл Джону Кеннеди на внутрипартийных выборах, а в 1961–1965 гг. был постоянным представителем США в ООН.
(обратно)20
Места ожесточенных сражений на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны.
(обратно)21
Речь о последнем крупном немецком наступлении на Западном фронте и последующих боях в декабре 1944 — январе 1945 г.
(обратно)22
Общее название для восьми престижных частных университетов северо-востока США (включая Йельский), данное им из-за побегов плюща, которые традиционно обвивают стены старых университетских зданий.
(обратно)23
Имеется в виду Беннингтонский колледж свободных искусств в штате Вермонт. Изначально в нем обучались только девушки, но с 1969 г. было введено совместное обучение.
(обратно)24
«Я тебя люблю» (ит.).
(обратно)25
Фильм 1931 г., получивший две премии «Оскар»: за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.
(обратно)26
Голливудский фильм 1939 г. по мотивам одноименной поэмы Р. Киплинга.
(обратно)27
Главную роль в фильме «Мадам Бовари» (1949) исполнила Дженнифер Джонс, в то время бывшая женой продюсера Дэвида Селзника.
(обратно)28
Роман (1951) Джеймса Джонса, экранизированный Фредом Циннеманом в 1953 г., главные роли исполнили Берт Ланкастер, Монтгомери Клифт, Дебора Керр, Фрэнк Синатра. Фильм был номинирован на тринадцать «Оскаров» и получил восемь.
(обратно)29
Имеется в виду классический вестерн «Шейн» (1953) по одноименному роману (1949) Джека Шефера, с Аланом Лэддом в главной роли.
(обратно)30
Фильм-вестерн 1952 г., получивший четыре премии «Оскар»; постановщик Фред Циннеман, в главных ролях Гэри Купер и Грейс Келли.
(обратно)31
Этот фильм (1941) Орсона Уэллса, сюжетно основанный на биографии медиамагната У. Р. Херста, традиционно считается «лучшим фильмом всех времен и народов».
(обратно)32
Гарольд Роббинс (1916–1997) — американский писатель и сценарист, многие произведения которого затрагивали острые темы и получали громкий, в том числе скандальный, резонанс.
(обратно)33
Фильм (1959) французского режиссера Алена Рене по сценарию Алена Роба-Грийе.
(обратно)34
«Да здравствует Ирландия!» (ирл.)
(обратно)35
Франсуа Трюффо (1932–1984) — французский режиссер, один из основоположников «новой волны» в кино.
(обратно)36
Gloria in excelsis Deo (Слава в вышних Богу) — один из древнейших христианских гимнов, используемый в католическом, англиканском и православном богослужениях.
(обратно)37
«Brother, Can You Spare a Dime?» — одна из самых известных песен времен Великой депрессии, написанная в 1930 г. И. Харбургом и Дж. Корни.
(обратно)38
Одна из самых известных пьес Теннесси Уильямса, написанная в 1947 г. и в первый раз экранизированная в 1951 г.
(обратно)39
Джеймс Кэгни (1899–1986) — голливудский актер, на редкость убедительно игравший роли гангстеров и разного рода «плохих парней».
(обратно)40
При сопоставлении буквенных оценок, принятых в американских школах, с цифровыми оценками «В» примерно соответствует четверке, а «В+» — четверке с плюсом.
(обратно)41
Песня И. Берлина «Когда я открыл тебя» (1914).
(обратно)42
Эдди Фишер (1928–2010) — американский эстрадный певец и телеведущий.
(обратно)43
Фред Астер (1899–1987) — американский актер, танцор и певец, новатор жанра музыкальной комедии, где выступал в паре с Джинджер Роджерс (1911–1995).
(обратно)44
Песня из бродвейского мюзикла «Робинзон Крузо-младший» (1916), роль Пятницы в котором исполнил певец и шоумен Эл Джолсон (1886–1950).
(обратно)45
Уолтер Кронкайт (1916–2009) — американский тележурналист, ведущий вечернего выпуска новостей на канале CBS в 1962–1981 гг.
(обратно)46
Часть длинного (36 км) бульвара Сансет, на которой сосредоточено множество ресторанов и ночных клубов.
(обратно)47
Здесь, вероятно, имеется в виду Уолтер Кин (1915–2000), под именем которого в 1960-х гг. успешно продавались картины, в действительности написанные его женой Маргарет Кин (р. 1927). Об истинном авторстве стало широко известно только в 1970 г. Характерной чертой портретов Кин являются чрезмерно большие глаза изображенных детей и женщин.
(обратно)48
Улица на Манхэттене, известная своими фешенебельными магазинами.
(обратно)49
Убийство гангстерами из группировки Аль-Капоне семерых членов конкурирующей банды, совершенное в Чикаго 14 февраля 1929 г. Это событие легло в основу фильма, вышедшего на экраны в 1967 г. (режиссер и продюсер — Роджер Корман).
(обратно)50
Кровопролитный штурм американцами японского острова Окинава, продолжавшийся с начала апреля по конец июня 1945 г. Японский фильм об этой битве вышел в 1971 г. (режиссер — Кихачи Окамото).
(обратно)51
Речь идет о песне «Я оставил свое сердце в Сан-Франциско» (1962), которая стала хитом в исполнении эстрадного певца Тони Беннетта (р. 1926).
(обратно)52
«Я никогда больше не улыбнусь» (англ.) — песня, написанная в 1940 г. Рут Лоу и ставшая хитом в исполнении Фрэнка Синатры.
(обратно)53
«Все, чем являешься ты» (англ.) — популярная песня из мюзикла «Очень тепло для мая» (1939) Дж. Керна и О. Хаммерстайна.
(обратно)54
Речь о Сэмюэле Голдвине (1879–1974), одном из самых успешных и авторитетных продюсеров в истории Голливуда.
(обратно)55
Имеется в виду Мартин Лютер Кинг (1929–1968), видный оратор и проповедник, лидер Движения за гражданские права чернокожих.
(обратно)56
Эмметт Тилл (1941–1955) — афроамериканский подросток, зверски линчеванный в штате Миссисипи якобы за оскорбление белой женщины. Это убийство получило широкий резонанс и привело к массовым протестам афроамериканцев по всей стране.
(обратно)57
Слова из песни «Возьми меня на бейсбол» (1908), считающейся неофициальным гимном американских бейсбольных болельщиков.
(обратно)58
«Огни большого города» — культовый книжный магазин и одноименное издательство, основаны в Сан-Франциско в 1953 г. поэтом-битником Лоренсом Ферлингетти (р. 1919).
(обратно)59
Живописный гористый участок калифорнийского побережья между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, место действия романов «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха» (1957) Генри Миллера (1891–1980) и «Биг-Сур» (1962) Джека Керуака (1922–1969).
(обратно)






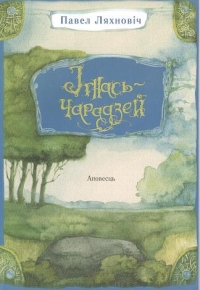
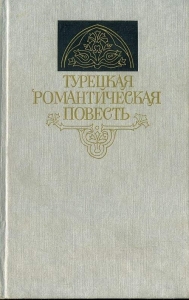


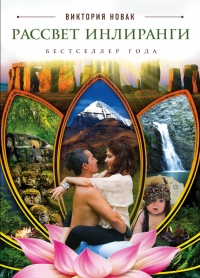
Комментарии к книге «Нарушитель спокойствия», Ричард Йейтс
Всего 0 комментариев