Н аат а .ш иияя.
Мееищаажш нова
Мееищаажш нова
к|
к|
рассказы!
Мещанинова Наталия Викторовна
М 56
М 56
Рассказы. — СПб.: Сеанс, 2017. — 128 с., ил.
Наталия
Наталия
Мещанинова — кинематографист, автор сценариев к фильмам «Еще один год» Оксаны Бычковой и «Аритмия» Бориса Хлебникова. В 2014-м Мещанинова дебютировала как режиссер с фильмом «Комбинат „Надежда“». Эта книга — ее литературный дебют. Проза Мещаниновой — яростная и нежная, прямая и личная, видимая и ощутимая.
I5ВN 978-5-905669-33-0
© Мещанинова Н. В. © «Сеанс», 2017 (состав, макет)
содержание
страхи 4
литературный эксгибиционизм 20 секреты 38
гены 54
желание 80
ма 110
5!
X ей а н о
С самого раннего детства почти все мои страхи были связаны с матерью. То ли от того, что она была «сердечни- ца» (врожденный порок сердца), то ли от того, что в детстве лет до шести я ни разу не видела свою мать счастливой, а только в истерике... Короче, с самых молочных зубов я больше всего боялась, что она умрет. Ее собьет машина. Да, она бу-
дет возвращаться с работы и ее собьет машина. Уже сбила. Я смотрю в окно, сидя по-лягушачьи на подоконнике, — она не идет с работы. Вот приехал автобус, вот все идут муравьиной цепочкой от остановки по домам. А мама не идет. Ее точно сбила машина! Или нет. Она выпадет из окна. Просто будет вешать белье или мыть окно и не удержит равновесия. Выпадет. Пятый этаж, трудно выжить, выпав из окна. Или нет. Она умрет от инфаркта. Один инфаркт уже у нее был. Второй не пережить. А если что-нибудь случится со мной? Она умрет от горя. Или от инфаркта, который будет от горя.
Мать нельзя было волновать — я это быстро усвоила. Поэтому я с пеленок научилась искусно врать. Это не избавляло мать от волнений, но создавало иллюзию того, что я ее берегу, и мой страх за ее жизнь немного отступал. Для матери у меня всегда было все хорошо — я училась на пятерки, посещала кружки, писала стихи, убирала в комнате игрушки. Страх расстроить мать был сильнее правды, сильнее эгоизма. Страх потерять мать был парализующим.
Еще я очень боялась войны. Не знаю, откуда это взялось, меня войной никто не пугал, и хотя дедушка был ранен на войне, он ни разу не растревожил мое воображение рассказом о боях. И кино про войну я не смотрела — мне была невыносима даже мысль об этом. Думаю, что страх войны пришел из сна. Он повторялся, почти всегда один и тот же — я мужчина, воин, я мчусь через поле к лесу. За мной летит немецкий вертолет, я чувствую спиной, что автоматная очередь, бегущая по мокрой траве, сейчас настигнет меня. Так и происходит — меня прошивает огромными пулями и мне адски больно. Я слышу торжествующую немецкую речь. Дальше я умираю. Потом просыпаюсь, но не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, закричать тоже не могу, лежу мертвым бревном и думаю: вот теперь, когда меня убили на войне, моя мать точно помрет от горя. Сны про войну, шелестя как тараканы, переползали из ночи в ночь. Они чередовались со снами, где мать падала со скалы и с глухим стуком разбивалась о камни.
Подружка сказала — надо написать свой страх на бумажке, как будто это уже случилось, но обязательно шифровкой, и тогда страх пройдет. Я где-то вычитала шифр: пишешь алфавит сперва сверху вниз, потом напротив его же — снизу вверх. Получается такой шифр: А-Я, Б-Ю, В-Э и так далее. Написала этим шифром: Фяфя стсяхя сты фязчун (мама попала под машину). И положила куда-то на полку. Мать нашла, подумала, что я опять лунатила, понесла женщинам на работу показать, что вот, я лунатик, пишу во сне всякую херню. Женщины поудивлялись и бумажку затерли. А потом мама, спустя несколько лет, и вправду попала под машину и еле выжила. Мы, все, кто ее знал, литрами сдавали кровь. Я настаивала, чтобы у меня брали больше крови, больше! Приходила каждую неделю в станцию переливания крови, меня выгоняли, потому что нельзя часто сдавать кровь. Мать долго находилась между жизнью и смертью, я жила в ее больничной палате. Когда она особенно тихо спала, я с ужасом смотрела на ее живот. Нет, фух, он еле-видно приподнимается, она дышит, она жива. Я во всем винила себя. Зачем было писать это, да еще и шифром? Мне казалось, что это подействовало, как заклинание. Что напишешь — то сбывается. Эта теория подтвердилась неоднократно, но была сама по себе не сильно доказательная, никто не верил мне, что нельзя писать плохого — сбудется.
Но это все потом, а тогда, в детстве страх маминой смерти был необоснованным, где-то внутри меня уже существовала эта потеря, стоило о ней подумать, как она отзывалась тягучей болью. Я никогда не говорила маме об этом.
Но было много и реальных страхов! Плохие компании. Плохие кучки прыщавых подростков перед школой, грязные, воняющие табаком руки тянутся к твоей позапрошлогодней, но чистенькой юбочке. Приходилось выжидать на дороге и идти рядом с кем-то из учителей. «Здрааааасьте, Инна Александровна! А я с вами! Ага! Все хорошо! Выучила уроки, как же!»
Весь класс — одна сплошная плохая компания. Девочка мастурбирует на уроках литературы, краснеет лицом. Все, кроме учительницы, понимают, чем она занимается. После урока, в подсобке, что только не творили с этой девочкой. Она от стыда не кричала, а только пыхтела. Страшно, страшно, надо выйти вон из класса, в коридор, на перемену, пусть там отхватишь от кого-то из старших по заднице или по самолюбию, но только не слышать из подсобки эту возню с этой девочкой, эти сдавленные смешки, это странное повизгивание. Почему учителя ничего не замечают? Почему после звонка они сомнамбулически стекаются в учительскую? Почему разрешают им пыхтеть в подсобках?
Мама, я не пойду сегодня в школу. Мама, нога. Нога болит очень. Не надо к врачу, это ревматизм (откуда взяла этот ревматизм?) Мать почему-то верила. Верила любой моей, даже самой нелепой лжи!
Вечер. Мать кричит из коридора: Наташа! К тебе пришли! Я вижу через ее спину в проеме двери ЕГО, самого плохого из самых плохих, я хожу через его пролет каждый день, он со второго этажа. Я пробегаю мимо его двери стрелой, и мне всегда кажется, что он смотрит в глазок и усмехается самой дрянной и испорченной из своих ухмылок.
МАТЬ! Как ты не видишь — ведь он из плохой компании! Мать! Зачем зовешь ты меня к нему! Зачем не сказала ему, что меня нет? Нет и не будет. Зачем не хватаешь его за ухо и не грозишь ему расправой, а вместо этого зовешь меня таким приветливым голосом, будто это пришел мой лучший друг делать оригами??? Выхожу. Он облапал глазами и почему-то пнул ногой между моих ног. Как бы под яйца, если бы они у меня были. «Завтра принесешь мне деньги. Сколько есть. Или я прыгну на тебя с дерева».
Он прыгал на меня с дерева регулярно, потому что денег у меня не было. Их там в плохих компаниях обучали, что ли, с деревьев прыгать, не знаю. Я собрала вещи и кое-что из съестного и пошла по рельсам. В Москву. Выяснив предварительно, что идти надо на север. Но так как я проболталась одной из подружек о своем походе, то меня под вечер свернули. Мама заламывала руки. Я поняла, что не сберегла ее покой, мысли о Москве были недопустимой роскошью. Нужно было как-то выживать здесь. Нужно было самой стать плохой компанией. Потому что хороших компаний в нашем поселке не было, им даже неоткуда было взяться. Все компании были плохие, плохие, отвратительные и очень опасные. Опасные игры в лесополосе вдоль железной дороги. Что только не происходило в этой лесополосе, наполненной трелями соловьев и цветением акации. В пять лет — привязать девочек к дереву и хлестать крапивой, пока они не изойдутся в истерике, пока не покраснеет все их тело. Потом надо врать матери, что упала в крапиву случайно.
В десять — ложиться на шпалы между рельсами и ждать приближающегося поезда, который должен проехать над тобой, а ты должен не обосраться. Заставили всей компанией лечь так одного мальчика — он пролежал. Потом его мать отвезла в город, жить к бабушке, навсегда. Больше мы его не видели. Видимо, мальчик все же обосрался и плохо умел врать. Мальчик был достоин презрения, мы о нем не вспоминали. Я старалась не вспоминать о нем от стыда, но обосравшийся мальчик не давал покоя. Хотелось получить от него письмо. Хотелось, чтобы он написал мне что-то вроде — «я не обосрался, живу с бабушкой, потому что она при смерти и за ней нужен уход. После того, как я пролежал под поездом, я многое понял и стал мужчиной. Передавай привет всем нашим...» и т. д. Но конечно, никаких писем он не слал. И отправили его к бабушке подальше от плохой компании. У меня вот такой бабушки не было. Она была, но отправить меня к ней было нельзя — бабушке казалось, что я слишком много жру, и к тому же она плохо переносила внуков.
Вообще, искать защиты у взрослых было гиблым делом. Им тоже верить было никак нельзя. Я на этом сильно обожглась. Как-то сбежала из продленки и слонялась по поселку с целью убить время. Мать на работе, ключа от квартиры у меня нет. Обедом покормила соседка. Я тусила возле магазина, и ко мне подошел незнакомый дяденька с велосипедом. Я его раньше не видела никогда. Он был приятный. Он сказал, что он друг моего папы. Папа жил уже пару лет как в другой семье, и его друзей я знать не знала. Поэтому вполне могла допустить, что вот у папы может быть такой приятный друг с велосипедом. Мы с ним поехали кататься. Он немного повозил меня по поселку, а потом сказал — поехали в лесопосадку.
Было тепло, апрель или даже май, лесопосадка уже покрылась зеленью и запахла. Мы заехали в нее, как в сказку, — трава была высока и густа. Друг папы ссадил меня с велосипеда и слез сам. «Полежим?» — предложил он и лег в траву. Я тоже легла в траву. Он сказал — знаешь, а хорошо лежать в траве голыми. Я в этом не была уверена, я лежала уже голой в траве, у меня потом все чесалось еще три дня. Но друг папы был уверен и стал снимать с себя штаны.
На мое счастье, друг папы никогда не был в нашей лесопосадке и не знал, что через нее частенько ходят люди с поезда. Она вся испещрена тропинками. Из-за высокой травы друг папы тропинки не приметил. Когда он снял штаны, по тропинкам пошли люди, они появились тихо и внезапно. Друг папы сильно засуетился. А потом случилось страшное — по тропинке зашагала с поезда воспиталка из продленки. Она увидела лежащую меня и друга папы, который с сильной улыбкой застегивал ремень. Она сказала: «Тааааааак.» Она когда говорила это свое — «тааааак», я вжималась в пол. Друг папы тоже вжался в пол. Потом она сказала: «Ну-ка! Вы кто такой?» Он пролепетал, что он друг моего папы. Она сказала: «И как зовут ее папу, интересно?» Он ответил: «Николай. Петрович?» «Нет! — восторжествовала она. — Его зовут Виктор Федорович». Я посмотрела на друга папы с презрением и покачала головой. Эх, ты! — подумала я. Эх! А ведь мы могли бы так здорово дружить!
Они еще долго разбирались, она хотела вызвать милицию, но тогда же не было мобильников, надо было пилить до телефона-автомата. А лживый друг папы отказывался куда-либо пилить. Они пререкались минут пять, и друг папы исчез. Вос- питалка переключилась на меня. Повела домой, голосила по дороге во все горло, а встретив мою мать в магазине, заголосила еще сильнее и рассказала ей в черных красках, как я лежала с другом папы. Предательница, подумала я. Подлая тварь. Она не понимает, у нее нет мозга! Она не понимает, что мою мать нельзя волновать, что второго инфаркта ей не пережить!
Мать отвела меня домой и отпиз- дила скакалкой от бессилия. Тогда я поняла очень четко, что дружить со взрослыми тоже нельзя.
Хотелось дружить с призраками, или с человеком-невидимкой, или с инопланетянами. Чтобы они были сильные и честные, чтобы они защищали меня. Все призраков боялись, я же искала встречи с ними. Так и не довелось. Хотя я несколько раз успешно симулировала контакт перед своей матерью, и она опять мне поверила. Потом рассказывала женщинам с работы про то, что я не только лунатик, но и медиум. Я, упиваясь своим враньем, рассказывала матери, кто приходил из мертвых, кто когда прилетал из инопланетян. Но настоящих мертвых я так и не встретила. Обидно. За всю жизнь свою — ни одного призрака! Только реальные были друзья, из плоти и крови.
Опасная наша компания немного повзрослела. Началось курение, травка, алкоголь — все в этой же лесопосадке. Затем последовали ранние соития.
И тут — ужасная новость, всколыхнувшая весь поселок, покоробившая даже самых плохих. «Семеро подростков зверски изнасиловали и убили пятиклассника в лесопосадке. Зашили ему рот, чтобы не кричал, просунули ему колючую проволоку в задний проход и проворачивали ее, пока она не вылезла из горла.» Там было много подробных описаний, их страшно себе даже представить. Подростков поймали и вроде как куда-то посадили, но потом они вышли через два года, все до единого. И ходили на наши дискотеки в ДК. Семеро убийц стояли с пивом в руках, разглядывали танцующих девочек, а те почему-то все сильнее выгибались. Тогда было очень модно танцевать, выгибаясь всем телом. А за ходом дискотеки наблюдала работница дома культуры, женщина 45 лет, Вера Федоровна. Наблюдала благостно за тем, как выгибаются девочки и сосут пиво убийцы. С легкой полуулыбкой человека, у которого все под контролем — и убийцы, и девочки.
Нужно было уйти с дискотеки раньше всех, но сделать вид, что ты еще не уходишь, что ты так, секундочку подышать — и вернешься. А сама, пригибаясь, незаметно, вдоль высокого парапета, по клумбе, которая в тени, — через дорогу, под деревья, и домой, домой! Чтобы никто из убийц не увязался за тобой, чтобы они были уверены, что ты еще повыгибаешься перед ними, а потом у них будет возможность тебя «проводить» — то есть преследовать и при удаче — выебать в лесопосадке. И вот было важнее всего — успеть уйти с дискотеки раньше, проскользнуть мимо той двери второго этажа, за которой таится прыгун, незамеченной, а потом тихонько, стараясь идти беззвучно, добираться до своего пятого этажа. Нужно было предварительно выяснить, есть ли там кто, в темном пролете между четвертым и пятым. Потому что там часто кто-то был, выбивал лампочку, поджидал меня, не пускал домой, к маме, которая ложилась рано и спала блаженно, не зная, что в подъезде ее дочку тискают плохие парни — обязательно будущие убийцы. Спи мама, спи в своей колыбели виноградных лоз, у него в кармане колючая проволока, щас он ее достанет и назавтра все ужаснутся, а ты, конечно, неизменно умрешь от горя.
Потом кто-то разрезал ватную дверь, входную ватную дверь в нашу квартиру с номером 15. Рррраз так, ножичком по всей ее длине прошелся. И от злости написал на стене в подъезде «Наташа, соси хуй». Желтая дверная вата бесстыдно вывернулась из раны. Это был такой позор! Потом кто-то замазал эту надпись. Мы зашили дверь. Потом кто-то разрезал ее повторно в другом месте. Мы снова зашили.
Новый кошмарный сон в копилоч- ку — я поднимаюсь на пятый этаж, а там злой и с голой писькой прыгун с деревьев режет ножом дверь, а из нее течет кровь, потому что эта дверь — и есть моя мать. Вся площадка в крови, нож и писька этого прыгуна в крови. Сон, повторяющийся с завидной регулярностью, затмил собой сны о войне, такие милые и героические сны о войне...
Мама, давай переедем, а? Давай переедем в Абрау-Дюрсо? В Выселки?
В любые ебеня, мама! Да, да, переедем, рассеянно говорила мама, мы еще на Камчатку хотели съездить же! Мама, я серьезно! Я не могу здесь жить! Да-да! Когда-нибудь обязательно переедем! Сейчас, мама, сейчас!
Она не переехала до сих пор, так и живет там среди убийц и прыгунов с деревьев, которые теперь уже переженились, расплодились и затекли жиром. А она живет в квартире с израненной, шитой-переши- той ватной дверью. Ходит в магазин мимо сидящих с колясками убийц, грызущих семки. Они здороваются с ней, как со своей. Все поутихло. И на пятом этаже уже никто никого не караулит.
Я приезжала к ней и заглядывала во все уголки своего страха с бутылкой коньяка в зубах и мужем под руку. Мы прикладывались к горлышку, бродили по поселку пьяные и высмеивали эти страхи. Я отважно хохотала, сгибаясь в три погибели. Старалась спрятать мертвый холод в животе за коликами смеха. Мертвый холод немецкого свинца, колючей проволоки, стального лезвия ножа и страшной голой письки.
литературный
эксгибиционизм
В 14 я прочла «Дневник Лоры Палмер» и решила, что если не начну писать свой собственный, то никто никогда так и не узнает, как я жила и была убита (в 14 мне хотелось быть убитой как-то громко и со вкусом). Я купила общую тетрадь, поставила дату на первой странице и написала, как Лора Палмер: «Дорогой дневник»... Дальше было непонятно, че делать.
Надо было как-то представиться. Я написала что-то вроде: «Меня зовут Наташа, мне 14 лет, и я учусь в девятом классе. Еще я занимаюсь спортом — греблей на байдарках и каноэ. И мне ужасно нравится Сашка Шипулин — он будущий чемпион по гребле. Но я ему не нравлюсь. Он такой красивый, а у меня прыщи. Мама сказала — надо печь ему пирожки, потому что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я учусь печь пирожки в духовке из дрожжевого теста». Перечитала. Написанное мне не понравилось по двум причинам. Во-первых, все это было похоже на школьное сочинение, а я так не хотела. Во-вторых, сразу, с первой страницы я представлялась в каком-то таком свете. как будто я страшная и толстая, а это было не так. Прыщи хоть и были, но подружка Марина сказала, что они сойдут, стоит только поебаться с парнем. Она уже с парнем ебалась и проверила все на себе — прыщи исчезли. Поэтому мне не хотелось как-то увековечивать свои прыщи и эти дурацкие пирожки, ведь это скоро изменится. И к тому же, сравнив свои несколько строк с дневником Лоры Палмер, я поняла, что мой — никуда не годится, курам на смех.
В общем, я вырвала страницу.
Про обыденность писать не хотелось. Описывать каждый свой день, что я делала, кто и что мне сказал, что произошло за день — это было как-то по-детсадовски. Хотелось писать про свой внутренний мир. Про то, что меня волнует.
Дневник нужно было начинать таинственно. Я написала на чистом листе что-то вроде: «Я — Натали. Мне 14 лет, но я уже созрела.» Мне понравилось тогда, что я написала, что уже созрела. Не ясно — для чего я созрела, но это было хорошо, это было многообещающе. Я написала дальше: «Моя любовь переполняет меня» (не будем упоминать, что не взаимно), «Мой избранник — красивый, с чувственными губами мужчина. Вчера, возвращаясь с тренировки (не будем упоминать, что за тренировка, пусть останется тайна), я шла по парку, и мое сердце заколотилось. Я почувствовала, что он догоняет меня, мой демон, мой черный ангел. Я обернулась, ветер растрепал мои светлые волосы, я увидела, как он быстрым шагом догоняет меня! Я не буду описывать здесь, что было потом, — но это было головокружительно. Мои губы еще долго ныли и зудели, мои руки еще долго хранили его запах. Он проводил меня на автобус и скрылся в ночи. Я буду ждать встречи с ним завтра, завтра у фантомаса.»
Написанное мне очень понравилось. Очень. Это было похоже на начало какого-то романа с подробным описанием сексуальных сцен. Я один такой прочла, когда мне было еще 12. Назывался он как-то типа «Венецианская блудница». Оттуда я все узнала про Венецию, выучила пару фраз на итальянском и спиздила несколько метафор про совокупление. Называть секс сексом мне не хотелось, а вот написать что-то вроде «единорог ворвался в долину» было как-то. высоколитературно, на мой тогдашний вкус.
Первой страницей дневника я осталась довольна. Хотя на деле, конечно, все было совсем не так. Тем вечером, после окончания тренировки, я долго бродила вокруг мальчуковой раздевалки, пытаясь понять, когда Шипулин пойдет домой. Потом меня кто-то заметил и спугнул. Я ушла в парк и решила, что посижу в камышах у воды и понаблюдаю за дорожкой. Когда увижу вдалеке Шипулина — незаметно выйду из камышей и медленно пойду впереди него. Он ходит быстрее, поэтому догонит меня, мы разговоримся, и он проводит меня на автобус. Этот трюк я уже проделывала как-то раз, и он сработал — Шипулин не только проводил меня на автобус, но и купил беляш! Так вот, в тот вечер я слишком глубоко забралась в камыши (а была ранняя весна, было сыро) и провалилась кроссовком в вонючую липкую зеленую субстанцию. Из-за этого я разревелась и долго не могла остановиться. Было мало того, что мокро и противно. Оно еще сильно воняло гнилью! А потом вдалеке на дорожке показался Шипулин, но не один, а с тремя пацанами из его группы. И мне пришлось так и сидеть в камышах, потому что нельзя было показаться им на глаза с таким кроссовком. Они спокойно прошли мимо меня, не заметив (было уже темно), а я, еще прорыдав какое-то время, поплелась на свой автобус. Но писать про это в дневнике было стыдно. Если кто-нибудь прочтет, то не захочет читать дальше и не узнает, какая я на самом деле отчаянная, гордая, таинственная красавица-блондинка. Да и. к слову, я не была блондинкой, у меня от рождения серо-русые такие, бесцветные волосы. Но! Я уже написала в дневнике, что волосы мои светлые, и картинка того, что их треплет ветер, — мне нравилась. Через какое-то время я покрасилась гидроперитом и стала полноправной блондой. Так началась эпоха вранья в дневнике.
Я упивалась литературными оборотами, пиздила, если мне не хватало слов, что-то из книжек, делилась фальшивыми фактами и подтасованными переживаниями. Но зато дневник был идеален. Почти как у Лоры Палмер. Кстати, у нее я тоже спизди- ла одну запись и целиком перенесла в свой дневник — запись совпадала с моей ситуацией: кто-то большой, взрослый и злой мучает меня и хочет убить. Так и было. Был в моей жизни один большой, взрослый и злой убийца моего детства, мамин муж, мой второй по счету отчим. Но я так боялась написать о нем впрямую! Невозможно было себе представить, что некие будущие биографы находят мой дневник и читают всю правду о том, что делает со мной этот человек. Нет! Нет! Нет! Только не это! На такое вскрытие я была неспособна. Пусть будущие биографы читают в моем дневнике обрывки дневника Лоры Палмер.
Поэтому про свой «первый раз» я тоже беспощадно соврала. Я подробно, используя метафоры из романов «Французский напиток любви» и «Рабыня страсти» описала свой первый секс. Упивалась романтизацией и даже демонизацией самой себя как роковой женщины. И все это не имело ко мне и к моему настоящему «первому разу» никакого отношения! Там был описан другой человек, там все было взаимно, неспешно, сладостно. Короче, запись была нестыдная, хорошая. Возвышающая читателя, можно даже так сказать, на высоты добра и любви. Альтернативная реальность, сладкий сон, ни слова нелицеприятной правды.
Спустя пару дней по закону подлости мой дневник прочла моя мать. На кухне, за лепкой пельменей, она завела со мной издалека разговор о том, что вообще происходит между мужчиной и женщиной, когда они влюбляются и бла-бла. Я сразу просекла, что мать читала дневник, и приперла ее к стене. Она созналась: «Да, прочла. И хочу тебя спросить — это правда? Ты уже не девственница? Ты встречаешься с этим прекрасным парнем, про которого написала?» (с Сашкой Шипулиным) Я ответила, что да, истинная правда. Мы поплакали немного над моей невинностью. Я сказала, что хочу за него замуж, мать одобрила мой выбор (это очень странно, мне было 14 лет), она, видимо, понимала, что я тоже созрела, тем более что я это написала на первой странице своего дневника.
Короче, доиграв роль юной невесты, упавшей в объятия любви и страсти, я пошла в свою комнату, закрылась там на замок и стала перечитывать дневник. Нет, все ровно. Нигде не спалилась. Ни слова правды. Фух. Что сделалось бы с моей мамой, если бы я написала все, как было на самом деле? Даже интересно, что с ней сделалось бы? Она убила бы его? Меня? Себя? Сошла с ума? Ударилась бы в православие? Плакала бы? Разлюбила бы меня?
А может — защитила бы меня? Обняла бы меня? Увезла бы меня? Спрятала? Нет, это вряд ли. Вряд ли. Даже фантазировать, что было бы, если бы мать узнала правду, — невыносимо. Да и зачем? Все обошлось! Я дальновидна и хитра. Я знала о том, что читатель рано или поздно объявится и перед ним нельзя ударить в грязь лицом.
Меня несло.
Когда Шипулин бросил меня, в смысле даже не бросил, а просто перестал провожать на автобус и сказал, что ему впадлу стало, я унизительно долго писала ему какие-то записки и звонила на домашний, часами разговаривая с его мамой о ее делах. Я даже пришла к его маме в гости, надеясь там Шипулина застать, но его не оказалось. В дневнике я не могла написать, как я безуспешно добивалась Шипулина. Поэтому там красовалась запись такого толка: «Нас разлучила судьба... Но я всегда буду помнить о тебе, мой ангел! Невозможность прикоснуться к тебе сводит меня с ума. Ты так близко, ты смотришь на меня своими темными глазами (хотя глаза-то у него были светлые) и знаю — что хочешь мне что-то сказать. Молчи! Молчи! Не говори ничего. Мы жертвы судьбы. Я знаю, что ты мучаешься так же, как и я.» ну и так далее. Причина расставания в дневнике не указывалась. И меня это тревожило. Это белое пятно мне читатель мог и не простить. Тогда я написала «Я скоро умру. Диагноз — белокровие. Я прощаю тебя и отпускаю. Ты не должен любить меня. Будь счастлив. Мне осталось два года, и я до последнего вздоха буду любить тебя». Мне очень понравился диагноз как причина. Это все объясняло, и я выглядела так жертвенно и великодушно! Я даже пожалела, что никто не знает о моей болезни. И я зачем-то сказала Маринке о том, что мне осталось два года. А Маринка сказала Сашке Шипулину. А Сашка Шипулин обосрался и сказал своей матери. А его мать обосралась еще больше и позвонила моей. И все. Пиздец. Я до сих пор помню, как кадр из кино, — длинная до неба дорога, вдоль нее тополя-пирамиды, солнечное затмение, все желто-красное. Я иду по этой дороге, а навстречу мне бежит моя мать, заламывая руки, и плачет. Это она только что узнала о белокровии. А сзади семенит Шипулин — о Боже! Его проняло! Шипулин!
Самое странное из всей этой истории, что моя мать не повела меня к онкологу. Она только спросила, с чего я взяла, что больна. Я придумала прямо на ходу, что проходила диспансеризацию и сдавала кровь. И медсестра, которая отдавала анализы, сказала, что у меня белокровие. Матери этого объяснения было достаточно. Наивная душа — она ничуть не усомнилась, что медсестры могут ставить диагнозы. Дальше было вот что. Меня решили лечить у бабки, которая живет в Адыгейском ауле. Ехать к ней полдня, к этой бабке. Мы все поехали — я, мать, Шипулин и его мать. Приехали, значит, долго ждали во дворе, я сидела трагически спокойно и обреченно, с видом человека, все понявшего про жизнь и смерть. Вышла бабка, поводила надо мной руками. Спросила, че вообще? Обе наши матери на два голоса — у ребенка рак крови! Бабка мгновенно подтвердила — да, у ребенка рак крови, это правда. 10 сеансов. Сколько-то там тыщ рублей (не помню, сколько). И рака не будет. Обе матери взвизгнули от счастья. Моя достала кошелек.
А дальше началось самое прекрасное — Шипулина обязали со мной ездить на эти 10 сеансов. И он ездил. Мне было несказанно хорошо. Но все закончилось. На 10-й сеанс мы приехали снова вчетвером, и бабка клятвенно всех заверила, что рак вылечен. Для полноты уверенности мы можем пойти и сдать анализы. Почему моя мать не пошла сдавать анализы перед тем, как платить бабке??? Неважно, мне эта тотальная глупость была только на руку — я на время заполучила Шипулина. В общем, сдали мы анализы, белокровия, конечно, как не бывало. Праздник! Шампанское! Слезы радости! Наши матери напились и пели застольные песни, а мы сидели с Шипулиным друг против друга и обнадеживающе улыбались. Но сразу после этого праздника Шипулин меня бросил во второй раз. И об этом я вообще не стала писать в дневнике.
Вместо этого я с упоением писала в общих чертах о любви, о смерти, о расставаниях, о безжалостной судьбе, о снах, о венах и лезвиях, о полетах, о красоте и вечности. О несуществующих отношениях и поездках. В своих записях я всегда была дерзкой на язык, очень гордой и неприступной. Но ни одной настоящей драмы не было описано в моем дневнике. Я писала: «Барабаны замолкли, гул голосов превратился в душераздирающий вопль. Я тихонько подвываю на руинах своего счастья. Черная бабочка села на мое плечо, на горизонте рдеют пожары, я ухожу.» И так далее. Абстрактная хуй- ня, не имеющая отношения ни к чему. И этой хуйней был исписан весь мой дневник — три общие тетради.
Однажды только я написала на отдельном листке такой корявый текст: «Спасите, спасите меня кто-нибудь. Чтоб он сдох. Я хочу, чтобы он сдох, попал под трамвай. Я хочу, чтобы его ебаный дом сгорел, чтобы он сам сгорел в этом доме. Я вырасту и убью его. Я убью его мать, как ты
ни плачь. Ебаный проклятый дядя Саша и ты проклятая мать!»
Я запихнула этот листок подальше в шкаф, к своим многочисленным школьным тетрадям. Но однажды, когда пришла откуда-то домой, увидела, как мать роется в этом шкафу. Я приросла к полу и в полной мере осознала выражение «волосы зашевелились». Она его УЖЕ ПРОЧЛА? И ищет еще? Я не видела ее лица, видела только спину и руки — руки работали энергично. Я боялась окликнуть ее, мне казалось, что если она обернется и посмотрит на меня, она, уже обладающая знанием о существовании этого листка, — я умру на месте. Но мать, вопреки моим страхам, наконец извлекла из моего шкафа какой-то дурацкий журнал по вязанию и принялась его яростно изучать. Я обмякла. Ночью порвала этот листок на мелкие клочки.
После этого интерес к писанине пропал. У меня появилось в некотором роде спасение — настоящие долгие и типа серьезные отношения с парнем. Я старалась ночевать у него как можно чаще, хоть и не любила. Потом вскорости — поступление в университет. Работа на телеке. Потом я вышла замуж. Было не до дневника. От того ужаса я прекратила писать года на три, но потом страсть вернулась. Я достала дневник с полки и решила перечитать. Ужаснулась. Написала на обложке «Дневник образцового содержания». Посомневалась. Выпила джин-тоник «Очаково», взяла дневник под мышку и пошла во двор ночью с ним расправляться. Развела костерок и красиво кидала в него страницы якобы своей жизни.
На день рождения подруга подарила мне тетрадь из такой тонкой папирусной бумаги. Взглянешь на эту тетрадь, и сердце радуется. Тетрадь была похожа именно на дневник. В эту тетрадь нельзя было писать ни слова лжи. Я снова купила джин-тоник, заперлась в своей комнате и открыла папирусную тетрадь. Только правду. Да. Я сильно тужилась, стараясь сформулировать, что же по-настоящему в данную секунду меня вскрывает. Оглядела свою комнату. И написала: «Мне нужно исчезнуть отсюда. Навсегда! Все это — не про меня. Все, что окружает меня, мне противно. Свадьбы, дети, собаки — это не про меня. Если я не уеду в ближайшее время, тоска меня сожрет».
Опять постаралась красиво написать, вот же блядь! Подумала я про себя. Нет удержу от литературности! Нельзя, что ли, как-то попроще? Ну ладно, хуй с ним. Но это хотя бы правда. Правда? — перепроверила себя, — правда. Да. Я действительно так искренне думала.
Дальше я написала: «Сегодня ночью я шла через свой двор, где когда-то в детстве познавала мир, как могла. И поняла, что я очень сильно изменилась. Совсем изменилась. Двор не изменился почти никак — и он дарит другое детство другим детям. Я же сильно огрубела и одновременно истончилась. Я смотрю на себя в отражение окон, новых пластиковых окон моей ужасной комнаты, которую я так ненавижу. Говорят, что детская комната хранит невинность и как бы первозданную чистоту. Моя же — корявая, пыльная, молчаливая — таит в себе стыд. Я смотрю на себя в отражение и думаю — у меня нет дома. То есть по факту он есть — вот он, я тут родилась и выросла, я тут прописана, тут живет моя мать со своим, уже новым мужчиной, они кстати, сейчас трахаются за стенкой. А тот, тот ебаный дядя Саша — он же и вправду сгорел в своем доме. Нашелся и на него убийца. Как хорошо, что это не я. Господи, как хорошо. Я пойду в дурнопахнущую жаркую кухню и налью себе воды. Это вроде как мой дом. Я знаю каждую его занозинку и каждый скрип деревянного пола. Но ощущения — нет. Это все-таки не мой дом. А где мой дом? Меня часто посещает смутная тоска по дому. Где он — я не знаю. Когда я доберусь до него? Каким он будет? Надо бежать, бежать из этого города, где все кричит обо мне — слабой и поверженной, из этого дома, двора, поселка, от этих людей, от своей матери, от своего мужа, от своих друзей. Я больше никого не могу здесь любить. Я на это больше неспособна. Меня нельзя остановить».
Я выдохнула и перечитала. Это правда? Да.
«Я сволочь. Я не люблю людей. Во мне ничего нет, и я не понимаю, зачем вам всем меня останавливать, зачем принуждать жить с вами. Зачем вам любить меня, мои мнимые близкие?» Я снова перечитала. Все правда.
Почти счастливая, я уснула. Но закон подлости опять сыграл со мной злую шутку. Мать снова нашла дневник, и как встарь — его прочла. На этот раз она не стала намекать на это, а взяла его и поехала в город к своей сестре, моей тетке. Весь вечер они там читали, перечитыва
ли, плакали, тетка пила водку, мать корвалол. Говорили, видимо, о том, как я могла, при таких приличных в сущности родителях и родственниках, вырасти такой жестокой и неблагодарной тварью.
Тетка вызвала меня на разговор — прямо пригласила в кафе, заказала нам обеим по коньяку. Потом говорит, мол, придержи-ка свой литературный эксгибиционизм. Может, ты там чего-то по пьяни и захотела написать, но подумай о матери. Думать о матери к тому моменту мне уже категорически расхотелось. Я всю жизнь думала о матери и сейчас меньше всего была на это способна.
Мать агонизировала какое-то время, кричала, что я не могу уехать вот так. Неужели я не люблю ее, мать мою?
Я не знала. Я знала только, что для того чтобы не возненавидеть ее, мне нужно было уехать.
Она кричала, что я не могу бросить мужа, работу и ее. Я, последняя, младшая из ее дочерей, должна была по всем расчетам остаться рядом с ней. Я не могу так поступить. Я могла.
Уезжая в Москву, я проехалась танком по чувствам многих людей. Но меня это не трогало. Больше не трогало.
н
ф
ф
Моя мать и мой отец развелись, когда мне было пять. Поэтому отца как отца именно я помню смутно. Есть несколько воспоминаний. Первое — я стою в коридоре одетая, готовая выйти в зиму, и вижу мать — она страшно истерично кричит, подняв руки вверх, на ее руках гроздьями висят мои старшие сестры, а отец стоит в проеме двери и говорит что-то
вроде «Ишь ты какая, Катя!». Загадочный, надо сказать эпизод. Второе — отец сидит на диване, грызет семечки, я на полу у его ног жду, когда он нагрызет для меня кучку, чтобы разом сунуть в рот очищенные зернышки. Третье — отец просит меня принести его тапки, а я отвечаю: «Нет, нет, соловей не поет для свиней, позовите-ка лучше ворону». Четвертое — я в ужасе смотрю, как отец устилает пол кухни ощипанными цыплячьими тушками. Вся кухня в тушках, весь пол. Некуда ногу поставить. Отец отворачивается, а я начинаю быстро-быстро выбрасывать тушки в окно, надеясь еще их спасти.
Вот, пожалуй, и весь набор моих воспоминаний. И то, я даже не уверена теперь, что это именно мои воспоминания, а не созданные воображением по рассказам матери.
В общем, мне исполнилось пять, они развелись, я не очень переживала, потому что мать устроила по случаю освобождения отличный отпуск в Тамани и взяла меня с собой. Иногда я спрашивала: «Мама, а где папа?»
«А зачем нам папа? — весело отвечала мать, танцуя в морской воде. — Нам и так хорошо!»
Ну я подумала тоже, что, в общем, неплохо, и перестала спрашивать.
Отец достаточно быстро стал жить в другой семье, и там оказалась девочка, которая начала называть его папой без зазрения совести. Это спутало мне все понятия, и я перестала считать отца отцом. Для меня совершенно очевидным вдруг стало, что быть папой — это такая временная фигня, от которой при желании можно отказаться или выбрать себе другого ребенка.
Отец любил моих старших сестер, а меня не очень. Наверное, просто они уже были взрослые и все понимали. Они часто навещали его, я же если и приходила, то меня просто кормили и отправляли домой. Кормили всегда вкусно и мясом курицы. После развода у нас в семье мясо куриц больше не водилось. Видимо, отец считал святым долгом меня кормить раз в неделю. Очень скоро его новой жене начали надоедать эти кормежки, я это почувствовала и перестала ходить на мясо. Вот почти и вся история наших отношений с отцом. Я его не знала и так никогда и не узнала толком.
Мать любила усадить меня на колени и спросить: Наташенька, а какие у тебя отношения с Витькой? Витькой она называла отца. Я отвечала, мол, какие у меня могут быть отношения-то с Витькой, если мясо курицы ему для меня стало жалко, а на день рождения он подарил мне чьи-то трусы БУ! Мать довольно восклицала — вот! Свинья! Он всегда был свиньей! Сейчас я тебе кое-что расскажу, но ты никому...
Далее следовал какой-либо секрет из их совместной жизни. Отец всегда был страшной свиньей, делал какие-то ужасные вещи.
«Однажды, — говорила трагично мать. — Однажды Витька проиграл Поликарпычу в домино деньги. И шоб отдать долг, он сказал, мол, иди, там Катэрына тебе даст. Ну, переспать, мол. Короче, пришел Поликарпыч ко мне, а я думаю — тюююю! Шо ему надо? А он как давай приставать!!! Прямо на глазах у вас. Ну тебя еще не было! На глазах у Лены и Оксаны. Прямо хвать меня за грудь! Я ему говорю, ты сдурел! Да тебя Виктор убьет! А он говорит — да меня Виктор и послал! Ну, я вас схватила и в ванной заперлась. А он долго еще ломился, а потом со злости взял и снаружи нас запер. Так весь день мы и просидели в ванной голодные, воду только из-под крана пили. А потом Витька пришел, отпер нас, и давай смеяться!» Я смотрела на мать круглыми от ужаса глазами и думала, что мой отец — не просто свинья, а предводитель всех свиней мира.
Эх, мама-мама, на хуя мне нужны были эти твои секреты!
Но я понимаю, как важно было тебе это рассказывать. Тебе нужен был сообщник в этой войне. Старшие сестры мои не годились, они любили отца. А я не успела еще. Так что я была сообщником матери до конца. И до сих пор, и до сих пор — так сильно и продолжительно оказалось действие этих секретов.
Хотя сейчас я понимаю, как тяжело было им обоим в этом бессмысленном браке.
Дело было так. У отца была девушка, которую он любил до беспамятства. Она то ли изменила ему, то ли намеревалась это сделать, и отец от ревности потерял ум и решил ее проучить — жениться на другой. Этой другой оказалась моя мать. Все просто. Когда я спрашивала у матери, почему она пошла за него, ответ был такой — Витька высокий, красивый был, да и уже пора мне пришла.
В ночь перед свадьбой отцу звонила его любимая, слезами изошлась, умоляла его не жениться, умоляла простить. Но мой отец, как я уже сказала, потерял ум. Короче, от великой глупости мои родители поженились.
Брачная ночь не удалась, он был пьян и груб, мать ревела.
«Вот тогда я поняла, Наташенька, какую ошибку совершила!»
Поняла? А почему прожила с ним еще 20 лет? Заметим, ни одной секунды они оба друг друга не любили. Ни одной.
Дальше отец стал изменять. А мать, как и положено, — страдать. Почему? Ведь не любила же!
Но это сейчас я такие вопросы задаю. Тогда, когда мать мне все это рассказывала, ну, о своей трудной судьбе, я такими вопросами не задавалась.
Я была не похожа на отца. Да и на мать тоже. У меня была смуглая кожа, вся я была длинная, худая, а мать маленькая и кругленькая. Я была не похожа ни на кого в своей семье. Но моя сестра Лена тоже не была похожа — она была черноволосая, с родинкой во лбу, как индианка. Только Оксана, моя средняя сестра, была похожа на мать.
Как-то раз Лена выкинула финт (хотя финты она выкидывала регулярно) — украла у подружки деньги и золото и смылась куда-то на море с хахалем. Подружка ходила к моей матери, долго разбирались, что к чему. Мать ужасно переживала, что опять ее Лена опозорила. Подружка довольно быстро поняла, что деньги и золото ей не вернуть, злобно пообещала Лену отпиздить и перестала к нам ходить. Лена вскоре вернулась, но мать ее на порог не пустила. Иди, говорит, отсюда, выгоняю я тебя из дома, живи сама, раз такая ты тварь. Лена ушла куда-то (вскорости вернулась, да не одна, а с ребенком), а мать, глядя на то, что я взволновалась — как же так, дочку выгнать из дома, — это дичь! — решила открыть мне еще один секрет.
«Воспитывала ведь я всех вас одинаково! А вот ведь как получилось! Оксаночка моя такая хорошая, а эта тварь выросла! А знаешь, почему? Знаешь? Вот как ты думаешь? Не знаешь? Да неродная она мне, Лена наша! Я ее в роддоме взяла! Цыганка она! Потому и ворует. И ничем ее не проймешь! Ну и пусть идет в свой табор, я не знаю, там пусть и живет!» Этот секрет, что называется, был для меня ударом. Стало сразу понятно, конечно, почему Лена так не похожа ни на кого, откуда эти волосы смоляные, почему ведет себя так плохо и мать не ценит, не уважает. Но! Я ведь тоже не была похожа на родителей! Значило ли это — что я тоже??? И мой секрет пока еще не раскрыт только лишь потому, что я хорошо себя веду??? А стоит мне выкинуть финт, мать скажет — оно и понятно, не наша ты кровь! Единственная из нас Оксана была точно дитем своей матери, одно лицо. Я сравнивала наши детские фотографии. Оксанка беленькая, волосики русые, волной, как у матери. Глаза хитренькие, зеленые, губы мамины. И я — почти чернокожая, припухлая, глазищи круглые. Нет. Не похожа. Не похожа. Не похожа. Но выяснять правду было страшно. Мама меня любила, я это видела. Искать другую маму было не с руки.
Я выкинула несколько проверочных финтов, но все было тихо, никаких секретов по поводу моего происхождения мне не открылось. Значит, все-таки мама — это моя мама. Ура. Когда мне исполнилось 14, я уже совсем забыла о своем страхе не- родства, смирилась с тем, что Лена тварь, цыганщина. Моя голова в ту пору была занята мальчиками и как купить бухла. Я день и ночь корчилась перед зеркалом, пытаясь сделать себя лучше, давила прыщи, начесывала челку, красила волосы гидроперитом. Пела под Буланову, была такая жалостливая песня у нее — про сына и про нее, брошенную его отцом.
И вот как-то я стою перед зеркалом, вою про сына этого, а мать смотрит на меня с таким обожанием и вдруг начинает плакать. Ну, я понятно, в расспросы. А она меня спрашивает, мол, как ты думаешь, почему я не похожа ни на отца, ни на мать. Внутри у меня тогда помню все так сделало — бубубух-бубух-буууух!!! Думаю, ну все, пиздец. Щас она скажет, что я подкидыш, и выгонит меня из дома. Лену-то она тоже выгнала примерно в этом возрасте. Придется искать настоящую мать, пиздец, пиздец, пиздец всему!
Но она ничего такого не сказала и не сделала. Секрет был в другом. Мой отец был мне вовсе не отец, а настоящий отец — какой-то мамин сотрудник из института животноводства, с которым она крутит роман вот уже лет 20. И это секрет полишинеля, потому что вся семья давно в курсе, включая отца, который Витька.
Мать рассказала мне, что не могла больше жить в такой обстановке, когда муж свинья, ей хотелось любви, и любовь явила себя в лице некоего Владимира. Он был, как водится, женат, имел двух дочерей (Наташенька, я видела их фото — одно с тобой лицо! Одно лицо!) и разводиться не собирался. Им с матерью было весело крутить служебный роман, пока мать вдруг сдуру не решила, что ей нужен от него ребенок. Она ему так и сообщила, а он ей вдумчиво разъяснил, что это, безусловно, ее право, но это будет только ее ребенок, потому что он из семьи уйти не готов — болеет жена. Мать в ответ радостно, предполагаю, закивала, мол, ничего мне, Володенька, не нужно от тебя, только вот ребеночка и ласки время от времени. Так они и зачали меня в каком-то лесу под звездами. Мать говорит, что сразу после она почувствовала, что уже беременна, и так все и вышло.
Отец, который Виктор, узнав, что мать беременна, обрадовался. Он, уже имея двух дочек 12 и 10 лет, хотел теперь сына. Мать тоже хотела сына (похожего на Володеньку), и они стали радостно его (то есть меня) ждать.
И все бы ничего, и никто бы и не узнал, но радость матери была столь велика, что ей не терпелось поделиться ею. И вот она, не найдя более подходящей кандидатуры, написала письмо своей, как ей казалось, подруге — Витькиной сестре, на Украину. В письме во всех литературных красках был описан их с Володенькой роман. Заканчивалось письмо тем, что мать ждет сына от Володеньки и счастью ее нет предела. Но Витькина сестра была прежде всего Витькиной сестрой, поэтому она это письмецо положила в другой конвертик и отправила его Витьке.
Так вся семья узнала, что мать нагуляла плод. А отец Витька еще долго охотился за отцом Володенькой с ножом. А мать рыдала.
Отец Володенька решил на время прекратить отношения с матерью, чтобы не узнали на работе, не сообщили больной жене.
Отец Витька смирился и дал мне свою фамилию и отчество.
Через пять лет после моего рождения в страшных муках они развелись. Короче, после этой истории мне мгновенно стало ясно, к чему меня так долго готовила мать своими рассказами о свинье Витьке. Ведь если бы я любила свинью-Витьку, а он любил бы меня, ей было бы практически невозможно оправдаться передо мной в своей страсти к Володеньке. Все просто. Все предельно просто.
В общем, мать прорыдалась, я ее успокоила, уверила, что не виню, прощаю и бла-бла. Она сказала, что хочет организовать нашу с Володенькой встречу. Я вежливо согласилась, хотя понятия не имела, о чем мне с отцом-Володенькой разговаривать.
После этого я решила пойти к от- цу-свинье-Витьке. Потому что стало мне как-то жаль его. И подумалось, что не такая уж он и свинья, скорее всего. Ведь как-то в нем хватило благородства принять меня как родную, дать мне имя и все такое, кормить даже потом курицей и дарить трусы. Впервые за все время я готова была выслушать другую сторону и реабилитировать ее. В общем, пришла я к отцу Витьке, посидели мы на кухне, я что-то съела. Его новая дочь зыркала на меня глазами с ревностью и презрением к моим лосинам, которые были мне слегка малы. Отец Витька спросил меня что-то вроде, встречаюсь ли я с парнями, прилично ли себя веду. Я ответила, что очень прилично, что с парнями не встречаюсь, сугубо учусь, планирую стать переводчиком. Говорить нам с отцом Витькой больше было не о чем, я ушла, не взяв деньги, которые он мне сунул в карман.
В общем, с отцами более-менее разобрались. Их у меня не было, да и не хотелось. Мать сперва искала встреч с Володенькой, но потом как-то стало ей недосуг.
Прошло лет восемь. Ни с одним отцом, ни с другим я по-прежнему не общалась. Но как-то вечером мать пришла домой с серым и старым лицом. «Володенька умер, мне одна женщина в магазине сейчас вот только рассказала!» Мать разрыдалась, я разрыдалась вслед за ней искренне и горько. Стало стыдно, что я не хотела его видеть. Мы с матерью весь вечер хоронили его и напились. Я ей рассказывала, сама в это не веря, про загробную жизнь. Она мне — про его голос и руки. Мы оплакали его с ног до головы.
А через несколько дней стало известно, что Володенька-то живой. Эта «одна женщина» в магазине ошиблась — умер вовсе не он, а умерла его мать! А он как раз жив-живехонек. Растит дочек, жалеет больную жену, все по-прежнему. Ну тут мать всерьез засобиралась меня с ним познакомить. Взяла мои самые лучшие фотографии, где я на телевидении, где я в театре играю, где я на лошади. И поехала к нему на работу. Я ждала ее возвращения с нетерпением. Мне действительно в этот момент, после похорон и воскрешения отца, хотелось увидеть его вживую, пока еще можно было его в этом состоянии застать. Я себе как-то рисовала нашу встречу, что он мне говорит, мол, прости меня, но я всегда знал о тебе и помнил, твоя фотокарточка, где тебе полгодика, хранится у меня в тайничке. А я ему скажу — и твоя! И твоя, мой отец-Володенька, тоже хранится у меня. Что было правдой — у меня до сих пор его фотография в кошельке. В общем, мне нужна была эта встреча, чтобы уложить всю эту круговерть с отцами в своей голове окончательно и уже определиться, кому сказать — папа. Но мать вернулась со встречи понурая и жалкая. А было вот что.
Отец Володенька с интересом посмотрел мои фотографии, уважительно отозвался о театре и о лошади, но знакомиться наотрез отказался. Не надо, Катенька, ворошить прошлое. Пусть все будет, как есть.
По мне, так Володенька страшно испугался отчаянной Катеньки и ее тяги к раскрытию секретов. А также испугался того, что я предъявлю ему все накопившееся за 20 с лишним лет. Я Володеньку понимаю, это
дело непростое — знакомиться со взрослыми уже детьми.
Мать плакала, я долго ее успокаивала, доказывая, что не сержусь, что мне не больно, что все в порядке, что фотокарточка его все равно у меня в кошельке и я ее целую на ночь. Папа — Володенька, Витька — свинья. И все в таком духе.
Прошло потом очень мало времени, месяца три, мне позвонила мать и снова, как в страшном сне или в мультике про Симпсонов, сообщила, что отец-Володенька скончался, теперь уже наверняка, от рака. И вот все и закончилось. Приезжай, говорит, похороним его.
Я не приехала к ней. По ее голосу я поняла, что она в порядке. Что похоронили мы его по-настоящему еще в первый раз. И ни мне, ни ей уже не требовался повтор.
Ничего не колыхнулось во мне, ни капли крови не отозвалось. Может, и хорошо, может, и прав был Володенька — не знать лучше, чем знать, чувствовать, терять. Не знать — безопаснее. Пусть все, как есть... Пусть. Никому на хуй не нужны, мать, все твои секреты.
«Сиди тихо, блять, не дергайся!». Она привязывает
меня шарфом к стулу. Она — моя старшая сестра Ленка, тварь, цыганщина. К ней пришел хахаль, и они примерно час будут сидеть в ее комнате и лапать друг друга. Потом хахаль захочет курить и пойдет стрелять сигаретку. Лапание закончится, дальше уже не будет ничего интересного, по крайней мере в нашей квартире.
Ленка знает, что я буду подглядывать — двери у нас все с прозрачными стеклами. И хотя у Ленки в комнате дверные стекла заклеены пленкой с изображением сисястой телки на мотоцикле, все равно есть зазор. Через этот зазор очень хорошо видно диван, на котором Ленка и хахаль лапают друг дружку.
Поэтому, когда приходит хахаль, Ленка привязывает меня шарфом к стулу. Сопротивляться бесполезно, можно получить по щщщщам. Я сижу тихо и обреченно, ерзаю только потому, что больно рукам.
Мама на работе. Ленка тоже должна была быть на работе, но она по обыкновению сачкует.
Я сижу и думаю только лишь о том, как я ее ненавижу. Ненавидеть я стала ее не так уж и давно — ровно тогда, когда узнала, что она не родная моя сестричка, а тварь-цыганщина. Эту роковую ошибку, ну, удочерение твари-цыганщины, мать совершила в приступе жалости. Уж непонятно к кому — к кричащему гнилому свертку или к себе, неспособной родить детей.
Случилось это после очередного мертворожденного. Врачи давно сказали матери, что детей у нее не будет. Шутка ли — упасть в полынью зимой и проторчать в ней по пояс почти час. Все женское оказалось застужено напрочь.
Вот врачи и сказали ей, мол, женщина, не будет детей у вас, ибо пиздец как все застужено, яичники просто не работают. Но мать не унималась. Сперва совсем не могла забеременеть, потом не могла доносить, а потом не могла родить живых. И вот, после рождения очередного мертвого, она гуляла по коридорам и мазохистически забрела на крики в детскую. Ну и вот. Наткнулась на Ленку, которая в ту пору никакой Ленкой не была, а лежала не нужным никому отказным кулем. Мать подошла — та ручки к ней протянула. Вот и решилась судьба и той, и другой.
Бабушка моя была женщина малосентиментальная. Измятая вдоль и поперек войной, тюрьмой и изнасилованиями. Она ни на секунду не поверила, что Ленка ручки протягивала навстречу моей матери, и начала допытываться про родословную младенца. И пока моя мать пребывала в блаженном бессознательном состоянии, тиская новорожденную как свою, бабка выяснила, что биологическая мать девочки — цыган- ка-молдованка, как из песни, только страшнее, и Ленка — уже второй ребенок, брошенный ею в роддоме.
Бабка орала моей матери в ее глухие уши, что гены возьмут свое, и ни в коем случае нельзя брать эту цыганщину. Станет она проклятьем всей семьи! Но мать моя только кивала и бумажки подписывала, что, мол, удочеряю и пиздец.
Но, конечно, не только бабка была против. Крутила пальцем у виска вся семья. Ребенок выглядел мало того, что пугающе-чужестранным, так еще и смертельно больным.
Она, Ленка, в роддоме гнила в прямом смысле. Мать всерьез считала, что спасла ей жизнь, и наверное, так оно и было. Ленкина жизнь в роддоме не интересовала никого. Ее как спеленали после рождения, так больше и не распеленывали. Сгнила бы заживо, если бы не мать. В общем, счастливая встреча оказалась для Ленки.
Мать принесла ее домой, вымыла, накормила какой-то смесью, переодела, раны ей залечила, и стали они жить. Муж ее Витька то ли свыкся, то ли по хуй ему было. Он к ребенку не прикасался, работал много и в домино играл.
Ленка была тихая-тихая, сама себя могла занять, не плакала никогда, только глазами черными зыркала из-под черных-черных волосиков. Даже когда обсиралась, не плакала, просто затаившись лежала. Даже когда есть хотела, просто причмокивала тихонечко и лежала — берегла силы, ждала. Генетическая, видимо, особенность — беречь силы для большего. Короче, мать с ней горя не знала, даже в кино ходила, оставляя ее одну дома, — Ленка спала, как убитая, и даже не ворочалась в пеленках.
Все было хорошо, но мать стала ее побаиваться. А началось все с того, что мать уронила как-то раз конвертик с Леной, тот покатился по лестнице, катился долго, мать успела подумать уже все самое страшное. Подбежала, глядь, а там ни слезинки, ни грамма испуга, ни-че-го. Спокойные такие черные-черные глаза. Ну, мать тут струхнула, в дьявола она верила всегда. Про таких детей ей женщины в церквях рассказывали. Что, мол, не плачут, боли не боятся, дьявол в них сидит. Эта мысль матери не давала заснуть. Она даже стала Лену в другой комнате класть на ночь. Ну, говорю, струхнула ни на шутку.
Через несколько дней, чтобы проверить догадку, решила Ленку ущипнуть. Та после сильного щипка запищала. На коже остался красный след. Мать подумала, что фух, все-таки человек она, фух-фух. И стали они жить дальше.
А через два года мать родила. Девочку, дочку, свою, родную. Беленькую, ясноглазую, щечки розовые, яблочко белый налив. Любимая, лю- бименькая, Оксанушка.
В этот раз мать забирали из роддома с гармонистом и букетами. Ленка вместе с бабушкой дожидались дома. Праздничная кавалькада эта, во главе с пьяным Витькой, за ним вся родня и друзья, ввалилась в дом. Ленка искала мать глазами, нашла, кинулась к ней, а мать наклонилась и счастливо предъявила Ленке бледное лицо новорожденной. Вот тогда Ленка заплакала впервые в жизни громко и отчаянно. Возраст тоже — два с половиной года, первый кризис, период самоидентификации, а тут такой пиздец в виде бледного лица, розового ротика, сосущего сиську. То, чего Ленке не досталось — материнского молока, — она жаждала страстно, ревниво отпихивала от сиськи это белое тельце, тянулась сосать сама. Но мать это сильно смутило. Взрослый уже ребенок, ходит и говорит, какая сиська может быть? В общем, мать жестко отрезала все Ленкины поползновения. За это Ленка попыталась сверток придушить, но кто-то из взрослых увидел, всыпал Ленке лозину и окончательно закрепил ненависть Ленки к младшей сестре, свежему яблочку.
Росли они, как врагини. Мать проводила много времени с Оксанкой, та была нервным, чувствительным, пугливым ребенком. Требовался особый подход. От матери она не отходила, спала в ее постели, сидела только на руках. Боялась, до одури боялась свою сестру. И очень правильно делала, потому что Ленка с детства научилась (а может, и с рождения умела) строить козни, подставлять, обижать и воровать. Лупить Ленку мать начала лет с пяти. После кражи плавленого сырка в магазине. Со временем кражи стали покрупнее, а лозина толще. Оксана, видя регулярные порки, старалась быть максимально послушной. К приходу матери с работы выучивала все уроки, убирала в доме, мыла посуду, причесывалась сама и садилась за пианино. Ходячая пропаганда идеального ребенка образцового воспитания.
Ленка же, как настоящий дьявол, начинала свой день с прогуливания школы, сигареты за углом, потом шла домой досыпать и спала почти до вечера. К приходу матери она старалась насорить там, где только что подмела и вымыла Оксана.
Они дрались. Стеклами, ножами, палками. Ленка, как правило, побеждала. Оксана уносила с поля боя шрамы на нежном беленьком теле. Мать свистела лозиной в воздухе, лишь только зайдя домой. Но все без толку. «Гены! Гены!» — торжествовала бабка.
Мать уже и сама поняла, что гены, да только взад ничего не воротишь.
Все пыталась как-то на нее влиять, просила о помощи школьных учителей, но те, усталые грузные тетки с трудной судьбой, не могли уже никому помочь. И когда Ленка, будучи в седьмом классе, украла в школе из сумочки учительницы кошелек, педсовет с облегчением ее выгнал. Даже до конца года не дали доучиться. Хотя — зачем? За весь год Ленка появилась в школе считанные разы. Стоило ли терпеть ее до лета? Читать-писать научили, и хватит.
А писать Ленку научили хорошо! Лучше всего в жизни она умела подделывать почерки и подписи. И вот как-то раз она написала от лица матери такую записку, что, мол, дорогие друзья, я тяжело заболела, мне срочно нужны деньги на лечение, разумеется, в долг. И подпись матери. С этой запиской Ленка, как профессиональная попрошайка пошла по знакомым-соседям. Те ей поверили, как не поверить. Давали деньги, кто сколько мог. А потом оо- оочень сильно удивлялись, встречая мою мать живую-здоровую в магазине. Открылось все не быстро. Деликатные знакомые не могли так вот нагло подойти, заявить о вранье и потребовать деньги назад. Все думали, ну мало ли, может, болезнь незаметная, бывает же всякое. Но прошел почти год и кто-то решился намекнуть о долге, а мать глупое такое лицо делала, оно и понятно, никаких долгов на ней не висело, как ей казалось.
Приперев Ленку к стене, мать дознавалась, сколько и кому они еще должны. Но у Ленки было жесткое правило — никогда не говорить правды. В крайнем случае, когда совсем вилы, можно сказать только часть правды, но как можно туманнее. Короче, эта правда про долги постепенно всплывала на протяжении еще нескольких лет. Мать уже не могла смотреть людям в глаза, ей везде мерещились обманутые кредиторы. Но, копеечка к копеечке, этот огромный долг был выплачен.
А потом родилась я, и наступили трудные времена. Жрать стало по-настоящему нечего. А Ленка жрала в три горла, даром что худющая. Съедала даже детское питание, ложками черпала сухое молоко. Мать была уже не в силах тянуть на себе троих и погнала Ленку на работу, на птицефабрику. Оттуда ее выгнали через два месяца, застукали за воровством кур. Она им живым головы сворачивала и как-то под юбкой проносила. Но спалилась — прямо на проходной однажды кура выпала.
«Гены!» — вопила бабка.
Пытались выдать Лену замуж. За иностранца. Но нахуя это иностранцу? Не вышло, короче, спровадить ее. Беспутство продолжалось.
Бабка больше не могла терпеть негодование. Готова была лопнуть. От ношения в себе этой тайны у бабки буквально грыжа вызрела. Мать не могла сказать Ленке правду, а она, бабка, скажет. Откроет глаза, на каких правах птичьих она на самом деле тут живет. Короче, выловила Ленку и прямым текстом ей высказала, что Ленка, мол, неблагодарная тварь, ее из говна вытащили, она бы,
мол, сдохла уже давно, ее родная мать бросила, а Катенька как щенка подобрала, ты в ногах у нее должна валяться, ноги целовать ее, и все в таком духе. Ленка выслушала новость молча, со стороны можно было бы сказать — равнодушно пожала тварь плечами, ничего святого. Что уж там с ней, с Ленкой, происходило после этого разговора не знает ни одна живая душа. Можно только догадываться. Да и то невозможно догадаться — как можно представить себе чувства человека, узнавшего, что тетка, лупившая его лозиной, не мать ему, а мать, мать, мать, маму, мамочку... Ищи-свищи.
Но она даже как-то нашла в себе силы поговорить с матерью прямо об этом. Хотела искать свою цыган- ку-молдованку, но мать ее расстроила невозможностью мероприятия. Ленка чуть поплакала, мать ее чуть поуспокаивала, на короткое время они стали подругами.
И тут случай из ряда вон, как удар под дых. Ленкина лучшая подружка потеряла мать. Ленка пошла помогать с похоронами, поддерживать подругу. И пока суть да дело, пока гости поминали скоропостижно скончавшуюся, Ленка проникла в спальню покойницы и свистнула из шкатулки драгоценности — любимые золотые сережки с рубинами. И как ни в чем не бывало вернулась домой.
На следующий день подружка в бешенстве пришла за справедливостью. Но Ленка отнекивалась и роняла крупные прозрачные слезы. Мать почему-то поверила Ленке. Было невозможно поверить в обратное — в такое страшное мародерство на фоне огромного горя подруги, с которой были не разлей вода. Мать посоветовала девочке поискать в комнатах получше. Девочка ушла восвояси.
А через неделю мать решила, в редком, очень редком приступе аккуратности, навести генеральную уборку. И во время смены Ленкиного белья в уголке наволочки нащупала. Ах! Волосы на голове зашевелились у всей семьи. Все слишком сильно уважали смерть.
На семейном совете было решено выгнать преступницу, охульницу из дома. Гены развернулись во всю ширь. Нет мочи больше терпеть. Мать кивала. Все понимала.
Ленка была выдворена в ночь, в стужу, восвояси. Мать не видела ее больше года и даже не интересовалась. Исчезла, испарилась, в табор ушла и ее приняли к себе сородичи, померла, наконец, — неважно, неважно! Главное — какой покой, какой мир воцарился в доме! Мать пела песни днями и ночами от благости. Но избавиться от Ленки было ей не суждено. Взяла — неси.
Ленка появилась на пороге не одна. С ребенком, месяц от роду. Мать чуть инфаркт не хватил. Она даже не нашлась, что сказать, и уж тем более не нашлась напомнить Ленке о том, что она выгнана из дома.
Мать суетливо запрыгала вокруг младенца, Ленка, тяжело дыша, пила воду из-под крана. Мать уложила их спать без расспросов, но наутро села на край Ленкиной кровати и велела рассказывать.
Никому не известно, что в этой истории правда, но история от Ленки такая:
Когда мать ее выгнала, она почему-то решила поехать автостопом в Чебоксары. Почему? Зачем ехать с юга зимой в северный (по нашим меркам) город? Неясно. Так или иначе, она поехала туда, там с кем-то дружила и нажила плод. На вопросы матери, кто отец, ответила, что точно не знает, их было много. Дальше было вообще. Короче, нашлись какие-то люди, бесплодная пара, которые захотели ребенка у Ленки купить. Заключили договор, поселили Ленку в своем доме на Волге, она там как сыр в масле каталась, они ей только и знай, что деликатесы подвозили. Устроили ее в хороший роддом по знакомству. Акушера ей высокой квалификации. Ленка родила, будто выплюнула, скоротечно и легко. Но когда ребенка ей принесли, Ленка вдруг отдавать его передумала. В первый и в последний раз взыграл в ней ни с того ни с сего материнский инстинкт. Милые, милейшие бесплодные супруги из Чебоксар (а они ей даже заплатили какой-то аванс, и он уже был потрачен Ленкою на бухло) от притязаний отказались. От возмещения убытков в том числе. Материнский инстинкт был для них хоть и недоступным, но святым чувством. Они уважали право каждой роженицы на то, чтобы позволить этому инстинкту взыграть, несмотря на договоры, скрепленные печатями. Короче, Ленке, как всегда, все сошло с рук, она выписалась из роддома с младенцем Олегом Артуровичем (хотя в отчестве она была крайне не уверена) и приехала домой, где прописана, встречай, мама. Через месяцок Ленке надоело материнство. В ее теле бродили инстинкты и посильнее этого, и они, конечно, победили. Тем более ребенок сильно заболел, наверное, по пути из Чебоксар подхватил инфекцию. Возни с ним было много, а сосредоточиваться на возне Ленка не привыкла. Бросила кашляющего на разрыв ребенка на мать и была такова. Мать яростно взялась за лечение Олега, выходила его и решила подать на лишение Ленки материнских прав, чтобы Олега тоже усыновить. Ну беда была прям у матери с этим. Хлебом не корми, дай усыновить кого-то.
Вся семья, понятно, перебаламу- тилась и забегала. Кто-то сказал, что Катю надо насильно положить в дурдом, тогда ей не позволят усыновить Олега. Эта идея всем сильно понравилась, стали хлопотать, но мать моя внезапно прекратила какие-либо действия. Не то чтобы кто-то из родственников убедил ее, а по причине лени — долгая судебная волокита была матери не по плечам, да и не по карману.
В общем, все осталось по-прежнему. Я Олега помню плохо. Помню, что он, в основном, лежал голодный и грязный. Если он пытался вставать и куда-то идти, его пиздили мухобойкой. Зачем? Чтобы не мешал взрослым. Часто еще помню Олега, сидящего на столе в кухне. Он сидел так по-лягушачьи, растопырив грязненькие ножки, и половником ел постный борщ прямо из кастрюли. Мать, когда заставала его за этим занятием, всегда ругалась страшными словами. Борщ она варила в расчете на то, что целых три-четыре дня сможет кормить себя и своих детей. Ленку из списка детей к тому времени она вычеркнула, Олега тоже. Он жрал борщ незаконно, хоть и не мог этого понимать и знать в силу возраста. Частенько из этой же кастрюли этим же половником подъедала Ленка — стоя на одной худющей ноге, как цапля.
Матери это осточертело. Холодильник из кухни перекочевал в зал, комнату родителей когда-то, а теперь в нашу с матерью комнату. На дверь зала был установлен замок. Таким образом мать как бы намекала Ленке, что больше за ее счет никто не прокатится. Но Ленке было по хуй. Она могла жрать и вне дома. Она могла каждый день ночевать у разных подруг, ебарей, случайных добряков, и ее там кормили ужинами и завтраками. А вот Олег этого делать не мог. Поэтому мать все равно отрывала у своей семьи ценную порцию борща, чтобы хотя бы поддерживать жизнь Олега.
Из-за этого вражда матери и Ленки сильно выросла. Они люто относились друг к другу. Однажды мать среди ночи пошла в туалет, и по дороге ее схватил сердечный приступ. Она упала в коридоре, и лежала там неясно сколько времени, не в силах позвать на помощь. И тут встала Ленка, пошла воды попить, наткнулась на мать, переступила через нее, попила воды, переступила обратно и легла спать. Мать как-то там сама оклемалась, потом все утро в раздумьях сидела на кухне.
Выгнать Ленку уже было нельзя, она была прописана, и ее Олежек тоже. И Ленка к тому времени уже поняла, что имеет тут права. Жить с ней бок о бок, когда она ворует все, что плохо лежит, обижает всех, ебется чуть ли не на глазах у детей, — было невыносимо. Буквально ведь — змея на груди. И что делать?
Мать стала подумывать о киллерах. Я не шучу. Прямо реально, 1990-е годы же были, найти киллера недорого было плевым делом. Они с моим отчимом даже начали его искать. Я помню обрывки разговоров, что просто ебануть ее из пестика, и все. Про Олега речи не было, может, его собирались оставить в живых и отдать в приют? Или усыновить?
В любом случае, этим планам не суждено было сбыться, потому что Ленка на всеобщее счастье собралась замуж. Ура. Нашелся некий Андрюша, тюфтя-тюфтей, и неясно, чем его Ленка взяла. Да и неважно! Важным было то, что Андрюша имел жилплощадь, хоть и в квартире с родителями, но имел, и ему было куда привести молодую жену. И еще, что добавляло ему очков, Андрюша был городской, и совсем не собирался жить с Ленкой у нас в поселке. Трижды ура!
В общем, свадьбу сыграли, и Ленка с Олегом отъехали.
Ленка очень быстро родила Андрюше двух сыновей-погодок. А потом стало известно, что Олег пропал. От Ленки было правды не добиться, она говорила каждый раз разное. Что Андрюше он и так сильно мозолил глаза, а тут еще вдруг стал воровать у него из кошелька.
Гены — кивнула мать внутри себя.
Ну, в общем, Андрюша его избил сильно, и Олег сбежал.
В другой раз Ленка говорила, что они выгнали Олега из дома за то, что он украл часы свекрови.
А в третий — что он временно уехал пожить к каким-то знакомым.
Ни одна из этих версий, скорее всего, не была правдивой. Что бы она там ни говорила, искать сына Ленка не собиралась.
Тогда мать сама заявила в милицию. Но все искали Олега как-то... Пассивно. Ищут-ищут, а найти не хотят. Мать нахлебалась горя с генами и имела право отдохнуть. Ленка боялась, что ее брак распадается, ей было на руку исчезновение старшего сына.
Никому, в общем-то, Олег не был нужен, кроме той бездетной пары из Чебоксар. И они, наверное, могли бы сделать его жизнь весьма сносной. Но теперь их уже не найти, да и теперь не возьмут они трудного ребенка, уже вкусившего ненависть, страх, голод и предательство родственников.
Я думаю, что всем было бы удобнее, если бы Олег так никогда и не нашелся. И, пожалуй, ему самому было бы лучше не найтись.
Но наша милиция все-таки работает!
Нашли Олега где-то через полгода после пропажи. Он болтался в каком-то приемнике-распределителе очень долго, у него были проблемы с памятью, он помнил только свое имя-фамилию. В какой-то момент его память выдала адрес моей матери, и соцработники тут же кинулись туда. Мать под ручку с милицией его забрала и привезла домой. Он был страшен. Худой, немытый, весь в чесотке, на голове шрамы и гематомы. Мать натурально рыдала, когда его мыла. Позвонила Ленке, но та равнодушно сказала, мол, оставь его себе. Потому что Андрюша их всех выдворит и они все вернутся жить к матери в поселок, уже не двое — четверо! Мать страшно испугалась, что брак Ленки под угрозой.
Пришлось Олега оставить.
Я водила его в школу, мать занималась с ним дома. Но Олегу отшибли мозги, явно отшибли. Он был, в общем, очень симпатичным, обаятельным, но совершенно не способным ни к какому делу, ни к какой науке, ни к чему полезному. Он был копия Ленки. Точная, совершенная ее копия. Он умел только талантливо врать и воровать. И про него было все понятно, что путь у него один с такими талантами.
Он трижды обчищал под ноль нашу квартиру и после этого сбегал. Далее — снова обнаруживался в каком-нибудь приюте. И снова мать забирала его к себе, лишь бы Ленкин брак был крепок.
Потом Олега посадили в тюрьму за угон автомобиля. И далее по наклонной.
Между тюрьмами он неизменно оказывался под дверьми маминой квартиры, по старой памяти шел домой как бы, другого дома у него не было. Мать боялась его до одури, ее трясло всю, она не открывала двери, лежала всю ночь, дрожа, пока он настойчиво звонил в двери и жарким шепотом шептал: «Открой, бабушка, это Олег, я больше не буду воровать, никогда не буду, я тебя так люблю, бабушка.»
Это его коронные слова, мать верила им неоднократно, пускала его, пыталась привить порядочность, любовь, труд, но куда там, когда такие гены. Теперь она уже не могла верить его словам. Да и он, Олег, с отбитой в детстве головой, сам себе не принадлежал, было очевидно, что им руководит какая-то более сильная сила, чем любые, любые ценности. Их не было, ни одной ценности не было у Олега никогда, с тех еще времен мухобойки и борща, и жизнь его не была ценностью, и не было даже инстинкта самосохранения, а только одно желание владело им безраздельно — взять, взять то, что не принадлежит, потому что никогда и ничего у него не было. Взять хоть на секунду, угнать машину и прокатиться с девочкой, которая повелась на голубые бесстыжие глаза и запах авантюры, прокатиться до первого поста ГАИ и сесть в тюрьму на два года, потом выйти и снова взять, взять чужие деньги, чтобы угостить девочку шампанским, а на большие траты у его мозга не хватало фантазии даже. И все ради одного мгновения, когда кто-то, хоть кто-нибудь, смотрит с обожанием, любовью, может даже, когда хоть кто-то смотрит в эти голубые глаза, а большего ему не надо, ведь большего он никогда и не хотел.
Мы с матерью возвращались домой из гостей, я была беременной и через день уже уезжала обратно в Москву. Мы поднимались на пятый этаж, я, как всегда, опережала мать, она тяжело преодолевает лестницы. Под нашей дверью на пятом этаже кто-то лежал. Я сказала матери вниз, она еще доползала до четвертого этажа, я сказала ей — тут какой-то пьяный лежит, что ли. Мать замерла, ее голос изменился, стал каким-то нездорово-глухим. Это Олег лежит — сказала мать. Я не видела ее лица, но и так было понятно, что оно перекошено от страха. Я вгляделась в лежащего — худой, черный, маленький. Это был не Олег. Я помнила Олега высоким, ясноглазым и кудрявым. Тот, что лежал, был ВООБЩЕ другим. Я сказала матери, что нет, это какой-то пьяный гастербайтер лежит. Она медленно поднялась, наклонилась над ним и снова глухо сказала, что это Олег. Меня он поразил. Я не узнала бы его ни при каких обстоятельствах.
Мы с матерью неловко затоптались, не зная, что делать. Мать боялась, что я, беременная, буду нервничать. Я боялась за материно сердце. Я шепнула ей, что нужно тихонечко зайти в квартиру и сделать вид, что нас нет. Мы переступили через него, как когда-то Ленка переступала через мать. Мы не знали, жив ли он, пьян ли он и что с ним вообще, и не хотели знать. Человек, лежащий возле нашей двери, был категорически чужероден.
Мы тихонько проникли в квартиру, не разбудив его. Долго лежали вместе в одной кровати, прислушиваясь к звукам за дверью. Я спросила мать: «Он откуда?»
Мать ответила, что, вероятно, вышел снова из тюрьмы. Я спросила, не хочет ли она позвонить Ленке? Мать ответила, что если она позвонит, Ленка просто наорет на нее.
Мать сказала, что единственная ее мечта — переехать куда-нибудь, чтобы никто из родственников не знал, где она живет, чтобы помереть там спокойно, без Олегов.
Мать сказала, что никогда не любила Ленку, видимо, сразу знала, сколько несчастий та принесет.
Мать сказала, что ей никогда не избавиться от этого проклятия.
Я спросила мать, а что было бы, если бы ты любила ее, Ленку, вот без хуев, без благотворительности, без ожиданий?
Мать обиделась. Сказала, что воспитывала всех нас одинаково. Одинаково. Поэтому — какие претензии? Всех — одинаково. Просто гены. Это понятно — гены вещь неумолимая. Дальше мы стали спать.
Часа в три ночи в дверь стали неистово барабанить. Олег.
Мы не открыли.
С рассветом он ушел. Непонятно куда — ведь его дом был здесь, он был прописан здесь, но у него не было шансов это доказать, у него не было паспорта и вообще — ни
одного документа. Даже если и был бы паспорт — он не смог бы никого убедить, что ясноглазый парень на фото, это и есть он, Олег Артурович Мещанинов, потому что родная мать его уже не узнает, да и зачем ей.
ф
Я
ей
Ф
X
Я загадываю на клубнику. Я загадываю на след от самолета. Я загадываю на звезду. Я загадываю на волну. Я хочу, чтобы он попал под трамвай.
Я всегда побаивалась покойников.
Но его труп мне нравился. В смысле не то чтобы прямо труп нравился, а картинка в голове, что вот он лежит мертвый и больше никогда не встанет, — была мне мила.
Пробка, жара, впереди столпотворение, до нас доходит слух, что какую-то женщину перерезало трамваем. Мы медленно движемся в маршрутке мимо того места, и я вижу, из-под трамвая торчит кусочек ее ноги. Увиденное меня возбуждает. Возбуждает мое воображение. Я на секунду представляю себе, что это его нога. Мое сердце начинает ликующе стучать. Несколько мгновений — ах! И все закончено. Он снова живой, вот он сидит рядом жив-живехонек и нудит матери, что нужно идти пешком. Дядя Саша, мой отчим. Второй по счету из всех четырех отчимов за всю жизнь. Второй, и самый запоминающийся.
Маленький, ниже меня и даже ниже моей матери, которая вообще гном. Катастрофически худой — последствия полиомиелита.
Юркий невротик. Воинствующий психопат. Ничтожный гандон. Да. Ничтожный гандон.
Я проплываю мимо него, а он и плавать-то не умеет, жалкий, по- лудохлый крыс. Я проплываю, мать хватает меня за пятку и начинает намыливать хозяйственным мылом. Голову мне намыливать, голова-то жирная. Мы втроем по пояс в какой-то вонючей речке Анапке. Если поплыть вниз по речке, то через пять минут море. Речка эта впадает в Черное море, там волны, там песок, там дети и люди. А мы тут. Мы тут моемся хозяйственным мылом и стираем трусы. Мы тут на фоне камышей фотографируемся и едим помидоры с солью.
А почему мы здесь, а не на море, к примеру?
А потому что дядя Саша стесняется своих худых рук. Стесняется худых ног своих. Быть на всеобщем пляже для дяди Саши — мучение. Поэтому он ездит на море, чтобы стоять по пояс в речке, не снимая рубашки (видимо, руки страшнее ног, без рубашки я его не видела ни разу, а вот без штанов видела) и похихикивать над теми, кто плывет мимо нас на катамаране, что, мол, они просадили бабло, чтобы кататься по вонючей Анапке, а ведь в ста метрах — море. Дядя Саша полон парадоксов. Мы приехали отдохнуть на море, но работаем на виноградниках по утрам, а по вечерам моем головы хозяйственным мылом.
«Ма, а давай дядя Саша будет тут голову мыть, а мы с тобой пойдем на пляж? А?»
«Тссс, ты че, молчи, иди, пойди, вон, пойди, отойди, посиди там».
Мать боится дядю Сашу. Он кидал в нее пару раз ножи для резьбы по дереву с психу, и она его опасается дразнить.
На резьбе по дереву они и сошлись. Она тогда еще не знала, что он будет ножи швырять и что они будут втыкаться в нее. Они втыкались не сильно, нет, они же специфические, коротенькие, широкие, воткнуться могут на пару миллиметров только. Ими можно вены резать, или горло на крайняк.
Они резали этими ножами дерево липу. Делали совместное произведение искусства для продажи иностранцам. Шкатулку в виде собора Василия Блаженного. Каждый куполок отдельно открывался, и было еще два нижних яруса. Все это они морили морилкой, купола — золо- тилкой, и пока работу делали — сошлись и стали жить.
Жить было где — у матери трешка, у него целый дом с садом и огородом. Живи — не хочу. Возделывай грядки, снимай вишню-черешню с веток вовремя.
Дядя Саша был одержим земледелием, стала одержима и мать. Ей свойственно было сливаться с мужчиной в единое целое, пылать его страстями как своими. Вот они и пылали. Гектары картошки и клубники, бесконечные ряды огурцов-помидоров, вдоль забора малина-смородина. И фруктовый сад. Им было мало своих грядок, они брали еще на прополку сахарную свеклу в полях. Километры сахарной свеклы, пропалывать через день. Оплата — мешок сахара в конце лета. Ну и по осени обязательно на море, работать, на виноград. Плюсы сплошные — задаром живешь в вагончике, жрешь виноград ведрами и еще при этом зарабатываешь. Сбор урожая с утра, а вечером иди на море купайся.
Но до моря мы не доходили. Иногда мне казалось, что дядя Саша специально заботится о том, чтобы бесплатно мне ничего не доставалось. За все приятные вещи я должна была платить.
Чем?
Любовью к дяде Саше. Я загадываю на радугу. Я загадываю на грозу.
Я загадываю между двумя Олесями. Я загадываю на весеннее равноденствие.
Я хочу, чтобы он упал со скалы и его съели мухи.
Я прячусь в виноградных лозах от дяди Саши, он уже раздраженно зовет меня, еще чуть-чуть, и он разозлится настолько сильно, что я рискую остаться не то что без моря, а без ужина и без обеда. Но я потерплю, потерплю, только бы он не нашел меня здесь. Солнце ушло за гору, должен уйти и дядя Саша. Мать нажарила картошки с салом, сейчас она выйдет в вечернюю дрожащую долину искать нас обоих. Она думает — мы играемся. Нет, мать мы не играемся. Это дядя Саша охотится, а я мелко-мелко дышу, чувствуя, насколько он сильнее и свирепее меня, несмотря на всю свою тщедушность. Он не находит меня, ура, мать вошла в виноградные ряды, высматривает нас обоих, я бегу к ней, она видит меня, и значит, сегодня дядя Саша остался без добычи, и значит, сегодня он отыграется на мне сполна.
«Ты ешь, как свинья. Я тебе говорил, что хлеб надо брать двумя пальцами, а не всей рукой»
Началось. Сейчас он найдет повод лишить меня еды.
«Мать тебе положила слишком много. Смотри на мою тарелку и теперь посмотри на свою».
Он берет мою полную картошечки тарелку и отсыпает себе половину моего ужина.
Мать робко говорит, мол, Саша, ты же знаешь, у нее хороший аппетит. «У нее глисты, а не аппетит. Хрен прокормишь! Бери больше хлеба, я сказал, и двумя, двумя пальцами!» Я сосредоточиваю свое внимание на хлебе и забываю про вилку с наколотой картошкой. Неловкое движение — и картошечка летит мне на голые, загорелые колени. Дядя Саша излишне внимательно заглядывает в эти колени, мать могла бы что-нибудь и прочесть в этом взгляде, но она занята подрезанием хлеба. Дядя Саша осмотрев колени, произносит свое коронное: «Я не могу есть со свиньями. Встала и ушла». Я молчу, мать молчит.
«Я что, должен повторять?» Мать таращит на меня испуганные глаза, я встаю из-за стола и ухожу.
Я беру палку и иду в виноградную темень. В ней отчаянно орут сверчки и летают компаниями комары. Палкой я неистово сношу виноградные гроздья. Я ненавижу, ненавижу виноград. Еще две недели мне предстоит есть его на завтрак и обед, закусывая салом с чесноком. Я думаю о том, что когда стану взрослой, убью сперва дядю Сашу, и никогда в своей жизни не прикоснусь ни к салу, ни к винограду.
Когда я возвращаюсь в вагончик, мать и дядя Саша тихо возятся в его глубине. На столике возле вагончика стоят три грязные тарелки. Моей картошечки как не бывало. Я немного сижу на ступеньках вагончика, вдыхая ветер с далекого моря, путь на которое так труден для меня, и мечтаю сбежать ночью. Скоро из вагончика выходит мать. Она весела, начинает мыть посуду в грязном тазу. Я даже не спрашиваю, осталась ли еще картошечка. Я знаю, что нет. Я хочу пить. И говорю матери — «Ма, я пить хочу».
Темно, мы идем в умывальню, но там нет воды, отключили.
«Нет воды, видать, отключили», — говорит безмятежно мать.
Надо ждать до утра, но ждать нет никаких сил. Пить хочется не просто очень, а запредельно как. В этот момент я понимаю человека в пустыне. Я вообще-то и есть — человек в пустыне. Я иду и пью жадно и даже не морщась воду из грязного таза, в котором мать целый день намывала посуду. Я воин пустыни, мне ли брезговать водой.
Мать откуда-то издалека, со стороны туалета, начинает петь:
Там горы высокие
Там степи бескрайние
Там ветры летят По просторам шумят
Мы дети галактики Но самое главное Мы дети твои
До-ро-га-я земля-я-я-я.
Кромка гор слилась с небом. Теперь перед глазами просто непроглядная темень и даже без звезд. Завтра будет, видимо, прохладный пасмурный день.
Я ложусь спать на матрасике на полу вагончика. Мать и дядя Саша рядом, но в кровати. Сетка под ними неистово прогибается. Они снова возятся, думая, что я заснула. Но я не заснула. Я слышу такой жаркий, на одних гласных, шепот матери и его очень мелкое мышиное дыхание.
Он не догнал меня в винограднике, а значит, мать останется довольной в эту ночь.
Я боюсь сказать ей. Боюсь сказать. Я боюсь даже намекнуть. Мне очень стыдно, что я такая. Мне очень стыдно, что ее муж, мой отчим дядя Саша — такой. Я помню, очень хорошо помню, как она ревела по нему.
Я сидела тогда на его тощих, нервных коленях, ощущая задом его вялый, иногда дергающийся член.
Он удерживал меня силой на своих этих коленях, а мать на кухне жарила драники. Я слышала шкворчание этих лепешечек, но мать моя не слышала моего отчаянного шипения. Тогда дядя Саша удерживал меня на своих острых коленях, чтобы я ему ответила, хочу ли я и дальше видеть его своим отцом.
Отцом?????
В смысле... Отцом??????
Ну как-то в моем понимании тогда отец, это было что-то.
Я отца не знала никогда.
Я не знала, что такое, когда отец с тобой говорит, хотя бы.
Но даже при всем при этом я представить не могла, что отец мог бы елозить по своему члену моим задом как ни в чем не бывало.
Короче.
Я набралась смелости и сказала, что хочу, чтобы вы, дядя Саша, пиздова- ли бы куда подальше.
Он как будто даже ждал этого, без лишних слов отпустил меня, и потом в саду я застала красную от слез мать. Он ей сказал, мол, не могу остаться с тобой, твоя дочь меня ненавидит, она вот только что сказала, что мечтает, чтобы мы разошлись. Что ж, мол, так тому и быть.
Мать, взмахивая полными руками, кинулась в сад рыдать, обнимая цветущую яблоньку. Ее даже давление шандарахнуло, так она распереживалась, что этот червяк ее бросит.
Но класс в том, что червяк даже не собирался ее бросать. Зачем ему ее бросать, если у нее подрастает кузнечик-дочь? Он расчетливо набивал себе цену.
Он как надо сработал.
Мать была зла на меня, что я хочу разрушить их счастье. Дядя Саша за ужином был тосклив и участлив к матери.
Мать смотрела на него во все свои печальные глаза уже почти брошенной женщины. Благо, опыт брошенной женщины у матери был почетный.
Я была змеею, которую и к ужину допустить нельзя.
Правильная манипуляция делает чудеса. Плюс сто очков заработал дядя Саша, а я была унижена еще пуще прежнего.
Он потом мне так и говорил, что я грязная и ободранная кошка и что только он может меня защитить или уничтожить.
Я была его рабой. Я возделывала его грядки по легкому мановению его руки, по движению зрачков.
Он покупал мне куклу Барби и ее дружка Кена, покупал мне сметанку, покупал мне лосины, если я позволяла ему себя поймать.
Он занимался моим просвещением. Показывал мне картинки в журналах, где мужчины и женщины в разных позах дидактически ебались.
Он говорил, что это все поможет мне наладить отношения с будущим мужем.
Он также осуществлял контроль над моими связями.
В девять у меня связей особо не было, но в тринадцать потребность в связях начала расти.
Мне были симпатичны практически любые связи, лишь бы они были с молодыми ребятами. Лишь бы они давали хоть какую-то мимолетную надежду на то, что кто-нибудь из этих ребят из ревности засунет в жопу дяде Саше осиновый кол.
Но какие ребята могли быть в мои тринадцать? Такие же обсосы с грязными жирными волосами, как и я. Среди них не было никого, способного даже этот осиновый кол смастерить.
Дядя Саша выносил им со своей пасеки мед в сотах и пристально следил за их лицами. Их лица багровели, они высасывали мед и ретировались. Они думали — у меня довольно строгий отец, который не позволит им вольностей. Короче, в мои тринадцать вокруг меня тусили безвольные прыщавые медолюб- цы. Только и всего.
А дядя Саша повелевал мной безраздельно и безнаказанно.
Я загадываю на первый луч солнца. Я загадываю на воронье перо.
Я загадываю на тополиный пух. Я загадываю на молодую луну.
Я хочу, чтобы его горло искусали пчелы и он не смог больше дышать. Мы жили летом только при дневном свете. Экономили электричество. Нам нельзя было читать, например перед сном при свете, или вообще что-либо делать, даже в туалет идти при свете. Потому что киловатты — вещь неумолимая. Мы жгли самодельные свечи, если надо было что-то совершать после захода солнца.
А все дело в том, что очень много электричества тратила швейная машинка, на которой мы строчили универсальные сумки из белого хлопка. Это был еще один источник дохода для нашей семьи.
Сумки мы возили продавать в Тамань. Почему-то именно в Тамани такие сумки шли на ура. Мы их стихийно продавали на рынке в нескольких точках. Мы с матерью стояли по углам этого рынка, а дядя Саша бегал от нее ко мне, контролируя весь процесс. Он каким-то животным чутьем предугадывал появление людей, которые контролировали рынок весь вообще. За несколько минут до их появления он улавливал в воздухе какое-то волнительное шевеление и узкими губами давал команду резко собираться. Меня всегда страшила эта его способность предугадывать. А мать так вообще благоговела перед этим. Она уважала экстрасенсорные способности. Пыталась их обнаружить в себе, потом во мне, но смогла обнаружить их только в дяде Саше.
Мы резко сворачивали лавочку и, невинно насвистывая, делая вид, что нас ужасно интересуют таманские дыни, дефилировали прямо перед носом у держателей власти на рынке. Другие продавцы заговорщически нам подмигивали, им нравились наши сумки, и они в целом были рады, что мы там торгуем. Нас никто не сдавал. Поэтому мы всегда выходили сухими, как в каком-нибудь кино про талантливых аферистов. Короче, лично для меня рыночная власть была чем-то вроде мультяшных злодеев, убегать от которых было легко и весело. Но продавать эти сумки я все равно не любила. Ненавидела я даже это делать. Потому что у меня ну не было таланта продавать. Я всегда все делала неправильно. Торг был недоступным для меня ремеслом. То я продавала три сумки за бесценок, просто потому, что покупатель убеждал меня в выгодной оптовой сделке, то я не была готова сбить даже копейку с цены, когда покупатель уже был готов купить одну из самых больших и дорогих сумок с маминой вышивкой на лицевой стороне. Короче, дядя Саша бесновался, всякий раз подходя к моей точке. По его мнению, я была настолько бесталанна, что единственная моя мало-мальская способность была удовлетворять его.
Он всегда старался брать меня с собой, куда бы он ни шел. И всегда старался оставить мать дома, под предлогом ее очередного недомогания, или жары, или необходимости в уборке и приготовлении еды. Короче, дядя Саша пиздато устроился, имея по сути две жены — одну, опытную, для дел насущных, другую, едва оперившуюся, для остроты ощущений.
Где бы мы ни оказывались с ним наедине, на прополке свеклы, или на сборе жерделы, или на котловане с собакой, он всегда ловил момент. Зачастую у него это получалось с максимальной пользой. Я всегда плакала перед этим, да и после, но его это ужасно веселило. Он вообще был такой веселый чувак. По крайней мере, я его в грусти не видела ни разу. Он был веселый и гневный. И в этом он был неимоверно жалок. Веселый гневный жалкий опарыш. Матери такое сочетание, видать, ужасно нравилось. Она этому сочетанию поклонялась, как богам. Хотя, может, в ее картине это сочетание было обозначено другими словами, типа сильный, справедливый и экстрасенс. Не знаю, в общем, что было у матери в голове. Я когда ее спрашивала, че она вообще про дядю Сашу думает, она всегда как-то довольно скомкано объясняла. Но ни слова про любовь там не было, в этих ее описаниях своих чувств к дяде Саше.
И у него, я думаю (хоть я никогда не спрашивала), не было бы ни слова про любовь, если бы он взялся описывать чувства к моей матери, да и ко мне. Уж тем более — ко мне.
Хотя бывало, что мы с ним даже ладили. Или как-то веселились. Я показывала ему и матери театр. Показывала номера с песнями и танцами. Читала им свои детские рассказы про любовь в ролях. Они сидели в таком типа гамаке, то есть на советской сетке от железной кровати, которая была подвешена между двумя
грушами. Они качались взад-вперед в обнимку, а я перед ними выступала в простыне через плечо, как римский поэт какой-нибудь. Дядя Саша возбуждался от этого и неизменно по окончании моих выступлений старался меня поймать. Если я не давалась, вечер превращался в ад. Внезапно и скандально выяснялось, что, оказывается, в то время как я пою, танцую и хуйней страдаю, морковка на огороде не прорежена, помидоры не политы, полы не помыты, упавшие сливы не собраны, и за собакой никто не убрал говно. Мать, поджимая хвост, бежала сразу жарить или варить картошечку, а я плелась убирать говно и в сумерках улаживать огородные дела.
Потом с утра дядя Саша резко добрел. Вспоминал, смеясь, мои рассказы и самодовольно заявлял, что когда я вырасту, то напишу и о нем какой-нибудь серьезный рассказ. Или роман. И он в старости будет его листать у камина, вспоминая меня девочкой, тонким кузнечиком, почесывающим комариные укусы на икрах. Я когда представляла себе эту картину, то мечтала лишь об одном — если таковые рассказы и случатся, то дядя Саша просто обязан к тому моменту сдохнуть.
И поэтому я загадывала на каждую букашку, на каждый упавший листик — кто-нибудь помогите, причините ему смерть!
Я вообще всегда еще загадывала такое желание, чтобы в меня кто-нибудь влюбился. Лет с десяти так начала я загадывать. На фоне воздействия на меня индийского кинематографа. Там всегда существовал злой и похотливый, с серьгой в ухе такой гад, который бессовестно и умело разматывал сари на невинной героине. Но! Всегда довольно вовремя, впрочем, дав возможность героине как следует порыдать, приходил Митхун Чакра- борти. Красивый. Молодой. Драчливый. И при этом невыносимый добряк. Он этого гада побеждал обычно довольно символически, не убивая его, а просто положив на лопатки.
Я, конечно, мечтала о более кровожадном Митхуне Чакраборти. Он со дня на день должен был навестить дядю Сашу. Предварительно влюбившись в меня, разумеется. И потом мы с ним должны были бы бежать от правосудия за границу, желательно в Индию. И затеряться там в индийских красотах.
Мать я бы с собой не взяла.
Пусть сидит на могиле дяди Саши и выращивает там редис. Пусть всегда помнит и обижается на нас с Мит- хуном Чакраборти, что мы жестоко всадили кол в жопу дяде Саше и довели его тем самым до безобразной кончины. Пусть мать плачет. Пусть. Пусть рассказывает соседкам, какое чудовище (меня) она породила на свет. Пусть ненавидит меня, взбесившуюся ни с того ни с сего. Но только бы она не узнала, как обстоят дела на самом деле! Только бы не узнала! Пусть плачет, ненавидит меня, но пусть живет. Живет! Потому что если узнает, если догадается, то умрет в ту же секунду. В этом я не сомневалась. Потому что такое нельзя пережить матери. Ну нельзя. Есть вещи, которые нельзя пережить. И эта вещь определенно в списке.
Я загадываю на любую хуйню, на все подряд.
Лишь бы нас постигло великое землетрясение, которое бы стерло в порошок его поселок, его дом, его самого.
На руинах мать, рыдая, нашла бы вдруг мои обнаженные фотографии. Которые дядя Саша снимал, когда мне было 11.
На них я лежу голая, раздвинув худые ноги и пытаюсь скрыть лицо.
В мои 14 дядя Саша меня наконец-то выебал по-настоящему. И после этого все в моей жизни потеряло смысл. Все, кроме Митхуна Чакраборти. Его я ждала отчаянно, искала его во всех встреченных мною мужчинах, мальчиках и даже девочках. Но всем этим встреченным мною людям было до пизды на дядю Сашу. То есть даже не так — каким-то мистическим образом они являли собой продолжение дяди Саши. Они хотели только ебать- ся и не собирались меня любить. Но я упорно искала, все больше и больше погружая свое тело в толпу людей с торчащими хуями. Не было ничего гаже этого. Я не знала раньше, что поиск Митхуна Чакраборти так отвратителен.
К слову, мать по-прежнему безмятежно ничего не замечала. Ее не смущало мое вранье ни секунды, она легко верила в любую чушь. И она совсем не волновалась, когда я пьяная приходила домой в четыре часа утра, и на мне были укусы и засосы, в карманах была анаша, и воняло от меня сигаретами, и волосы мои были в сперме. Она без тени смущения целовала меня на следующий день, не успевшую еще освежиться. И ни одна непристойная мысль не закрадывалась ей в голову, так невинна и чиста была моя мать.
Ее даже нисколько не волновали хмурые и опасные парни, которые звонили в нашу квартиру уже давно заполночь и просили позвать меня. Она дружелюбно открывала им двери, даже впускала в дом, как друзей, и звала меня, мол, ребята пришли. Потом деликатно удалялась в свою комнату, а «ребята» брали меня за шею и вели гулять. «Ма, я гулять!» — сдавленно пищала я матери, и в моем голосе ей не чудилось ничего необычного. И вообще во всей этой ситуации она не видела ничего такого.
Дядя Саша не вполне осознавал, лишая меня невинности, что не один он будет этой дорожкой ходить. Что найдутся ходоки свирепее его, найдутся те, кто лишь под утро будет отпускать меня домой. Короче, в моем расписании, в моей типа бальной книжечке для дяди Саши уже не было ни одной свободной строчки. Да и он более не мог настоять на отмене танца с другим, молодым наглоглазым парнем. Он оказался на обочине. Но сдаваться не собирался. Он ловил меня теперь во сне. Ему, разумеется, не важна была взаимность. Ему важен был лишь свободный доступ. Это было наиболее осуществимо часов эдак в пять-шесть утра, когда мой сон был невероятно крепок от алкоголя и усталости. Теперь я неприятно просыпалась от того, что дядя Саша мелко и тихо возится на мне. И хоть каждый раз от его вида, и уж тем более прикосновения, мои легкие как будто наполнялись свинцом, я все-таки росла. И легкие мои становились больше.
В 17 я вдруг поняла, что я физически сильнее его. Хотя, скорее всего, я физически уже давно была сильнее его, но не имела морального как бы права поднять на него руку. А тут я это право вдруг ощутила. Это случилось довольно внезапно.
Мать загремела в больницу с инфарктом. Я готовила ей бульон, чтобы отвезти в больницу.
Дядя Саша рыскал вокруг меня, приноравливаясь. Материн инфаркт и ее отсутствие дома будоражило дяди Сашину жидкую кровь.
Он подобрался ко мне и нелепо прижался, я же неожиданно для себя, словно обладая какой-то суперсилой, свирепо отбросила его легонькое тельце в конец коридора, и он ударился при этом головой о тумбочку. Он опешил, конечно, сперва. Даже как-то стушевался. Но через минуту резвым ужиком вернулся в кухню и схватил нож. Глаза его беспомощно слезились. И это было невероятно классно видеть.
Он стоял против меня с ножом. А я нашла в себе силы ржать. Ржать над ним. Над его полиомиелитом. Над его импотенцией. Над его маленьким росточком. Над его нервами. Над его червячной жалкостью. Над его похотью и над его членом. Я ржала в голос и объясняла дяде Саше, над чем конкретно я сейчас ржу. Мне было похуй на нож. Я понимала, что сейчас убиваю его просто своим ржанием. Молодым, полным сил, циничным и бесстрашным. Он никогда такого не слышал, думаю, в свой адрес. Когда я закончила, а попросту мне надоело ржать, нужно было ехать к матери, я просто прошла мимо него. А он все еще держался за рукоятку ножа, несколько пошатываясь, как ребенок, который не умеет еще ходить, держится за палец взрослого.
Я беспрепятственно прошла. И, стараясь говорить небрежно и властно, велела дяде Саше уебывать. Чтобы духу его не было, когда я вернусь из больницы.
Но у больной матери были другие планы на дядю Сашу, поэтому она, осудив меня, всячески просила прощения у него, даже не разобравшись толком, что же произошло.
Он милостиво остался в семье. Но только старался теперь держаться ближе к матери и подальше от меня. В своих снах я приставляла нож для резьбы по дереву к его яйцам. Но сны редко бывают управляемы, поэтому в конце сна он всегда умудрялся одержать верх. Он резал мои сухожилия тонкими лезвиями, чтобы я не могла бежать, он имел такие руки, которые цеплялись за меня, даже когда я лишала его жизни. Он умел даже после своей смерти держать меня за горло в темном углу. Он был непобедим.
Я пью и пишу, пью и пишу, я мешаю шампанское с водкой. Я еду в поезде в Москву и пишу типа сценарий, ну, то есть, даже синопсис, где я в финале убиваю дядю Сашу. Я долго пыталась придумать способ, но как-то сам по себе возник такой — я всаживаю отвертку, огромную отвертку на минус, прямо под кадык дяде Саше. Я выше и сильнее него. Он скукоживается, как устрица под лимоном. Клокочет. Я ликую. Наконец-то я вижу его труп. Вожделенный такой, иконописный практически. Ну то есть — такая же изобразительная сила для меня в трупе дяди Саши, как для некоторых — в иконе.
Поезд пошатывает, как обычно, я пью шампанское и водку. В одном стакане. Дописав финал уже ближе к пяти утра, я успокаиваюсь и засыпаю на два часа. В восемь мы уже на Казанском.
Январь, снег, Рождество.
Я приехала с небольшой сумкой, как будто на несколько дней, но на самом деле — уже навсегда. И хоть я и буду еще мотаться Краснодар — Москва, Москва — Краснодар, но уже ни капли краснодарской крови во мне не останется.
Я уезжала из +15, а здесь метель, и это мне безумно нравится. Я пьяна немного, и мне кажется классным то, что снег залетает мне за шиворот сзади. Я бы могла пройти сейчас пешком через всю Москву и не скукожиться. Я чувствую себя так, как если бы удачно сбежала из Матросской тишины и сменила лицо.
Меня здесь не знают. Не знают! Не знают!
Я иду, улыбаюсь, и все думают, наверное, что я милая, хорошая.
Я встречаюсь с людьми, знакомлюсь, говорю о делах, и никто даже предположить не может, кто я вообще. Это бесконечно пьянило меня.
Здесь не было и быть не могло опасных поселковых ребят, знающих, что я «даю». Здесь не было и быть не могло дяди Саши, который на протяжении всей моей жизни внезапно возникал. Даже после развода с матерью я вдруг внезапно обнаруживала его в своей девичьей постели, ах, он, оказывается, попросился переночевать, и мать не придумала ничего получше, чем уложить его в мою кровать.
Здесь это исключено! Ни в одном доме я не застану дядю Сашу! Нигде! Ни лицо его, ни руки больше не потревожат мой сон. Все кончено. Кончено.
Я взяла еще алкоголь и поехала на квартиру к подругам, они были как-то заняты работой, вечер я проводила одна в их квартире, и мне ужасно нравилось пить коньяк с колой и смотреть на снег.
А потом мне позвонила мать.
И своей излюбленной интонацией севшего от горя голоса сообщила мне, что сегодня ночью был зверски убит дядя Саша, отверткой в горло. Ночью, когда я ехала в поезде и писала о том, как я убиваю его. Той самой отверткой в его горло. Потом еще мать, не заботясь о произведенном эффекте, какое-то время рассказывала мне о дате похорон, что она хочет пойти, попрощаться с ним. Потом еще о подозреваемом, что это какой-то парень какой-то несовершеннолетней девочки, которую дядя Саша фотографировал голой, а ее парень узнал об этом, обезумел и убил его. И что нашли фотографии этой девочки, и так вышли на этого парня. «Ма, а мои фотографии там случайно не нашли?»
Очень хотелось спросить мне... Но я просто положила трубку.
Потом я позвонила своей подруге в Краснодар, которая была частично в курсе истории с дядей Сашей. Я истерично проорала в телефон, что я его убила тупо росчерком пера. Подруга деловито выспрашивала подробности, а потом с присущим ей юморком попросила меня написать еще пару таких синопсисов, где в конце были бы умерщвлены ее враги. У нее тоже были свои мечты о трупах. И она безоговорочно поверила в силу моего пера.
Я снова положила трубку.
Мне неудержимо хотелось что-то писать, но было страшно, что все сбудется.
У меня не было никаких сомнений, что я являюсь гораздо более серьезным экстрасенсом, чем дядя Саша. Убить человека на расстоянии — это прямо мощно. А тот парень, который физически всаживал отвертку в горло, даже и не подозревал, что является лишь моим орудием.
Я чувствовала себя Богом.
Я ебанула очень нескромную порцию коньяк-колы и забылась сном.
Я должна была увидеть вожделенный труп. Поэтому я поехала на похороны дяди Саши.
Там были две дочери дяди Саши от другого брака. Они смотрели на меня с ревностью и неприязнью. Там была моя мать и тетка. Все скорбели и делали вид, что не знают, за что дяде Саше загнали отвертку в горло. Я во все глаза смотрела на его труп. Он мне нравился невероятно. Не очень часто в жизни я испытывала такой эйфорический всплеск без наркотиков.
Его горло было деликатно прикрыто воротником-стойкой и чем-то вроде жабо. Мне стало даже интересно, кто его одевал в последний путь. Мать с опущенным лицом стояла на самом краю могилы и, казалось, была готова прыгнуть за гробом вниз. Дочери дяди Саши ютились друг к дружке. Мне же было невероятно сложно скрывать свое ликование. Каждый удар молотка по гвоздю был для меня песней. Песней. Песней.
На поминках мы с моей теткой вышли покурить. Она сказала, что ей хотелось бы поговорить со мной, пока я не уехала в свою Москву.
Да, конечно. Давай поговорим.
Она довольно долго ходила кругами, что, мол, они с моей матерью много разговаривали после смерти дяди Саши о нем. И о том, как они жили. И что-то там блаблабла.
А потом она так подняла на меня свои тяжелые глаза и, выдыхая дым, резко спросила: «Ты же ведь соблазнила дядю Сашу?»
Пока я приводила легкие в порядок, следовал небольшой и лаконичный спич, что они с матерью резюмировали простую вещь — все время, пока дядя Саша и мать жили в гражданском браке, я, как ебаная Лолита, соблазняла дядю Сашу, и он изменял матери со мной.
Меня ничего особо не поразило, кроме одной вещи. Одной вещи, которая полностью нивелировала мою жертву. Все мое многолетнее молчание. Эта великая идея о сохранении сердца моей матери — была в одну секунду разрушена.
Моя мать знала.
Сразу. С моих девяти лет.
И пережила.
Моя мать очень живучая.
Она пережила вещь, которую нельзя пережить матери.
лЗ
Любая твоя фраза, любое твое утверждение меня адски бесит.
Но я сижу и делаю такое лицо, типа терплю.
На самом деле я в секунде от того, чтобы не разреветься от несоответствия тебя и меня. Я в миллиметре пребываю от этого уже долгие годы. Мы сидим в ресторане. Я каждый раз вожу тебя в ресторан, когда ты при-
езжаешь ко мне в Москву. Ты ждешь от меня щедрый жест — я его совершаю. Может быть, кстати, ты его и не ждешь — но я его совершаю.
Я смотрю на тебя — ты держишь на вилке кусок из оливье и покачиваешься в такт песне, которую живой музыкой исполняет не пойми какой чувак. Хотя исполняет именно для тебя, армянский певец. Поет чудовищно. Невыносимо.
Но ты покачиваешься и никакой чудовищности в его исполнении не чувствуешь.
У меня течет из ушей кровь, но тебе все ок.
Мне охота перевернуть стол, но ты приехала на неделю. Неделю я могу прожить без перевернутых столов, только немного сточатся зубы. Мама.
Я тебя люблю.
Я говорю это сама себе ежеминутно, чтобы не превратиться в монстра. Эти слова — «я тебя люблю» — как будто немного меня оправдывают. Я как бы пытаюсь этими словами бессознательно уравновесить чашу весов.
«Я тебя люблю, мама» — это заклинание, которое не дает мне с заходом солнца стать оборотнем.
Я закрываю глаза, вспоминаю твой запах в моем детстве. Вспоминаю, как я обнимала и нюхала неистово твои подушки, когда ты куда-то уезжала. Как я ждала тебя с работы, и только завидя из окна вдалеке твою фигуру, начинала носиться по комнате и петь. Как я залезала под стол во время ужина, там было темно, и я видела твои колени и заходилась от счастья, что их вижу, ползала под столом, зная, что твои колени со мной. Вспоминаю твой голос, руки, шершавые от чего-то, но такие приятные, когда ты с силой гладишь меня по волосам, а мне немного больно, чувствительные тонкие волосы, но все равно — радостно, что это твои, твои, мама, руки.
Твои разговоры со мной перед сном, когда я — о, чудо — вдруг сплю в твоей кровати, и ты мне рассказываешь про свою работу, про овец каких-то и коз, и страусов. И я жмурюсь от удовольствия и сладко засыпаю.
Твое любование мною, обожание, когда я бешусь, кривляюсь, изображаю Филиппа Киркорова, Кузьмина и всех исполнителей, которых ты любила. Когда я надеваю немыслимые тряпки на себя — и ты, как истинный фанат аплодировала мне — «Артистка, артистка растет!» Твои объятья, очень резкие, поцелуи всегда стремительные, как в советском кино, когда немного больно щекам. Твои подарки — куклу Золушку, которую можно было переодевать, Карлсона, которого я всегда наказывала за непослушание — как и ты меня — лозиной дерева ивы, растущей под нашим окном и всегда зеленеющей раньше других лозин по весне...
Я открываю глаза и теперь у меня есть силы улыбаться тебе и говорить с тобою мягче.
Я поддерживаю в себе искусственно те чувства, которые не имею права потерять. Не хочу потерять.
Но меня не хватает надолго. Ты снова скажешь какую-нибудь глупость, и я взрываюсь. Меня никто на свете не способен так качественно взорвать, как ты.
Мы сидим вдвоем на кухне, и ты говоришь:
— Знаешь, ты такая толстая, даже не знаю в кого. У нас все худые были.
Я так вообще до сорока лет такая худая была, что даже не знаю, все говорили — маленькая дюймовочка. Сейчас конечно, я толстая, но это уже понятно. Но вот зато, когда я теперь толстая, то стала похожа на Екатерину Вторую. Я — Екатерина Вторая! Всегда хотела быть Екатериной Второй. Я, кстати, как Екатерина царица Вторая, привезла вам хорошую краснодарскую погоду. А то вы тут прозябаете. А я вот привезла жару. Видишь?
— Знаешь, мой Леня сказал — этот сарафан можно отдать нищим. Он просто меня старит. Нееее, Леня не знает, сколько мне лет. Что ты! Не дай бог! Я, кстати, скорую поэтому никогда не вызываю, если мне даже сильно плохо. Там же тетя приходит и сразу с порога спрашивает — сколько полных лет? Неее. Я при Лене скорую никогда не вызову. У меня вообще столько трав собрано и засушено, они мне как скорая. Я вот алой пила с медом, у меня, правда, потом аллергия по телу пошла, что пришлось скорую все-таки вызвать. У меня на подоконнике алой такой растет, приедешь, я тебе отрежу, в Москву заберешь, а то вам там лечиться нечем совсем.
— Знаешь, я купила тебе тулупчик 52 размера. Что? Не будешь носить? Ну хороший, смотри, какой тепленький. Коричневый как раз. Я помню, ты всегда любила коричневые замшевые куртки. Нет? Ну че ты орешь? Ну. отдай тогда, кому подойдет. Да ладно-ладно, не тратила я деньги, не покупала я его, мне отдала одна женщина, ты знаешь, такая хорошая женщина, она тоже стихи пишет.
— Знаешь, что храм Василия Блаженного построили еще до Христа? А что в Википедии? А что такое — Википедия? Ну и что, что там пишут! Какой Иван Грозный! Это языческий храм, говорю тебе, это еще наши предки построили, еще даже Москвы не было. Это языческий храм в честь бога Ра! Говно вся эта ваша Википедия, что ты! Я тебе книжку дам почитать, там вся правда написана!
— Знаешь, что дольмены лечат от рака? У нас одна женщина пила настойку календулы и сидела возле дольмена целых три месяца — и вылечилась от рака. Ты проверялась на рак? Я вот не пойду никуда проверяться, я знаю, то надо делать, если че. У нас все там лечатся на дольменах. От бесплодия тут женщину вылечили. Еще там люди приезжают через костры прыгать. Но это не рядом с дольменами. Там рядом нельзя костры, там можно только лечиться. Костры мы жгем на речке, там внизу под горой. Я вот по углям пошла, Наташенька, так здорово! Правда, обожглась сильно, конечно. Надо пятки иметь такие, с наростами, чтобы не обжигаться. Это как знаешь, такие рукавички есть силиконовые для того, чтобы кастрюли снимать с плиты, а есть пятки у людей с наростами, вот они по углям могут весь день ходить, хоть бы хны. У меня тоже есть наросты, но как-то не знаю, не помогли. В общем, болели в тот раз ожоги долго. Может, еще попробую, уже какой-то иммунитет будет от огня на пятках.
— А вот на этой фотографии Степа с какой-то девочкой сидит, смотри, она какая красивая! А он в нее не влюбился разве? Смотри какой носик! Не знаю, прямо красивая. Актриса? Актриса, да. Ты, помнишь, тоже хотела актрисой стать. Но с твоей внешностью. Правильно, кстати, режиссер — это власть. Это хорошо, всеми командовать. Хотя красивого мужика все равно не удержать. Знаешь, мне мама говорила: красивый мужик — всегда чей-то еще. Поняла? Ухо востро! Не, ну эта девочка, ну чудо, очень красивая.
— Слушай, ты, конечно, очень нервная. Ты, когда была маленькая, ты такая была хорошенькая, так слушалась меня! Такая нежная была! Всегда меня обнимала! Ты че такая грубая щас?
— МАМА, Я ИДУ КУРИТЬ И СПАТЬ.
Мама, я иду курить и спать, а еще я напьюсь. Ты говоришь непроходимые глупости, я могу их слышать, только когда напьюсь.
По-трезвому — я не могу это слушать, извини. У меня кровь закипает, мне вредно, я тоже имею свои болезни, и одна из них — мигрень, а другая алкоголизм. Ты своими текстами провоцируешь их обе. Мама, помолчи, почему ты так не ценишь тихий вечер!
Мама.
Я уже не готова на жертвы.
Да и ты, конечно.
— Мама, может, ты останешься еще на пару дней? Год не виделись.
— Да что ты. У меня там кизил цветет, помидоры надо поливать, там грядки, там лучок, там.
— Мама, приедешь летом?
— Каким летом, там помидоры-огур- ки созревают, там пчелы, куры, там.
У меня, мама, — летом съемки, кастинги, экспедиции, репетиции, монтажи, футажи, хуежи.
Короче, ма.
Суть в том, что мы друг другу не нужны.
Когда случилось так, что я стала от тебя беситься, а ты меня бояться?
В какой такой роковой момент хороший аналитик мог бы заявить — эти двое теперь отдельно.
Ты, наверное, думаешь, что вся беда пошла с того момента, как я села в самолет и улетела от тебя в дали дальние. Вопреки твоей сформировавшейся мечте о том, что я — младшая дочь — буду у кровати сидеть и стаканы с водой тягать. И умрем мы в лучшем случае в один день, в худшем — я еще годок поживу. Но все равно — уж по крайней мере до твоей смерти я все же буду при тебе. Но!
Младшие дочери в сказках за Аленьким цветочком хуярят. Вот и я. Туда же. Уехала, испарилась, ищи-свищи предательницу корней.
Но и не в этом, конечно, суть того, что мы теперь сидим на диване — две чужие. И ты трогаешь мое плечо, а я дрожу от протеста.
Как, когда, каким образом получилось, что я от слепой, непостижимой, кровоточивой любви, за которую я без прикрас могла, не моргнув, убить, шагнула в ненависть. Как из Солнца в тень пересекла границу на Луне.
Ты вряд ли возьмешь на себя смелость подумать, что уже давно не любишь меня. Это для тебя будет святотатство, нарушение табу. Ты не любить можешь только чужих, но своих — обязана. И мне так хочется, так хочется тебя осудить, ткнуть тебя лицом в ложь, в равнодушие и эгоизм. И каждый раз, когда мы встречаемся, я трачу на это все наше время, а когда ты уезжаешь — рыдаю от сиротливости. Не хватает тебя. До одури, до спазма в животе. До кошмарных снов, где я теряю тебя навсегда.
— Мам, давай останешься еще на три дня.
— Да какой! Там куры, там Леня выходит на работу, и кур некому кормить, там рассада уже.
Ма.
А давай так. А если это все. И больше не увидимся. Ты, во-первых, гипертоник, с пороком сердца и тебе уже 72.
Я, во-вторых, алкоголик и мне тоже может грозить всякая хуйня.
Где, мам, в этой нашей с тобой цепочке вероятных смертей куры и рассада? На каком пьедестале они стоят?
Где мои съемки и монтажи? Где проблемы с деньгами и голоса продюсеров из поднебесья?
Какого такого хуя мы раз в год можем встретиться, чтобы недельку ты понаблюдала меня нервную в работе, а я тебя в разговорах о курах и прочей бессмыслице?
Но и даже ладно. Даже если ну совсем откинуть продюсеров и ку- рей (что вообще одно и то же — их надо обслуживать, наплевав на все человеческое), то вот представить себе, что мы с тобой имеем кучу времени для общения — что мы будем делать?
Я отвечу с почти стопроцентной уверенностью.
Я буду раздражаться на каждую твою фразу по причине ее невероятной глупости.
Ты будешь обижаться и симулировать если не обморок, то головокружение, чтобы вызвать во мне сочувствие.
Сценарий из года в год один и тот же. Пожалуй, если бы мы жили вместе, то какая-нибудь катастрофа уже произошла бы, а так — мы мама и дочь в вынужденной разлуке.
Я избегаю телесного контакта — ты его провоцируешь.
Ты пытаешься ухватить меня ту, прежнюю — нежную, прыщавую, восторженную, поющую и танцующую с тобой дикие индийские танцы под дождем. Ту девочку, ревущую в голос от того, что кошка съела мышь. Ту девочку, которая спала, обнимая тебя, и говорила во сне с инопланетянами, чтобы удивить тебя, шокировать, привлечь внимание, сообщить каким-то дурацким образом, что она другая, не такая как все. Ту девочку, которая писала для тебя эпатажные рассказы с откровенными элементами секса, чтобы только ты поняла — девочка взрослая.
И потом — ту, уже взрослую девочку, которая берегла тебя, не давала сделать ошибок, была всегда рядом, хуярила твоих мужчин, защищая тебя, сдавала литрами кровь, чтобы спасти, была всегда близко — и всегда на твоей стороне, что бы ни случилось. Короче, тебе была всегда нужна именно та девочка — еще не осмыслившая тебя сполна.
Я же, напротив, — пытаюсь отстраниться от тебя новой, нежеланной, корявой. Потому что именно такой ты мне сейчас и являешься. Потому что произошло осмысление. И в возрасте довольно зрелом я вдруг охуела от того, как по правде обстоят дела. Ты пытаешься вернуть прошлое. Вот это вот все, вот этот весь наш солидарный мир против всех. Против всех моих отцов и всех наших родственников, всех соседей и всех, кто криво смотрит в поселковом магазине.
Эти наши песни в траве. Мы с тобой, мама, — как сверчки все время пели, как зайдет солнце. Мы любили закаты и ходили их смотреть в поле. Мне это так нравилось... Мы гуляли в цветущих яблоневых садах, ты все время пела или сочиняла стихи, и я пела вслед за тобой и тоже сочиняла что-то про весну и подснежники. Мы любили друг друга неистово, и я всегда, слышишь, всегда чувствовала твое сердце и твое тепло.
И вот ты хватаешь прошлое, все время пытаешься вспомнить — что же я любила до своего прозрения? А я. Я пытаюсь отложить настоящее. Прости. Не могу сегодня звонить. Позвоню — и сразу расстроюсь. А такой хороший вечер, так хорошо с мужем, так хочется позави- сать в фб. Не буду звонить. Завтра. А завтра опять — утро прекрасное, надо Саше приготовить обед, и вот написать сценарий, а потом встреча, а потом пришли друзья, а потом уже подвыпила, а потом снова вечер и опять хочется сохранить его блаженным, не больным — а ведь как только я позвоню, то сразу станет больно. От голоса твоего беспомощного, от раздражения моего дурацкого. От того, что я не рядом (хотя и не хотела бы быть рядом), но почему все равно так больно — от того, что я не рядом.
Ты боишься меня, моей вспыльчивости и поэтому часто врешь. Вранье стало твоим стилем. Но и теперь тебе уже, повторю, — 72, и ты стала терять как бы память, путаться в показаниях. Поэтому твое вранье уже как бы и не вранье. Особенности личности. Вот и все.
Поэтому почти любой наш разговор бесполезен, ты его из памяти вырвешь через секунду, как газетный лист перевернешь.
Я помню такой кадр из одного хорошего документального фильма, где внучка приходит к бабушке с вопросами про главное, но бабушка уже не здесь. Или делает вид, что не здесь. Ничего не помнит, ни на что не отвечает.
Вот и ты на все мои больные вопросы не особо отвечаешь. Да и шутка ли — отвечать на вопросы взрослых детей, почему все было так в их детстве.
Почему ты, мама, почему все время ходила мимо, как подруга или одноклассница, которая способна очень хорошо выслушать и порыдать с тобой, а защитить — не способна.
Не будет, невозможно, чтобы был какой-либо ответ, ведь есть у тебя на это только слезы и поджатые губы.
И ты говоришь:
— Ну что ты, доченька, ну все мы живы и здоровы, ну что ты!
— Ну что ты доченька, ну ты такая самостоятельная была всегда, я так тебе доверяла.
— Ну что ты доченька, ты помнишь, ты сказала, что больше в школу не пойдешь, и мы купили тебе аттестат, на рынке, помнишь? А вся наша родня кричала, что ты уборщицей будешь, а ты режиссером стала, видишь?
— Ну что ты доченька, ведь помнишь, я тебя в 13 лет на море отпустила одну, я так доверяла всегда твоему рассудку, ты ведь старше меня всегда была! Прямо как родилась.
— Ну что ты, что ты орешь опять?
Я ору, ма. Я и по ночам ору. И вообще — я ору. Я грубая, да, матом на тебя ору иногда, и на помидоры твои ору, и на пчел твоих. Я никогда не получу ответа. Сколько бы ни пытала тебя, какие бы откровения ни выдавала.
Все это уже не касается тебя нынешнюю, да и меня нынешнюю — тоже. И я уже мама своей Сашки, и уже некоторыми ночами не ору в ненависти. И даже (прикинь!) уже не очень хочу получить ответ. Его тупо нет. Такая жизнь, и все живы-здо- ровы, а чего еще надо. И все тонет, и должно утонуть в грязной речке Анапке, там как раз ничего утонувшего не увидеть.
Не вскрывать раны, не говорить, не помнить, не касаться страшного, не будить медведя, не обнажать мечи. Пусть все-все-все поспят в нашей с тобой, мама, виноградной долине, где так ярко светили звезды. И эту долину, мама, я никогда не забуду. Как великий парадокс любви и слепоты. И когда ты умрешь (если я еще буду жива), я буду орать на себя за то, что орала на тебя.
Думая о тебе, я всегда дрожу, ма. Твоя детская слабость и беспомощность — моя самая великая боль.
Я могу тебя принять, могу тебя принять.
Но — не могу. Я чересчур разочаровалась.
Мне часто снится наш дом, который я ненавижу и который тянет меня магнитом. Эту нашу душную комариную квартиру со скрипящими деревянными полами и тараканами, этот балкон. Мне часто снится, как я снизу, с улицы, смотрю на наш балкон и вижу, что там горит свет, и думаю, раз горит свет — значит ты там, ты жива. Но не могу зайти в подъезд и подняться. Стою во сне, как дура, и смотрю. И думаю во сне, думаю — хочу ли я зайти, увидеть снова этот дом, который вроде мой, но на самом деле совсем не мой.
И трава такая зеленая вокруг, и такая высокая.
Мы лежали с тобой в этой траве. Я хотела бы лежать так вечность.
Я хотела бы, чтобы никогда в нашей с тобой траве не появлялся дядя Саша, твое сомнамбулическое равнодушие, твои сердечные приступы, и эта твоя желтая трусость, и эта моя красная ненависть.
Ма.
Давай еще полежим в зеленой-зеленой и такой нашей траве и посмотрим на наш балкон, в котором горит свет, и в котором ты. И будем петь вместе — ты по-кубански открыто, а я фальшиво и фальцетом вот эту песню:
Там горы высокие
Там степи просторные
Там ветры летят
По проселкам пыля.
Мы дети галактики
Но самое главное Мы — дети твои
Дорогая земляяяяааа.
Издатель: Любовь Аркус
Дизайнер: Арина Журавлева
Корректор: Валентина Кизило
Издательство «Сеанс»
зЬор.зеапсе.ги
Санкт-Петербург, Каменноостров- ский пр., д. 10. +7 (812) 237-08-42
Отпечатано в типографии «Парето-Принт». Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс 3а. Подписано в печать 29.09.2017. Тираж 1000 экз.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



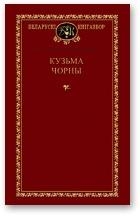





Комментарии к книге «Рассказы», Наталия Викторовна Мещанинова
Всего 0 комментариев