Анна Матвеева Спрятанные реки Истории о попутчиках
Камин Святого Якова Дневник одного путешествия
Пролог. Екатеринбург
Со святыми у меня всегда было хорошо. Особенно – с католическими. Я их с детства люблю, хотя мы с мамой никакие не католики, да и православными могли себя назвать с большими оговорками. Мы из тех православных, которых истинно верующие выгоняют из храма за то, что без платка и в брюках. Мы на бегу ставим свечку у первой попавшейся иконы (а ведь ходили специально – к Симеону Верхотурскому!) и покидаем церковь под хоровое шипение, заглушающее даже самого голосистого диакона.
В детстве я знакомилась в основном с католическими святыми – и не в храмах, а прямо у себя дома. Листала альбомы по искусству и – знакомилась.
Вот святая Агата. Она держит в руках тарелочку, где лежат её отрезанные груди, и смотрит на них с каким-то удивлением, как будто сама не понимает, что это с ней приключилось. Груди похожи на светильники в нашей квартире, и я этих светильников стеснялась перед подругами, хотя они святой Агаты знать не знали.
Вот святой Пётр с ключом и святой Павел с мечом. Пётр седой, кудрявый, широколицый. Павел тоже седой, но лицо имеет несколько более вытянутое, и борода у него в форме веника. В детстве мне казалось, что святой Пётр похож на Карла Маркса, а святой Павел – на Фридриха Энгельса, но я об этом благоразумно никому не рассказывала.
Вот святая Екатерина с колесом – опирается на него так естественно, как будто это не орудие пытки, а просто нужная в хозяйстве вещь. Вот четыре евангелиста – и каждого сопровождает кто-то крылатый: Иоанна – орёл, Матфея – ангел, Марка – окрылённый лев, Луку – бык с крыльями. Вот бедненький святой Варфоломей, с которого заживо содрали кожу. Святой Христофор с младенцем Иисусом и святой Симеон – тоже с младенцем. Франциска Ассизского в коричневом облачении легко спутать с Антонием Падуанским, но у Франциска рядом всегда животные и птицы, а у Антония – снова младенец, и ещё лилии.
А вот мой самый любимый святой – Иероним, по-итальянски – Джироламо. Он носит красную кардинальскую шляпу и достаёт у льва из лапы занозу. Лев пришёл в монастырь за помощью, заноза ему сильно досаждала. Монахи в ужасе разбежались, но святой Иероним не побоялся хищного зверя и вылечил его. После этого лев стал верно служить Джироламо, но потом, кажется, отбился от рук.
Святой Фома (по-английски – Томас) был любопытным и недисциплинированным: вечно всюду опаздывал, пропустил и Явление Христа апостолам, и Успение Богородицы.
Святой Яков (Сантьяго по-испански) запомнился тем, что носил на шляпе красивую ракушку, немного похожую на те, которые мама привезла с моря. Единственный раз, когда она была на море – без меня и без денег. Поэтому вместо подарков привезла то, что смогла найти интересного, – ракушки, жёлуди, шишки кипарисов, перья каких-то птиц: жёсткие сверху и пушистые, нежные снизу.
Я была тогда в пионерлагере – проплакала всю смену, скучала по маме и не хотела участвовать. Участвовать заставляли вожатые, воспитательницы, старшие девочки, но я просто заливалась слезами и считала даже не дни, а часы до конца заточения.
С тех пор я научилась ощущать каждый день: его начало, зенит, закат и уход.
Помню, как мама приехала за мной – до конца смены оставалось два дня, это было нарушение режима, это было и попросту невыгодно – в конце концов, в лагере меня кормили четыре раза в день, а дома у нас иногда не было совсем никакой еды.
Но мы обе уже не могли больше ждать – никого и никогда я не ждала с такой силой, как маму тем летом. Она сильно загорела, на шее у неё были незнакомые деревянные бусы, и я бежала к ней, широко раскрыв руки, запнулась и упала под хохот старших девочек. Я теперь в четыре раза старше самой взрослой из этих девочек, но на колене до сих пор есть шрам – белый и толстый.
А мамы больше нет.
Вот уже пять лет как нет моей мамы. Жди не жди, она не вернётся.
Об этом знают все святые, и лучше других – святой Яков, Сантьяго. Гроб с его останками море принесло к берегам Испании. Маму я похоронила на Северном кладбище – главный вход там похож на футбольные ворота.
Сегодня начинается моё путешествие к святому Якову. Я лечу в Москву, потом в Париж, оттуда – поездом до города Сен-Жан-Пье-де-Пор, и – пешком через Испанию.
Истинно православные скажут, что и в России есть маршруты для верующих. Если так уж хотелось поиграть в паломницу, можно было бы пройти пешком из Москвы до какого-нибудь монастыря.
Но и у буддистов есть такие маршруты. И у мусульман.
Они у всех есть. А я пойду к святому Якову – отнесу ему ракушку из детства: ей почти тридцать лет. Ракушка поблёкла, справа у неё отломан ребристый кусочек, но она по-прежнему пахнет морем. И шумит в ушах родной кровью.
День первый. Москва
Сорок лет – ума нет.
Всё предусмотрела, обо всём позаботилась, прочла и учла советы бывалых. Обязательно разносите обувь, в которой планируете идти на маршрут, – разносила. Возьмите с собой шлёпанцы, пустую бутылку для воды, беруши, спальник и средство от клопов – взяла. Заранее отметила на карте муниципальные «альберги», где паломников ждёт дешёвый ночлег. Целых три года копила мили, чтобы сэкономить на перелётах. Выучила испанский язык – точнее, попыталась выучить, потому что он мне не нравится. Он грубый, сердитый, как будто специально придуман для хриплых, севших голосов. Но слов двести я усвоила и спросить дорогу до ближайшего альберго уж точно сумею.
Я бросила курить и три года ходила пешком на работу в любую погоду. Мы живём, то есть теперь уже я одна живу на улице Амундсена, а работаю на Вторчермете, и это не ближний свет.
Я коротко постриглась и никак не могла привыкнуть к своему отражению – поэтому решила, что буду отныне смотреться в зеркало лишь в самых крайних случаях.
В общем, я продумала каждый шаг этого месяца – выбранного после долгих раздумий апреля, когда на пути Святого Якова – «камино де Сантьяго» – всё-таки теплее, чем зимой, а туристов не так много, как летом. Я оставила ключи от квартиры соседке, чтобы поливала цветы. Отвезла кота коллеге. Оплатила все счета. Приладила к отпуску давно собранные отгулы – и они соединились так легко, как будто были частичками одного пазла. Начальница Александра Павловна долго сидела над моим заявлением, но не найдя, к чему придраться, поставила свою подпись – лихой росчерк на полстраницы.
Я только одного не учла – крохотной ямки на московском асфальте. Ступила в неё доверчиво, не глядя – потому что взгляд мой был прикован к блестящему куполу какого-то храма. Куполок был ни дать ни взять конфета трюфель в золочёной фольге – об этом я думала, пока спотыкалась и падала. Результат: левое колено свезено до алого мышечного шёлка. Правую ногу я подвернула так, что удар пришёлся на косточку лодыжки. Она сильно распухла ещё до того, как я со своим рюкзаком доплелась наконец к тёте Юле в Строгино.
На самом деле тётя Юля мне никакая не тётя, а просто старинная мамина подруга, которая переехала в Москву лет сорок назад, как раз когда я родилась. Своей семьи у тёти нет, и поэтому она сразу же стала мне второй мамой. Баловала меня, воспитывала, наряжала. Все модные вещи, которые были у меня в юности, приехали с оказией из Москвы – и сапожки-дутики, и теннисная сумка из клеёнчатой ткани, и кроссовки «томис».
Я ещё из лифта не успела выйти, а тётя Юля уже вручала мне какие-то подарки.
– Ничего с собой не возьму, то есть возьму, но на обратном пути, – отбивалась я.
В квартире пахло приготовленной по всем правилам печенью в сметанном соусе.
Идею пойти пешком в Сантьяго тётя Юля решительно осуждала. Дело было даже не в том, что это чужие католические мощи, – у тёти достаточно широкие взгляды. Дело в том, что тётя боялась потерять ещё и меня – и остаться в этой жизни в совершенном одиночестве. В мою физическую форму она не верила – считала, что я обезножею в первый же день.
Мамину смерть мы переживали вместе и так и не пережили до конца. Во всяком случае, я.
Первые месяцы перезванивались каждый день. Тётя Юля спрашивала:
– Не снилась сегодня?
Так буднично, как о погоде или пенсии.
Мне мама снилась редко, зато тётю Юлю посещала исправно – и я звонила в Москву, чтобы узнать, как у неё там дела. Глупость несусветная, но мне становилось легче, когда тётя рассказывала – красочно, с подробностями, – что они с мамой во сне делали, о чём говорили и как мама выглядела (обычно – хорошо).
А мне если вдруг и выпадал счастливый сон, где я снова видела маму, то я прямо там, во сне, сомневалась, точно ли это она? Потому что мама во сне всегда немного отличалась от моих воспоминаний и от своих фотографий: то ростом была почему-то меньше, то причёску вдруг носила другую, то ещё какая-то неточность выплывала на первый план, и я мучилась от неспособности радоваться нашей встрече – такой короткой и долгожданной. Просыпалась – и ругала себя последними словами, а потом звонила тёте Юле и слышала очередное:
– А мы сегодня с Ленкой по грибы ходили!
Где-то он был, недоступный мне мир, где мама была жива и смеялась, прикрывая рот ладонью (в детстве внушили, что так приличнее), – и быстрее всех собирала грибы.
Я вот ни одного гриба в своей жизни не нашла.
– Ну и какой из тебя походник? – сердилась тётя Юля. – Давай раздевайся, обработаем твои ранения.
Свезённое колено к ночи почти перестало ныть, а вот правая лодыжка распухла ещё сильнее.
– Пока к доктору не сходишь, никаких тебе святых! – сказала тётя Юля.
Хочешь быть молодой – навещай стариков.
Мама мне сегодня не приснилась.
День второй. Москва
У врача, к которому меня записала тётя Юля, наверное, диабет.
Он высокий, полный и, судя по всему, плохо видит.
Когда доктора тоже чем-то болеют, это делает их человечнее.
По моим наблюдениям, самые высокомерные люди – это врачи и переводчики. Вместе со своими познаниями они получают гордость за себя и пренебрежение к тем, кто ими не обладает.
Врач ничего не говорил, только сопел, когда я рассказывала ему про ямку на асфальте. А когда услышал о камино, то слегка поднял брови – возможно, что на его эмоциональном языке эти брови означали крайнюю степень удивления.
– Вам не камино требуется, а камин. Лежать в тепле и покое, лечиться! – неуклюже пошутил доктор и тут же сменил тон: – Вот так трогаю – больно?
– Больно, но не очень, – сказала я.
– А вот так?
– Ой, вот так лучше не трогать совсем!
Доктор снова поднял брови.
– Давайте-ка на рентген – в двух проекциях. И снова ко мне, со снимочком.
Рентгенолог укладывала меня на столе, как курицу на противне – любовно поправляла так и этак. Свезённая вчера коленка вдруг снова заныла – видимо, чтобы составить компанию лодыжке.
– Не двигаемся, женщина! – сказала рентгенолог, и я послушно застыла под свинцовым фартуком.
Потом на пути в кабинет рассматривала снимочек. Даже моих убогих познаний в медицине хватило, чтобы понять – маленький фрагмент косточки оторвался и висит теперь, точно космонавт в невесомости.
(Между прочим, какие у меня красивые кости! Обычно ведь нет повода ими любоваться.)
Доктор глянул на снимок мельком – и принялся строчить на листке со штампом. Никогда не видела, чтобы люди так быстро писали!
Я терпеливо ждала.
– Больничный нужен?
– Нет, спасибо. Я в отпуске.
– Вот это хорошо! – обрадовался врач. Ещё что-то черкнул в листе назначений, потом достал из кармана халата личную печать.
– Так что же у меня такое? – насколько могла весело и беззаботно спросила я.
– Апикальный перелом наружной лодыжки с отрывом таранно-малоберцовой связки справа. Никаких вам пеших переходов!
Чёрный носок без пятки называется красивым словом «ортез» – его шнуруют, как коньки, и носят целый день, не снимая. Ещё надо купить ортопедические стельки. На лодыжку утром и вечером наносить аэртал, трижды в день пить таблетки трёх видов и не поднимать тяжести больше чем в пять килограммов (мой рюкзак весит десять).
– Если срастётся неправильно – будут оперировать, – предупредил меня доктор. – Вы очень рискуете! Какая-то у вас нетипичная для вашего региона безответственность.
Видимо, у него много знакомых уральцев, и все как на подбор – ответственные.
Я подписала кучу бумаг: отказ от госпитализации, гипса, костылей и здравого смысла.
Брови у доктора теперь уже вообще не опускались – так и зависли на линии волос, пока он составлял для меня альтернативный план лечения. Тот самый – с носком-ортезом, стельками, таблетками.
Доктор ещё раз дыхнул на личную печать – и прижал её к бланку с рецептом. Я подумала, что это похоже на штамп в паспорте паломников, который я получу послезавтра в Сен-Жан-Пье-де-Пор.
Из кабинета вышла с фальшивой улыбкой на лице. Тётя Юля пыталась прорваться к доктору, чтобы узнать всё из первых уст, но её очень вовремя оттеснила нервная женщина с худеньким подростком.
– Мы на пятнадцать сорок! – сказала женщина, и я чуть было её не расцеловала, но вовремя отскочила, чтобы не получить ещё и дверью в лоб.
– Обошлось малой кровью, перелома нет, здорова, – вдохновленно врала я на пути в ортопедический салон. Там были приобретены стельки и тот самый носок-ортез, выглядевший так эротично, что я призадумалась, не купить ли второй. Потом – в аптеку. Потом домой – ужинать и выдвигаться в сторону аэропорта.
В метро тётя Юля странно притихла. Сидела рядом со мной такая маленькая, что мне в какой-то момент показалось, это мой ребёнок – девочка в беретке с помпоном.
– А давай я с тобой пойду в этот самый поход? – осенило её, когда я уже садилась в экспресс до Шереметьева.
– У вас нет визы! И это не поход, а паломничество!
Тётя Юля, как это было заведено у них с мамой в молодости, махала мне вслед, пока я не скрылась из виду. Не было нужды снова и снова оборачиваться, чтобы проверить – она стоит там в своём беретике и машет.
День третий. Париж
Шереметьевских пограничников чрезвычайно заинтересовал носок-ортез – в него с двух сторон вставлены железные держатели, которые любому покажутся подозрительными. Целый консилиум собрался над моим носком. Обсуждали, можно ли использовать его в качестве оружия, если под руку не попадётся ничего более достойного. К счастью, я вспомнила, что у меня с собой есть справка от доктора, чек из ортопедического магазина и, главное, распухшая лодыжка – предъявив все эти сокровища по очереди, я всё-таки прошла предполётный досмотр и долго шнуровала потом злосчастный ортез в целой компании мужчин, застёгивающих ремни на брюках. Давно позабытое зрелище… Я даже вспомнила – мельком, невсерьёз – Леонида, с которым у меня был недолгий роман на третьем курсе. Это имя – Леонид – мне никогда не нравилось. Какое-то оно мягкое, бескостное… Мужскому имени нужна буква «р». А женскому – «л». Наши имена – мамы, тёти, моё – все с буквой «л».
Лодыжка часто пульсировала, как будто бы туда переселилось сердце. За иллюминатором сияла Москва – ночным электрическим солнцем. Где-то там, в Строгине, сидела тётя Юля, сгорбившись за кухонным столом. Пора ложиться спать, но она не ляжет, пока не дождётся моего звонка из Парижа.
– Мы с Ленкой тоже всё собирались в Париж, – сказала она вчера. – Да никак не совпадали по времени.
Мужик в соседнем кресле крепко спал, но даже во сне норовил спихнуть мой локоть с нашего общего подлокотника.
В Париже на паспортном контроле меня спросили, с какой целью я прилетела во Францию. И когда пограничник услышал, что я собираюсь пройти путь Сантьяго, то уважительно сказал: «О-ля-ля!»
Я ещё никогда раньше не слышала, чтобы живые люди – а не книжные герои – говорили «о-ля-ля». Мне нравится это выражение, в нём звучит моё имя.
Позвонила тёте Юле, потом села в поезд и доехала прямиком до Северного вокзала, как объясняли на сайте паломников. Оттуда – одна пересадка до вокзала Сен-Лазар (святой Лазарь, восставший из гроба, – на картинах из альбомов все вокруг зажимают носы, страдая от запаха). Приняла таблетки, запив водой из-под крана в туалете. И села в поезд до Байонны. Пассажиров, на моё счастье, немного: я смогла снять ботинки и закинуть ноги на противоположное сиденье. Опухоль даже не думает спадать. За окном темнота, а поезд несётся так быстро, что я не успеваю читать названия станций. Пишу в дневнике корявыми буквами.
На ужин съела бутерброд, сделанный в Москве заботливыми руками тёти Юли.
День пятый. Байонна
Парижа я не видела, зато Байонну посмотрела вот просто очень хорошо, жаль, что против своей воли. Я собиралась сразу же поехать отсюда в Сен-Жан-Пье-де-Пор, но водители автобусов бастовали. Поэтому пришлось снять номер в гостинице – самой дешёвой, какую нашла. Комната облезлая, с устойчивым ароматом мышей, вода в унитазе журчит, углы в паутине – в общем, дворец! Зато цена хорошая. Женщина, которая выдаёт ключи, настояла на том, чтобы показать мне комнату, прежде чем я соглашусь в ней остаться – видимо, многие сбегают при более близком знакомстве.
– Мы бедные, – с каким-то вызовом сказала женщина, вручая мне ключ – тоже изрядно поживший, с многолетней грязью в бороздке. – Если вам нужна роскошь, ниже по улице есть «три звезды».
Я поспешила её заверить, что не нуждаюсь в роскоши и меня совершенно устраивает эта комнатка с пятнами на покрывале, о происхождении которых лучше не думать. Женщина смягчилась и пожелала мне спокойной ночи. Профиль у неё был немного вогнутый, лоб и подбородок сильно выдавались вперёд, как у полумесяца с человеческим лицом из детских книжек.
В душ я идти побоялась. Чуть-чуть ополоснулась прямо под краном и легла, постелив на страшное покрывало свой спальник.
Ночью по комнате совершенно точно бегали мыши – я слышала их попискивание, но решила не включать свет: увижу мышь и расстроюсь, а идти всё равно некуда. Ну и вообще, мыши здесь живут исторически, это коренное население беззвёздной гостиницы, и у них больше прав по сравнению со мной.
Маму передёрнуло бы от омерзения, она мышей всю жизнь свою боялась – и котов мы держали именно поэтому. А тётя Юля сказала бы, что надо уметь читать знаки судьбы: «Значит, не так уж хочет святой Яков, чтобы ты к нему шла – поэтому ногу сломала, поэтому автобусы бастуют, а в гостинице – мыши».
Я мысленно успокоила маму и так же мысленно поспорила с тётей Юлей: это не святой Яков со мной борется, а кто-то совсем не святой пытается свернуть меня с пути. Потом распечатала коробочку с берушами, крепко заснула и спала до утра.
В утреннем свете комната выглядела ещё хуже, чем вечером, при раскалённой, сильно пахнувшей лампочке. Стены тоже были в пятнах, уборку тут не делали много лет, возможно, что и никогда. Я умылась, снова не узнав себя в зеркале с короткой стрижкой, – и потом минут десять разговаривала с больной ногой:
– Заживай, пожалуйста, скорее. Я о тебе позабочусь. Я буду тебя мазать аэрталом, буду принимать таблетки, носить ортез и стельки… Ты столько лет мне верно служила, и что тебе вдруг пришло в голову ломаться на ровном месте? Не понимаешь, как для меня важно это путешествие? Если ты немедленно не заживёшь, я тебе такое устрою! В больницу хочешь? На операцию?!
Нога виновато молчала, а потом вдруг заныла с такой силой, что мне стало мучительно жаль эту свою часть, и я гладила её, как совершенно постороннее страдающее существо. Думала, что только так мы и можем любить себя, отделяя заболевшую часть, наделяя её самостоятельностью.
Когда я выходила из гостиницы, женщины-полумесяца на месте не было – там сидел мужчина-солнце, улыбчивый и круглолицый. Он посмотрел на меня так, как будто отвык от того, что у них здесь бывают жильцы. И удивлённо спросил:
– Хотите кофе?
Конечно же, я согласилась. Я иногда думаю, что живу для того, чтобы пить кофе. Когда началась та колготня с импортными поставками и санкциями, я испугалась, что у меня больше не будет возможности пить кофе, – и со страху накупила столько «Лаваццы», что мне её, наверное, до смерти хватит.
Присказку про смерть часто повторяла учительница истории в моей школе. Рослая женщина с хорошей осанкой и чуточку съехавшими набок париком и рассудком, она не могла сосредоточиться ни на одной теме – что первобытно-общинный строй, что Ренессанс неизбежно выводили Людмилу Михайловну к рассказам о себе, любимой.
– Платьев у меня много, – говорила она классу, – до смерти хватит. Разве что туфли куплю – пару. Или две.
Я улыбнулась, вспомнив историчку и её несносные платья.
Мужчина-солнце аккуратно поставил передо мной крохотную чашечку:
– На камино собрались?
Мы говорили по-английски, он был одинаково плохим что у него, что у меня. Я из каждого языка знаю по чуть-чуть, иностранные слова слеплены в голове в линялый пластилиновый ком, какие получались в детстве у меня и у других детей, начисто лишённых творческих способностей. Такие дети бессмысленно разминали жёсткие, плохо пахнущие брусочки советского пластилина, прилипавшие к рукам, – единственным достоинством их была изначальная геометрическая нетронутость и глубокие, ровные насечки сверху: их нестерпимо хотелось сцарапать… Что бы ни мечтала слепить – в итоге всегда получался неровный коричневато-серый ком: эти цвета побеждают не только в природе, но и в искусстве. Вот и с иностранными языками у меня похожая история – когда нужно говорить, например, по-немецки, от линялого кома отделяются английские слова, но если нужны английские, память услужливо подсовывает испанские. Хорошо, если собеседник говорит так же плохо, как ты – у вас больше шансов понять друг друга. Мужчина-солнце – воплощённая любезность! – сам же на свой вопрос и ответил, пока я рылась в памяти, отшвыривая в сторону ненужные испанские глаголы:
– Глупый вопрос, куда же ещё… Рюкзак, спальник… А правый ботинок сломался, видели?
Он так и сказал – сломался, броукен. На самом деле у ботинка начала отходить подошва. И явно не собиралась останавливаться на достигнутом.
Я расплескала кофе и второй раз в жизни услышала, как живые люди говорят «о-ля-ля».
– Неужели в таком большом городе, как Байонна, нет обувной мастерской? – приставала я к прохожим, и прохожие, потупясь, говорили, что, конечно же, есть – одна как минимум, вот только именно сегодня она закрыта. А другую, видимо, перенесли в другой район. А в третьей – аварийный ремонт.
В поисках обувной мастерской я обнаружила часовой магазинчик, лавку мясника, детский сад с аппликациями на окнах и диким хоровым ором внутри, а также заведение, торгующее костюмчиками для кошек и собак. Попутно осмотрела местный Нотр-Дам с двумя острыми башнями – они торчат за домами как будто тем подставили «рожки» – и раза три перешла реку по мостам, так и не разобравшись, что это за река – Нив или Адур. Байонна находится в месте слияния этих рек, и в другое время я непременно нашла бы это место и вообще долго гуляла бы с наслаждением по узким улицам, любуясь фасадами старинных домов – их тёмно-красными, томатно-перечными ставнями, напоминавшими подсохшую кровь. Я научилась бы произносить слово «баскский», не запинаясь о двойное «ск», купила бы в супермаркете картонную упаковку с супом гаспачо и пила бы его в тени гигантского платана, глазея на красно-зелёный «лаубуру» – этот символический крест из лепестков-запятых украшает в Байонне едва ли не каждую вторую стену. Кому-то он напомнит свастику, но я бы увидела в лаубуру детскую вертушку на палочке – с такими в конце семидесятых ходила добрая половина детей СССР.
Всё это я сделала бы в другое время с огромным удовольствием, но только не сегодня, когда нога просила пощады и нужно было срочно разобраться с ботинком. В конце концов, когда до автобуса оставался лишь час, я набрела на магазин, где продавалось «Всё для лодок и катеров». Купила специальный лодочный клей (продавец убеждал меня, что этот клей может склеить что угодно с чем угодно – и украшал свой рассказ красноречивыми жестами) – и прямо на автобусной остановке под заинтересованными взглядами других паломников приклеила подошву. Положила ботинок на самое дно рюкзака, утрамбовала все свои вещи и прихлопнула их сверху путеводителем.
В автобус я входила победительницей – правая нога в ортезе и пока что целом ботинке, левая – в шерстяном носке. Довольнее меня выглядел только водитель автобуса: видимо, забастовка принесла желанные плоды.
Шерстяные носки на камино приходится носить даже в самую адскую жару – синтетика и хлопок натирают ноги. Об этом я тоже заранее прочитала в дневниках бывалых людей: жаль, что никто из них не написал о переломах лодыжки и обувных мастерских в Байонне.
Автобус оказался битком набит людьми с рюкзаками и решимостью во взоре. Я понимала, что не одна буду идти по маршруту, но мне и в голову не приходило, что желающих окажется столько. А ведь это лишь один автобус из многих!
Я достала из кармана куртки мамину ракушку. Снаружи, в её основании самой природой была нарисована как бы ещё одна маленькая ракушечка, из которой разбегались лучи.
– Это разные дороги к Сантьяго, – сказал мужчина, севший со мной рядом. Он смотрел на раковину, и я тоже вдруг увидела, что выпуклые лучи на ней сходятся в одной точке и напоминают разные дороги, ведущие к одной цели.
День шестой. Сен-Жан-Пье-де-Пор
– Вообще-то право на эту ракушку надо заслужить, – сказала Белла. Мы стояли в очереди за «креденциале» – паспортами паломников. Очереди были как из советского прошлого, если в универмаге вдруг выбрасывали дефицит. А ведь я представляла себя в гордом одиночестве на живописной пустынной дороге… Знакомиться, общаться, даже просто перебрасываться дежурными фразами не хотелось, но Белла сама ко мне подошла. Высокая крепкая женщина с породистым носом, «швейцарка украинского происхождения». Она бойко говорила по-русски, но это был рудиментарный язык, щедро приправленный фрикативными украинскими звуками и французским акцентом. Белла сказала, что идёт уже во второй камино, первый они прошли вдвоём с другом, они уже год как не вместе.
– Мы шли тогда по берегу океана, там очень красиво… А ракушку ты рано взяла. Надо пройти хотя бы треть маршрута, прежде чем заслужить право на символ святого Якова.
Я не стала объяснять, что у моей раковины своя история, а просто спрятала её в карман. Я не хотела заводить дружбу с Беллой или даже с тем довольно приятным мужчиной, который сидел вчера рядом со мной в автобусе, а сейчас стоит в самом начале очереди за паспортами. Он дружелюбно улыбнулся мне, когда я вошла в офис пилигримов, но не предложил встать с ним рядом. Он, скорее всего, британец – говорит на таком чистом и аккуратном английском языке, как умеют говорить только люди с обучающих пластинок. Мы не познакомились. Я не хочу ни с кем знакомиться и чувствую нечто вроде неприязни ко всем этим людям с туго набитыми рюкзаками – как будто они присвоили мою мечту.
Мама, мысленно, тут же начала утешать меня: не огорчайся раньше времени, ведь дорога ещё даже не началась! Тётя Юля ворчливо добавила: и не будь такой букой – подружись с Беллой и обязательно обрати внимание на левую руку англичанина, а вдруг он не женат?!
– Привет, девушка с ногой! – англичанин, проходя мимо нас, победно поднял вверх свеженький креденциале. Эта нарядная книжечка состоит из множества пустых разграфлённых страничек: каждая графа ждёт штампа, свидетельства о том, что ты действительно прошёл 776 километров со всеми 33 остановками. Англичанин уже получил первую отметку – Сен-Жан-Пье-де-Пор, его паломничество началось. А мы всё ещё стоим в очереди.
И что это такое – девушка с ногой? Ну ладно, положим, девушку я одобрила, но зачем акцентировать внимание всей очереди на моём ортезе, игриво выглядывающем из-под штанины? (Ботинок, кстати, молодцом, точнее, клей для лодок – молодец, подошва держится как миленькая.)
– У тебя что, ушиб? – спросила Белла. Как многие бывшие соотечественники, она сразу же была со всеми на «ты».
– Да, неудачно упала.
– Ой, трудно тебе будет… – протянула Белла. – И здоровый-то не каждый сдюжит, в день по двадцать кэмэ шагать…
– Она справится, – сказал англичанин, и мы вздрогнули, Белла и я. Мы ведь говорили по-русски, а он вмешался в разговор со своим чеканно-выпуклым английским так кстати, будто понял, о чём идёт речь. – Джо, – он прижал к груди левую ладонь, и ни на одном пальце, тётя Юля, не было никаких колец. А имя подходило ему каждой своей буквой. Джо. Голос Кокера – или Дассена. Коварство индейца… Я ещё много чего могла бы придумать, но очередь вдруг стремительно ускорилась, потому что в офис пришли новые сотрудники. Когда мы с Беллой получили свои креденциале, никакого Джо здесь уже не было.
Белла между тем не собиралась меня покидать.
– Ты что, без палок? – возмущённо спросила она.
Такие люди, как Белла, – надёжные спутники, хорошие друзья и заботливые родственники, но терпеть их рядом с собой, святой Яков не даст соврать, тяжело. Идти 776 километров с 33 остановками в компании всезнающей Беллы? Это всё равно как нести на себе ещё один рюкзак. Проще было остаться дома.
Хотя насчёт палок она права. Почти все пилигримы, проходившие перед моими глазами в это утро (многие наверняка уже добрались до Испании, пока мы торчим в Сен-Жан-Пье-де-Пор!), имели при себе хотя бы одну палку для ходьбы, а многие, как Белла, запаслись двумя.
Я решила, что отправлюсь в путь без палок, а если почувствую, что без них тяжело, куплю себе пару в Испании. Будут же на маршруте крупные города.
Белла неодобрительно пожала плечами.
Так началось моё паломничество – в одиннадцать утра (вместо намеченных семи), в ненужной компании, с подорванной верой в удачу.
Мы вышли из Сен-Жан-Пье-де-Пор через старинные ворота паломников, и я подумала, что так и не разглядела толком этот красивый городок, названный в честь святого Иоанна. Наверное, Иоанна Крестителя – обычно художники изображали его босым, косматым – или вовсе без головы, – в рубище, с ягнёнком. Апостол Иоанн – совсем другое дело. Этого красивого юношу с мечтательным взглядом запечатлевали во вдохновенном одиночестве, когда он записывал Откровение на острове Патмос под присмотром своего символа – орла.
Через три километра мы увидели знак – жёлтую стрелу, нанесённую краской на стену. Эти знаки будут сопровождать нас до самого Сантьяго. И ещё символические изображения раковины, похожие то на веер, то на комету, то на растрёпанную плётку.
Дорога была как на компьютерной заставке – зелёные холмы, голубые небеса, лошади с лохматыми чёлками… День стоял ясный, стало довольно жарко. Нога вела себя прилично, ортез почти не натирал, но мышца под ним слегка пульсировала, как бомба с часовым механизмом.
Я пишу эти строки на нашем втором привале. Белла давно дожевала свой сэндвич и томится, ожидая, пока я закончу, – а я всё надеюсь, что она догадается оставить меня одну.
Одной, впрочем, так и так не остаться – и впереди, и позади нас постоянно идут пилигримы. Молодые, старые, одинокие, парами, мужчины и женщины всех рас и характеров, в брюках и шортах, с палками и рюкзаками…
Белла похожа на одну мою школьную подружку – у нас с той Людой не было ровным счётом ничего общего, кроме пренебрежения, которое испытывали к нам другие девочки. Люда упрямо ждала меня в школьном дворе, чтобы вместе идти домой и молчать – так же молча мы проводили вместе перемены и жевали запеканку в столовой. Классе в пятом Люду перевели в другую школу, и я довольно сильно скучала о её молчаливом присутствии.
Ноги гудят и тикают. Начала отклеиваться левая подошва.
Солнце печёт, как в июле.
На некоторых местах для привала установлены солнечные батареи, чтобы можно было зарядить телефон.
День седьмой. Ронсеваль. Место битвы Роланда с наваррскими басками и, предположительно, место моей смерти
Если вам когда-нибудь придёт в голову дурная мысль отправиться пешком в Сантьяго, гоните её прочь. В случае, если я не сдохну от усталости и дикой боли в ноге, продолжу писать завтра.
На сегодня всё.
День восьмой. Зубири (или Субири – не знаю, как правильно)
Когда сидишь дома за компьютером и двигаешь курсором по дорогам гугловских карт – это одно. Когда идёшь по тем же самым дорогам в реальности – это совсем, совсем другое.
Дороги ведут себя непредсказуемо. Они поднимаются вверх и срываются вниз. Под ногами – то камни, то лужи, то песок. Солнце жарит – плохо. Солнца нет – тоже плохо. Ты заходишь куда-то в облако, и рядом парят орлы, потому что ты поднялась высоко в гору безо всякой уверенности, что это та самая гора и ты не ошиблась направлением. Самое страшное в пути – сделать лишний крюк и добавить к обязательным километрам несколько лишних. Орлы молчат. Подсказки – жёлтые стрелы и спины пилигримов – вдруг исчезают, и ты нервничаешь, пока вдруг не выйдешь из облака и не увидишь заветную «ракушку» на стене заброшенной хижины. На обочинах, то здесь, то там, – кресты, могилы паломников, так и не добравшихся до цели. Сжимаешь в кармане ребристую ракушку, на которую у тебя нет прав, – и шагаешь дальше, хотя больше всего на свете тебе хочется вернуться домой.
Так дорога превращается в путь. Камино в переводе с испанского – не «дорога», но именно «путь».
Мы давно в Испании. Я по привычке говорю «мы», хотя Белла оставила меня сегодня утром в Субири – и я совсем не рада этому. Но ей нужно идти быстрее, иначе она «не уложится в отпуск». А мы с ногой – плохие спутники. Нога каждые пять километров требует остановки, аэртала и душевных разговоров, переходящих в прямые угрозы. Поэтому Белла ушла на рассвете с самыми ранними пилигримами, которые не терпят людских пробок на дороге. А я завтракаю в альберго – паломнической общаге, где не уснуть без берушей, – и попутно проверяю подошву на левом ботинке (я приклеила её вчера вечером). Вроде бы держится. И я вроде бы держусь.
Первый день пути стал самым тяжёлым, как и обещали в путеводителях. Белла предложила выбрать из двух дорог ту, что «красивше». Красивая дорога носит имя Наполеона, и для того, чтобы преодолеть её, нужны навыки если не альпинизма, то скалолазания. Нет, лучше было отправиться вдоль шоссе через Валькарлос. Поздним умом все крепки, вздыхает мама в моих мыслях. Постоянный уклон вверх на протяжении двадцати километров!
Белла оказалась отличной спутницей. В первый же час рассказала мне свою историю: эмиграция в девяностых, неудачное замужество, сейчас одинока, живёт в городе Ньон близ Женевы, работает в кафе. Выговорившись, она замолчала – проявила готовность слушать. Я этой готовностью не воспользовалась, но, когда Белла предложила мне взять у неё одну палку, согласилась. Без этой палки я не прошла бы дорогу Наполеона – действительно очень живописную. Горы, долины, вольные лошадки, спины пилигримов, шаги за спиной… Не люблю, когда меня обгоняют, – и ещё терпеть не могу, если вдруг равняешься с кем-то на тропе, и надо или отстать, или прибавить шагу.
Пилигримы и сами разные, и ведут себя по-разному. В начале пути мы постоянно встречали одних и тех же людей – я стала их узнавать. Скандинавского вида девушка в жёлтой юбке. Кореец в сандалиях – обе почему-то левые. Пожилая супружеская пара – такие загорелые, высохшие и похожие друг на друга, как будто их вырезал из древесных корней один и тот же скульптор. Юноша в футболке с бразильским флагом – он постоянно снимал себя, идущего, на телефон и что-то рассказывал: наверное, вёл блог о путешествиях. Я смотрела такие блоги дома, они научили меня всему, кроме главного.
Обычно пилигримы здороваются, желают друг другу «буэн камино». Некоторым непременно нужно познакомиться и рассказать тебе свою биографию. Белле я открыла всё, что сама про себя знаю. Сорок два года, русская, не замужем, детей нет. Работаю в библиотеке. На самый важный вопрос, который пилигримы если и не задают, то обязательно имеют в виду, ответа нет. А вопрос звучит так: «Зачем ты здесь?»
Ещё неделю назад я ответила бы без запинки – потому что смертельно тоскую без мамы. Потому что никого другого в своей жизни я так и не смогла полюбить сильнее. Потому что я одинока и это одиночество – как неисцелимая болезнь.
А сейчас я не знаю, плохо ли было тосковать в комфорте и уютно болеть одиночеством? Надо ли гробить своё здоровье (я ведь помню про операцию, которой пугал меня толстый доктор) на пути к чужому святому?
Белла сказала: вообще-то святой Иаков нам, православным, не чужой. Белла из воцерковлённых, имя при крещении – Августа. Посещает храм в Женеве, держит пост, исповедуется, причащается. На влажной коже декольте лежит крестик, будто приклеенный к телу.
Я со своими искусствоведческими познаниями о религии стыдливо молчала. Белла-Августа рассказывала: Иаков Зеведеев был одним из двенадцати апостолов и единственным, чья мученическая гибель описана в Новом Завете. Сын Зеведея и Саломеи-повитухи, он был к тому же родным братом Иоанна Богослова (который с орлом). До того как последовать за Христом, Иаков и брат его Иоанн были рыбаками. Иаков был убит мечом в Иерусалиме, в 44 году – то ли по приказанию царя Ирода Агриппы, то ли прямо его собственными руками. Тело будущего святого положили в лодку и пустили по морю, и лодка приплыла в устье реки Улья, где вырастет впоследствии город Сантьяго-де-Компостела. Что значит «Компостела», моя спутница объяснить не смогла – и явно взяла себе этот промах на заметку. Зато она точно знала, когда отмечают день памяти святого Иакова – 13 мая.
– Тринадцатого мая мне надо быть в Сантьяго кровь из носу, – сказала Белла, и я порадовалась, что за долгие годы жизни в Швейцарии она не забыла язык народов СССР.
В тот первый день, завершение которого я помню с трудом – потому что передвигалась на автопилоте, и на поворотах меня заносило вместе с рюкзаком, – мы пришли в альберго Ронсеваля, когда все прочие пилигримы давно спали (в массе своей люди камино ложатся спать рано). Белла беспокоилась, что свободных мест не будет, но мужчина-администратор сказал, что две койки чудесным образом освободились: слава святому Иакову! Мы получили по штампику в креденциале и заполнили анкеты, где надо было в числе прочего ответить на вопрос – с какой целью вы пустились в путь?
Я оставила эту графу свободной. Что написала Белла, не знаю: она прикрывала свой лист ладошкой, как хорошистка прикрывает контрольную от двоечницы.
Альберго представлял собой довольно новый и чистый корпус, где комнаты похожи на отсеки в плацкартном вагоне: у меня была койка в конце «вагона», у Беллы – в самом начале.
Мужчины и женщины живут здесь вместе, обувь надо снимать при входе и ставить на полку: запах там стоит такой крепкий, что его можно использовать вместо нашатыря. Я, во всяком случае, сразу взбодрилась. Белла пошла в душ, но у меня уже не было сил на такие подвиги – открыла дневник, в темноте, на ощупь накарябала там пару строчек, а потом стащила с ноги ортез и рухнула на свою койку. Последнее, что я помню в тот день, – как музыкально, почти красиво храпела женщина с соседней полки.
Утром храпуньи уже не было, вообще никого не было, кроме терпеливой Беллы – она вежливо покашливала, ожидая, пока я очнусь. Нога предлагала никуда не ходить, остаться в Ронсевале на веки вечные – или хотя бы до вечера, но я собралась с силами, и мы всё-таки вышли из альберго. Нас обгоняли новые путники. Белла говорила, что, по-хорошему, пилигриму надо бы ещё и осматривать достопримечательности:
– Ты же не просто идёшь из пункта А в пункт Б, как в задачке!
Сама она, пока я спала, успела сбегать в собор, сфотографировать витражи и гробницу Санчо Могучего.
Я чувствовала себя побеждённой, наголову разбитой, как Роланд в Ронсевальском ущелье.
А тут ещё позвонила тётя Юля с интересным разговором:
– Знаешь, я так за тебя переживала, так волновалась! А потом услышала по радио, что к Земле приближается астероид Апофис – и мы так или иначе все погибнем через двенадцать лет. И я подумала – правильно Олька пошла в тот поход! Хотя бы мир посмотрит, пока он есть.
– Это паломничество, тётя Юля, – поправила я. Мы как раз спускались вниз по каменистой дорожке. Вышло солнце, и жёлтый знак, изображавший раковину, впервые показался мне похожим на солнечные лучи.
Белла молчала. Наверное, сердилась, что я сразу не рассказала ей про ногу – утром было некуда деваться, я при ней мазала опухоль аэрталом и надевала ортез, уже не выглядевший таким эротичным.
– Тебе нужно в больницу, – сказала Белла. – Это безумие – идти в паломничество в таком состоянии.
Нога выглядела скверно, зато болела меньше – лекарства притупляли боль. Она только ныла всё время, и мне было жаль её, как бывает жаль какое-то неговорящее существо – младенца или кошку.
В городе, когда я, тренируясь, ходила пешком на работу, процесс осложняли светофоры. Только наберёшь хорошую скорость, как тут же упрёшься в дорогу, по которой несутся автомобили. Ждёшь зелёного сигнала, ждёшь, а он никак не загорается, и в голову тут же проникают мысли, от которых так чудесно избавляешься на ходу.
Мне нравится ходить – я бы всю жизнь куда-нибудь шла, можно даже без цели.
Мне нравится ходить, но вчера, на пути из Ронсеваля в Зубири (или Субири, не знаю, как правильно), каждый километр тянулся как десять. Когда впереди показались крыши Зубири, я подумала, что никогда в жизни не видела ничего прекраснее. Здесь есть река и старый мост. В речной воде у моста паломники испокон веков охлаждали горящие ноги. Мы с Беллой сделали то же самое.
Альберго здесь скромнее, чем в Ронсевале. Этот – настоящая общага. Мне дали одноразовую, совершенно больничную простыню на резинке – и я вновь подумала про операцию, которая ждёт меня на родине.
И ещё меня ждёт тётя Юля, смирившаяся с гибелью всей нашей планеты.
Неужели этот астероид действительно уничтожит Землю? И не будет больше ни Москвы, ни Екатеринбурга, ни этого моста, ни реки, ни маминой могилы?
Утром Белла разбудила меня на рассвете – извинилась шёпотом и сказала, что дальше мне придётся идти одной. И святой Яков, и начальница в Ньоне ждут, что она должна пройти весь маршрут до 13 мая.
Я и не думала, что можно за каких-то два дня так привязаться к человеку.
Мне уже её не хватает.
День десятый. Пуэнте-ла-Рейна
Я начинаю привыкать. Вхожу в ритм. Втягиваюсь. Рюкзак я, как выяснилось опытным путём, собрала неправильно – старалась брать только нужные вещи, но всё равно прихватила много лишнего и теперь избавляюсь от балласта. Вчера в Памплоне выбросила тушь для ресниц, сегодня, на подходе к Пуэнте-ла-Рейна, хотела даже оставить куртку, но не решилась – во-первых, жалко, во-вторых, по прогнозу всю следующую неделю будут идти дожди.
На пути время от времени встречается чужой балласт – сношенные ботинки попадаются чуть ли не на каждом километре: стоят на камнях вблизи дорожных указателей, висят на деревьях, как в сказке про обувное дерево.
Я иду одна. Если вставать рано, то можно застать камино почти пустым – первые два часа на дороге мало пилигримов. Тех, кто уходит слишком рано, в альбергах ненавидят, ведь они мешают всем спать. Внутренние часы, победствовав первые дни, настроились на уральское время, и у меня как минимум три часа преимущества. Иду медленно, прохожу не более двадцати километров в день – иногда даже менее.
Белла, наверное, далеко. И Джо. И кореец в левых тапках. Мне их уже не догнать.
Мама когда-то, смеясь, рассказывала мне, как она впервые почувствовала себя старой: иду, говорит, по улице, а меня все обгоняют – все-все!
А ведь она была такой быстрой в движениях: в детстве мне было не угнаться за ней, не приноровиться к её шагу… Мы всюду ходили пешком – экономили деньги. Даже три копейки на трамвайный билет считались бессмысленной тратой. Зачем ездить, если у тебя есть ноги?
Кстати, о ногах. В дополнение к перелому и разрыву связки на правой у меня теперь есть мозоли на левой, что придаёт походке некоторую симметричность. Опухоль на лодыжке не спадает, но и не увеличивается.
Самые счастливые часы – утром. Идёшь по холодку, в свежем рассветном тумане и думаешь, что же можно написать в графе «Цель вашего путешествия»?
У тёти Юли открылся дар звонить в самое неподходящее время. Точнее, он был у неё и раньше, но сейчас раскрылся во всём своём буйном цветении. В альбергах не так много розеток, и часто пилигримы заряжают свои телефоны в одном месте, по очереди втыкая в единственный тройник дорогие смартфоны и простенькие «раскладушки». Никто не опасается, что телефон украдут, всюду царят взаимное доверие и легкомысленная неосмотрительность. Сегодня я нашла свободную розетку и побежала (похромала) занимать очередь в душ, привычно завидуя мужчинам (они моются быстро, и после них почти никогда не остаётся столько волос, как после женщин). И вот, когда передо мной стояла всего одна немытая девушка, альберго вздрогнул от пронзительного звонка мобильника, который я забыла перевести в бесшумный режим.
– Тётя Юля, можно я вам перезвоню?
– Как ты будешь перезванивать, если у тебя входящие бесплатно, а исходящие совсем даже нет? – удивилась тётя Юля и, кажется, скрипнула креслом, усаживаясь поудобнее. Она тоже втянулась – привыкла к моим ежедневным рассказам про камино, как к новым сериям любимой телеэпопеи. Вместе со мной скучает о Белле, которую ни разу не видела, волнуется о том, будут ли в новом альберго свободные места, и, не дыша, слушает о том, как прекрасна Памплона и какой чудесный мост для пилигримов был построен на деньги королевы в городе Пуэнте-ла-Рейна, где я сейчас и нахожусь.
К сожалению, писать каждый день у меня не получается – в Памплоне я всё время потратила на то, чтобы запастись мозольными пластырями в аптеке и прицениться к новой паре ботинок (всё-таки не купила). Набрела на магазин для пилигримов, где продают всё что угодно, кроме выносливости и смирения.
– А палку-то она тебе хоть оставила? – волнуется тётя Юля. За окнами квартиры в Строгине идёт первый в этом году весенний дождь.
Палку Белла забрала с собой. Но я и без палки уже вполне уверенно двигаюсь, к тому же новых горных перевалов в ближайшие дни не предвидится.
Очередь в душ пришлось занимать заново.
День четырнадцатый. Логроньо
Или идти, или писать об этом. Дни склеиваются в один большой день, как иностранные языки – в пластилиновый ком, прилипший к памяти. Перечитала предыдущую запись – там нет ни слова про гору Альто дель Пердон, а ведь именно на неё я смотрела три года назад, когда замышляла паломничество. Разглядывала изображение на мониторе – пилигримов прошлого, которых скульптор изобразил в несколько плоском, но всё равно выразительном облике. Кто-то идёт пешком, кто-то едет верхом на ослике. Все как один «с молитовкой», по выражению Беллы. Я тоже молюсь – как умею; иногда это помогает, а иногда злит, потому что я вовсе не уверена, что молюсь правильно и знаю, чего просить.
Ветер на этой горе воет, как пёс в пустом доме.
Я мечтала увидеть Альто дель Пердон и её застывших в вечном движении пилигримов – была счастлива, потому что вскарабкалась на эту гору и смогла погладить каждого из них рукой, не лапкой курсора, а рассказать об этом – забыла.
Когда я иду, то чаще всего молчу – думаю обо всём и ни о чём сразу. Это очень серьёзный материал для размышлений. Если дорога пустая, пою. Обычно – песенки из фильмов, которые любила смотреть в детстве.
Мне нравился фильм «Про Красную Шапочку». Кто-то сказал маме, что я похожа на Яну Поплавскую, игравшую там главную роль, после чего фильм стал мне нравиться ещё сильнее.
Я не разделяла Яну и Красную Шапочку, мне казалось, что это одна и та же девочка – самостоятельная, решительная, красивая. И эта песенка – «Если долго, долго, долго, если долго по тропинке… если долго по дорожке… топать, ехать и бежать!» – звучала у меня в голове долго, долго, долго после того, как по телевизору показывали фильм. Я уже тогда, наверное, задумывалась о том, как далеко можно зайти, если долго топать по дорожке…
Я иду по дороге, которая тянется мимо бескрайних полей, – на горизонте устало машут лопастями громадные ветряки, не способные обмануть даже Дон Кихота. Ноги горят, пульсируют, стонут, на мизинце левой ступни – мозоль размером с сам палец: вечером я проткну её иголкой, как советовал опытный путешественник из видеоблога. Ортез разбух от пота. Апрель выдался жаркий, хуже, чем летом, говорят испанцы. Ребристые раковины попадаются на каждом шагу – нарисованные от руки, напечатанные на рекламных плакатах, выбитые в камне. И жёлтые стрелы, указывающие путь, – они снова повсюду: на столбиках под грудой камней, на стволах деревьев, на стенах домов, на асфальте, если вдруг попадётся асфальт. Дорога сужается и расширяется, превращается в шоссе и становится узкой тропинкой. Я иду по дороге, мечтая о том, чтобы отлепить намертво приваренные к ногам ботинки – и вытянуться на синей койке очередного альберго. Во сне я продолжаю идти – и опережаю саму себя. Во сне я догоняю Беллу и Джо, а иногда встречаю на пути маму: когда я вижу её со спины, то понимаю, что это мама, но как только мне – с огромными усилиями! – удаётся нагнать её, мама оборачивается, превращаясь в чужого человека.
Я иду по дороге вместе с Красной Шапочкой из моего детства, девочка Элли из другой сказки шагает по дороге из жёлтого кирпича. А персонажам Рэя Брэдбери запрещено было покидать тропу. И ещё кто-то поёт слегка гнусавым голосом: «Доро-о-ога без конца… Дорога без начала и конца».
Не исключено, что этот голос живёт у меня в голове – завёлся там от одиночества, как мыши в пустом доме.
Под конец второй недели (а сегодня четырнадцатый день пути) я начинаю радоваться общению с другими пилигримами, чего так явно избегала вначале.
Пилигримы бывают разные – как все люди вообще.
Опытный путешественник из видеоблога говорил, что «камино – это маленькая жизнь», и на пути можно встретить как самых прекрасных людей, так и тех, с кем не хотелось бы знакомиться, но ты вынужден преломлять с ними хлеб и спать на соседних койках.
Я отщипываю комочки от своего пластилинового английского – и отвечаю на вопросы, кто я, сколько прошла и когда стартовала (это главное, что интересует попутчиков). На вопрос «зачем» ответа по-прежнему нет.
На привалах в редкой тени редких деревьев пилигримы едят хлеб и помидоры. Почти все выпивают – в одной деревне я видела винный фонтан, где из краника льётся вино, как в сказке. У меня с собой фляжка для воды. Краткий отдых, разговор с попутчиком, увещевательная беседа с ногой. Нога внимает уговорам и с каждым днём болит всё меньше. Куда больше проблем доставляют мозоли – видимо, и с ними придётся разговаривать.
Американец, с которым мы познакомились в альберго Вианы, посоветовал волшебную мазь от мозолей – сегодня я купила её и жду исцеления.
По жаре идти трудно. Воздух плавится, раскалённые крыши городков гудят от зноя. Обещанных дождей нет – но я не думаю, что под дождём идти легче.
Ночую в альбергах, они похожи как братья – полки для обуви, нары, место для стирки. Одни и те же страхи: а что, если мне не хватит койки, а вдруг этот мужик будет храпеть? Ночью у кого-то обязательно звонит телефон.
Я так много времени провожу сама с собой, что в какой-то момент придумываю себе спутницу.
Это моя мама. Она идёт со мной по дороге, проходит путь. Она бы справилась и, если потребовалось бы, несла бы меня на себе.
– Не даёшь девчонке свободы, – ворчала тётя Юля. – Это немножко неправильно, Ленка, так привязывать ребёнка к себе.
«Немножко неправильно» в переводе с тёти-Юлиного – «полная катастрофа». Мама отмахивается: Юль, ну вот ты роди сама, дорасти до этого возраста, и потом будешь меня учить.
Тётя Юля не обижается.
Мне шестнадцать лет. Валя Попова пригласила меня на концерт известной рок-группы, а мама не отпускает, потому что «как бы чего не вышло».
«Как бы чего не вышло» в переводе с маминого – это «полная катастрофа, которую ещё можно предотвратить». Валя Попова – источник наших вечных раздоров.
Она пришла к нам в восьмом классе. Обидчивая, плаксивая. Чуть что – сразу слёзы во все стороны. Почему-то выбрала в подруги меня. Никто, кроме молчаливой Люды, никогда меня не выбирал – и я так удивилась, что даже задуматься не успела, хочу ли дружить с Валей Поповой: вот мы уже с ней дружим, и маму это очень расстраивает. Расстраивало до самых последних дней – когда я делала что-то не так, мама ворчала: «Ну конечно, тебя же Валя Попова воспитала, не я!»
Все её так называли – имя и фамилия шли в одной связке, как будто иначе никто не понял бы, о какой Вале шла речь.
А вот тёте Юле моя подруга нравилась – она даже передавала для неё из Москвы какие-то подарки. Значки, кажется. Или серёжки? Не помню.
Мама боролась с Валей Поповой всеми средствами, но средств у неё было немного. Валины родители работали в торговле, она приносила учителям сырокопчёную колбасу и ещё какие-то деликатесы, поэтому была в школе на хорошем счету. Училась так себе, грезила о великих свершениях. Мечтала стать актрисой, потом, когда всю страну огрело гитарным грифом по голове, собралась в певицы. Я в её мечтах исполняла роль бэк-вокалистки или пританцовывала на заднем плане. Валя Попова бдительно следила за тем, чтобы я вдруг не вылезла вперёд, – все мои робкие попытки заявить о себе душились на корню.
Билеты на тот концерт достал Валин старший брат. Мы собирались поразить своей красотой исполнителей: они тут же предложат нам любовь и совместное творчество (Валя Попова не мелочилась и мечтала обстоятельно, на всю катушку).
Красота у нас была – не поспоришь. Она в те нищие годы обычно равнялась одежде – даже самая непрезентабельная внешность шла в зачёт, если её обладательница имела модные шмотки. Валя одевалась на туче, мне тётя Юля присылала вещи из Москвы, да и мама шила-вязала по «Бурде Моден», тоже добытой тётей Юлей. Ещё у нас были какие-то знакомые в Верх-Нейвинске, закрытом военном городе с непривычно холмистыми улицами. Верх-Нейвинск хорошо снабжался, и мы несколько раз в год приезжали туда за дефицитами, пролезая через дыру в заборе. Потом знакомые куда-то переехали, а без них мы проникать в город не решались.
Валя Попова разработала целый план, согласно которому мы сразу же после концерта попадали в гримёрку при помощи знакомого звукаря (или осветителя?). Солист (Валя метила в него, а мне предназначался кто-то из рядовых музыкантов), ослеплённый вельветовыми джинсами Raffle, упадёт к Валиным ногам и предложит ей место в своём сердце и коллективе. Ну и я, на заднем плане, с маракасами, буду невнятно подпевать… Я требовалась Вале Поповой, потому что прийти одной за кулисы было вроде как неприлично, а вместе – вполне нормально.
И тут моя мама сказала: нет, ты не пойдёшь ни на какой концерт, я слышала про эту группу, что все они там наркоманы! Одним махом взяла и разрушила наши планы!
– Шагу ступить без своей мамочки не можешь! – обиделась Валя.
Сейчас, когда мои дни меряются исключительно шагами, которые я прохожу без мамы, эти слова звучат совершенно иначе. Но тогда, услышав их, я обиделась не на Валю Попову, а на маму – в самом деле, почему я должна во всём её слушаться? Только потому, что не представляю своей жизни без неё? Потому что – пионерский лагерь, широко раскрытые руки, ребристая раковина?..
Валя Попова стала первой, кто посягнул на святость наших с мамой отношений. Когда я привела её домой, стесняясь тех самых светильников, похожих на груди святой Агаты, Валя спросила:
– А где твой папа?
Папы никогда не было, и дедушки тоже. Женщины моей семьи вот уже несколько поколений обходились без мужчин: жили с матерями, рожали поздно, всегда и только – девочек. Я смутно догадывалась, что это «немножко неправильно», но ничего другого не знала и не могла представить себе в нашем женском доме мужчину. Валя Попова жила в полной семье, обожала отца и слегка презирала маму («она у нас женщина простая»), крепко дружила с братом. Наша квартира, где можно было ходить в нижнем белье, где не было самодельных панно из сигаретных пачек и заклеенных этикетками от пива кухонных дверей, поразила её до глубины души.
– Тоже одна рожать будешь? – деловито спросила Валя, проводя пальцем по стопке альбомов с репродукциями, как будто пересчитывая их.
Я стушевалась, не зная, что сказать. Валя Попова задавала вопросы похлеще, чем в том альберго, где меня озадачили в первый день пути.
Когда мама запретила идти на концерт, мы с ней впервые поссорились. Она спрятала мои туфли, и я, сбежав из дома, пошла на концерт в разбитых старых теннисках. Валя Попова заставила меня переобуться. Дала свои лакированные туфли, с бантиками и перфорацией, которые были на полразмера меньше моего и натёрли за тот вечер мозоли не хуже пилигримских.
Валя вообще любила меняться вещами – и за это мама критиковала её особенно.
– Как ты можешь быть настолько небрезгливой? – честила она меня, обнаружив в шкафу Валину блузку. – Чужие вещи даже пахнут по-другому!
Но я была настолько порабощена своей дружбой с Валей Поповой, что принимала её со всеми привычками и странностями.
Концерт был хороший, жаль, что даже во время самых лучших песен, когда зал в едином порыве раскачивался, как поле с высокой травой на ветру, я думала о маме и жалела её. Наверное, она сейчас плачет, раскаивалась я, но потом переводила взгляд на счастливое лицо Вали Поповой – и понимала, что всё сделала правильно.
За кулисы мы прорвались не без труда. Вале даже пришлось слезу пустить, уговаривая охранников, – она в те годы легко плакала, как будто включала внутри себя невидимый кран. В гримёрке, куда так стремилось Валино тщеславие, обнаружился солист – в полном одиночестве, почему-то голый, лишь частично завёрнутый в красное знамя, прикрывающее стратегически важные места. Был то ли пьян, то ли обкурен – и ничем не напоминал лихого героя, полчаса назад скакавшего по сцене со стойкой микрофона наперевес.
– О, девчонки, – без всякой радости отметил солист, но тем не менее гостеприимно откинул знамя в сторону. Вот так я впервые увидела голого мужчину. А через минуту нас выгнал из гримёрки коротконогий и очень волосатый человек в шортах – директор коллектива.
Валя Попова не расстроилась – на пути домой она разрабатывала новую стратегию покорения мира и, подбадривая, тыкала меня локтем под рёбра: не журись, и тебе что-нибудь перепадёт! Я с новой силой раскаивалась: стоило ли обижать маму ради того, чтобы стать тенью Вали Поповой? Туфли так натёрли мне ноги, что я сняла их и от трамвайной остановки шла до дома босиком.
Мама ждала нас во дворе. Кинулась мне навстречу, хотела ударить, но потом обняла и заплакала.
– Елена Петровна, я не понимаю, чего вы так беспокоитесь? – удивилась Валя.
– И никогда не поймёшь, – отбрила её мама.
Она предчувствовала, что с Валей Поповой в мою жизнь входит много такого, от чего ей хотелось меня уберечь, – боролась с ней не на жизнь, а на смерть. И в конце концов победила.
Темнеет. Пилигримы ложатся спать.
Логроньо – большой красивый город, столица земли Ла-Риоха. Славится винами и овощами. Про овощи ничего сказать не могу, а вот вина попробовала в избытке – поэтому, наверное, и вспомнила столько лишнего. В памяти эти подробности лежат на самом дне, но вино взбаламучивает их и выносит на поверхность. Пускай улягутся с миром.
И я тоже лягу. Завтра мне рано вставать – сегодня прошла возмутительно мало.
День пятнадцатый. Нахера
Пилигримы, как я уже сказала, бывают разные.
Одни идут медленно, избегают жары и останавливаются на ночь в первом же попавшемся альберго (даже если день ещё гудит, шумит, стрекочет цикадами).
Другие торопятся, обгоняют, бросая на ходу «буэн камино», словно камушек в траву.
Одни курят анашу, другие пьют вино на привалах. Я видела паломников, которые не идут, а бегут, и таких, что еле тащатся. Кто-то хочет разговаривать, кто-то молчит и делает вид, что люди не интересны ему как вид.
Сегодня, на подходе к городу На́хера, над именем которого поглумился даже самый ленивый русский, со мной поравнялась женщина лет пятидесяти. Шумно глотнула из фляжки и представилась:
– Соледад.
По-испански – «одиночество». Соледад сказала, что у них в Аргентине это имя очень популярно. «Мария де Соледад» – один из титулов Мадонны.
– Можешь звать меня просто Соль.
Но мне больше нравится Соледад. Здесь нет ни одной рычащей мужской буквы, зато чувствуется сила и какое-то высокое смирение.
Моя спутница – одиночество. Забавно, что появилась она в тот момент, когда я осознала, что вовсе не одинока на пути. Вот уже несколько дней со мной идут мама, тётя Юля, Валя Попова, полуголый солист известной группы, Яна Поплавская, девочка Элли, бескостный Леонид и другие люди, забытые и незабвенные. То отстают, то снова нагоняют… Мы переходим по мостам мелкие реки, отдыхаем в тени деревьев, смотрим на виноградники, исцарапавшие холмы, считаем памятники пилигримам, ракушки и жёлтые стрелы.
Соледад появилась именно тогда, когда я обжилась в своём одиночестве, населённом болтливыми тенями.
Она не задаёт вопросов, больше молчит, чем говорит, но молчание её не утомительно.
Соледад коренастая, загорелая. Волосы у неё блестящие и чёрные, как винил. Она не в штанах, как большинство пилигримов, а в длинной юбке и высоких ботинках. На голове – шляпа. Сзади на рюкзаке висит ракушка, привязанная за шнурок.
Я рассказала Соледад, как переводится с русского название города Нахера – древней столицы Наварры.
– То есть это можно перевести как «зачем»? – уточнила моя спутница.
Зачем – это не только про камино де Сантьяго, но и про всю мою жизнь. Про любую жизнь. Про жизнь вообще.
Зачем привязывать к себе человека морскими узлами, если знаешь, что оставишь его однажды – и он будет выживать в одиночестве? Вопрос к маме.
Зачем отбирать у своего ближнего единственную ценность, чтобы, повертев её в руках, счесть ненужной – и выкинуть в помойку? Вопрос к Вале Поповой.
– Зачем ты свернула здесь? – кричит Соледад. Вопрос ко мне. – Альберго вон по той улице! Но сначала зайдём в храм.
Нахера славится монастырём Санта-Мария ла Реаль, похожим на неприступную крепость. Это здание – как истинная вера, окаменевшая за долгие века. Соледад привычно окунает пальцы в чашу со святой водой.
В монастыре погребены короли и принцы Наварры, Леона, Кастилии. Покойники, изваянные из камня, лежат поверх собственных саркофагов расслабленные, как во время глубокого сна.
– Точно как пилигримы в альберго, – шепчет Соледад.
Я узнаю святых и кланяюсь им, как добрым знакомым, – вот Пётр и Павел, вот Джироламо в шляпе, вот и наш Сантьяго. Чудотворная статуя Мадонны почему-то выглядит индианкой: деревянная статуя ярко раскрашена, чёрные брови, улыбка…
Соледад молится.
Когда мы пришли в альберго, клетушки с обувью были забиты до отказа. Но Соледад упрямо втиснула свои ботинки рядом с чьими-то разбитыми кроссовками – и через пять минут махнула рукой от стойки администратора: разувайся!
И вновь каким-то чудом нашлось два места. «Ну так я же помолилась», – объяснила Соледад.
Мне досталась нижняя койка, и я только что со всей силы ударилась головой о верхнюю, где ойкнул ни в чём не повинный сосед. Расстояния от нижней полки до верхней во всех альберго очень маленькие – и я прочувствовала это собственной макушкой.
Возможно, то был знак, что хватит писать на сегодня – завтра нам рано вставать. Нам – это мне и Соледад. Мы решили объединиться хотя бы на время, а там посмотрим.
День девятнадцатый. Бургос
Чаще всего мы с Соледад говорим о ногах. Вспоминаем пословицы, поговорки, стихи и сказки, где фигурируют ноги. Соледад собиралась стать монахиней, но потом передумала, вернулась в мир. Выучилась на врача-ортопеда (ноги – её профессия, какая отличная попутчица, прямо Бог послал, воскликнула вчера тётя Юля). Соледад из очень простой семьи, её мама даже читать не умела. Живёт в пригороде Буэнос-Айреса. Муж умер, детей нет. Больше нет – единственная дочка погибла при пожаре. Её звали Мария Франциска.
На правой руке Соледад – следы глубокого ожога. Она в любую погоду носит одежду с длинными рукавами.
– В ногах правды нет.
– Дурная голова ногам покоя не даёт.
– Не с той ноги встал.
– Ноги в руки – и пошёл!
Было трудно объяснить Соледад смысл этой присказки, но потом она, кажется, поняла – и засмеялась. Смех у неё неприятный, похожий на приступ – я каждый раз терпеливо жду, когда он закончится. К счастью, мы обе не такие уж весёлые и смеёмся редко.
Во время трудных переходов подолгу молчим, но это хорошее молчание. Каждый плавает в своих мыслях как рыба, а потом мы выходим на сушу и заново узнаём друг друга.
Вчера целый день шёл дождь. Дорогу развезло, мы шлёпали по грязи от Атапуэрки до Бургоса. Тем не менее это был мой рекорд – 26 километров! Лодыжка почти не болит, но ортез я пока не снимаю. Соледад считает, это правильно.
В Атапуэрке видели памятник ноге – все эти памятники, поставленные вдоль камино, сделаны, видимо, одним и тем же художником: они плоские, металлические, с выемками.
Пейзаж изменился, у земли здесь плоскостопие: не нужно подниматься в горы и штурмовать перевалы.
Мы шли в дождевиках, как две живые палатки. Соледад раскрыла зонтик. Пилигримы с зонтами не ходят, но у Соледад свои правила. Это первый человек в моей жизни, которому действительно всё равно, что о нём подумают. Когда она крестится перед ужином или в храме, мне кажется, что она отгоняет от себя ладонью всё наносное, лишнее.
Мы шли по раскисшей, чавкающей дороге под проливным дождём. Небо и не думало светлеть.
В тот день много лет назад тоже шёл дождь. Я училась на первом курсе философского, Валя Попова поступила в театральный институт. Мы всё так же исступлённо дружили, и я по-прежнему играла играла вторую скрипку (все остальные инструменты и дирижёрская палочка принадлежали Вале). Я не возражала – вторая скрипка была мне по размеру.
Английский язык в нашей группе всё никак не начинался – ждали, пока преподаватель вернётся из Лондона. По тем временам это звучало совершенной экзотикой – лично я вообще сомневалась в том, что Лондон и Англия существуют на самом деле. Их вполне могли выдумать, как страну Оз или Хоббитанию, – просто для того, чтобы студентам было интереснее учиться.
Он вернулся в ноябре, вбежал в аудиторию, споткнувшись.
– За правую ногу – к деньгам! – объявил всей группе. Мы смеялись, очарованные.
Его звали Андрей Григорьевич – не имя, испытание для таких, как я, спотыкающихся о скопления согласных, как будто это не звуки, а дорожные камни. Зато сразу три «р» – настоящий мужчина!
На занятиях сидел не за столом, а на столе. Постоянно вертел в руках очки и ронял их. Носил мягкий пиджак с декоративными заплатами на локтях. Уже этого было достаточно, чтобы влюбиться, – таким он был нездешним, обаятельным, свободным. Хотелось присвоить себе все эти качества и его самого. Хотелось, чтобы он смотрел на меня с обожанием, как на Ленку Дегтярёву, отличницу из спецшколы. Её английский – пусть и советский, архаичный – звучал на общем сером фоне прекрасным соло, и грамматика стояла как влитая, по выражению Андрея («Григорьевича» я отменила – сначала в мыслях, потом в реальности). У меня грамматики вообще не было – в школе я осваивала язык на ощупь, интуитивно. Выезжала за счёт хорошего слуха и симпатии учительницы. А мой пластилиновый языковой запас начал формироваться лишь в университете.
Мама чувствовала, что я опять ухожу от неё – и не ради Вали Поповой, а ради кого-то ещё более опасного, того, кто сделает мне больно, обманет, предаст, как всегда поступали мужчины с женщинами в нашей семье. При этом мама понимала, что должна позволить мне совершить ошибку, – ведь только таким способом я смогу обзавестись собственной дочкой, следующей фигурой в бесконечной партии, которую женщины нашей семьи начинают – и, теряя всё до пешки, выигрывают. Она терпела мои восторженные рассказы об Англичанине (так я называла его за глаза, чтобы не спотыкаться о тройное рычание), безропотно находила деньги на покупку книг «на языке оригинала» и спрашивала: может, мне перевестись на иняз, раз так?
Вале Поповой тоже приходилось выслушивать мои восторги, и она сразу же заметила, что у меня слёзы выступают на глазах, когда я произношу его имя.
– Что ж ты плачешь-то, если всё так прекрасно? – спросила однажды. Я не нашлась, что ответить, а теперь думаю, что те восторженные, горячие слёзы были предвестниками других, более поздних и едких.
Мы стали встречаться во время зимней сессии, первый раз были вместе накануне моего последнего экзамена. 19 января, Крещение. Машины под окном были укрыты белыми чехлами из плотного снега. Квартира Андрея – такая же необыкновенная, как он сам. Здесь повсюду стояли, лежали, валялись книги: они были не просто книгами, но ещё и мебелью, и вечерними подставками под бокалы с вином, и утренними блюдцами для кофейных чашек, и средством выражения эмоций (когда Андрей сердился, то всегда швырял книгу, подвернувшуюся под руку, – любопытно, что книга всегда подворачивалась не самая ценная). Он часто сердился, был тщеславен, считал, что в вузе его не ценят. Мечтал навсегда уехать в Англию. Я замирала, представляя разговор с мамой:
– Конечно же, я поеду вместе с ним.
В университете быстро обо всём догадались. Мне завидовали. Сплетничали, что зачёт я нашла в постели Англичанина, хотя это было не так. Я на самом деле увлеклась тогда английским, и английский просто не мог не ответить на моё чувство взаимностью.
А потом настал тот день, когда с утра шёл дождь – и всё никак не мог дойти туда, куда нужно. Как упрямый пилигрим к чужому святому, которого даже не знаешь, о чём попросить. Валя Попова пригласила меня на студенческий спектакль, где у неё была крохотная роль. И я позвала с собой Андрея – он держал надо мной большой английский зонт, но я почему-то всё равно промокла. Вале хватило минуты, чтобы понять, как важен для меня этот человек. И целой жизни не хватит, чтобы я ей это простила…
Не помню, когда кончился дождь. Помню, как много ночей подряд ворочалась с боку на бок, пытаясь уснуть и путаясь в пижаме, как в смирительной рубашке.
Англичанин не был нужен Вале Поповой, он был ей даже не интересен – Валя, как всякая юная хищница, использовала его для оттачивания собственных возможностей. Им ведь в театральном всё время говорили: нарабатывайте впечатления, личные переживания, ищите эмоции – это бесценный багаж!
С Андреем они расстались уже через месяц. Нам очень кстати сменили преподавателя – тётенька средних лет была усатой, носила парик и страшно растягивала губы в стороны, произнося как заклинание: «Winter vacation! Very well!» Да уж, действительно.
Моя пятёрка по английскому быстро скукожилась, вскоре её сменила хилая четвёрка, а окончилось всё позорнейшим тройбаном на госэкзамене.
У меня было ещё несколько романов во время учёбы – с тем самым бескостным Леонидом и парой молодых людей с не менее мягкими именами: Илья, Алексей… Андрея Григорьевича я встретила случайно спустя многие годы на каком-то мероприятии в библиотеке – стареющий, с крашеными волосами, в татуировках, он носил серьги в ушах и зелёные штаны. Попытка ухватить уходящую молодость за краешек одежды – и получить, как змеиную кожу, лишь хлястик от модного пальто – была такой жалкой, что я сделала вид, будто не узнала его. А он меня не узнал совершенно по-честному.
Валя Попова актрисой не стала, даже институт не окончила. Она вышла замуж на третьем курсе – как тогда говорили, за коммерсанта. Когда мне хочется расчесать до крови старые обиды, я захожу на её страницу в «Инстаграме» и смотрю на счастливую жизнь моей подруги, расфасованную в сотнях ярких фотографий. Вот Валя на морском берегу, с дочерьми-подростками. Вот Валя и её муж отмечают двадцать лет счастливой совместной жизни в ресторане. Валя в Париже, Валя в примерочной бутика, Валя и торт, Валя и кот… Картинки сопровождаются размышлениями: «Самое главное в жизни – быть мамой», «Секрет счастья – в маленьких радостях», «Семья – то, ради чего стоит жить».
Однажды мне приснилось, что я должна поменяться с Валей Поповой местами, – от этого сна я отходила, как от сердечного приступа.
Наверное, можно было бы рассказать всё это Соледад, но мне не хватает языка и решимости. Поэтому я говорю другое: в русском языке дождь идёт, а не падает. Соледад не удивляется – она уже поняла, что русский язык не поддаётся законам логики.
Что её действительно поразило, так это что птицы у нас сидят на ветках. Соледад ухохатывалась, изображая, как птицы усаживаются, скрестив ноги, – «и курят».
– Почему они курят, Соледад?
– Не знаю, но, если они сидят, почему бы им не курить?
Приступ-смех заканчивается долгим протяжным стоном, к которому я уже начинаю привыкать.
Просветлело, когда мы подходили к Бургосу. Дождь иссяк. В грязи копошились бабочки. Трогательные застенчивые ослики прятали глаза.
Бургос – большой красивый город, собор здесь похож на шахматные фигуры, тесно составленные одна к одной: есть в нём что-то английское, решила Соледад. Мы безошибочно подошли к картине, украшавшей одну из капелл. Там был представлен заболевший король: у него гангрена, и ногу будут ампутировать.
– Очень кстати, – заметила Соледад.
В альберго вместе готовят общий ужин, потом читают молитву, едят и знакомятся. Напротив меня сидели две совсем юных китаянки, которые делают по 40 километров в день. Имён я не запомнила, но одна из них с гордостью рассказывала, что принадлежит к народности мяо:
– Нам всегда можно было рожать по двое детей!
Вторая китаянка (из народности хань, самой многочисленной в Китае) внезапно развела руками, задев итальянку Софию, которая возмущённо рассказывала другим пилигримам о странном поведении своего американского друга. Он приехал к ней на озеро Комо и развеял прах своей жены у неё в саду, потому что в завещании жена просила похоронить её где-нибудь в Европе.
– Представляете, – кипятилась София, – он вышел с урной в сад – и развеял свою жену так, что она висела на всех моих плодовых деревьях!
Пилигримы смеялись и ужасались, а друг Софии, мужчина с мушкетёрской бородкой, утешал её:
– Я тебя никогда не развею!
Соледад с нами не ужинала: купила где-то сэндвич и теперь давно спит. Я же долго наслаждалась тем, что слушала разговоры пилигримов, чужих людей с чужими проблемами, – они давали мне ощущение какой-то странной безопасности. Я как будто терялась среди них, размывалась, как дорога под дождём, и в то же самое время была важной частью, которой нельзя найти замену.
День двадцать третий. Фромиста
Тема ног поистине неисчерпаема. В ней мы черпаем силы для того, чтобы идти, она спасает от рваных пауз в разговорах, и даже когда мы с Соледад молчим (за себя это могу сказать точно), то вспоминаем всё новые и новые истории про ноги.
Сегодня на привале я снимала ботинки, кажется, намертво приваренные к коже, – Соледад с сочувствием наблюдала этот процесс и потом сказала:
– Испанский сапог.
В Средневековье была такая пытка, когда ноги несчастных арестантов зажимали в железных тисках, предварительно разогретых в печи. Вряд ли кто-то из моих знакомых святых испытал её на себе – испанский сапог был популярен значительно позднее, в эпоху несвятых инквизиторов.
Полумонахиня Соледад – кладезь познаний. Она рассказала мне о святых Криспине и Криспиниане, покровителях сапожников, которые бесплатно раздавали беднякам обувь и не без помощи этого обращали их в христианство. О вечной девственнице Люции, рассечённой мечом, – перед казнью она успела вырвать себе глаза и отослать их обидевшему её супостату. О святом Бернарде, который водил маленького демона на цепи, как комнатную собачку, и о святом офицере Мартине, отдавшем половину своего плаща озябшему нищему… В городке Фромиста, где мы сегодня ночуем, есть старинная церковь Святого Мартина. «Вот видишь, – сказала Соледад, – осеняя себя крёстным знамением, – не зря его сегодня вспоминали».
После привала вновь приходится надевать ботинки на едва отдохнувшие ноги, и вот это – настоящий испанский сапог.
Мы идём только вдвоём, все прежние призраки-спутники разбежались – только мама тихо следует за нами, как Эвридика, да тётя Юля звонит именно в тот момент, когда я наконец-то нашла кусты, чтобы уединиться. Это действительно талант!
– А у королевы Испании не было ног, – сказала Соледад.
– Как это?
– Австрийской принцессе – будущей супруге Филиппа IV – кто-то преподнёс шёлковые чулки, но мажордом отверг подарок. Сказал: «У королевы Испании нет ног!»
Я вспоминала книги, которые проглотила в последние месяцы и которые прочитала раньше, – все те, что заставляли меня жить. Ну или хотя бы делать вид, что живу. Я мысленно пролистывала каждую: вначале бережно, а потом без всякого почтения хватала за переплёт и трясла, как мешок. Так делают воры, разыскивающие купюры, спрятанные хозяевами (после маминой смерти я нашла в сборнике Цветаевой двести советских рублей), – но мне нужны были не банкноты, а истории про ноги. Чтобы Соледад не оставила меня, игра должна продолжаться.
В конце концов я вытрясла из памяти такую историю, что моя спутница поражённо молчала на протяжении часа.
Французский художник Эдуард Мане умер от гангрены, вызванной застарелым сифилисом. Автору «Завтрака на траве» было так худо, что ему прямо на дому сделали операцию – ампутировали больную ногу, но было слишком поздно, и спасти мэтра не удалось. Обрубок врачи в суете положили в камин – другого места, по всей видимости, не нашлось. И там, в камине, ногу мастера обнаружили впоследствии его опечаленные родственники.
Камин и камино объединились в этой истории, как в шутке толстого московского доктора.
– Что мы всё о ногах да о ногах? – вдруг рассердилась Соледад. – Расскажи мне лучше про свою страну. Вряд ли я туда когда-нибудь доеду… Расскажи про свой город – Ека-те-рин-как?
В Екатеринбурге сейчас непролазная весенняя грязь, бурый ледяной шербет на дорогах. Недоклёванные птицами дикие яблочки висят на голых ветвях, как точки.
Тётя Юля говорит, в Москве вчера выпал снег, а значит, через пару дней он доберётся до Екатеринбурга. Погода к нам всегда приходит из Москвы. На свежем белом пуху появятся птичьи следы, похожие на стрелки для игры в казаки-разбойники.
А здесь – почти лето. Дождей больше не было, к полудню дорога плавится от зноя. У меня обгорел нос, и одежду приходится стирать каждый день: она промокает не от дождя, а от пота. Поля переливаются разными оттенками зелёного и жёлтого и сливаются в небесной голубизне, нарушая правила, которые объяснял в первом классе учитель изо.
Появляются первые маки, краснеют в полях кровавыми каплями.
Вот уже три недели, как я в пути.
День двадцать девятый. Леон
Вот уже почти месяц, как я в пути, и это всего лишь его середина. Леон – большой город, который назвали не в честь льва, как можно подумать, а в честь римского легиона.
Последние несколько дней были очень трудными, о чём честно предупреждал путешественник из видеоблога. Говорил: тем, кто пройдёт от Бургоса до Леона и дальше, до Асторги, сам чёрт не брат. Мы с Соледад к тому же заплутали – у Мансильи ошиблись поворотом и вышли к забору настолько унылого вида, что мне показалось, я в России. А Соледад – что в Аргентине. Пришлось возвращаться. Намотали два лишних километра, а это у пилигримов вызывает самую настоящую ярость. Соледад явно расстроилась…
Допишу позднее, тут происходит что-то непонятное.
Тем же вечером
Соледад отправилась на мессу для пилигримов, почти все ушли на эту мессу, и я была практически одна в дормитории, не считая корейца в двух левых тапках: он внезапно появляется на камино и так же внезапно исчезает. Дормиторий – большой спальный зал при бенедиктинском монастыре, церковный альберго, где вносишь небольшое пожертвование и пользуешься всеми земными благами вроде стиральной машины и койки с одеялом. Одеяла дают далеко не в каждом альберго, а по ночам в Испании совсем не жарко – мне в итоге пригодились и спальник, и куртка.
Я собиралась просидеть с дневником не меньше часа, как вдруг услышала какой-то шум в коридоре. Громкие голоса, смех – знакомые голоса, знакомый смех… Выглянула – и увидела парочку, которая шла обнявшись: ни дать ни взять пьяные матросы. Но стоило присмотреться внимательнее, стало понятно: мужчина с трудом переставляет ноги, женщина буквально тащит его на себе. Женщина сильная, статная – рабочий и колхозница в одном флаконе. Женщина глянула на меня – и превратилась в Беллу, швейцарскую официантку, которой следовало быть уже где-то в пригородах Сантьяго. Мужчина улыбнулся – и стал англичанином Джо без обручального кольца.
– Девушка с ногой, добрый вечер! – сказал он мне, всё так же чеканно отбивая каждый слог. А вот шаг ему чеканить не удавалось – он шёл, как андерсеновская русалочка по земле: гладкий пол дормитория был для него хуже колючей проволоки.
Джо стёр ноги до мяса на второй неделе – он слишком резво пустился в путь, проходил по тридцать километров в день (я такое даже представить себе не могу!). Пару раз не просушил обувь после ливня, испортил кожу хлопчатобумажными носками (шерсть, только шерсть!), и ноги отплатили своему хозяину по полной программе. Кожа просто сползла с них, и ступни сочились кровью, как у бедненького святого Варфоломея.
В Леон его привезли на машине из Бургоса – Джо должен был встретиться здесь со своими друзьями, начинающими пилигримами, решившимися на «половинку пути». В итоге те друзья, поохав и поахав над ним, отправились в паломничество – сейчас они, скорее всего, приближаются к Сантьяго, а бедный Джо заново учится ходить на только-только покрывшихся нежной кожицей ступнях. Паломничество, конечно, закончилось: поездка на машине – это непростительный грех, сказал Джо. Видно, что он много времени провёл в монастыре.
– Теперь и я мужчина с ногой, – грустно пошутил Джо.
– Тогда уж с ногами.
Белла недовольно глянула на меня – и, по- свойски, на Джо. Так хозяйски оглядывают принадлежащую тебе вещь – добротную, совсем недавно купленную и ещё не успевшую слиться с интерьером в единое безликое нечто. Белла (в крещении, если я правильно помню, Августа) пришла в Леон неделю назад. У неё не было ни одной мозоли – она с гордостью показала мне свои ноги в резиновых шлёпанцах, действительно совершенно гладкие, непилигримские. Монашки рассказали ей про бедного англичанина, который лежит здесь уже несколько дней и пьёт по бутылке красного вина для скорейшего исцеления.
– Как истинно православный человек, я не смогла оставить его здесь в одиночестве.
Истинно православный человек Белла в компании с Джо исправно посещает все католические мессы.
– А разве можно? – спросила я.
Мы к тому времени сидели в лазарете: я и Соледад на стульчиках, швейцарка – в ногах больного.
– Я спрашивала батюшку, он благословил.
– Джо, а ты католик?
Он был дважды крещённый еврей-агностик. Сирота, попавший в приют, носил иудейскую фамилию, потом его усыновила истово верующая католичка, а когда она умерла, опекунство над мальчиком оформила семейная пара – слабослышащий мужчина и слабовидящая женщина.
– Но Бога они видели и слышали невероятно чётко! – улыбнулся Джо. – И заново крестили меня в англиканской церкви.
Агностиком он стал в юности, в храмах бывал только по эстетическим причинам – в мире, по мнению Джо, есть острая нехватка красоты.
– Неудивительно, что Господь Бог снял тебя с дистанции, – пробурчала Соледад, но Джо её, к счастью, не услышал.
– Соледад – бывшая монахиня, – говорю я просто для того, чтобы что-то сказать. Мне хочется произвести впечатление, и это так по-детски! Вот что у меня есть, бе-бе-бе, со мной по камино шагает бывшая монахиня, пока вы тут живёте в монастыре и на пару посещаете мессы.
– А почему бывшая? – интересуется Джо.
– Так сложилось, – Соледад не хочет об этом говорить, и все поспешно переходят на другие темы: идут, как через рельсы, когда вдали уже виднеется поезд.
Я рассказываю про свою детскую дружбу с католическими святыми из альбомов по искусству.
Белла говорит, что надо обязательно посещать богослужения в храме, потому что кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Джо спрашивает, знаем ли мы, откуда взялось слово «компостела» в названии города, куда он так и не дойдёт? Мне на ум приходят неуместные «компост» и «компостер». Соледад явно знает ответ, но признаваться не хочет – вместо этого собирает несуществующие крошки с тумбочки Джо, меняет местами стакан и бутылку с водой: все эти манипуляции сопровождает сверлящий взгляд Беллы.
Как же трудно не смотреть на больные ноги Джо – на эти кровавые подмётки!
Латинское «campus stellae» – «звёздное поле». 25 июля 814 года (за дату Джо не ручается) в Галисии светила необыкновенно яркая звезда. За светом этой звезды последовал монах- отшельник, имени которого Джо тоже не помнит, – он-то и обнаружил ковчег с останками святого Якова. Вот откуда родом компостела.
– Как красиво! – мечтательно говорит Белла, но лицо её мрачнее беззвёздного неба.
Белла и Джо – новые имена Вали Поповой и Андрея, который тоже был Англичанин, пусть и не с таким чеканным выговором. Моя судьба похожа на писателя, с упрямством расписывающего один и тот сюжет в каждом новом романе – он всего лишь меняет имена персонажам и декорации, перепрыгивает во времени на двадцать лет.
Между тем мы перевалили за экватор.
День тридцать первый. Асторга
Не верится, что две недели назад мы изнывали от жары! На всём пути от Леона до Асторги дул холодный ветер – и не в спину, а в лицо. Пальцы, сжатые в карманах, не хотят разгибаться даже сейчас. Кулак тоже похож на ракушку святого Якова.
Это самый скучный участок пути. Тропа идёт строго вдоль трассы. Плоскогорье, промышленная зона, мимо которой мы чуть было не решились проехать на автобусе – но вовремя остановились. Точнее, автобус не остановился вовремя – выехал на трассу, не дождавшись пассажиров.
– Искушение, – говорит Соледад.
Белла и Джо остались в Леоне: судя по всему, у швейцарки серьёзные планы на англичанина, раз она рискует своей работой. А что? Подлечит ему ноги, увезёт в город Ньон и будет счастлива.
Я сержусь на Беллу и завидую её решимости. У Джо красивые руки и глаза в морщинках-лучах, похожих на дороги в Сантьяго (теперь я узнаю́ их во всём, что вижу). Больше мы с ним никогда не увидимся – если только не бросить всё прямо сейчас: вернуться, упасть к стёртым до крови ногам и пригласить в Екатеринбург. Конечно же, он выберет Россию, а не Швейцарию, меня, а не Беллу – так поступил бы каждый!
– Он гей, – говорит Соледад. – Тот тип из альберго, на которого ты так печально смотрела, он гей.
– С чего ты взяла?
– Внимательно смотрела, внимательно слушала. Это же очевидно, Олга!
Мягкий знак Соледад не даётся. Но сама она внезапно смягчается. Объясняет:
– Когда в лазарет заходили молодые парни, он смотрел на них, а девушек не замечал.
– А может, у него есть сын, по которому он скучает?
– Ну да, ещё скажи, что он погиб на камино, и Джо совершает паломничество вслед за ним, как в том фильме с Мартином Шином!
Километра три после этого шли молча – а когда мимо нас с диким воем промчалась длинная фура с рекламой международных перевозок, я внезапно поняла, что Соледад права.
Вспомнила, как Джо сидел рядом со мной в автобусе на Сен-Жан-Пье-де-Пор – разглядывал фотографии в телефоне, и я краем глаза заметила, что он там был снят с каким-то молодым человеком. Я думала, друг. Или сын. Не придала значения, даже не подумала в ту сторону. Люди моего поколения, выросшие в СССР, невинны вовек.
Вот и Белла тоже – человек из СССР.
А Соледад – совсем другая, пусть и монахиня.
От скуки я стала учить её русскому. Соледад попросила начать с числительных, ведь с помощью цифр объясняется всё самое важное – возраст, цены, время, телефоны, адреса. Мы считаем: адзин, дуа, чри, шэтыри, пат, щест, сэм, уосэм, дэвить, дэсац. Пишем веточкой в пыли её имя русскими буквами – Соледад в ужасе и восхищении. Некоторые вещи её искренне возмущают – зачем нужен твёрдый знак? Если идти и ходить – это одно и то же, как разобраться, мы сейчас идём или ходим?
– Мы идём.
– Идьём.
Мы идьём до позднего вечера по скучной дороге на Вильядангос и после неуютной ночёвки в муниципальном альберго снова выходим в путь до Асторги.
Сегодня у нас за спиной почти тридцать километров.
Нога не болит.
Тётя Юля по телефону передаёт Соледад приветы – и приглашает приехать в Москву.
– Я приду, – обещает Соледад по-русски.
День тридцать пятый. Железный крест
– Твоё имя по-русски звучит как соль.
– Мне нравится. Мне нравится, что по-испански это солнце, а по-русски – соль.
После обеда пилигримы куда-то дружно испаряются, дорога, отмеченная жёлтыми стрелами, пустеет.
Дорога стала рутиной, как в конце концов становится рутиной любая жизнь. Я вспоминаю свою квартиру, где родилась, выросла, состарюсь и умру, – даже когда отключают электричество, я на ощупь нахожу здесь всё, что нужно. Не промахнусь, отыскивая в потёмках любимую чашку, из которой пью кофе. У нас с мамой были почти одинаковые чашки – голубая и зелёная. Зелёная разбилась за два дня до маминой смерти. «Вот и не верь после этого в знаки судьбы», – сказала тётя Юля.
В шифоньере – ещё бабушкином – висят мамины платья и кофточки, в комоде аккуратными стопками разложено бельё. Девочки с работы – так мама называла наших коллег – сказали, что от вещей умершего человека надо избавляться сразу после похорон. Такова традиция, один из тех странных народных обычаев – полуязыческих, полухристианских, – которые я не соблюдаю.
– Что похуже – выбросишь, что ещё крепкое – в храм отнесёшь, – объясняла начальница, Александра Павловна. Она знает, как надо себя вести в любых ситуациях, я ни разу в жизни не видела её растерянной или подавленной. Даже когда скоропостижно умер её любимый муж, Александра Павловна не дрогнула, но стала ещё более собранной, аккуратной, целеустремлённой. К списку дел добавился новый пункт – поездки на кладбище, где всегда хватает работы: покрасить оградку, посадить цветы, которые, зараза, никак не хотят цвести. Не забыть взять мелочь для нищих и колбасу для кладбищенских собак, которые выбегают ей навстречу из-за памятника, точно ждали, не иначе. Одного щенка Александра Павловна взяла домой. «Он у меня кладбёныш», – говорит она ласково.
Я открывала шифоньер, проводила рукой по вешалкам с мамиными платьями – и снова закрывала дверцы. Там до сих пор хранился мамин запах, и, когда тоска была совсем невыносимой, я забиралась внутрь, держала изнутри дверцу, чтобы не распахивалась, и вспоминала, как пряталась там в детстве: выбиралась из шифоньера с каким-нибудь платьем на голове, и вешалка обязательно падала с грохотом, и мама весело бранила меня.
Хотелось бы рассказать Соледад о том, как мне не хватает матери, но ведь я даже по-русски не могу это объяснить. Пластилиновый английский здесь и вовсе бесполезен.
Девочки с работы часто вспоминают маму: какой она была прекрасной, душевной женщиной. Потом, конечно, каждая съезжает, как с горки, в собственную горесть: Лена переживает за сына, который плохо женился, у Валентины Иосифовны серьёзно болеет внучка, Галя не понимает, куда катится мир.
Мои коллеги – библиотекари, женщины начитанные и, хотя бы по краю, культурные. Читатели и вовсе попадаются занятные: например, я очень люблю Вениамина Аркадьевича, пенсионера, который посещает зал периодики исправно, как аптеку. Он приятно смеётся, зовёт меня Оленькой и утверждает, что Россия никогда не жила так хорошо, как сейчас. Его жена, Лидия Леонидовна, приходит редко – и берёт сразу целую стопку книг на дом. «Я без книг не могу, – шутит Лидия Леонидовна. – Набегаешься за целый день, возьмёшь книгу – и сразу же засыпаешь!»
Года три назад в читальный зал, которым я тогда заведовала, часто приходил юноша по имени Всеволод – неразговорчивый, полноватый. Брал книги по психиатрии и неврозам – и читал их за одним и тем же столиком под фикусом. Во время чтения Всеволод крутил себе чуб и тяжело вздыхал.
Потом он внезапно пропал и появился вновь лишь спустя несколько месяцев – ещё располнел, и черты лица его стали размытыми, как будто художник мазнул тряпкой по готовому портрету.
– Благодаря книгам я сам себе поставил диагноз, – сказал он, заполняя требования. Я не решилась спросить, какой диагноз поставил себе Всеволод. Теперь он берёт исключительно детские книги и читает их под тем же фикусом, но не вздыхает, а смеётся и так же крутит себе чуб.
Моя работа – важная часть рутины, которой стала моя жизнь.
Случилось это пусть не в один момент, но быстро. Вместе с дипломом о высшем образовании я получила совершенную уверенность в том, что никогда в жизни не стану преподавателем. К науке была равнодушна – как, впрочем, и наука ко мне. Однокурсницы шли в журналистику и новомодный пиар, исчезая бесследно, как пилигримы на тропе после обеда. Одна девочка уехала в Америку. Кто-то вышел замуж.
Мама сказала: «Давай я тебя пристрою в библиотеку до поры до времени, а там посмотрим».
Я согласилась, ведь мама никогда не ошибалась в том, что касалось меня, – вот и про Валю Попову она всё поняла сразу и только из благородства души не вспоминала об этом каждый день. В библиотеку я пришла совсем ещё молодой девушкой: фикус у окна, где сидит Всеволод, был тогда маленьким, в читальном зале вкусно пахло старыми газетами, и Александра Павловна ходила у мамы в подчинённых. Мне казалось, всё это лишь на время – библиотека станет залом ожидания, где я пересижу в относительном комфорте зыбкое время жизни, а после воспарю отсюда к чему-то прекрасному… Мама, как я теперь думаю, уже тогда всё понимала – это не зал ожидания, а конечная станция: поезд дальше не пойдёт, просьба освободить вагоны… Она знала, что никуда я не воспарю – нет у меня ни талантов, ни той бешеной энергии, которая зачастую подменяет собой талант. Мама надеялась, что я освоюсь в той жизни, которую вели все женщины нашей семьи. Они получали образование (пусть даже чисто символическое, как бабушка, окончившая секретарские курсы); находили приличную работу с душевным женским коллективом; рожали дочку от здорового мужчины; заводили кота и сажали фиалки; пекли торты по рецептам из журнала «Работница»; мирно умирали во сне.
В моём случае система дала сбой, и мама обвиняла в этом Валю Попову. Если бы не её дурное влияние, я не примерялась бы к ягодам из чужого сада, а радостно жевала бы свои собственные. Но эта Валя, такая-растакая, зачем-то показала мне другую жизнь, заставила примерить шапку не по Сеньке и научила рубить сук не по себе, на котором я к тому же сидела, не осознавая, как прочно и удобно сижу.
Когда мне исполнилось тридцать, мама с тётей Юлей начали приискивать мне жениха – прямо как в девятнадцатом веке! Разница с девятнадцатым веком заключалась в том, что жених нужен был лишь на время – тётя Юля робко заикалась о том, что Ольке, в принципе, может повезти с мужем, но мама была настроена категорично. Не может! В нашей семье никому не везёт. Везёт тому, кто везёт, вздыхала тётя Юля, питавшая слабость к народной мудрости (вторая её любимая присказка – «На счастье не сядешь»). Ну вот ведь Валя Попова удачно вышла замуж, говорила тётя Юля, и мама взрывалась от негодования: да как ты не понимаешь, что эта Валя сломала Ольге жизнь! Слышать не хочу этого имени – и швыряла раскалённую телефонную трубку на рычаги.
Сломанная жизнь и теперь представляется мне в виде школьной деревянной линейки, треснувшей в сражении на перемене между алгеброй и физикой и распавшейся на два бесполезных зазубренных фрагмента, от которых жалобно пахнет лесом.
Женихов искали в Москве и Екатеринбурге, тётя Юля даже написала одной своей знакомой в Канаду, но та не ответила. Меня знакомили с чужими племянниками, одинокими соседями, плешивыми стариками и прыщавыми студентами. Я была как Пенелопа без Одиссея, но с вечным саваном, схема вязания которого опубликована в журнале «Сабрина».
– Ну вот этот Юрий вроде бы ничего? – спрашивала мама наутро после ужина с астеничным унылым парнем, найденным в районе Химмаша. Ничего хорошего этот твой Юрий. А Георгий, который живёт возле рынка, он-то чем плох? Всем плох: мелкий, усатый и пахнет псиной. Тебе не угодишь, сердилась мама. А я и не прошу мне угождать. Мне хорошо в читальном зале, с книгами и пыльными подшивками журналов: раскроешь одну такую подшивку – и будешь кашлять до вечера.
Тётя Юля сдалась первая, мама упрямо держалась несколько лет – борясь за моё счастье, находила всё новых и новых мужчин, новые и новые доводы. Как ты будешь жить одна, подумала? Я ведь не вечная. Рано или поздно, сама понимаешь. Но я не понимала. Только тот, кто собирается жить вечно, может так любить своего ребёнка, даже когда он уже не ребёнок.
Никто не имеет права так привязывать к себе человека, если собирается оставить его. Мама не имела права умирать.
Я иду по дороге, за спиной рюкзак, ноги гудят и пульсируют. Как будто в каждом ботинке – ёж. Соледад то отстаёт от меня, то снова нагоняет. Я иду мимо городка Фонсебадон, но не вижу его, потому что прохожу прямо сейчас совсем другой путь: его тоже не видно, но он существует. Этот путь тяжелее самых сложных участков камино. Скалистые подъёмы, камни под ногами и промышленная зона вблизи Леона не годятся в подмётки той дороге, которую я прохожу в своих мыслях.
Мои подмётки тоже никуда не годятся, они сношены до дыр – как те сказочные сапоги, которые надо сносить, прежде чем получишь награду. Носки протёрты, пальцы сбиты в кровь.
Поздним вечером мы вышли к Железному Кресту – Крус-де-Ферро. Здесь пилигримы оставляют то, что принесли с собой из дома: камни родной земли, фотографии своих мертвецов, их личные вещи, то, с чем хочешь проститься, чтобы идти дальше налегке. Душевный балласт. Воспоминания, от которых надо избавиться. Это сразу и понятно, и неправильно. Я никогда не смогла бы оставить здесь фотографию мамы – чтобы она истлевала на солнце, мокла под дождём, а в конце концов исчезла бы под грузом воспоминаний других людей. Я не могу ставить на маме крест – тем более железный.
Мы сразу договорились, что подойдём к подножию Крус-де-Ферро по очереди.
Соледад – первая. Усаживает к подножию креста маленькую куклу в синем платьице. Поправляет, чтобы не падала. Долго молится. Позади нас переминаются с ноги на ногу другие паломники.
Я кладу в общую гору свою ракушку с отбитым краем. А потом вдруг пугаюсь, что никогда её больше не увижу, и хватаю так поспешно, что искусственный курган частично обваливается: под ноги мне летят письма в конвертах, фотографии улыбающихся людей, бусы, игрушки, книги, чётки…
Сжимаю ракушку в кармане куртки так крепко, что на ладони отпечатываются рёбра- лучи.
День сорок первый. Палас-де-Рей
Говорят, в начале пути всегда легче. За сорок дней накапливаются усталость и раздражение. Нежные мозоли сменяются плотной коркой, и отныне ты не умеешь стоять, даже на месте теперь приплясываешь, ведь в покое ноги ломит ещё сильнее, чем при ходьбе. И когда за спиной шесть сотен километров, тебе уже нет дела до прекрасных пейзажей, открывающихся за каждым новым поворотом: все мысли только о том, что совсем уже скоро появятся вдали шпили Сантьяго, лучи сойдутся в одной точке – и вспыхнут каким-то новым, чудесным знанием.
У меня всё было иначе. В начале пути я практически умирала от усталости, от боли в ноге, а теперь единственное, что отравляет мне жизнь – это мысль о том, что путь вскоре кончится. И я не буду знать, куда идти дальше.
Нога больше не болит. Не знаю, правильно ли прирос тот кусочек-космонавт, прирос ли он вообще, но опухоли на лодыжке нет.
– Чудеса случаются, – скупо заметила Соледад, но посоветовала ещё несколько недель носить ортез.
После Сантьяго она пойдёт дальше, к океану – туда отправляются лишь самые стойкие пилигримы. Вблизи места, куда приплыла лодка с мощами святого Якова, они будут сжигать свою одежду и молиться о прощении грехов.
И я хочу пойти вместе с Соледад – несколько дней нового пути видятся желанной отсрочкой, и мой обратный билет – с открытой датой. А дальше идти будет некуда – разве что плыть, вот и придётся волей-неволей возвращаться в свою прежнюю жизнь. Наивно думать, что всё переменится только потому, что я прошла (ещё не до конца, кстати) 776 километров с 33 остановками.
Сны мне здесь снятся редко – и если вдруг мелькнёт какое-то видение, оно почти всегда связано с дорогой. Как будто я ещё в самом начале пути, и мой «креденциале» девственно чист. Или – я иду по дороге, а она вдруг приводит меня к какому-то лифту, он резко взмывает вверх, и вдруг я уже лечу в этом лифте над всей Испанией и смотрю на муравьёв-пилигримов, рассыпанных по дороге, как порванные чётки.
Но вчера мне уже под самое утро привиделся зелёный лес, посреди которого была как по линейке выстрижена аккуратная лужайка. Я стояла в центре лужайки на коленях и была голой по пояс, а сзади на моих плечах примостилась огромная сова. У неё были огромные крылья, каких у сов, насколько я помню, не бывает. Или бывает? Я много знаю про святых, но мало – про сов.
Сова впивалась когтями мне в плечи, но делала это как бы вполсилы, не по-настоящему. Однако мне становилось всё больнее и больнее, и я понимала во сне, что сова в конце концов пустит свои когти глубоко под кожу, как растение пускает корни в землю, – и тогда мы с ней станем единым существом. Почему-то я не пыталась согнать сову с плеч, не могла даже обернуться, но только звала маму: помоги мне, спаси, прогони её! Мама была рядом, где-то там, за деревьями – я её не видела, но отчётливо слышала ровный, какой-то механический голос, каким обычно говорят навигаторы:
– Тебе придётся сделать это самой. Я не могу помочь, так что придётся сделать это самой.
Мама терпеливо повторяла одни и те же слова, и в конце концов я проснулась, увидев рядом встревоженное лицо Соледад. Она трясла меня за плечо, где только что сидела сова. Пилигримы давно ушли, мы остались в альберго одни-одинёшеньки, но Соледад не решалась меня разбудить, пока я не начала кричать и всхлипывать во сне.
– Мне тоже часто снятся кошмары, – сказала она. – Всегда одно и то же. Огонь, чёрный дым… Я бегу к моей девочке и в последний момент успеваю вынести её на воздух. А потом просыпаюсь и вспоминаю, что не успела. И в такие минуты завидую людям, у которых нет и никогда не было детей.
Мы молча шли почти весь день, до вечера. Вечером Соледад сказала, что после смерти дочери ни разу не плакала – душа её в том давнем пожаре сгорела почти что дотла. А то, что уцелело, уже ничего не чувствует. На том месте, где прежде были жалость, сочувствие, сострадание, у неё теперь толстый слой ороговевшей кожи.
– Я никого не жалею, – говорит Соледад. – Ни себя, ни других. И ничего не хочу. Вот разве что… поплакать.
– Ты об этом молишься? Чтобы снова научиться плакать?
Соледад промолчала.
А я вдруг вспомнила психолога, которого нашла тётя Юля. Он давал консультации по скайпу с предварительной оплатой – тётя Юля купилась на хорошие отзывы. Психолог оказался женщиной необъятной толщины: она с трудом умещалась в монитор – казалось, вот-вот прольётся за его границы, как джинн из бутылки, и заново соберётся в единое целое где-нибудь в углу моей комнаты. Но потом я привыкла к её размерам. Глаза у психолога были живые, тёплые. Вспыхивали холодным блеском, лишь когда речь заходила про оплату.
– Расскажите мне о вашей маме, Ольга, – попросила психолог.
Прошло всего полгода, как мы с тётей Юлей похоронили маму на Северном кладбище, где вход – как старые футбольные ворота.
Мама была вспыльчивая, часто обижалась, легко сердилась – и так же легко прощала обиды. Как маленькая любила кино и мороженое. Мы часто ходили в кино – меня раздражали парочки, которые сидели перед нами и миловались, не глядя на экран, и мама говорила: давай пересядем, ведь полно свободных мест! Естественно, как только мы пересаживались, тут же являлись опоздавшие зрители, сгоняли нас с уже насиженных кресел, и мы курсировали по залу, пока не приземлялись на свои прежние сиденья.
Мама любила читать, всегда следила за новинками – и влюблялась в каждого писателя, который приезжал к нам в библиотеку на встречу с читателями. Она разыскивала этих писателей сама, спрашивала, смогут ли они выступить без оплаты, – обычно все соглашались, но некоторые требовали гонорар, и тогда мама платила им из собственного кармана. (Теперь, когда библиотекой заведует Александра Павловна, писатели к нам почти не приезжают.)
Одну встречу я помню особенно хорошо: писательница была средней известности, среднего возраста и чрезвычайно высокого мнения о себе – оно прямо-таки шибало в нос, как советская газировка. Гостья внимательно оглядела публику и без колебаний выбрала моё лицо среди всех прочих: обращалась напрямую ко мне, делилась творческими успехами и скорбями, жаловалась на равнодушие премиальных комитетов и произвол издателей. Я отворачивалась, ёжилась, но писательница упорно сверлила меня своими карими глазами, и мы вновь встречались взглядами. В конце концов я начала кивать ей, как мама кивала мне в детстве, когда я читала стишок у ёлки.
– Хочу подписать вам книгу, – сказала писательница, когда встреча уже закончилась и мама побежала готовить чай у себя в кабинете. – Но вы сначала приобретите, цена пятьсот рублей, – добавила она, когда я взяла верхнюю книжку из стопки приготовленных к продаже.
Я приобрела, хотя на пятьсот рублей мы с мамой могли прожить три дня. Писательница поставила затейливую подпись, пожелав мне добра и счастья.
– У вас значительное лицо, – сказала она на прощание.
– А вам не хотелось самой стать писателем? – спросила психолог. В её комнату кто-то заглянул и тут же, ойкнув, скрылся. – Мам, я работаю, предупредила же! – раздражённо обернулась психолог. – Повторите ещё раз, пожалуйста. Хотелось?
– У меня слишком обыкновенная жизнь, вряд ли она кого-то заинтересует.
– Вы думаете, что все писатели ведут необыкновенную жизнь? Или они просто верят в то, что она необыкновенная?
– А можно я ещё расскажу вам о маме?
– Давайте завтра, сеанс в то же время. Не забудьте оплатить заранее, – холодно сверкнув глазами, психолог превратилась в электронный сполох, исчезнув в голубой дали скайпа.
А я ещё долго сидела перед компьютером и думала: какая она счастливая, эта женщина! В любой момент может шикнуть на свою маму. Может увидеть её в комнате, а не только во сне. Ей не надо бояться уборки в квартире, когда из ниоткуда выплывают старые фотокарточки, когда забытые малахитовые бусы вдруг находятся в нижнем ящике стола, когда вдруг среди книг обнаруживается пыльная видеокассета: самое страшное – это видео, где наши мёртвые всё ещё живут, роняют тарелки и, смеясь, прикрывают рот рукою… Медицинские справки – уже не нужные УЗИ, МРТ, анализы, заключения – я не смогла выбросить даже эти листки, отсчитывающие наше расставание так же безошибочно, как пилигримы, которые каждый день фиксируют, сколько дней пути осталось и сколько километров пройдено.
До Сантьяго – чуть меньше сотни.
В городке Палас-де-Рей построен современный центр для пилигримов – какой-то уж слишком современный, поэтому мы с Соледад нашли обычный альберго, традиционно пахнущий ногами, и заняли две койки у окна.
Среди ночи кто-то заплакал. Я почему-то решила, что это плачет Соледад, и, лишь засыпая заново, поняла, что проснулась от своих собственных слёз.
День сорок третий. Лабаколья
В детстве мама каждый вечер заставляла меня мыть ноги в тазике – горячую воду у нас в квартире давали по графику. Поэтому мама согревала немного воды на плите и очень сердилась, когда я задерживалась с мытьём: ну стынет же, Оля!
В городке Лабаколья пилигримы испокон веку омывают ноги в реке – чтобы войти в Сантьяго чистыми. Толпа здесь собралась не хуже, чем на старте: всё потому, что на последней сотне к пути присоединяются те, кто не решился идти семьсот километров. Новенькие пилигримы выглядят такими свежими, задорными! Искренне восхищаются всем, что видят: отметкой в креденциале, цветком на обочине, собакой, купающейся в пыли…
К нам с Соледад меньше всего подходит определение свежие – мы обе худые, осунувшиеся и, несмотря на загар, бледные. Ракушка, привязанная к рюкзаку Соледад, бьётся при каждом шаге, как второе сердце.
Соледад рассказывает мне про святого Януария и его кипящую кровь. Про святую Риту, которую пчёлы кормили мёдом, и про святого Евстафия, увидавшего распятие в оленьих рогах.
Потом я закатываю брюки до колен, а Соледад по-крестьянски подтыкает юбку, чтобы не намокла.
Ноги блаженствуют в речной воде. Дай им волю – уплыли бы прочь.
– Исхиаподы! – вспоминаю я ещё одну ножную историю. Соледад поворачивается ко мне с тяжёлым плеском, как русалка. – Исхиаподы жили в волшебной стране, и у них была всего одна нога – громадная! Она росла прямо из середины тела, исхиаподы не ходили, а прыгали, причём очень быстро. Спать они ложились на рассвете – и прежде чем заснуть, обязательно поднимали ногу вверх: она дарила им чудесную тень в жаркий день.
Соледад смеётся, привычно пристанывая: этот стон – как гудок корабля перед отплытием.
– Знаешь, Олга, лучше бы мне разучиться смеяться, чем плакать. – говорит она, выжимая юбку, всё-таки успевшую намокнуть. – Все эти годы я за каждую улыбку прошу прощения у дочери. За всякий свой новый день перед ней виновата. За чашку кофе. За эту реку. За тебя.
Я хочу сказать: эй, ты не права – но слова вдруг застревают у меня в горле, и я сглатываю их, чтобы не поперхнуться. Потому что, эй, она права. Такие, как мы, не имеют права радоваться чашке кофе, прохладной воде или новому другу. С каждой нашей улыбкой память о мёртвых выцветает. И чем больше дней проходит, тем сложнее мне вспомнить те простые и важные вещи, которые, как я считала, никогда не забудутся.
Однажды в летний день я долго шла вслед за пожилой женщиной только потому, что у неё была такая же кофточка, как у мамы.
– Любовь родителей должна иметь чёткие границы, – сказала женщина-психолог на второй день нашей скайп-консультации. – Она не приносит сексуальной разрядки. Родители никогда не заменят детям мужей или жён.
– А любовь обязательно должна нести сексуальную разрядку?
– Конечно! – психолог улыбнулась, став, как выражается тётя Юля, поперёк себя шире. И снова шикнула на свою маму, не вовремя открывшую дверь в комнату. – Эгоистичный родитель привязывает ребёнка к себе. Разумный – вовремя выпускает его в мир.
Намокшие штанины приятно холодят ноги.
День первый. Сантьяго-де-Компостела
Сегодняшний рассвет мы встретили на Монте-ду-Гозо. По-испански это значит «Вершина радости»: велика была радость пилигримов в тот миг, когда перед ними открывался в конце долгого пути вид Сантьяго. Открывался, как книга в нужном месте – там, где спрятаны деньги или ответ на самый главный вопрос.
Три шпиля, силуэт знакомый и неведомый, ответ, который можно истолковать по-разному, приложить к себе, как подорожник к ране.
Отсюда до Сантьяго действительно рукой подать. О руках мы не говорили, вот завтра и начнём, сказала Соледад. Мы пойдём на край земли, он зовётся – Финистерре. И там всё начнётся сначала.
Но прежде следовало попасть на мессу для паломников, которую служат в соборе Святого Якова.
Мы вошли в город, когда солнце скрылось за облаками, и на миг вдруг стало темно, как в сумерках. На площади перед собором сидели и лежали пилигримы, кругом валялись куртки, палки, рюкзаки. Я увидела корейца в двух левых тапках, он кивнул мне и улыбнулся так, как умеют улыбаться только азиаты, – даже не всем лицом, а всей своей сущностью.
Собор был в строительных лесах; уже очищенные, светлые башни выглядывали из них, как пленённые великаны.
На вход стояла очередь желающих обнять статую святого Якова – чтобы почерпнуть мудрости и обрести удачу.
– А ведь Сантьяго имел трудный характер, – заметила Соледад.
Мессу для пилигримов служили отцы в ярко-красных облачениях. Если смотреть на них долго, а потом зажмуриться, перед глазами вспыхнут путеводные жёлтые звёзды. Летало туда-сюда гигантское кадило – ботафумейро, – похожее на дымящийся маятник Фуко. Его приводили в движение восемь священников: я видела, им было тяжело. Соледад рассказывала, что у этой красивой традиции весьма прозаическое прошлое: от немытых пилигримов исходил запах такой силы, что его надо было чем-то перебить – вот и придумали кадить ладаном в особо крупных размерах.
Я вместе со всеми молилась и пела, наугад и невпопад. Глаза Соледад были сухими. Тётя Юля позвонила, когда месса окончилась, и мы пошли за свидетельствами пилигримов. Как раз подошла моя очередь, когда я услышала телефонный звонок.
Жестом пропустила вперёд Соледад.
– Тётя Юля, можно я перезвоню через пару минут?
– А как ты перезвонишь, если у тебя только входящие бесплатные?
Слова были обычными, тон такой же ворчливый, как всегда, вот только голос… С ним был явный непорядок.
Тётю Юлю увезли вчера на «скорой». Она поскользнулась на крыльце, сломала шейку бедра. Сегодня её прооперировали, поставили протез, и завтра она в первый раз попробует встать. А на днях будет ходить с бегунком.
– С ходунком, наверное, – машинально поправила я.
– Ну так я же оптимист! – слабо отшутилась тётя Юля. – Слава богу, Олька, что это случилось сейчас, а не в нашем счастливом советском прошлом. Тогда это был смертный приговор, а теперь – фигушки! С тобой пойду в следующий поход!
Язык у неё заплетался, как у всякого человека, никогда не имевшего прежде дел с обезболивающими. Рядом кто-то сказал громким голосом: «Потерпим, уколю!»
Свидетельство пилигрима я всё-таки получила. Соледад проводила меня на вокзал. Поезд до Мадрида. Мы простились на диво легко: обменялись адресами, потом Соледад поцеловала меня в щёку – и ушла ночевать в альберго.
Из Мадрида я, наплевав на экономию, полечу прямиком в Москву, где меня ждёт тётя Юля.
Сегодня начинается первый день моего пути, который я пройду в полном одиночестве.
Хотелось бы сказать, что оно меня теперь не страшит.
В поезде я закрываю глаза и вижу знакомых с детства святых. Вырезанные из камня и нарисованные на стенах церквей святые с каждым новым днём улыбаются всё шире. У некоторых такой вид, как будто они смеются над своими страданиями и говорят: «Бывает!», пожимая плечами.
Вот святой Витт, которого не тронули львы, падает в котёл с кипящим маслом.
Вот святая Аполлония – она сама прыгнула в костёр, потому что ей выбили все зубы и всё равно угрожали сжечь заживо.
А вот святая Агнесса – у неё в нужный момент отросли длинные волосы, прикрывшие наготу.
Каждый из них чего-то боялся, останавливался, но потом всё равно шёл дальше, даже если пропадали указатели, ангелы с важным видом пролетали мимо и навигатор предательски смолкал, повторяя как заведённый:
– Следуйте по маршруту. Следуйте по маршруту. Следуйте по маршруту.
Святых набился целый поезд: они сидели рядом, тянули руки через проход, что-то шептали сзади. Мы вместе ехали в Мадрид, а машинистом был святой Яков в коричневой шляпе с пришпиленной раковиной. Он только выглядел суровым – я-то знала, что добрее него не сыщешь, и крепко сжимала в кармане ракушку с отломанным краем.
Мне снилась мама в деревянных бусах на шее – она бежит мне навстречу, и я широко раскидываю руки в стороны. Мне снилась плачущая Соледад – она плакала и смеялась одновременно, и смех её больше не уходил в стон, как дым в трубу. Мне снились Белла и Джо – он что-то объяснял ей, а она махала руками, отказываясь верить. Мне снился Леонид из разноцветного пластилина, Валя Попова с детьми, похожие на самодельный бумажный хоровод, снился Андрей Григорьевич, принимавший экзамен у толстого психолога. Московский доктор, больной диабетом, приобретал за пятьсот рублей книгу известной писательницы, Александра Павловна шепталась с тётей Юлей, а Всеволод, теребя чуб, объяснял корейскому пилигриму, почему нельзя ходить в левых тапках.
Это был самый прекрасный сон на свете. Сон о том, как я прошла камино де Сантьяго.
P.S.
Когда мне исполнится пятьдесят, я сделаю себе самую короткую стрижку, на которую смогу решиться, – и пройду путём святого Якова от Сен-Жан-Пье-де-Пор до Сантьяго-де- Компостела со всеми остановками. В старину паломники ориентировались по звёздам, и по земному камино их вёл небесный Млечный Путь. Я проживу целую жизнь в этом путешествии, мне встретятся люди, которых я пыталась отыскать на протяжении долгих лет, но мы ходили разными дорогами, а здесь – встретимся, потому что разные дороги стекаются к Сантьяго, как реки – к морю, на дне которого лежат ребристые раковины. Одну из них вынесет на берег, к ногам молодой женщины, скучающей по маленькой дочке, которую пришлось оставить в пионерском лагере на целую смену: там хриплая фальшь горна и комариные облака над головой, зато кормят четыре раза в день, а дома у них иногда нет совсем никакой еды…
Молодая женщина насухо вытирает раковину подолом платья – и разглядывает её на просвет. Вся в фестонах, как бабушкин веер! А если крепко прижать её к уху, там зашумит родная кровь. Будет звать, чтобы вернулась, – и обещать, что не уйдёт.
Четвёртый кот
А почему вы задаёте такие вопросы? Вы неужели думаете, что я уморил своего предыдущего? Да нет, я не обижаюсь. Конечно, сейчас столько садистов развелось – а по внешности иногда и не скажешь. Не хочется отдавать кому попало, я понимаю. Даже за деньги. Даже за такие немаленькие.
Выставка уже закрывается, а он переростыш, его вряд ли кто купит… Он у вас один остался такой серенький? Дайте-ка я в глаза ему посмотрю. Ну что могу сказать: да. Это мой кот. Меня ждал.
Вас как зовут? Нина? Приятное имя.
Ниночка, у меня все коты всегда были серые. Помните, в «Трёх мушкетёрах» глава называлась «Ночью все кошки серы»? Мои серые и днём, и ночью.
Предыдущий мой умер от старости. И два других, что были до него, ушли тоже по этой причине – просто потому, что жизнь их закончилась. Я как-то подсчитал, что в среднем на человека приходится примерно четыре кота – если он первого заведёт в осознанном возрасте, как я. Кот живёт лет десять-пятнадцать, возьмите максимум, умножьте на четыре – и получите разумную человеческую жизнь протяжённостью в четыре кошачьих.
Мишка, мой первый кот, был подарком жены к тридцатилетию.
А завтра мне исполнится семьдесят пять, Ниночка.
Спасибо, но заранее не поздравляют. Да, я знаю, что по мне никогда не скажешь. Сверстники меня своим не воспринимают.
Я считаю, это во многом благодаря котам.
В начале семидесятых, вы, конечно, не можете этого помнить, Ниночка, с кошками никто так не носился, как теперь. Они были не самоценные животные, а как бы вспомогательные. Коты были обязаны по части мышеловли, ну или чтобы с детьми играли, особенно с такими, что просят собаку. Покупать кота приходило в голову только тем, кто мог себе такое позволить, – и они брали сиамских или ангорских. Нет, Ниночка, персидские появились ближе к девяностым…
Спасибо, с удовольствием присяду – ноги уже не держат. И от чая не откажусь, только, если можно, в кружку, а не в стаканчик. Не люблю пить горячее из стаканчиков.
Вот. А простые люди подбирали котят на улице – их и дворники раздавали, и сердобольные хозяева, у кого кошка окотится. Обычно-то, конечно, в ведре топили, нормальное дело.
Куда можно выбросить чайный пакетик?..
Жена у меня, Ниночка, была одна-единственная, но при этом я всегда говорю, что женат был на двух женщинах. Сможете решить такую загадку? Не страшно, я и сам бы не смог, но жизнь иногда такие перед нами ставит вопросы, что поневоле станешь умным, даже если родился дураком… Я был женат на двух женщинах потому, что жена моя стала однажды совершенно другим человеком. Я начинал жить с одной Машей, а закончил – с другой. Вот такое невольное разнообразие, туды его, как говорится, в качель.
Нет, Ниночка, дело не в том, что все люди меняются, – конечно, меняются, но не настолько. Маша у меня была весёлой, энергичной девушкой. Увлекалась туризмом, на аккордеоне играла. Смелая была, решительная. Комсорг курса. Она меня, Ниночка, сама выбрала – я даже опомниться не успел, как мы уже в кино сидим и целуемся. А теперь я в кино не хожу – какой бы фильм ни шёл, мне всегда… А, да ладно! Можно и телевизор посмотреть, хотя в последнее время там всё как для идиотов показывают.
Мы поженились, когда она диплом получила.
У вас, Ниночка, есть дети? Да, с удовольствием посмотрю фотографии. Какой взрослый мальчик! На третьем курсе юридической? Ну надо же. А дочка – в восьмом классе? Красавица! Глазки ваши. Счастливая вы, Ниночка.
У нас с Машей восемь лет ничего не получалось, а она так хотела ребёнка, что это уже превратилось прямо в какую-то манию. Каждый месяц как под ножом ждали. Маша то плакала, то молчала неделями, то на работе пропадала, то вдруг прогуляла чуть не две недели – я по знакомству делал бюллетень…
И вот накануне моего тридцатилетия берёт вдруг и приносит домой котёнка. Сам серенький, уши большие, а хвост немного погнутый на кончике, видно, наступил кто. На лобике – полоски в виде буквы «М».
Я к тому времени уже был начальником отдела в тресте. В партию приняли единогласно, несмотря на молодость. Квартиру получили. В очереди на машину стояли… Телефон домашний провели одним из первых в доме. Единственное, что омрачало, – это вопросы окружающих. Когда, да что, да почему.
И вдруг – котёнок. Сидел, говорит Маша, на канализационном люке и грелся. День холодный был, но он не пищал. И походил на медвежонка, потому и назвали Мишкой.
Характер у Мишки был отвратительный. Всё делал назло, не уважал ни меня, ни жену, а уж гадил, я бы сказал, просто изобретательно! С выдумкой. То в семечки, извиняюсь, нассыт. То на подушку крендель выложит – причём как только свежее бельё постелют. Орал истошно да по любому поводу. С прогулок приходил весь израненный – тогда ведь, Ниночка, котов пускали гулять на улицу, и даже считалось нормально, если они сами себе пропитание добывали. Мышей таскал, птиц – причём так интересно, он их в газеты заворачивал, будто упаковывал! Газеты старые у нас всегда лежали в секции – мало ли, понадобятся пионерам на макулатуру. Вот Мишка вытаскивал оттуда листок – и добычу заворачивал. Как умел, конечно. Лапами-то не особо.
Красоты в нём не было – длинный, тощий, гадюка, а не кот. Разве что окрас памятный – мышасто-серый.
Вначале Маша его полюбила без памяти. Он спать ещё с детства приноровился у ней на голове – как шапка лежал, лапы свесив по обе стороны лица. Иногда разыграется, начинает грызть ей волосы и кожу захватывает больно, а она терпит:
– Он зверь, ему надо!
Ну и вот, Мишка, значит, злодействовал, вся семья от него претерпевала, а Маша вдруг объявляет мне с огромным счастьем в глазах, что беременна. И заявляет:
– Мишку надо будет отвезти в деревню.
Тогда ведь, Ниночка, от взрослых котов чаще всего как избавлялись – ребятишкам утверждали, что сбежал ваш Мурзик, а сами увозили его в мешке в ближнюю деревню и прямо на улицу выпускали.
Я сказал, не надо Мишку в деревню – мало ли что там ей подружка-врач наговорила про аллергию, всё равно я не готов с ним расстаться, несмотря на все его недостатки. Коты, Ниночка, становятся частью нашей жизни: порой не можешь что-то вспомнить, а кот хвостом махнёт в памяти, и вдруг целая картинка оживает… Летнее утро, миска с черешней, блюдце с косточками, Маша, которая ест черешню и превращает ягоды в косточки… Из-под кровати вылезает тощая серая лапка с кривым коготком и шарит на ощупь… Как мы были счастливы втроём!
Потом родился Антоша. Это была Машина идея назвать его Антоном – лично мне больше нравился вариант с Гориславом, Борисом или Романом.
Знаете, Ниночка, как это тяжело – открывать в родном и любимом человеке неприятные черты… Какую-то чёрствость, непорядочность я начал видеть в Маше, когда она стала матерью. Какое-то равнодушие в ней проросло ко мне и к Мишке. Её теперь совершенно не волновало, если я уйду на работу без горячего завтрака или что у Мишки глаз открывается только наполовину – я знаю, так бывает у котов, если они кислое понюхают, но тогда я не был в курсе! Она вся переключилась на ребёнка, ослепла и оглохла… Я приобрёл в честь рождения сына серёжки золотые с фианитами, так она даже не рассмотрела их как следует и носить не стала – видите ли, малыш может потянуться ручкой и оцарапаться! К Мишке она тоже остыла, но хотя бы уже не заговаривала о том, что его надо в деревню, – даже ласкала его, но, как и меня, мимоходом.
А Мишка очень стремился попасть в детскую к малышу – орал под дверью, прорывался туда при первой возможности, но Маша не разрешала, потому что может попасть шерсть, лишай и неизвестно что.
И ещё интересное наблюдение, Ниночка. Когда я звонил жене с работы, она всегда была такой ласковой, так щебетала, что я летел домой буквально на каких-то крыльях, но стоило мне долететь, как тут же выяснялось, что Антон спит, а ей надо постирать-погладить, всё это ваше женское. Ну конечно, Ниночка, я понимаю, что она стирала и гладила не только женское! Я вообще не о том. Мне просто стало казаться, что я Маше мил только на расстоянии, по телефону. А когда она меня видит, так тут же и разочаровывается. Никогда этого никому не говорил, Ниночка. Смотрите, котик-то наш уснул. И лапки так славно под себя подвернул…
Вот, стало быть. А Маша мне в ответ на все мои упрёки отвечала только одно: неужели ты не видишь, как я устаю? Ведь мне совсем никто не помогает, ни бабушек у нас здесь, ни дедушек – все далеко и работают.
Тогда я предложил позвать бабу Фросю из соседней квартиры – ей и платить не надо будет, она сколько раз предлагала безвозмездно. Маша подумала и согласилась. Антон тогда уже подрос немного, когда его брали на руки, прыгал вот так на коленях, ну, знаете, как младенцы прыгают, если их под мышки держат. И он бабе Фросе порвал единственное платье – с такой силой прыгал, что оно треснуло. Мы думали, она расстроится, а она только посмеялась: ишь, какой мужик растёт! Хорошая была старуха. Потом как-то враз обессилела. Сын к ней переехал квартиру караулить, чтобы другие братья-сёстры не перехватили. А у нас всё через стену слышно, что у них происходит, – слышимость-то сами знаете какая была в то время. Сын кормит мать и кричит на неё:
– Жри, скотина! Полную ложку бери, сволочь!
Маша прямо содрогалась вся. Просила меня повлиять на него, потому что Антон уже стал свои игрушки звать «скотиной» и «сволочью». Но я не стал, Ниночка, с ним говорить – он бы всё равно ничего не понял. Он явный сиделец был, весь в партачках. Я просто семью осиротил бы, если бы с таким человеком стал иметь дело. Я с ним даже не здоровался, и он стал плевать в отместку мне на машину – у нас уже тогда был «Москвич», гараж был, и вообще жили мы, Ниночка, дай бог каждому.
Когда Антон подрос, Мишку стали к нему подпускать, но у них никакой симпатии не получилось. Все мои коты были, честно сказать, именно мои – Машу они только терпели, а сына даже терпеть не могли. Антон вырос совершенно равнодушным к животным.
Года три сыну было – так Мишка ему дорогу перекрывал, умора! Антон шагает по своим делам, а кот встаёт на пути – и шипит. Тот в слёзы, конечно… Маша смеялась, говорила:
– Тоша, просто скажи: брысь, Мишка!
А ведь это слово – «брысь» – тоже сейчас совершенно забыто, Ниночка. Теперь к котам так не обращаются.
Когда Антон пошел в детский сад, там на него стали сразу жаловаться: ребяток обижает, поделки не лепит, в сончас мешает окружающим.
Маша разговаривала с сыном, наказывала, строжила – всё было без толку. Тогда она стала утверждать, что характер в любое живое существо закладывается высшей силой и не надо переоценивать возможности воспитания. Говорила:
– Серёжа, мы не боги всесильные, а всего лишь родители.
А у меня с сыном взаимопонимания не было. У нас даже простого понимания не было! Он почему-то ещё с пелёнок смотрел на меня как бы свысока и без всякого уважения. Я ему только отдавать должен был, а моим мнением он не интересовался. Всё с матерью сидели, шептались. Они вдвоём, заодно, а мне только кот оставался. Приду с работы – Мишка в коридор выбегает, мурлычет, брюки у меня вечно в шерсти! И никто больше не встречает.
Маша к тому времени уже начала меняться до полной неузнаваемости. Вы не верьте, Ниночка, если вам скажут, что кто-то, дескать, резко изменился. Это один случай на миллион, когда резко. А у обычных людей – в день по чайной ложке.
Я долго понять не мог, что с ней случилось, отчего она всё молчит теперь и еду на стол ставит с каким-то осуждением. Спрашивал, она не отвечала. Посадит Антона рядом и сказку ему читает – «Дикие лебеди». Очень она выразительно читала про этих лебедей. Но в садике по-прежнему жаловались, даже одна родительница Машу вечером после работы подкараулила и сказала, что такого мальчика нельзя пускать в приличное общество! А он, Ниночка, всё-таки носил мою фамилию. И цеплял при этом только самое плохое отовсюду. Знаете, бывают такие слабые дети, которые от любого чиха болеют – даже если чихнули в соседнем микрорайоне? Вот, а наш подхватывал только разную гнусь – хорошее у него не усваивалось. Матерщину с гаражей читал. Окурки подбирал на улице. На шпану прямо с восторгом глядел – как на идеал!
На Машу всё это очень плохо действовало. Она и наказывать его пыталась, и по-хорошему с ним разговаривала: так делать нельзя, понимаешь? Антон говорил, понимаю, а сам ровно через минуту делал то же самое. Не мог себя побороть.
А меня из процесса воспитания исключили после того случая в первом классе. Ещё даже по именам друг друга не все дети знали, а наш уже отличился. Бегал на перемене и толкнул мальчика – тот упал и руку сломал. Родители, правда, приличные попались – не стали никуда жаловаться, но домой нам всё-таки позвонили. Просили повлиять на сына.
Маша уже на пределе была, вот я и сказал, что сам со всем разберусь.
Она догадалась, мне кажется, потому что быстро собралась и ушла из дома. Я ещё не знал тогда, что никогда больше её не увижу – ту Машу, с которой прожил столько лет… Антон сидел у себя в комнате. Я его по щеке ударил, несильно – щека такая мягкая оказалась, и зубки почувствовались. Думал, заревёт, а он – нет. Только усмехнулся как-то по-взрослому.
Вот тогда я его и выпорол по-настоящему, ремнём. И он, представляете, Ниночка, ни одной слезы не уронил – в семь-то лет! Зато Мишка выл под дверью прямо как собака, хотя он к Антону никаких чувств не испытывал – обходил его всегда стороной.
Маша вернулась через час, бросилась к сыну в комнату, плакала. А я с котом на коленях сидел целый вечер – гладил его, гладил, пока весь не заискрился от шерсти. И рука прямо горела от той пощёчины…
После стало ещё хуже. Учиться Антону не нравилось, в школу ходил только потому, что нашлись там такие же друзья-товарищи: без руля, без ветрил. В восьмом классе уже пили-курили, как взрослые. В девятый сына не приняли, даже ПТУ было под вопросом, и у меня на работе об этом узнали – тогда ведь не такие времена были, как сейчас… Начались неприятности, жалобы разные. Руки на него я больше не поднимал – Маша сказала, если не хочешь, чтобы я от тебя ушла, не смей к нему подходить ни с плохим, ни с хорошим! Как-то так у неё получилось, что это я во всём виноват – и что сын такой родился, и что я его тогда избил, а надо было воздействовать словом…
В общем, Ниночка, ПТУ он не закончил, потому как был к тому времени законченный наркоман. Похоронили мы Антона в 1990 году – и даже не заметили, как страна развалилась, жили несколько лет как в тумане: руку свою видишь, а дальше – молоко небесное.
А Мишка умер через год после сына. Чуть не двадцать лет был со мной. Долгожитель. Под старость совсем уже трудно с ним приходилось – он не из вредности гадил, а просто потому что не получалось иначе. Старость у всех одинакова, Ниночка. В юности тебе душа собственная не подчиняется, а в старости – тело. Но я даже благодарил мысленно Мишку за это – потому что дома было постоянное занятие.
Похоронил я его во дворе, под рябинкой – ночью, когда все спали, вырыл яму и простился. Поплакал, конечно, над ним – вы же понимаете, Ниночка, мы к ним привязываемся ещё больше, чем к людям. А Маша, та слезинки не уронила.
Я, говорит, теперь как деревянная – ничего не чувствую.
И всё-таки следующего кота опять она к нам в дом принесла. Месяцев пять с виду, тоже серый, но ещё и полосатый. Сидел на могиле Антона, вот Маша и напридумывала, что это его душа к нам таким образом обращается.
Лично я у Антона никакой души не помню вообще – сколько он с нами прожил, ни разу не поинтересовался ни самочувствием моим, ни делами на работе. Конечно, я расстроился, когда он умер, – не каждый день детей хоронишь – но было к этому примешано ещё и облегчение, Ниночка. Нехорошее такое, позорное облегчение. Я с того случая в первом классе понял, что не выйдет из него толку, хоть каждый день его пори. Он и в тюрьму мог попасть, и убить кого-нибудь – не сморгнул бы.
А Маша, чем больше лет проходило, наоборот, всё обеляла и обеляла его память. Какие-то истории умилительные придумывала из детства и обижалась: почему же я их не помню?
Я помнил только, как Мишка его закрывал в коридоре – и не пускал идти дальше. А, уже рассказывал про это?
Ну и вот, значит. Нового кота назвали Грэй – в честь того капитана из фильма. Как раз в тот день передавали по первой программе. Умный оказался – на диво! И характер золотой. Вроде бы приблудный кот, а сразу понял, куда нужно ходить, где его миска и всё такое. Сам был сдержанный, лишний раз не мяукнет, и на улицу выходить отказывался – может, боялся, что его опять там оставят?..
Целыми днями Грэй сидел на подоконнике в кухне, между цветочных горшков, наблюдал за прохожими и птицами. А Маша вдруг собралась в Израиль, потому что имела немного еврейской крови – и подругу в агентстве «Сохнут». Меня она вроде как с собой не приглашала, и общения у нас к тому времени вообще никакого не стало – мы с ней общались только через Грэя. Он свернётся бубликом, мы оба улыбнёмся и поговорим об этом из вежливости, как случайные встречные.
Раньше мы оба двигались по партийной линии, Маша даже преподавала марксизм-ленинизм, но с этими новыми порядками линию нашу вовсе отменили. Жена осталась без работы, мой трест не закрыли, но платить перестали – в общем, времена пришли тяжёлые. Помню, как летом всерьёз ходил за грибами и ягодами, потому что есть было нечего – занимался собирательством, как при первобытно-общинном строе. И ваша мама тоже так делала, Ниночка? Неудивительно. Дрянное время было! Я понимал, что в Израиле будет полегче, но ещё раз говорю, с собой меня никто не звал. И крови никакой такой у меня не имелось.
Когда уже почти все документы у Маши были готовы, я понял, что надо срочно что-то делать, иначе она уедет, а мне здесь просто не выжить одному. И не хотел я без неё выживать, Ниночка, я ведь любил её, просто не всегда мог понять. Одно с другим вместе не ходит.
На лицо её уже совсем узнать нельзя было – она и так всегда была худенькой, а тут совершенно есть перестала, прямо веточкой стала. Курила очень много и волосы вдруг выкрасила в рыжий цвет.
Я чувствовал, что у неё начинается какая- то другая, новая жизнь – где не будет места ни мне, ни Грэю, ни даже памяти о сыне. И о Мишке.
Лично я сам в Израиль не стремился, потому как считаю, Ниночка, что никому мы там не нужны. Мы ни здесь никому не нужны, ни там, и необязательно для этого ехать через полмира и учиться писать закорючками. Но я всё-таки проконсультировался у знающих людей, и меня научили, как подделать свидетельство о рождении – надо вписать национальность матери еврейка. Всё это я сделал, опасаясь судебного преследования, поскольку нарушал закон, – и показал как-то вечером Маше. А она расхохоталась в первый раз с 1990 года:
– Серёжа, этот бланк отпечатан в 1985 году!
Я тогда спросил её всерьёз, неужели она меня оставит здесь одного, ведь у меня родители были очень старые, жили далеко в области, а никаких близких я себе, кроме неё, не завёл.
– Грэй с тобой останется, – серьёзно сказала Маша. – А я должна новую жизнь начать, Серёжа, пойми меня правильно. И отпусти, пожалуйста.
С таким видом сказала, как будто я её за руку схватил и держал.
Грэй как чувствовал, что дома неладно, – стал беспокойным, крикливым. Мы ветеринара позвали, он предложил кастрацию – если, говорит, вам нужен домашний кот, то и нечего ему мучиться самому и вас мучить.
Всё-таки, Ниночка, у животных жизнь несколько проще, чем у людей. Грэй несколько дней после операции пролежал, никак в себя прийти не мог – а потом проснулся однажды совершенно счастливый. И спокойный.
А я, наоборот, заболел. Маша потом говорила: ты это специально, ты нарочно, ты знал, что я не смогу бросить больного! Не знаю, как так вышло, но меня увезли на «скорой» с сильнейшим приступом язвы, и доктора Маше заявили, что без внимательного ухода и строгой диеты я долго не протяну.
В общем, Израиль остался где он и был – на географической карте. Маша меня не бросила, соблюдала все рекомендации врачей, и я довольно скоро пошёл на поправку. Жареное мне до сих пор нельзя, но в целом я себя чувствую куда лучше, чем двадцать лет назад. Тогда же примерно один мой коллега из треста затеял совместное предприятие с немцами, пригласил меня к себе замом – и с тех пор я грибы с ягодами принципиально не собирал, а только покупал с большим облегчением у граждан на троллейбусных остановках. Жить мы стали намного лучше и веселей – как нам, в общем, и обещалось. Сделали ремонт, из старых вещей, как я шутил, остался только кот. Машину взяли новую, отдыхать научились за границей. Грэю покупали самый дорогой корм, приобрели трёхэтажное дерево для лазанья, но оно ему не понравилось. Антону поставили шикарный памятник – из привозного камня, с оградкой чугунного литья. Маша всегда была со мной рядом, со стороны глянешь – не супруга, а мечта! Курить бросила, волосы стала осветлять, окончила курсы по английскому языку и ещё другие, чтобы рисовать живописью. На людях под руку меня брала, на совместных фотокарточках обнимала, но, когда мы одни оставались, я для неё тут же исчезал.
– Я тебя не просто не люблю, – сказала однажды задумчиво, – я тебя даже не уважаю.
А ведь, если задуматься, уважать меня было за что: не пил, не курил, с бабами чужими не возился, деньгами не обижал, а ей, видите ли, нехорош.
Ну я и сказал ей – так уходи! Давай разведёмся! Сказал, а сам испугался: что, если согласится?
Маша только рукой махнула:
– Какой теперь развод? Столько лет вместе прожить, даже к ненависти привыкнешь… А я тебя просто не люблю, Сергей, но разве это теперь важно? Все эти люблю, не люблю – они для молодых.
Грэя на руки подхватила – и ушла в бывшую Антошину комнату. Она там в последние годы спала, на диванчике. И Грэй засыпал у неё в ногах, но под утро всё равно ко мне прибегал.
Я тогда вздохнул с облегчением. Старался её с тех пор хоть чем-то радовать: подарки делал, картинками её целую стену завешал, хотя они мне и не слишком нравились – тёмные были и грустные.
Маша умерла в 2003 году – руки на себя наложила. А Грэя не стало через год, день в день, – хотите верьте, хотите нет. Ух как он мучился – исхудал весь, шерсть вылезла, зубы повыпадывали… Ветеринар – тот же самый – пришёл к нам и говорит:
– Давайте усыпим, Сергей Валерьевич, ну что же он будет сам мучиться и вас мучить?
Поставил ему укол, и закрыл второй мой котик глазки навечно.
Я похоронил его там же, под рябинкой, рядом с Мишкой. Подумал, им там веселее будет лежать – и мне, когда мимо иду, есть кого вспомнить.
Вот так и остался я, Ниночка, один в целом свете. Ни сына, ни жены, ни родителей – они к тому времени скончались у себя в области. С друзьями тоже как-то не сложилось – дружба занимает столько же времени, сколько любовь, если не меньше, а я временем всегда дорожил, Ниночка. Я так много работал в те годы, а потом оказалось, что тратить заработанное мне не на кого – только на себя, как говорится, грешного.
Памятник Маше я тоже поставил хороший – не экономил. Рядом с сыном место купил, долго сидели с девушкой из фирмы, выбирали камень, разное другое оформление… Сейчас все говорят – одно из самых красивых надгробий в нашем секторе.
А годы мои были ещё не старые, Ниночка. Жениться больше не решился, хотя соседи из квартиры напротив, где раньше баба Фрося жила, очень хотели меня свести с какой-то своей племянницей, но я эти намёки решительно пресёк. Я думаю, это они же самые подкинули мне под дверь третьего кота – потому что откуда бы иначе он взялся в нашем подъезде, где консьерж и домофон?
Снова серенький, в голубизну, а глаза жёлтые. Породистый был, английский. Такой, я потом узнавал в компьютере, стоит чуть не десять тысяч, а мне, видите ли, даром достался. Я как раз тогда компьютером увлёкся – на пенсии-то что ещё делать? Рыбалку, там, или домино я никогда не любил, а вот с компьютером у нас сразу же заладилось. На «Одноклассниках» зарегистрировался, нашёл наших с Машей давних знакомых, поглядел на них – и закрыл от греха подальше. Все они хоть и старые, но счастливые. Пусть толстые и с лысинами, зато с внуками сопливыми на коленках…
У меня, Ниночка, всей компании был кот. Назвал я его Джеком – пусть и собачье имя, зато английское. И подходило к нему очень.
Ласковый был – вы себе не представляете! Каждый день с утра приходил для поглаживаний, крутился так и этак, мурлыкал… И ещё, не поверите, разговаривал! Говорил вот этак: «Мяу-ма!» Почти как «мама». Это он меня так звал – «мама». И сидел как статуэтка – не шелохнувшись.
Хлопот с Джеком никаких не было: ходить в лоток сразу приучился, есть любил только из чистых мисочек – неважно, какой корм, лишь бы кругом аккуратность. В общем, не кот, а радость – мне его, вот правда что, Бог послал в награду за жизненные скорби.
Потом уже мне Наташа объяснила, что эта английская порода была известна в Средние века в качестве котов-охранников. Будто бы изображения предков Джека даже встречались на старинных гобеленах: такой кот был страшней собаки, мог кинуться на обидчиков и загрызть насмерть.
Кто такая Наташа? А я не сказал разве? Наташа была моя внучатая племянница – сама нашла меня в компьютере, приехала в гости и осталась жить в моей квартире. Она из Челябинской области, село Большой Куяш. Институт закончила в Челябинске, но хорошей работы найти не смогла, и ей присоветовали попытать счастья у нас в городе. Про меня кто-то из родственников вспомнил – ну и я подумал, ничего страшного, если будет рядом жить какой-то человек. Седьмая вода на киселе – а всё равно кровь не водица.
Выглядела Наташа странно – стрижка короткая, одежда мужская, голос грубый: со стороны не поймёшь, девка или парень. Руки все в татуировках по самые плечи – называется «рукава». На работу не ходила – целые дни сидела в компьютере, в наушниках. Вечером выходила ненадолго до магазина – энергетическую газводу покупала, чипсы и шоколад, так и питалась. Но зато умная была, начитанная. Про кота всё с уверенностью мне объяснила – и вообще, я с ней рядом как-то оттаял немного. Живой человек всё-таки.
Джек Наташу принял, полюбил. Тоже стал звать «мяу-ма» – и спать иногда приходил к ней в комнату, бывшую Машину-Антошину. Она его фотографии делала на телефон и выкладывала на своей страничке. Звала его Джекил, а меня просто – дед…
Эх, Ниночка, вот так начинаешь свою жизнь вслух пересказывать – и понимаешь, как в ней было мало событий… Ведь жизнь-то длинная, долгая, а получается, всех историй в ней на час рассказа не наберётся…
Года три Наташа с нами прожила – работала дома, какие-то сайты «поддерживала», ещё что-то связанное с компьютерами делала. Потом вдруг стала вечерами уходить, а я волновался, я же привык уже к ней – к её словам, походке, сигаретам… Она была мне роднее внучки, и я скучал по ней – вся моя жизнь крутилась вокруг Наташи, а она возьми и приведи в дом ту деваху.
Знакомься, говорит, дед, это Милана. Можно она с нами поживёт?
Я даже не понял сперва, о чём она, – потом-то уже догадался, когда увидел их с этой Миланой на Машином диванчике. Тьфу, гадость!
Они же ещё и рассердились:
– Дед, стучаться надо!
Вообще-то я на своей личной жилплощади находился, между прочим. И не заслужил такого отношения – что я им, мебель? Хорошенькая мебель – и коммуналку платит, и ужин готовит, а они, значит, будут на диванах валяться и новые татуировки делать: у этой Миланы даже на лице были партачки.
Прогнал я их в шею, Ниночка, даже вещи не дал собрать – потом, говорю, придёшь, когда остыну. А она, внучечка моя единственная, даже не оглянулась ни на меня, ни на Джека, когда уходила. Слова бросила, как мусор в кусты:
– Понятно, почему ты один остался… С тобой рядом всё живое гибнет! Старый хрыч ты, а не дед!
И ушла с одним своим ноутбуком – за вещами не вернулась, они и сейчас лежат на антресолях. Я иногда их достаю и рассматриваю – представляю, какой она теперь стала. У меня и Машины вещи сохранились, и Антошины даже – совсем уже ветхие, правда. Я их раскладываю на диване и как будто разговариваю с женой и сыном. А Джек рядом сидит, мурлычет… Ну то есть сидел до вчерашнего дня. Вчера он умер, Ниночка, любимый мой котик… Ушёл легко, никого не измучив, – и я его похоронил под рябинкой, рядом со старшими.
Спать, конечно, не мог – какой там сон в наши годы, да ещё и после такого. Только под утро закемарил ненадолго – и сон увидал, где все мои три кота нежатся на солнышке, а за столом сидят мои родители, Маша, Антон с какой-то девушкой и Наташа с Миланой. Такой сладкий сон был, что я проснулся со слезами на глазах – от счастья и от печали, что даже во сне понимал: такого нет и быть не может.
И я не согласен, Ниночка, что рядом со мной всё живое погибает – вот же, все мои коты прожили долгую, счастливую жизнь! Разве не доказательство? Я никого в своей жизни не обидел, травинки просто так не измял, работал честно, о близких своих заботился с дорогой душою – так разве я виновен в том, что меня никто никогда не любил?.. Только животные любили, потому что они любят нас бескорыстно, такими, какие мы есть.
А мой четвёртый кот обязательно меня переживёт – и не я его буду хоронить, а он меня. Я заранее договорюсь с соседями, чтобы взяли его после моей смерти – с условием, что я им квартиру отпишу. Больше-то всё равно некому.
Так что, как видите, я обо всем позаботился, как и подобает взрослому, ответственному человеку. Можете отдать мне этого котика, тем более он у вас всё равно переростыш, а ярмарка уже закрылась, пока мы тут сидели. Никто его, кроме меня, не возьмёт. А я возьму, если отдадите со скидкой.
Отдадите, Ниночка?..
Спрятанные реки
1.
Климов стучал по земле ногой, как Серебряное Копытце, – и Люда на всякий случай зажмурилась, чтобы не ослепил блеск самоцветных камней. Но, когда открыла глаза, увидела только поношенный ботинок с налипшими травинками. Шёл дождь – весь этот июнь шёл дождь. Зонты не успевали просохнуть, как их уже снова надо было открывать. Спины и сумки всё равно промокали, у мужа под одним таким дождём безвозвратно испортился паспорт.
(А есть ещё воды подземные, как будто нам мало небесных.)
Тощий Климов – и вправду похожий если не на оленя с драгоценным копытом, то на козла – без обид, Женя! – стучал ногой по земле:
– Вот здесь она протекала, Малаховка! В девичестве – Ольховка. Людик, ты столько лет живёшь в этом городе – и не знаешь про Малаховку? Ну а про Мельковку хотя бы слышала?
Люда пристыженно молчала, капли с её зонта стекали в траву поспешно, как муравьи. Зонт с историей, кстати, – были с сыном много лет назад в Антверпене, угодили под дождь и спрятались под козырьком ресторана. Внутрь не заходили и так надоели хозяевам, что те вынесли в конце концов большой семейный зонт, забытый, по всей вероятности, кем-то из посетителей. «Забирай и убирайся», – говорила чья-то строгая мама в незапамятные и незлопамятные годы юности. Все эти мамы случайных подруг, одноразовых друзей, соучеников со временем объединились в архетипический образ, Великую Мать: она регулярно всплывала в памяти и, не имея лица, имени, голоса, выдавала советы на все случаи жизни, делилась приметами, подсказывала нужные слова и – временами, обычно некстати – цитировала народные афоризмы.
Но даже Великая Мать ничего не знала про Малаховку и Мельковку – четверть века назад краеведение было не в моде. В моде тогда были мечты навсегда уехать из этой убогой серости к морю, теплу и счастливому быту.
Очень многие так и сделали, а Люда, приехав в Екатеринбург учиться, осталась. И Женя Климов остался, да к тому же превратился с годами в страстного обожателя родных камней и берёз. Ходить с ним по Екатеринбургу невозможно – это не прогулки, а поминутные остановки у совершенно замечательного особняка и уникальной подворотни.
Знаменитых горожан Климов всегда звал по имени-отчеству и был так туго набит интересными фактами о городе, что они буквально рвались наружу, как из-под завязки, сыпались из карманов, а порой складывались в газетную статью – жаль, что статьи Жене заказывали редко, краеведов теперь стало пруд пруди, конкуренция росла, как гриб на дрожжах.
– Пруд, может, и напрудили, а вот все реки, кроме Исети, спрятали в коллектор, – отозвался жизнерадостный Климов. – Дом Михал Палыча, например, стоял на берегу речки Ольховки, вблизи находился удивительной чистоты родник. В любую погоду мужики приезжали сюда за водицей. Михал Палыч, конечно, имел вкус – выбрал себе для усадьбы лучшее место на краю города. Там был лес (взмах рукой в сторону девятиэтажек), впереди – речка (взмах в сторону трамвая, мучительно звенящего). И то, и другое Михал Палыч удачно вписал в ландшафт, как и подобает хорошему архитектору… Ты знаешь, что ни одного его портрета не сохранилось?
Люда к тому времени потеряла нить рассказа и засуетилась, как Ариадна, поспешно разматывая клубок.
– Чьего портрета не сохранилось?
– Малахова! Да не твоего, Людик! А нашего общего, гениального уральского архитектора. Нет ни одного изображения, сиди гадай, как выглядел.
Климов помрачнел, защёлкал пальцами, заморгал – как у всякого нервного человека, у него был богатый запас разнообразных тиков, а Люда при упоминании Малахова привычно вздрогнула. Ну да, ну да, они ведь стоят прямо у дома Малахова, однофамильца её мужа – и сына, и дочери, и её самой, Людмилы Малаховой. Их родовое гнездо друзья раньше тоже называли домом Малахова – правда, гнездо Люда с мужем свили чуть в стороне от исторического особняка архитектора, жёлтого здания с колоннами.
Малаховы ещё в девяностых купили квартиру в одном из домов близ киностудии – тех самых, где школьная коридорная система, двухэтажные квартиры и подъезды, в которые приходили целоваться все окрестные подростки (пока жильцы не скинулись на кодовый замок и домофон).
С деньгами у них тогда было хорошо: сотрудников муж каждый год отправлял с семьями на море, оплачивал зубные протезы для их бабушек и отмазы от армии для сыновей. И для меня он тогда тоже ничего не жалел, думала Люда, разглядывая полинявшие носки старых кроссовок и кривоватый, пусть и сто раз антверпенский зонт с вылезающей спицей. А когда Малахов узнал, что у него будет сын, то притащил домой корзину роз – корзина даже в дверь не проходила, хотя двери у них в квартире широченные. Над испуганно раскрывшимися алыми розами торчало раскрасневшееся лицо мужа: дикий, приблудный цветок.
Климов уже опять рассказывал про спрятанные реки – глаза сияют, по щеке слезой течёт дождевая капля, пальцы разминают сигарету. Счастье Климова – найти слушателя и обрушить на него град подробностей, хоть на миг облегчить непосильный груз многих познаний… Пусть даже вполуха слушают – всё равно что-то да запомнят.
Спасибо, что настоящего града сегодня нет, а только в переносном смысле. Лето, конечно, ни к чёрту.
– Малаховка, Мельковка, Черемшанка, Основинка, Монастырка – это не считая ручьёв там всяких, ключей… Все они были спрятаны под землю, все текут у нас под ногами. Мы ходим по городу, ездим, а они там, под нами, никуда не делись, текут…
Лицо Климова стало мечтательным и почти красивым.
– А зачем их спрятали?
– Затем, что люди – свиньи! Каждую речку превращали в сточную яму, выбрасывали туда и выливали что ни попадя. Ну и развитие города, не забывай, – надо жильё строить для трудящихся, заводы открывать, рельсы прокладывать, а тут какая-то речка течёт, мешает… Вот интересно, что бы сказал на это Михал Палыч?
Они оба оглянулись на дом Малахова, как будто в ожидании ответа. Дом выглядел аккуратным, подтянутым, сдержанным. Башенка наверху выкрашена в зелёный цвет. Когда-то давно сын спрашивал: а кто живёт в той башенке? Карлсон?
«Для Карлсона низковато будет», – отшутился тогда муж. Тогда ещё были шутки, и сын его не боялся, не отшатывался привычно в сторону.
– Кстати, – Климову всё и всегда кстати, – дом-то малаховский тоже подделка. Восстановленное здание. Когда расширяли Лунку[1], здание решили перенести вглубь участка на пятнадцать метров. Чтобы портик трамваям не мешал. Из настоящего сохранились только купол и всякие декоративные финтифлюшки.
– Ну и вот зачем ты мне это сказал? – расстроилась Люда. – И так кругом одни подделки.
– Копия качественная, – утешил её Климов. – А таких вещей о родном городе стыдно не знать.
«Стыдно, у кого видно!» – передразнила Великая Мать, но Люда благоразумно промолчала. Пусть она и подшучивала над Женей, и уставала от его неиссякаемых историй, всё равно хорошо, что она сейчас стоит под деревом с Климовым, а не сидит в родовом гнезде.
Женя проявлял фамильярность только по отношению к великим согражданам – Михал Палычу, Василь Никитичу, Пал Петровичу, – а с друзьями вёл себя деликатно, в душу не лез, не любопытничал. Хочет Людик гулять с ним под дождём – он и рад стараться. Семьи у Климова не было, к Малаховым он прибился в тех же девяностых – кажется, даже мебель помогал таскать во время переезда. Почти в каждой семье найдётся такой друг-Женя – безотказный, порой раздражающий, но неизбежный, как очередной дождь в этом июне. Малаховы – и взрослые, и дети – давно к нему привыкли. Использовали каждый по возможностям и потребностям. Муж свалил на Женю походы на рынок, встречи в аэропорту и на вокзале, мелкий ремонт в доме – всё, что не любил или не умел делать сам.
Дочке Климов помогал делать «проекты» по истории с географией – в элитной гимназии учили в основном петь и плясать в самодеятельных спектаклях, а на собственно учёбу запала не хватало.
С Людой они гуляли по городу, разговаривали о людях, которых давно нет на этом свете, – зато сохранились их дома и, как выяснилось, даже речки, пусть и запрятанные глубоко под землю. К тому же он звал её точно как папа когда-то: «Людик». Папа ещё добавлял «человечек» – получалось «Людик-человечек», но этого от Климова уже, разумеется, никто не ждал.
Только с сыном у них никаких особенных отношений не сложилось, были самые обычные: «Привет, пока, не закрывай дверь, я курну – и вернусь».
Люде было рядом с Климовым так хорошо и спокойно, что она иногда – не всерьёз, Жень! – примеряла на него роль, которую давно устал играть Малахов: мужа и отца. Примеряла – и начинала смеяться первой, пока воображаемые зрители соображали, что к чему.
Климов тем временем с воодушевлением рассказывал о каком-то человеке по имени Птица, который водит экскурсии по подземным рекам.
Люда очнулась при упоминании этой клички, подходящей скорее гиду по высотным чердакам и старым крышам.
У каждого человека есть слова, которые могут вытащить его из болота собственных мыслей, – у Люды это были имена, фамилии, клички.
– Птица?
– То ли Сорокин, то ли Снегирёв. Все зовут просто – Птица.
«Может, Воронин?» – каркнула Великая Мать. Просто для того чтобы каркнуть.
2.
Асфальт течёт над рекой, город стоит на костях, дети – на ладонях родителей, а биографы – на плечах своих героев. Люда открыла дверь ключом, понадеявшись скользнуть к себе в комнату незамеченной, – но не тут-то. И не здесь бы!
– Поговори с ним! – Малахов стоял у лестницы, внимательно разглядывая промокшую Люду: она раскрывала зонт для просушки в прихожей, нарушая одну из самых скверных европейских примет. Но у европейцев свои приметы, у нас свои. – Если ему не нравятся правила жизни в моём доме, пусть валит отсюда. Я скучать не буду!
– Куда именно валить? – Люда втягивалась в спор привычно, как могла бы ходить по квартире на ощупь, с выключенным светом: вот здесь скрипучая ступенька, здесь крючок на стене, а тут покосившаяся ещё в прошлую пятницу картина, никак руки не дойдут поправить.
Сверху по лестнице слетел маленький ураган – дочка. С размаху прыгнула отцу на руки, спрятала лицо у него на груди, а потом кокетливо посмотрела на мать: видала, как надо? Люда от души восхищалась дочкиной способностью управлять отцом – иногда ей всерьёз приходили в голову мысли попросить её, пусть сделает так, чтобы он оставил сына в покое.
Но Люда, конечно, не просила – а дочка будто не видела, что в семье всё идёт наперекосяк: была всегда счастливой, весёлой, хорошенькой. Папина любимица! Уже скрылась в кухне, напевает, чай заваривает…
– Я поговорю с ним.
– Скажи, что он должен следить за порядком в своей комнате!
– Обязательно скажу.
Муж рассчитывал на ссору и теперь переминался с ноги на ногу, недобрав своего. Ещё вчера получил бы по полной программе, но сегодня Люда остановилась на полуслове, не дала утянуть себя в воронку – вместо этого с нетерпением представила себе тёмную, глухо блестящую воду и длинный таинственный тоннель.
– Хочешь пойти со мной на экскурсию? – спросила она сына тем же вечером. – По скрытым рекам города?
Сын сказал «нет», не снимая наушников, – даже, наверное, не услышав, что она говорит, заранее от всего отказался.
Иногда Люда думала, он сердится на неё за то, что не ушла от отца, не рискнула… Странности (так выражалась Великая Мать) появились ещё в раннем детстве, но Люда списывала их на изгибы характера, говорила с сыном. А муж даже не пытался понять: выкорчёвывал протесты, как сорняки, заставлял подчиняться. Говорил: «Зачем тебе учиться, ты всё равно тупой и ленивый. Иди работай. Даже инвалиды работают!» Иногда – почти ласково! – давал сыну пощёчины. Зато дочку – баловал, нахваливал. Она была и вправду умненькой, к тому же хитрой, вкрадчивой.
Люда вставала между сыном и мужем, спорила, уговаривала, доказывала – всё было бессмысленно, каждый из них держался за свою правду, как за спасательный круг в океане.
Потом был тот срыв, вспоминать о котором она сегодня не будет. Больница. Две растерянных врачихи в белых халатах и жизнерадостная санитарка-оптимист: выправится, наладится, у нас тут даже профессоры лежат. Слёзы взрослого мальчика, который неумело обнимал её и спрашивал: мама, ты ведь не бросишь меня?
Больше между ними никогда не было такой близости. Эту реку тоже спрятали под землю.
3.
Чайки умеют кричать так громко и пронзительно, что это почти не крик, а скрип. Похожий звук бывает, если оттираешь пятна на стекле тряпкой, натянутой на палец, – трёшь с усилием, до скрипа…
У летних ночных мотоциклистов другой звук – будто бы город резко, одним движением расстёгивает застёжку-«молнию», а потом застёгивает, и так много раз… Вжик, вжик – через весь город, по улице Малышева. Климов увидел случайную чайку над Исетью, услышал мотоциклиста – дневного, они звучат мягче, берегут «молнию»… Он ждал Люду возле Каменного моста – здесь был её банк (один из тех банков, где она нахватала кредитов той страшной весной), и она буквально только что совершила обязательный платёж. С утра до вечера Люда только о том и думала, где взять денег, как заработать на лечение для сына, и чтобы он обязательно окончил университет. Малахов давно самоустранился, предпочитаю делать надёжные инвестиции, сказал он однажды, и Люда кивнула: конечно! Ты столько лет всех нас кормил и содержал (неустанно напоминая об этом, впрочем, но не будем придираться), имеешь право сам решать, какой из твоих детей достоин помощи, а какой не достоин. Это ведь миф, что всех детей любят одинаково, – некоторых не любят вообще.
«Просто попроси у него денег, да и всё!» – недоумевала Великая Мать, но у Люды все просьбы застревали в горле – она физически не могла произнести эти простые слова: немела, кашляла, задыхалась. Вспоминала, как Малахов рассердился на сына из-за какой-то ерунды – и сказал, торжествуя:
– Ах так? Ну а я тогда не буду больше платить за твои таблетки!
Своё обещание он сдержал – очень гордился тем, что просто так не сотрясает воздух.
Дождя сегодня ещё не было, как не было, впрочем, и надежд на сухую ясную погоду. Климов широко шагал и громко рассказывал про Малаховку то, что не успел сообщить в предыдущий раз. Левобережный приток Исети прежде назывался Ольховкой (не все краеведы с этим согласны, но на городских планах 1810 года указано это название). Малаховка пересекала восточную часть города, растекалась прудом там, где сейчас расположен зоопарк, пропускала восемь мостов и сливалась с Исетью там, где теперь находится цирк.
– В устье была золотоносной! – важно сказал Климов. Они вошли к тому времени в парк Энгельса, где уже топтался рядом с канализационным люком невысокий худой юноша. Птица, вспомнила Люда.
В руках проводник держал стопку оранжевых жилетов:
– Если что, говорим: мы работники водоканала.
Подошли ещё какие-то люди, принесли резиновые штаны на всех, включая Люду. Она была здесь единственная женщина, да ещё и старше всех, включая Климова. Но это, похоже, никого не интересовало. Поглядывая на Птицу – он проводил инструктаж, как нужно вести себя под землёй, и держался уверенно, не хуже стюардессы, – Люда облачилась в резину и куртку. «Что крестьянин, то и обезьянин!» – всплеснула руками Великая Мать. Когда Малахов впервые услышал от Люды это выражение, то возмутился до глубины души – ему почудилось, что крестьянина сравнили с обезьяной, а для патриота земли русской это было, конечно, серьёзное оскорбление.
Кто-то из помощников Птицы открыл люк и махнул рукой: быстрее! Экскурсанты спускались под землю один за другим, Люда ухнула следом за Климовым, не успев спросить: а что, если люк сверху кто-нибудь закроет и они останутся под землёй навсегда, как речка Малаховка?
В общем, это даже не плохо, наверное. Во всяком случае, жизнь изменится совершенно. Малахов с дочкой без неё прекрасно обойдутся, на работе тоже никто жалеть не будет, вот только сын…
Малаховка целеустремленно бежала под землёй, соблюдая свой прежний маршрут. Дно коллектора оказалось неровным – края были выше, чем середина, и приходилось идти, держась одной рукой за стену. Пальцы скользили – на стенах густо росли грибы, между ними торчали какие-то корни.
– Деревья! – объяснил Климов.
Корни были облеплены грязью, в которой густо кишели черви – они целыми связками сползали по стене.
Люда поймала себя на мысли о том, что впервые за несколько лет следит за тем, что происходит вокруг, – а не совершает подсчётов, где бы ещё заработать, как сделать все выплаты, чего бы продать, на чём сэкономить. На прогулках с Климовым, в трамвае по пути на работу, порою даже на самой работе она лихорадочно складывала, а чаще вычитала те денежные суммы, которые нужны для лечения и учёбы. Цифры представлялись острыми, с зазубренными краями, а мелкая экономия не приносила почти никакой выгоды.
Птица рассказывал: вот здесь колодец, который ведёт в зоопарк, тут плотина, а это новые участки коллектора, их делают для того, чтобы можно было заложить глубокий фундамент для высотных зданий. Воду пускают по обходному тоннелю. На этих словах Птица надел респиратор и потом уже просто молча показывал на всё интересное пальцем.
Потолок коллектора был украшен случайными аппликациями из обрывков полиэтилена и ещё какого-то мусора. Смрада Люда не ощутила – как важно пояснил Климов, ливневая канализация не зависит от фекальной. Крыс и мышей тоже не увидели – попадались только мокрицы, пауки, редко встречающиеся в квартирах тараканы.
Пото́м дно речки стало заболоченным – все шли едва не по колено в густом, как хороший борщ, вареве. Сквозь дыры в коллекторе били буйные водопады, впереди виднелась плотина… Птица ушёл уже куда-то очень далеко, было не разобрать, на что он там показывает пальцем. Люда смотрела на повеселевшую Малаховку, снова бегущую – как заведено годами! – в Исеть, и вспоминала давнюю поездку на море. Давняя поездка, счастливая семья. Весёлый умненький сын, гордый Малахов, она, беременная дочкой… Сидели в ресторане на берегу, ждали, пока принесут еду, – и любовались пейзажем. Будто с рекламы какой сбежали, честное слово!
Море было так аккуратно налито в бухту, как будто это и не стихия никакая, а коктейль в стакане.
Малаховка – хотя ей не давали проявить характер, арестовав и навеки закрыв под землёй, – не теряла надежды вновь однажды увидеть солнечный свет.
Многим другим рекам и людям приходится хуже. Реки загрязняют, меняют им русла, людям ломают хребет, или вот у родственницы коллеги недавно родилась девочка без руки. Жаль, что бедами мериться бесполезно – в отличие от успехов. Успехи прекрасно поддаются сравнению, тогда как свои страдания всегда тяжелее чужих.
Они вышли из-под земли где-то вблизи набережной Исети. Дождя почему-то не было. Птица показал, в каких кустах лучше спрятаться, чтобы снять резину, – так они и сделали и потом сидели на камнях, обсыхая. Все молчали, даже Великая Мать не обронила ни слова.
А под ними текла река.
Между волком и собакой
Эта история – про собаку, а ещё она про людей и машины. И немного про Тобольск, в который я решила ехать только ради сестры. Ей давно хотелось там побывать, а я совершенно никакого интереса к Тобольску не испытывала, более того, в последние годы всеми правдами-неправдами держалась как можно дальше от Тюменского тракта.
Взять, например, нашу с мамой давнюю поездку в Тюмень. У меня была встреча с читателями, мама поехала за компанию. От билетов на поезд я гордо отказалась, сказала организаторам, что приедем сами. Был август.
Встреча в тюменской библиотеке получилась хорошая, но книг продали немного. Мама хотела купить груздей для засолки – поэтому на обратном пути мы всюду высматривали тружеников леса, которые стоят на обочинах с вёдрами. И, как назло, все грузди были с другой стороны, а вот инспектор ГИБДД стоял, конечно, с нашей. Приветливо махал жезлом, как волшебной палочкой.
Мы уже отъехали довольно далеко от Тюмени, дорога была почти пустая, и я разогнала машину настолько, насколько вообще позволяю себе разгоняться.
У инспектора была фамилия Гагарин, и улыбался он так же солнечно, как первый в истории космонавт.
– Вы нарушили скоростной режим, – сказал он. – Здесь висит знак, ограничивающий движение до пятидесяти километров. А вы ехали за сотню!
Знак действительно висел – но возможности сбросить скорость не было, потому что сразу же после знака стояла избушка ГИБДД, куда Гагарин и повёл меня, как Баба-яга – Жихарку.
Мама осталась переживать в машине.
На противоположной стороне шла бойкая торговля груздями.
В избушке было уютно. На стенах висели благодарственные листы и грамоты. Гагарин проявлял радушие: штраф выписывал неспешно, отвлекался на посторонние темы, чуть ли не чай мне предложил, но вовремя опомнился. Профессионализм одержал победу над личностью.
– Обошлось? – спросила мама, когда я вернулась наконец в машину, шелестя листком со штрафом. Посчитали, что обошлось, – но у Тюменского тракта было на этот счёт своё мнение. А может, здесь сыграло роль одно моё дурацкое суеверие: я считаю, что все несчастливые совпадения и прочие неудачи (по-болгарски – злополуки) ходят исключительно по трое. Неизвестно, что мешает им передвигаться в одиночестве – может, они с краю подпирают того, кто в центре, чтобы не упал, как это делают дряхлые туристы. В общем, если случилось одно несчастье – жди второго, а за ним и третьего.
После встречи с Гагариным я ехала медленно, и маму это полностью устраивало – она не теряла надежды на грузди. И ей повезло, потому что всем, кто не теряет надежды, везёт – вблизи Тугулыма, где в школьные годы мы с одноклассниками собирали турнепс на колхозных полях, стояла целая армия грибников. Мама придирчиво обошла каждого «бойца» и выбрала в конце концов продавца, который понравился ей чисто по-человечески (справедливости ради следует сказать, что и грузди у него были отменные). У этого же чисто человеческого продавца мы скупили всю чернику и, радостные, сложили покупки в багажник, где лежали не проданные в Тюмени книги. И помчались дальше, оставив позади Тугулым вместе с грибами, ягодами и школьными воспоминаниями.
Я люблю делить дорогу с мамой – мы почти никогда не ругаемся и даже спорим вполне мирно. Когда проезжали мимо Талицы, зашёл разговор о преимуществах талицкой молочной промышленности перед ирбитской. Мама горой стояла за Ирбит, а я доказывала, что Талица всё-таки лучше, хоть и дороже, и в тот самый момент мы обе почувствовали, что машина едет совсем не так, как раньше. Если бы она была человеком, я сказала бы, что она вдруг резко захромала на правую ногу.
С машиной у нас отношения трепетные, переходящие с моей стороны в нечто вроде обожания и повышенной тревожности. Если в машине вдруг что-то стучит не так, как надо, я тут же бью тревогу.
Мы вылезли из машины – и увидели, что заднее правое колесо лежит на земле ровной тряпочкой.
– Ещё минута, – сказала мама, – и улетели бы в кювет. Лежали бы там, присыпанные грибами да ягодами.
И книгами, подумала я.
В списке моих умений можно найти самые неожиданные, но менять колёса я не умею. И повода научиться не было – за те двадцать лет, что я за рулём, ни одно колесо не пострадало.
Мы с мамой стояли на обочине, как давешние труженики леса, и осознавали новую злополуку… Рядом проносились на полной скорости счастливые обладатели целых колёс, резко гудели фуры, шептались, хихикая, сосны. Как вдруг рядом с нами притормозил поношенный джип. Водитель, в отличие от своей машины, был совсем ещё не старый. Видно было, что он торопится, что мы со своим колесом-тряпочкой ему совсем некстати, но он остановился, открыл багажник в поисках нужных инструментов – и оттуда посыпались вещи. В основном это был детский транспорт: какие-то санки, коляски, ледянки, самокаты – все четыре сезона в одной машине. Наш спаситель чертыхнулся, начал разгребать эту кучу, с трудом нашёл, что искал, – и пошёл теперь уже к нашей машине, за запаской. Мама уже выгрузила книги, грибы и ягоды из багажника, и вообще мы с ней всячески проявляли готовность помогать и участвовать в спасательной операции. Мама даже завела с водителем подобие светской беседы, но он вежливо посоветовал заняться лучше сбором камней, которые он будет подкладывать под другие колёса, чтобы машина не завалилась набок. Мы с радостью стали подбирать камни – как древние египтяне или муравьи, выкладывали их на обочине, а спаситель придирчиво отбирал подходящие. Потом он поднял машину домкратом, поменял колесо и строго велел мне ехать до самого города «не больше восьмидесяти». Я бы и сама могла об этом догадаться, глядя на запаску – она выглядела намного тоньше других колёс и чем-то напоминала протез.
От денег наш спаситель отказался, хотя мы совали ему их с усердием, достойным лучшего применения. И уехал, не дослушав горячих слов благодарности. Я вспомнила, как болгары отвечают на «спасибо» – «няма за какво». (Я тогда учила болгарский язык, поэтому он и всплывал у меня в памяти кстати и некстати.)
– Ой, ну слава богу, малой кровью отделались, – сказала мама, когда мы медленно выехали с обочины. Я с этой обочиной уже сроднилась, молчала – ждала третьей злополуки. Решила, что дождалась, когда где-то в районе Богдановича меня стали прижимать к обочине сзади – водитель так моргал фарами, что я с перепугу съехала (подумала, вдруг снова колесо – тряпочкой?), остановилась. А из машины-преследователя к нам бежал с огромным ключом в руке давешний спаситель – убей не пойму, как он оказался позади нас, если так бодро стартовал возле Талицы?..
– Не нравится мне, как ты едешь, – сказал спаситель и снова стал что-то подкручивать и подкачивать в нашей протезной запаске. Только когда он остался более-менее доволен результатом, мне разрешили ехать дальше. Но теперь я уже ничего не боялась – чувствовала, что нас до самого города ведёт моя удача. Везение на людей, с которым я родилась, ехало по пятам – а я ценю его и храню, как лучший из подарков, на которые способна жизнь. В самые тяжёлые минуты рядом со мной появляется тот, кто протягивает руку – и вытаскивает из ямы, куда провалилась уже, кажется, по уши.
– Мы ведь даже имя его не спросили! – спохватилась мама на подъезде к Екатеринбургу.
– Алексей? – предположила я.
– По-моему, Александр ему больше подходит.
– Хорошо, пусть будет Александр. Но в Тюмень я больше не поеду.
Я действительно не хотела больше ехать той дорогой, где незаметно появляются дорожные знаки и гвозди (в автосервисе сказали, что колесо проткнуто гвоздём аж в двух местах!). Но тут сестра в очередной раз стала говорить, как ей хочется поехать в Тобольск, – а меня в то самое время искусительно пригласили выступить в местной библиотеке. Воспоминания о коварстве Тюменского тракта к тому времени слегка подёрнулись флёром времени: грузди мы давно съели, чернику сварили – и тоже съели, а встреть я на улице Александра-Алексея, скорее всего, не узнала бы его в лицо, хоть и вспоминала о нём с прежней благодарностью.
* * *
С сестрой мы совершенно не похожи. Она рыжая, я брюнетка. У неё глаза голубые, у меня карие. Она любит собак и английский язык, я предпочитаю котов (одного кота, если уж совсем честно) и французский. Она вегетарианка, а я ем всё, что дадут, кроме борща и чернил каракатицы. Вообще разные люди! Но когда это мешало добросестринским отношениям? В общем, мы заказали номер в тобольской гостинице и двинулись в путь.
– «Тобольск, Тобольск, дощатый скит, Тобольск, дощатый гроб!» – сестра предвкушала встречу с мечтой, грызла сушки «Малютка» и с любопытством вертела головой по сторонам. Тюменский тракт пока что вёл себя прилично, и я решила простить ему давние обиды. Ну, подумаешь, гвоздь или даже два! А про тот знак возле избушки Гагарина я хорошо помню…
В Тобольск прибыли в самый разгар дня. На высоком холме сиял золотыми куполами белый кремль (единственный каменный кремль в Сибири, сказала сестра). Был июль, холм утопал в плюшевой зелени, и где-то поблизости с некоторым сомнением прокукарекал петух.
Наша гостиница стояла на Красной площади – так называется главная площадь Тобольска. Из номера были видны башни кремля. У нас оставалось немного времени до встречи с читателями, и мы быстрым галопом пробежали по этой площади, решив оставить подробную экскурсию на завтра. Сестра купила в ларьке с сувенирами косторезное изделие.
* * *
Встреча с читателями – это как вечеринка с сюрпризом. Кто только не приходит на них – и городские сумасшедшие, и скучающие пенсионеры, и загнанные учительницей литературы школьники, а, например, в городе Франкфурте на все мои «мероприятия» пунктуально являлся мужчина в запотевших очках: он держал в руках пачку моих фотографий, найденных в интернете и добросовестно распечатанных. Я подписала ему каждую фотографию, стараясь не думать о том, что он будет с ними делать.
В Ревде школьник Сайфуллин спросил меня, хорошо ли я помню годы моей юности, а в Перми студентка с неизвестной фамилией поинтересовалась, хочу ли я, чтобы меня вспоминали после смерти. В Тобольске особых сюрпризов не было – ровная встреча с умеренными всплесками и спадами, напоминающая кардиограмму здорового сердца. После непродолжительных аплодисментов мне подарили альманах о Тобольске, потом мы с сестрой выпили по чашке чая с библиотекарями – и на этом деловая часть программы была окончена.
– Давай ещё погуляем? – предложила сестра. – Пока не стемнело.
Стоял спокойный летний вечер, небо было ясным, лишь с одной стороны, как фингал, торчала фиолетовая туча.
– Дождя не будет, – искушала сестра, – я видела прогноз.
Но я на всякий случай взяла с собой зонт. Я всегда беру с собой зонт – это проверенное годами верное средство борьбы с дождём: если я его беру, дождя не бывает. Но если зонт остался дома, будут и ливень, и град.
Улицы, ведущие вниз с Троицкого мыса, где стоит кремль, называются взвозы – по- моему, это очень удачное, многое объясняющее слово. Мы въехали в Тобольск по Никольскому взвозу, а теперь спускались по Прямскому (и название тоже – удачное). Прямской взвоз – деревянная лестница, ведущая с холма, где стоит кремль, в нижнюю часть города. Сестра остановилась, чтобы сфотографировать эту лестницу, а я фотографировала сестру со спины и вспоминала, как в детстве она однажды взяла меня с собой в кино и попросила подержать её сумку в туалете. Мне было лет семь, наверное, а сестре, соответственно, восемнадцать. И, пока она была в кабинке, я уронила её сумку на пол. Как мне попало! Лучше не вспоминать. Потом, уже когда фильм начался («Мария, Мирабела»?), она молча да- ла мне пакетик с домашним печеньем – «орешками» со сгущённым молоком, и я давилась ими пополам со слезами.
В раннем детстве я боготворила сестру. Она жила не с нами, но часто приходила к нам на Посадскую, и я по малолетству не понимала, откуда она берётся и куда исчезает. Каким-то образом появление сестры было связано со входной дверью в квартиру, поэтому я вставала перед дверью и дудела в замочную скважину:
– Юля! Юля!
Мне казалось, она меня услышит. И, в общем, я была права – в конце концов сестра всегда появлялась.
Ещё не стемнело, был тот час, который французы зовут «entre chien et loup» – между собакой и волком. Собака медленно превращалась в волка, когда мы вышли к берегу Иртыша. Набережной здесь не было – просто влажная земля. Справа темнели скалы, слева к воде гуськом шли сезонные таджикские рабочие. Негромко галдели, предвкушая купание. Разделись, оставив на берегу одежду, и зашли в воду.
– А вот слияние Иртыша и Тобола нам не увидеть, – задумчиво сказала сестра, наблюдая за купанием гастарбайтеров, которые плескались в речных волнах не хуже русалок. – Это надо ехать куда-то далеко.
Собака, по всей видимости, передумала превращаться в волка – было всё ещё светло, только воздух стал чуточку прохладнее. Мы дошли до губернаторского дома, где сто лет назад томились в ссылке Романовы, а потом опять полезли в гору, чтобы увидеть памятник Ермаку на мысе Чукман. И вот где-то там, на полпути к этому памятнику, к нам весело выбежал пёс. Он не смог бы вызвать симпатии даже у самого страстного борца за права животных. Он, точно как этот тобольский вечер, застрял между волком и собакой: тело пёсье, грязное брюхо – в слипшихся сосульках, хвост кренделем, а морда – волчья, причём с улыбкой. А вот мне совершенно не улыбалось идти рядом с этим псом, но он почему-то решил составить нам компанию, и мы теперь уже втроём поднимались на мыс.
Пёс вёл себя в меру интеллигентно: на близком общении не настаивал, но присутствовал рядом неуклонно, причём сразу стало ясно, что он выбрал себе в хозяйки не сестру, а меня. И это была его ошибка – я за всю свою жизнь ни одной собаки не подобрала. А сестра вечно подкармливает бездомных псов, и в саду у неё живёт целое поголовье брошенок.
– Всё дело в запахе, – сказала сестра. – Наверное, ты ему кого-то напомнила.
Памятник Ермаку был поставлен в XIX веке, автор проекта – Александр Брюллов, родной брат Карла. Будущий Николай Второй, посетивший Тобольск в статусе наследника- цесаревича, осмотрел монумент и нашёл его недостаточно воинственным. После того как Николай уехал, тоболяки вкопали вокруг обелиска пушки и натянули меж ними цепи. Интересно, вспоминал ли те свои слова ссыльный царь, спустя многие годы запертый в тобольском доме губернатора?.. Им ведь даже в город выходить не дозволялось.
На другой стороне Никольского взвоза белели стены кремля. Волк наконец одолел собаку – над Тобольском взошла луна, такая ясная и чистая, что хотелось завыть. Пёс не отставал от нас ни на шаг – и чем ближе мы подходили к гостинице, тем чаще он обгонял нас и вилял своим жутким хвостом, пытаясь поймать мой взгляд.
– Он что, не понимает – я его не возьму? – сказала я сестре.
Сестра это хорошо понимала, и я тоже, а вот пёс – нет. Он весь был сплошная надежда в сосульках грязной шерсти.
– Вообще собак не люблю, – продолжала говорить я куда-то в воздух, – а у этого нет никаких шансов.
– Потому что нехорош собой?
– Потому что дома – кот!
– Успокойся, – сказала сестра. – Сейчас мы пойдём спать, а утром его уже не будет.
* * *
Машину оставили под окнами гостиницы, ночью я просыпалась, чтобы проверить – не случилась ли какая злополука. Выглядывала в окно, потом долго не могла уснуть, читала учебник французского (болгарский давно остался в прошлом) и только под утро наконец заснула так крепко, что сестре пришлось трясти меня за плечо.
Мы позавтракали, собрали сумки – и спустились вниз, чтобы выписаться из номера.
– Это не вас там собачка караулит? – вежливо спросил администратор, сдававший ночное дежурство. – Я вчера курить выходил, а она всё сидит и сидит.
– Он, – сказала я. – Не она, а он.
– Как зовут? – спросил администратор, принимая ключи от комнаты.
Я смогла только сверкнуть глазами в ответ, но не уверена, что вышло убедительно.
Пёс приветствовал нас так бурно, что у меня внутри как будто что-то треснуло напополам. Я не борец за права животных, но мне было всё равно очень жаль эту псину – некрасивую, никому не нужную, по ошибке принявшую меня за ту гадину, которая её однажды бросила. И с которой у нас одинаковый запах.
Я села перед псом на корточки и сказала:
– Слушай, волчище, не ходи за нами больше. Давай расстанемся прямо сейчас.
Сестра хмыкнула. Пёс улыбнулся во всю свою волчью морду – и потрусил за нами, как будто получил благословение.
– Может, его хотя бы покормить?
– Тогда он вообще не отстанет. И не смотри так на меня, у нас и так проблемы с соседями. Считают, что я содержу псарню… Оставим корм, когда поедем, – на прощание.
Волчище кивнул, как будто согласился спредложенным вариантом.
Мы втроём осматривали кремль – когда надо было заходить в здание, Волчище ждал нас снаружи, а потом ликовал, виляя хвостом.
В историческую тюрьму с собаками не пускали – мы отсутствовали часа два, и у меня зародилась надежда, что Волчище за это время может встретить кого-то другого с тем же запахом. Но нет – на выходе из тюрьмы нас встретил тот же преданный оскал, тот же мохнатый хвост, которым пёс размахивал как саблей.
В ларьке с надписью «Продукты» мы купили собачьей еды в пакете – и некультурно вывалили её перед Волчищем в ближайших кустах. Он обрадовался, начал торопливо пожирать угощение, пока мы трусливо пробирались к машине. На душе было гадко, хотелось как можно скорее уехать. Но когда я разворачивалась в поисках выезда, то увидела в зеркале знакомое мохнатое чудище, так и не дождавшееся, несмотря на всю свою преданность, ответных чувств. Была только жалость, но её всегда мало. Есть мерзкие слова – «всех не обогреешь».
Волчище бежал за машиной, а к недоеденному корму в кустах спешили, вероятно, все окрестные собаки. Волчище бежал резво, но мы, конечно, ехали быстрее. На трассе я прибавила скорости, начисто позабыв о сложных отношениях с Тюменским трактом. Думала: как хорошо, что сестра молчит.
* * *
Спустя час решили заправиться. Сестра осталась в машине, а я, пока заливали бензин, пошла за кофе. Не знаю, почему решила открыть дверь магазинчика ногой – проще было дождаться, пока кто-нибудь пройдёт мимо и поможет. Или, например, можно было выносить стаканчики с кофе по одному. Или закрыть их крышками плотно, а не абы как. Я всё думала про Волчище, сочиняла ему биографию, представляла, что он сейчас делает. Может, вернулся к отелю и сидит там на солнцепёке со своими грязными сосульками, которые не растопит никакое солнце… Сидит и ждёт. Думает: вот и эта предала, бросила меня вместе со своим запахом!
В общем, я открыла дверь ногой, держа в каждой руке по стакану с горячим кофе (капучино и американо). Дверь открылась, но потом снова начала закрываться, я потеряла равновесие, начала искать его с помощью рук так, что кофе-американо пролился мне на голову. Лоб, волосы, правое плечо – всё было залито раскалённым напитком, и только в рот не попало ни капли. Капучино в процессе не пострадал, и я торжественно вручила его сестре, после чего стала вытирать лоб, волосы и правое плечо.
– Ну ничего, – сказала я с натужной бодростью, – если мне вдруг захочется взбодриться, можно будет просто понюхать плечо. Или волосы. Главное, ожогов нет. Кажется.
А сама, конечно, вспомнила правило трёх злополук – и тут же, на месте, получила вторую пулю. В колонке, где, как мы считали, осуществлялась заправка, кончился бензин. Распространяя вокруг себя одуряющий запах горячей мокрой одежды, я бегала туда-сюда, пока мне делали возврат денег за недолив бака: сначала пыталась всучить кассирше вместо чека какую-то левую бумажку, завалявшуюся в кармане джинсов, потом искала тот самый чек в туалете, в магазине и в машине, пока не обнаружила его в конце концов мирно плавающим в луже пролитого кофе.
Я всё бодрилась:
– Заправимся ближе к городу.
Сестра не возражала.
На подъезде к деревне Ярково зазывно торчала очередная заправка, и мы свернули туда потому, что нюхать плечо, облитое кофе, оказалось неэффективным.
В Ярково было даже целых две заправки: одна – на трассе, вторая – на улице, ведущей в деревню, сразу за автосервисом. Это мы узнали потом. А пока всё шло на редкость удачно: я выпила кофе, на сей раз без потерь, потом залила полный бак бензина и развернулась, чтобы выехать обратно на Тюменский тракт.
И тут раздался скрежет, какого я никогда в своей жизни не слышала. Это был даже не скрежет, а вопль о помощи – и вопль издавал мой автомобиль.
Я вылезла из машины, проверила колёса – они выглядели как всегда. Никаких ровных тряпочек.
Снова села за руль – и снова скрежет.
Две машины, выезжавшие следом, остановились – водители явно ждали продолжения спектакля. А потом, вздохнув, полезли играть на сцену с нами вместе.
Первый водитель возвращался в Тюмень с юга, с ним ехали жена и кот. Кот к нам не вышел, но жена проявила участие и не жаловалась, что пришлось застрять на заправке, когда дом был уже так близок.
Второй водитель вёз пассажирок – двух женщин, источавших ароматы советского прошлого. Женщины были в химических кудрях и крайне дурном настроении.
– А что это вы нашего мужчину используете? – поинтересовалась одна. – Вызывайте сервис!
Водитель покраснел ушами, но, не обращая внимания на кудрявую злыдню, колдовал вместе с владельцем кота над нашими колёсами.
– Это у вас на северах здесь такие люди, – сказала злыдня. – У нас на юге вам бы ни за что не помогли!
– Как хорошо, что мы не на юге! – заметила сестра, и злыдня ушла в машину, как следует хлопнув дверцей.
Наши спасители синхронно, как в балете, вытерли вспотевшие лбы, и тот, что с котом, сказал:
– Вам правда лучше в сервис. Вот сейчас свернёте на Ярково и увидите гараж.
– А мы доедем?
– Ну конечно, доедете, правда, с музыкой.
Машина не просто скрежетала, но теперь ещё и дёргалась как припадочная.
Всё-таки надо было взять Волчище, – подумала я. – Теперь судьба будет изобретательно наказывать меня за холодную жестокость. И почему в меня всегда влюбляются именно те, кого я никогда не смогу полюбить? Будь Волчище не собакой, а, например, котом, я, может, и сдалась бы. Хотя, скорее всего, нет. Место кота в моём сердце уже занято. И по природе своей я однолюб.
Почему я должна расплачиваться за то, в чём не виновата?
Времени для размышлений было предостаточно. Пятьсот метров до деревни мы преодолели минут за десять. Въехали на стоянку автомастерской, где мирно играли в карты работники сервиса.
– Ступичный подшипник полетел, – вместо приветствия сказал работник в синей майке. – К бабке не ходи. Сейчас вызовем эвакуатор, а вы пока звоните в Тюмень, ищите сервис. И сам подшипник.
Два часа ожидания эвакуатора тянулись, как два дня. Я дошла до второй бензозаправки и купила там сигарет, хотя совсем недавно бросила курить. Мы съели пакет сушек: вкус у них был подозрительный, как, впрочем, и внешность.
– Помнишь, ты рассказывала мне в детстве истории? Про созвездие Гончих Псов и волшебника? – спросила я сестру. Она оживилась:
– Конечно! Этот волшебник мне так надоел, что я пришибла его цветочным горшком. Мы с тобой шли по улице, и ты всё время спрашивала: а дальше, Юля, а что было дальше? А дальше, сказала я, с подоконника упал горшок с махровой фиалкой и убил волшебника. А ты встала на месте, рот разинула и говоришь: «Как это – убил?»
– Вообще не помню! Видимо, защитная реакция на травму сработала, для меня волшебник вечно жив.
На этих словах в Ярково въехал эвакуатор – и мы побежали ему навстречу.
* * *
Кабину эвакуатора украшал вымпел в сутажной рамке – изображение стёрлось, и я так и не смогла разобрать, что там написано. Мы с сестрой сидели рядом с водителем, на коленях лежали сумки – как в театре. На сцене исполнял свой лучший номер Тюменский тракт.
Водитель был молодой парень, он без конца звонил по телефону – но ворчать по этому поводу и в голову не пришло, потому что водитель обзванивал тюменские магазины запчастей и спрашивал, есть ли у них ступичный подшипник для такой-то модели. Такая-то модель ехала, закреплённая на платформе эвакуатора у нас за спиной.
В пяти магазинах сказали, что подшипников не имеется, а в шестом ответили – вроде был, приезжайте.
Водитель закричал в трубку: никому не отдавайте! Скоро будем.
Мы въехали в Тюмень на закате, собака снова превращалась в волка, но делала это уже не так живописно, как вчера. Миновали мост через Туру. Магазин находился где-то на задворках, мы с водителем вбежали туда за пять минут до закрытия.
Подшипник лежал в маленькой продолговатой коробочке.
– Теперь в сервис! Я предупредил, что приедем.
– Как вас зовут? – спросила я, вспомнив Алексея-Александра из прошлой поездки.
– Лёша Волков, – сказал водитель.
В сервисе нас приняли как дорогих гостей, правда, главный мастер долго ругал нас с сестрой (особенно почему-то сестру) за безобразное отношение к автомобилю.
Пока меняли подшипник, мы сидели в кафе, где подавали чай и чебуреки. У входа лежала «Книга жалоб и предложений». По-болгарски – «За похвали и оплаквания», вспомнила я.
Яркая реклама предлагала бесплатного ведущего или музыканта в качестве подарка за заказ спецобслуживания.
– Ты бы кого взяла?
– Музыканта. А ты?
– И я музыканта.
Мне всегда нравились басисты.
* * *
На Тюменский тракт я больше ни ногой, ни колесом. Отныне – только самолётом можно долететь!
– Суеверие, – говорит сестра. А сама считает потерянную перчатку плохой приметой.
На встречах с читателями меня часто спрашивают, случалось ли со мной в реальной жизни то, что было описано в книгах. Я всегда отшучиваюсь, потому что, если скажу правду, мне не поверят. Даже школьник Сайфуллин, ещё не утративший юношескую наивность, усомнится в моём душевном здравии. Но я ни секунды не сомневаюсь в том, что именно Волчище, любовь которого я предала в Тобольске, послал нам на помощь Лёшу Волкова, самоотверженно спасшего нашу машину от бесславных каникул в деревне Ярково. Вот почему эта история прежде всего про собаку, а ещё она про людей, машины и немного про Тобольск, по улицам которого гуляет бродячий пёс, похожий на волка. У него брюхо в грязных шерстяных сосульках и улыбка во всю морду, хвост его загнут приветливым кренделем, а в сердце живёт надежда найти хозяйку. Она, эта надежда, сладкая, как сахарная косточка. И такая же недосягаемая.
Улица Девочек
Мы живём на улице Девочек. Это не название, а самая суть нашей улицы, где во всех семьях рождаются девочки: даже собаки и кошки здесь все как на подбор дамского пола.
В одном только соседнем подъезде девочек столько, что можно открывать школу художественной гимнастики или институт благородных девиц, не выходя из дома. Малышки в розовых колясках, девочки постарше в розовых комбинезонах, девочки-подростки в розовых наушниках и девушки-студентки в чёрных очках. Скорее всего, возрастной переход от розового к чёрному осуществляется резко, без градаций – но как это происходит в точности, я сказать не могу, потому что у меня нет ни одной девочки, а есть три сына и кот. Вот почему мы считаемся главной достопримечательностью улицы Девочек: когда сыновья были маленькими и я приводила их гулять на детскую площадку, там все смолкали и разглядывали нас с опаской и уважением. Одна из двойняшек, тех, что занимаются верховой ездой, спросила меня:
– А где ваши девочки?
Она решила, что я их где-то прячу: ведь не может быть, чтобы в семье не родилось хотя бы одной!
Я начала рассказывать двойняшке нашу историю, но она быстро заскучала и убежала играть с сестрой. Мои мальчики были тут же, рядом: старшие, погодки, лениво дрались пластмассовыми совками, младший наблюдал за голубями из коляски.
Бабушка из дома напротив, глядя на моих детей, сказала с сочувствием:
– Да уж. Хуже двойняшек только погодки.
Потом подумала – и добавила:
– Вырастут, мало не покажется! У меня самой три сына. Одних носков сколь!
Носков действительно изобилие. Сушилка для белья напоминает провода, оккупированные стаей чёрных и серых ворон.
Я начала рассказывать нашу историю бабушке, но ей надо было спешить на приём в поликлинику.
Никто не хочет слушать про мальчиков. Другое дело – девочки!
Знакомые считают своим долгом сочувствовать: как же это у меня нет доченьки! Косички не заплести, бантик не завязать…
Я послушно грущу, чтобы не разочаровывать знакомых, но в глубине души точно знаю, что никогда не хотела заплетать косички и завязывать бантики.
Но когда мы ждали третьего ребёнка, я думала, что это будет дочка. Не обязательно с косичками, можно и с короткой стрижкой. Мне всегда нравились короткие стрижки у маленьких девочек. На первом УЗИ сказали, что надежда может оправдаться, – и я в тот же день приобрела крошечное платьице.
Потом настала очередь второго ультразвука.
– Кого ждём? – бодро спросила женщина-специалист.
– Ну, мальчики у меня уже есть, так что, наверное, девочку…
– Что ж, таких девочек я не видела ни разу в жизни, – сказала женщина-специалист и развернула ко мне монитор. Да. Действительно. Никаких сомнений: у меня будет ещё один сын.
– В Сибири таких, как вы, зовут «соколова мать», – сообщила женщина-специалист на прощание. – А я, как профессионал, считаю, что в семье должны быть однополые дети.
Я только потом поняла, что она пыталась меня утешить. Хотя я и так не слишком расстроилась. Вот и у Наполеона рождались только сыновья, а мне Наполеон всегда нравился. Платьице было подарено кому-то из соседей, ждавших очередную девочку, а у меня в положенный срок родился Малыш.
«Соколову мать» довольно быстро перестали приглашать в гости, потому что старшие мальчики были неуправляемыми и дикими, хотя и вполне симпатичными. С утра до вечера они бегали по стенам и потолкам, вопили и выясняли отношения. Один знакомый доктор, глядя на них, сказал с одобрением:
– Тестостерон так и гуляет! Так и гуляет!
Однажды на празднике в церемонном доме кто-то из сыновей разбил стакан над накрытым столом, так что осколки разлетелись по готовым салатам. В другой раз, на отдыхе, один из них схватил с чужой тарелки в ресторане жареную картошку, и я, озверев, выволокла его вместе с невинным в тот момент братом на улицу и, не зная, куда бежать, помчалась к морю. Со стороны это, наверное, выглядело страшно – разъярённая фурия тащит ревущих трёхлеток к воде, а они ещё и голосят:
– Мамочка, не надо! Мы больше не будем!
Отдыхающие решили, что мать собралась их топить – это я позже сообразила, обнаружив себя на скамейке под пальмой, задыхающуюся от слёз. Притихшие малыши насупившись сидели рядом.
– Господи, за что мне всё это? – прорыдала я и тут же получила ответ от полной дамы в чёрном платье. Она сидела на той же скамейке и, развернувшись в нашу сторону, уточнила:
– А ты думала, будет иначе? Зачем тогда рожала парней?
Подруга моей мамы, одесситка, профессор и мать двоих сыновей, утешала меня в трудную минуту цитатами из городского фольклора:
– В Одессе знаешь как говорят? Плохая девочка хуже плохого мальчика!
Все как бы заранее соглашались с тем, что мои мальчики – плохие, но я-то знала, что они прекрасные, прекрасные, прекрасные, хотя и совершенно невыносимые. В общественном транспорте я иногда делала вид, что это не мои дети. После единственной попытки посетить утренник в детскому саду навсегда завязала с этим делом. Каждый день, сгруппировавшись, ждала звонка от школьной учительницы.
Вы спросите, что делал папа? Ну, он радовался, что у него сыновья. Говорил, что такими и должны быть мальчишки. Раздавал подзатыльники и забывал выдать карманные деньги. По-настоящему переживал, когда старший бросил университет. Взял на работу среднего, когда тому срочно понадобились деньги на новый компьютер. И души не чаял в младшем.
В нём все души не чаяли – такой он был ласковый, мирный, несуетливый. Я иногда честно забывала о том, что у меня есть ещё один ребёнок: набегавшись за старшими, входила в комнату Малыша, где он уже два часа лежал один в своей кроватке. Но не плакал, не жаловался – сосредоточенно играл с погремушкой. Я брала его на руки, он улыбался и жмурился, как котёнок. И никогда не плакал.
Между тем на улице Девочек каждый успел вынести мне соболезнование по поводу рождения третьего сына.
– Ты, главное, не сдавайся! – сказала Женя из квартиры сверху. – На четвёртый раз обязательно повезёт!
Ни верхняя Женя, ни другие соседи – нижние, боковые, ближние и дальние – никогда не поверили бы в то, что я смирилась с жизнью без девочки. Ведь дочь в наше время – это хоть какая-то гарантия того, что о тебе будут заботиться в старости, что ты не умрёшь от одиночества, пытаясь дотянуться до тумбочки, где стоит пресловутый стакан воды (так и умрёшь – с протянутой рукой). То, что раньше было прерогативой сыновей, нынче отошло к дочерям. Рассчитывать на мужчин бессмысленно и несовременно. За последние сорок лет мы так их изнежили и избаловали, что теперь осталось лишь рожать себе подобных и взваливать на хрупкие плечи груз надежд, под которым ломаются мужские хребты.
Гуляя с коляской, где сидел Малыш, разглядывая птичек и бабочек, я размышляла о том, кто лучше – мужчины или женщины? Ведь если мы всерьёз сравниваем мальчиков и девочек, то это сравнение должно развиваться дальше, расти, так сказать, во времени. На улице Девочек мужчин ценили как добытчиков, защитников, ну и просто для того, чтобы были в хозяйстве. Но если требовалось что-то серьёзное, женщины всегда шли за помощью к женщинам.
Я так много думала об этом в то время, что даже обзавелась складкой между бровей, которую мой косметолог назвала заломом. Ещё одна мамина подруга, химик по образованию, посоветовала выбросить из головы всякую дурь:
– Тебе надо абсорбироваться от этих мыслей!
Я «абсорбировалась». Записала старших мальчиков в футбольную секцию, но их выгнали оттуда уже через неделю. Детский спорт сегодня не имеет никакого отношения к педагогике – тренерам нужен результат, а не возня с чужими неуправляемыми отпрысками.
Тут как раз подошло время менять заграничный паспорт – и я поехала в ОВИР, где принимали строго по записи, но очереди клубились и разветвлялись, как кровеносные сосуды на анатомических рисунках.
Старшие сыновья были в детском саду.
От улицы Девочек до улицы Крылова – не ближний свет, поэтому я забрала со стоянки машину и посадила на заднее сиденье Малыша. Пристегнула ремнём безопасности. Дала в руки игрушку – любимого кролика с изжёванным левым ухом. Малыш только начинал говорить – и чаще делал это шёпотом, как будто сам стеснялся своего сильного, не по возрасту, голоса.
Улица Крылова – кривая и узкая – была с обеих сторон оторочена запаркованными машинами. Они тянулись ровными, как пришитые тесёмки, рядами, в которых не имелось ни малейшего просвета. Владельцы автомобилей, вне всякого сомнения, стояли в очереди за новыми паспортами. Мы с Малышом ездили вверх и вниз, сколько могли, но когда времени уже совсем не осталось – я была записана на час ровно, – свернули на газон и поставили машину под окнами пятиэтажного дома.
Здесь надо сказать, что я не верю ни в проклятия, ни в гороскопы, ни в колдовство, ни в магию. Я их никогда не трогала, а они – меня. Мы делали вид, что друг друга не существует, и это всех устраивало. До поры до времени. Потому что, как говорит мамина подруга-профессор, всё когда-то случается впервые.
Из окна квартиры на первом этаже выглянула лохматая тётка, окинула нашу машину злобным взглядом – и выразительно произнесла:
– Да будьте вы прокляты!
(Не какое-нибудь вульгарное «вашу мать» или «да задолбали уже», а вполне себе литературное проклятие!)
Я как раз доставала Малыша с заднего сиденья, и тёткино проклятие, отскочив от моего неверия, угодило прямиком в сына.
Тёткины слова меня не слишком расстроили – мало ли сумасшедших обитает в уральских пятиэтажках, да и вообще, как говорит мамина подруга-химик, на каждый чих не наздравствуешься. Пока что я обнаружила, что мы забыли в машине любимого кролика, – поняла это на полпути, но возвращаться не стала. В проклятия я не верила, а вот в плохие приметы – получается, что да.
Малыш сидел у меня на руках и благожелательно разглядывал унылый пейзаж. Я всех своих детей таскала на себе до тех лет, пока могла их поднять и удержать, – и ощущение пустых рук преследует меня до сих пор.
Проклятие следовало за нами по пятам. Просочилось в дверь, которую галантно придержал для нас сезонный таджикский рабочий. Скользнуло в нужный коридор. И, когда я посадила Малыша на диванчик, чтобы занять очередь на получение, оно уселось с ним рядом, как заботливая старшая сестра, которой у моего сына не было.
Передо мной стояли всего лишь два человека, записанных на то же время. Я повернулась к Малышу, чтобы он видел, что я здесь, в очереди, и не волновался – и в тот самый момент мой никогда не плачущий сын вдруг зашёлся в крике.
Потом он посинел и начал задыхаться.
Я бросила прямо на пол сумку, где лежали документы, совсем недавно казавшиеся такими важными. Подбежала к Малышу:
– Ты что-то проглотил?
Он кивнул и захрипел с новой силой.
На диванчике в ОВИРе валялись гвоздик и разогнутая скрепка – гвоздик Малыш сунул в нос, а скрепку проглотил так, что она встала на распорку в трахее.
Всё это я узнала потом. А тогда стояла посреди зала беспомощным соляным столпом, и вокруг меня клубились какие-то люди. В основном это были мужчины. Один, судя по всему, подобрал мою сумку с пола и получил паспорт в окошечке (позднее я нашла его в сумке) безо всякой доверенности. Другой вызвал «скорую». Третий орал на меня, чтобы я взяла себя в руки и перестала рыдать. Четвёртый дрожащими руками дал Малышу свой дорогущий телефон, пытаясь отвлечь его какой-то игрой – чтобы цветные компьютерные человечки остановили в дороге проклятие и смерть.
Человечки справились.
«Скорая» увезла нас очень далеко от Улицы Девочек. В детскую многопрофильную больницу номер девять, ту, что на краю леса. Огромную, как город.
Малышу срочно сделали рентген.
– Чемпион, – с уважением сказал рентгенолог. – Сразу два посторонних предмета, такого я давно не видел.
– Скрепку будем доставать по-другому, – сказала хирургиня. В операционную я несла Малыша на руках, он хрипел не останавливаясь, но дышал, пусть прерывисто, но всё-таки дышал. Гвоздик хирургиня – высокая худая женщина – достала из носа ещё во время осмотра и отдала его мне, по доброй врачебной традиции завёрнутым в бинтик. На память.
– А как она там держится? – с интересом спросила ассистентка или, может, практикантка, идущая позади нас с Малышом.
– После вскрытия узнаем! – весело ответила хирургиня, и я развернулась к ней так, что ножки Малыша описали дугу в воздухе.
– Это вы про моего сына? – спросила я, чувствуя, как зарёванные глаза заливает кровью.
– Нет, – глядя мне в лицо, соврала хирургиня. – Не волнуйтесь, мамочка, всё будет хорошо.
Я ждала его в палате, и мне казалось, что прошла целая вечность – ну или как минимум час. Я забыла, что у меня есть другие дети, и когда муж позвонил мне, сбросила звонок – просто не знала, что ему сказать.
Малыша принесли через десять минут, он крепко спал, проживая свой первый наркоз. Хирургиня достала скрепку через рот, не повредив трахею, даже не поцарапав её. Разогнутое орудие убийства, как и гвоздик, было завёрнуто в бинтик.
– Не представляете, как вам повезло, – сказал мне впоследствии наш педиатр. – У Кондаковой золотые руки, никто больше так не смог бы. Но она редко дежурит, просто чудо, что вы попали в её смену!
Кондакова заглянула к нам на следующий день, сказала, что не видит смысла больше держать нас в больнице.
– Зачем скрепку ел? – сурово спросила она у Малыша на прощание.
– Кушать хотел, – шёпотом ответил сын.
Мы живём на улице Девочек. На самом деле у нее другое название, а улицей Девочек её придумал называть мой младший сын. Ему сейчас шестнадцать – он высокий, сероглазый, в хорошем настроении похож на молодого Костолевского, в плохом – на Мэла Гибсона. Когда я смотрю на него, то не могу себе представить, как когда-то носила его на руках. Но всё-таки это тот же Малыш, который живёт в моих воспоминаниях – о том, что было так недавно и забылось так легко, хоть и было пришпилено заржавленной скрепкой прямиком к памяти. И для верности прибито гвоздиком.
Кресло справа
Екатеринбург – Москва в понедельник, Москва – Екатеринбург в пятницу, каждую неделю, кроме праздников и отпуска. Регистрация на ваш рейс открыта, выберите место. Первые ряды, места у окна и в проходе занимают сразу же. Чуть-чуть зазевался или, например, связь пропала на минуту – вот и бери, что осталось. Вы успешно зарегистрированы, пожалуйста, распечатайте посадочный талон.
Первые ряды не люблю – там пассажиры с младенцами. Идеально – девятый у окна или у прохода. И не дальше двенадцатого.
Много лет один и тот же рейс, два аэропорта – Кольцово и Шереметьево, Кольцо и Шарик. Получается, что именно круг, а не восьмёрка – символ бесконечности. По крайней мере, для меня. Повторяется всё: аэроэкспресс, номер выхода, текст, который произносят пилоты (кто, интересно, научил их верить в то, что полёт способен доставить удовольствие?), турбулентность, очереди в туалет, время в пути, погода, сэндвичи, самолёты, очень редко – стюардессы и почти никогда – попутчики.
Сегодня вечер пятницы, моё место 9C, выход на посадку 14, терминал D. Хорошо, что не надо спускаться вниз по лестнице к выходам 1–2, значит, будет трап, а не автобус. Никто не любит автобус, там или холодно, или душно, всегда нужно долго ждать и некуда пристроить ручную кладь. У меня с собой небольшая сумка на колёсиках, жена подарила на день рождения несколько лет назад. Она предпочитает практичные подарки.
Пока всё по расписанию. Рабочая московская неделя завершилась три часа назад, впереди – два выходных. В воскресенье – день рождения сына, он сказал, что пойдёт в кино с друзьями, а потом они поедят в «Бургер Кинге». Ему подарят деньги в конвертах – теперь у подростков так принято. Если подарят тысячу, ты тоже потом в ответ понесёшь тысячу. Ваня Малков обычно дарит две, а Серёжа Банных – пятьсот рублей. Сын заранее знает, сколько денег выпадет из подаренных конвертов; исходя из этого он планирует, на что их потратить, – а иногда, подозреваю, увеличивает число приглашённых для того, чтобы довести общую сумму до нужной.
На мой взгляд, это слишком. Жена считает иначе:
– Интересно, а какой ещё сын мог родиться у финансового консультанта?
(Какой угодно.)
Спросил сына, может, он хочет в этом году получить какой-то особенный подарок от меня, в конце концов, ему исполняется шестнадцать. Наручные часы?
– Зачем ему? – встряла жена. – Он время на телефоне смотрит.
(И не только время. Жене лучше не знать, какие у него там видео. Я случайно наткнулся – и оторопел. В шестнадцать лет лично я был намного скромнее.)
– Лучше деньги, пап. Если тебе не сложно.
– Деньги – это всегда сложно, – заметила жена.
Московские коллеги спрашивают: тяжко тебе летать домой каждую неделю? Устаёшь, скучаешь по близким, ну и вообще, жить на два города – это же так неудобно!
Я соглашаюсь: да, неудобно, скучаю и устаю. На самом деле всё это ложь, которую я озвучиваю только для того, чтобы не разочаровывать коллег.
В Москве мне снимают квартиру, в которой есть всё, что нужно для жизни, и даже больше.
(Что может быть больше жизни?)
Я, который в Екатеринбурге, ничем не похож на того меня, каким я становлюсь в Москве. Превращение осуществляется в тот момент, когда я вхожу в здание аэропорта Кольцово и ставлю сумку с колёсиками на ленту. В тот самый момент она и начинается – моя свободная, лёгкая, счастливая жизнь. Да, на восемьдесят процентов она состоит из работы – трудной и несвободной, но мне это подходит. Когда я отдыхаю, то перестаю понимать, что происходит вокруг. Поэтому даже в выходные стараюсь загрузить себя делами – другими, домашними. Глажу бельё, которое семья стирает на протяжении недели, наливаю бокал вина, включаю какой-нибудь фильм – и вперёд. Складываю выглаженное аккуратными стопками – футболки сына, постельное, полотенца. Это похоже на возню с цифрами, хотя, конечно, далеко не так приятно.
Тёща полагает, что орудовать утюгом – немужское занятие. Сын просит заранее предупреждать его, когда я буду гладить, – а то вдруг он придёт домой с друзьями, и те застанут эту жуть. Ну а жена считает, что ей хоть с чем-то повезло!
– Уважаемые пассажиры, вылетающие рейсом таким-то в Екатеринбург. Номер выхода на посадку изменён. Новый номер выхода – один.
Ну вот, будет автобус. Вместе с другими пассажирами поднимаюсь с тёплого, насиженного места. Иду мимо кафе и ресторанчиков, где пахнет разогретой пищей, мимо парфюмерных магазинов, откуда несёт духами, мимо туалета, где, видимо, курит какой-то смельчак, рискующий заплатить штраф за удовольствие. В сувенирном магазине поменяли рекламу – в прошлую пятницу её не было.
Рядом со мной идёт женщина с чёрным рюкзаком, и этот рюкзак ей, как мне кажется, слегка не по возрасту. Как и чёрные кроссовки на белой подошве, и узкие джинсы, и наушники. Я заметил эту женщину, ещё когда сидел у выхода номер 14. Она хороша собой, она прекрасно выглядит для своих (точнее, для наших, уверен, мы ровесники) лет, но при этом вызывает у меня сходное чувство с тем, когда я вижу явную ошибку в отчёте – или двойную стрелку на брюках, которую сам же сдуру и загладил.
Как сказал один поэт, воспоминания которого я начал читать в понедельник, «наши ровесницы всегда старше нас», но это не тот случай. Спутница пытается обогнать меня при ходьбе, но в то же самое время она хочет отстать от нашего общего возраста, который, увы, непригоден для многих поступков. Мне уже никогда не решиться, к примеру, на развод, переезд и увольнение, даже на то, чтобы отпустить бороду!
(Остаются слова, невыглаженное бельё, самолёты и, к счастью, цифры.)
Хорошо, что я думаю об этом, только когда остаюсь один.
Женщина тем временем обгоняет меня, и, глядя на её спину, где подпрыгивает чёрный кожаный рюкзак, я вдруг понимаю, откуда взялось это чувство ошибки. Женщина похожа на мою знакомую из ранней юности – тех странных быстрых лет, когда каждый новый день мог изменить целую жизнь навсегда (сейчас каждый новый день – это логичное продолжение вчерашнего, и даже хаос в нём имеет строгий порядок). Она похожа на Машу, но не может быть ею. (Или может?) Говорили, что Маша ещё в девяностых уехала туда, куда все рано или поздно уезжают. (Кроме меня: ведь кто-то должен оставаться, чтобы сохранить баланс.) Вроде бы в Израиль. (Или в Чехию.)
Маша, моя однокурсница, была прекрасным, а для девушки – так прямо одарённым математиком. И, что редко происходит в случае такой одарённости, она была красавицей. Блондинка, серые глаза, тонкие черты лица. Над верхней губой справа – аккуратная родинка.
Я пытаюсь обогнать спутницу, чтобы проверить, есть ли у неё аккуратная родинка справа над верхней губой, но она уже спускалась вниз на эскалаторе. (Не устаю удивляться терминалу D – к выходам 1–5 спускаешься на эскалаторе, а вверх надо идти по лестнице пешком.) Я иду следом, надеюсь сесть рядом, но не нахожу вообще никакого места – одновременно в накопителе собрались пассажиры трёх разных рейсов, все кресла заняты.
«Маша» (пусть будет хотя бы в кавычках), как подросток, села прямо на пол у стены – распутывала провода, подключая плеер к розетке. Я прошёл мимо как бы невзначай – посмотрел: родинки не было. Но мне показалось, что на том самом месте над губой у «Маши» – тонкий розовый шрам.
Объявили посадку на мой рейс, и у ворот тут же вырос длинный хвост очереди. «Маша» никуда не торопилась, сидела на полу, прикрыв глаза, и я подумал: может, она летит другим рейсом, и то, что она пошла вместе со мной к воротам сразу после объявления, – всего лишь совпадение, каких в жизни множество?
У меня льготный «золотой» уровень, я могу проходить на посадку без очереди, но не в этот раз. Дождался, пока от ворот отъедет первый автобус и сотрудники начнут проверять посадочные талоны у второго хвоста, уже не такого длинного, как первый. «Маша», не торопясь, отсоединила провод от розетки, убрала его в рюкзачок и легко поднялась на ноги: лёгкость соответствовала тем цифрам возраста, на которые она претендовала.
Я занял очередь прямо за ней и попытался прочитать фамилию в посадочном талоне, который она вложила в паспорт. Фамилии, как назло, видно не было, имени – тоже. Я даже не мог понять, какой у неё паспорт – российский или иностранный, потому что он был в обложке. И обложка также не сообщала ровно никакой информации – была чёрной, кожаной, как будто сделанной из остатков рюкзака.
Я понадеялся, что успею заглянуть в её паспорт или в посадочный талон, когда сотрудник авиакомпании будет отрывать от него правую часть, но «Маше» вдруг махнули из соседней очереди, где пропускали бизнес-класс и льготников: «Девушка, проходите сюда!»
Торопились, чтобы не задержать рейс, так что я вновь ничего не увидел.
В автобусе мы стояли на отдалении друг от друга, но я видел, что «Маша» надела серую шапочку с меховым помпоном и плотно завязала шарф. Было вначале очень холодно, потом нестерпимо жарко, как всегда. Везли нас долго, и кто-то из пассажиров предположил, что мы поедем в этом автобусе прямиком до Екатеринбурга – шутка, которая сопровождает каждый рейс. «Маша» криво улыбнулась и прибавила громкости в плеере. Я держался за петлю, висевшую на поручне, сумка стояла на полу.
Потом нас долго не выпускали, а когда наконец дверь распахнулась, живое содержимое автобуса вывалилось наружу, как начинка пирога.
Всем хотелось как можно скорее занять своё место, взлететь, полететь, долететь и забыть про этот полёт.
На трапе мы с «Машей» вновь оказались вместе: она сняла наушники и, перед тем как взойти на борт, перекрестилась.
– Девять «бэ», – улыбнулась «Маше» стюардесса, носившая на затылке чёрный волосяной валик. (Такая причёска теперь в моде у молодых девушек: напоминает несъедобный пончик.) Мне досталась такая же точно улыбка и слова:
– Девять «це», добро пожаловать на борт!
На месте 9А уже сидел пассажир – миниатюрный китаец, который успел не только пристегнуться ремнём, но даже уснуть в ожидании вылета. «Маша» бросила на сиденье свой паспорт (страницы вроде красные) и сумку, потом сняла пальто, сложила его подкладкой наружу и убрала на багажную полку вместе с рюкзаком. Свитер немного задрался, обнажив на секунду плоский загорелый живот.
(Возможно, что она действительно моложе меня, а не просто хорошо сохранилась.)
Я убрал сумку, достав из неё предварительно воспоминания поэта, а также телефон, планшет и наушники. Потом сел рядом с «Машей» и пристегнулся.
От неё пахло духами – слегка старомодными, сладкими. Похожие были у моей бабушки – они так долго стояли на полочке трюмо, что стали густыми, как подсолнечное масло, и такими же точно жёлтыми. Не помню, как они назывались.
«Маша» достала из сумки книгу – она тоже была в обложке, как и паспорт.
С настоящей Машей из давних студенческих лет, которые мне представляются сегодня залитыми солнечным светом, мы вряд ли сказали друг другу хотя бы пару слов. Она меня упрямо не замечала, хотя я был одним из лучших студентов потока и вскоре, перешагнув через курс, учился уже совсем с другими людьми. Машу встречал в коридорах, но, по-моему, мы даже не здоровались.
А ведь она мне нравилась, по-настоящему нравилась, просто духу не хватало подойти и сказать ей об этом. Я тогда боялся девушек, как филологи боятся интегралов. Она мне нравилась намного сильнее моей будущей жены, с которой я познакомился на третьем курсе, – супруга моя обладала средними способностями к точным наукам, но её выручали три великих «у» – усердие, упрямство и усидчивость. Она всегда очень хорошо понимала, чего ей хочется и как это можно получить. Подошла ко мне сама, в октябре, пятнадцатого (этот день мы теперь отмечаем как рождение нашей семьи), – и попросила объяснить ей задачу, с которой Маша справилась бы за минуту. Я объяснил. Она поблагодарила меня и пригласила в гости – в общагу на Большакова. Я знал, что Маша тоже живёт в общаге, и пошёл на Большакова, втайне надеясь, что встречу её там. Но не встретил и уже через полгода женился.
Мои родители были против нашего брака, они считали, что девушка выбрала не меня, а квартиру на проспекте Ленина, но вскоре полюбили невестку чуть ли не сильнее дочери, которой у них к тому же не было. Она оказалась практична, основательна, надёжна. Варила суп с клёцками и умела делать лечебный массаж. Вот только забеременеть долго не могла: наш сын, кумир деда и бабушки, родился через десять лет после свадьбы.
Маша, как я уже говорил, пропала из поля зрения в девяностых – кто-то из общих знакомых сказал, что она уехала в Чехию (или в Израиль).
Не могу сказать, что вспоминал её все эти годы, – но сейчас, когда мы сидели рядом на креслах 9В и 9С, выяснилось, что никаких этих лет и не было. Вся моя жизнь, поделенная на два города, была лишь сроком, который я отбывал между двумя аэропортами, – только для того, чтобы встретиться с женщиной, не придававшей моему существованию ровно никакого значения.
И точно как в юные годы, я не мог вымолвить и слова. Надо бы спросить, как взрослый человек спрашивает у взрослого человека:
– Простите, пожалуйста, вы случайно не Мария?
Вдруг она ответит, улыбнувшись:
– Случайно – Мария!
И даже если буркнет, что нет, – не беда: все иногда ошибаются. В прошлом месяце в вагоне метро на меня пристально смотрела одна женщина, а потом извинилась, сказав:
– Вы очень похожи на одного моего знакомого.
Она вышла из вагона, оборачиваясь, в полном смятении.
Я должен был всего лишь спросить соседку из кресла справа, не училась ли она случайно в 199… году в Уральском государственном университете, но почему-то не мог этого сделать и только поглядывал на неё искоса. «Маша», судя по всему, была не из тех, кто чутко реагирует на чужой интерес, – она читала книгу, не отражая моих взглядов. Ни шрама, ни родинки видно не было – судьба, усадив нас рядом, перепутала кресла.
Пилот сообщил по громкой связи, что воздушному судну нужно пройти противообледенительную обработку, и часть пассажиров расстегнула ремни, заново включив телефоны.
Стюардессы бегали туда-сюда, проверяя багажные полки. На полу валялась смятая салфетка, но её никто не замечал, и тогда я поднял салфетку и спрятал в карман впереди стоящего кресла.
Через проход от меня сидела женщина с котом – в прорезях переносной клетки мелькала время от времени недовольная пушистая морда. Впереди блестела чья-то свежевыбритая лысина. Сзади две дамы оживлённо обсуждали проблему лечения артроза коленных суставов.
Мне везёт на интересных попутчиков – одно время я даже подумывал о том, чтобы записывать самолётные истории, но как-то не собрался. Помню, летел рядом с одним известным артистом – почему-то он сидел не в бизнес-классе, а в экономе, первый ряд, место 4B. Я подумал, что артисту не хочется, чтобы его узнавали случайные попутчики, – и поэтому сделал вид, что не понял, кто это сидит рядом со мной и хлещет пиво из банок одно за другим. (Пустые банки он бросал на пол, и те гремели по всему салону, как в американском фильме про молодожёнов.) Но артист почему-то занервничал и осторожно задал мне какой-то вопрос общего характера, а я ответил ему вежливо, но сдержанно, как любому другому попутчику. Тогда он достал из кармана пиджака зеркальце и долго смотрел на своё лицо, так что мне стало его жаль, и я попросил автограф. После этого артист сразу же успокоился и уснул крепким сном.
В другой раз я летел вместе с многодетной семьёй. Мама довольно неформального вида держала на руках младенца, завёрнутого в кусок ткани (не помню, как он называется), и крепко спорила со стюардами, когда они сказали, что ребёнка следует пристегнуть. Рядом с ней сидели девочка лет девяти и мальчик-подросток. Они занимали целый ряд, а через проход, рядом со мной сидел, как я понял, ещё один сын этой неформальной женщины – ему было лет семь, и он, судя по всему, обладал незаурядным интеллектом. Сначала он достал из сумки кубик Рубика и собрал его секунд за двадцать. Потом погрузился в изучение биографии Эйнштейна на планшете и читал её, задумчиво ковыряя в носу, пока не объявили посадку. Мама, перегнувшись через проход, то и дело предлагала юному гению подкрепиться и поглядывала на меня с выражением законной гордости на лице. А мальчик делал вид, что он не знаком ни со своей мамой, ни с другими членами семьи.
В прошлом месяце позади меня летел пухлый обкуренный юноша. Это не мои домыслы, что он обкуренный, а его чистосердечное признание, сделанное попутчице, – он долго и подробно рассказывал ей свою печальную историю. Начал ещё до взлёта:
– Из Швейцарии возвращаюсь, мля. Родители платили, чтобы я там учился, а я вот не учился. Я курил, мля. И меня выгнали. А они очень большие деньги за меня платили, мля, реально большие. Вы таких денег никогда, наверное, не видели…
Попутчица молчала, и юноша продолжал свой монолог, одновременно шурша какими-то пакетиками. Он очень громко шуршал и громко говорил, я только потом понял, что он собирался раскурить косяк в туалете, лишь только погаснет табло «пристегните ремни». Попутчица – она была иностранка и навряд ли поняла хотя бы слово юношеской исповеди – подскочила с места, когда самолёт ещё даже не набрал высоту, и пулей понеслась к стюардессам.
– Женщина, вернитесь на место! – сказали ей стюардессы. – Мы находимся в вертикальном полёте.
Тогда мне пришлось вмешаться, объяснить девушкам, что иностранка не хулиганит, а всего лишь пытается предотвратить ЧП на борту. Вызвали старшего бортпроводника, он строго поговорил с обкуренным пассажиром, и тот замолчал – но ненадолго. Всего через пятнадцать минут достал из сумки коньяк и начал предлагать его изумлённому мужчине, сидевшему через проход. На вид этому мальчишке было лет шестнадцать – ровесник сына.
Из последних по времени перелётов особенно запомнились две раскрепощённые девушки – одна красила ногти на ногах, другая выщипывала брови. Я вспомнил слово «бровист», всерьёз произнесённое женой, – оказывается, теперь существует и такая профессия. Очень, говорят, востребованная в горных республиках бывшего СССР.
Однажды рядом со мной сидела нарядная дама – вся в каких-то бантах и рюшах, она решала задачи из шахматного учебника Ласкера. А в другой раз я встретил своего двойника – то есть мы были с ним совершенно непохожи, но он вначале достал из сумки такую же точно книгу, какая была с собой у меня, потом играл в компьютерную игру на телефоне – ту единственную, что мне нравится, и телефон у него был точно такой же – в общем, всё это выглядело каким-то странным вывертом, какие Вселенная устраивает исключительно ради собственного удовольствия.
А, ну и ещё был поистине незабываемый полёт с хасидами – когда рейс задержали на пять часов и мы встречали рассвет в воздухе, они дружно встали с места и начали молиться, приматывая к рукам свои ремешки, и моя соседка – деревенская бабулька – перепугалась, что это теракт и сейчас при помощи этих ремешков и коробочек самолёт взлетит на воздух…
Православный батюшка разгадывал кроссворды, мормон плакал в голос, когда самолёт не мог зайти на посадку, а католическая монахиня угостила меня мятными конфетами. Все они были однажды моими соседями, кратковременными попутчиками, оставившими в памяти не глубокие следы, а лёгкие царапины, как на фольге от шоколада, если разглаживать ногтем…
Пока я предавался воспоминаниям, соседка справа легонько тронула меня за рукав:
– Извините, мне нужно выйти.
Я поднялся с места. Она пошла в конец салона.
А сумку оставила в кресле.
Я огляделся. Женщина с котом спала, некрасиво раскрыв рот. Кот бодрствовал, глаза его сверкали, и смотрел он на меня без всякой симпатии. Китаец у окна по-прежнему дремал, припав головой к иллюминатору. Пятница, вся планета устала.
Стюардессы со своей тележкой, содержимое которой я знаю наизусть, ещё даже не вышли на тропу обслуживания.
Я сам не понимал, что делаю, – просто опустил руку в чужую сумку. Хотел достать паспорт, а вытащил – кошелёк. Красивый кожаный кошелёк бордового цвета из мягкой кожи – довольно туго набитый.
Сзади раздался топот очередной стюардессы – те из них, кто носят каблуки, особенно громко топают.
Я вернул кошелёк на место, а стюардесса протопала мимо.
Больше я на сумку не покушался, хотя соседки не было довольно долго – наверное, очередь в туалет.
Она мило извинилась передо мной, скользнув на своё место.
Нам принесли напитки и сэндвичи. От еды «Маша» отказалась, взяла томатный сок с лимоном. Я попросил стакан воды и выпил его залпом.
В салоне выключили свет. Теперь почти все, даже кот, уснули – лишь над несколькими креслами светились круглые глазки лампочек индивидуального освещения.
Я редко сплю в полётах, и тем более не смог бы уснуть сегодня.
Вдыхая слабый аромат духов, долетавших до меня из кресла справа, я думал о том, что жизнь похожа на компьютерную игру, где ты сразу и автор, и единственный игрок. Может, у кого-то происходит иначе, но я давно ни с кем не обсуждаю и не сравниваю свою жизнь. То, какой она могла бы стать, и то, какой она стала. Я совершаю заранее спланированные действия, зная, какой результат получу – он может быть более или менее интенсивным, лишь в этом разница. Я перехожу из одного дня в другой, как с уровня на уровень, где победой становятся вечер пятницы и эсэмэс о зачислении зарплаты.
Когда случаются сбои (болезни, задержки рейса, эвакуация аэропорта и так далее), это меня раздражает, но даже хаос, как я уже говорил, имеет свой строгий порядок.
Я помню, когда понял это впервые – что хаос имеет свой строгий порядок. Мы тогда были с женой в Америке, в природном парке Эверглейд. Неслись по болотам на лодке с воздушным винтом, а рядом с нами коричневые аллигаторы плавали в мутной воде, как гигантские солёные огурцы в рассоле.
– А что будет, если они решат на нас напасть? – спросила жена у нашего гида, загорелого красавца в тёмных очках.
– У меня есть строгая инструкция даже на самый невероятный случай, – заверил её красавец. – Предусмотрено всё!
Хаос, как я теперь думаю, в жизнь приносят не чрезвычайные ситуации, регламентированные – или нет – инструкцией. Хаос – это когда ты потерял все пройденные уровни разом, откатился к самому началу игры и теперь думаешь: правильно ли я жил до сих пор? Может, где-то рядом была другая возможность, маячило другое решение – то, которого ты не заметил, или заметил, но счёл уж слишком неказистым или, наоборот, сложным. А сейчас вдруг видишь, как всё могло бы получиться, имей ты лишь чуточку больше смелости.
– Уважаемые пассажиры, командир корабля включил табло «Пристегните ремни». Мы завершаем обслуживание и начинаем готовиться к посадке.
В салоне включили свет, кот возмущённо мявкнул.
– Помните, как раньше летали? – спросила вдруг «Маша». Я кивнул, что помню, но по-прежнему боялся на неё взглянуть. – Никто так не досматривал: ни пассажиров, ни вещи. И в самолёт шли пешком. И можно было курить на борту…
Она улыбнулась:
– Ой, я помню, как в юности мне срочно нужно было в Москву, а билетов не было. Так мне одна девочка назвала имя сотрудницы аэропорта – Таня Позднякова, как сейчас помню, – и меня от этой Тани бесплатно посадили на рейс! Представляете?
«Маша» улыбалась, а самолёт тем временем начал снижаться – его слегка потряхивало, потом стало трясти сильнее, так что одна из стюардесс, собиравших мусор, чуть не упала, и где-то впереди заплакал ребёнок, повторяя:
– Мы падаем, мама, мы падаем!
– Можно я возьму вас за руку? – поспешно спросила Маша (кавычки отпали за ненадобностью – она повернулась ко мне, и я увидел розовый шрам над губой справа). Она боялась летать и поэтому лихорадочно болтала с незнакомым человеком (не подозревая о том, что мы знакомы – при условии, что это всё же моя однокурсница и я не ошибся), лишь бы отвлечься от страха.
Ладонь её была холодной и влажной.
– Обычно я не пристаю к мужчинам, – продолжала соседка, жмурясь от каждого нового толчка самолёта, как от спазма в желудке, – но мне действительно очень страшно! Извините!
– Это боковой ветер, – сказал я. – Всё будет хорошо, обещаю. Сядет как миленький.
Вот идиот! Надо было спросить, как её зовут, а не объяснять, откуда ветер дует.
Самолёт дважды заходил на посадку, и дважды безуспешно. Уже видна была посадочная полоса, но мы снова поднимались, набирали высоту, кружились над городом и снова снижались. Лишь на третий раз борт приземлился – с такой силой и грохотом, как будто не совершил посадку, а ударился оземь, чтобы, как в сказке, обернуться кем-то другим. Во время руления его шатало во все стороны, как пьяницу. Пассажиры аплодировали. Маша отпустила мою руку, теперь её ладонь была горячая, а моя – холодная.
– Наш самолёт совершил посадку в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга. Просим вас оставаться на своих местах…
Но все уже начали отстёгиваться, вскакивать с нагретых кресел, включать телефоны. Маша достала из сумочки помаду и пудреницу. Китаец наматывал на шею шарф.
Если я не решусь спросить её прямо сейчас, другого шанса не будет.
Подали трап. Всем хотелось как можно скорее выйти наружу, в проходе толпилась очередь. Маша никуда не спешила и раздражала этим китайца, давно готового к старту.
Я стал вытаскивать с багажной полки свою сумку.
– Рюкзак прихватите, пожалуйста, – попросила Маша. – Кожаный, чёрный.
Моя ценность в её прошлом равнялась нулю. Её ценность для меня измерялась крупными цифрами. А в сумме всё равно был ноль.
Из самолёта мы вышли вместе. Дружно кивнули бледненьким стюардессам. В зале выдачи багажа ходили пограничники с собакой – ирландским сеттером. Кто-то рассказывал мне о том, что все эти собаки, обученные находить наркотики, – самые настоящие наркоманы. Их сначала подсаживают на героин, а потом они ищут его, бегая по ленте багажа и обнюхивая чемоданы.
Сеттер был очень красивый. В моём детстве во дворе жил такой – его звали Ерофей.
– Ну, всего доброго! – улыбнулась Маша на прощание. – Ещё раз спасибо вам!
Кожаный рюкзак слегка подпрыгивал на её спине.
Я вызвал такси – и, пока ждал машину, смотрел на встречающих: их лица совершенно менялись, когда они видели того, за кем приехали в аэропорт. И лица тех, кто прилетел, тоже становились другими: счастливыми, красивыми и молодыми, даже у стариков.
Наверное, это очень приятно, когда тебя встречают.
Настоящее прошедшее
Каменные Палатки,
25 октября 1917 года
Дорогой Стивен Хокинг, здравствуйте!
Вот уж никогда не имела мысли писать вам, но если кто и сможет извлечь из этой истории хоть какую-то пользу, так это вы. Прежде всего, если это письмо попадёт к вам в руки, попрошу вас связаться с моей семьёй, проживавшей в октябре 2017 года в Екатеринбурге по адресу Сиреневый бульвар, дом 28, квартиру не помню. Моего мужа зовут Чернов Иван, отчества не помню, но у него своя фирма по доставке питьевой воды. Дети – школьники, Лариса (четырнадцать лет) и Александр (по-моему, десять лет). Сообщите им, пожалуйста, что я всегда их любила – и что на полке, где стоит Вальтер Скотт, спрятано в одном из томов четыреста евро. Кажется, в том, где «Уэверли». Ювелирный гарнитур «Фрай Вилле» может забрать моя сестра (имя не помню), если пообещает отдать его моей дочери Юлии, когда она подрастёт. Маме лучше ничего не рассказывать – всё равно не поверит.
Меня зовут Анастасия Чернова, и в прошлом месяце я пошла вместе с сыном Артёмом в организованный поход на Каменные Палатки.
Поход – это, конечно, громко сказано: мы не брали ни палаток, ни спальников, они там не нужны. Дорогой Стивен Кинг, у меня путаются мысли, и память прямо на глазах переменяется – думаю, это как-то связано с тем, что случилось 25 сентября во время нашего как бы похода.
Природный парк «Каменные Палатки» находится в черте города, и войти в него можно прямо с улицы Малышева – а выйти можно совершенно в неожиданном месте, точнее, времени (и, следовательно, месте). Я знаю, что вас, уважаемый Стивен Сигал, очень интересуют вопросы места и времени – об этом мне подробно рассказывал мой муж Евгений Белов. По образованию он физик, но вынужден зарабатывать на жизнь доставкой питьевой воды. Муж мне рассказывал про вашу вечеринку для путешественников во времени – и даже показывал фото, как вы сидите в комнате с приветственным плакатом, доказывая, что никакой машины времени не существует. Потому что иначе ваше приглашение, отправленное на другой день после вечеринки, добралось бы до адресатов – и они обязательно присоединились бы к вам за праздничным столом. Муж мне также рассказывал о «попаданцах», проваливающихся в кротовые норы, и о том, что Альберт Эйнштейн считал путешествия во времени возможными – они относятся к так называемым не решённым на сегодняшний день вопросам физики. А вы, я знаю, придерживаетесь мнения, что путешествовать если и можно будет, так только в будущее время, но никогда – в прошлое.
Дорогой Стивен Спилберг, к моему великому сожалению, машина времени существует – иначе как бы я перенеслась на сто лет назад безо всякого своего желания, объясните мне, пожалуйста! Кроме того, что мой муж Игорь Светлов – физик по образованию, у меня никаких интересов к пространству и времени не было.
Я, в общем, никогда не сомневалась в том, что каждому из нас даётся как раз то, что ему не нужно, – при том что другой человек (например, вы), наверное, всё отдал бы, лишь бы оказаться на его месте.
С удовольствием поменялась бы с вами местами – и особенно временами, дорогой Стивен Фрай, не сочтите за дерзость или издёвку. Просто хочется получить хотя бы какой-то плюс от своего дурацкого положения, в котором я нахожусь уже месяц и с которым начинаю смиряться.
Осенние походы происходят в нашей школе каждый год – считается, что дети в них сплачиваются, а родители имеют возможность подышать свежим воздухом и запомнить имя- отчество учительницы. Я знаю, о чём говорю, потому что сама до рождения своего сына Анатолия работала учительницей английского языка, – а потом, когда муж бросил науку и начал заниматься водой, дела пошли немного лучше, и я распрощалась со школой. Думала, что если вернусь когда-нибудь туда, так только в статусе родительницы. Так и получилось. Когда случился кризис, я стала немного подрабатывать репетиторством, откуда и взялись, собственно говоря, те самые 400 евро, которые лежат теперь в одном из томов Вальтера Скотта. Это я копила, чтобы сделать подарки своим детям к Новому году.
В классе сына меня из года в год выбирают членом родительского комитета, и это не так плохо, как вы могли бы подумать, дорогой Стив Джобс. Это позволяет присматривать и за родителями, и за детьми, и за учителями.
В родном для вас, дорогой Стивен Возняк, английском языке, который я, как видите, тоже немного знаю, существует такое время, как настоящее продолженное. С этим временем у детей обычно не бывает никаких проблем, намного сложнее объяснить им Past Continuous – прошедшее длительное. И ещё сложнее теперь мне самой объяснить, как должно называться время, куда я угодила в результате неосторожного поведения на Скальных Домиках в Тюмени 25 сентября. Вернувшееся прошедшее? Свершившееся настоящее? Или ушедшее будущее?
Можете не отвечать мне, дорогой Стив Бушеми, скорее всего, ваш ответ не застанет меня в живых, но я даже на том свете буду радоваться тому, что сумела внести некоторый вклад в науку и, пусть против своего желания и воли, столь успешно поработала над пока ещё не решёнными проблемами физики.
Я присматривала за поведением наших несовершеннолетних детей во время того самого похода – все они, включая моего сына Арсения, разбежались в разные стороны, штурмуя скальные останцы, называемые «каменными палатками». Эти скалы походят скорее на стопки гранитных блинчиков, сложенных так аккуратно, что гости города никогда не верят в их естественное происхождение. В прошлом году мой сын Антон делал проект по окружающему миру, для которого нам с мужем пришлось очень подробно изучить историю Каменных Палаток, расположенных сравнительно недалеко от озера Шарташ. Выйти к этому озеру было одной из целей нашего сентябрьского похода – вблизи воды дети обычно становятся немного спокойнее.
В стародавние времена скальные блинчики считались нечистым местом, некоторые учёные даже обнаружили на Каменных Палатках специальные углубления для жертвоприношений – в общем, гулять здесь жители старого Екатеринбурга не любили. Потом именно тут, на лоне природы и вечности, стали проводить свои маёвки пламенные революционеры во главе с Яковом Свердловым – и поэтому народ перестал бояться нечистого места, а, напротив, полюбил здесь отдыхать и прогуливаться. Скалы не такие высокие – на них интересно и легко забираться, вот только жаль, что в наше время они загажены довольно бездарными граффити. Я резко отрицательно отношусь к тем, кто расписывает стены и памятники природы, не обладая при этом выдумкой и вкусом. Не знаю, как у вас, дорогой мистер Стивенсон, но у нас это просто какая-то мания. И вы должны понять, почему я в тот день так возмутилась, увидев, что спиной ко мне какой-то человек – не из наших, взрослый! – царапает на камне очередную глупость. Я даже разглядела, что он пишет свою фамилию – «Чесноков», а выше уже выцарапана дата, которой я точно различить не могла.
Дети с учительницей и другие родители ушли вперёд по лесной тропинке, я была замыкающей – и должна была идти следом до Шарташа, – но решила высказать Чеснокову своё замечание. Мой муж Дмитрий Темнов постоянно указывает мне на недостаточную терпимость по отношению к чужим недостаткам, но лично я считаю самым большим недостатком неумение отстаивать свою точку зрения. Как же мы можем внушать детям необходимость заботы об окружающей среде (да ещё в Год экологии: им в России выбран 2017-й), если станем при этом молча глядеть на ущерб, который наносится ей несознательными гражданами вроде Чеснокова?
Я подошла к нему со спины тихонько и потом довольно громко спросила:
– И что это мы здесь делаем, молодой человек?!
Естественно, я решила, что это молодой человек, потому что людям зрелым и тем более пожилым просто не приходит в голову портить природу – наш общий дом.
Но когда Чесноков обернулся, я увидела с изумлением, что ему не меньше пятидесяти лет. Он приветливо осклабился, и я заметила, что по нему горько плачет клиника «Дентал-Сервис», где работает врачом-гигиенистом моя сестра Светлана.
Одет он был в чёрную кожаную куртку старомодного покроя, слева на груди прицеплен красный бант из простого полотна с необработанным краем.
А дата, которая была выцарапана на камне, оказалась 25 сентября 1917 года.
Я, как, безусловно, сделали бы и вы на моем месте, уважаемый Стивен Вайнберг, решила, что здесь снимается кинофильм – и я, возможно, помешала творческому процессу, чего ни в коем случае не желала. Хотя одета я была в тот день как раз уместно для съёмок – на мне были длинная юбка и сдержанный жакет (даже платок был со мной и впоследствии пригодился), потому как утром я посещала службу в храме во имя Святого Саввы Сербского, прихожанкой которого являюсь. Но всё равно мне стало неловко, и я извинилась перед этим «Чесноковым», сочтя его артистом, хотя никаких кинокамер вокруг не было.
Телефона в моём кармане тоже, к несчастью, не было – обычно я очень собранная, ответственная, но забыла его в тот день дома, на зарядке.
Я поспешно спустилась вниз и хотела найти дорожку, по которой наши дети ушли к озеру Тургояк, но никакой дорожки там не было, как не было и гранитного амфитеатра. Зато там находилась целая толпа народа – одеты все в тёмное, с красными бантами и удивительно достоверными, несовременными лицами! Если это была массовка, то директора по кастингу, или как он там называется, следовало отметить премией! Я внутренне пожалела о том, что дети этого не видят, – моему Алексею было бы очень интересно, не говоря о Зинаиде, которая с начальной школы мечтает сниматься в кино!
Меня особенно поразил актёр, исполнявший роль Якова Свердлова, – сходство было просто поразительное. Актёр был, правда, несколько маленький и худой – но на скале он стоял почти в той же позе, как памятник напротив оперного театра. Когда мы с мужем помогали Андрюше готовить проект о Каменных Палатках, то узнали о том, что этот памятник как раз и воспроизводит Свердлова в процессе революционной агитации близ Шарташа. И что постамент его мало того что символизирует собой скальное образование, так ещё и сделан из шарташского гранита! (Забыла уточнить, что вблизи озера добывали гранит, а также находили золото.) Правда, вот Свердлов в Екатеринбурге агитировал десятью годами раньше – в 1917-м он здесь бывать не мог, а значит, его в тот вечер здесь кто-то изображал, как для фильма.
Но я была так обрадована высоким качеством нашей кинопродукции, что начала аплодировать – хотя в обычной жизни не склонна к бурным проявлениям эмоций. Массовка тут же отозвалась на мои хлопки своими аплодисментами, и я решила, что всё-таки попала в кино, потому что актёр, игравший двойника Свердлова, сдержанно поклонился.
Уважаемый Стивен Тайлер, вы, конечно, догадались, что это было никакое не кино. В тот день я до позднего вечера пыталась найти наших детей на Иткуле – но пройти к озеру было нельзя, потому что кругом оказалось непролазное болото. А когда я вышла уже поздним вечером на улицу Малышева, там оказалось ещё хуже. Не было ни трамвая, ни машин, ни «Мегамарта», ни КОСКа, ни улицы Высоцкого, ни микрорайона, который мы ласково звали «Жебаёвник». Направо уходила неасфальтированная улица, вся в лужах и навозных кучах, какие бывали в моё время (настоящее стало сразу и будущим, и прошлым!) только вблизи зоопарка, где плохо воспитанные девочки держат на привязи лошадей и угрюмо спрашивают у прохожих:
– Ребёнка будете катать?
Лужи и кучи были видны на расстоянии вытянутой руки – а потом свет от единственного фонаря пропадал, и улица скрывалась в полной темноте.
Я, всё ещё на что-то надеясь, вообразила в тот момент, что у киношников полетела аппаратура и они оставили без электричества весь район, предварительно загадив его согласно своим творческим планам. Также я надеялась на то, что сошла с ума – это объяснило бы всё, что со мной случилось, а препараты сейчас подбирают щадящие и очень действенные (знаю это на примере моей собственной мамы).
Я сначала пошла не по Малышева, а прямо, по направлению к моему дому на Яблоневом бульваре, но довольно скоро убедилась, что никакого дома здесь не существует, а есть только лес и болото.
А потом меня дёрнула за руку какая-то женщина в пальто с меховым воротником:
– Что же вы, голубушка, так поздно одна бродите?
Я сказала, что заблудилась, что я не местная, – а что ещё оставалось? Попаданцы (не знаю, как перевести это слово на английский) ни в коем случае не должны правдиво рассказывать о том, что они путешественники во времени, – это мне объяснял сын Аркадий во время нашей совместной прогулки с собакой. Обычно я не вслушиваюсь в его рассказы о разных комиксах, играх и фантастике, но вот этот момент почему-то запомнила, как будто знала: он мне однажды пригодится.
Женщина приблизила своё лицо к моему так близко, что я попятилась. А она ахнула – и крепко схватила меня за руку.
Недавно муж скачал мне первый сезон сериала «Чужестранка» – там, на мой взгляд, слишком много эротики, но герои очень красивые, и речь идёт как раз о похожей ситуации, когда героиня перенеслась на двести лет назад. А я, получается, перенеслась на сто – и ни раньше ни позже, а в самый канун революции!
Хорошо, что я с детства помню много революционных песен: выступала в ансамбле политической баллады.
Всё это стремительно проносилось у меня в голове, пока мы с этой женщиной тоже очень стремительно проносились по тёмным закоулкам и каким-то дворам. Ни рекламы, ни автобусов – попадались только извозчики: все с бородами, как хипстеры. Мы шли очень быстро и очень долго, пока не оказались наконец на более-менее освещённом участке Малышева, где в моё время будут построены торговый центр и магазин для охотников и рыбаков.
Женщина завела меня в красивый каменный особняк, который вроде бы стоит впритык к министерству культуры. И стала кричать какого-то Афанасия, чтобы он скорее к нам вышел.
Афанасий был высокий мужчина с бакенбардами. Когда он увидел нас, то стал протирать глаза и часто дышать.
– Вот, – сказала женщина, – гляньте, кого я нашла! Ходила одна-одинёшенька вблизи урочища «Палатки». Она ведь?
– Анна Григорьевна, где же вы пропадали? – спросил Афанасий с укоризной. – В такие дни разве пристало подвергать родителя ещё более скорбным испытаниям? Идёмте скорее!
И потащил меня вверх по лестнице, сунув той женщине в руку смятую ассигнацию.
Дорогой Стефан Цвейг, вы, конечно, знаете, что у каждого из нас есть двойники в прошлом и будущем – а у некоторых даже в настоящем, как у того «Свердлова» из урочища. Вот и я оказалась двойником неведомой мне Анны Григорьевны Долматовой, старой девы, проживающей вместе с отцом, д.с.с.[2], занимающим важный пост в городской думе Екатеринбурга.
Я догадываюсь, о чём вы подумали: старая дева Анна Григорьевна для соблюдения закона жанра и законов физики, скорее всего, проскочила в наше время, отмахнув сто лет в одну минуту. Она будет слоняться растерянно по кустикам вблизи Каменных Палаток, а потом к ней подбегут мои дети и уведут её к нам домой, на Вишнёвый бульвар. Препараты, как я уже говорила, сейчас назначают щадящие и очень действенные, так что её вылечат и вернут к нормальной жизни в неспокойном, но куда более удобном для жизни мире 2017 года. К тому же у неё будет муж с налаженным бизнесом и хорошим характером, дети-отличники и собака редкой породы ка-де-бо.
Молодец Анна Григорьевна – пришла на всё готовое, а мне оставила неразбериху 1917-го!
В сентябре моей дочери Леоноре задали написать сочинение для всероссийского конкурса. Тема: «Что бы я делал в 1917 году?». Требовалось отпустить на волю фантазию и рассказать, как бы ты жил, на чьей был бы стороне, поддерживал бы красных или белых. Первый приз в этом конкурсе был поездка в Санкт- Петербург, колыбель русской революции. Дочь очень серьёзно готовилась к сочинению, а мы с мужем ей помогали. Я взяла на себя поиск исторических фактов – и почти целую неделю работала в библиотеке, собирая различные факты о Екатеринбурге 1917 года. Хотя, если кратко выразить лично моё отношение к этому вопросу, я, ни секунды не сомневаясь, уехала бы за границу.
Лидия заняла в конкурсе третье место.
А в тот день, когда Афанасий (он служит у моего отца) тащил меня вверх по лестнице, в голове моей проносились различные фотографии, которые я отмечала в книгах закладками-стикерами, чтобы дочке было удобнее вдохновляться.
Советскую власть провозгласят 8 ноября в 7 часов утра в городском театре, известном теперь как оперный.
На другой день солдаты без единого выстрела займут почтамт и вокзал.
В Екатеринбург заявятся кронштадтские матросы, начнутся обыски и грабежи.
Через год привезут царя с семьёй из Тобольска и расстреляют их летом в Ипатьевском доме.
Потом в город войдут белочехи, приедет Колчак.
В общем, я достаточно насмотрелась на все эти фотографии, мелькавшие у меня в голове, как в книге, поэтому бросилась в ноги к величественному старику, шагнувшему из анфилады комнат, и крикнула:
– Папенька, давайте уедем, пока не поздно! В Париж, а лучше – в Лондон!
(Там я хотя бы объясниться смогу.)
Отец крепко обнял меня и сказал:
– Успокойся, Анна! Мы не можем бросить свою страну и свой народ.
Но я всё равно уговорю его, дорогой Стива Облонский, уговорю уехать из России, пока не поздно. У нас есть кое-какие сбережения, они позволят нам устроиться за границей.
Единственный плюс для того, кто переносится в прошлое из будущего, состоит в том, что ты хорошо знаешь, как будет развиваться история. Важно только не навредить здесь ничему – ведь прошлое такое хрупкое… Что будет, если семинарист Коровин не падёт жертвой революционного произвола? Если царь и его семья останутся в живых, а Колчак не уйдёт за Урал?
Я очень спешу с этим письмом, потому что память моя на глазах переменяется, – словно бы и я вправду становлюсь Анной Долматовой, незамужней дочерью действительного статского советника. Я уже не помню точно своей прежней фамилии, и даже вместо лиц моих детей в памяти зияют провалы, которые можно заменить любыми чертами… Вся моя бывшая жизнь видится отсюда сказкою: тот мир с освещёнными улицами, автомобилями и беспечными детьми в гимнастической обуви – да полноте, была ли она? Возможно, лишь привиделась мне в предрассветной грёзе?
Я даже не помню, зачем намеревалась вам писать, но знаю, что должна сложить готовое письмо в странный прозрачный конверт, похожий на слюдяной или сделанный из бычьего пузыря: он лежал у меня в кармане юбки тем днём, когда я заблудилась в урочище «Палатки». Такой конверт не пропускает воду, он очень вреден для экологии, потому что не разлагается на протяжении столетий. И если я спрячу его на Каменных Палатках, то рано или поздно письмо дойдёт по назначению.
Думаю, вы разберётесь, что с этим сделать, уважаемый господин Хокинг.
Остаюсь вашей покорной слугой,
Анна Долматова.
P.S. Письмо было обнаружено 25 октября 2017 года рядом с телом Анастасии Ч., скончавшейся в природном парке «Каменные Палатки» в результате неудачного падения со скалы: скорее всего, нога женщины застряла в жертвеннике. У погибшей – жены предпринимателя – остались двое детей-школьников.
Грибы по-узбекски
1.
Сороки гоняли ворон над кустами.
Сороки обитали во дворе уже несколько лет, а воро́ны появились недавно, вот им и давали понять, кто здесь хозяин. Лана вышла на балкон покурить и теперь смотрела на птиц, думая: тот, кто решает сменить место жительства, должен быть готов к оживлённому диалогу с теми, кто уже обитает на выбранной тобой части суши.
Вспомнила, как в апреле стояла здесь же с сигаретой – утром на газоне белел полустаявший сугроб, напоминавший своей формой Францию. К обеду он сократился до Швейцарии, вечером превратился в Ватикан, а на следующий день испарился, обнажив то, что здесь всегда и было, – русскую землю.
Воро́ны с позором отступили.
Лана потушила окурок в банке из-под тресковой икры, назначенной на должность пепельницы. Показалось, что дымит, – ещё раз достала окурок, проверила, чтобы не тлел. Она панически боялась пожара. А эта банка, стоящая на балконе, была свидетельством того, что в борьбе за здоровый образ жизни победил нездоровый. Лана многие годы отказывалась признаться, что курит всерьёз, – не заводила пепельниц, часто выбрасывала початые пачки, но в конце концов сдалась и принесла на балкон пустую банку из-под икры.
– Ты никогда не бросишь, – сказал ей недавно муж. – Ты размечаешь свой день сигаретами, как флажками, – куришь не для удовольствия, а чтобы отметить сделанное дело. Такие не бросают. Смирись уже, Светка!
Только муж упорно звал её Светкой, а все остальные люди, включая маму, выбравшую сорок лет назад это ненавистное имя, давно приучены называть её Ланой. Даже коллеги и студенты говорили – Лана Игоревна.
«Лана Игоревна, у меня к вам неожиданное и смелое предложение, – сказала вчера по телефону Зоя Петровна. – Поедем завтра за грибами в Курганово? Меня знакомые узбеки пригласили, а одной как-то неудобно».
Первое побуждение, как обычно, – отказаться. В детстве Лана, как все, ходила с родителями в лес, но грибы искать не умела и есть их тоже не любила. Ждала, когда всё это закончится и можно будет залезть в папин «Москвич», куда, к сожалению, всегда залетали комары – и Лана охотилась на них всю обратную дорогу, шлёпая ладошкой по стёклам и дверцам машины.
Но Зоя Петровна впервые за всё время, что они вместе работали – а Лана пришла на кафедру десять лет назад, став самым молодым профессором в истории факультета, – предложила ей заняться чем-то другим, помимо обсуждений аспирантских работ, докладов и грантов. А нет, не впервые! В прошлом году они были вместе на конференции в Австрии – на пару ходили по венским музеям, и муж Зои Петровны потом в шутку называл Лану Светланой Австрийской. Он умер несколько месяцев назад. Дочь Зои Петровны жила где-то за границей, внуков или не было, или были такие, о которых не принято рассказывать.
Лана постучала в дверь комнаты сына – так всегда делают родители в американских фильмах, так с недавних пор делала и сама Лана (а всё потому, что лучше не врываться в комнату взрослых детей внезапно – это она готова подтвердить как участница эксперимента). Женька, видимо, ещё спал – возможно, в наушниках, – в общем, на стук никто не ответил, и потому Лана пошла готовить завтрак, к которому, скорее всего, никто, кроме неё, не прикоснётся. Муж по утрам не ел, к тому же он давно на работе. Женька предпочитал готовую вредную пищу. Кашеварить для себя самой, конечно, странно – но неизвестно, что там будет в лесу и станут ли их кормить эти узбеки из Курганова.
2.
С узбеком Колей Зоя Петровна познакомилась в собственном (и вместе с тем – коллективном) саду на Широкой Речке. Это был не такой сад, куда приглашают знакомых на шашлыки, а такой, куда сам себя приглашаешь каждый раз с большим трудом. Но и не бросишь. Покупали они этот сад вместе с мужем, Олегом Леонидовичем, в девяностых. Смотрели не столько на покосившийся хилый дом, сколько на землю – точнее, на то, что там росло. Олег Леонидович сказал, в принципе, за такую цену надо брать – видно, что сад здесь устраивал специалист, мичуринец. Три прекрасных яблони (одну пришлось вырубить в прошлом году, и Зоя Петровна до сих пор о ней печалилась), малина пяти сортов, включая розовую и жёлтую, вишня, крыжовник, смородина всех цветов, даже тархун откуда-то взялся. Жаль, что на теплицы у мичуринца не хватило духу.
Олег Леонидович сказал, что надо брать сад, – но тут же добавил, что он-то, как известно, не любитель садово-огородных работ, и жене следует понимать, какую она на себя взваливает обузу. Зоя Петровна не обиделась и не расстроилась. Они с мужем всегда друг с другом честно обо всём заранее договаривались, никто никого не обманывал, пустых надежд не питал – и не подкармливал. Потому и прожили, наверное, так дружно и, в общем, наверное, счастливо целую жизнь.
Яна, их дочка, тогда училась в медицинском, на втором курсе – и тоже сразу заявила, что на неё маме лучше не рассчитывать. Свободного времени и так практически не было, те крохи, что оставались от учёбы, Яна тратила на переписку с потенциальными женихами-иностранцами – Зоя Петровна улыбнулась, вспомнив, как дочка всерьёз собиралась выйти замуж за какого-то австралийца, хозяина кальмаровой фермы.
Перспективу остаться в России Яна не то чтобы не рассматривала – она её вообще в упор не видела. И в конце концов добилась своего – получив диплом хирурга, уехала по какой-то хитрой визе в Германию, а там познакомилась с Александером, вышла за него замуж, родила двойняшек – мальчика и девочку. Попутно подтвердила диплом, устроилась на работу… Сегодня Яна и Алекс живут в Швейцарии, недалеко от Базеля. У дочери контракт с частной клиникой, Александер сидит дома и занимается детьми. Счастливы все. Правда, вот внуков Зоя Петровна видит редко – в Россию Яна приезжать не любит, а в Швейцарию бабушке не выбраться из-за работы и сада. Ух, как Яна ненавидит мамин сад на Широкой Речке!
– Сколько можно уже? – кричит она в телефонную трубку. – Из-за этой паршивой фазенды ты лишаешь моих детей бабушки, а себя – счастливой старости!
– У нас уже не говорят «фазенда», – замечает Зоя Петровна, и Яна у себя под Базелем закатывает глаза в крайнем раздражении.
В последний раз дочь прилетала в Екатеринбург на похороны Олега Леонидовича. Алекс и дети остались дома, для них вся эта похоронная тематика, как выразилась Яна, стала бы излишним потрясением. Екатеринбург дочка сдержанно похвалила («Смотри-ка, почти Европа, ну-ну»), но, когда Зоя Петровна заикнулась о том, чтобы съездить вместе в сад, тут же выставила вперёд ладонь, точно как делала в детстве, отказываясь от ненавистного омлета.
Смерть Олега Леонидовича была не внезапная, а, пусть и не хочется говорить таких слов, ожидаемая. Если не хуже того – долгожданная. Со множеством оговорок, с горячими от стыда щеками, но да, именно так – долгожданная. Он лежал не так долго, как другие, – всего лишь полтора года. Зоя Петровна ушла на четверть ставки и забросила сад – всё время её, все силы и деньги уходили на то, чтобы ухаживать за мужем, парализованным, но находящимся в полном сознании.
– Как ты считаешь, – спросил Олег Леонидович незадолго до смерти, – что лучше, потерять рассудок и сохранить телесное здоровье или как у меня?
– Не говори глупостей, – сказала Зоя Петровна.
– Почему это глупости? – удивился Олег Леонидович. – Очень редко люди теряют всё сразу: это медицинский факт, у Янки можешь спросить. У кого проблемы с головой, те обычно физически бодрые, выносливые, крепкие до самой смерти. И наоборот.
– Ну тогда я бы выбрала как у тебя, – сказала Зоя Петровна. – Вот только кто за мной станет ходить в этом случае?
Теперь о тех словах стыдно вспомнить.
Вообще о многом стыдно.
Яна улетела домой через день после похорон, и Зоя Петровна, проводив её, сразу же из аэропорта поехала с пересадкой на Широкую Речку.
В саду за полтора года болезни мужа она была, наверное, тоже раза полтора. Неправильно было ехать сюда так быстро – но Зоя Петровна просто не могла сидеть одна в пустой комнате, где всё ещё пахло одеколоном Олега Леонидовича, где на дверце шкафа висели в ряд его старые галстуки, а под окном лежали, связанными в пачки, старые газеты, которые он никогда не выбрасывал, а относил в ближайший пункт приёма макулатуры.
В саду всё было в полном порядке: Зоя Петровна увидела сделанные Колиными руками парники и скамеечку под яблоней, сколоченную тем же Колей. Даже, как ни странно, в дом никто не залез и ничего не стащил.
Только вот самого Коли в саду больше не было.
Впервые он появился лет пятнадцать назад, когда по всем коллективным садам России бродили смуглые, бедно одетые мужчины из бывших республик – предлагали хозяевам вскопать, срубить, покрасить и так далее за очень демократичную цену. Коля стоял у калитки, переминаясь с ноги на ногу, и точно так же переминался с ноги на ногу тёплый, но не уверенный в себе майский денёк. Узбек был одет в голубую олимпийку, спортивные штаны, кроссовки на «репьях» и шапку-«петушок»: всё строго по моде конца восьмидесятых.
– Может, помощь какая нужна? – безо всякой надежды спросил он, глядя на Зою Петровну. И она, хоть и не собиралась никого нанимать, почему-то кивнула. Коля перестелил крышу, сложил в домике печь, вскопал все грядки, построил новый туалет в дальнем углу участка. Просил он за работу немного, Зоя Петровна всегда приплачивала ему сверху, и он принимал эти деньги с благодарностью и достоинством.
Телефонами они не обменивались, где Коля проводил зимы, Зоя Петровна понятия не имела. Но каждую весну, как только она открывала сезон, узбек появлялся в саду в тот же день, будто ждал её где-то неподалёку.
Соседи, оценив Колин труд по достоинству, тоже стали приглашать его сделать то одно, то другое, хотя все при этом считали, что нанимать Колю можно только с разрешения Зои Петровны. Как будто бы ей принадлежало право распоряжаться Колиным временем, а ведь она ни на что подобное не претендовала – и всякий раз удивлялась, когда Мария Васильевна слева, Софья Карповна справа и Алексей Афанасьевич из углового дома спрашивали, свободен ли Коля: как будто это её сын, которого зовут погулять.
Однажды Коля привёл с собой в сад мальчика лет семи – сказал, что перевёз семью в Екатеринбург и что Азамату срочно требуется репетитор по русскому, так не согласится ли Зоя Петровна позаниматься с ним летом?
Сам Коля, кстати, говорил и писал по-русски без единой ошибки. Зоя Петровна, когда вытащила из кармана в магазине «Строймастер» составленный им список покупок, невольно залюбовалась аккуратными, не без шика выписанными буквами.
Мальчик грустно смотрел на незнакомую русскую тётеньку, а она вдруг расплылась в улыбке:
– Ну надо же: Азамат! Не думала, что услышу это имя!
3.
Лана всё-таки взяла с собой бутерброды, упаковала их в икейский пакетик с застёжкой. Заварила чай в термосе, насыпала в карман куртки карамелек. Женька из комнаты так и не вышел – ну и ладно, пусть отдыхает. В конце концов, лето. Каникулы. Муж на работе, сын спит, не снимая наушников, а она вот, значит, едет за грибами с профессором Камаевой – в гости к каким-то узбекам. Может, это родственники Азамата Турсунова? Лана слышала, что раньше Зоя Петровна и её муж близко дружили с профессором Турсуновым из Ташкентского государственного университета, но то было сто лет назад, когда все они жили совсем в другой стране.
Машина стояла на своём обычном месте во дворе и была такая же грязная, как обычно, хотя Лана ездила на мойку позавчера. Сражаться с уральским климатом бесполезно, он всех победил. Полгода снег, полгода дождь, и несколько тёплых дней, как будто взятых в кредит у вечной мерзлоты.
Из всех причин эмиграции Лана безоговорочно оправдывала одну – климатическую. Если бы появилась возможность, если бы муж не подцепил на пятом десятке патриотический вирус неизлечимого свойства, если бы у них были деньги на хорошую школу для Женьки, она бы, скорее всего, тоже уехала туда, где теплее. Не обязательно за границу.
Хотя вот именно сегодня на погоду жаловаться грех. Был как раз один из тех тёплых и тихих дней, которые по какой-то ошибке случаются и в Екатеринбурге. Лужи, оставшиеся после вчерашнего унылого дождя, ещё не до конца высохли, но солнце, подмигивая, обещало справиться с этой задачей.
Лана подумала – и надела тёмные очки, которые пролежали на дне сумки всё лето.
Дорога была почти пустая – автомобилисты уехали в отпуск. Отдыхать уезжают именно те, кто владеет автотранспортом, поэтому летом на дорогах становится просторней и свободнее. Вот и они тоже собирались отдохнуть десять дней в Греции, но застряли в городе из-за мужа. Его не отпустили с работы, а вдвоём с Женькой Лана ехать не решилась. Отношения с сыном в последнее время разладились, он ей грубил, перечил по любому поводу, а отца всё-таки побаивался, пока что слушался.
Зоя Петровна жила на углу Комсомольской и Малышева, в городе этот перекрёсток зовут «УКМ». Неподалёку, на улице Лодыгина, стоит девятиэтажка, с которой у Ланы связаны очень неприятные воспоминания из ранней юности. Лучше об этом не думать, переключиться – как с одной скорости на другую – на что-нибудь нейтральное.
Вот, например, эмиграция.
Так себе «нейтральное», передразнила сама себя. Но лучше уж думать про это, чем вспоминать козла, который затащил её в подъезд на первом курсе.
М-да, так вот.
Эмиграция.
В последние месяцы Лана, как в шахматах, теряла одну фигуру за другой. Друзья и знакомые, соседи и коллеги один за другим собирали вещи и отбывали в дальние края. Не всегда и не обязательно по политическим резонам, но всегда и обязательно – надолго или даже навсегда.
Рита, университетская подруга, вышла замуж в Израиль.
Алексей и Маша, приятели мужа, купили в Болгарии дом.
Троюродному брату Игорю предложили работу в Германии.
Лена, соседка сверху, давным-давно жила между тремя странами, где в сытые годы накупила недвижимости – на родине она бывала лишь краткими наездами: когда нужно было поменять паспорт или ещё по какой-то бюрократической нужде.
Зверев, доцент соседней кафедры, в сентябре уезжает в Китай.
И даже Ланина маникюрша на прошлой неделе заявила, что не видит своего будущего в России, – она поставила себе целью уехать в Испанию, записалась на языковые курсы и подняла на двести рублей цены на маникюр.
Не то чтобы Лана так уж часто общалась с Ритой или нуждалась в компании Алексея и Маши. С троюродным Игорем они созванивались несколько раз в год и оба одинаково мучились во время этих никому не нужных, но неотменимых разговоров. Встречаясь с соседкой, Лана всего лишь сдержанно кивала, а доцент Зверев и вовсе раздражал своей самоуверенной глупостью: он, ещё будучи аспирантом, зачем-то заказал себе визитные карточки с титулом «аспирант». И писал чрезвычайно плохие стихи.
Потерю маникюрши – пусть и толковой, проверенной – тоже можно будет пережить.
Дело было не в каждом из этих людей, а сразу во всех этих людях. По отдельности они были просто птицы, а вместе стали стаей, пусть и полетят каждый в свою сторону.
Сколько-то времени назад – лет пять или шесть – Лана приняла решение быть по отношению к себе кристально честной. Никогда себя не обманывать, не врать даже по самому ничтожному поводу. Сначала было трудно, намного труднее, чем, например, не врать окружающим, – поневоле бережёшь свою нежную душу, на которой суровая правда обязательно оставит кровавые царапины. А потом ничего, привыкаешь. Даже втягиваешься. Начинает нравиться эта абсолютная прозрачность, сквозь которую видны все твои мысли, поступки и чувства.
До недавнего времени именно так всё и было. Но теперь, когда фигуры с шахматной доски решили поиграть в перелётных птиц, Лану перестала спасать даже честность.
Она допросила саму себя предельно жёстко – и, как всегда, отвечала предельно искренне.
– Может, я им просто завидую?
– Нет. Я не настолько страдаю от климата.
– Может, я недовольна тем, как сложилась моя жизнь в России?
– Нет, ведь здесь я столького добилась, сколько моим коллегам за рубежом и не снилось.
– Может, я буду скучать по всем этим людям?
– Нет, я прекрасно обхожусь без них целыми месяцами. А на Зверева и вовсе не смотрела бы.
– Может, я давно не была в Италии, Израиле, Германии, Болгарии и Китае?
– Именно эти страны я посещала сравнительно недавно – в Израиле мне было страшно, в Италии жарко, в Германии скучно, в Болгарии я сильно заболела, а в Китае заблокирован «Фейсбук». И ещё у меня была конференция в Австрии, семейный летний отдых в Ницце и горные лыжи в Швейцарии.
Лана-следователь умолкла, не зная, о чём ещё спросить Лану-подозреваемую. И только спустя сутки промямлила нерешительно:
– Так почему тебя так расстраивают все эти отъезды?
Лана-подозреваемая не нашлась что ответить.
Настроение у неё в последнее время было хуже не придумаешь. Может, причина в том, что надоело сидеть сиднем в летнем городе и чуть ли не дни считать до начала занятий? Хорошо мужу, он с утра до вечера на работе…
Зоя Петровна уже стояла на перекрёстке, там, где они договорились встретиться. Одета по-спортивному, с рюкзаком, корзинкой и в резиновых сапогах. Ах, ну да, грибы ведь! Лана покосилась на свои кеды с белыми подошвами. Зря она так вырядилась. Давно в лес не ездила.
– Лана Игоревна, а у вас обувь другая есть с собой? – спросила Зоя Петровна, когда Лана вышла открыть багажник.
– Нет, я как-то не подумала.
– Ну ничего, может, Коля что-нибудь найдёт…
– Коля? Какое-то не узбекское имя.
Зоя Петровна смутилась.
– Какой стыд, я ведь ни разу не спросила, как его на самом деле зовут. Когда мы познакомились, он представился Колей, ну и я привыкла и так его с тех пор и называла…
4.
Азамат оказался замечательно способным мальчиком, воспитанным в полном уважении к старшим – и, отдельно, к старшим женщинам. Знаний ему, конечно, не хватало – точнее, не хватало широты абстрактных знаний, а о жизни-то Азамат к своим десяти годам знал, скорее всего, даже больше, чем нужно. Зоя Петровна занималась с ним с удовольствием. Специально привезла в сад целую стопку детских книг, оставшихся от Яны и ею же, взрослой, отвергнутых за ненадобностью. В стопке нашлась и книга Геннадия Цыферова «Пятнадцать сестёр», которую Янка в детстве очень любила – там на каждом развороте изображалась одна из союзных республик, персонифицированная в образе молодой красивой женщины в национальном костюме и с букетом цветов в руке. Всего женщин было пятнадцать – пятнадцать республик, пятнадцать сестёр. Азамату книжка в ярко-жёлтой обложке тоже понравилась, он первым делом нашёл там главку про Узбекистан и побежал показать её папе.
Коля, пока они с Азаматом учили правила и писали диктанты, трудился на благо процветания бывшего мичуринского, а теперь уже самого обыкновенного сада. К сожалению, всё здесь было уже таким старым, негодным и запущенным, что и Колины, и хозяйкины трудовые подвиги приводили лишь к усилению контраста – облезлый, покосившийся дом, подновлённый фрагментами, выглядел на фоне ухоженных грядок ещё печальнее прежнего.
– По-хорошему, снести бы его надо и заново отстроиться, – сказал однажды Коля, но Зоя Петровна замахала руками, как союзная республика на иллюстрации в книжке машет букетом цветов:
– Что вы, Коля! Эти сады через несколько лет всё равно снесут.
О ликвидации говорили вот уже лет двадцать – город давно вышел за свои границы, как тесто выходит из кастрюли. За поворотом автобусного маршрута, всех водителей которого Зоя Петровна знала в лицо, лет пять назад выросла семья весёлых разноцветных многоэтажек, ещё прежде появился коттеджный посёлок с охраной и шлагбаумом – в общем, город давно уже был готов проглотить Широкую Речку вместе со всеми её обитателями, леском, ручьём и коллективными садами. Но каждый раз почему-то отставлял тарелку в сторону и пёр в другом направлении. А Зоя Петровна, как героиня давным-давно читанного романа о женщине, строившей плотину против Тихого океана, каждую новую весну приезжала в свой сад: проветривала домик после зимы, привозила рассаду, копала грядки – в общем, делала всё, что привыкла делать каждый год.
– Бессмысленный, никому не нужный труд, – причитала Яна у себя в Швейцарии, но Зоя Петровна вовсе не считала, что он такой уж бессмысленный и никому не нужный. Благодаря саду она была в сравнительно неплохой форме.
– Сравни эту форму с нашими пенсионерками – и сразу увидишь разницу, – парировала Яна, питавшая слабость к международным телефонным спорам.
Мать не сдавалась. Заготовки, которые она делала каждую осень, позволяют сэкономить зимой.
– А сил и денег сколько вбухано, ты считала? – интересовалась дочь.
Но ведь своё ещё и вкуснее, и полезнее! Те, кто пробовал, понимают, о чём речь. Вот недавно был случай. Зоя Петровна угостила коллегу солёными огурцами и облепихой, и она хранила эти заготовки в незаконном гараже, вместе со своими собственными. Ночью во двор к ним приехал кран, подцепил гараж сверху и увёз, обнажив содержимое. И пока хозяева копошились, кто-то из соседей украл банки с её огурцами и облепихой, а всё остальное не тронули. Разбираются!
– Твоя история, мама, всего лишь иллюстрирует ужасающий уровень преступности и культуры быта в России. Чем тут гордиться, я не понимаю, – ледяным голосом сказала дочь и попрощалась, так как более не имела сил продолжать этот разговор, ею же, кстати, и начатый.
Зоя Петровна и сама понимала, что теперь, когда Олега Леонидовича не стало, ей лучше переехать в Швейцарию – там, наверное, хорошо стареть, мечтательно сказала давняя подруга. На кафедре её ценят, но и удерживать не станут. Всё-таки возраст. И ещё эти проклятые баллы, в подсчитывание которых вылилась современная наука, – все, от лаборанта до академика, вынуждены не столько работать, сколько в этом отчитываться…
Яна в последнее время звонила чуть не каждый день – уговаривала сделать правильный выбор. Александер устал сидеть дома с детьми, его готовы принять на прежнее место работы, но выходить надо чуть ли не в ближайший месяц, а у Яны контракт, а Поля и Марк стремительно забывают русский язык, а Яна, несмотря ни на что, хочет его у них сохранить… В Швейцарии так просто никто сидеть с детьми не станет, а в России у них, между прочим, родная бабушка, которая предпочитает копаться в земле рядом с торфяниками вместо того, чтобы переехать в уютный домик под Базелем!
Занятия с Азаматом прекратились через три месяца – мальчика приняли в школу, а Коля вскоре пропал – из сада и из виду. Зоя Петровна не беспокоилась: значит, дела у него пошли на лад, нет больше нужды бродить по коллективным садам в поисках заработка. Потом заболел Олег Леонидович, и ей вовсе стало не до сада и не до Коли.
Один раз на остановке автобуса, ей показалось, что она видит Колю – узбек в лёгонькой ветровке почему-то стоял под проливным дождём, не решаясь укрыться под козырьком, как все. Поняла свою ошибку, только когда раскрыла зонт над совершенно незнакомым человеком – но даже если он незнакомый, это всё равно не повод бросать его на произвол судьбы.
– Ты о чужих заботишься больше, чем о своих, – говорила Яна.
Почему тот узбек не решался встать под козырёк остановки? Да потому что знал, что он в этой стране «второй сорт» и не имеет права на то, что другим полагается по рождению. Как грустно сказал профессор Турсунов, когда Зоя Петровна позвонила ему, чтобы поздравить с днём рождения, и позвала в гости:
– Лучше уж вы к нам приезжайте, Зоя Петровна. Мы у вас теперь не котируемся. Мы теперь… – и он добавил эпитет, совершенно не подходящий профессорским устам.
Турсунов защищал докторскую в Свердловске, подолгу жил у Камаевых – и гости шли к ним тогда целыми днями то на плов, то на шурпу, то на дымляму. Готовил он сказочно, и маленькая Янка, соскучившись по его стряпне, сердито спрашивала:
– Ну когда уже дядя Азамат приедет? Хочется нормально поесть!
Зое Петровне было сразу и обидно, и смешно это слушать – и ещё смешно за то, что обидно: на кухне Турсунов был звездой первой величины. А как торговался на рынке – хоть кино снимай!
Может, в самом деле съездить в Узбекистан? Зоя Петровна представила себе лицо дочери – её «геральдическое», как мягко подшучивал муж-историк, личико с годами действительно стало похоже своей формой на герб. Остренький подбородок выдавался вниз клинышком, а когда Яна сердилась, ещё и выпирал вперёд. Говорят, у людей с таким подбородком жёсткий характер. Лучше не испытывать их терпение – и не делиться с ними своими смелыми идеями. Тем более что ни в какой Узбекистан она, конечно, не поедет.
Зоя Петровна перевела взгляд на Лану Игоревну – коллега вела машину легко, уверенно, но всё-таки водителя лучше не отвлекать разговорами. Ей нравилась Лана Игоревна – в ней была какая-то старомодная надёжность, а это качество Зоя Петровна ценила в людях первым номером.
Они уже проехали Вторчермет – скоро город закроется, как книжка, за окнами появятся поля и дальние волнистые горы. Александер, зять Зои Петровны, в единственный свой приезд в Екатеринбург настаивал на том, чтобы увидеть Уральские горы – ожидал что-то вроде Альп и был невозможно разочарован, когда Яна показала ему Волчиху и Тёплую.
– Так как вы познакомились с этим Колей, если не секрет, конечно? – спросила Лана Игоревна.
– Никаких секретов. Коля работал у меня в саду, потом я репетировала его сына по русскому. А потом он пропал на несколько лет, и вот совершенно случайно я встретила его на прошлой неделе в автобусе.
«Зоя Петровна! – просиял улыбкой Коля. – А я всё о вас думал!»
«Коля, дорогой, как дела?»
«У меня прекрасные дела, Зоя Петровна, я теперь сам себе начальник – прораб. Строим дом для одних там, недалеко от Курганова. Прямо на берегу Чусовой».
«Там красивые места», – вспомнила Зоя Петровна.
«Очень красивые! А лес какой! И грибов в этом году – пропасть! – он снова улыбнулся. – Я всех своих сюда перевёз – и отца, и сестру с семьёй. Азамат у нас отличник по русскому, а вот математику никак не возьмёт. А вы как, Зоя Петровна? Как ваш муж?»
Зоя Петровна, когда её спрашивали о муже, обычно держалась хорошо – скупо сообщала о смерти Олега Леонидовича и, сжав зубы, принимала соболезнования. А тут вдруг расплакалась, да так, что Коля перепугался – стал её утешать, позабыв от потрясения все русские слова.
«Балакают сами не знают чего», – сказала кондукторша, давно уже присматривавшаяся к этой странной автобусной парочке.
«Это вы не понимаете, что говорите!» – напустилась на неё Зоя Петровна. Коля поехал дальше, но они успели обменяться телефонами и договориться, что на следующей неделе Зоя Петровна обязательно приедет к нему в гости в Курганово – и что они пойдут за грибами.
– Даже предлагал заехать за мной на машине – у него теперь и машина есть, но я не решилась так обременять, и вообще, мне показалось, что надо найти компанию…
– Вот и правильно, – улыбнулась Лана Игоревна. – Я сто лет никуда не выбиралась, а отпуск в этом году так и так пропал.
5.
За столом, накрытым по всем правилам восточного гостеприимства, зашёл довольно странный разговор.
– Я не то чтобы верю в загробное царство, – заявила Лана Игоревна, – но у меня есть какая-то связь с миром мёртвых.
Узбеки насторожились, Зоя Петровна пролила на себя чай, и Азамат (вымахал-то как!) поспешил к ней с рулоном бумажных полотенец. Пировали под деревом, в двух шагах от стройки (хоромы-то какие!) был наскоро сколочен стол, за которым и сидели теперь две русские профессорши и пятеро узбеков-строителей. Коля – точнее, Курбан-Али, как выяснила Лана Игоревна в первую же минуту знакомства – был теперь сам себе голова: к строительству приспособил двух зятьёв, пожилого тестя и Азамата. Говорили родственники мало – то ли стеснялись, то ли плохо понимали язык. Но к приезду гостей здесь явно готовились: сделали плов, крупно, по-мужски, нарезали помидоры с огурцами, купили арбуз. Коля сказал, что у них здесь есть маленькая кухня, где можно готовить. Привезённую Зоей Петровной коробку конфет положили на почётное место, но не открывали. Лана Игоревна свои бутерброды доставать не стала. Она почему-то думала, что сначала у них в программе поход за грибами, но Коля решительно усадил всех завтракать.
Речь зашла о городском бизнес-центре, в строительстве которого узбекская бригада недавно отметилась, – здание ставили на месте бывшего кладбища, и, пока рыли котлован, вскрылось множество могил.
– Косточки раскладывали одна к одной, – сказал Коля. – А потом их куда вывезли, я не знаю. Теперь там офисы будут. С перегородками.
– Ну, если подумать, все мы живём и строимся на одном большом кладбище, – заявила Лана Игоревна. – В глобальном смысле.
Она закурила, удивив Зою Петровну – та и не подозревала, что коллега курит. У них на кафедре принято было соблюдать дистанцию в общении. О Лане Игоревне ей было известно только то, что знали все: вундеркинд, школу окончила в пятнадцать лет, далее – университет, красный диплом, диссертация без единого чёрного шара. Замуж вышла поздно, сын-подросток. Зоя Петровна невольно сравнивала коллегу с Яной – и всякий раз сравнение оказывалось не в пользу дочери. И вот вдруг, пожалуйста – курит! Да ещё и тему для разговора выбрала похоронную – будто другой не нашлось.
– Я не то чтобы верю в загробное царство, – заявила Лана Игоревна в продолжение разговора, – но у меня есть какая-то связь с миром мёртвых. Я, например, в любом городе чувствую кладбище – и выхожу к нему в самый первый день.
Тогда-то Зоя Петровна и пролила на себя чай – и Азамат побежал за бумажными полотенцами.
– Предлагаю сменить тему, – сказала Зоя Петровна, стряхивая чайные капли со штормовки. Лана Игоревна вспыхнула от стыда – вот сколько раз муж говорил ей: «Светка, не думай вслух!»
– Уж лучше такая тема, чем политика, – вступился за неё Курбан-Али – за эти годы он действительно превратился из нищего, пришибленного Коли в спокойного и уверенного в себе Курбана-Али. – Вон наш заказчик, для кого дворец строим, только о политике говорит. Власть ругает!
Мастерски переключил разговор, восхитилась про себя Лана, а вслух сказала:
– Что ругаться? Мне вот все они противны – и наши, и не наши. «Я не знаю, кто тут прав, пусть другие то решают, но раввин и капуцин одинаково воняют», – процитировала она.
«Бедная книжная девочка! – подумала Зоя Петровна. – Она просто не умеет по-другому. Даже в лесу и с узбеками».
На берегу Чусовой и вправду строился настоящий дворец из бледно-жёлтого кирпича. Уральский палаццо. Здесь будет зимний сад, отдельный дом для охраны, гостевой корпус, два бассейна, приватный выход к реке.
На башенке хозяин желает видеть часы с термометром, а над входом вылепят семейный герб, украшенный, по сведению узбеков, каким-то животным.
Зоя Петровна прихлопнула комара, впившегося в руку Ланы Игоревны.
– Ну вот теперь можно и за грибами, – сказал Курбан-Али. Дал своей команде какие-то распоряжения, и узбеки, имён которых Зоя Петровна не запомнила (в отличие от Ланы, с первого раза уяснившей, кто здесь Юсуф, кто Рустам, а кто Тешавой-амаки), молниеносно убрали со стола пластиковые тарелки и стаканчики, унесли казан с пловом и арбузные корки. Гостьям помогать не разрешалось, и они сидели под сосной, отмахиваясь от комарья, пока Курбан-Али не вышел из сторожки, на ходу натягивая спортивную синюю куртку.
У Зои Петровна была с собой корзинка, а вот Лана Игоревна не взяла никакой тары, и ножик она тоже забыла. Узбеки обо всём позаботились. Азамат нашёл для неё пластиковый пакет – плотный, с клеёными ручками. Юсуф принёс резиновые сапоги женского размера. Тешавой-амаки протянул перочинный ножичек.
Курбан-Али пошёл вперёд, Зоя Петровна и Лана Игоревна следовали за ним, как за вожатым в пионерлагере. Лана загляделась на искусно вытканную паутину, висевшую между ветвей как коврик, – и чуть не споткнулась о корни, бугрившиеся над землёй. Осторожно потрогала паутину пальцем – та была упругая, как леска.
В траве, справа и слева, мелькали капли костяники – будто кто-то окропил её кровью. Зоя Петровна обнаружила крохотную полянку с черникой. Вдали мелькала синяя куртка Курбана-Али, целеустремлённо идущего вперёд.
Что одна, что другая профессорша изо всех сил крутили головами, стараясь найти грибы, – но не видели даже червивой сыроежки, не говоря уже о белых, на которые втайне надеялись.
– Сюда, – крикнул Курбан-Али. – Вот, смотрите…
Он пошевелил траву прутиком, которым отгонял комаров, и женщины ахнули: перед ними стоял целый отряд боровиков, таких ладных, что даже срезать жалко.
– Я ведь говорил, – ликовал Курбан-Али, – грибов в этом году всем хватит! Режьте!
Поверженный грибной отряд разделился на две части: пять отправилось в корзинку Зои Петровны, три самых крупных – в пакет Ланы Игоревны.
– Как вы их нашли? – недоумевала Зоя Петровна. – Где вы этому научились, Коля, то есть Курбан-Али?
– Я их чувствую, – скромно ответил узбек. – Вон ещё там посмотрите, под берёзой.
Он вёл себя теперь с ними как с детьми, которым подыгрываешь, – находил отборный гриб, снимал с него листья и ждал, пока Лана Игоревна или Зоя Петровна додумаются повернуть в нужную сторону. Они, как правило, не додумывались – ничего сами не могут, ласково думал Курбан-Али.
– Я никогда этого не умела, – призналась Зоя Петровна, срезая очередной гриб. – Вот Олег Леонидович был заядлый грибник, к нему они сами выходили, прямо как к вам, Курбан-Али, а от меня – прятались.
– А мне просто никогда не везёт, – подхватила Лана. – Помню, ездили на Мальдивы, и там у нас была по программе глубоководная рыбалка. Все поймали по рыбке, даже дети – и только на мою наживку так никто и не клюнул.
– Ну, зато вам в другом везёт! Такая способная, умная, трудолюбивая. Всегда вас в пример студентам ставлю.
– Посмотрите направо! – крикнул Курбан-Али. – Не проходите мимо!
Но корзинка и пакет были уже до краёв полными, поэтому узбек стал деловито, уже без всякой игры, собирать грибы в свою матерчатую сумку, а когда и в ней не осталось места, набил ими карманы синей куртки. Лана курила, прислонившись к сосне, и Зоя Петровна, вообще-то не любившая табачный дым, впервые нашла его приятным, так как он отпугивал комаров.
Муж позвонил Лане, как раз когда она методично тушила окурок о подошву сапога. Громкий голос в телефоне был слышен даже Курбану-Али, скрывавшемуся в кустах по уважительным причинам:
– Ну как там? Что погода? Грибов много? Каких? В лесу хорошо? Вас кормили? А что вы ели?
Лана пыталась вклиниться между этими вопросами, но они падали, как удары в теннисе, которые следовало отбивать. Улучила момент:
– Не знаешь, как Женька?
– Я на работе, так что не знаю, – сказал муж и, в целом довольный проведённым опросом, отключился. Лана выглядела расстроенной, поэтому Зоя Петровна потрепала её по плечу и сказала:
– Это же такое счастье, когда есть на кого сердиться! И за кого волноваться.
6.
Когда вернулись на стройку, пошёл сильный дождь. Юсуф, Азамат, Рустам и Тешавой-амаки установили над столом что-то вроде тента. Зоя Петровна с наслаждением слушала, как стучат по непромокаемой ткани капли дождя. А Лана Игоревна сердилась:
– Ну что за климат у нас идиотский! Машину хоть прямо не мой.
– А чей? – искренне удивился Юсуф. Лана сначала не поняла, о чём он, а потом засмеялась так искренне, что следом за ней начали хохотать и все остальные, не разбираясь, над кем смеётесь.
– Я хочу сказать тост, – Курбан-Али внезапно стал серьёзным и поднял вверх пластиковый стаканчик. – Предлагаю выпить за вас, Зоя Петровна. Если бы не вы…
У него вдруг задрожали губы.
– Вы были единственной, кто всегда здесь относился ко мне по-человечески, – сказал он.
Все молчали. Зоя Петровна не знала, куда смотреть и что говорить.
– А знаете что? – включилась вдруг Лана Игоревна, точно как телевизор в гостинице сам по себе вдруг начинает приветствовать дорогих гостей и насмерть пугать их приятной музыкой. – У меня в детстве был набор открыток «Блюда узбекской кухни», и я его ужасно любила. Шестнадцать открыток с рецептами. Айва с ореховой начинкой, жидкая халва, угра чучвара, лагман, кавурма шурпа… – Лана Игоревна перечисляла блюда, ни разу не сбившись – ах, ну да, вспомнила Зоя Петровна, у неё же феноменальная память. – Но! – Лана торжествующе подняла вверх палец. – Там не было ни одного блюда из грибов. У вас вообще их едят?
– Нет, – сказал Курбан-Али. – Грибы мы научились есть в России.
– А вы знаете, – не унималась Лана, – что во французском языке любой гриб – это шампиньон?
Она не выпила и капли вина («Что вы, я за рулём!»), но вела себя так, будто приняла больше всех. Оживлённо, нервно шутила, то и дело благодарила Курбана-Али за гостеприимство, и Зоя Петровна с облегчением вздохнула, когда решили, что пора и честь знать. Зоя Петровна вообще всегда с нетерпением ждала окончания застолья и любого общения – по-настоящему хорошо ей было только в невзрачном саду на Широкой Речке, где, как она надеялась, тоже прошёл сильный дождь, необходимый посадкам.
– Что решили делать с грибами? – спросила Зоя Петровна, когда они уже выехали на трассу и недостроенный палаццо скрылся из виду.
– Часть засушу, часть сразу же съедим, – был ответ.
– В Швейцарии, где моя дочь живёт, тоже грибов в этом году уродилось… – задумчиво сказала Зоя Петровна. – Они ходили с мужем в лес и встретили там режиссёра Годара. Грибы собирал, представляете?
Зоя Петровна засмеялась, и Лана Игоревна тоже засмеялась, но потом они ехали до города в полном молчании – и каждая думала о своём.
Ида и вуэльта
Светлой памяти Лорны Д.
Дочь сказала:
– Дожили бы вместе, мам!
На её месте мне тоже хотелось бы, чтобы мама и папа дожили свою жизнь вдвоём. Но каждая из нас – на своём месте, и с моего открывается исчерпывающий обзор неудачного брака, двадцать лет коту под хвост. И всё-таки на развод я тогда не решилась. Это так сложно – разводиться, разводить в разные стороны свою жизнь и жизнь человека, с которым провел вместе столько лет, пусть даже не слишком счастливых.
Вместо развода я тогда полетела в Испанию.
Дочь привезла меня в аэропорт на рассвете, обняла, помахала на прощание – и поехала домой, досыпать. От её куртки пахло табаком и духами, воротник пуховика с одной стороны был выпачкан тональным кремом. Я вспомнила запах детской присыпки, испачканные кремом от опрелостей пелёнки и сладкий вкус люголя.
* * *
В Испании жил мой старый приятель – английский профессор, который в позапрошлом году вышел на пенсию и переехал по доброй британской традиции в тёплые края. Профессора звали Рэймонд Марк Стоун, для меня просто Рэй. Мы познакомились в начале девяностых, когда он ещё не был профессором, а работал в таможенной службе Великобритании и приехал в только что переименованный Екатеринбург на семинар для узких специалистов. Ещё была жива принцесса Диана. В моде, если верить иностранным журналам, царили крупные украшения, длинные пиджаки и короткие юбки. Узкие специалисты носили широкие штаны, парящие на ветру. Я рассекала в строгих костюмах, взятых напрокат у знакомой девочки, родители которой работали в Монголии – и без устали наряжали свою Наташу, не подозревая о том, что наряжают ещё и меня.
На семинаре для специалистов я была кем-то вроде секретаря по общим вопросам. Водила четырёх иностранцев (два англичанина, бельгиец и датчанин) по ледяному Екатеринбургу. Показывала достопримечательности – Плотинку, деревянные купеческие дома, ещё не снесённые в строительно-финансовом раже, и тот особняк с атлантами на улице 8 Марта, который с детства казался мне очень красивым. Гостей, впрочем, значительно сильнее интересовали памятник Ленину, тянущемуся рукой вверх, как бы в бессильной попытке ухватить журавля в небе; рыбаки, крутившие лунки на пруду; замёрзшее собачье дерьмо в парках, а также здания, построенные в тридцатых годах (слова «конструктивизм» мы тогда ещё не знали и не гордились роддомом с ленточными окнами, полукруглым фасадом типографии «Уральский рабочий» и выпуклой гостиницей «Исеть»). Всё это иностранцы без устали фотографировали, включая уже упомянутое собачье дерьмо и жалкие, вечно текущие унитазы в конторе, где проходил семинар. Мои объяснения, не менее жалкие – да ещё и хромые по причине средненького в ту пору английского, – внимательно слушал только Рэй. Лет ему было столько, сколько сейчас мне, – я искренне считала его стариком.
Наташа, безропотно выдавая вечером очередной костюм, спрашивала, что мне подарили – все тогда ждали подарков от иностранцев, обычно это были колготки, сигареты и шоколад. Колготки! Представляю лицо дочери, если бы я вдруг решила подарить ей колготки к какому-нибудь празднику. Но тогда это была настоящая роскошь.
– Помнишь, как ты дарил мне колготки? – спросила я Рэя, когда мы наконец встретились в Санта-Поле после долгих телефонных обсуждений, кто, куда и за кем заедет. Он улыбнулся и сказал, что да, кажется, припоминает. Им на инструктаже объясняли, что колготкам русские женщины радуются сильнее всего. Поэтому они закупали упаковки по пять пар самых дешёвых – и везли колготки с собой в Екатеринбург, Пермь, Уфу или Пензу.
– Жуткие времена, – сказал Рэй и тут же умело перевёл разговор. Как же он рад меня видеть! Он до последнего не верил, что я приеду. Он ведь помнит, что я не люблю Испанию.
Это правда. Женщина, в девяностые радовавшаяся колготкам, теперь может позволить себе не любить какую-нибудь заморскую страну. Ну что поделать, если отношения с Испанией у меня категорически не складываются. Мне не нравятся ни испанский язык, ни местная кухня, ни литература, ни музыка. Вот разве что живопись – Веласкес, Гойя, Эль Греко (он, впрочем, грек). Ну и ещё кофе – здесь даже в самом захудалом баре варят чудесный кофе. Испания чувствует, что я её не люблю, – и мстит за это самыми разнообразными способами. Когда бы я ни приехала, обязательно случится какая-нибудь пакость. То кошелёк вытащат со всеми деньгами и картами. То в аварию попаду – да такую, что за руль потом целый год не решусь садиться. То заболею – в первый же день – и буду хворать всю поездку. То выяснится, что, пока я тут отдыхаю, дома случилась беда: дочку в школе ударила одноклассница, сломала ей палец на правой руке. И теперь мама девочки звонит мне, рыдая, и обещает купить самую дорогую куклу в знак раскаяния. И мне теперь жаль уже не только своего искалеченного ребёнка, но и эту незнакомую женщину…
В общем, я и в этот раз ждала от Испании какого-нибудь подвоха или тщательно спланированной гадости, на которую не способны другие страны.
– Обожаю Испанию! – сказал Рэй. – Смотри, какая красота! Ещё только январь, а здесь уже пахнет весной.
Мы ехали мимо соляных озёр, где суетились десятки фламинго. Рэй забрал меня из дома, ключи от которого мне доверила совершенно незнакомая женщина – подруга моих друзей. Я никогда не видела этой женщины, но как только вошла в её квартиру, то сразу же поняла, что мы с ней могли бы подружиться. Книги на полках, посуда, мебель – всё это могла бы выбрать я, мои книги, посуда и мебель были бы точно такими же.
Жаль, что в квартире было очень холодно. Испанцы не приезжают в Санта-Полу зимой, этот курортный городок в январе стоит почти пустым и напоминает декорацию. Дома не отапливаются, только если кондиционером – но он дует совсем не туда, куда нужно, к тому же я опасалась, что хозяйке придётся оплачивать чрезмерные счета за электричество. Утром я просыпалась от того, что у меня замерзал нос, и первое, что видела, было моё же собственное дыхание, облачком рвущееся изо рта, как пустой филактер, словесный пузырь из комиксов. Ложилась спать под целой кучей одеял и курток, но согреться всё равно не могла – только на второй неделе додумалась набирать в пластиковые бутылки горячую воду и укладывалась с ними, как с грелками. На улице было теплее – поэтому я вставала спозаранок и уходила к морю. Небо здесь менялось каждую минуту. На рассвете оно было окрашено в нежно-розовый и голубой – как ленты для новорождённых. На закате в небесах пылал огонь и тоненько улыбалась луна. По набережной я доходила до центра спящего городка, покупала в магазине миндальное молоко и пирог со шпинатом. Ночью, засыпая, представляла себя красной точкой, одиноко пульсирующей в сплошной темноте.
Рэй постарел за те годы, что мы не виделись, – теперь он был совершенно седой и с видимым усилием поднимался с места, когда приходилось долго сидеть.
– Ты не мёрзнешь здесь? – спросила я и тут же поняла, какую сморозила глупость. Англичане не мёрзнут. Они стоически переносят любой дискомфорт, потому и смогли в своё время завоевать полмира. Это самая неизбалованная нация на земле – во всяком случае, в поколении моего друга.
– У меня есть обогреватель, – сказал Рэй, деликатно не заметив моей глупости, – но я его редко включаю. Ну и потом, здесь целый год такая жара, что даже приятно бывает чуточку охладиться, не находишь?
Машину он водил совсем не по-стариковски – так резво обгонял грузовики, что я вдавливалась в своё сиденье, дрожала от страха и впечатывала ногой в пол несуществующую педаль тормоза. Как любой водитель, я не люблю быть пассажиром – не попав за руль, стараюсь занять заднее сиденье, но сейчас это было невозможно и невежливо.
Англичане – очень вежливые.
* * *
Мы никогда не говорили с Рэем о наших семьях – моей реальной и его предполагаемой. Так повелось с самого начала. Я догадывалась, что предпочтения моего друга далеки от традиционных – по некоторым нюансам, обмолвкам, взглядам. Но никогда, никогда мы об этом не говорили! И обо мне он знал только самые общие вещи – что есть муж, взрослая дочь и какие-то неразрешимые проблемы, о которых я говорить не хочу.
Коты – другое дело! Котов мы обсуждали страстно и с удовольствием.
После того как дочь сняла себе квартиру и мы остались с мужем вдвоём, именно кот поставил себе задачу сохранить нашу семью, а точнее, то, что от неё осталось. Он ничего не знал про «двадцать лет коту под хвост». Мы с мужем прятались друг от друга в разных комнатах, но кот упрямо ходил из одной в другую – истошно орал, выгибал спину, мурлыкал и повторял всё перечисленное снова и снова, пока мы не поняли наконец, что должны находиться в одной комнате. Что ему, коту, так удобнее.
Поначалу я устроила себе спальню в бывшей дочкиной комнате, и кот стал метить там территорию – раньше он позволял себе такое только в кладовке, где несколько лет назад им же была обнаружена и казнена залётная мышь. Как только я вернулась на семейное ложе, гадости в дочкиной комнате тут же прекратились – кот показательно скрёбся в своих лоточках и провожал меня внимательным взглядом слегка прищуренных глаз.
У Рэя было три кошки – две переехали с ним вместе из Оксфорда и довольно быстро опростились, научившись охоте и ночным гуляньям. Третью попросила взять Ида, подруга Рэя, – она перебралась в Испанию тридцать лет назад, и сегодня мне предстояло с ней познакомиться. С Идой, не с кошкой.
Мы уезжали всё дальше от моря, поднимались вверх выше и выше. За окном я видела сухую жёлтую землю, какие-то глиняные горы и вишнёвые деревца, кое-где уже подёрнутые цветочной дымкой. Зимняя весна!
Когда свернули на просёлок, я решила, что Рэй хочет показать мне какой-то местный монастырь – впереди теснились кипарисы, скрывавшие за собой обширное поместье. Площадке для парковки позавидовал бы любой торговый центр. Навстречу выбежали два кота и крошечная белая собачка в чёрной полумаске. Коты, не скрывая своего разочарования, тут же исчезли, а причудливо раскрашенная природой собачка начала выписывать вокруг машины кренделя, так что Рэй прикрикнул на неё из окна:
– Пи́нки! А ну прекрати!
Пинки (по-нашему Розочка), приветливо тявкая, бежала к дому, то и дело оглядываясь, проверяя, идём ли мы следом.
Дом Иды был даже не дом, а, наверное, небольшой замок – или маленький дворец. Мы прошли по террасе с живописно облупившейся штукатуркой. Стены прихожей были выкрашены в ярко-синий цвет. Я крутила головой по сторонам не хуже Розочки, разглядывая картины, викторианские вышивки, фарфор и бронзу в честных старых шкафчиках.
– Ида! – крикнул Рэй. – Мы здесь!
Но вместо Иды к нам вышла Мария – улыбчивая испанка, домработница. Она кивнула мне, расцеловалась с Рэем, потом взяла у него пакет и унесла в кладовую.
– Я привожу им продукты, когда еду мимо, – объяснил профессор. – Вблизи нет супермаркетов.
В разные стороны, как салют, брызнули кошки – едва не запнувшись об одного из своих питомцев, но гордо устояв на ногах, появилась хозяйка дома.
* * *
Отцом Иды был мэр Бристоля; мать, которую она терпеть не могла, была истинной леди. Имелось три младших сестры – но все, как сказала Ида, давно в могиле.
– Потому что не выпивали, – заметила она, прихватывая со стола свой «походный» стакан с хересом. Поход – или «гранд-тур», как выразилась хозяйка, – по её дому, купленному четверть века назад у зажиточных испанских помещиков, требовал подкрепления: гости вполне могли проголодаться во время долгой экскурсии, у них пересыхало в горле, кто-то мог упасть на один из диванов, расставленных в стратегически верных местах, и забыться коротким освежающим сном.
Ида шла впереди, в стакане её сверкал херес, под ногами крутилась Розочка.
– Почему такое имя? – спросила я. – Что в ней розового?
– Ободок вокруг глаз, – объяснила Ида.
Котов звали одинаково – Флаффи (Пушок по-нашему). Коты здесь были на вторых ролях, заправляла хозяйством Розочка: суетилась в каждой новой комнате, приглашая радоваться прекрасному вкусу Иды. Всё здесь было перестроено и переделано – бывшая конюшня для осликов стала жёлтой гостиной, большой холл превратился в мастерскую, потому что здесь самый лучший свет.
– Я уехала из дома в семнадцать лет. Хотела стать художником. Мать этого не понимала, ей надо было представить меня ко двору – вот это было важно. И я сбежала, уехала, и мы увиделись с ней только через десять лет, совсем другими людьми. А ко двору была представлена Маргарита, одна из моих сестёр.
Фотопортрет на стене – спелая барышня в белом платье, губки – тугой бутон. Снимок чёрно-белый, но чувствуется, что на щеках румянец.
Ида дружески щёлкает барышню по носу:
– Маргарита умерла семь лет назад.
Стакан выскользнул из рук, но Ида поймала его в воздухе. Рассыпала – как крошки перед птицами – пригоршню сухих смешков.
Я долго не могла рассмотреть Иду, потому что она была в постоянном движении и так ловко избегала прямого света, как умеют делать только актрисы и кокетки с полувековым стажем. Когда мы сели за стол, покрытый пожелтевшей, но явно ценной скатертью, Ида закуталась в тень, как в покрывало, – я видела лишь рукав синей кофточки и сверкающий камень на пальце. От Иды хорошо пахло – как от младенца: свежестью, теплом, молоком. Никакой старческой затхлости, изношенной кожи, умирающей плоти. В свои девяносто пять Ида лишь начинала жить.
* * *
Мы выпили по бокалу – херес цельным сгустком проскользнул в желудок, внутри, как пятно бензина в луже, разлился масляный покой. Я сидела, подперев голову рукой, и наслаждалась мыслью о том, что никто не может найти меня в этой комнате, в компании людей, которых не знают ни моя дочь, ни муж, ни родители, ни друзья. Это было такое приятное, сильное, утешительное чувство, что я чуть не прослезилась от благодарности.
– Эй, – сказал Рэй, – у тебя тоже розовый ободок вокруг глаз. Как у Пинки.
Собачка, услышав своё имя, завозилась на диване. Прямо над диваном висела картина Иды – пляж, мужские спины, шеи, плечи. И ни одной женщины.
– Она не слишком любит женщин, но ты ей, кажется, понравилась, – шепнул Рэй.
Ида пишет картины маслом, режет витражи, вдохновляет павших духом друзей. Она никогда не была замужем, у неё нет детей.
Хлопает в ладоши:
– Теперь гранд-тур! Я уже показывала вам дом?
Рэй разводит руками: нет, ну а что ты хотела? Посмотрю на тебя в девяносто пять. Или нет, не посмотрю. Сама всё увидишь. И тут же забудешь!
Мы встаём из-за стола и под предводительством Розочки вновь выходим на прежний маршрут. Ида щёлкает по носу трезвенницу Маргариту, вспоминает, как мать хотела представить её ко двору, роняет сухарики смешков, заворачивается в тень, как в покрывало. Тень сползает с плеч, день, как рассказ, движется к финалу. Розочка в отчаянии – хозяйка и гости уезжают обедать в ресторан! Коты индифферентно провожают нас до машины, и тут я вижу, что Ида садится за руль.
– О нет! – я дёргаю Рэя за руку.
– О да! – смеётся он. – Тут совсем недалеко, пусть развлечётся. Пристегнись.
Ида ведёт машину аккуратно, не то что Рэй. Она как будто продолжает резать витраж – тщательно отмеряет угол поворота, просчитывает силу давления, едет по дороге, как по стеклу.
Ресторан в деревне, куда мы приехали через десять минут (Ида не без шика припарковалась в тени грузовика), принадлежит двум братьям. Я бы сказала, это не ресторан, а столовая (девушка с колготками из девяностых смотрит на меня с уважением) – пластиковые скатерти, бумажные салфетки, вопящий телевизор. Из неожиданного – англичане за каждым столом. Здесь ещё в 1960-х сформировалась целая британская колония, и многие, как утверждает Рэй, так и не удосужились за всё это время выучить испанский язык. Лично он, к примеру, берёт уроки в Аликанте у некоего Эзры – и уже очень продвинулся. «Льего ля ора де ля комида» – «Настал час обеда».
– А я не продвинулась! – заявляет Ида, обворожительно улыбаясь одному из братьев-владельцев. Он как раз идёт к нам: раскланивается со мной, жмёт руку профессору и бережно обнимает Иду. Целует розовую щёку, гладит по голове, как ребёнка, – и с наслаждением вдыхает младенческий аромат её волос. Ида, в чём твой секрет? Обычные старики плохо пахнут: часто находиться рядом с ними – просто испытание. Я уверена, что в старости буду неимоверно гадкой старухой – что дочь будет вынуждена сдать меня в дом для престарелых, где я быстро угасну по причине несоответствия качества услуг заявленным ценам. Я не против! Но прежде хочу узнать Идин секрет.
За всеми столиками англичане едят паэлью. Жёлтый рис плоским слоем размазан по чёрным сковородам. Попадаются островки мяса – у кого-то кролик, у кого-то курица, у нас улитки. Ида ест с аппетитом, пьёт розовое вино, потом виски, потом коньяк. У неё идёт носом кровь, и тут же прибегает официант с салфетками.
– У тебя есть братья или сёстры? – спрашивает меня Ида.
Мой единственный брат умер десять лет назад, и я об этом никогда не рассказываю. Пока не рассказываешь – веришь, что он всё ещё жив. Все эти годы я вижу его в чужих машинах, в кино, в ресторанах: он жив, но не может ко мне подойти, вот и всё.
Только Иде я рассказываю правду. Рэй вытягивается в струну: мы с ним никогда не обсуждаем наши семьи.
На десерт принесли флан. Остатки паэльи официант сложил в пакет – для Розочки и котов. Прежде чем подняться из-за стола, Ида спрашивает:
– У тебя есть братья или сёстры?
* * *
Мне тяжело даётся выбор: над меню в ресторанах я сижу дольше всех (официанты засыпают, счёт оплачен, а я так ничего и не съела), растерянная женщина с охапкой одежды в руках на входе в примерочную, и она же, с пустыми руками, на выходе – это я. Муж однажды спросил, какую картину я забрала бы с выставки Рембрандта, если бы имелась такая возможность, – этот вопрос вверг меня в панику. Я долго ходила среди портретов, и они ехидно на меня смотрели, потому что я так ничего и не выбрала. Даже в шутку.
А тут – развод. Или-или, как погоны на плечах.
Ночами я подолгу не могу заснуть из-за холода – и потому что надо выбирать.
Много лет назад мы с мужем были на отдыхе и жили в гостинице, где от лифта до номера нужно было идти так долго, что хотелось взять с собой еду и книги. Коридор был бесконечным, казалось, что в конце его – зеркало. Мы шли, напряжённо всматриваясь в свои отражения, которые были людьми, идущими нам навстречу, – и в какой-то момент начинали верить, что поменяемся с ними местами, лишь только поравняемся. Бытовой Кортасар. Борхес для бедных. Другая пара, мужчина и женщина, возможно, думали о том же самом – поэтому так быстро шагали мимо, опасаясь посмотреть нам в глаза. А я оборачивалась и долго потом думала о той, чужой жизни, промелькнувшей мимо меня в секунду, как пейзаж за окном разогнавшегося поезда.
В Санта-Поле идёт дождь. Рэй пригласил меня в путешествие на остров Табарку, где живёт всего сто тридцать человек. Плыли на лодке – барке. Рифмовали: «барка-табарка». Профессор выглядел счастливым. Мы собирали странные зеленоватые камни, считали улиток, любовались морскими волнами – пышно взбитыми, как оборки на платье.
По Аликанте я гуляла одна. Здесь любят красить дома в яркие цвета, но эта яркость слегка припудренная, приглушённая. Полынные и бледно-розовые тона, блестящие плиты мостовых, надраенных трудолюбивым дождём… Повсюду пальмы, под которыми расточительно валяются горы фиников.
Ночью дул такой сильный ветер, что я боялась – вдруг вылетят стёкла.
А утром на море был полный штиль. Я долго шла по берегу – набрела на казематы гражданской войны, похожие на головы штурмовиков из «Звёздных войн», видела скелет лодки и табурет, вынесенный морем на берег.
Апельсиновые деревца на набережной покрыты лакированными листьями.
Море сияет, как шёлк.
Я купила билет на поезд в Бенидорм, потому что мне понравилось название. На билете стоит отметка – «ида и вуэльта». По-нашему— «туда и обратно».
* * *
Дочь звонит каждый вечер, но говорить нам не о чем – жизнь молодого человека важнее, объёмнее, ярче существования того, кто доживает. Но она всё равно звонит, сообщает, что сегодня была у папы. Рассказывает, что он ел. Говорит, что кот в первую неделю очень скучал – сидел в прихожей, сверлил дверь взглядом, но я так и не появилась, и он принял решение жить дальше.
Мы обе прощаемся с облегчением.
В Бенидорм ходит трамвай-метро – он заезжает в туннели, проносится по берегу моря, летит по мостам, взбирается в горы. Бенидорм красив не только названием: на пляжах, как деревья, растут небоскрёбы, по стволам пальм бегают белки, а из фонтанов пьют воду белые голуби.
Я рассказывала о белых голубях в Мурсии за обедом с Идой и Рэем.
– Какой симпатичный официант, ты заметила? – спросила Ида, подзывая кивком головы ничем, кроме своей молодости, не примечательного юношу, подававшего нам блюда: салат из свежих листьев шпината, дораду с картофелем и тыквенный суп.
Через секунду мы фотографировались втроём с официантом, Рэй держал камеру, в руке Иды слегка дрожал бокал с розовым вином.
В Мурсию ехали в машине Рэя. Ида, пристёгнутая ремнём на заднем сиденье, дремала всю дорогу. Оставили машину на берегу реки Сегуры и пошли пешком к собору. Рэй хотел показать мне собор Санта-Мария, а Ида настаивала, что я должна увидеть бывший мужской клуб-казино, где псевдомавританский стиль щедро разбавлен модерном. Клуб отделан керамическими плитками изумительной красоты, но с ними соседствуют пластиковые стулья, и когда Ида увидела эти стулья («Раньше их не было, клянусь!»), то заплакала. Но уже через минуту забыла о поруганной красоте и, улыбаясь, спросила, хочу ли я увидеть собор Санта-Мария.
После обеда Рэй оставил нас в кафе на площади, вблизи Епископского дворца. Ему нужно встретиться с кем-то по делу – но через час он вернётся. «Не заказывай ей слишком много виски, – шепнул Рэй мне на ухо. – Сегодня она пьёт, как рыба».
Здесь рано темнеет. Ида попросила не виски, а чашку чая с молоком. Мы пили чай, любуясь подсветкой дворца.
– В чём твой секрет, Ида? – спросила я. – Где ты берёшь силы быть счастливой? Мне их не хватает даже для того, чтобы просто жить каждый день.
– Никаких секретов, – говорит она. – Я просто выпиваю понемногу, а ещё очень люблю мужчин и свою работу.
Уже совсем стемнело. Чай остыл. Официант принёс счёт. Я никогда не понимала людей, которые ищут ответы у гадалок, психологов и старцев, – и вот сама зачем-то пытаю полузнакомую старушку с ясным взглядом, жду, чтобы она отсыпала мне своего счастья, которого у неё полные карманы. Ну или чтобы написала точный рецепт – сколько нужно взвесить, с чем перемешать, по сколько ложек принимать.
– Поверь в то, что нет никакого счастья, – говорит Ида. – И сама не заметишь, как тут же станешь счастливой.
Рэй пришёл точно в указанное время. Англичане очень пунктуальные. Когда мы садились в машину, Ида дёрнула меня за рукав:
– Всё забываю спросить, у тебя есть братья или сёстры?
* * *
Последний испанский день был бесконечным. На берегу моря я видела огромных чёрных гагар, сушивших крылья, как бельё. Цветут гибискус, цикламены, «корона кайзера». Редко попадаются розы. В городе Эльче, в Саду Священника, стоит императорская пальма, которой никак не дают умереть: дереву полторы сотни лет, и оно со всех сторон укреплено подпорками. Счастлива ли эта пальма?
Обедали с Идой и Рэем в очередном простецком кафе, где местные жители играют в карты, читают газеты и разговаривают все одновременно и очень громко. К нашему столику подошёл какой-то деятель – он представил нам свою жену, и мои англичане бурно обсуждали потом, что никакая она ему не жена! Ели суп пелота с гигантской фрикаделькой, жареную рыбу и крема-каталана. Запивали крепким кофе кортадо, вином и коньяком.
На закате море стало густо-фиолетовым, как старые чернила. Я сорвала апельсин с дерева, он оказался горьким.
Ночью я впервые не замёрзла и чуть не проспала – Рэй заехал за мной, когда рассвело, и по дороге в аэропорт я рассказала ему свой сон: там я научилась прыгать до потолка, отталкиваясь ногой от пола.
– Хороший сон, – сказал Рэй. – Всё наладится, вот увидишь. В конце концов всегда всё устраивается.
С трассы он свернул к маяку – там была смотровая площадка с видом на Табарку и пляж Альтет, где Ида тридцать лет подряд рисовала с натуры купальщиков. Два молодых велосипедиста позировали третьему, подняв над головой велосипеды. Рэй смотрел на них с интересом и одобрением.
– Ида передаёт тебе привет, – сказал Рэй на прощание. – Просила узнать, есть ли у тебя братья или сёстры… Да шучу, я шучу!
В аэропорту мы крепко обнялись. Профессор поспешил к машине, оставленной на временной (очень дорогой!) стоянке, а я, зарегистрировавшись, пошла было к выходу на посадку, как вдруг захотела ещё раз вблизи посмотреть на Испанию. Глиняные горы заливало яркое зимнее солнце. Где-то суетилась Розочка, коты с достоинством выпрашивали завтрак, Ида сидела над очередным витражом с бокалом утреннего хереса. Рэй лихо гнал по трассе в город – чтобы не опоздать на урок с Эзрой.
Дома меня ждали муж, дочь, кот и открытый, как рана, вопрос о разводе.
А мимо текли попутчики – одни спешили, другие явно тянули время. Кто-то курил в специально отведённом месте, кто-то прощался с кем-то навсегда. Или думал, что навсегда.
Некоторым людям суждено пройти с нами лишь малый участок пути, но именно их мы будем вспоминать впоследствии с благодарностью.
Я не могла знать, что Ида умрёт через несколько дней после моего развода, на который я всё-таки решусь спустя год. Не знала, что Рэй решит вернуться в Англию. Не догадывалась, что у меня совсем скоро появится внук и я снова вспомню запах детской присыпки.
Тогда я просто стояла у входа в аэропорт города Аликанте и смотрела на синее, в цвет Идиных стен, небо.
А потом повернулась на каблуках, как персонаж старой книги (они почему-то всегда поворачиваются на каблуках), – и пошла искать свой выход.
Благодарности
Благодарю тех, кто помогал мне в работе над этой книгой:
Некоммерческое партнёрство «Управление строительством “Атомстройкомплекс”» и лично Ананьева Валерия Михайловича, а также Дину Сорокину, Марину Голомидову, Илону Щеглову и Пламена Петкова, Надежду Марадудину, Елену Швецову, Юлию Бугрову, Екатерину Щербакову – и неизвестного мне человека, нашедшего потерянную рукопись этой книги в одном из лондонских пабов и отдавшего её официанту.
L’auteur souhaite remercier du fond du cœur la résidence pour écrivains au Château de Lavigny, la fondation Heinrich & Jane Ledig-Rowohlt, et tout particulièrement Sophie Kandaouroff, pour son accueil chaleureux, sa sollicitude bienveillante et son aide précieuse lors de la rédaction de ce livre[3].
1
Лунка – народное прозвище улицы Луначарского в Екатеринбурге. (Здесь и далее примеч. авт.)
(обратно)2
Действительный статский советник.
(обратно)3
Автор сердечно благодарит резиденцию для писателей Château de Lavigny и фонд Heinrich & Jane Ledig-Rowohlt, а также лично Софи Кандаурофф за гостеприимство, заботу и доброе отношение.
(обратно)



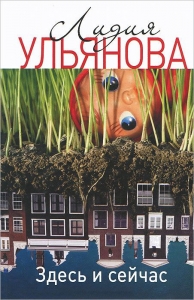

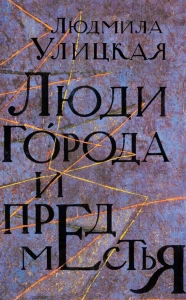
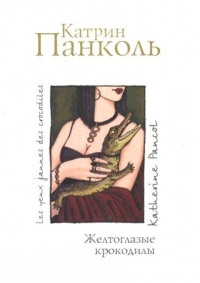
Комментарии к книге «Спрятанные реки», Анна Александровна Матвеева
Всего 0 комментариев