Даниэль Кельман Слава
Daniel Kehlmann
Ruhm
Серия «Шорт-лист»
Перевод с немецкого Татьяны Зборовской
Издание публикуется с разрешения издательства Rowohlt Verlag GmbH
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, Germany © Зборовская Т., перевод, 2018 © ООО «Издательство АСТ», 2018
Голоса
Не успел Эблинг дойти до дома, как у него зазвонил мобильный. Много лет Эблинг отказывался обзавестись сотовым телефоном – сам он как человек, работающий с техникой, всяким таким вещам не доверял. Отчего же никого не смущает, что они подносят к голове источник агрессивного излучения? Но у Эблинга была жена, двое детей и горстка коллег, и кто-нибудь непременно да жаловался, что его никогда нет на связи. Наконец Эблинг капитулировал, купил себе телефон и попросил продавца прямо на месте подключить его. И был впечатлен, несмотря на весь свой критический настрой: как ни крути, а устройство было просто идеальным – эргономичной формы, гладкое, изящное. И тут вдруг ни с того ни с сего оно решило зазвонить.
Посомневавшись, Эблинг нажал на кнопку.
Женский голос потребовал некоего Рафа – а может, Ральфа или Рауфа, он толком не разобрал.
– Вы ошиблись, – сказал Эблинг. – Ошиблись номером.
Дама извинилась и повесила трубку.
Вечером снова зазвонил телефон.
– Ральф! – хрипло заорал какой-то мужчина. – Ну ты как? Ты чего? Что там у тебя, ты, свинья тупая?
– Вы ошиблись, – произнес Эблинг, присев в постели. Шел одиннадцатый час, и жена глядела на него с упреком.
Мужчина извинился, Эблинг отключил телефон.
К утру ему оставили три сообщения. Эблинг прослушал их в электричке по дороге на работу. Какая-то женщина, хихикая, просила ей перезвонить. Мужской голос громогласно требовал явиться немедленно, потому что дольше ждать они не собираются; на заднем плане слышалась музыка и звон бокалов. Затем вновь звонила женщина, спрашивала: «Ральф, да где ж тебя носит?»
Вздохнув, Эблинг позвонил в службу поддержки.
– Очень странно, – скучающим голосом ответила ему дама на проводе. – Такого в принципе не могло произойти. Никому никогда не продадут номер, уже присвоенный другому клиенту. От подобных случаев абонент гарантированно застрахован.
– Но произошло же!
– Никак нет, – повторила дама. – Это невозможно.
– И что вы намерены делать?
– Не имею понятия, – ответила она. – Такого не может быть, потому что быть не может.
Эблинг раскрыл было рот, но, подумав, закрыл обратно. Он понимал, что другой на его месте страшно возмутился бы – но ему возбуждаться было несвойственно, этим его обделила судьба. Он нажал на сброс.
Не прошло и пары секунд, как телефон вновь зазвонил.
– Ральф! – обратился к нему мужчина.
– Нет, это не он.
– Чего?
– Этот номер не… Его просто по ошибке… В общем, вы ошиблись.
– Но это телефон Ральфа!
Повесив трубку, Эблинг сунул мобильник в карман куртки. Городская электричка снова была набита битком – а значит, сегодня он опять вынужден был ехать стоя. С одной стороны к нему прижималась толстая тетка, с другой – усатый мужчина, глядевший на него, словно на заклятого врага. Эблинга многое в его жизни не устраивало. Его раздражало, что жена такая рассеянная, что она читает такие глупые книжки и ужасающе готовит. Удручало, что сын не блистал интеллектом, а дочь, казалось, была совсем чужим человеком. Мешало, что сквозь тонкие стены постоянно доносится храп соседа. Но больше всего его угнетали поездки в общественном транспорте в часы пик. Вечно эти набитые битком электрички, вечно эта теснота, и не было еще такого случая, чтобы от соседей приятно пахло.
Но работа Эблингу нравилась. Он и несколько десятков коллег сидели в ярком свете ламп и инспектировали бракованные компьютеры, которые со всей страны присылали им продавцы. И он знал, сколь хрупки были эти маленькие мыслящие пластинки, сколь сложны и загадочны. Никто в точности не знал, как они устроены, не мог по-настоящему объяснить, отчего они вдруг переставали работать или начинали себя как-то странно вести. Причин давно уже никто не искал; они просто заменяли детали до тех пор, пока машина не начинала вновь функционировать. Эблинг частенько пытался себе представить, как многое в мире зависит от этих вот аппаратов – тех самых аппаратов, о которых ему было прекрасно известно: если они и впрямь выполняют то, что от них требуется, то это практически чудо, исключение из правил. Вечерами, в полусне, такие мысли – обо всех этих самолетах, электронно управляемом оружии, банковских серверах – вызывали у него беспокойство, порой столь сильное, что сердце начинало тревожно биться. Тогда Эльке раздраженно спрашивала, отчего ему не лежится спокойно (с тем же успехом она могла бы делить ложе с бетономешалкой!), а он извинялся и про себя вспоминал, что еще мама ему говорила: он слишком впечатлительный.
Когда Эблинг вышел из электрички, телефон снова зазвонил. Это была Эльке с просьбой вечером по пути домой купить еще и огурцов: в универмаге на их улице они нынче шли особенно дешево.
Пообещав зайти за огурцами, Эблинг поспешил распрощаться с женой. Телефон тут же зазвонил вновь, и женский голос поинтересовался, хорошо ли он обо всем подумал: пренебрегать такой, как она, может только полный идиот. Или, может, он на этот счет другого мнения?
– Нет, – ответил он, не раздумывая. – Я именно такого мнения.
– Ральф! – расхохоталась она.
Сердце Эблинга стучало, в горле у него пересохло. Он нажал на отбой.
Всю дорогу до офиса он чувствовал себя растерянно и беспокойно. По всей видимости, тембр голоса предыдущего владельца номера был очень схож с его собственным. Он вновь попытался позвонить на горячую линию.
Дама на проводе ответила, что, увы, присвоить ему другой номер невозможно – только за дополнительную плату.
– Но этот номер принадлежит кому-то другому!
– Это невозможно, – ответила дама. – От этого клиент…
– Гарантированно застрахован, я знаю! Но мне постоянно звонят и спрашивают… Знаете, я и сам техник. И понимаю, что вам постоянно звонят люди, совершенно не понимающие, как все это работает. Но я все-таки специалист. Я знаю, как…
– Ничего не могу поделать, – сообщил голос. – Я передам ваше обращение в службу.
– И что? Что потом?
– Потом будет видно, – отрезала дама. – За это не я отвечаю.
Всю первую половину дня Эблинг никак не мог сосредоточиться на работе. Руки его дрожали, есть в обеденный перерыв совершенно не хотелось, хотя в столовой давали венские шницели. Шницели случались редко, и обычно Эблинг радостно поджидал их еще накануне. Но в этот раз он вернул на стеллаж поднос, едва тронув свою порцию, а сам отсел в дальний угол и включил телефон.
Три новых голосовых сообщения. Дочь просила забрать ее из танцкласса. «Удивительно», – подумал Эблинг. Он даже и не знал, что та занимается балетом. Какой-то мужчина просил ему перезвонить; кому была адресована эта просьба, самому Эблингу или кому-то еще, было неясно. Наконец, некая женщина интересовалась, куда это он запропастился. Ее глубокий, мурлычущий голос был ему совершенно незнаком. Только он собрался снова отключить сотовый, как тот опять зазвонил. Номер начинался с «+22». Что это была за страна, Эблинг тоже не знал. Знакомых за границей у него не было – только кузен в Швеции и одна полная пожилая дама в Миннеаполисе, каждый год славшая ему к Рождеству фотографию, на которой она, ухмыляясь, поднимала бокал. «За моих дорогих Эблингов!» – традиционно значилось на обратной стороне. Ни он, ни его жена толком не знали, чья она была родственница. Эблинг решил принять вызов.
– Ну как, увидимся в следующем месяце? – спросил какой-то мужчина. – Ты ведь поедешь на фестиваль в Локарно? Ральф, они без тебя не справятся. Только не при нынешних обстоятельствах. Ты же это понимаешь?
– Видимо, буду, – ответил Эблинг.
– Ох уж этот Ломан. От него можно было ожидать! Ты не говорил с коллегами из «Дегетеля»?
– Пока нет.
– А пора бы уже, пора! Поездка в Локарно нам бы очень помогла, как и три года назад в Венецию, – рассмеялся мужчина. – Как у тебя вообще? Что, все-таки Карла?
– Ага, – ответил Эблинг.
– Ну и свинья же ты, старик, – сообщил собеседник. – Поверить невозможно!
– Вот и я того же мнения, – ответил Эблинг.
– Ты что, простужен? Голос у тебя какой-то странный.
– Я просто… сейчас занят кое-чем. Я перезвоню.
– Ладно, не переживай. Ты, похоже, неисправим – да, старик? – ответил мужчина и повесил трубку.
Прислонившись к стене, Эблинг потер лоб. Ему нужно было какое-то время, чтобы прийти в себя и вновь осознать, что вокруг столовая, а рядом коллеги поедают шницели. Мимо прошел Роглер с подносом в руках.
– Приветствую, Эблинг, – бросил он. – Все в порядке?
– Еще бы, – ответил тот и выключил телефон.
Во второй половине дня вид у него был отсутствующий. Вопрос, какая именно деталь была неисправна и каким образом могли возникнуть те неполадки, что отметил продавец на листке неисправностей (записи с трудом поддавались расшифровке: «Клиент сообщил, что нажал реcет, потому что откл. рядом с дисплеем, потом ничево не показ.»), его сегодня просто не волновал. Вот, оказывается, что это было за чувство – радостное ожидание.
Он растягивал удовольствие. Не включал телефон, пока ехал в электричке домой, не включал, пока покупал в супермаркете огурцы. Телефон спокойно лежал в кармане, пока он сидел за ужином с Эльке и двумя детьми, пинавшими друг друга ногами под столом. Но все это время Эблинг думал о нем не переставая.
Потом он спустился в подвал. Пахло сыростью, в одном углу стояли один на другом ящики с пивом, в другом – временно разобранный шкаф из «Икеи». Эблинг включил телефон. Два сообщения по голосовой почте. Но не успел он их прослушать, как телефон вновь задрожал: кто-то звонил.
– Слушаю.
– Ральф!
– Слушаю!
– Это что такое? – расхохоталась она. – Ты что, играешь со мной?
– В жизни не стал бы.
– А жаль!
Рука его задрожала.
– Ты права. Вообще-то я с удовольствием бы… С тобой…
– Так-так?
– Поиграл.
– Когда?
Эблинг оглянулся. Подвал этот он знал как свои пять пальцев, и даже лучше. Каждый из лежавших в нем предметов он принес сюда сам.
– Завтра. Скажи, где и когда. Я буду.
– Ты это серьезно?
– Вот сама и выясни.
На том конце он услышал глубокий вдох.
– В «Пантагрюэле». В девять. Бронь на тебя.
– Будет сделано.
– Но ты ведь понимаешь, что мы поступаем неразумно?
– А кого это волнует? – ответил Эблинг вопросом на вопрос.
Вновь расхохотавшись, она повесила трубку.
Той ночью он впервые после долгого перерыва прикоснулся к жене. Вначале она пришла в растерянность, затем спросила, что на него нашло и не пил ли он, но потом поддалась. Продлилось это недолго, но, пока он лежал на ней, ему казалось, что они заняты чем-то непристойным. Эблинг почувствовал, как ее рука колотит его по плечу: она задыхалась. Он извинился, но прошло еще несколько минут, прежде чем он выпустил ее и скатился на бок. Включив свет, Эльке укоризненно взглянула на него и удалилась в ванную.
Разумеется, ни в какой «Пантагрюэль» он не пошел и телефон на следующий день не включал, а в девять вечера смотрел с сыном по телевизору футбол; играла вторая лига. По телу его словно пробегали электрические разряды – чувство было такое, будто его двойник, представитель его самого в иной вселенной, в этот момент посещал дорогой ресторан, встречался с высокой, красивой женщиной, ловившей каждое его слово, смеявшейся его остроумным выпадам и то и дело будто нечаянно касавшейся его руки своей рукой.
Во время перерыва он спустился в подвал и включил телефон. Новых сообщений не приходило. Он подождал. Никто не звонил. Подождав полчаса, он выключил сотовый и пошел спать; делать вид, что его по-прежнему интересует игра, он был уже не в силах.
Сон не шел, и вскоре после полуночи он поднялся и босиком, в одной майке спустился опять в подвал. Включил телефон. Четыре сообщения. Но прежде чем он успел их прослушать, раздался звонок.
– Ральф, – сказал какой-то мужчина, – прости, что так поздно… Но дело важное. Мальцахер утверждает, что вы послезавтра встречаетесь. Проект под угрозой! Моргенгейм тоже обещал присутствовать. Ты ведь знаешь, что поставлено на кон!
– Какая мне разница, – ответил Эблинг.
– Ты что, с ума сошел?
– Вот и выясним.
– Нет, ты и впрямь сумасшедший!
– Моргенгейм блефует, – произнес Эблинг.
– А ты смелый человек, ничего не скажешь.
– Да, – ответил Эблинг. – Совершенно верно.
Только он было собрался включить автоответчик, как телефон снова зазвонил.
– Не стоило этого делать.
Голос ее звучал сдавленно и хрипло.
– Если б ты только знала, какой у меня был сегодня ужасный день.
– Не ври.
– Зачем мне врать?
– Ведь это все из-за нее! У вас ведь с ней… снова… наладилось, да?
Эблинг промолчал.
– Хотя бы признайся!
– Не говори глупостей!
Он задумался, какую из женщин, которых он знал теперь по голосам, та могла иметь в виду. Хотелось бы ему побольше знать о жизни Ральфа – ведь, в конце концов, в некоторой степени это была теперь и его жизнь. Чем он занимался, чем зарабатывал на жизнь? Почему кому-то доставалось все, а кому-то – ничего? Некоторым столько всего удавалось, а других преследовала неудача – но к личным заслугам это мало имело отношения.
– Прости, – тихо произнесла она. – С тобой иногда… бывает непросто.
– Знаю.
– Но ты… Ты не такой, как все.
– Хотелось бы мне быть как все, – произнес Эблинг. – Вот у меня это никогда не получалось.
– Значит, завтра?
– Завтра.
– Если ты опять не придешь, все будет кончено, так и знай.
Неслышно пробираясь наверх, Эблинг думал о том, существует ли Ральф на самом деле. Внезапно ему показалось совершенно невероятным, что где-то там он жил своей жизнью, занимался своими делами и ничего о нем, Эблинге, не знал. Возможно, судьба Ральфа была уготована ему свыше, а может, их жизни переплелись лишь по воле случая.
Вновь раздался звонок. Послушав лишь пару предложений, он рявкнул:
– Все отменить!
– Прошу прощения? – испуганно переспросила дама на проводе. – Но ведь он приехал специально, мы так долго работали над тем, чтобы эта встреча состоялась, чтобы…
– Я от него не завишу!
Интересно, о ком шла речь? Он бы многое отдал, чтобы это узнать.
– Еще как зависишь!
– Вот и посмотрим!
Его охватило доселе неведомое воодушевление.
– Если ты так считаешь…
– Да, именно так и считаю!
Эблинг с трудом мог удержаться от искушения поинтересоваться, о чем вообще шла речь. Он уже уяснил, что мог нести что угодно, если только не задавал никаких вопросов. Стоило ему о чем-нибудь спросить, как у собеседников сразу же возникали подозрения. Вчера та самая женщина, чей грубый голос ему так понравился, немедленно заявила, что он – не Ральф, стоило ему только попросить напомнить, как называлось то место в Андалузии, где они были летом три года тому назад. Видимо, таким образом ему ничего не удастся выяснить. Как-то раз он остановился у афиши нового фильма с Ральфом Таннером: на мгновение его посетила мысль, что у него мог оказаться номер известного актера, что вот уже неделю он общался именно с его друзьями, коллегами и любовницами. Голова у Эблинга пошла кругом. Исключать такую вероятность тоже было нельзя: голоса у них и впрямь были похожи. Но затем, покачав головой и усмехнувшись, Эблинг побрел дальше. В любом случае, долго это продлиться не могло. Он не тешил себя иллюзиями: рано или поздно ошибку должны были исправить, и тогда телефон умолкнет.
– А, это снова ты. Я не мог встретиться с тобой в «Пантагрюэле». Она ко мне вернулась.
– Кто, Катя? Ты хочешь сказать… вы снова вместе?
Кивнув, Эблинг записал имя на бумажке. Он предполагал, что женщину, с которой он говорил в тот момент, звали Карла, но не располагал достаточным количеством улик, чтобы рискнуть обратиться к ней по имени. Жаль, что нынче все уже утратили привычку представляться по телефону: поскольку номер высвечивался на экране, звонящий исходил из того, что собеседник уже в курсе, кто его беспокоит.
– Я тебе этого не прощу.
– Мне очень жаль.
– Чушь! Тебе ни капельки не жаль!
– Что ж, – усмехнувшись, Эблинг облокотился о стенку разобранного шкафа. – Может, и нет. Она просто потрясающая.
Собеседница принялась кричать на него, проклинать, угрожать, затем расплакалась. Но поскольку всю эту кашу заварил не он, а Ральф, Эблинг мог ни о чем не переживать. Он слушал ее, а сердце у него колотилось. Еще никогда в жизни он не был так близок со столь волнительной женщиной.
– Возьми себя в руки! – строго сказал он. – Ты прекрасно знаешь, ничего бы не вышло!
После того как она бросила трубку, он еще некоторое время стоял и его слегка пошатывало от волнения. Эблинг вслушивался в тишину, словно пытаясь уловить далекие всхлипы Карлы.
На кухне он встретил жену – и замер от удивления. На мгновение Эльке показалась ему пришелицей из другого мира, из какого-то сна, не имевшего ничего общего с реальной жизнью. Той ночью он вновь притянул ее к себе, а она, поколебавшись, снова поддалась. Лежа на ней, он представлял себе Карлу, совершенно беспомощную от желания.
На другой день, оставшись дома один, он впервые попробовал перезвонить на один из тех номеров, с которых с ним пытались связаться.
– Это я. Просто хотел поинтересоваться, все ли в порядке.
– Кто мне звонит? – спросил в ответ мужской голос.
– Это Ральф!
– Какой еще Ральф?
Эблинг быстро повесил трубку и набрал кому-то еще.
– Боже, Ральф! Я вчера пытался тебе… Пытался… Я…
– Помедленней! – произнес Эблинг, разочарованный тем, что на том конце провода вновь оказался мужчина. – В чем дело?
– Я так больше не могу.
– Ну так завязывай с этим.
– Выхода нет.
– Выход есть всегда, – не смог сдержать зевоту Эблинг.
– Ральф, ты что, хочешь сказать, что я… должен наконец за все поплатиться? Что надо идти до конца?
Эблинг принялся переключать каналы, но и тут ему не везло: по каждому либо играли разную народную музыку, либо показывали стругавших столешницы столяров и повторы сериалов восьмидесятых годов. Унылый репертуар для тех, кто после обеда дома. Почему он вообще смотрел телевизор, почему был дома, а не на работе? Могло быть так, что он просто забыл на нее пойти?
– Я проглочу целую пачку, так и знай!
– Валяй, глотай, – Эблинг потянулся за книгой, лежавшей на столе. Мигель Ауристус Бланкус «Путь Я к самому себе». Солнечный диск на обложке. Это его жена такое читала; Эблинг с отвращением отложил книгу в сторону.
– Тебе всегда везет, Ральф. Вечно все тебе достается. Ты не имеешь понятия, каково это – быть вечно вторым. Одним из многих. Человеком третьего сорта. Тебе это неведомо!
– Да, верно.
– Я сделаю это, я не шучу!
На случай, если несчастный вздумает ему вдруг перезвонить, он отключил телефон.
Той ночью ему снились зайцы. Большие зайцы. Смотреть на них было неприятно: они лезли из густого подлеска, больше напоминали грязных оборванцев, чем милых мультяшных созданий, и пялились на него горящими глазами. Позади в зарослях что-то хрустнуло; он обернулся, но стоило ему пошевелиться, как все рухнуло, окружавшая его действительность рассеялась, и он услышал, как Эльке бурчит, что хочет, наконец, свою собственную спальню – нельзя же, в самом деле, так громко сопеть.
Начиная со следующего дня телефон молчал. Эблинг прислушивался, ждал, но тот и не думал звонить. Когда наконец в начале рабочего дня раздался звонок, на проводе был всего-навсего его шеф, интересовавшийся, почему сотрудника уже второй день нет на работе, не нужно ли ему что и не затерялся ли где-нибудь в пути его бюллетень. Эблинг извинился, в подтверждение своих слов покашлял, но как только услышал от начальника, что ничего страшного в том нет, со всеми случается, волноваться не стоит, он все-таки заслуженный работник и в коллективе знают ему цену, на глазах у него выступили слезы ярости.
На другой день он доломал три компьютера, а на одном установил жесткий диск так, чтобы ровно месяц спустя все данные на нем удалились сами собой. Телефон молчал.
Пару раз он был близок к тому, чтобы набрать какой-нибудь номер. Палец его лежал на кнопке, и Эблинг думал о том, что одно лишь мгновение отделяет его от возможности вновь услышать один из тех голосов. Будь он более решительным, наверное, нажал бы кнопку. Или подпалил бы что-нибудь. Или отправился на поиски Карлы.
По крайней мере, на обед опять давали венские шницели. Второй раз за неделю – редкостное везение. Напротив него сидел Роглер и сосредоточенно жевал.
– Эта новая модель, «E-14», – с ней с ума сойти можно, – с набитым ртом проговорил он. – В ней еще ничего не отлажено. Кто себе такое покупает, сам виноват.
Эблинг кивнул.
– Но что поделаешь? – воскликнул Роглер. – Все-таки она новая! И я тоже такую хочу. В конце концов, выбирать-то не из чего.
– Верно, – согласился Эблинг. – Не из чего.
– Эй, – окликнул его Роглер. – Прекрати пялиться на свой мобильник.
Вздрогнув, Эблинг сунул сотовый в карман.
– Еще недавно ты и покупать-то его не хотел, а теперь без телефона шагу ступить не можешь. Но ты расслабься, нет на свете такого количества срочных дел, – Роглер на мгновение умолк, сглотнул и отправил в рот еще кусок шницеля. – Не пойми меня неправильно, но кто тебе вообще будет звонить?
В опасности
– В этом романе нет главного героя! Понимаешь? Есть композиция, есть связи, рамочная конструкция, но одного персонажа, проходящего сквозь все повествование, того самого героя, нет.
– Любопытно, – устало произнесла Элизабет.
Он взглянул на часы.
– Почему рейс снова задерживается? Вчера тоже вылетели с опозданием. Чем они там вообще заняты? Почему вечно случаются проволочки?
– Случаются, и все.
– Глянь-ка! Вон тот мужчина – вылитый пес на задних лапах!.. Но откуда только берутся эти задержки? Что, нельзя хотя бы раз, эксперимента ради, просто взять и вылететь вовремя?
Она вздохнула. В зале ожидания томилось более двух сотен человек. Большинство дремало, кто-то читал дурно отпечатанные газеты. Со стены улыбался бородатый политик, запечатленный под пестрым флагом. В киоске продавались журналы, детективы, сборники советов по улучшению жизни от Мигеля Ауристуса Бланкуса и сигареты.
– Как ты думаешь, летать этими самолетами вообще безопасно? То есть, я хочу сказать, парк, который они закупают в Европе, уже довольно старый. Ведь ни для кого не секрет, что у нас им вообще не разрешили бы вылет, верно?
– Верно.
– Что, прости?!
– Верно, это ни для кого не секрет.
Лео потер лоб, откашлялся, открыл было рот, потом снова закрыл. Громко высморкался. Посмотрел на нее. На глазах блеснули слезы.
– Это шутка?
Она ничего не ответила.
– Им следовало предупредить меня заранее! Да они вообще не могли меня приглашать в таком случае – то есть, я хочу сказать, на этот счет что, вообще нет никаких правил? Не могут же они приглашать меня, если это небезопасно!.. Видишь вон ту женщину? Она что-то пишет. Что? И зачем?.. Скажи, что это была просто шутка. В реальности ими летать не опасно, да?
– Да, да, – ответила она. – Бояться нечего.
– Ты это говоришь, только чтобы меня успокоить!
Она прикрыла глаза.
– Вот-вот, я же знал. Я же вижу. Погляди-ка туда! Будь все это просто выдумкой, мы были бы членами вон той группы, и перед самым отлетом нас бы просто забыли. Кто знает, что бы тогда произошло!
– И что бы тогда произошло? Мы просто вылетели бы следующим рейсом.
– Если таковой вообще существует!
Элизабет промолчала. Она бы охотно задремала сама, было раннее утро, но она понимала, что до прибытия на место он не даст ей и глаз сомкнуть. Придется всю дорогу объяснять ему, что летать самолетом не опасно и не стоит бояться, что он упадет. Потом на ее плечи ляжет забота о багаже, потом ей придется договариваться в гостинице, чтобы еду подали в номер – причем еду такую, что устроила бы даже Лео с его инфантильными пристрастиями. А ближе к вечеру Элизабет еще предстояло удостовериться, что Лео будет готов к тому моменту, когда его заберут и поведут читать доклад.
– Кажется, началось! – воскликнул он.
Впереди, у выхода из зала, девушка заняла место за одной из стоек. Несколько человек привстало с мест; подхватив ручную кладь, они поплелись к стойке.
– Это долгий процесс, – сообщила Элизабет.
– Мы опоздаем на рейс!
– Они ведь только начинают регистрацию. Еще полчаса впереди.
– Они улетят без нас!
– С какой стати им…
Но Лео уже подскочил и поспешил занять место в очереди. Скрестив на груди руки, она глядела, как его худощавая фигура медленно продвигается вперед. В конце концов подошла его очередь. Лео предъявил посадочный талон и исчез в коридоре трапа. Она не спешила. Прошло пятнадцать, двадцать, тридцать минут, а очередь все не кончалась. Наконец, когда не осталось больше ни одного пассажира, она встала с места – и через несколько секунд уже была в салоне. Протиснувшись по узкому проходу, Элизабет заняла место рядом с ним.
– Как ты можешь так со мной поступать! Я думал, ты не придешь. Уже начал придумывать, что бы такое сделать, чтобы самолет не взлетел, но тут ведь никто меня не понимает – я даже объяснить ничего не могу!
Она извинилась.
– Нет, я серьезно. Это все и так стоит мне кучи нервов, не могу же я еще и… Видела двоих детей впереди? Это ужас просто. Особенно та маленькая девчонка. Зеленоглазая! Они одни летят, без родителей.
– Надо же, – ответила она.
Лео пристально взглянул на нее.
– Я просто невыносим, – произнес он. – Да?
– В общем, да.
– Я совершенно несносен!
Она покачала головой.
– Если тебе хочется домой, я все могу понять. Разумеется, я тогда тоже полечу обратно. Без тебя я бы не справился. Все это с самого начала было ошибкой, мне не стоило соглашаться, ни в коем случае, – как глупо с моей стороны! Может, повернем назад? Прямо сейчас?
– Прошу тебя, помолчи. Хоть пятнадцать минут.
Он умолк – и действительно, ему удалось взять себя в руки и в течение десяти минут, пока самолет разгонялся, взлетал и набирал высоту, не произнести ни слова.
Они познакомились шесть недель тому назад, на одной особенно скучной вечеринке, разговорились, и лишь спустя какое-то время Элизабет стало ясно, что этот странный, но остроумный мужчина, вечно потирающий руки и обращающий свой блуждающий взор куда-то в потолок, был не кто иной, как Лео Рихтер, писатель, сочиняющий запутанные рассказы, изобилующие зеркальными конструкциями и неожиданными поворотами, – блестящие, хоть и слегка стерильные. Она как раз незадолго до того прочла его истории о докторе Ларе Гаспар и, разумеется, была знакома с самым известным сочинением Рихтера – о пожилой даме и ее путешествии в швейцарскую клинику, в которой проводят эвтаназию. На другой день они встретились вновь, и уже вечером она вошла в его квартиру – обстановка там царила спартанская. Но в постели Лео проявил неожиданную настойчивость, к которой она была не готова. Она бороздила ногтями его спину, закатывала глаза, впивалась зубами ему в плечо, а несколько изнурительных часов спустя, ранним утром, пока ехала домой, Элизабет поняла, что хочет увидеться с ним еще раз – и что, возможно, ему даже найдется место в ее жизни.
За прошедшие полтора месяца она успела познакомиться со всеми сторонами его характера: приступами тревоги и страха, эйфорией, временами охватывающей его совершенно без причины, и периодами глубокой сосредоточенности, во время которых он, казалось, терялся в самом себе и, когда она обращалась к нему, смотрел на нее так, словно не мог понять, как она вообще оказалась рядом.
Лео, в свою очередь, был под впечатлением от ее профессии. Неужто она и впрямь во время работы с «Врачами без границ» прыгала с парашютом? Что, с настоящим парашютом? Да к тому же еще и в зоне военных действий?
Тут она обычно старалась сменить тему. Элизабет понимала, что любопытство – часть его натуры и его ремесла, но были темы, которые она просто не хотела обсуждать. Всякому, кто не испытал этого на себе, ее слова могли показаться пустыми, то есть не более чем болтовней; нет, не было таких слов, что сумели бы описать, каково это на самом деле. Каково это – за несколько метров до посадки в поджидающий вертолет потерять пациента, которому перед этим сама ампутировала обе ноги, причем в условиях нехватки обезболивающего, а потом тащила на себе по полям, над которыми воздух дрожал от жары. Каково это – когда все усилия оказываются напрасными и лишь по пути назад замечаешь, что события последних дней частично стерлись из памяти. Что в ней остались пробелы, словно ей довелось пережить нечто столь жуткое и необъяснимое, что никак не вписывалось в окружающую действительность, а потому и запоминать голова отказывалась. Как она могла это описать? Еще много лет тому назад один пожилой доктор сказал ей: «Кто ничего не пережил – хороший рассказчик; стоит многое пережить, как делиться вдруг становится нечем». Но Элизабет знала, что Лео о многом догадывался. У нее была та же профессия, что и у его героини, Лары Гаспар, возраста они тоже были одного, и если постараться припомнить не изобилующие подробностями описания Лариной внешности, можно даже было сказать, что они похожи. Наверняка Лео еще и поэтому ей увлекся. Элизабет то и дело замечала, как он следит за ней с почти что исследовательским пристрастием, шевеля губами, словно подмечая что-то.
Пару недель назад он читал доклад в Академии наук и литературы в Майнце, в котором заявлял, что культура действительно приходит в упадок, но сокрушаться не стоит: когда человечество избавится от ненужного бремени знаний и традиции, ему станет легче жить. Настанет эпоха образов, ритмичного шума и мистического транса, зависания в бесконечном настоящем – благодаря могуществу техники воплотится религиозный идеал. Никто толком не понял, говорил он это всерьез или с иронией, был он консерватором или нигилистом, но именно поэтому текст выступления решили напечатать. Посыпались комментарии, и германские культурные институты по всему миру принялись приглашать его выступить. Что-то на него, видно, нашло, и Лео Рихтер поддался на уговоры отправиться в поездку по странам Центральной Америки, а когда он предложил Элизабет сопровождать его, та, к собственному изумлению, без раздумий согласилась.
Незадолго до посадки он забылся беспокойным сном. От мыслей о том, что их вскоре ожидает, Элизабет содрогнулась. В последний раз при виде директора института, облаченной в толстый шерстяной свитер, его одолела такая неприязнь, что он еще в аэропорту впал в настоящий ступор. В машине он ехал молча, стиснув зубы, и, когда их тормознул полицейский, даже схватил сидевшую рядом Элизабет за руку. Разумеется, ничего страшного не произошло, их тут же пропустили, но к тому моменту, как они добрались до гостиницы, взмокший Лео от отчаяния пребывал в полнейшей прострации. Всю вторую половину дня он просидел, закрывшись в их двухместном номере; вечером пришлось выступать в плохо освещенном помещении перед двадцатью семью земляками, а затем директриса настояла на том, чтобы отвезти их в единственную в городе пиццерию – только чтобы расспросить, как ему в голову приходят такие идеи и предпочитает ли он работать по утрам или после обеда. После этого он полночи бегал взад-вперед по комнате, стенал, клял свою судьбу, пока они наконец не упали на постель, сжимая друг друга в объятиях – больше от отчаяния, чем в порыве страсти. В пять утра ее разбудил звонок на мобильный, и она узнала, что в Африке похитили троих ее ближайших коллег.
– Видела? – проснувшись, Лео тронул ее за плечо и указал наружу через стекло иллюминатора. – Похоже на огромный мираж. Доску с парой сотен прикрученных лампочек. Может, мы и не летим вовсе, а может, мы вообще не здесь, а это все – ловкий обман. Кстати, что мы будем делать, если нас никто не встретит? Есть у меня такое предчувствие – а интуиция меня обычно не подводит. Вот увидишь.
Их поджидала дама из германского культурного института по фамилии Раппенцильх в толстом шерстяном свитере и с выпирающими вперед зубами. Она тут же поинтересовалась, как ему в голову приходят такие идеи. Элизабет тем временем прослушивала автоответчик на телефоне. От страха она чувствовала себя опустошенной.
Они сидели в авто. За окном в бледных лучах утреннего солнца мелькали маленькие квадратные домики столицы, вывески магазинов, под ними – пожилые женщины с фруктовыми корзинами, над ними в небе – желтоватый дым расположенных поодаль фабрик.
Прибыв в гостиницу, Элизабет позвонила в центральный офис в Женеву. Оттуда ее коллега Мориц, все еще сидевший за рабочим столом, хотя по местному времени было уже далеко за полночь, сообщил, что понять истинное положение дел пока не удается. ООН ничем помочь не может; можно предположить, что в происходящем замешано правительство. Разве не приходилось им иметь дело непосредственно с госсекретарем, когда они были там два года тому назад?
– О да, – голос ее эхом отражался от кафеля на стенах ванной. – Один из худших, какие только бывают.
– Плох он или нет, но, судя по обстоятельствам, ты – наш единственный способ держать связь.
Она вернулась в комнату. На постели сидел Лео, глядя на нее с укоризной. Эта Раппенцильх! А эти ее зубы! А нынче вечером опять выходить на сцену – сил больше нет! Он включил телевизор. Показывали марширующих солдат, лицо какого-то политика, затем опять солдат. Покачав головой, Лео принялся рассуждать о метафизическом ужасе, который внушает подобная картина: о том, что чувствуешь себя в западне, что этот уголок планеты – своего рода ад на земле, что подсознательно начинаешь сомневаться, выберешься ли отсюда когда-нибудь. Надо быть сумасшедшим, чтобы отправиться сюда добровольно.
– Глянь-ка, они даже в ногу ходить не умеют! А зубы! Ты видела ее зубы?
– Чьи?
– Да этой Раппенцильх!
Она вернулась в ванную, чтобы поговорить. Лео ничего не должен был знать, случившееся необходимо было держать в тайне. Неизвестно, вдруг он проболтается. Она набрала номер одного из подчиненных того самого государственного секретаря одной африканской страны, с которым ее свела судьба несколько лет назад при весьма неприятных обстоятельствах. Связь установилась только с шестой попытки. Гудок звучал непривычно, качество звука было посредственным. «Посмотрим, что можно сделать», – ответил мужчина. Она рассыпалась в благодарностях и, повесив трубку, попыталась побороть желание свернуться калачиком на полу. Под ложечкой сосало, в голове пульсировала боль.
Когда Элизабет вернулась в комнату, Лео висел на проводе и на кого-то кричал.
– Так не пойдет! Нельзя со мной так обращаться! Я не позволю!
Бросив трубку, он с торжествующим видом повернулся к ней.
– Это был Рёбрих.
Кто такой Рёбрих, она не имела представления, но, судя по тому, с какой интонацией Рихтер произнес его имя, он был важный человек в литературных кругах.
– Та премия, помнишь? Они мне ее уже почти пообещали, а теперь собираются отозвать только потому, что я не желаю, чтобы речь на вручении произносил Эльдрих! Но так дело не пойдет! Пусть они с каким-нибудь Ренке или Мёрзамом так себя ведут, но только не… Глянь-ка, какое небо! Солнечные лучи пляшут по облакам промышленных газов, словно это не грязь, а что-то хорошее. В контражуре все кажется прекрасным. Ну, в любом случае, я ему ответил, чтобы он и думать об этом забыл. Если хочет на следующий год видеть меня в жюри, играть придется по моим правилам!
Элизабет опустилась на кровать. Год тому назад они с Карлом, Генри и Паулем были в Сомали. В последний день Карл признался ей, что долго не выдержит, что нервы его вконец расшатаны, да и душа не на месте. Что же с ними сейчас происходит? В какой комнате без окон их заперли, что до них не мог достучаться ни один разумный человек? Она лежала не шелохнувшись, но вдруг нечаянно оказалась впутанной в беседу с четырьмя полицейскими, каким-то образом сливавшимися в одного – причем такого, которому ни в коем случае нельзя было дать неверный ответ. Человек этот тем временем расспрашивал ее о каких-то подробностях относительно событий далекого детства и заставлял решать сложные арифметические задачи – за каждый неправильный ответ кого-то убивали. На ее плечо легла рука. Вскрикнув, Элизабет подскочила.
– О том, что тебе снятся кошмары по ночам, я уже знаю. Но среди белого дня? Ты всхлипывала, как дитя.
Она ответила, что ничего не помнит. Он внимательно посмотрел на нее, и, чтобы спастись от его пристального взгляда, она снова вернулась в ванную и встала под душ. Подставила голову под струи теплой воды и постаралась не думать ни о Карле, ни о Пауле, ни о Генри. В конце концов, они были взрослыми людьми и шли на риск совершенно сознательно. Это были мужчины, отлично ориентирующиеся в жизни, совершенно не такие, как… Да, они были вполне в состоянии о себе позаботиться.
Вернулась фрау Раппенцильх, чтобы их забрать. По дороге в институт она развлекала их историями об уличных нападениях и грабежах. В городе, по ее словам, было очень опасно. Взбудораженный, Лео достал блокнот.
В зале института собрались в ожидании тридцать два немца. Лео поднялся на кафедру. Как обычно, вся подавленность и обремененность тут же улетучились. Он стоял, выпрямив спину, и мудро рассуждал о варварстве и культуре, о шуме, о крови, об опасностях – Элизабет заметила, что под влиянием впечатлений, полученных за последние дни, он отклонился от заранее заготовленного текста. Даже когда он импровизировал, фразы его были составлены идеально, а вокруг столь плотно сгустилась энергия, что невозможно было отвести взгляд. Тут завибрировал ее сотовый, и она поторопилась выскочить в коридор.
Его высокопревосходительство, сообщил ей сотрудник аппарата государственного секретаря, не отказывает ей в беседе. Подробности станут известны на следующий день. Заверив собеседника в глубочайшем почтении, Элизабет перезвонила Морицу. Тот сказал, что к процессу подключилось министерство иностранных дел, но возлагать особые надежды на политиков не стоит, да и у немецкой разведки в этом регионе мало людей. Придется действовать самостоятельно.
Когда она вернулась, Лео как раз закончил. Зал аплодировал. Он подписал с десяток книг, три раза ответил на вопрос, как ему в голову приходят такие идеи. Спустя всего ничего фрау Раппенцильх, вдруг разнервничавшись и раскрасневшись, поторопила их к выходу. Генеральный консул ждет, прием уже начался!
– Почему они вечно задают мне этот вопрос? – шепотом поинтересовался он, когда они уже сели в машину. – Насчет того, как мне в голову приходят такие идеи? Что это вообще за вопрос такой, что мне на него отвечать?
– А что ты отвечаешь?
– В ванне.
– Что?
– Что они приходят мне в голову, когда я принимаю ванну. Им этого достаточно. Они даже рады. Эй, погляди вон туда! Там афиша с Ральфом Таннером. Повсюду этот Таннер! От него даже на другом конце земли не спрячешься. Мы с ним познакомились в том году. Та еще обезьяна! О, а это что? – он нагнулся вперед и тронул фрау Раппенцильх за плечо. – Что это? Глядите! Там что, кого-то грабят?
Фрау Раппенцильх обернулась, но они уже проехали, и скопления людей было не видать.
– Вполне возможно, – ответила она. – Такое здесь часто случается.
Лео что-то записал в блокноте.
Резиденция генерального консула располагалась на холме, возвышаясь над дрожащим морем огней большого города. Черное небо низко нависало над головой, на нем не было ни звездочки. Слуги в ливреях сновали туда-сюда с подносами; повсюду были одни только немцы – серьезные, с прямыми спинами, напряженными лицами, будто застывшие с бокалами в руках. Лео тут же окружило пятеро мужчин; она не могла не заметить, как Рихтер ищет ее взглядом. Глаза у него горели от ярости. Казалось, от него волнами исходила разрушительная энергия, настолько мощная, что ее должны были ощущать все присутствующие.
– В ванне, – как раз произносил он в этот момент. – Все, что мне когда-либо приходило в голову, посещало меня именно в ванне. Всякий раз.
Ей преградил путь худощавый мужчина и, протянув руку, произнес:
– Фон Штюкенброк. Очень приятно!
Элизабет понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что собеседник только что ей представился. Тем временем подошел второй и также произнес:
– Очень приятно, Беккер.
– Зейферт. «Маннесман», – произнес третий. – Я возглавляю местное представительство «Маннесмана».
И он пустился в рассуждения о том, как прочел недавно в поезде последнюю книгу Рихтера, следуя из Бебры в Дортмунд. Весьма любопытно, не правда ли?
– Весьма, – ответила она, пытаясь выискать на его лице намек на иронию, на остроумную шутку, хоть на что-нибудь.
Штюкенброк поинтересовался, как такие идеи приходят в голову ее супругу.
– Кому? О, простите, он вовсе не… Когда он принимает ванну.
– Ах вот как! – промолвил Беккер.
Все трое наклонились поближе.
– Все его идеи, – пояснила Элизабет, – приходят ему в голову, когда он в ванне. Иначе не бывает.
– Возьму на заметку, – произнес Зейферт.
– Вы у нас в первый раз? – поинтересовался Беккер.
Она кивнула.
Беседа сошла на нет. Мужчины молча стояли рядом, закоснелые, словно мающиеся в темнице собственного я, завязанные внутри узлом, занесенные судьбой в совершенно отвратительное местечко вдалеке от их не менее отвратительного дома. Элизабет открыла было рот, но затем снова закрыла; сказать ей было нечего. Такое чувство, что она вынуждена была разговаривать со стиральными машинами, пожарными гидрантами или роботами, с которыми невозможно было найти общего языка. Тут зазвонил телефон. Впервые за несколько дней она испытала облегчение. Сделав извиняющийся жест, она поспешила наружу.
На проводе оказался всего-навсего журналист, откуда-то раздобывший ее номер и желавший знать, действительно ли ее коллег похитили.
– Не даю комментариев, – ответила она. – Но если вы подождете до завтра, возможно, мне будет что сообщить.
Он злобно поинтересовался, окончен ли на этом их разговор. Ведь больше она ничего не могла ему сообщить?
– На данный момент нет, – произнесла Элизабет. – Мне очень жаль.
Едва ступив на порог номера, Лео тут же начал жаловаться. Что же это за люди? Почему все вокруг такие тупые?
– Им непросто живется, – ответила она. – Ни у кого из них не задалась карьера. Они не там, где хотели оказаться. Или ты думаешь, что все они и впрямь мечтали сюда приехать?
Она отвернулась к окну. С фасада дома напротив на нее с афиши глядел Ральф Таннер. Лицо его было увеличено настолько, что, казалось, утратило все человеческое. Ей невольно вспомнился скандал, о котором она недавно где-то прочла: якобы в лобби какого-то отеля на Таннера накричала женщина, а потом влепила ему пощечину. Многие из находившихся поблизости туристов засняли эту сцену и выложили ее на «Ютьюб». Если Карла, Генри и Пауля застрелят, отрубят им головы, забьют камнями или заживо сожгут, велика вероятность, что и на это можно будет посмотреть в Интернете.
– Я больше не могу! – воскликнул Лео. – Знаешь, сколько раз меня за сегодня спросили, как мне в голову приходят такие идеи? Четырнадцать! И еще девять раз – о том, когда я предпочитаю работать: утром или после обеда. Восемь раз рассказали о том, как читали какое-то мое произведение в дороге – и в какой именно. Еда была отвратительной. Через месяц мне лететь в Центральную Азию. Я не в состоянии. Я откажусь.
– Прости, куда тебе лететь?
– В Туркменистан, кажется. Или в Узбекистан. Как будто кто-то может запомнить эти названия! Очередная писательская поездка.
– Почему ты вообще согласился? – потрясенно спросила она.
Лео лишь пожал плечами.
– Надо же посмотреть мир. Бросить вызов опасностям… Нельзя же их вечно избегать!
– Кого, опасностей?
Он кивнул.
Конечно, так реагировать не стоило. Вспоминая о том разговоре, она впоследствии спрашивала себя, что вообще на нее нашло – ведь до этого они ни разу не ссорились. Но в тот момент она просто не смогла сдержаться. Да что он вообще о себе возомнил? Он за всю свою жизнь еще ни разу не подвергался настоящей опасности – нет, он даже шнурки себе без посторонней помощи завязать не в состоянии! Боится пауков, боится летать, неспособен взять себя в руки, даже если поезд опаздывает! Разъезжать в машине под прикрытием бюрократов – да разве же это опасность? Это просто нелепо! Сил ее больше нет терпеть это бесконечное нытье!
Он внимательно смотрел на нее, не говоря ни слова; скрестив руки на груди, разглядывал ее почти что с любопытством. Она запнулась, охрипнув от крика, и замолчала. Гнев ее улетучился. Она оглянулась в поисках своего чемодана. Видно, так все и закончится; теперь ей придется уехать. Все кончено.
– Вот именно! – произнес он.
– Прошу прощения?
– Именно так все и должно быть, когда двое путешествуют вместе. Она несет всю ответственность, а он плаксив, эгоистичен и невыносим. Лара Гаспар и ее новый возлюбленный. Художник. Однако…
Он на мгновение умолк, словно прислушиваясь к внутреннему голосу.
– Однако она все равно понимает, что он гений. Несмотря ни на что.
Присев за маленький гостиничный столик, он принялся что-то царапать в блокноте.
Элизабет подождала, но, по всей видимости, Рихтер вообще забыл о ее существовании. Она улеглась в постель, укрылась одеялом с головой и спустя пару минут уснула.
Когда она очнулась, Лео все еще – или опять? – сидел на том же месте за столом. В окно пробивались бледные лучи утреннего солнца. Она смутно припоминала, что они и в эту ночь занимались любовью. Он улегся рядом, развернул ее на спину, и в полутьме под одеялом они слились воедино, утомленные, но охваченные некой странной яростью. Или все это ей просто приснилось? На память она уже не всегда могла положиться – видимо, виноват был посттравматический синдром. Но и признаться в своей забывчивости она не могла – Рихтер непременно бы этим воспользовался.
Лишь по прибытии в аэропорт она вновь связалась с Женевой. Мориц сообщил, что все трое, кажется, живы, и сейчас они пытаются собрать необходимую сумму для выкупа. У министерства нет на месте людей, которым можно было бы доверять, да и сам он не знает, на кого можно было бы положиться при ведении переговоров.
– Может, госсекретарь?
– Если все пройдет удачно, сегодня я с ним свяжусь.
– А где ты вообще?
– Даже не спрашивай. Долго рассказывать.
Элизабет опустила руку, в которой держала телефон. Лео уже занял место у гейта, хотя за стойкой еще даже не появился персонал. Она подала ему знак, но он отчаянно замотал головой и замахал руками, требуя наконец подойти.
– Перезвоню позже.
По прибытии их поджидала дама из германского культурного института по фамилии Ридерготт в толстом шерстяном свитере, очках с толстыми стеклами и забранными в пучок волосами. Вид у нее был такой, словно лицо ее было вылеплено из соленого теста.
– Герр Рихтер, скажите, как Вам в голову приходят такие идеи?
– В ванне, – произнес он, зажмурившись.
– А работать Вы предпочитаете…
– Исключительно после обеда.
Она поблагодарила его за разъяснения. На улице от земли поднимался влажный пар. С афишных тумб улыбался президент. Когда машина останавливалась на красный, на проезжую часть выскакивали полуголые ребятишки и принимались выкрутасничать.
– Я очень утомился, – произнес Лео. – Сегодня после выступления сразу же вернусь в гостиницу.
– Совершенно исключено, – отрезала фрау Ридерготт. – Нас ожидает посол. Будет роскошный прием, мы долго к нему готовились.
Добравшись до гостиницы, Лео позвонил в ПЕН-клуб и отказался от путешествия по Центральной Азии – не будут ли они так любезны пригласить вместо него, скажем, Марию Рубинштейн, ту, что сочиняет детективы? Она ему недавно признавалась, что не прочь была бы поработать. Сам же отправил ей смс: «Зовут в поездку, оч интересно, к сожалению, не могу, соглашайся, ПОЖАЛУЙСТА, я твой должник – ПРОШУ ТЕБЯ! Спасибо, спасибо, спасибо! Л».
Потом пожаловался Элизабет на фрау Ридерготт: надо же, какое лицо! Какая физиономия! Ничто ее не трогает! Вся раздута от гордости. Да бывают ли на свете люди хуже таких, как она?
– Да, – ответила Элизабет. – Бывают. Еще как.
После этого они занялись любовью, на этот раз не во сне, а наяву; впившись зубами ему в плечо, она на мгновение совершенно позабыла о своих пленных соратниках, а когда она так сильно уперлась ладонью ему в лицо, что он едва мог дышать, он и сам на пару мгновений забыл жаловаться и примечать все вокруг. Но вот все прошло, они вновь стали самими собой – и их охватило легкое замешательство, словно они только что осознали, что почти не знают друг друга.
Вечером Лео выступал в резиденции посла. Присутствовали земляки, занятые в промышленности, экономике, несущие дипломатическую службу – зал был полон мужчин в костюмах и дам в жемчугах. Загородный дом был в точности таким же, как тот, где он был вчера, внизу точно так же простирался огромный город, и если бы погода не была еще жарче, а воздух – еще грязнее, можно было бы подумать, что и место было тем же самым. Лео говорил свободно, не по бумаге, слегка запрокинув голову, устремив взгляд в потолок. Речь удалась на славу, но Элизабет понимала, что он в бешенстве. Если б он только мог, он приговорил бы всех присутствующих к смертной казни. Прекраснодушием Лео не отличался и добра людям не желал. И это было настолько очевидно, что Элизабет вновь задалась вопросом, отчего никто этого не замечал, – и, как всегда, ей тут же стало ясно, что все вокруг были погружены в свои заботы и интересы, окутаны ими, словно коконом, и практически не замечали того, что происходит у них прямо под носом. Доклад был окончен; раздались аплодисменты, и, словно в кошмарном сне, повторился прием, точно такой же, что и предыдущим вечером. Кто-то представился ей как герр Рит, кто-то – как доктор Хеннинг; вновь возникла фрау Ридерготт, бледная от волнения, потому что рядом с ней теперь стоял сам посол, хлопал Лео Рихтера по плечу и интересовался, как ему только в голову приходят такие идеи. И кстати, он как раз начал читать его последнюю книгу, когда сидел в самолете рейсом из Берлина в Мюнхен…
– Как интересно, – ответил Лео, на лице его читалось все, что он в тот момент думал.
Посол кивнул.
– Вы у нас в первый раз?
– И в последний.
– Вот как, – ответил посол.
– Я убью вас, – процедил Лео.
– О, я польщен, – произнес посол. – Я знаю, вы в надежных руках.
И, улыбнувшись фрау Ридерготт, он исчез в толпе.
К ним выстроилась очередь. Господа и дамы жали ему и Элизабет руку. Кто-то был родом из Вупперталя, кто-то из Ганновера, Байройта, Дюссельдорфа, Бебры, а один весьма тощий и прямой, как палка, господин – из Галле на Зале. Прошло не так много времени, и Элизабет начала задаваться вопросом, не была ли на самом деле эта страна вообще населена исключительно немцами.
– Вот! – произнес Лео, сев в машину. – Вот во что превращается искусство! Все остальное – лишь иллюзия и пропаганда. Я всегда об этом говорил! Вот только не знал, что это и в самом деле так! – Элизабет заметила, как он побледнел. – Вот ради чего весь труд, вся борьба, все волнения, этому отдаешь всю свою зря растраченную жизнь! Ради того, чтобы тебя приглашали всякие бездушные люди, жали тебе руки – чтобы лемурам было о чем поболтать, прежде чем пожрать!
Сидевшая впереди фрау Ридерготт вздрогнула и обернулась.
– Ну да ничего, все не зря! – воскликнул Лео. – Дорогая фрау Ридерготт, это я так, вообще!
Той ночью, опять запершись в ванной, она наконец сумела дозвониться до госсекретаря. Сидя на унитазе, она прижимала к уху трубку.
На ломаном английском тот сообщил ей, что положение затруднительное и он, в общем, ничем не может помочь. Но даже если бы мог, это требовало бы совершенно непомерных затрат.
– Финансовых?
– В том числе.
– Это совершенно очевидно, – ответила она. – Но средства в распоряжении имеются. Невозможно недооценить всю важность вашего вмешательства, и, поверьте, мы будем вам весьма благодарны.
Госсекретарь ответил, что ничего не может обещать, но еще выйдет на связь.
Пробравшись на цыпочках в комнату, Элизабет налетела в темноте на тумбочку. На пол покатился стакан, и Лео проснулся.
– Бежим отсюда!
– Что?
– Не пойду я завтра на прием Внешнеторговой палаты. Я просто исчезну. Полетели к пирамидам? Всегда хотел их увидеть.
– Хорошо.
– Ну а что они мне сделают? Засудят меня? – тут Рихтер засомневался. – А они вообще могут? Ну, в теории, я имею в виду. Теоретически они могут меня засудить?
– Не думаю.
– Да, но могут ведь?
Элизабет опустилась на подушки. У нее не было сил отвечать. Во тьме она чувствовала на себе его взгляд и понимала, что он хотел бы коснуться ее, но она так сильно устала, что даже не могла объяснить ему, насколько.
Наутро они уехали. Взяли такси в аэропорт, затем сели на ближайший рейс в сторону гор. На протяжении всего полета она уверяла его, что это ничем плохим не обернется, что никто не станет его преследовать и никого не сажают в тюрьму за то, что он, несмотря на данное обещание, не явился во Внешнеторговую палату. Под ними тянулась утопающая в зелени джунглей горная гряда, самая высокая из всех ею когда-либо виденных в жизни.
– Все как встарь, – произнес он. – Будто прогуливаешь уроки.
– Ты никогда не был прогульщиком.
– Тебе откуда знать?
– Значит, был?
– Каждый прогуливал школу.
– Только не ты!
Он отвернулся к окну и до самой посадки не произнес больше ни слова.
Воздух в горах был настолько разреженным, что было трудно дышать, а сердце с каждым шагом билось все сильнее. Дома и улицы переливались в лучах яркого солнца, заливавшего все вокруг, тени было не найти, и спустя всего несколько минут кожа начала изнывать от переизбытка света. Покуда такси, громко сигналя, продиралось сквозь толпу людей, она прослушала сообщение от Морица. По всей видимости, передавал он, вмешались местные власти, ничего еще точно не известно: одни говорят, что заложников отпустили, другие – что они мертвы. Коллега обещал перезвонить, как только ему станет что-то известно.
Они оставили багаж в первой попавшейся гостинице и наняли гида. Их проводник оказался высок, суров и молчалив. Включив сотовый, Лео обнаружил семь посланий от германского культурного института.
– Кажется, у меня все-таки будут неприятности. Ты точно уверена, что они не могут подать на меня в суд?
«Еще один раз я услышу этот вопрос, – подумала Элизабет, – и мне уже на все будет наплевать. Еще один только раз, и я улечу отсюда первым же самолетом».
Но вопросы на этом прекратились – хотя бы потому, что Лео было нечем дышать. Они карабкались на гору вслед за гидом, со свистом втягивавшим воздух. Сердце у Элизабет колотилось, тяжесть физических нагрузок возобладала над страхом. Дорога пролегала по невысокой траве, то тут, то там к каменистому склону жались тонкие деревца. Словно из ниоткуда набежали тучи, воздух стал влажным, а свет – рассеянным, будто после множества преломлений. Затем начался дождь.
К тому моменту, как они добрались до пирамид, разразилась настоящая гроза. Грохотал гром, эхом отдаваясь среди утесов, над горизонтом, извиваясь, сверкали молнии, и все, что они могли распознать, были три каменных вершины, проступавшие сквозь дымку. Проводник замер, не шевелясь. Капли бусинками скатывались по его пластиковому капюшону.
– На самом деле все это меня не интересует, – произнес Лео. – Я просто пишу. Я изобретаю. А смотреть ни на что не хочу.
– А я не хочу попадать ни в какие истории.
Он обернулся и посмотрел на нее.
– Не превращай меня в образ. Я не хочу становиться героиней одной из твоих историй. Вот все, о чем я тебя прошу.
– Но это все равно была бы уже не ты.
– И все же. Даже если это уже не я, это все равно я. И ты это знаешь.
Дождь перестал. Не прошло и нескольких минут, как среди облаков проглянуло солнце. Пронизанный его лучами, туман рассеялся, и на поверхности огромных монументов неожиданно показались ступени. Долина, простиравшаяся у их ног, казалось, ушла еще глубже вниз, и у Элизабет возникло такое ощущение, словно хребет, на вершине которого они стояли, медленно устремился вверх. Где-то неподалеку журчал ручей. Элизабет задавалась вопросом, отчего ей вдруг так хочется плакать.
– Здесь убивали людей, – проговорил Лео. – Каждый месяц. Тысячами.
– И это никуда не делось, – ответил гид, не поведя и бровью. – Если закрыть глаза, можно это почувствовать.
– Вы знаете немецкий? Откуда?
– Изучал этнологию в Гейдельберге. Четыре с половиной года.
В это мгновение у нее зазвонил телефон.
Розалия отправляется умирать
Из всех моих персонажей она мудрее всех. Лет семьдесят тому назад Розалия была совсем юна, в школе училась на отлично, затем окончила педагогическое училище, сама стала учительницей, сорок лет преподавала. Дважды была замужем, у нее трое давным-давно взрослых дочерей. Розалия овдовела, пенсии ей на жизнь хватает, а насчет определенных вещей она никогда не тешила себя иллюзиями – поэтому вовсе не была удивлена, когда на прошлой неделе врач сообщил ей, что рак поджелудочной находится в неизлечимой стадии и жизнь ее теперь стремительно подходит к концу.
– Вы ведь хотели знать правду, не так ли, – произнес он с таким выражением лица, словно Розалия была маленьким ребенком и ей стоило гордиться тем, что взрослый человек доверяет ей настолько, что говорит с ней начистоту. – Хорошего могу сообщить вот что: сильные боли вас ожидают только в самом финале.
Она приняла новое положение дел практически с облегчением. Не пришлось ей и проходить через пресловутые семь стадий: не было ни возмущения, ни самообмана, ни медленной борьбы до самого принятия – лишь короткий период неверия, за которым последовала ночь, полная глубокой печали; наутро она уже полезла в интернет смотреть, где находится та самая швейцарская ассоциация, о которой она слышала, будто там помогают людям поскорее свести счеты с жизнью.
Вы, вероятно, знаете, что ассоциация эта и впрямь существует, я ее не выдумал, ее штаб-квартира находится в пригороде Цюриха. Впрочем, ее истинного названия мне адвокат все же посоветовал не раскрывать. В Швейцарии существует несколько организаций, оказывающих помощь в добровольном уходе из жизни, я имею в виду самую известную. Но если вы о ней еще не слышали, учтите: сказка – ложь, да в ней намек. В ассоциацию необходимо вступить, заплатить весьма немаленький членский взнос и предоставить медицинское заключение, просмотрев которое, их собственный врач может подтвердить, что надежды на выздоровление действительно нет никакой. Затем, прибыв на место, клиент размещается на единственной имеющейся в распоряжении у этой организации площади – так называемой «квартире для отхода»: это комната с диваном, кроватью и столиком, на котором волонтер оставляет стакан с помещенным в него пентобарбиталом натрия. Его необходимо выпить, добровольно и без посторонней помощи.
Когда речь заходит о смерти, Розалию вряд ли можно чем-то удивить. Двоюродный брат ее первого мужа пустил себе пулю в голову, не потрудившись выяснить, насколько в реальности трудно убить себя таким способом и каков процент выживаемости. Угол выстрела был выбран неверно, и он еще несколько недель промаялся без нижней челюсти и в состоянии овоща. Сестра ее подруги Лоры четыре раза пыталась наглотаться снотворного. Всякий раз она принимала дозу побольше – и всякий раз приходила в себя в луже собственной рвоты и испражнений. Наш организм силен, а способность к выживанию у него выше, чем мы можем предположить в самые мрачные часы нашей жизни. Племянник Розалии Франк, родной брат Лары Гаспар, повесился одиннадцать лет тому назад. Шея его вся почернела от отметин, а на потолке остались глубокие следы от ногтей. В общем, нет ничего дурного в том, чтобы прибегнуть к помощи профессионалов, подумала Розалия и села на телефон.
На том конце провода трубку снял некий господин Фрейтаг. Говорил он негромко, вежливо, скорее даже учтиво – по всей видимости, опыт в такого рода беседах у него имелся.
Тут следовало бы упомянуть, что господина Фрейтага я выдумал. Сам я в эту организацию не звонил и не знаю, кто у них подходит к телефону и что говорит. Я даже собирался это выяснить, но всякий раз меня останавливал некий смутный страх и возникало такое чувство, словно я вот-вот совершу нечто непристойное – словно я вызываю духа, чтобы тот меня ублажал. Ну и вдобавок, я не отношусь к тому роду писателей, в творчестве которых все соответствует действительности. Кто-то, может, бывает и рад, если ему удается исследовать материал до мельчайших подробностей, а вывеска магазина, мимо которого их персонаж как-то раз прошествовал, не обратив на него ровным счетом никакого внимания, воспроизведена в точном соответствии с реальной. Мне же это совершенно безразлично.
– Все очень просто, – произносит герр Фрейтаг. Он называет ей адрес и номер факса; от нее требуется лишь послать им медицинское заключение, и с ней тотчас свяжется психиатр, чтобы убедиться в ее способности принимать осознанные решения. Затем по факсу ей направят заявку на вступление, которую необходимо заполнить; как только ассоциация получит от нее документы назад, можно назначать дату.
– Имеет ли смысл… – тут он впервые за весь разговор запнулся. – Имеет ли смысл говорить о срочности?
Розалия передала ему слова врача: речь идет о считанных неделях.
С того конца ответили, что в таком случае ее запрос будет обработан со всей возможной поспешностью.
Голос герра Фрейтага звучит невозмутимо – и в то же время в нем слышится участие. Он отлично справляется со своими обязанностями. «Ну а почему бы и нет, – думает Розалия. – Положим, в другом месте он мог бы зарабатывать и больше – но вдруг это и в самом деле его призвание?» Несмотря на обстоятельства, она даже чувствует нечто вроде благодарности.
Ночью ей снятся сны, какие не снились вот уже много лет. В венах пульсирует горячая кровь, а от чувственного возбуждения, воспоминания о котором после пробуждения чуть ли не повергают ее в шок, Розалию бросает в жар. Толпа народа вокруг, много шума, душные объятия. Вдруг возникают люди, о которых она уже лет пятьдесят не вспоминала – те, что, казалось, канули в Лету вечность тому назад; может, никого в живых и не осталось, кто помнил бы ее. Как же все это было давно. Видать, и впрямь пришел ее черед.
И все же она не может полностью покориться судьбе. А потому в этот ранний час Розалия обращается ко мне и молит о снисхождении.
– Но Розалия, это не в моей власти. Я не могу.
– Разумеется, можешь! Ведь это твой рассказ.
– Но это рассказ, в котором ты пускаешься в последний путь! Если бы не это обстоятельство, мне нечего о тебе было бы сказать. Этот сюжет…
– Мог бы принять иной оборот!
– Ничего другого мне в голову не приходит. Не в твоем случае.
Она отворачивается, но так и не смыкает глаз до самого рассвета. В этом ничего удивительного нет – в последний раз ей хорошо спалось более четверти века тому назад.
Проходит еще несколько дней, так, словно бы ничего не случилось и у Розалии еще много времени впереди. Страх постепенно отступает – или, вернее, он все еще присутствует, но ощущения утратили остроту и обернулись неким ровным, тупым, давящим чувством, не сильно отличающимся от болей в животе, с которыми она уже столько времени существует, что не может даже припомнить, каково это – когда у тебя ничего не болит. Вот она – жизнь человека, разменявшего восьмой десяток: тут тянет, там жжет, вечный дискомфорт и скованность суставов.
Дочерям Розалия решила ни о чем не говорить. Надо быть реалистом и понимать, что они давно уже ждут ее кончины. Она абсолютно уверена в том, что они подробно обговорили, на кого лягут заботы по организации похорон и где она должна упокоиться. Из чувства долга они не раз пытались уговорить ее прислушаться к голосу разума и отправиться в дом престарелых, но, поскольку удовольствие это недешевое, а Розалия все это время неплохо справлялась сама, дочери не проявляли достаточной настойчивости. Так к чему было обременять их теперь? К чему устраивать семейные сходки, к чему слезы, объятия и прощания? Будет гораздо лучше и гигиеничнее, если о том, чего все давно уже ждали, их известят из Цюриха официальным письмом.
Она приглашает своих ближайших подруг, Лору и Сильвию, на чашку кофе с пирогом. И вот они, три почтенных дамы, встречаются ближе к вечеру в лучшей кондитерской города, беседуют о внуках. Есть в жизни определенный рубеж, перейдя который говорят уже только о семье. Культура и политика становятся настолько абстрактными понятиями, что уже никак не затрагивают человека лично, а посему лучше оставить эти темы молодым, а воспоминания вдруг оказываются настолько личными, что делиться ими совершенно не хочется. Поэтому остаются внуки. Никого, конечно, не интересуют чужие внуки, но приходится слушать, чтобы затем иметь право поговорить и о своих.
– Паули у нас уже говорит, – сообщает Лора.
– А Хайно и Любби пошли в детский сад, – произносит Сильвия. – Воспитательница говорила, Любби так здорово рисует!
– Паули тоже очень хорошо рисует, – парирует Лора.
– А Томми любит играть в «казаки-разбойники», – говорит Розалия. Подруги кивают. Хоть они и знают Розалию вот уже тридцать лет, никто даже не задается вопросом, кто такой этот Томми. Никакого Томми и нет. Розалия его выдумала, зачем – она и сама толком не знает. Не знает даже, играют ли нынешние дети вообще в «казаки-разбойники» – ведь это такой анахронизм! И Розалия решает перед следующей встречей расспросить своего настоящего внука – как вдруг понимает, что больше никогда его не увидит. К горлу подступает ком, и какое-то время ей трудно вымолвить и слово.
Чтобы отвлечься, она глядит в висящее на стене зеркало в золотой раме. Неужто это и вправду они? В этих вот шляпках, с сумочками из крокодиловой кожи, с чудно накрашенными лицами, в смехотворных платьях и с театральными ужимками? Как так могло произойти? Ведь вот еще совсем недавно они были как все: знали, как следует одеваться, какую носить прическу, чтобы не выглядеть так смешно! «Ведь именно за это, – думает Розалия, – все так любят эту чудачку-сыщицу, мисс Марпл: за то, что ее образ прямо противоположен действительности! Старушки не раскрывают убийств. Окружающий мир им неинтересен, а то, что в нем происходит, они понимать отказываются. И каждая, еще не дожившая до такого возраста, уверена, что уж с ней-то все будет иначе. Как думали и мы».
Подруги прощаются: они просидели в кофейне почти целый час, и от мысли о том, что их так долго не было дома, женщинам становится не по себе. Поднявшись со стула, Розалия бросает еще один взгляд в зеркало: несмотря на то, что на улице лето, на ней теплая куртка – и непромокаемый капор, хотя вообще-то светит солнце. И на что ей такая большая сумочка, если в ней нечего носить? Даже одежда и та подсказывает, что ей здесь не место, что она – всего-навсего пережиток, остов, а не человек. «Да и вы вскоре отправитесь за мною следом», – думает она, на прощание целуя Сильвию и Лору в щеку, и, пожелав им получше справляться с внучатами и болью в спине, делает шаг с тротуара.
Подъезжавшего автомобиля Розалия не приметила. Раньше-то она, разумеется, не стала бы переходить улицу, не посмотрев по сторонам, – обязательно проверила бы, нет ли машин, для этого ей не пришлось бы даже задуматься. Раздается рев гудка, визжат тормоза, красный «Фольксваген» замирает на месте. Опустив окно, водитель что-то кричит ей вслед, но она продолжает идти – теперь уже и с другой стороны раздается визг тормозов, и белый «Мерседес» останавливается так резко, что его заносит в сторону, – такое Розалия раньше видела только в кино. Но она, не дрогнув, продолжает путь, и лишь дойдя до противоположной стороны улицы, чувствует, как колотится сердце и кружится голова. Прохожие замерли. «Есть, в общем, и такой способ, – думает она. – И время, и деньги на поездку в Цюрих сэкономить можно».
Какой-то молодой человек, подхватив ее под локоть, интересуется, все ли с ней в порядке.
– О да, – отвечает Розалия. – Абсолютно все!
Он спрашивает, помнит ли она, где живет и как туда добраться.
В ответ на это ей приходит в голову много остроумных фраз, но, подумав, Розалия решает, что время для шуток не самое подходящее, и заверяет юношу, что совершенно точно знает, где ее дом.
Придя домой, она обнаруживает, что мигает лампочка на автоответчике. Герр Фрейтаг доводит до ее сведения, что ее анамнез успешно прошел проверку. Вздрогнув, Розалия осознает, что все это время втайне надеялась, что поданные документы отклонят, и выяснится, что все это ошибка и она вовсе не неизлечимо больна. Она перезванивает, и спустя всего несколько секунд ее соединяют с психиатром, человеком также крайне учтивым.
Жаль только, что она плохо понимает диалект, на котором он говорит. «Что же такое с этими швейцарцами? – думает она. – Все на свете могут, а выучиться говорить нормально так и не сумели!» Она припоминает события своего детства, называет имена американского, французского и немецкого президентов, описывает погоду за окном; прибавляет пятнадцать к двадцати семи, двенадцать к тридцати, сорок к двумстам пятидесяти одному; поясняет, чем оптимизм отличается от пессимизма, аккуратность – от небрежности.
– Что-то еще?
– Нет, благодарю вас, – отвечает врач. – Случай совершенно ясен.
Розалия кивает. Складывая в уме, она нарочно старалась слишком быстро не отвечать, ждала секунду-другую, чтобы доктор вдруг не подумал, что ей кто-то подсказывает. Когда он просил ее истолковать противоположные по смыслу понятия, Розалия старалась выражаться как можно проще – ведь она, в конце концов, была учительницей и по опыту знала, что самое главное – не выделяться. Если получить на экзамене слишком уж высокий балл, непременно попадешь под подозрения в мошенничестве.
В трубке вновь раздался голос герра Фрейтага. Поскольку время поджимает, ассоциация могла бы принять ее уже на следующей неделе.
– Скажите, устроит ли Вас понедельник?
– Понедельник, – повторяет за ним Розалия. – Ну а почему бы и нет?
И перезванивает в турагентство, чтобы узнать, можно ли заказать билет в Цюрих в один конец.
– Рейс в один конец стоит дороже. Советуем взять туда и обратно.
– Пускай так.
– Обратный вылет на какое число?
– Неважно.
– Я бы не рекомендовал вам принимать поспешное решение. При выборе самого дешевого тарифа вы уже не сможете изменить дату обратного вылета, – голос сотрудника звучит так доброжелательно и терпеливо, как может звучать только голос человека, беседующего со старушенцией. – Давайте все же подумаем, когда вы хотели бы вернуться.
– Я не хочу возвращаться.
– Но когда вы будете уже на месте, вам этого захочется.
– Давайте все же закажем мне билет в один конец.
– Я могу забронировать для вас билет с открытой датой. Но это обойдется вам дороже.
– Дороже, чем в один конец?
– Нет, в один конец лететь дороже всего.
– Но где же логика? – удивилась Розалия.
– Прошу прощения?
– Это совершенно нелогично.
– Уважаемая, – служащий на проводе откашлялся. – У нас здесь турфирма. Мы не устанавливаем цены. И не имеем понятия, из чего они складываются. Моя подруга работает в авиакомпании – так вот, даже она этого не понимает. Не так давно мне попадался рейс на Чикаго, в котором билет бизнес-класса стоил дешевле, чем эконом. Клиентка тоже потребовала у меня объяснений, как так могло выйти. Что я ей ответил? «Уважаемая, если я буду задаваться такими вопросами, чего доброго, потеряю рассудок». Спросите у Интернета. Я тоже так делаю, когда у меня есть вопросы. В наше время все так делают!
– И что, всегда был такой порядок цен?
По молчанию в трубке Розалия поняла, что и этим вопросом сотрудник агентства задаваться не хотел бы. Она уже не раз замечала, что людей моложе тридцати совершенно не интересует, отчего в мире все так устроено.
– Так вот, мне билет в один конец.
– Вы уверены?
– Абсолютно.
– Каким классом? Бизнес?
Тут Розалия призадумалась. Но расстояние было небольшое – к чему лишние траты?
– Эконом.
Юноша что-то бормочет себе под нос, стучит по клавиатуре, снова бормочет, снова стучит – и вот по истечении долгих пятнадцати минут у нее наконец есть билет.
– К сожалению, – сообщил он, – отправить его по электронной почте не выйдет. Письма не уходят, и все тут. Могу только отправить к вам курьера – однако это обойдется вам еще дороже.
– Да отправляйте уже, – отвечает ему Розалия; нет, теперь уже с нее и впрямь довольно.
Положив трубку, она вдруг сознает, что теперь ничто на этой земле ее больше не должно волновать. Ни текущий кран, из-за которого она давно уже собиралась вызвать сантехника, ни мокрое пятно в ванной, ни соседский мальчишка, всякий раз глядящий в ее окно с таким вызовом, словно собирается в один прекрасный день ее обчистить, – все это уже не имеет никакого значения. Пусть об этом позаботятся другие – или никто. Все осталось в прошлом.
Тем же вечером она позвонила единственному человеку, которому хотела бы обо всем рассказать.
– Ты где? – спросила она.
– В Сан-Франциско, – ответила Лара Гаспар.
– В таком случае, болтовня по телефону может дорого тебе обойтись, не так ли?
Вот же странное дело: теперь практически с любым человеком можно связаться, где бы он ни находился, и даже не обязательно знать, где он, – словно само пространство уже не то, каким было когда-то. С одной стороны, ей было слегка не по себе, но с другой, Розалия была даже рада возможности поговорить со своей многомудрой племянницей.
– Даже и не думай. Но что с тобой? Голос у тебя какой-то странный!
Сглотнув, Розалия рассказала ей обо всем – и события вдруг начали казаться ей какими-то ненастоящими, инсценированными, словно то была не ее собственная жизнь, а чья-то еще, или всю эту историю просто-напросто кто-то выдумал. Кончив, она даже и не знала, что еще сказать. Отчего-то ей стало стыдно, и она в растерянности замолчала.
– Господи Боже, – произнесла Лара.
– Считаешь, я поступила неправильно?
– Что-то неправильное в этом есть. Но что именно, сказать сложно. Ты собираешься ехать одна?
Розалия кивнула.
– Не поступай так. Давай я поеду с тобой.
– Ни в коем случае.
Некоторое время обе они не говорили ни слова. Розалия понимает, что Лара, в свою очередь, понимает, что будь она немного понастойчивей, тетушка поддалась бы на уговоры – да Лара и сама понимает, что тетушка это понимает; но Розалия к тому же понимает, что у Лары на это не хватит сил – по крайней мере, не сейчас, вот так, с наскока, без подготовки, – а потому обе они делают вид, будто все решено, и ничего уже поделать нельзя.
Они еще долго беседовали, вечно повторяясь и заполняя эфир долгими паузами: говорили о жизни, о детстве, о Боге, о смерти, Страшном суде, аде и рае. Розалия то и дело думала, что все-таки не стоило никому звонить, что больше всего ей хотелось бы повесить трубку, но, разумеется, придется им еще побеседовать какое-то время, потому что на самом деле ей вовсе не хочется вешать трубку. В какой-то момент Лара начала тихо всхлипывать, и Розалия, как ей самой показалось, весьма мужественно и непринужденно с ней распрощалась – а потом не выдержала, и все началось с начала, и они проговорили еще целый час. «Не надо было этого делать, – подумала потом Розалия. – О таких вещах не рассказывают: нельзя обременять этим других». Вот что в ее поступке было неправильного, вот что имела в виду ее мудрая племянница. Такие поступки совершают в одиночку – или не совершают вообще.
Выходные пролетели на удивление легко – за исключением лихорадочных сновидений, до того наполненных людьми, голосами и событиями, словно весь кроющийся в душе ее мир стремился в последний раз вырваться наружу. Сны эти свидетельствовали о том, что она вовсе не так уж спокойна, как самой ей кажется днем. Утром в понедельник она решает перво-наперво собрать чемодан. Ей приходится призвать себя к порядку, поскольку путешествовать совсем уж без багажа кажется ей неправильным и странным.
И вот, сидя в такси, везущем ее в аэропорт, и глядя на мелькающие за окном дома, по крышам которых пляшут первые солнечные лучи, Розалия предпринимает еще одну попытку поговорить со мной.
– Неужто нет совсем никаких шансов? – спрашивает она. – Ведь все в твоих руках! Так дай мне пожить!
– Нет, не выйдет, – в растерянности отвечаю я. – Розалия, в том, что с тобой происходит, твое предназначение. Для этого я тебя и выдумал. Чисто теоретически я мог бы вмешаться, но тогда все это не имело бы никакого смысла! А потому – не могу.
– Глупости, – отвечает мне она. – Все это просто отговорки. Когда-нибудь придет и твой черед и ты тоже взмолишься, как я.
– Но это же совсем другое дело!
– И откажешься понимать, почему для тебя не могут сделать исключения.
– Такие вещи сравнивать нельзя. Ты – плод моего воображения, а я…
– Да-да?
– Я настоящий!
– Ах вот как! И что же?
– Доверься мне. Больно не будет. Уж, по крайней мере, об этом я позаботиться могу, я тебе обещаю. В моем рассказе…
– Прошу прощения, но чихать я хотела на твой рассказ. Может, он вообще выйдет никуда не годным!
Во мне вскипает злость, но я молчу. А чтобы Розалия не начала вновь ко мне приставать, устраиваю так, что пару минут спустя она уже прибывает в аэропорт: машина мчалась с невероятной скоростью, улицы слились и превратились в красочный переполох – и вот старушка уже выходит из такси. Очереди на регистрацию нет, контроль она проходит быстро – и не успела Розалия и глазом моргнуть, как она уже сидит рядом с гейтом, окруженная бизнесменами и ребятишками. Наша беседа отошла в ее сознании на второй план, и она уже даже не знает, действительно ли я ей отвечал или она додумала все за меня сама.
Рейс задерживается. Самолеты вечно задерживаются, всегда, без исключения – с этим даже я ничего не могу поделать. Итак, Розалия сидит в зале ожидания. В окна, мягко скользя, проникают лучи солнца. Если до этого она не испытывала страха, тут ее словно парализовало от ужаса.
Именно в этот момент объявляют посадку на Цюрих: все, началось. Розалия приподнимается с места, и пассажирка с того же рейса спрашивает, не нужна ли ей помощь. На самом деле не нужна, но с чего бы ей отказываться от дружелюбия и поддержки? И Розалия позволяет проводить себя в салон.
По счастью, ей досталось место у окна. Она решает, что не упустит ни единого мгновения, будет глядеть наружу так, словно все может забрать с собой. Как хорошо под самый конец взять – да и перелететь через Альпы! Самолет выруливает на взлетную полосу, заводятся моторы…
И Розалия просыпается, когда машина уже идет на посадку, а сила торможения вдавливает в нее ремень. Уши болят; она потирает лоб. Неужто она и впрямь – вот так вот, целый рейс?.. Невозможно поверить. Снаружи под серым – без единого проблеска – небом тянется посадочная полоса. Увы, но это так: она все проспала.
– Разве мы уже на месте? – спрашивает она у соседа.
– Мы в Базеле, – качает головой тот.
– Где?!
– Над Цюрихом туман, – поясняет он, глядя на Розалию так, будто это она во всем виновата. – Пришлось сесть в Базеле.
Уставившись в спинку кресла перед собой, Розалия собирается с мыслями. Что происходит? Может, это и есть тот самый нежданный поворот событий, призванный спасти ей жизнь? Не я ли это вмешался и прервал ее путешествие?
– Но Розалия, ведь у тебя рак, – отвечаю ей я. – Ты в любом случае умрешь. И даже если твое путешествие вдруг прервется, тебя это не спасет.
– Да, но рассказ мог бы выйти совершенно иной, – отвечает мне она. – Например, я могла бы за оставшиеся две недели вкусить, какова жизнь на самом деле. Сделать что-то, чего не делала еще никогда. Могла бы получиться одна из тех историй, в которых говорится, что мы никогда не ценим того, что происходит с нами в настоящий момент, и жить надо так, словно через пару дней все закончится. Вполне позитивная и… Как оно там называется?
– Жизнеутверждающая. Это называется «жизнеутверждающая история».
– Вот именно!
– Розалия, сейчас авиакомпания предложит тебе две опции: либо лететь дальше до Цюриха, правда, непонятно когда, поскольку туман над городом сгустился очень уж плотный, либо ехать поездом. Это тебе вполне по силам. Ты выберешь поезд. Никакая это не жизнеутверждающая история. Если ее и можно как-то охарактеризовать, то она носит скорее богословский характер.
– Это еще почему?
Я молчу.
– Так почему все-таки богословский? – повторяет она. – Что ты имеешь в виду?
Я молчу.
– Ну, полно вам, – обращается к ней сосед. – Не так уж все и плохо. Доберетесь вы до своего Цюриха, осталось недалеко. Плакать только из-за этого не стоит.
Перед тем как ступить на трап, Розалия взяла себя в руки. Вот представитель авиакомпании раздает мрачным пассажирам купоны. Розалия и впрямь решила ехать на поезде, а поскольку вид у нее не слишком здоровый и впечатление она производит хрупкое, находится даже сотрудник, готовый подвезти ее до вокзала на машине. Поезд уже ждет ее у платформы.
– Осторожно, ступенька, – предупреждает ее молодой человек. – Осторожно, тут зазор между платформой и поездом. Осторожно, еще ступенька. Как вам вот это место? Осторожно, пожалуйста.
Немного погодя поезд уже несется между зеленых холмов, и на этот раз Розалия решительно не собирается засыпать.
Просыпается она, когда вагон ее тормозит у какого-то провинциального полустанка. Над крышами ужасно некрасивых домов нависает туман. На платформе хнычет ребенок; у матери вид такой, словно она только что наступила в коровью лепешку. Розалия потирает щеки, и тут по громкой связи раздается голос начальника поезда:
– Произошел несчастный случай, пострадал человек. Просим выйти из вагонов.
– Самоубийство, – радостно произносит какой-то мужчина.
– Под поезд кинулся, – поддакивает ему женщина. – Вот его, верно, разорвало-то – ни клочка не осталось!
– Ботинок, разве что, – продолжает мужчина. – Да и тот бог знает где найдут.
Все сочувственно кивают, затем поднимаются с мест и высаживаются на платформу. Один из пассажиров помогает Розалии сойти. Вот она и снаружи; моросит дождь. Не зная, куда податься, она направляется к вокзальному кафе. Со стены на нее, улыбаясь, смотрит Мадонна, на черно-белом снимке рядом с ней запечатлен какой-то генерал, еще чуть поодаль – портрет горного проводника с киркой в руках. Четыре швейцарских флага. Кофе просто отвратительный.
– Желаете попасть в Цюрих, достопочтеннейшая?
Она поднимает взгляд. За соседним столиком сидит худощавый мужчина: волосы у него сальные, а на носу очки в роговой оправе. Кажется, она видела его в поезде.
– Если это так, я мог бы подвезти вас.
– У вас тут что, есть машина?
– На свете много машин, достопочтеннейшая.
От неожиданности Розалия умолкла. Но, в конце концов, что ей было терять? И она кивнула.
– Соблаговолите следовать за мной. Вы торопитесь, я полагаю, – размашистым жестом он достает из кармана портмоне и расплачивается за ее напиток, затем подходит к вешалке, снимает с крючка ярко-красную фуражку, надевает на голову, долго поправляет.
– Простите, что не могу помочь вам – к сожалению, страдаю болями в спине. Как ваше имя?
Розалия представилась.
– Очень приятно! – произносит он, берет ее за руку и прижимается к пальцам губами; Розалия невольно отдергивает руку. Сам же спутник и не думает представляться. Он прям, как палка, движения плавные, и совершенно не похоже, чтобы у него болела спина.
Розалия следует за ним на парковку. Он несется вперед, не оборачиваясь, и она едва за ним поспевает. Там он поочередно останавливается то у одной, то у другой машины, в задумчивости склонив голову набок и поджав губы.
– Как вам это авто? – спрашивает он, подойдя к серебристому «Ситроену». – Мне оно кажется вполне достойным.
И он вопросительно смотрит на Розалию. Та в растерянности кивает. Мужчина наклоняется к двери, производит над ней какие-то манипуляции, и та спустя мгновение распахивается. Он занимает место на сиденье и принимается орудовать в замке зажигания.
– Что вы делаете?!
– Достопочтеннейшая, вы что же, не будете садиться?
Помедлив, Розалия опускается в пассажирское кресло. Заводится мотор.
– Это ваш автомобиль или вы его только что…
– Разумеется, это мой автомобиль, достопочтеннейшая! Вы что же, оскорбить меня решили?
– Но ведь вы же только что… В замке зажигания…
– Это новейшее изобретение, очень сложная технология. Откиньтесь назад и не волнуйтесь. Путь нам предстоит недолгий, даже при том, что гнать на максимальной скорости я не могу – на улице туман, а подвергать вас опасности я не желаю.
Тут мужчина разразился блеющим хохотом, и по спине у Розалии пробежала дрожь.
– Кто вы? – хрипло спросила она.
– Я дружелюбный человек, достопочтеннейшая. Ищущий, странствующий, помогающий. Я ваша тень, ваш брат. Как всякий человек – другому человеку.
И вот они уже выехали на шоссе. За окном мелькают столбики. Скорость такая, что Розалию просто вжимает в кожаное сидение.
– Как в той старинной загадке, достопочтеннейшая, – произносит мужчина, покосившись на нее. – Утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Глубокомысленно, не правда ли? – Он включает радио. Раздается оглушительный вой альпийских рожков, на заднем плане кто-то поет йодли. Мужчина принимается насвистывать, постукивать в такт по рулю, совершенно не попадая в ритм. – Человек – всего-навсего мыслящий тростник, достопочтеннейшая, – un roseau pensant, что же еще! Я доставлю вас до цели, а взамен не потребую от вас ну совершенно ничего, даже не переживайте.
– Сделай же что-нибудь, – обратилась она ко мне. – Ну же, давай, испорти свой рассказ – кому он вообще нужен? На свете столько всяких историй, одной больше, одной меньше – какая разница! Ты мог бы сделать так, чтобы я выздоровела, мог бы даже вернуть мне молодость – и тебе бы это ничегошеньки не стоило!
Ай да старушка – чуть было не заставила меня расчувствоваться! Но на данный момент меня куда больше беспокоит другое, а именно – что я не имею ни малейшего представления о том, что это за человек ведет сейчас автомобиль, кто его придумал и каким образом он попал в мой рассказ. В моих планах был маленький мальчик, велосипед, орава байкеров и колумбийский гробовщик глубоко пенсионного возраста. И маленькая собачонка, которой отводилась весьма немаловажная роль на символическом уровне – да и на прочих уровнях тоже. И что теперь? Получается, что двадцать страниц набросков, часть из которых, кстати сказать, была довольно удачной, можно отправить в мусорную корзину?
Но вот они уже сворачивают с шоссе. Перед ними вырастают пригороды Цюриха: домики, садики, реклама молока, снова садики, школьники с непомерно большими ранцами… Вдруг водитель ударяет по тормозам, выскакивает из авто и открывает Розалии дверцу.
– Прошу, достопочтеннейшая!
– Мы прибыли? – интересуется она, высаживаясь из машины.
– Ну разумеется! – ее спутник нелепо склоняется до земли, руки его свисают плетьми, тыльной стороной ладоней он касается асфальта. На мгновение замерев, он выпрямляется вновь. – Со всей определенностью. Что бы вы ни замыслили, действовать надо со всей определенностью. Помните об этом.
С этими словами он, отвернувшись, зашагал прочь.
– Но как же ваша машина? – воскликнула Розалия.
Однако мужчина тем временем уже успел скрыться за поворотом. «Ситроен» так и остался стоять с распахнутой дверцей, мигая поворотниками. Моргнув, Розалия сфокусировала взгляд на адресной табличке и со смесью облегчения, досады и удивления обнаружила, что высадил он ее не там, где нужно.
Вытянув руку, чтобы поймать попутку, она долго стояла под дождем, мокла и чувствовала себя настолько несчастной, что просто не хватало слов. Но вот наконец останавливается такси; сев в машину, женщина называет верный адрес и прикрывает глаза.
– Дай мне еще пожить, – предпринимает она последнюю отчаянную попытку. – Забудь ты про свой рассказ. Просто дай мне пожить.
– Ты цепляешься за иллюзию того, что ты на самом деле существуешь, – отвечаю я. – А на самом деле ты состоишь из слов, расплывчатых образов и пары примитивных мыслей – и все они принадлежат не тебе. Тебе только кажется, что ты страдаешь. Но в действительности нет тут никакого страдальца! Никого нет!
– Надо же, как хитро придумано. Засунь свои уловки себе в задницу!
На мгновение я утратил дар речи. Понятия не имею, откуда она набралась таких слов. Ей это не идет, это портит весь стиль, это роняет достоинство моей прозы – Розалия, возьми себя в руки!
– Мне больно. Я не хочу. Тебе это все тоже предстоит – тогда и тебе кто-нибудь скажет, что тебя на самом деле не существует.
– Розалия, в этом вся суть. Я существую.
– Да неужели?
– У меня есть личностные качества, есть чувства, душа, пусть и не бессмертная, но зато самая настоящая. Чего ты смеешься?
Водитель оборачивается, пожимает плечами: у пожилых людей часто бывают заскоки. По стеклу снуют туда-сюда дворники, из луж брызжет дождевая вода, люди выглядывают из-под зонтиков. «Мой последний путь», – проносится в голове у Розалии, и именно оттого, что все так и есть, мысль эта кажется ей пафосной и неискренней. «Неважно, как была прожита жизнь, – думает она, – в конце неизменно ждет разочарование». Проходит минута за минутой, остается только ждать. Впереди у нее еще около двадцати минут, а в каждой – множество секунд; часы отмерят еще тысячи ударов, и конец пока не кажется реальным.
– Мы прибыли! – сообщает водитель.
– Как, уже?
Он кивает. Она вдруг понимает, что не успела поменять деньги и у нее нет с собой франков.
– Пожалуйста, подождите немного. Я скоро вернусь.
Она выходит из автомобиля. У нее в голове не укладывается, что последним ее поступком на этом свете станет уклонение от уплаты таксисту. Но ведь жизнь – до того непредсказуемая, грязная штука, а теперь на ней и ответственности-то никакой. Вот домофон, вот кнопки звонков, вот она, табличка с названием ассоциации – как будто оно может означать что-то еще, кроме смерти. Она звонит, и дверь тут же с жужжанием поддается.
Видавший виды лифт, скрипящие тросы. Поднимаясь, она осознает, что в реальности даже и не думала переступать порог этого дома. Кабина замирает, открываются двери, и перед ней словно из ниоткуда возникает тощий мужчина с пробором посредине – так, словно он собирался помешать ей нажать на кнопку и вновь умчаться вниз.
– Добрый день. Моя фамилия Фрейтаг.
И что теперь?
Знаю, знаю, мне следовало бы описать все в подробностях. То, как Розалия пересекла прихожую и вошла в ту самую комнату, в которой совершался отход. Описать стол, стул, постель, расписать в красках, до чего потертой была мебель, каким подозрительно пыльным оказался шкафчик на стене, как все в ней выглядело и попользованным, и необжитым одновременно, словно обитали здесь не люди, а тени. И, разумеется, камера, я обязательно должен был бы упомянуть о камере, установленной для того, чтобы зафиксировать, что неизлечимо больные клиенты сами принимают яд, и никто их к этому не принуждает – ведь с юридической точки зрения у ассоциации тоже должно было быть все чисто, – и наглядно продемонстрировать, как Розалия присаживается, как роняет голову на руки, как поворачивается к окну, в последний раз устремив взор в туманные дали, как страх в ее душе уступает место измождению, как она подписывает необходимые бумаги – вот здесь, многоуважаемая, вот здесь, а потом еще вот здесь, – и как в конце концов перед ней ставят стакан с ядом. Должен был бы поведать вам, как она подносит его к губам, сосредоточиться на охватившем ее противоречивом чувстве стремления к желаемому и сопротивления ему, с которым она глядит на налитую в стакан жидкость, на то, как Розалия колеблется, пусть и недолго – ведь все-таки ей по-прежнему хочется повернуть назад, снова выбрать жизнь со всеми ее страданиями и противоречиями, пусть даже на считанные дни, – и все это лишь для того, чтобы показать, как в итоге она сделает то, что и собиралась: ведь не для того же она проделала столь долгий путь, чтобы повернуть назад, подступив к самому рубежу. Должен был бы описать нахлынувший на нее в последнюю минуту поток воспоминаний – о том, как она играла на берегу тихого озера, о влажных материнских губах, об отце, прятавшемся за воскресную газету, о соседке по парте, о мальчике, которого она с тех пор и не вспоминала, о бабушкиной пташке в клетке, умевшей разборчиво произносить отдельные слова, – ведь, если говорить начистоту, за все семьдесят два года, что прошли с тех пор, ничто ее в жизни так не завораживало, как это говорящее животное.
Да, из этого мог бы выйти недурной рассказ, пусть даже немного сентиментальный, но меланхолию в нем уравновесила бы доля юмора, жестокости придал бы легкость философский настрой. Я ведь все продумал. А что теперь?
А теперь я все это сам же и разрушу. Я срываю занавес, обретаю плоть, появляюсь у двери лифта рядом с герром Фрейтагом. На мгновение уставившись на меня с недоумением, он бледнеет и рассыпается в прах. Все, ты здорова, Розалия. И, раз уж на то пошло, еще и снова молода. Начни все сначала!
Прежде чем Розалия успевает вымолвить хоть слово, я вновь исчезаю – а она, стоя в лифте, со скрипом несущем ее вниз, не может поверить в то, что из зеркала на нее смотрит двадцатилетняя девушка. Да, пускай зубы немного кривоваты, волосы тонкие, а шея слишком тощая – красавицей Розалия никогда не была, но еще и внешность что надо я ей устроить не могу. Хотя, с другой стороны, почему нет? Какая уж теперь разница…
– Благодарю!
– Не спеши с благодарностями, – в изнеможении бормочу я.
Распахнув дверь, она выскакивает на улицу – ведь ноги у нее уже не болят. Вид у нее, юной леди, одетой, как настоящая старушенция, несколько странный. Но поскольку таксист не узнает в ней свою клиентку, он и не думает ее останавливать – а потому, оставшись без обещанного вознаграждения, будет поджидать клиентку еще полчаса, озабоченно поглядывая на тикающий счетчик, пока наконец не примется колотить во все двери подряд. В ассоциации ему ответят, что они действительно ожидали сегодня визита одной пожилой дамы, но та отчего-то проигнорировала назначенное ей время. Выругавшись, он отправится восвояси, а вечером, поглощая практически несъедобный ужин, приготовленный женой, будет еще молчаливее обычного. Вот уже долгое время он раздумывает, не прикончить ли ее – ножом ли, ядом или голыми руками, – но именно в тот вечер примет окончательное решение. Но это уже совсем другая история.
А что же Розалия? Она, широко шагая, идет по улице, так окончательно и не придя в себя от радости – и на мгновение мне кажется, что я поступил правильно, что главное – проявить милосердие, а то, что в мире будет на один рассказ меньше, и правда никакой роли не играет. И в то же время – не могу скрывать! – меня посещает нелепая надежда на то, что кто-нибудь когда-нибудь и ко мне так же отнесется. Ведь я, как и Розалия, не могу себе представить, что если никто не обращает на меня внимания, то и сам я – ничто; что моему и без того полумифическому существованию приходит конец, стоит только этому Другому отвести от меня взгляд, – вот как сейчас, когда я наконец прощаюсь с сюжетом навсегда, приходит конец существованию Розалии. В одно мгновение. Без борьбы со смертью, без боли, без всякого там перехода в мир иной. Только что еще была здесь эта странно одетая, пораженная и растерянная девчушка – и вот уже вместо нее осталось лишь легкое завихрение в воздухе, эхо голоса, что продержится лишь каких-то несколько секунд, воспоминание, постепенно тающее в моей и в вашей голове, покуда вы читаете этот абзац.
Если что-то вообще и останется, так это улица, омываемая дождем, вода, бусинками сбегающая по дождевикам двух детишек, вон та задравшая лапу собачка, зевающий чистильщик канализации да три сворачивающих за угол автомобиля с незнакомыми номерами: кажется, будто они прибыли откуда-то издалека, из какой-то иной действительности – или уж, по крайней мере, из совсем другого рассказа.
Выход
В начале лета того года, когда ему исполнилось тридцать девять лет, актер Ральф Таннер вдруг почувствовал, что в своих же собственных глазах становится каким-то ненастоящим.
Еще вчера телефон его разрывался, а наутро умолк. Пропали с горизонта давние друзья, профессиональные планы начали рушиться совершенно без всяких на то оснований, женщина, которую он любил по мере своих скромных сил, вдруг начала заявлять, что он жестоко насмехался над ней по телефону, а другая – Карла – вдруг заявилась в лобби его отеля и устроила ему самую неприглядную сцену за всю его жизнь: кричала, что он кинул ее целых три раза – причем просто так! Проходившие мимо люди останавливались, смотрели на них с усмешкой, некоторые даже достали мобильные телефоны и принялись снимать происходящее, а когда Карла с размаху влепила ему пощечину, он понял, что эти несколько секунд вскоре всплывут в Интернете и затмят славу лучших его кинокартин. Спустя некоторое время Ральфу пришлось расстаться со своей овчаркой, потому что у него вдруг разыгралась аллергия, и от тоски он закрылся у себя и принялся писать картины – правда, никому не решался их показывать. Покупал альбомы с фотографиями узоров на крылышках центральноазиатских бабочек, читал книги о том, как правильно разбирать и снова собирать часы, так ни разу и не заставив себя попробовать.
Он принялся по нескольку раз в день набирать свое имя в «Гугле», поправил кишащую ошибками статью о себе в «Википедии», перепроверил перечни занятых в картинах актеров на различных порталах, с трудом перевел отзывы на испанских, итальянских и голландских форумах: там совершенно чужие люди спорили о том, правда ли, что он много лет назад рассорился со своим братом, – и Ральф, который всю жизнь своего братца терпеть не мог, читал их комментарии, словно ждал, что в них где-то встретится объяснение тому, что с его жизнью происходит.
Он отыскал на «Ютьюбе» видео одного весьма способного двойника. Мужчина до того был на него похож, что нетрудно было и перепутать, и даже голос и жесты весьма напоминали его, Таннера. Справа, в колонке рекомендованных к просмотру видео, всплывали другие связанные с его именем сюжеты: сцены из фильмов, пара интервью – и, разумеется, приключившийся в гостинице скандал с Карлой.
Тем вечером он пригласил на свидание женщину, за сердце которой долго боролся, – но, оказавшись напротив, вдруг понял, что не может больше делать вид, будто ему интересна ее болтовня. Взгляды, которые на него бросали из-за соседних столиков, то, как перешептывались и пялились на него другие посетители, раздражало его еще больше, чем обычно. Как только они поднялись и собрались покинуть заведение, к ним подошел мужчина и, как это всегда бывает, со смесью настойчивости и смущения попросил автограф.
– Мы просто похожи, – ответил Ральф.
Мужчина смерил его недоверчивым взглядом.
– Это моя профессия. Выступать. Я – двойник.
Просящий отступил, позволив им пройти. Спутница Таннера даже в машине продолжала заливаться смехом – таким остроумным ей показался ответ.
Той ночью, наблюдая, как в серости зеркального отражения очертания двух их обнаженных тел сливаются в одно, Таннер отчаянно желал оказаться по ту сторону гладкого стекла. На следующее утро, прислушиваясь к ее ровному дыханию рядом с собой, он не мог отделаться от ощущения, что в одной комнате с ним оказался кто-то чужой – но чужим этим была не его подруга, а некто другой.
Он давно уже подозревал, что бесконечные фотосъемки словно эксплуатируют его лицо. Может ли такое быть, что всякий раз, когда его снимали, возникало другое «Я», не вполне совершенная копия, вытесняющая его из себя самого? Ему казалось, будто по истечении долгих лет славы от него осталась лишь малая часть и стоит лишь умереть, чтобы целиком и полностью перейти в ту плоскость бытия, в которой ему и место: на пленке и на бесчисленных фотокарточках. И тогда ему наконец-то не будет больше мешать это тело, которое по-прежнему дышит, испытывает голод и по неясной причине околачивается то тут, то там, – тело, которое и так уже не вполне соответствует привычному облику Ральфа Таннера. Чтобы и впрямь походить на себя на экране, ему требовались тонны грима, долгая кропотливая работа и колоссальные усилия по поддержанию собственного образа.
Он позвонил своему агенту, Мальцахеру, отменил поездку на фестиваль в Вальпараисо и направился в пригород, где, как он прочел в Интернете, нынче вечером на дискотеке «Луп-пул» должны были выступать двойники известных киноактеров. Он попросил водителя подождать снаружи и вошел в здание. Вот уже много лет Таннер не испытывал такого стеснения. Какой-то человек потребовал от него было платы за вход, но, присмотревшись, пропустил так.
В зале было жарко и душно. Горели прожектора. У барной стойки стоял тип, похожий на Тома Круза, с другой стороны прокладывал себе путь через толпу Арнольд Шварценеггер, ну и, разумеется, как же было обойтись без дешево разодетой леди Ди. Посетители оборачивались на него, но не задерживали взгляда и смотрели на Ральфа без особенного интереса. Взобравшись на подиум, леди Ди исполнила «С днем рождения, мистер президент»; было совершенно очевидно – кто-то что-то напутал, но зрители ревели от восторга. Некая женщина улыбнулась ему, он ответил ей взглядом. Та подошла поближе. Сердце его колотилось, он не знал, что и сказать. Но вот она уже очутилась рядом и увлекла его на танцпол, прижавшись к нему всем телом.
Спустя какое-то время он обнаружил, что теперь и сам оказался на подиуме. Все выжидающе смотрели на него. Он повторил свой знаменитый диалог с Энтони Хопкинсом из «Заточенного в Луне»; пародия на Хопкинса давалась ему легко, а вот в собственных репликах он не был так уверен. Зрители ликовали и хлопали в ладоши; Ральф соскочил обратно в зал, и женщина, с которой он только что танцевал, прошептала ему на ухо свое имя: Нора.
Похлопав его по плечу, хозяин дискотеки всучил ему пятьдесят евро и сказал: «Недурно, недурно, хоть пока и не очень здорово. У Таннера немного другая манера речи, а руки он держит вот так! – тут он продемонстрировал, как надо. – Внешне-то ты похож, но вот над подачей еще надо поработать. Больше смотри кино – и возвращайся через неделю!»
Выйдя на улицу со своей новой спутницей, Таннер растерялся. Его вдруг осенило, что пригласить ее к себе он не может – ведь как только она увидит и дом, и лакеев, так сразу поймет, что он не тот, за кого себя выдавал… Вернее, как раз-таки тот. Сделав вид, что не замечает поджидающего его водителя, он остановил такси и наплел ей что-то про гостившего у него в тот момент брата; по тому, как спутница на него посмотрела, Таннер понял, что она не верит ни единому его слову и считает, что он попросту женат. И все же Нора поинтересовалась, не смутит ли его, что у нее не прибрано.
В той крохотной, но крайне опрятной квартирке Ральф Таннер провел лучшую ночь своей жизни – ведь это не он, а другой, вцепившись в нее, возил ее по постели то туда, то сюда с такой силой, с какой сам он никогда бы не мог обладать женщиной. На рассвете, погладив его по загривку, она прошептала ему, что он великолепен. Эту фразу Таннер слышал множество раз, но понимал, что никогда доселе она не была сказана искренне.
На следующий день он снял в ветхом доме неподалеку меблированную комнату на имя Маттиаса Вагнера. Арендодатель воззрился на него в недоумении, но Ральфу достаточно было пояснить, что подрабатывает двойником, – и тот больше не задавал вопросов. Всю следующую неделю он проводил либо там, либо у Норы – а то и просто гулял по улицам, наслаждаясь, что никто не провожает его взглядом, поскольку соседи уже прознали, кто такой их новый жилец и чем зарабатывает на жизнь.
Однако на следующем выступлении в «Луп-пуле» он облажался. Оказавшись на сцене, Ральф, едва начав произносить текст, вдруг растерялся. Что-то пошло не так. Он чувствовал себя зажатым, голос звучал скованно, а когда он попытался было припомнить, в каком положении были его руки в той сцене, что он пародировал, ему все никак не приходило в голову, что он чувствовал тогда, о чем думал, как вообще все происходило – лишь видел перед собой самого себя, словно на экране. Он почувствовал, как интерес зрителей угасает, и лишь благодаря профессиональному инстинкту сумел довести выступление до конца.
Тут он заметил, что в зале был еще один двойник Ральфа Таннера. По «Ютьюбу» он помнил, что тому удалось достичь поразительного сходства – но личное впечатление превзошло все ожидания. У мужчины было крепкое рукопожатие и пронзительный взгляд, знакомый Таннеру по его же собственным ролям. Он был высок, широкоплеч и излучал уверенность, смелость и силу.
– Вы в нашем деле новичок, – обратился он к Таннеру.
Тот в ответ лишь пожал плечами.
– Я пародирую Таннера еще с тех времен, когда на экраны вышел его второй фильм. Поначалу это для меня была просто подработка, у меня тогда еще была ставка в бюро находок. Но потом его карьера пошла в гору, и я уволился. – Он посмотрел на него, сощурившись. – Вы хотите сделать это своей профессией? Занятие отнюдь не из простых. Придется много упражняться. Чтобы изобразить человека, необходимо проживать его жизнь вместе с ним. Порой, выходя на улицу, я даже не замечаю, что в образе. Я живу Таннером. Думаю, как он, – порой целыми днями не расстаюсь со своей ролью. Я и есть Таннер. А на это уходят годы.
От владельца «Луп-пула» ему на этот раз досталась только тридцатка. Выступление, по его словам, и впрямь было так себе, да и над внешним сходством еще предстояло поработать.
На мгновение в нем вспыхнула ярость. Он уставился хозяину прямо в глаза, и, по всей видимости, тот и впрямь ощутил на себе легендарный взгляд, знакомый зрителю по дюжине кинокартин: он попятился, потупился и пробормотал что-то неразборчивое. Рука его опустилась в карман, и Ральф догадывался, что за этим последует: сейчас владелец достанет еще одну купюру. Но тут он ощутил, как силы покидают его, а гнев улетучивается.
– Я только начинающий, – произнес он.
– Ничего, бывает, – только и ответил хозяин дискотеки, поглядывая на него с недоверием, и вытащил руку из кармана, так и не достав денег.
– Буду больше стараться, – добавил Ральф. Чем-то это занятие его привлекало. Разве оно не служило доказательством долгожданной свободы?
«Нет, все-таки нет, – подумал он, сидя в трамвае и направляясь к дому Маттиаса Вагнера. – Разумеется, ни о какой свободе не могло быть и речи. Единственное, что мог доказать подобный опыт, – это то, что наблюдение за самим собой повергает человека в растерянность, расшатывает волю и лишает силы духа. То, что при пристальном наблюдении со стороны ни один человек не будет похож на самого себя».
Сойдя на следующей остановке, он взял такси и возвратился домой.
Там он попросил своего дворецкого, Людвига, набрать ему ванну с пеной, а сам тем временем собрался прослушать сообщения на голосовой почте – однако ни одного не обнаружил. Видимо, никто его пока не хватился. Создавалось впечатление, будто кто-то другой продолжает вести его дела за него.
Весь следующий день Таннер ощущал беспокойство и никак не мог сосредоточиться. Выяснилось вдруг, что его лучший друг Могролль – театральный актер, которому никогда не везло с ролями, – совершил самоубийство, наглотавшись таблеток. Никто не знал, сделал ли он это намеренно или то была трагическая случайность; накануне он ни с кем не говорил, не позвонил даже ему, не оставил записки. Ральф не мог понять, что произошло.
Его персональный тренер, как и каждую среду, нагрузил его отжиманиями, сказав, что на мышцы живота нужно больше нагрузки: ведь вскоре ему придется сниматься с обнаженным торсом, а когда актер уже в возрасте, он не может позволить себе опозориться.
Он заглянул на форумы в надежде узнать, нет ли о нем каких-либо новостей, но, прочтя, что в голове у него бардак, да и вообще он уродлив, как скотина, решил временно капитулировать. Кто вообще такое пишет, а главное, зачем? Он позвонил агенту, затем режиссеру Бранкнеру, несмотря на то, что от его пресмыкательства Таннера воротило. Он понимал, что в действительности Бранкнер ни во что его не ставит, но занять его в картине ему было просто необходимо, ведь иначе он не получил бы финансовой поддержки. Не дождавшись окончания разговора, он повесил трубку, какое-то время полистал «Снизойди на нас, мир» Мигеля Ауристуса Бланкуса, походил туда-сюда по комнате, поразглядывал цветы в высоких хрустальных вазах, отчего-то вдруг расставленные по всему дому. Таннер не любил цветов и не мог даже предположить, откуда они тут взялись. Неужто Людвигу взбрело в голову накупить ваз, не посоветовавшись с ним? Да уж, на старости лет даже верный слуга становился немного чудаковатым. Постояв некоторое время перед зеркалом, глядя на себя и думая, что черты собственного лица кажутся ему все менее и менее знакомыми, Ральф Таннер покинул свой роскошный особняк.
Добравшись до той улицы, где жил Маттиас Вагнер, он облегченно вздохнул. Вон супермаркет, рядом с ним – газетный киоск. На лестнице пахло едой. С ним небрежно поздоровалась какая-то толстая женщина. Комната встретила его так, словно после долгих странствий он наконец вернулся домой.
Он пил пиво из банки, смотрел телевизор. Диктор вещал что-то о войне, о Ближнем Востоке, о визите министра, погоде на завтра. Какая-то домохозяйка демонстрировала всем свое махровое полотенце. Потом вдруг по неясной причине на экране возник бегущий по полю слон, а следом – Ральф Таннер. Он сидел за рулем автомобиля, медленно движущегося по забитым улицам города, и о чем-то беседовал с блондинкой на пассажирском сиденье.
– Время уходит. Все эти люди обратятся в прах! – произнес он.
– Но, может, в наших силах предотвратить это? – ответила ему блондинка.
Раздались взрывы, одна картинка сменяла другую. На воздух взлетела машина. разлетелась на куски нефтяная вышка: по поверхности океана зрелищно заплясали языки пламени. Сотрясался от мощного удара небоскреб; в лучах солнца сверкали посыпавшиеся осколки стекла. Вновь возникло лицо Таннера, а под ним – надпись на черном фоне: «ОГНЕМ И МЕЧОМ. Скоро в кинотеатрах».
«Вот глупость какая, – мелькнуло в голове у Ральфа. – Просто стыдобища».
И тут он понял, что совершенно не может припомнить, чтобы в этом фильме снимался, – более того, чтобы он вообще о нем когда-либо слышал.
Какое-то время он переключал каналы, но трейлер больше не появлялся. Он спустился по лестнице, вышел на улицу, зашел в интернет-кафе напротив. Владелец уже знал его в лицо и, улыбнувшись, указал на свободное место.
Фильм «Огнем и мечом» и впрямь значился на IMDB. По всей видимости, в прессе он еще несколько недель назад получил крайне отрицательные отзывы. О нем уже даже была статья в «Википедии». На форуме «Мувитока» кто-то расхваливал его впечатляющую и убедительную игру. Вот только с какой стати ему сниматься в таких картинах? Один из форумчан предполагал, что, вероятно, все дело в гонораре: неудивительно, ведь жизнь так круто изменилась. Другой писал, что Таннер проводит время в Лос-Анджелесе. Третий возражал: да нет, он поехал в турне по Китаю. И даже прикрепил ссылку. Кликнув на нее, Ральф Таннер оказался на сайте какой-то китайской газеты. На огромной фотографии он, улыбаясь до ушей, жал руки двум государственным служащим. Кто были эти люди, он даже не представлял – ведь он никогда не был в Китае. Расплатившись, он, спотыкаясь, вышел на улицу. На дворе было утро, светило яркое солнце.
– «Огнем и мечом»? Разумеется, видела, – ответила Нора. – Мне даже понравилось. Какая разница, что там говорят критики!
И она вздохнула.
– Я без ума от Таннера с тех пор, как мне было тринадцать лет. Смотрела все фильмы с его участием!
– Ах, вот, значит, в чем дело? Все просто потому, что я на него похож?
– Ой, да ладно. Не так уж вы и похожи. Может, тебе лучше пародировать кого-нибудь еще? Не то чтобы у тебя плохо получалось, но… Просто это не твой типаж.
Он бросил взгляд в зеркало. Увидел в нем ее и себя – и внезапно засомневался, где здесь настоящие люди, а где – их отражения. Погладив ее по голове, он что-то пробормотал, чтобы скрыть охватившее его недоумение, и спустился вниз, чтобы сесть в трамвай.
В трамвае никто не замечал его. Он невольно пытался разглядеть свое лицо в оконном стекле, в витринах магазинов, но ему это не удавалось. Казалось, все отражающие поверхности куда-то исчезли. На обочине Таннер приметил две афиши того самого фильма. Запыхавшись, он добрался до ворот своей виллы – и только там обнаружил, что его карманы пусты. Видимо, от волнения он где-то потерял ключ. Ральф Таннер нажал на кнопку звонка.
– Это я, – крикнул он в домофон. – Решил вернуться пораньше.
– Кто – я?
Он сглотнул – и, понимая, что такой ответ никуда не годится, все же произнес:
– Я – это я.
Связь прервалась. Не прошло и полминуты, как распахнулась дверь, на пороге показался Людвиг, шаркая ногами, пересек лужайку перед домом и прислонился к ограде, просунув между прутьями морщинистое лицо.
– Я это, – в третий раз повторил Ральф.
– И кто же этот «я»?
Таннеру потребовалась примерно минута, чтобы осознать, что Людвиг не ставит перед ним абстрактный философский вопрос, а и в самом деле его не узнает.
– Я – Ральф Таннер!
– Вот хозяин-то удивится!
– Да, я вернулся пораньше.
– Хозяин давным-давно дома, – ответил Людвиг. – Не соблаговолите ли удалиться?
– Это мой дом!
– Мы вынуждены будем известить полицию.
– Могу ли я… поговорить с тем человеком, который называет себя Ральфом Таннером?
– Вот вы и есть тот самый человек.
– Прошу прощения?
– Именно вы и есть тот человек, что называет себя Ральфом Таннером.
– Не мог бы я в таком случае… поговорить с Ральфом Таннером?
– Ральф Таннер – весьма известный актер, – растянув губы в улыбке, сообщил ему Людвиг. – Сотни людей жаждут его внимания. Его телефон не умолкает. Неужто вы полагаете, что он оторвется от дел, чтобы побеседовать с вами лишь ради удовольствия посмотреть на человека, немного на него похожего?
– Людвиг, но уж ты-то меня знать должен!
– Вам известно, как меня зовут? Что ж, поздравляю. Не могли бы вы сказать, в каком году приняли меня на работу?
Таннер потер лоб. Что это еще за расспросы? От растерянности он не мог этого даже припомнить. Казалось, будто Людвиг был в доме всегда, будто это неказистое, вечно чем-то недовольное лицо сопровождало его всю жизнь.
– Нельзя ли позвать кого-нибудь другого? Ты можешь позвонить Мальцахеру?
– Почтеннейший, мой вам совет. Между нами: мы, конечно, можем созвать весь дом. Может статься, вам даже удастся добиться, что выглянет и сам Таннер. Но вам-то что с того? Вам достанется лишь порция унижений и смеха, весьма неприятное знакомство с полицией, а если будете продолжать в том же духе – то и предупредительный иск. Вы имеете дело со звездой. Ваши выходки никто терпеть не станет. Он вынужден будет оградить себя от вас. Понимаю, Ральф Таннер играет в вашей жизни огромную роль, вы помните все его картины, идете с ним по жизни, а он идет по жизни с вами, и другого зрителя у него, увы, нет. Но вы подошли к той черте, переступить которую уже не вправе. Ступайте домой. Я человек старый, я многое повидал, и мне не нравится, когда кто-то сам ищет на свою голову приключений. Вы на меня производите вполне приятное впечатление. Так возьмите же себя в руки!
У Таннера голова шла кругом. Он раскрыл было рот, но тут же вновь закрыл его. Сделал глубокий вдох, затем выдох. Прищурившись, посмотрел на солнце.
– Вам нехорошо? – поинтересовался Людвиг. – Принести вам стакан воды?
Он покачал головой, отвернулся и зашагал прочь. Его окружали роскошные виллы, живые изгороди, высокие заборы. Солнце клонилось к закату. Пахло свежескошенной травой. Таннер остановился и присел на асфальт.
Что же произошло? Неужели какой-то самозванец решил занять его место? Может, это был тот самый двойник, которого он встретил в «Луп-пуле»? Может, тот, видя его насквозь, поспешил воспользоваться ситуацией и окончательно втиснул его в роль мужчины по имени Маттиас Вагнер – зрителя, поклонника, пародиста? Мужчины, который до того погрузился в бытие внешне схожего с ним кумира, что спутал его существование с собственным. А ведь так бывало. В газетах писали о подобных случаях. Он в задумчивости вытащил паспорт, прочел напечатанное в нем имя, словно видел его в первый раз, и сунул обратно в карман.
Поднял взгляд. На противоположной стороне улицы распахнулись ворота. Показались Людвиг и Мальцахер, а между ними – Ральф Таннер, высокий и мускулистый.
Он и припомнить не мог, чтобы сам когда-либо столь блистательно себя подавал. Кто бы ни вытеснил его из его собственной жизни, свою роль он играл великолепно. Кандидат что надо. Если кто и заслуживал жизни Ральфа Таннера, так это вон тот мужчина напротив. С каким достоинством он вел себя, какое излучал обаяние! Подъехал автомобиль, Ральф Таннер распахнул дверцу, кивнул шоферу и исчез внутри. Мальцахер последовал за ним. Людвиг прикрыл ворота.
Когда машина проезжала мимо, Маттиас Вагнер подскочил и наклонился поближе. Но стекла были тонированными, а потому разглядеть ему удалось лишь собственное отражение. Автомобиль умчался прочь и, завернув за угол, окончательно исчез из вида.
Сунув руки в карман, мужчина медленно побрел по улице. Похоже, выход из положения найден. Он свободен.
Дойдя до автобусной остановки, он замер было ненадолго, но затем, поразмыслив, пошел прочь – настроение было не то. Если ты похож на известного человека, поездки в общественном транспорте неизменно доставляют неудобство. Окружающие пялятся на тебя, дети задают всякие глупые вопросы, кто-то снимает тебя на мобильник. Но порой это даже способно доставить удовольствие. Начинает казаться, будто ты – не ты, а кто-то другой.
Восток
Откуда ей было знать, что здесь так жарко? Воображение рисовало ей образы занесенных степей, над которыми воет вьюга и носятся снежные вихри, кочевников перед юртами, а еще стада яков и ночные костры под раскинувшимся над головами огромным звездным небом. А на деле вокруг пахло стройкой, сигналили машины, припекало солнце. Над ухом у нее жужжала муха. Нигде ни одного банкомата. Вчера, когда она зашла в свой банк, женщина в кассе только рассмеялась: нет, такой валюты у них не бывает, пусть попытается обменять на месте.
И вот она стоит, обдаваемая парами бензина, после того как всю ночь провела в самолете. Огромный мужчина в соседнем кресле храпел от взлета и до самой посадки. Всякий раз, как его рука падала ей на колени, она задавалась вопросом, что ее вообще заставило согласиться подменить коллегу и отправиться в разъезды. Но ей было интересно узнать, каков он из себя, этот столь отдаленный уголок планеты, и поэтому она, недолго думая, согласилась.
Немногим позже по почте ей прислали билеты. На письме, составленном на ломаном английском, красовалась золотая печать: не то птица в небе, не то восход солнца, а то и вовсе голова в шляпе. После этого ей пришлось посетить посольство – три комнаты в доходном доме на окраине города, – где мужчина в форме, не говоря ни слова, поставил в ее паспорт визовый штемпель.
Волосы у нее уже склеились от пота. Она смерила взглядом свое отражение в грязной стеклянной стене терминала: невысокая, полноватая дама лет сорока пяти, крайне утомленного вида. Любопытство ей всегда было свойственно, но вот с нагрузками она справлялась плохо. Больше всего она любила сидеть дома, в своем прохладном кабинете с видом на сад, с чашкой чая. Тогда ее наконец осеняло, она могла сосредоточиться, была в состоянии изобрести запутанный, таинственный случай, распутывать который вновь придется меланхолику-следователю, комиссару Реглеру. Ее книги хорошо продавались, она получала много писем от читателей. Любила своего мужа, а муж любил ее. В ее жизни все шло своим чередом. Зачем она только отважилась на такое путешествие?
На ее плечо легла рука. Она испуганно обернулась и увидела мужчину в покрытом пятнами костюме. В руках он держал картонку, на которой было накарябано ее имя.
– Да, это я!
Мужчина дал ей знак следовать за ним. Она собралась было вручить ему свою дорожную сумку, но тот уже отвернулся, и ей пришлось плестись за ним следом. Они перешли дорогу. Кричали прохожие, сигналили машины; дойдя до противоположной стороны улицы, она обнаружила, что юбка ее забрызгана грязью. Автомобиль был припаркован так, что перегораживал собой два места. Крышка капота была усеяна вмятинами. Повсюду торчали коробки. Ими был забит весь багажник, все заднее сиденье, одна даже лежала под передним, так что ей пришлось поджать ноги, а сумку поставить на колени. «Интересно, что это он такое везет», – подумала она. Только она собралась пристегнуться, как мужчина принялся громко ругаться и мотать головой – по всей видимости, посчитал, что она недооценивает его водительские навыки. Она не стала противиться и отпустила ремень.
Всю дорогу водитель тихо бормотал что-то себе под нос. В какой-то момент он резко затормозил, опустил оконное стекло и сплюнул на дорогу.
– Ю бизнес, – произнес он. – Килл уай?
Она улыбнулась, пытаясь этим показать, что ничего не понимает.
– Эврисинг, – продолжал тот. – Фоум. Уай?
Женщина пожала плечами.
– Хоббл. Хоббл гриз. Уай?
Она с трудом заставила себя улыбнуться.
– Уай? – постучал он по стеклу. – Гриз, зе хоббл уай!
Писательница развела было руками и помотала головой, но это его, по-видимому, только раззадорило. Он принялся махать руками, указывая то в одну сторону, то в другую, колотить по приборной панели, кричать – и на дорогу уже, кажется, едва обращал внимание. В конце концов он притормозил у какой-то многоэтажки. У входа, прислонившись к стеклянной двери, стоял швейцар в униформе. Над ним на ветру развевался флаг. Это была гостиница. Они высадились из авто.
На фоне молочного цвета неба вздымались подъемные краны. Земля была усеяна консервными банками, кусками гнутой проволоки, осколками стекла. Швейцар распахнул перед ней дверь, и она вошла.
Лобби было вымощено мрамором, в середине бил фонтан – правда, напор воды в нем был убавлен до слабой струйки. Дама на ресепшене не понимала по-английски ни слова. Выслушав долгое объяснение водителя, она молча протянула постоялице ключ.
Комната, на худой конец, могла сгодиться для проживания. Кровать была мягкой, белье – чистым, кран работал. Из окна открывался вид на десяток высоток и заводские трубы. Только она собралась разобрать сумку, как раздался звонок.
– Спускаться, – произнес женский голос на ломаном английском. – Немедленно!
Писательница хотела было переспросить, в чем дело, но соединение оборвалось. Быстро сменив пропитанную потом блузу на свежую, она покорно схватила блокнот и спустилась на кряхтящем лифте вниз.
В зале собралось довольно много слушателей, мужчин и женщин, сидевших на расставленных амфитеатром раскладных стульях. В центре стояла женщина в униформе.
– Я что, последняя?
Дама поинтересовалась, кто перед ней.
– Мария Рубинштейн. Мое имя – Мария Рубинштейн!
Сверившись с листком, та лишь покачала головой.
– Я заменяю Лео Рихтера. На меня переоформили его билет. Я вместо него.
– Лео Рихтер в списке есть! – ответила дама.
– Он не приехал. Вместо него – я.
Дама сделала пренебрежительный жест рукой, словно давая понять: «Да кто вас разберет, этих иностранцев!» – и указала на свободное место. Мария присела. Дама произнесла короткое вступительное слово: мол, досточтимую делегацию, состоящую из лучших трэвел-журналистов мира, правительство нашего дорогого отечества пригласило для того, чтобы они пронесли весть о красоте их страны по всей земле. Здесь рады исполнить любое их желание, они ни в чем не будут испытывать недостатка. Им устроят встречу с вице-президентом, празднествам не будет конца. Но для начала их ожидает небольшой приветственный банкет!
И она препроводила их в небольшую комнату по соседству. Длинный стол был уставлен мисками с холодным картофелем. Между ними были расставлены плошки с жирным мясом и майонезом.
Мария быстро выяснила, что среди членов делегации в действительности нет ни одного трэвел-журналиста. Двое были редакторами отдела культуры, еще трое – практикантами, отправленными сюда потому, что в их отделе никто не желал отправляться в такую командировку. Кроме них присутствовал еще научный редактор газеты «Репубблика», милейший господин, ведущий в «Обсервере» колонку про птиц в дикой природе, пожилая дама, до выхода на пенсию работавшая на «Немецком радио», и одна ее коллега, согласившаяся поехать лишь потому, что затеяла в квартире ремонт. После ужина Мария сразу же отправилась спать.
Спала она беспокойно, то и дело просыпаясь от шума машин вдалеке. Поднявшись наутро с больной головой, Мария обнаружила, что забыла зарядку для телефона. В подавленном настроении она отправила мужу смс: «Мне тебя не хватает». Ответа не последовало. Она чувствовала себя совершенно оторванной от мира.
Спустившись на ресепшен, она попросила зарядку. Девушка молча посмотрела на нее, ни слова не понимая. Постепенно в холле стали появляться другие члены делегации. У большинства из них вид был бледный и невыспавшийся.
– Ну и майонез, – посетовал колумнист из «Обсервера». – Адская штука!
В течение двух часов они тряслись в автобусе по колдобинам. Когда Мария очнулась от полудремы, то оказалась перед зданием фабрики. Выступив вперед, рабочие пели какой-то гимн. Их гид указывала на пустой конвейер. Что здесь изготавливали, понять было невозможно. Какая-то женщина внесла блюдо с ломтиками жареной свинины с толстой корочкой. Поколебавшись, каждый взял по куску. Вновь выступил хор. После этого они отправились в обратный путь. Когда они подъехали к отелю, на улице уже стемнело.
Один день сменял другой. Их возили посмотреть на плавательный бассейн в полутемном бетонном бараке. На вид вода была холодной, в воздухе пахло химией. Корреспондент из «Репубблики» поинтересовался, может ли он немного поплавать. «Совершенно исключено», – ответила ему гид. Возили смотреть на буровую вышку, возвышающуюся среди ничейной топи, на хлебозавод, на какое-то место, где еще восемьдесят лет назад стояли шатры кочевников. «Когда-то они все здесь разорили, – пояснила экскурсовод. – Прошлись саблями, палками и плетьми. Выезжая за добычей, они жгли поля и насиловали женщин. Но потом состоялся суд – недолгий, – и их уничтожили, всех до единого». Возили показывать здание правительства, в котором несколько сотен депутатов, все из которых принадлежали к одной партии, положа руку на сердце и возведя очи к портрету президента, исполнили для них национальный гимн.
Возили показывать подстанцию, по какой-то причине отрезанную от электричества, училище, у входа в которое их поджидали дети в школьной форме, два часа потом исполнявшие им на испепеляющей жаре, облепленные мухами, старинные народные песни. Дама с радио упала в обморок – пришлось отнести ее в автобус. Пение продолжалось еще час, а затем делегация школьниц предложила им собственноручно приготовленную жареную свинину под майонезом. Возили в университет, где профессор с косматой бородой на совершенно неразборчивом английском прочел им лекцию о блестящих перспективах их государства и планах на будущее. Насколько Мария смогла разобрать, речь в ней шла о стали, нефти и президенте. Пахло аммиаком. В открытые окна проникали запахи стройки. Когда лекция подошла к концу, подали жареную свинину.
Возили в степь. Там автобус остановился и все вышли. Вокруг не было ничего.
Тихо колыхалась трава. Небосвод был удивительно высок; по нему плыли два растрепанных облачка. Ничем не воняло – запахи просто отсутствовали. Воздух был чист. Дул легкий ветерок. Равнина простиралась до самого горизонта, ничто не закрывало обзор. Медленно тянулась стая птиц. В воздух взмыла стрекоза, жужжа описала круг и вновь опустилась на землю.
Когда автобус опять тронулся, Марии почудилось, будто они так и стоят на месте: куда ни глянь, пейзаж ни чуточки не менялся. Писательница прикрыла глаза: за истекшее время она научилась спать в автобусе крепче, чем в шумной гостинице.
Тем вечером, включив сотовый, она позвонила мужу. Связь установилась с шестой попытки: ответ с того конца провода даже перепугал ее.
– Ох, если б ты только знал, – произнесла она.
– Что, еда?
– Ох.
– Люди?
– В общем, да.
Несколько мгновений они просто молчали, и она чувствовала, что он все понимает.
– А цветы? – спросила она в конце концов.
– Поливаю каждый день.
– Мусор?
– Вынес. Там очень холодно?
– Очень жарко! А комаров сколько!
– Ох.
Они вновь помолчали. Потом Мария вспомнила, что надо экономить заряд. Одна мысль о том, что она могла остаться совсем без связи, внушала ей ужас.
– Скоро вернусь, – произнесла она.
– Ты что-то имеешь против комаров?
– Прости, что?!
– Ну, спрей там какой-нибудь!
– Тут такого не бывает.
– Но ведь в таком случае ты могла бы…
Что он собирался ей посоветовать, она так и не узнала. Связь оборвалась, в трубке раздались короткие гудки. Аккумулятор был практически разряжен. Вздохнув, она отключила телефон.
Следующий день был последним в ее путешествии. Их отвезли в маленький провинциальный городок далеко в степи, откуда они наутро должны были отправиться на военный аэродром, а с него правительственным самолетом вылететь в Китай. Из Китая были регулярные рейсы домой.
Там им показали стройку. Что именно строили, Марии было неизвестно, но, по всей видимости, что-то важное: поскольку каждого заставили взять лопату и набросить немного дурно пахнущей земли на какую-то кучу. Все они были изрядно утомлены поездкой: кто-то похудел, кто-то побледнел, у одного из практикантов высыпали странные прыщи, редактор «Репубблики» прихрамывал, а дама с «Немецкого радио» и вовсе осталась в автобусе, спрятав лицо в ладонях. Немного погодя их подвезли к еще одной стройке, где церемония повторилась, еще чуть позже – к казарме, перед которой выстроилась рота солдат. Играли гимн. Развевались флаги. Подавали жареную свинину под майонезом. Потом, уже под вечер, их отвезли в гостиницу.
Ключи им выдал невысокий мужчина. Мария была последней, и когда очередь дошла до нее, выяснилось, что ключей не хватает. Кто-то ошибся в расчетах. Отель был переполнен.
Гид принялась орать на портье. Тот схватился за телефон, тоже что-то прокричал, бросил трубку, набрал еще какой-то номер, опять что-то прокричал, швырнул трубку на рычаг и тупо уставился на них.
– Ну что ж, придется мне разделить с кем-то комнату, – произнесла Мария.
– Никаких проблем, – отозвалась дама с «Немецкого радио». – Можете пожить со мной. Мы ведь взрослые люди, в конце концов.
– Совершенно исключено, – вмешалась их экскурсовод. – В нашей стране множество гостиниц, и все они – высшего уровня!
Так Мария оказалась в автобусе одна. Еще полчаса ее везли по темным улицам, затем машина остановилась у высотного здания. По обочине слонялись дети. Старая женщина торговала тыквами.
– Гостиница в настоящее время не работает, – сообщила ей гид, – но для вас сделают исключение и предоставят комнату. Утром будьте на улице ровно в семь двадцать пять. Автобус заберет вас и доставит в аэропорт.
– Вы уверены? – уточнила Мария.
Та лишь непонимающе воззрилась на нее.
Лифт был сломан. Бородатый мужчина провел ее по лестнице на восьмой этаж. К чему было подниматься так высоко, если кроме нее в гостинице не было ни одного постояльца? Наконец, взмокнув и запыхавшись, она добралась до комнаты. Пахло чистящими средствами. Шкаф не закрывался, телевизор не работал, простыни были мятые. На стене была приколота бумажка, испещренная кириллическими знаками. «Интересно, что там написано? Хотя, в общем, какая разница, – подумала Мария. – Еще немного, и все останется позади».
Она долгое время не могла уснуть и лежала, глядя в потолок. Издалека доносился шум машин. Она трижды проверила, завела ли будильник. И хотя все, вроде, было в порядке, она все равно не могла сомкнуть глаз, потому что боялась, что он не прозвонит.
Когда она спустилась по лестнице, было пять минут восьмого. Поставив на пол сумку, она опустилась в потрепанное кресло из искусственной кожи. Никого не было. Она подождала. Прошло десять минут, двенадцать, пятнадцать. Мария вышла на улицу. В бледных лучах утреннего солнца мимо проезжали машины. Ни единого прохожего. Она вновь посмотрела на часы. Тридцать три минуты восьмого. Тридцать четыре. По-прежнему тридцать четыре. Потом вдруг – она аж перепугалась! – без двадцати. Без пятнадцати. Без десяти. Без пяти восемь. Она включила телефон, но кому позвонить – не знала. Никто не сообщил им, куда звонить в случае экстренной ситуации. Группа все время была вместе – об этом никто даже и не подумал.
«Спокойствие, только спокойствие, – промелькнуло у нее в голове. – Спокойствие! Они наверняка заметят, что меня нет. Другие члены группы забьют тревогу, рейс задержат».
Мария вернулась в холл и уселась в кресло.
Минуту спустя она снова вскочила и вышла на улицу, где простояла еще два часа. Сердце у нее колотилось. Нахлынула жара – поначалу робко, затем все более и более мощными волнами. Час от часу вокруг толпилось все больше людей. Проснулись мухи. Время от времени она возвращалась в отель, но и там не было ни души. За стойкой никто не появлялся. Она стучала, кричала, звала – ничего не помогало. Куда запропастился тот бородач, что сопроводил ее вчера в комнату, и кто это вообще был? Выйдя опять наружу, она уставилась на циферблат наручных часов.
Около полудня она поднялась к себе наверх. Дом и впрямь казался пустым. После полудня она ненадолго задремала, но тут же снова вскочила в холодном поту. Постояв какое-то время у окна, она присела за стол и, уставившись в стену, побарабанила пальцами по столешнице. Зашла в ванную, немного поплакала. Вернулась к окну, стояла и смотрела, как сгущаются сумерки. Могло ли так случиться, что другие просто не заметили ее отсутствия – или удовольствовались какой-то надуманной отговоркой, лишь бы только не задерживать свой отъезд? Что-то подсказывало ей, что этого нельзя было исключать. Она опустилась на постель – и только теперь заметила, что проголодалась.
Но разве могла она уйти? Если ее хватятся, придут за ней сюда. Вновь включив телефон, она попробовала связаться с мужем. Соединение все не устанавливалось, и после третьей попытки она отключила мобильный, чтобы не тратить последние остатки заряда.
Мария забылась на удивление крепким сном без сновидений и после пробуждения некоторое время ощущала спокойствие и легкость. В окно падал свет, в треугольнике солнечного луча плясали пылинки. Вдруг она обо всем вспомнила. Ужас обжег ее, словно удар кнута. Она поспешно оделась.
Проведя час в поисках, она удостоверилась, что во всем доме действительно никого не было. Она пробежала по всем этажам, колотя в каждую дверь и зовя на помощь. Телефон на ресепшене, кажется, работал, но что надо набрать, чтобы связаться с заграницей, она не знала. Какую бы комбинацию она ни пробовала, в трубке раздавался один и тот же пронзительный гудок. Когда спустя три часа так никто и не появился, она решила пуститься в путь в одиночку. Пора найти кого-то, кто мог бы ей помочь.
Жара стояла еще более испепеляющая, чем накануне. Прошло совсем немного времени, и одежда стала прилипать к ее телу. Пот застилал глаза, а от голода подступила такая слабость, что она едва могла тащить за собой сумку. Войдя в лавку, набитую консервами и заваренными в пластик лепешками, она попыталась купить кусок пирога и бутылку воды. Лишь подойдя к кассе, она поняла, что у нее нет никаких местных денег – только евро, пара долларов да кредитная карта. Ни о чем подобном владелец и слышать не желал. На глазах у нее выступили слезы. Беспомощно размахивая руками, она постаралась дать ему понять, что десять долларов стоят намного больше, чем та пара монет, которые он с нее требовал. Он покачал головой. Подхватив сумку, она покинула лавку.
Только в третьем магазине нашелся продавец, согласившийся уступить ей за двадцать долларов три круглых, похожих на картофелины пирожка с мясной начинкой и воду. Прислонившись к стене, она с облегчением принялась есть и пить. Тут же к горлу подступила тошнота, и она ощутила тяжесть в желудке, но поскольку те же самые ощущения посещали ее всю неделю, она не придала им никакого значения.
Продолжив идти, она заметила, что люди оглядываются на нее. Мужчинам ее вид явно казался забавным; дети то и дело показывали на нее пальцами, что-то крича, а матери тянули их за собой.
Мария обратилась к полицейскому. Тот обернулся, смерив ее недружелюбным взглядом прищуренных глаз. Она попыталась заговорить с ним на английском, французском, немецком и даже воскресить остатки древнегреческого, сохранившиеся в памяти с тех времен, когда она изучала в университете Аристотеля. Попробовала объясниться жестами, сложив руки в мольбе. В конце концов он протянул руку и что-то произнес. Она ничего не поняла, он повторил – и так несколько раз, пока она наконец не сообразила, что полицейский требует от нее паспорт. Получив документ, он полистал его, сурово посмотрел на Марию и что-то прокричал на неизвестном языке.
– Прошу, помогите мне!
Он нетерпеливо подал ей знак рукой, приглашая следовать за ним. Полицейский участок на соседней улице оказался крохотным и грязным. По неясной причине у нее отобрали сумку, сняли наручные часы и усадили за стол в крохотной комнатушке. Она стала ждать.
Долгое время ничего не происходило. Часы на стене стояли, стрелки не двигались. Мария уронила голову на руки. Казалось, время тоже замерло. От скуки у нее кружилась голова. В какой-то момент распахнулась дверь, в комнату вошел мужчина в форме и обратился к ней по-английски.
– Господи, ну наконец-то! Помогите же мне!
– Паспорт старый, – сообщил он.
– Что, простите?
– Знак. Паспорт. Старый.
Она ничего не понимала.
Полицейский уставился на потолок, подбирая подходящие выражения, и в конце концов пояснил: виза просрочена.
– Разумеется! Я должна была вылететь вчера, но за мной никто не приехал.
– Пребывание без визы запрещено.
– Так я вовсе и не желаю здесь пребывать!
– Без визы нельзя. Запрещено.
Мария потерла глаза. На нее навалилась бесконечная усталость. Она постаралась объяснить все настолько медленно и разборчиво, насколько могла. Сказала, что гостила в стране по приглашению правительства, путешествовала в составе делегации журналистов. Гость государственной значимости! А потом о ней, по всей видимости, забыли, и самолет улетел без нее.
Повисла пауза. Из-за стены доносился громкий смех.
– Без визы запрещено, – произнес он в конце концов.
Она начала с начала. Повторила вновь: делегация журналистов, поездка, по приглашению государства, забрать, забыть. Не дав ей договорить, он вышел, захлопнув за собой дверь.
К тому времени на улице уже, верно, стемнело. В какой-то момент Мария решила постучать. Явился полицейский и препроводил ее в запачканный туалет. Вернувшись в комнатку, она хотела было снова попробовать кому-нибудь позвонить, но телефон остался в сумке вместе с остальными ее вещами. Она утерла нос ладонью. Как долго она уже торчит в этом участке? Может, несколько часов, а может, и несколько дней. Тут распахнулась дверь, и вернулся тот самый человек, что ранее проводил допрос.
– Все ложь! Все неправда! – закричал он и швырнул перед ней на стол лист бумаги со списком на кириллице. Она догадалась, что это – перечень участников группы: редактор «Репубблики», несколько практикантов, дамы с «Немецкого радио»… и Лео Рихтер.
– Его не было! – воскликнула она. – Вот его! Его!
Дрожащим пальцем она указала на имя Рихтера.
– Отказался! Я за него!
Полицейский схватил листок, уставился на него, потом снова швырнул его на стол и сообщил, что ее имя в списках не значится.
– Я вместо него! Лео Рихтер отказался. Не приехал!
– Нет в списках, – повторил он.
Она принялась умолять его позвонить экскурсоводу. Она узнает ее и сможет все объяснить.
Он не повел и бровью.
– Гиду нашей группы! Или в посольство! Вы можете позвонить в немецкое посольство?
На этот раз он все понял и задумался.
– Нет посольства Германии.
– Англии? Франции? США?
Есть посольство Китая, сообщил он. В столице. Возможно, еще России. Но без визы она не может поехать в столицу. Ехать надо поездом – без визы запрещено.
Мария попыталась было сдержаться, но не сумела – и разрыдалась. Тело ее сотрясали беспомощные всхлипы. Она плакала до тех пор, пока не начала задыхаться, и даже удивилась, что не упала в обморок. Но сознание не покидало ее; комнатка со столом, часами и бесстрастно взирающим на нее полицейским не желала исчезать. В конце концов она успокоилась и, утерев слезы, попросила звонок за границу.
– Затруднительно, – ответил он. – Это не столица. Плохая связь.
– Прошу вас!
К тому же, добавил полицейский, он никак не мог ей помочь. У нее нет визы. Она нелегал!
И он вышел. Из соседнего помещения донеслись громкие крики. По всей видимости, они спорили о том, что с ней теперь делать. Ее оставили последние силы. Происходящее казалось ей сном. Мария вновь уронила голову на руки.
Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за плечо. Рядом стоял тот самый полицейский, что водил ее в туалет – то ли накануне, то ли когда-то еще; она уже утратила чувство времени. Рядом на полу стояла ее сумка. Он вывел ее из комнаты, провел через соседнее помещение на улицу. По-видимому, недавно миновал полдень: жара стояла ужасная. Он сделал какой-то жест рукой, но она не поняла. Тот повторил. Мария догадалась, что он приказывает ей уходить.
– Нет! – закричала она. – Помогите мне, прошу!
Полицейский посмотрел на нее. Лицо его не выражало злобы и казалось почти что сочувствующим. Тут он сплюнул на асфальт.
– Часы, – хрипло произнесла она. – У вас остались мои наручные часы.
Он хлопнул дверью.
Взяв сумку, она побрела прочь. Постепенно до нее дошло, что полицейские попросту не знали, как с ней поступить. Им не хотелось на свою голову неприятностей, а потому они просто отправили ее восвояси. Наверное, ей даже повезло, что ее не посадили и не забили насмерть.
Она вытащила телефон и набрала номер. «Соединение не установлено», – раздалось из динамика. Она попробовала еще раз – результат тот же. Потом еще раз. Индикатор батареи замигал красным. На четвертой попытке трубку снял ее муж.
– Боже, ну наконец! Представляешь, что со мной случилось?
– Да?
– Они вылетели без меня. Мне никто не может помочь, пожалуйста, позвони в МИД!
– Да!
– Надави на них, скажи, что я здесь по официальному приглашению! Позвони в газету! Я не шучу, все очень серьезно!
– Да!
Помолчав немного, она дрожащим голосом спросила:
– Ты вообще меня слышишь?
– Да!
– Алло!
– Ничего не слышу. Кто говорит? Не слышу!
– Это Мария! – завопила она. Люди начали оборачиваться. Сморщенная старуха расплылась в беззубой улыбке.
– Мария, это ты?
– Да, это я! Я!
– Вас не слышу. Перезвоните! – и он повесил трубку.
Мария предприняла еще одну попытку. Но как только она нажала на «вызов», экран погас. Аккумулятор разрядился окончательно.
Сколько времени она уже бродила по городу, Мария не знала. Волосы липли ко лбу, ладони ныли от тяжести сумки. Только остановившись, чтобы купить поесть, она обнаружила, что кошелька в сумке нет. Полицейские забрали и его.
Прислонившись к стене, она уставилась прямо перед собой. Затем все же побрела дальше. Внезапно обнаружив, что сумка больше не оттягивает руки, она поняла, что где-то оставила ее, и обернулась. Вот же она – маленькая, кожаная, серая, и до того потерянная, что Марию даже охватило нечто вроде сострадания. Она завернула за угол, обошла дом кругом и, вернувшись на то же самое место, обнаружила, что сумки и след простыл.
«Просто лечь, – мелькнуло у нее в голове. – Упасть и остаться лежать. Тогда меня отвезут в больницу, и хоть кому-то придется мной заняться… Хотя нет. Если я буду лежать на земле, то тут меня и оставят».
Кроме того, на земле было грязно, асфальт покрыт трещинами, по которым бежали коричневатые струйки, все было усеяно осколками. Лучше здесь было не падать.
Она замерла. Там, в витрине магазина, стояли книги! Пускай немного, но если она правильно могла разобрать кириллицу, там было выложено собрание сочинений Пушкина и что-то из Толстого. А там, где были книги, мог найтись и кто-нибудь, кто понимает иностранные языки. Взволнованная, она вошла внутрь.
Магазин оказался бакалейным. Полки за стойкой были уставлены консервными банками, большими и маленькими коробочками, испещренными китайскими надписями. Но и несколько книг в нем действительно нашлось. На нее воззрился невысокий узкоглазый мужчина.
– Вы говорите по-английски?
Ни по-английски, ни по-французски, ни даже по-немецки или по-гречески он не говорил, да и жестами с ним объясниться не удавалось. Мужчина замер, уставившись на нее. Вежливая улыбка не сходила с его уст.
Она придвинула табурет. Солнце в тот день так припекало, что ей просто необходимо было ненадолго присесть. Ей безумно хотелось пить. Когда она поднесла сложенные ладони ко рту, он все понял и наполнил стакан водой из пластиковой бутылки. Еще пару дней назад она испытала бы отвращение, увидев пятна на бутылке и плавающие в воде какие-то мелкие коричневые волокна, но теперь она жадно прильнула губами к стакану. Еще какое-то время Мария просидела, склонившись и уперев локти в колени. Невысокий мужчина учтиво стоял поодаль.
Подняв голову, она разглядела между двумя томами Мигеля Ауристуса Бланкуса знакомый переплет. Она привстала и достала книгу. Дешевая бумажная обложка ярко-красного цвета. На ней – ее имя на кириллице и название: прочесть его она не могла, но знала, что это – «Мрачный ливень», ее самый известный роман. Ниже помещалась фотография мужчины в широкополой шляпе и темных очках. Вот, значит, каким представляло себе комиссара Реглера – ее печального, чуждого всякому виду насилия сыщика – российское издательство. В иной ситуации она бы сочла это невероятной глупостью. Как бы они с мужем хохотали над такой обложкой!
Она перевернула книгу. Фото автора на обратной стороне не было. Протянув томик продавцу, она постучала пальцем по переплету, затем указала на себя.
Тот непонимающе улыбнулся.
Писательница вернула книгу на полку.
– Вы правы. Какая разница. Это ничего не меняет.
Мужчина поклонился ей.
Мария поблагодарила его за стакан воды и вышла на улицу.
Так она дошла до рынка. Пахло овцами и гнилыми фруктами. Продавцы уже убирали с лотков товар. Она подошла к высокой женщине в фартуке, показавшейся ей более дружелюбной, чем остальные, и, указав вначале на живот, затем на рот, попыталась дать понять, что голодна. Женщина протянула ей краюху хлеба. Хлеб оказался вкусным, пускай и немного горьковатым – зато он придал ей сил. Женщина протянула ей бутылку, из которой пила сама. Сделав глоток, Мария ощутила себя практически возрожденной.
Лицо у женщины было морщинистым, во рту не хватало зубов. Один глаз был полузакрыт, веко криво свисало. Она произнесла что-то непонятное, подняла ящик с картофелем, показывая Марии, что та должна помочь ей нести.
Они вдвоем потащили ящик через улицу. Там уже поджидал трактор, рядом стоял пожилой мужчина. Они погрузили картофель в прицеп. Присев между ящиков, женщина жестом пригласила ее сесть рядом.
Они затряслись по дороге, обдаваемые парами бензина. Город вскоре скрылся за горизонтом, и перед ними в вечерних сумерках раскинулась степь. Повеяло прохладой. Рядом с ними долго летела стрекоза. Голова женщины тряслась в такт дрожащему мотору – казалось, она спит с открытыми глазами. Небо было чистое, птиц не видать. Наступала ночь.
К дому они подъехали уже в темноте. Мария соскочила с прицепа, под ногами оказалась глина, и она тут же увязла по самую щиколотку. Дом был сколочен из обветшалых досок, крыша покрыта листами волнового железа. Внутри пахло сыростью. Когда старик зажег две лучины, она увидела, как по полу пробежала мышь. Снаружи женщина качала воду из проржавевшего колодца. Она внесла в избу наполненное до краев жестяное ведро и, опустив его, указала на деревянный пол, затем на ведро и снова на пол. И вручила Марии тряпку.
Пока она драила пол, в голову приходили самые разные мысли. Кто знает, может, она проведет здесь год, а то и два – и ни один поисковый отряд ее тут не найдет, не появится вдруг посланник МИДа и не освободит ее. Ей придется остаться и работать на эту семью, пока не выучит язык. Если ей будут платить, она постарается хоть немного откладывать. Когда-нибудь накопит на билет до столицы. Там найдет кого-то, кто мог бы ей помочь. Нет, не останется же она здесь навсегда – жизнь дала ей больше, чем этим людям, и выкарабкаться она сумеет.
Вскоре у нее разболелась спина. Руки не были привычны к такой работе, и ей казалось, будто доски по мере того, как она их драила, становились только грязнее. Она принялась тихо всхлипывать. Женщина сидела на стуле и чистила картошку; старик, присев на скамью, с безразличным видом глядел перед собой.
С мытьем полов было покончено, никакой разницы между до и после Мария не замечала, но женщина протянула ей еще кусок хлеба и даже немного мяса. Поев, она вышла на улицу и омыла руки и лицо колодезной водой. На улице вдруг стало невероятно холодно. Вдалеке выл какой-то зверь. Небо было усеяно звездами.
Женщина указала ей на матрац, на котором ей дозволено было спать. Подстилка оказалась на удивление мягкой, только в одном месте из нее торчала ржавая пружина, и Марии пришлось скрючиться так, чтобы она не впивалась ей в спину. На мгновение она вспомнила о муже. Внезапно он показался ей настолько чужим, словно они были знакомы давным-давно, в прошлой жизни или в ином мире. Она уловила собственное дыхание и поняла, что уснула, а во сне словно смотрит на себя сверху. Ей вдруг стало ясно, что такие мгновения случаются в жизни крайне редко и надо проявлять особую осторожность. Одно неловкое движение – и она уже не вернется назад, ее прежнее бытие рассеется и не вернется уже никогда. Она вздохнула – или ей это только приснилось?.. Потом наконец мысли ее угасли.
Ответ настоятельнице
Мигель Ауристус Бланкус – которого половина планеты чтила, а другая слегка презирала как автора книг о том, как обрести покой, внутреннее равновесие и смысл жизни, блуждая по зеленым холмам, – размеренным шагом вошел в кабинет, расположенный в передней части его квартиры в пентхаузе высоко над сверкающим побережьем Рио-де-Жанейро. Поверхность моря ослепительно сияла; по ту сторону бухты виднелись очертания гор, в зависимости от освещения то проступавшие четко, то казавшиеся лишь серыми тенями, и спускавшиеся по склонам фавелы. Мигель Ауристус Бланкус заслонил глаза ладонью, чтобы получше разглядеть свой письменный стол: две ручки с золотым пером, семнадцать остро отточенных карандашей, плоская клавиатура перед плоским экраном, в лотке для бумаг – разглаженная бумажная копия новой рукописи «Спроси у космоса, и он заговорит». Не хватало одной только главы, все остальное он сочинил за четыре недели со свойственной ему легкостью. На этот раз речь шла о том, что вера и доверие устанавливаются благодаря символизирующим их жестам и ритуалам, а не наоборот, как многие полагают: кто верен, тот начинает любить; кто помогает, тот обретает благородство; кто заставляет себя прийти на службу, для того она перестает быть бессмысленным обрядом и начинает постепенно обнаруживать присутствие и близость хранящих нас высших сил.
Мигель Ауристус Бланкус ничего не выдумывал. Озарение снисходило на него само собой, а мысли, казалось, проникали в рукопись без всякого его вспомоществования – а сам он сидел и со сдержанным любопытством наблюдал, как под пальцами его на сверкающем белизной экране строчка за строчкой прирастает текст. И когда в конце рабочего дня Бланкус вставал из-за стола и, вот как сейчас, глядел на заходящее солнце, он чувствовал себя не менее одухотворенным и просветленным, чем вскоре окажется каждый из его почти что семи миллионов читателей.
Он вздохнул. Быстрым движением левой руки он пригладил усы, провел по поредевшим волосам; на среднем пальце поблескивал вытянутой формы сапфир. Всякий раз, возвращаясь из уборной, он ощущал одновременно облегчение и легкую грусть. Там ему нынче приходилось проводить все больше времени: совсем недавно врач сообщил ему, что без операции на простате он долго не протянет. Бланкус склонил голову набок, провел языком по губам и услышал, как с уст его вновь слетел тихий вздох. На нем были отполированные до блеска коричневые кожаные туфли, изготовленные на заказ, широкие льняные брюки и белая шелковая рубашка; верхние две пуговицы были расстегнуты. Волосы на груди поседели и истончились, но тело, несмотря на свой шестидесятичетырехлетний возраст, оставалось подтянутым, а живот – таким плоским, как только бывает у людей, нанимающих себе персонального тренера. Каждый день он под присмотром бывшего олимпийского чемпиона Густаво Монти бежал трусцой по жужжащей дорожке тренажера, о которой в свое время тоже написал небольшую книжонку. В ней говорилось об утверждении единых форм, изменчивости неизменного и состоянии нежной подвешенности, в котором пребывает полуизможденный, полусосредоточенный дух. (Разумеется, тренажером он пользовался только в городе. Проводя дни в своем загородном доме в Парати или за океаном, в швейцарском шале, он каждый день поутру, погруженный в задумчивость, двигался на свежем воздухе, полностью сконцентрировавшись на дыхании и на том, как солнце постепенно наполняло новый день теплом.) То была не самая продаваемая его книга, но он так ее любил, что нередко и сам читал ее перед тем, как перейти к упражнениям.
Бланкус замер в нерешительности. Неужели он только что опять вздохнул? Следуя внезапному порыву, он распростер руки; ему казалось, будто он ощущает дуновение морского бриза. Хотя он, разумеется, понимал, что это всего лишь дует из бесшумно работающего кондиционера.
Направляясь к столу, он двумя пальцами снял с рукава пушинку, стряхнул ее и проводил взглядом: крохотное семечко, заключенное в одном из шелковистых хлопьев, уплыло, еще разок мелькнуло, пронзенное лучом света, и растаяло в воздухе. Он опустился в офисное кресло: податливое, обтянутое кожей, точно подогнанное по его спине, изготовленное лучшим специалистом из Сан-Паулу. Бланкус на пару секунд прикрыл глаза, прижав кончики указательных пальцев к носу и в задумчивости обхватив большие пальцы слегка выставленными вперед губами; покачался на стуле. Затем открыл второй ящик сверху и, как уже не раз, достал из него приготовленный пистолет: глок, длина ствола 140 мм, патроны калибра 9х19 мм, еще ни разу не использованный – и тем не менее, он не просто обладал на него лицензией, но и правом на ношение в заряженном виде.
Мигелю Ауристусу Бланкусу нравилось оружие, пусть даже и в качестве игрушки – еще никогда в жизни он не причинил кому-либо зла. Стоя перед терпеливо глядящим на него диском мишени, он регулярно упражнялся в стрельбе на залитой солнцем лужайке возле своего дома в Парати – то из лука, то из облегченного спортивного пистолета. В книге «Если не дрожит рука, невозмутим и разум» он пояснял, что во время стрельбы необходимо ощущать себя с целью единым целым, а следовательно, не задумываться об успешности или неуспешности попытки, – и, как ни парадоксально, именно так, зависнув в состоянии безразличного напряжения, можно было попасть прямо в яблочко. То было не лучшее его произведение, и лишь годы спустя он с ужасом заметил, что практически полностью перефразирует в нем один очень известный труд о японском искусстве стрельбы из лука, попавший ему в руки когда-то в молодости. Но читателей это нисколько не смутило, а вскоре после выхода книги некий производитель спортивных луков даже поблагодарил его за то, что во всем мире на его товар увеличился спрос.
Он наклонился – стул скрипнул, в спине легонько стрельнуло – и вынул из ящика коробку с патронами. Сощурившись и слегка поджав губы, он неспешно зарядил пистолет: вставил обойму, клацнул затвором. Все это Бланкус так часто видел в кино, что, повторяя те же движения, невольно ощущал себя актером – по крайней мере, ему так казалось.
Солнце клонилось к закату. Огненно-красные лучи разбегались по воде, вершины гор сверкали холодным блеском; он мог разглядеть извивающиеся между хижинами фавел землистые дороги. Мигель Ауристус Бланкус поднялся, взял в руки четыре письма, которые отобрала для него сегодня секретарша (каждый день к нему поступали бесчисленные просьбы о помощи или хотя бы о совете, сопровождаемые слезными историями о сложной судьбе, предложениями руки и сердца, молитвами, рукописями, речь в которых шла то о поиске смысла жизни, то о неопознанных летающих объектах, и приглашениями выступить с докладом из десятков городов – директора библиотек, владельцы книжных магазинов и руководители центров медитации, разумеется, были в курсе, что он человек крайне занятой и не располагает свободным временем, но все же не желали расставаться с надеждой, что для них он сделает исключение), и вытащил первое послание из уже надрезанного конверта.
Бумагу верже ручной работы венчала шапка с эмблемой Организации Объединенных Наций. Ниже следовал вопрос, не согласится ли Бланкус в случае положительного решения жюри принять награду за установление диалога между нациями, и если да, то сможет ли он произнести речь перед Генеральной Ассамблеей. Писатель усмехнулся. Второе письмо прислал его биограф Камье из Лиона. В нем он учтиво, убористым почерком просил его о еще одной встрече, во время которой желал бы побеседовать о времени, проведенном Бланкусом в японском монастыре тридцать лет тому назад, о том, как тот постигал коаны и мудрость Востока, и кроме того, разумеется, о его первом, втором и в особенности третьем браке, ныне также оставшемся в прошлом. Вне всякого сомнения, уверял его Камье, он может быть уверен в том, что его аккредитованный биограф проявит тактичность и никакие сведения не пойдут в печать без его одобрения. Мигель Ауристус Бланкус покачал головой. Камье он не верил, но что ему оставалось делать? Только согласиться.
Третьей оказалась открытка с Тенерифе, без конверта. Там теперь проживала Аурелия с обоими детьми. Дом, до недавнего времени бывший их общим пристанищем, теперь принадлежал в первую очередь ей, и прошел уже почти год с тех пор, как он в последний раз видел Луиса и Лауру. Все это время он сам себе удивлялся: отчего тоска по ним не становится сильнее? Чтобы найти этому объяснение, он добавил в «Спроси у космоса…» целую главу о том, что мы жаждем присутствия только тех людей, у которых вибрации души не совпадают с твоими собственными. Но если человек близок тебе настолько, что составляет часть твоего «Я», совершенно необязательно, чтобы он все время был рядом: ведь все, что чувствует он, чувствуешь и ты, вне зависимости от расстояния; все, что мучает его, мучение и для тебя, а всякий разговор между вами – лишь избыточное подтверждение само собой разумеющегося. Где-то с полминуты он разглядывал картинку на лицевой стороне – бухту, горы, флаг и чаек; потом, бросив взгляд на две крошечных подписи, отложил и открытку.
Четвертое послание было адресовано ему с. Анжелой Жуан, настоятельницей кармелитского монастыря Провидения Божия в Белу-Оризонти. Во имя их давней дружбы (то ли его подводила голова, то ли ее – Мигель не мог припомнить, чтобы они хоть раз встречались) и во укрепление духа ее и сестер она просила его послать несколько строк в ответ на теодицейный вопрос: отчего на свете существует страдание, отчего – одиночество; отчего, наконец, существует в человеке отдаленность от Бога – и отчего же при этом принято полагать, что мир устроен наилучшим образом?
Он в раздражении затряс головой. Скоро пора будет нанимать новую секретаршу – видно, и эта уже не справляется с перегрузом. Столь обременительные просьбы не должны были попадать на его стол никакими путями.
Солнце уже почти опустилось за горизонт. Корабли отбрасывали неестественно длинные тени, вода была окрашена кровью, на небосводе, дрожа, полыхало багряное пламя. Бесчисленное множество раз он наблюдал из этого окна закат, но всякий раз это зрелище захватывало его, словно впервые. Ему чудилось, будто на его глазах проводится сложнейший эксперимент и каждый вечер существует риск, что он окончится катастрофой. Погруженный в раздумья, Бланкус выпустил из рук письмо, взял пистолет и, как и в прошлый раз, три дня тому назад, инстинктивно попытался нащупать предохранитель, пока не припомнил, что у глока он совмещен со спусковым крючком. Направив ствол на себя, он взглянул прямо в дуло. Мигель уже не раз так делал, как правило, по вечерам, где-то в это же время, – и, как и всякий раз, он ощутил, как на лбу выступил пот. Отложив в сторону оружие, писатель включил компьютер, подождал, пока он, то жужжа, то умолкая, наконец загрузится, и принялся сочинять ответ.
Почему он вообще решил ответить, он и сам не знал. Возможно, из вежливости – ведь на вопросы полагается отвечать; возможно, из-за того, что пожилые женщины в монашеском одеянии, сколько он себя помнил, всегда вселяли в него неописуемый ужас и почтение. «Дорогая матьнастоятельница, благословенная и достопочтеннейшая, Богу оправдания не нужны: жизнь ужасна, а красота ее беспощадна, и даже мир пропитан смертью; и вне зависимости от того, существует Бог или нет – о чем я никогда не считал возможным судить, – я нисколько не сомневаюсь, что моя жалкая кончина не вызовет у Него ни малейшего сожаления – равно как и кончина моих детей, или даже ваша, достопочтенная мать, – при всей надежде на то, что до этого дня еще далеко».
Он задумался, прищурившись, посмотрел на полыхавшее за окном пламя заката, запрокинул голову и сделал глубокий вдох. Вслушался в тишину. Негромко жужжал кондиционер. Бланкус продолжил писать.
Писал, покуда садилось за морем солнце, в последний раз обдав его воды жаром и наконец угаснув; писал, покуда воздух полнился темнотой, словно некой тончайшей материей; писал в то время, как далеко внизу все четче проступали огоньки, а черная гладкая поверхность неба сливалась воедино со склонами гор. Когда он поднял глаза, уже наступила ночь; рубашка его была мокрой от пота, капли градом катились по усам. «Драгоценнейшая настоятельница, нет никаких оснований для надежд. И даже если бы Богу нашлось иное оправдание, нежели его очевидное отсутствие, любой разумный аргумент померк бы перед масштабом боли – да даже перед самим голым фактом ее существования и фактом того, что в этом мире (попомните это, достопочтенная мать!) вечно всего недостает. Единственное, что может нам помочь, – это успокоительная ложь: такая, как, например, достоинство, которое воплощает собой ваше святейшество. Да пребудет оно с вами как можно дольше, дабы вы добрым словом могли вспоминать искренне вашего…» Он дважды щелкнул мышью; застрекотал принтер. Один, другой, третий, четвертый лист заполнили черные буквы. Взяв стопку в руки, Мигель Ауристус Бланкус погрузился в чтение.
Встал из-за стола. Зачем он вообще такое сочинил? Ведь то, что написано на этих листках, перечеркивает весь его труд, ставит крест на деле его жизни; он породил коротко и ясно сформулированное извинение за то, что когда-либо осмеливался полагать, будто в мире существует порядок, а жизнь может быть счастливой.
Но только когда его загорелая рука нащупала пистолет, он осознал, что же он наделал. Понял, что время, когда ему казалось, будто у него есть выбор, прошло. То, что до этого во многом казалось игрой, вдруг обрело неотвратимую серьезность. Если он и впрямь нажмет на курок, то войдет в историю. Как он мог противиться искушению пустить пулю в лоб всем тем блаженным, набожным и надеющимся, каких только носит эта земля, всем своим почитателям, всем молящим и уповающим, у кого на полке стоят его книги и кто носит его образ в сердце как пример для подражания! Это и только это способно сделать его великим. Уголки его губ дрогнули: он попытался усмехнуться, но в то же время его обуревал панический страх. То, что он сочинил, даже нельзя было назвать его личным мнением. То была всего-навсего истина.
Внезапно колени его подкосились, и он прислонился к окну. Мигая огнями, по небосклону описывал дугу самолет; с палубы одного из кораблей взмыла в воздух сигнальная ракета и беззвучно рассыпалась снопом искр. В соседней комнате уборщица совершенно некстати включила пылесос.
Он вновь поднес к глазам последний лист и спросил себя, в действительности ли он был автором этих строк и как после стольких лет ему удалось обрести подобную мягкость слога. Ему живо представлялось, как на церковных сходах убирают с прилавков его книги, как в книжных магазинах на полках зияют дыры, он видел перед собой лица перепуганных священнослужителей и побледневших домохозяек, не находящих от ужаса слов почтенных докторских жен и легионы офисных работников со всех пяти континентов, которых никто уже не убедит, что в их страдании есть какой-то смысл. Разжав пальцы, он, не дождавшись, когда лист, подхваченный воздухом из кондиционера, опустится на пол, поднес к лицу пистолет. Предохранителя нет. Надо только нажать на курок. Он раскрыл рот и обхватил губами пластмассовый ствол, который, к его удивлению, даже не был прохладным.
Пальцы его пытались нащупать курок. Пот градом струился у него по лбу; широко раскрытыми глазами он воззрился на простиравшийся у его ног город, на мигавшие огнями корабли, посмотрел в бескрайнюю ночь. Пробив ему голову, пуля разобьет окно – так, словно стремилась бы не просто пробить стекло, а оставить дыру во Вселенной, словно трещины от нее должны пойти по морям, по горам и по небу. Тут он понял, что в этом и есть истина; что именно так и случится, если именно он, и никто другой, заклеймит мир позором раз и навсегда, если только ему достанет смелости нажать на спуск. Если только. Он слышал, как сам же задыхается, как в соседней комнате гудит пылесос. Если.
Вклад в дискуссию
В общем, начну издалека, сорри. И да, я знаю, что lithuania23 и icu_lop опять будут стебаться надо мной за многобукаф, что меня снова начнет троллить тот же lordoftheflakes, который троллил меня недавно во флейме на мувифоруме, но короче не выйдет. НННЧ.
Как я встретил звезду, говорите? Не все так просто!
Для начала скажу: вы все можете натурально считать меня хардкорным фанатом этого форума. Ну просто мощняк. Нормальные пацаны вроде нас с вами выслеживают разных знаменитостей и постят об этом тут, на «Засеки Звезду». Все четко, идея отличная, всем интересно, и кроме того, так мы можем их контролировать – пускай знают, что на них смотрят. Будут знать – не будут вести себя как черт знает кто. Я уже давно хотел что-нибудь выложить, но, прямо скажем, инфы не было. Но вот за прошлые выхи набралось дофига и больше.
Вкратце расскажу предысторию. (В моей жизни в последнее время полный бардак, но ниче не поделаешь! Бывают черные полосы, бывают белые, инь и ян. Для тех, кто в танке, поясняю: это фи-ло-со-фи-я!) Вы меня наверняка знаете по другим форумам под тем же ником molwitt. Часто пощу на Supermovies, на «Вечерних новостях», на literature4you и прочих. И я, в общем, не стесняюсь встрять, если в интернете кто-то не прав, даже если это блогер. И везде я molwitt. В реале – не, ну правда в реале – мне тридцать с гаком, я парень относительно стройный, да и ростом в общем вышел. В обычный будний день таскаюсь в офис, хожу в галстуке, рублю бабло, все такое – вы ведь тоже этим страдаете. Как бы надо. Если хочешь реализоваться в жизни, конечно. В моем случае как аналитик. Наблюдатель. Участник дискуссий. О культуре, о светской жизни, о политике, ну и т. п.
Работаю я в центральном офисе одного сотового оператора. Сижу в одной комнате с Лобенмейером, которого не просто терпеть ненавижу – в жизни никто другой меня так не выбешивал, чесслово. Чтоб он сдох! А если бывает что-то еще хуже, то пусть с ним именно так и будет, да; и если вдруг бывает что-то еще хуже, чем хуже смерти, то пускай и это. Он-то как раз и ходит у шефа в любимчиках – ну да, логично. Приходит вовремя, уходит вовремя, работает как надо, и все то время, что он торчит за столом, реально занят делом и поднимает голову только для того, чтоб позырить, что делаю я и подколоть меня, что я опять сижу в инете. Бывает даже, что он встает и обходит меня, чтобы попялиться в мой экран, но меня-то не проведешь, я начеку и всегда успеваю свернуть все окна. Один раз мне только срочно понадобилось в сортир, и я ненароком пару окон открытыми оставил. Возвращаюсь – опаньки, он уже сидит на моем стуле и лыбится. Клянусь, если б он не ходил каждый день в качалку, я ему бы тогда врезал как следует.
Шеф ну просто отморозок конкретный. Вечно сидит на изменах, и приходится порой реально туго, причем на мелкие пакости он не разменивается. Думаю, мне он доверяет, но с ним никогда не знаешь: вечно он что-то еще для нас выдумывает и ставит такую планку, к которой и подобраться никто не в силах. Скажу честно, мериться силами – это вообще не про меня, для меня дело в самой сути, то есть в обществе, в котором мы живем, и во всем этом каждодневном свинстве – ну вы знаете. Это же совершенно очевидно, что тех, про кого пишут в газетах, давно купили вместе с теми, кто про них пишет. Полная конспирация, разумеется, один покрывает другого, делают на этом кучу бабла, а мы, приличные люди, стоим в сторонке и смотрим. Один только пример: почитайте в сети, что они там между собой передавали по рации 11 сентября, и вас уже ничто не удивит!
Ладно, вернемся к теме. Началось все в ту пятницу. Только я было, значит, собираюсь сделать пост на кинофоруме «Вечерних» про то, как Ральфу Таннеру влепили пощечину. Bugclap такой: между ним и Карлой Мирелли давно ничего нет! А icu_lop тут же: да нет, их отношения еще можно спасти! Ну, я, разумеется, был больше в курсе, я уже кое-где почитал, что на этот счет пишут, но только собрался все выложить, как выяснилось, что я ничего не могу запостить! Как ни пробовал – ни в какую! Всякий раз вылазит куча сообщений об ошибке – ну, я короче озверел, звоню им.
ОК, ОК, ОК, ОК. Согласен. Надо было сперва подумать. Знаю. Но тут я еще накануне с мамкой опять посрался: сам себе готовь, сам за собой стирай, ну и все такое – пока я ей наконец: «Так ты снимай себе сама квартиру, раз ты такая!»
А она: «Да я вообще с тобой жить не собиралась! А тебе бы все какую-нибудь девку привести!»
Я ей: «Ну так и вали обратно в свой Рюдесгейм, овца тупая!»
Естессно, к полуночи опять помирились, слезы, сопли, но я наутро все равно был не в себе и голова не на месте. Иначе бы со мной такого не случилось.
В общем, нашел я телефон их, звоню. Так меня это завело, что слышу, сердце прям ваще колотится!
На том конце какой-то усталый мужик. Я ему: «Мои посты не отображаются! Уже четвертый раз!»
Он такой: «Какие посты? Где? Чего?» Вообще не въехал. Я ему, значит, такой объясняю, объясняю, блаблабла, он такой: «Соединяю со специалистом!»
Тот, короче, со вторым, а тот с третьим, и вот прям ровно в этот момент возвращается Лобенмейер, сияет, как лампочка, стоит и слушает, пока их техник меня расспрашивает, как меня зовут, где нахожусь, IP, МАС-адрес. Слышу, клацает клавиатурой, зевает, опять клацает, потом остановился и такой: «IP повторите!»
Я ему: «Че, какие-то проблемы?»
Он там снова клац-клац, потом опять молчит, опять клац-клац, наконец спрашивает: «Может такое быть, что на форуме “Вечерних новостей” вы оставили 12341 сообщение?»
Я такой: «И?»
Он: «Двенадцатьтыщтристасорокодно сообщение».
Я: «И че, я не понял?»
Он в третий раз то ж самое, ну, разговаривать бесполезно, я трубку и повесил.
Знаю, вы там все сейчас ржете на до мной до слез, но я вот че скажу: никто не может круглые сутки держать руку на пульсе. Каждый способен вляпаться. В общем, когда я снова полез на форум, никаких траблов с запостом не было, но зато образовалась уже масса других проблем, и я и думать забыл о том звонке. Ветка к тому времени порядком приросла, и было самое время кому-то вмешаться и расставить все, такскать, по полочкам. Короче, пишу: Ральф Таннер и Карла Мирелли никогда не помирятся, потому что он с головой ваще не дружит и вдобавок еще страшный, как моя смерть, так что даже не думайте!
И только час спустя до меня дошло: вот я придурок, назвал им свое имя, адрес, IP – я ж у них теперь как на ладони! Очень, ващет, неприятно. Но мне в тот момент уже снова стало не до раздумий. Куда там! Я как раз только что пипец как разосрался с lonebulldoggy на thetree.com, а тут еще пришлось отвлечься на клейм от саппорта, который мне шеф на стол грохнул – вроде как какой-то сбой при присвоении номеров. Его до этого позавчера уже приносили! Переслал Гауберлану, а он, видно, поставил в копию начальство, только чтоб меня подставить. Вот свинья, а! С Лобенмейером заодно, это точно. И тут меня вызывает к себе начальство.
Ну, у меня, ясен пень, от страха полные штаны, сердце стучит – я, ессно, думаю: что, уже засекли меня по айпишнику, что ли? Делать нечего, поднимаюсь, иду, думаю: «Главное – не терять лицо! Я не какой-нибудь хрен с горы, я даже в гостевой самого президента отметился. Ну и что, что потом все потерли? Меня так просто не возьмешь, я, если надо, всем покажу, чего я стою!»
Стою я перед шефом, смотрю на него, он на меня. И взгляд такой, сука, пронзительный, что у твоего Сарумана. Или Коша из «Вавилон-5». Он на меня, я на него. Ну, думаю, ништяк: схлестнулись, как два мужика. По чесноку.
И тут он говорит, мол, будет общеевропейская конференция поставщиков связи, начало послезавтра. Сам собирался ехать, но не получается, а кто-то должен представлять отдел, и презенташку сделать надо, о национальных и европейских нормах вещания.
Понадобилось немного, чтоб до меня дошло. И вот тут я реально такой про себя: «Факинг шит!» Почему? Чтобы вы знали: терпеть ненавижу уезжать из дома. Сиденья в поездах настолько узкие, что нормальные люди вроде меня в них не влазят, ну а чтоб с презентацией, да еще перед чужими людьми – не ребята, это не ко мне.
Поэтому я ему: ненене, даже не рассчитывайте, и вообще, я не хочу, и у меня были планы, все такое. На что он мне: «Ерунда! Придется! Кроме Вас, никто не может!» Ну а мне что оставалось? Я такой: «Есть, шеф!» А он: «Ю ар зе бест!» А я: «Да ну ладно!» А он: «Нет-нет, это правда!» Ну, в общем, вот так поперекидывались мы, я к себе возвращаюсь – и тут только вижу, что на бумажке написано: презентацию-то надо запилить на инглише! Холи шит! На инглише! Холи шит!
По дороге домой, чтоб успокоиться, купил себе нового Мигеля Ауристуса Бланкуса. Это того, который пишет, что нельзя на всем запариваться, а надо учиться принимать. Но ведь правда! Или вот еще: «Что лучше – постелить на землю ковер или надеть ботинки?» Я прям сразу себе выписал. Просто вау. И как кому-то только такое в голову приходит?
Дома опять посрался с маман. Ой ну вот, на целые выходные уезжает, а я тут одна, что я буду делать, а тебе на мамку плевать, все такое. Ну я ей: «Ты б пошла, в кино сходила, что ли!» А она: не хочу, не буду, да и вообще, все ты врешь, опять небось по бабам собрался! Ну я ей такой, ты че, типа? А она: «Ты мне голову не дури, я тебя знаю! Бабу себе завел, а мать дома одна сиди! Если б я только знала, когда ты родился – а ведь такой маленький был, такой хорошенький. Тридцать семь лет прошло – и вот что выросло!» Я: «Ну так и вали отсюда, если не нравится!» Ну вы поняли, я ей всегда так. А она: «А кто тебе жрать готовить будет?»
Ладно, думаю, твоя взяла. Хлопнул дверью, оставил ее стоять, закрылся у себя. Сижу, листаю Бланкуса. Пытаюсь влезть в мувичат с «Дот Би». Ясное дело, без шансов. Сервак перегружен. Ну да, логично, всем охота початиться с Дот Би. Читаю, значится. «Стань с предметами единым целым, стань единым целым с бытием, единым целым с ними, стань единым и с гневом твоим, и если суждено упасть атомной бомбе, то и с ней соединись». Чума. Не, я знаю, я человек занятой, работа-дом-работа, но уж что-что, а великие мысли великих людей я секу. Тут lordoftheflakes начал снова гнать пургу, за ним proctor, provincial и bOOfer_lover и еще двое мне не известных ньюфагов. В газенваген, пасаны! (Не, ну может быть, это lordoftheflakes опять сидел под новыми никами. Буэээ. Меня бесит просто! Не, ну у меня, конечно, тоже еще три юзернейма, но я на них перелогиниваюсь только когда мне ваще выбора не оставляют.) Понятное дело, надо было сидеть лепить презу, но выступать еще только послезавтра, и голова у меня была занята другим. К полуночи полазал еще немного по адалту – не, не подумайте, только ваниль, никакого хардкора, это не мое. Пошел спать.
На другой день в поезде. Сиденья узкие, а меня ж укачивает еще – ну, хорошо еще, народу было немного, я подлокотник поднял и улегся сразу на два. За окном там домики, дороги, луга, болота – в общем, все как обычно. Выхожу. Вниз по эскалатору, вверх по эскалатору. Дышать тяжело, весь взмок как скатина. Но на пересадку успел. Ну и опять луга, болота, поля, фермы всякие. Шесть часов – я риальне чуть с ума не сошел, даже не припомню, когда в последний раз столько был без инета. Наконец прибыли, выхожу, там уже ждет шофер в микроавтобусе, все для нас. Ну и другие – галстуки, портфели, все дела.
Залезаю в автобус, там рядом со мной задрот такой сидит, ну я ему говорю: «Жесть, да? Ездишь тут, ездишь, а все для чего? Могли бы все из дома сделать по VoIP! Я вижу тебя, ты меня, все тип-топ, и ноу проблемс!» А он такой пялится на меня и к проходу отодвигается – ну, задрот, я ж говорю.
На ресепшене сразу такой: какой у вас вайфай? Телка зырит на меня, я опять: «Эй, ау! Вайфай! Инет!» Она: «Не работает». Я такой: «Че? Как? Это как вообще?» Она такая: нам, типа, очень жаль, что-то там сломалось, так обычно во всех комнатах есть, но сейчас как бы нет.
Я стою, значит, гляжу на нее и все никак не могу врубиться. Она: «На той неделе починят». Я: «Ну супер! Мне это прям так помогло!»
Она таращится на меня и не втыкает. Ну, не знает девчонка, что такое сарказм. У меня аж колени затряслись. Отель в самой жопе мира. Ни тебе деревушки какой-нибудь, ни интернет-кафе, так что или сейчас разжиться у кого-нибудь 3G симкой, или дело труба. Да вот только где найти такого дурака, который отдаст тебе свою симку, все ж боятся, что ты за счет их босса щас себе видосов накачаешь. Так что дело не просто труба, какое там, жопа полная, просто капец.
Ужин, короче. Описывать нет смысла, вы все и так знаете: шведский стол, толчея, каждый орудует локтями, а только ты на что-то нацелился – перед тобой все размели. За столом справа какой-то бородач из «T-Mobile» расхваливает свой новый паркет, слева тощая глиста из Водафона, такая: а вот двоюродный брат моего деверя, блаблабла, новый опель, с сумасшедшей выгодой, блаблабла. Я сижу, молчу в тряпочку. Как всегда, когда вокруг чужие. Ну, не могу, не умею, не дано мне этого. Поэтому сделал еще подход, потом еще, потом стало адски плохо, просто адски, так что я еще всего один заход – и на улицу, покурить. Внутри же нельзя, да нигде нельзя теперь – я вам вот что скажу: даже при фашистах, и то так над людьми не издевались!!
Выхожу, короче, на парковку, дождь льет как из ведра. Под козырьком какой-то мужик с сигаретой. На улице темно уже почти, видно только, что кто-то стоит и у него огонек. Попросил прикурить, ну и пока он там судорожно копался, я его узнал.
– Лео Рихтер! – говорю.
Он такой вздрогнул, обернулся – и точно он!
Окей, спрошу у вас: а вы бы как поступили? Скажу сразу: я мегафанат Рихтера вот уже много лет. Есть у него одна такая книга, названия не помню уже, там Лара Гаспар преподает в Париже, а потом знакомится с одним отстойным типом и под конец попадает на тот свет. В общем, я прочел и такой думаю: ну ваще! Унесло так унесло! И как написано, мне тоже понравилось, и юмор в точку, в общем, все ништяк, но главное – телка. Признаюсь честно, мне с противоположным полом не везет особо, сначала конфеты-букеты и все дела, а потом: «Эй, чувак, отвянь! Ты мне нравишься, но не в этом смысле, дверь вон там!» и все тому подобное, ну вы знаете. На дейтингах тоже, даже если поначалу все тип-топ, шлешь фотку – и все, тишина в эфире. Но тут я уверен, с Ларой все было бы иначе. Она как бы не поверхностная. И при том что у нее самой внешний вид на пять баллов, она баба умная и не станет заморачиваться по поводу внешности у парня. И мозги у нее как у меня! А у меня как у нее! Да, знаю, книги не для того придуманы, но иногда вставляет. Не нуачо, хотите сказать, это не норм?
Ну то есть я, конечно, знаю, что она не настоящая. Я ж не тупой, я сразу загуглил и выяснил, что есть такой Лео Рихтер, и однажды он был в Париже и придумал эту Лару Гаспар, а потом, когда жена его послала, написал еще три части: «Луна и свобода», «Мюллер и вечность» и еще одну, забыл. В общем, она – это он: все, что с ним случается, происходит потом с ней, что делает он, делает она, ну и так далее, а если он кого-нибудь встретит, тот потом может всплыть в качестве персонажа. На Литдоме его один обозвал знаете как? Автобиографическим нарцисом. Так он потом таких траблов со мной огреб, что теперь уже не постит про то, до чего не дорос, падонок. Мне вот только не понравилась та стори про старуху, которая едет в Швейцарию, чтоб ее там траванули. В ней же ничего от самого Рихтера нет, да и конец какой-то странный, не знаю, на кого он вообще рассчитывал, когда писал, не на меня, во всяком случае.
Знаете, говорю, где я вашу книжку прочитал?
Тут у меня ком в горле. Ну ясное дело, волнение и все такое. Я ведь уже говорил, мне с незнакомыми людьми разговаривать трудно, я такими вещами обычно не занимаюсь. Но у меня тогда блин чуть крыша не съехала! В поезде, говорю, я в вагоне-ресторане ехал, из Мюнхена в Брюссель, пока доехал – как раз дочитал!
Он такой глядит на меня, потом отворачивается, потом снова глядит. Какой-то он угловатый был и на нервах весь, странно, думаю, ну да ниче.
– Ну вот прям то, что доктор прописал! В Мюнхене садишься, раскрываешь книгу. Приезжаешь в Брюссель – а она как раз кончилась! Точняк! Я там на семинаре был, в Брюсселе в этом.
– Весьма любопытно, – говорит.
(Чесслово, я не вру! Я как поднялся к себе, так сразу все и записал, потому что, ну ясен пень, сразу подумал, что выложу на форуме.)
Я такой: «А как Вам в голову приходят такие идеи?» И он отворачивается, смотрит себе под ноги, там, на гравий, на дорожку, потом наверх, там навес, потом снова на меня и говорит: «В ванне». Я: «Оба-на! Мощняк. Вот прям так?» Он: «Чесслово». Я: «В рот мне ноги! В ванне? Фигасе!»
Постояли, помолчали. Он курит, я курю, дождь идет себе.
Потом я ему: «Ну и как, работаете сейчас над чем-нибудь? Как там Лара, какие планы на нее? Можно на “ты”?»
Он, бросая бычок: «Мне пора возвращаться».
Я: «А как тебя вообще сюда занесло?»
Он: «Выступаю с докладом».
Я: «Че? С каким докладом?»
Он: «Какой-то банк проводит семинар, они наняли меня через агента. Ну, я подумал, почему бы и нет, пара дней на свежем воздухе не повредит. Только дождь все время».
Посмотрел так на меня, как будто это я во всем виноват, повторил: «Все время!», – отвернулся и исчез внутри.
Стою, курю следующую. Чтоб прийти в себя и осознать, что только что произошло. Вау. Ну ни хера ж себе! Потом поднялся к себе.
Признаюсь честно, как-то эта встреча меня подкосила, даже пошатывало немного. Столько всего сразу: и с мамкой поругался, и айпишник свой запалил, дурак. И насчет завтра стремновато было: ну ОК, я все-таки профи, как-нибудь справлюсь с презенташкой, но я уже девять с половиной часов в оффлайне и совершенно не в курсах! Без понятия, что мне там наотвечали lordoftheflakes, icu_lop, turnipdaddy и pray4us. Только подумаю об этом – внутри все переворачивается. Попялился чуток в телек, но там одно дерьмо. И тут понял, что душа у меня нет, только ванная, причем такая узкая, что я в нее не влезаю. Ну, придется, значит, пренебречь сегодня гигиеной.
Еще немного поторчал за компом. Пауэрпойнт замороченный какой-то. Набрал немного текста, подвигал туда-сюда – ну не идет, и все. Ничего, авось завтра как-нибудь так обойдусь. А теперь в кроватку, погасить свет и в обнимку с подушкой. Маман всегда говорит: если б в мире был конкурс на лучшего дрыхача, я б непременно победил.
Но не тут-то было. Заснуть не мог вообще: этажом ниже надрались какие-то задроты, принялись петь и бегать по коридору. Конференции – штука такая: офисный планктон не выдерживает и, найдя спирт, уходит на глубину. В голову мысли всякие лезут. Черт подери, да я в одном доме с Лео Рихтером, тем самым, что придумал Лару Гаспар! С тем типом, который решал, как она будет выглядеть и что станет делать. Пожать ему руку – все равно что ей: ну, вы сечете, о чем я?
И ровно в тот момент – лежу у себя в номере с выключенным светом, значит – мне в голову приходит такая идея – просто на пять баллов! Если кто столько времени проводит в инете, сколько я, то он знает – как бы это сказать? Короче, знает, что одной только окружающей действительностью все не ограничивается. Что есть такое пространство, в которое как бы нельзя проникнуть буквально: руками там, ногами. Только в голове. Но ты все равно в нем. И в нем можно было встретить Лару Гаспар! Мишшен поссибл! Просто для этого нужна своя история.
Лео Рихтер ведь использует то, что видел сам, так? Чуваков, которых сам когда-то встречал, так? И события, которые происходили с ним, так? Значит, мог бы использовать и меня. Я ведь не против! Попасть в историю – в общем, то же самое, что попасть в комнату в чате. Как бы трансформация! Перевод себя самого в другое состояние. Попав в историю, я оставался бы собой, но был бы уже другим. И оказался бы в том же мире, что и Лара!
Ну, дошло? Я от него нереально тащусь, от этого Рихтера, и ясное дело, тоже хотел попасть в книжку. А значит, мы с ним просто обязаны были заобщаться. Так, чтоб я бросился ему в глаза! Ну, дружбаном его стал или еще что… Главное, чтоб он на меня внимание обратил. Как я об этом подумал, так у меня сразу такое чувство появилось… Ну, как будто среди всего того дерьма, в котором я живу – вечный срач с мамкой, мерзкий босс, да еще эта скотина Лобенмейер – в общем, мне даже почудилось, будто есть какой-то выход. И когда я наконец уснул, мне так было хорошо, как давно не было. И знаете что? Так легко мне было!
Наутро проснулся. С ванной опять не заладилось – узка, и все тут. Спускаюсь вниз на завтрак. Ну, я, конечно, все-таки болван – три тарелки сразу хватать: одна слева, одна справа, одна посередине. Естессно, именно она-то и шваркнулась: яишенка, бекон, две булки – все в мусор! Лео сидел один с самого краю. Я, ясное дело, подруливаю к нему и такой: «Ну че, как спалось, бро?»
Он уставился на меня. Взгляд у него какой-то странный. Глаза навыкате, а рот дергается постоянно. Говорю вам, с нервами у него не в порядке.
«Мы так вчера и не поговорили, – говорю. И ем. Яишенкой немного заляпался, но внимания не обратил. – Хочешь побольше обо мне узнать?»
Он такой: «Прошу прощения?»
Ну, я ему рассказал, как зовут меня, где работаю, сообщил коротенько, чем мой отдел конкретно во всех подробностях занимается. Ну, и про маман немного, и про то, каково это – целыми днями просиживать в одной комнате с редкостной скотиной.
«Мне надо идти», – говорит.
Я ему: «А как же еда? Ты ж не доел еще!»
Но он уже к выходу, за дверь – и с концами. Нервишки шалят, ну, он же писатель. Доел за ним два тоста с джемом, не пропадать же добру. Потом спускаюсь на ресепшен, спрашиваю, когда инет. Ну и что вы думаете? Катакомбы хреновы. Сарай навозный. Я в зал заседаний.
Донт ворри, никого не хочу уморить деталями. Конфа как конфа. Флипчарты, таблицы, все, к сожалению, на инглише. В перерывах жмут друг другу руки, ко мне никто не подходит. Был один тип, хотел узнать, чем мой отдел занимается, но что тут скажешь? Вот и я пялился на него молча, пока тот не свинтил. Потом наконец обед: рулетики из ветчины, яйца, майонез, открытые пироги – есть можно, в общем, видал я и похуже. Только я себе набрал третью тарелку – ну, немного перебрал, признаю, – как ко мне подруливает какой-то тип в галстуке, встает на пути и такой: «А как вы предохраняете себя на случай кризиса?» Я тут же в ответ: «Фак ю ты мерзкая говняная скотина умри!!!» Он тут же смылся. Ну, бывает у меня. Знаю, нехорошо, но ничего с собой поделать не могу.
Еще пара минут от обеда была. Я тут же к ресепшену и такой: «Мне пожалуйста срочно Лео Рихтера!»
Она чет там набрала на компьютере, потом на телефоне, и вот он, Рихтер! Похоже, спал.
– Кто это?
Я повторил, значит.
– Кто?
Быть не может. Снова меня забыл!
– Я тут подумал, как насчет пообедать вместе? Мне тебе столько рассказать нужно. Со мной чего только ни случалось! Тебе наверняка пригодится.
Тут – опа-на! – щелчок, и связи нет. Дерьмовая гостиница. Тут же перезваниваю.
– Это снова я, ну так как насчет обеда?
Кашель в трубке. Причем такой, натурально простуженный.
– Не могу, – говорит.
– Ну а попозже?
Тишина.
– Эй, ты меня слышишь?
Тишина.
Я такой: «Придешь послушать мою презенташку?»
Он: «Было бы затруднительно. У меня много…»
Я: «О национальных и европейских нормах вещания. Тебе тоже будет интересно!»
Кашель.
Я: «Ну, гляди, в телефонах используются такие специальные ISM-коды, они нужны для идентификации. Например, ты хочешь отправить команду, но ты не в домашней сети. И если в таком случае…»
Тут опять – щелк! И занято. Ну, у меня все-таки мозги на месте, я ж понимаю, что это не случайно – он трубку повесил. Творческая личность! Они все стеснительные – капец как. А у меня теперь сердце колотится, я на нервах весь, просто жесть.
Логично как бы что еще и из-за презы, ясен пень. Мне прям вот сразу сейчас после перерыва выступать, так что отступать некуда, времени не осталось, только закрыть глаза – и вперед.
Все уже были в зале. Мне кто-то руку пожал, потом еще кто-то и еще, я никого не знал, ессно, впереди к микрофону вышел какой-то чувак в галстуке, мол, мой шеф приехать не смог, все дела, я за него. Тут все захлопали, я такой выхожу. Три ступеньки на сцену, высоковато вообще-то, я когда вышел, был запыхавшийся весь и в поту. Открываю ноут, втыкаю кабель, и вот моя презенташка уже на экране, техника высший класс, вы бы тоже заценили. Ну, я и двинул на полную.
Сначала все ок вроде. Ясно, четко, листаю слайды, рассказываю им про новый подход, про национальные протоколы и архитектуру безопасности UMTS, приемущества, недастатки, проблемы и возможности, в общем, мне это легко далось.
А потом гляжу – сидит Лео.
Или не он. Ну, вы понимаете, в зале полумрак, мне в лицо два прожектора, и разобрать, кто это там в самом конце, по очертаниям похожий на Дарта Вейдера – вообще без шансов. Но я же его пригласил как бы. По росту вроде он, так же нервно дергает руками, лоб трет себе постоянно. Но вот лицо – я даже вперед наклонился, но было не разглядеть. И все, пошло-поехало.
Начал заикаться. Причем как! Просто вообще! Слова пропускать посреди предложения, да забыл вообще, как на инглише шпрехают, а потом ноут заглючил и отказался показывать графики. Ладонь так вспотела, что даже мышь взять не могу. Все на меня уставились, я прям аж чувствую. Никому из вас такого не пожелаю, хотя нет, lordoftheflakes пожелаю, пожалуй. И вот еще что: ведь как раз точняк именно такой типаж Лео и нужен! Четкий, во всем разбирающийся, но во время выступления позорно сливается. На этом можно круто замутить, я отвечаю. Я вдруг словно чужими глазами на себя посмотрел, так, словно это и не я вообще, но из-за этого только еще больше заикаться начал, а от этого и еще больше.
Руки вообще взмокли, уронил мышь, она об пол клац! Ну а я что? Я ж нагнуться не могу, что делать-то? Стою, короче, смотрю на них и не знаю. Тут по центру кто-то заржал. Потом еще сзади, и три тетки на первом ряду, потом и остальные. Стою и думаю: а что, если это все сон? Мне ведь что-то такое снилось уже, да и вам наверняка тоже, у всех бывало. Но тут все в натуре по-настоящему, один в один, реальная жизнь на сто пудов, сто процентов и даже сто двадцать. Ну, я еще пару предложений из себя выдавил, как тут вдруг херак! Мысль пробила: «А что, если я вообще дальше не смогу?» И прикиньте, так и случилось: слышу вдруг, что сам себя не слышу, потому что как бы ничего больше и не могу сказать, и вижу, как стою и гляжу, как сам я стою и сам на себя гляжу – вообще ад. А они всё ржут. Я едва осилил еще в микрофон, типа мне нехорошо и все такое, и по ступенькам вниз, хреново как никогда, в полной прострации, ладно хоть не упал. Какой-то очередной чувак в галстуке такой: может, вызвать врача? Ну я ему: слышь, ты в мои дела не лезь! И за дверь.
Понял, что я совсем сдулся. Вспотел, как конь. Голова кругом, руки-ноги не слушаются. Мокрый весь. Надо было как-то расслабиться, прийти в себя, морду опять кирпичом. Я в холле. Гляжу такой вокруг себя и вижу, как ровно в тот момент один чувак встает из-за стола – и двинул такой к туалету, а ноут оставил, а в нем модем! Ну я подхожу поближе, потом еще чуток, потом сажусь быстро в кресло и давай строчить, как будто за мной собаки гонятся. Первым делом полез на мувифорум. И точняк! Там bugclap в ответ на мой совершенно содержательный пост развел такую флудильню, что мне аж дыханье сперло – пацаны, вы че? Вам что, в жизни заняться нечем? Ну я ему ответил быстренько, не оставлять же так.
Вспомнил, как только что опозорился. Вот, беда, как говорится, не приходит одна! Руки дрожат. Я значит быстро в болталку, высказал pray4us все, что давно уже кто-то должен был сказать. Скотина тупая, умри! Потом в почту. Никто не пишет. Вспомнил, что слил свой айпишник. Неужто за мной уже послали, думаю. Власть имущие, они ж ниче не рубят, делают так, как им вздумается, а я по всем пройтись успел, от президента и дальше по порядку. Сунулся еще на «Вечерние», черкнул, что на первой полосе сегодня сплошная фигня. Ниче не читал, но какая разница, все равно потрут – а мне помогло, я уже успокоился маленько. Тут рядом со мной кто-то такой: «Эй! Ты что тут делаешь?»
Я: «А? Что? Чего? В чем дело?» Забыл уже, прикиньте. Голова явно была не на месте, можете мне поверить.
Он такой: «Это мой комп!»
Ну что на это можно ответить? Я: сори, мол, прошу прощенья, ошибочка вышла, такие дела. Встаю, иду по коридору. Вдруг вижу, как из другого зала люди выходят, мужики при параде, дамы в шелках, а посередине угадайте кто!
Я к ним. Слышу, один: «Знаете, где я прочел эту книгу? В самолете, когда летел из Гамбурга в Мадрид». Лео такой кивает. Видок у него стремный какой-то.
Другой: «А как вам в голову приходят такие идеи?»
Рихтер, короче, дергается, по сторонам смотрит, на ногах еле стоит. Нервы, ну как я и описывал. И ему в ответ: «Мне надо работать!»
Тетка такая, в очках, сморщенная вся, с халой на голове: «Как вы потрясающе выступили! Заставили нас о многом задуматься!»
И другая тут же: «Вы ведь с нами отобедаете?»
Да ни в жизнь! Хватаю его за плечо и: «Не может быть и речи! У нас встреча!» Для меня какой стресс, представляете? С ума сойти. Пот градом, но виду не подаю: «Эй, мистер Лео, не ссы! Пойдем выпьем! Все позади, господин писатель, теперь можно гульнуть!»
Тут он вырвался, бегом на ресепшен, «Триста пятый!», хватает ключи. Я вам точно говорю, у меня слух хороший и я знаю, как тут на форуме ценят точные сведения и надежную инфу, и все детали, какие только сумел узнать. Я потом еще много думал, но никаких сомнений, все точно так. 305. Сам слышал!
Лео, значит, к лифту, причем так погнал, что мне за ним было не поспеть, я не такой шустрый. Рядом со мной тетка говорит тому, что в галстуке: «Жаль, жаль, но выступление было совершенно замечательным!» Он ей: «Ну как сказать, он не слишком-то обаятелен». Третий: «Как по мне, так было скучновато». И тетка такая оборачивается ко мне: «А вы кто такой?»
Мне с ними говорить было не о чем. Ни слова, отвернулся и пошел к бару, взял вискарик, потом еще один. Все равно все за счет фирмы. Ну и еще. Мимо проходил кто-то, озирался на меня, ржал. Знаете этих типов, которые в один прекрасный день достают пистолет и та-та-та! Все в кровище? Так вот, я их понимаю. Просто сам на такое не способен – в оружии не разбираюсь, да и откуда взять, не знаю к сожалению.
Один стопарь меня не берет, нужна хотя бы пара заходов, чтоб что-то почувствовать. Но вот после четвертого меня уже развезло конкретно. Голова кругом, язык не ворочает, глаза стеклянные – короче, все по полной программе, ну вам мне объяснять не надо, вы и так все знаете. И что-то мне так грустно стало вдруг – прям не знаю, что делать.
Решено, думаю. Лара Гаспар, сейчас или никогда. Поднялся, значит (это мне и стрезва не так-то легко), зашел в лифт, поднялся наверх. Триста пятый.
Стучу. Тишина.
Громче стучу.
Тишина.
Ну я кулаком как двину!
Тут вдруг откуда ни возьмись горничная. Я, ессно, с перепугу: сори, ошибся, все дела. Собираюсь уходить, как она мне вдруг: «Забыли ключ внутри?»
Я такой сразу: «Ага!» Когда надо, я вполне ниче соображаю, Спок на моем фоне просто тормоз. Она такая карточку в щель – бип! И дверь открыта, я внутри. Зажег свет. Везде пусто, постель нетронута, Лео нет.
Я в поту. Я уж было думал, куда больше-то, но пот, скажу я вам, такая вещь – больше всегда есть куда. Номер Лео Рихтера, думаю. Гляжу по сторонам. Сунулся в ящики, в шкаф. Номер Лары Гаспар как бы тоже. Божечки.
В шкафах все как обычно. Белье, ноут (крышку поднял, но он затребовал пароль), книжки: Платон, Гегель, «Бхагавадгита». Зачем вообще такое надо, у Ауристуса Бланкуса в «О чем говорят мыслители» все тоже самое написано, только куда понятнее, и втыкаешь быстрей. Присел на кровать. Не, послушайте, я не гоню, мозг у меня был конкретно вынесен. И стремно было, а как иначе: что, если Лео сейчас заходит – а тут я? Он бы принялся орать: «На помощь, помогите!» Но надо ж как-то было обратить на себя внимание. Чтоб в книжку попасть. Нуаче, другого шанса мне не представилось бы. Да я б ему даже по морде заехал, если б это помогло, вот только его ж не было.
Оглянулся по сторонам. Вокруг трындец полный! Даже говорить не буду. Просто атас: ящики выворочены, листки разбросаны, комп на полу, экран вообще неясно, работает или сломан. Скомканные страницы, из блокнота выдранные, покрывало на полу, в ванной тоже все на полу, осколки стекла какие-то. Это что, я что ль? Хотите верьте, хотите нет, но я точно сказать не могу. Повалялся еще немного на его кровати, мягкая такая была. Плакал в подушку. Думал о Ларе.
И быстро наружу. По коридору, в лифт и вниз к себе на этаж. Только до кровати добрался, ноги подкосились, я такой лежу, а надо мной потолок вращается, и подо мной, сверху, снизу, смешалось все – божечки, ну я и надрался.
Проснулся от молотка в голове. Весь вымок, в черепушке стучит, во рту словно кошка сдохла. Времени семь. На телефоне девять смс, и все от мамки. Опять заснул в одежде. Тут в голове щелк! И память вернулась.
Надо было с ним поговорить. Да, именно так: сесть, поговорить, во всем признаться, как было, вот как вам сейчас. Неважно, что б он со мной сделал, но сопротивляться не смог. Так бы все и завязалось! И я в книжке. Вот, думаю, прям сейчас, за завтраком, все и выложу.
Спускаюсь значит на завтрак и жду. Тост, мюсли, яишенку. Кофе. Полистал одну газету, вторую. Я ж «Вечерних новостей» никогда на бумаге не видел, только онлайн – вообще интересно, и компьютерный раздел неплох, но только напомнил мне, что я не могу в инет никак попасть, ну я и отложил в сторону побыстрей. Взял пару булок, сосиски, семги, кусок салями, пару тостов с джемом, еще яишенки. Мамка мне такого завтрака не готовит, вечно одно и то же: «Сам пойди да купи, если не устраивает!» ну итд итп. Сижу весь на нервах, жду – сейчас он придет.
А он все не идет. Только те же вчерашние задроты, все пялятся на меня, ржут и шепчутся там о чем-то своем. Я вообще человек такой, что и мухи не обижу, а то бы иначе клянусь, я бы в один прекрасный день – дробовик в руки и та-та-та-та! Всех в голову расстрелять, огонь, ад, кровища, вся фигня. По полной.
Выхожу наконец в лобби. Телка на ресепшене сразу такая головой крутит: «Нет-нет, интернета пока нет, не починили!»
Я: «Мне Лео Рихтера!»
Она: «Он уехал».
Я: «Чего?»
Она: «Вчера вечером».
Ну ОК, я немного переборщил. Не стоило колотить ей по стойке, ну на крайняк не двумя руками. Да и спрашивать у нее, в чьем я тогда номере вчера… Хорошо хоть, она не догнала, а я вовремя угомонился, у меня же мозги пока на месте. Спросил еще раз, может, какая-то ошибка, пускай проверит – но нет. Ну, я сделал ноги и пошел звонить мамке.
Она мне: «Я тут совсем одна, цельными днями плачу – ты что, теперь всегда так со мной поступать будешь, небось девку себе завел, да?» Я: «Какую девку! Ни за что, никогда!» Она: «А я тебе не верю!»
Ну тут я тоже слезу пустил. Да, знаю, стыдобища, просто жесть, но я все равно решил рассказать, вы ж меня не знаете и не в курсе, каков я на самом деле. Так и реву, в общем, посреди холла. Она мне: «Ладно тебе, ладно, верю, ты мне только обещай, что больше никогда так делать не будешь. Чтоб я тут все выходные дома одна! Никогда так больше не делай, слышишь?»
Ну я и пообещал.
Нуачо, а почему нет? Мне не трудно. Со мной что, кто-нибудь кроме Лары когда-нибудь связаться решит? Нет. Ну да ладно, по крайней мере, у меня теперь хоть что-то есть для форума. Но и даже тут нет никакой фишки, никакого прикола. Ни кульменации, ничего. Из такого и книжки-то не сделаешь.
Я ведь его больше никогда не увижу. Написал на «Литдоме», что книги его то еще дерьмо, ну а на Амазоне чего понаписал – вообще даж не спрашивайте. Но какая к черту разница, он же сам все равно никогда не прочитает.
Они мне на ресепшене ничего не дали, ни адреса, ни телефона. Он обо мне ничего не напишет, и я так никогда Лару и не встречу. И все, что мне остается – это реал, это с работы к мамке и от мамки на работу, босс и эта последняя свинья Лобенмейер, а единственное утешение форумы как этот. Я ж в конце концов не тролль какой-нибудь, как lordoftheflakes, и не придурок как icu_lop или pray4us. У меня всегда буду только я один. И застрял я по эту сторону навсегда и по ту никогда не окажусь. В другом мире: импоссибл. Завтра с утра опять на работу. Прогноз погоды дрянь. Да и был бы он ничего, мне уже все равно. Все будет дальше как всегда и всегда и было. И я точно знаю, в книжку никогда уже не попаду.
Моя ложь, моя смерть
С Люцией мы познакомились однажды вечером, в среду, на приеме Управления по регулированию телекоммуникационных лицензий. С того самого дня я пропал. Я стал лжецом.
Я к тому времени вот уже девять лет жил с Ханной – ну, по крайней мере номинально, поскольку она жила с нашим сыном и крохотной дочуркой, таким, знаете ли, не самым приятным младенцем, в тихом скучном городишке на юге Германии, у озера – там, где я когда-то родился, а теперь наезжал туда по выходным, по будням же торчал в ничем не примечательном поселке под Ганновером, который то предприятие, где я работал, выбрало, чтобы построить свою штаб-квартиру. Ханна была чуть старше меня и неплохо справлялась в одиночку. Я в ее жизни на тот момент уже не так уж и много значил, и она это знала, и я тоже знал, и оба мы понимали, что другой это понимает. Но все-таки Ханна – это Ханна, дома грудничок сосет пальчик, и мне было с самого начала понятно: Люция ни о чем таком знать не должна.
Опишу ее как-нибудь потом, когда представится случай. Сейчас скажу только, что она была высокой, темно-русой, а глаза ее были темными и круглыми, как у хомячка: блестящие, немного трусливые, никогда дольше двух секунд ни на чем не задерживались. Я обратил на нее внимание, когда она выронила бокал, а затем расколотила вазу с цветами, которую кто-то зачем-то поставил на пьедестал. На ней было платье без рукавов, кожа ее плеч была безупречна, и еще тогда, увидев, как она стоит среди осколков, я понял, что лучше умру, чем упущу возможность прикоснуться к ней, ощутить, как ее дыхание сливается с моим, и увидеть, как в непосредственной близости закатываются ее глаза.
Оказалось, она химик. Чем она конкретно занимается, я не понял: что-то там с углеводом, синтезом чего-то из чего-то, по всей видимости даже на стыке с термоядерной реакцией и добычей энергии из ничего. Но я много кивал, повторял: «Ага, да-да, конечно», – наклоняясь все ближе к ней, чтобы ощутить запах ее духов. Когда она спросила меня, чем я зарабатываю на жизнь и как здесь оказался – имела ли она в виду этот город или этот прием, я не понял, – мне даже пришлось собраться с мыслями, прежде чем ответить (все те связи, на которых выстраивалось мое бытие, казались мне далекими и чуждыми, словно погода на другом конце земного шара).
Я был – тогда еще был, ибо теперь я безработный, и вероятность того, что какая-либо еще организация захочет меня нанять, крайне невелика, – начальником отделения по присвоению номеров и управлению номерной базой в одной крупной телекоммуникационной компании. Возможно, это звучит довольно скучно, но в реальности все еще гораздо скучней. Не то чтобы мне это цыганка нагадала, нет, да и мать моя, пророча своему сыну блестящее будущее, явно имела в виду что-то другое. Когда-то я неплохо играл на фортепьяно, вполне сносно рисовал, да и по всем фотографиям видно, что я был симпатичным мальчиком, и взгляд у меня был умный. Но жизнь готова сломать кого угодно – так почему именно я должен был стать исключением, почему именно мои мечты должны были сбыться? «Читать книжки – это никакая не профессия», – сказал мне тогда мой отец. И как бы тогда я на него ни рассердился, придет время, мои дети вырастут, и я повторю им то же самое: читать книжки – никакая не профессия. И вот я пошел учиться на электротехнический, с упором на мобильную коммуникацию, изучал устройство тогда еще аналоговых сотовых телефонов (кажется, целая вечность прошла с тех пор), SID-коды, MIN-коды, все те способы, что позволяют передать человеческий голос за миллионную долю секунды в любую точку земного шара, пошел работать, начал привыкать к унылым вечерам в офисе, пахнущим кофе и озоном. Поначалу мне подчинялось пять человек, потом семь, потом девять; я с удивлением для себя выяснил, что люди не в состоянии работать вместе, не ненавидя при этом друг друга, и что им ничего нельзя поручить, чтобы они не начали презирать при этом тебя. Встретил Ханну, которую я любил куда больше, чем она меня, стал завотделом, потом меня перевели в другой город – что принято называть продвижением по карьерной лестнице. Зарабатывал хорошо, чувствовал себя страшно одиноко, по вечерам читал по-латыни со словарем или смотрел по телевизору такие комедии, в которых невидимые зрители смеются, когда должно быть смешно, – и учился принимать то обстоятельство, что жизнь такая, какая есть: что-то в ней подчинено нашему выбору, но далеко не все.
И вот я стою перед Люцией, сердце мое колотится, как сумасшедшее; слышу, как сам же расспрашиваю ее, словно детектив, постепенно сужая круг, чтобы выяснить, есть ли у нее семья, присутствует ли кто-то еще в ее жизни – а следовательно, если ли вероятность, что я когда-нибудь, а еще лучше – довольно скоро, а лучше всего – прямо нынче вечером, смогу прижаться губами к крохотной ямочке над ее ключицей. Время от времени она улыбалась, то поднимая, то опуская руку, в которой держала бокал, я видел ее длинную шею, видел, как под кожей у нее на плечах играют мышцы, как переливаются на свету ее блестящие, шелковистые волосы; боковым зрением я замечал, как вокруг плавают нечеткие тени. Звенели бокалы, до меня доносился смех и обрывки фраз, где-то кто-то произносил речь, но все это меня больше не волновало. Люция призналась, что она здесь совсем недавно и ей тут, если говорить откровенно, ну совершенно не нравится, – и тихо рассмеялась, а я так и не был уверен, действительно ли она бросила мне многозначительный взгляд или из-за плохого освещения и собственного возбуждения у меня случился обман зрения.
– У вас есть телефон? – спросила она.
– Есть, – удивленно отозвался я. – Вам надо позвонить?
– Нет. Вам кто-то звонит.
Я нашарил рукой карман, извлек оттуда мобильный. Действительно, музыка, которая уже некоторое время мозолила мне уши, стала громче. На дисплее высветилось имя жены. Я сбросил. Люция смотрела на меня так, что было видно: ее это явно забавляет. Что тут было забавного, мне было неведомо. Меня вдруг бросило в жар – оставалось только надеяться, что я не краснею.
– Мой у меня только недавно, – сказала она. – И это просто жуть какая-то. Кажется, будто реальной жизни уже совсем не осталось.
Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что она говорит о своем сотовом. Я кивнул и заверил ее, что полностью с ней согласен. Что Люция подразумевает, я не имел понятия.
В зале оставалось всего несколько гостей, равномерно распределившихся по всему пространству, не выпуская бокалов из рук. Я задавал себе вопрос, что могло сподвигнуть ее так задержаться и почему она по-прежнему стояла со мной. «Мы могли бы пойти куда-нибудь, что-нибудь выпить», – предложил я; старая, заезженная фраза. Но она будто не поняла, ну или сделала вид, что не понимает, ну или не понимает, что я все понимаю, и ответила, что с удовольствием пойдет.
Так мы оказались в одном не особенно располагающем заведении. Люция что-то рассказывала, я кивал, время от времени вставлял что-то свое. Казалось, все вокруг медленно вращается, меня обволакивал аромат ее духов, а когда она словно нечаянно коснулась моего плеча, меня будто пронзило электрическим током. Ее рука скользнула по моей талии, но не отдернулась, а когда в какой-то момент я приблизился к ней настолько, что мог разглядеть прожилки в глубине ее зрачков, мне стало ясно, что все происходящее – не желаемое, которое я выдаю за действительное, не привычная игра воображения и не вымысел, порожденный моим одиночеством, а происходит на самом деле.
– Ты далеко живешь? – спросила она.
Тут у меня снова зазвонил телефон.
– Как, опять?
– Это один мой друг. У него много проблем. Звонит в самое неподходящее время – утром, днем, среди ночи…
Я тогда еще не был столь искусен во лжи, но все же: пока я произносил эти слова, он так и предстал у меня перед глазами во всем своем убожестве – пьяный, грустный, небритый, побитый жизнью и алчущий моего совета.
– Бедняга, – усмехнувшись, сказала она. – И ты бедняга!
– Так вот, – произнес я, отвечая на ее предыдущий вопрос. – Я живу совсем недалеко.
В итоге оказалось, что все-таки довольно далеко, мы просидели в такси около получаса, причем в абсолютной растерянности, как чужие. Водитель курил за рулем, по радио курлыкала восточная музыка, за окном под бессмысленно мигающими в ночи вывесками виднелись силуэты каких-то оборванцев. Было холодно, а вся эта ситуация начала мне вдруг казаться смешной. Я вспомнил, что не застелил постель, и начал думать, как бы сделать так, чтоб незаметно спрятать игрушечного слона, который жил в моей спальне с тех пор, как мне стукнуло десять, где бы я ни был. Еще пока мы поднимались по лестнице, проблема эта казалась мне неразрешимой, но она потом не обратила на него вообще никакого внимания, а до неубранной постели ей точно так же не было дела, как и до кучи невымытых чашек на обеденном столе – мы набросились друг на друга еще в дверях.
Я был слегка не в форме и, когда она прижала меня спиной к стене и впилась губами в мои, мне вдруг стало нечем дышать. Ее руки обвили мою шею, колено проникло мне между ног, рядом упала на пол книга; она схватила меня за воротник – я услышал, как затрещала ткань, – потянула за собой на середину комнаты и так шмякнула об стол, что две чашки покатились на пол. Я обхватил ее и прижал к себе, с одной стороны обуреваемый желанием, с другой – чтобы остановить разрушения, и на несколько секунд – мне и по сей день кажется, что время тогда остановилось, – увидел ее глаза всего в паре сантиметров от моих, погрузился в ее запах, мы дышали в унисон. Возможно, именно сейчас самый подходящий момент, чтобы сделать перерыв и описать, какой она была.
Люция была выше меня где-то на полголовы, широка в плечах, как и все, кто вырос вдали от больших городов, – полная противоположность моей смуглой, хрупкой Ханне. В ней все казалось крепким, коренастым – только черты лица были тонкими, брови-ниточки – изогнутыми, губы – узковатыми. Грудь ее была более полной и округлой, чем у той, далекой, о которой мне нынче не пристало и думать. Была ли она красива? Не мне было судить, да я и теперь не знаю: Люция была просто Люцией, и оттого я ее желал так сильно, что без раздумий отдал бы целый год моей, ее, да чьей угодно еще жизни за право коснуться ее, а в то самое мгновение, когда я наконец на самом деле – она со свистом втянула воздух – прижался губами к ее ключице, мое существование словно разделилось надвое, на до и после, раз и навсегда.
Прошел час, а мы и не думали останавливаться. А может, больше, а может, и меньше: казалось, время то мчится вперед, то торопится назад, переплетается и свивается кольцами, словно слетевшая с катушки пленка, и немного погодя я даже не мог сказать, было ли в том виновато мое спутанное сознание или сама реальность перепуталась и исказилась. Одно из воспоминаний рисует мне такую картину: я лежу на спине, ее тело возвышается надо мной, серебрится в неярком свете, падающем из окна, ее руки на моих плечах, голова запрокинута; помню еще, как она лежит подо мной, впившись пальцами мне в загривок, отведя взгляд, а моя рука скользит по ней до той самой точки, в которой она начинает всхлипывать, словно от отчаяния или от боли. Или еще: я вцепился в нее, она в меня, мы – друг в друга, мы почти сползли с кровати на пол, так, словно мы – одно существо, или, наоборот, множество существ, ее пальцы у меня во рту, моя рука обвивает ее бедра – и именно в этот момент передо мной возникает лицо Ханны и исчезает вновь. Или так: мы оба стоим, мой затылок колотится об стену, весь ее вес на мне, пространство вокруг распадается и слагается вновь. И только лишь на меня снизошло мягкое успокоение, как все завертелось вновь, и мы еще какое-то время стискивали друг друга в объятиях, и было так, словно мы плывем по заболоченной, еле текущей воде – ибо мы не хотели, чтоб это кончалось. Но в конце концов нас снова стало двое, была она, и был я; она начала рассказывать о своей жизни, и я бы с удовольствием слушал – но провалился в забытье, сон без сновидений.
Ранним утром все началось опять. Я ли разбудил ее или она прогнала мой сон? Не знаю. Помню только, как видел в окне уже посветлевшее, странным образом чистое и безоблачное небо. В рассветных лучах ее разметанные по белой подушке волосы приобрели иной оттенок и отливали рыжиной. Но вот она уже издала вздох, и мы оба снова погрузились в сон, в последние виденья уже почти окончившейся ночи.
Когда я проснулся, она уже была одета. Пробормотав что-то на прощание, направилась к дверям; ей пора было на работу. Да и я опаздывал. Не завтракая, помчался к машине – и, застряв, как обычно, в районе восьми в утренней пробке, позвонил Ханне.
– Как вчера прошло? Скучно. Все те же бюрократы, что и обычно.
Не успел я окончить фразы, как понял, что меня удивляют две вещи. Во-первых, то, что даже самые близкие, родные люди не замечают лжи. Стереотипы говорят об обратном и требуют, чтобы говорящий обязательно выдал себя, запнулся бы на ложном слове, начал обливаться потом, голос бы его изменился и звучал не так, как обычно. Скажу, друзья, что это не так. И то, что это не так, никого так не удивляет, как самого лжеца. И кроме того: даже если б оно было и так, если бы голос подвел нас, а мы бы стали заикаться, дергаться и краснеть, нас бы это не выдало – на это никто не обращает внимания. Люди склонны видеть в других только лучшее и не ждут, что их обманут. Да и кто вообще слушает своего собеседника, кто сосредоточен на том, что там болтает другой человек? Все погружены в свои раздумья.
– Бедняга! Как они, должно быть, скучны. Не знаю, как ты вообще это выдерживаешь!
Насмешки в голосе я не заметил. И это было второй вещью, которая меня так удивила: все мы насмехаемся над чиновниками, бюрократами, душами бумажными и канцелярскими крысами. Но ведь мы и сами такие! Любой служащий ощущает себя творцом, анархистом, свободолюбцем, тайным безумцем, не признающим ни норм, ни принуждения. Всем нам сулили когда-то землю обетованную, но никто не желает признать, что он давно уже один из тех, кем никогда быть и не собирался, что все в нем норма и ничто не исключение – как раз потому, что он полагает, будто он не такой, как все.
– А как дети? – тут мой голос и впрямь зазвучал неуверенно. То, что она, в точности как накануне Люция, назвала меня беднягой, оказалось совершенно неожиданным и начисто выбило меня из колеи.
– Пауль нагрубил учительнице. Он в последнее время совсем от рук отбился. Придется тебе в субботу с ним поговорить.
– В субботу у меня не получится приехать, к сожалению.
– Вот оно что.
– Приеду в воскресенье.
– Ну, значит, в воскресенье.
Я что-то наговорил ей о предстоящих встречах, о неожиданных обстоятельствах и ужасающем бардаке на работе. Упомянул одного нового сотрудника и нескольких некомпетентных. Потом мне показалось, что я все-таки преувеличиваю, и я умолк.
Подчиненные, как обычно, поджидали меня в страхе. То, что они презирали друг друга, было мне понятно, и я даже находил этому объяснение; то, что они ненавидели меня, было заложено в самой природе вещей, потому как и я внутренне невероятно противился своему начальнику, некоему Эльмару Шмидингу из Ваттенвиля. Но откуда, скажите на милость, этот страх? Я никому никогда не чинил препятствий; до того, чем они были заняты, мне не было никакого дела. Я хорошо знаю систему и понимаю, что даже средней тяжести ошибки не способны ничего в ней ни пошатнуть, ни изменить; да, они причиняют неудобства тому или иному клиенту, но мы об этом никогда не узнаем, и нас это не волнует.
Итак, я поздоровался с Шиком и Гауберланом; похлопав Сметану по плечу, заглянул в комнату, где сидели друг напротив друга Мольвиц и Лобенмейер, крикнул им: «Привет!» – пожалуй, даже чересчур громко. Сел за стол, попробовал заставить себя не думать о Люции. О ее коже, ее носике, ее пальчиках на ногах – и уж ни в коем случае не вспоминать ее голоса. В дверь постучали, и на пороге показался Мольвиц, как всегда весь потный, обремененный своими неправдоподобными объемами, низкорослый, с головой, растущей прямо из плеч, – одним словом, жалкий.
– Не сейчас! – резко ответил я. Он мгновенно испарился. Я позвонил Люции и спросил, свободна ли она в субботу.
– Мне казалось, по выходным тебя не бывает в городе, – произнесла она.
– С чего ты решила? – перепугался я. Откуда она могла знать, что я успел ей наговорить?
– Ничего подобного, я здесь!
– Славно, – ответила она. – Тогда до субботы.
Снова постучали в дверь, вошел Лобенмейер и сообщил, что сил его больше нет выносить Мольвица.
– Не сейчас!
– Я многое могу снести, – заявил Лобенмейер, – но в какой-то момент и моему терпению пришел конец. Он ничего не делает – шут бы с ним. Вместо того чтобы работать, торчит все время на форумах и что-то туда строчит, как ненормальный, – пускай. Даже к тому, что он беспрерывно сыплет ругательствами себе под нос, я и то почти привык. Но вот его полное отсутствие гигиены – это некоторая переоценка, или, вернее, недооценка людей, вынужденных с ним рядом находиться.
– Лобенмейер, расслабьтесь, – мягко произнес я. – Я поговорю с ним. Я этим займусь.
Надо было бы, конечно, приструнить Лобенмейера и дать ему понять, что так о своих коллегах говорить нехорошо, но я заставить себя не смог, – и кроме того, от Мольвица и в самом деле, в особенности под конец дня, исходил отвратительный запах.
В воскресенье около полудня, в том самом городе на берегу иссиня-черного озера, я ступил на порог своего дома – точно такого же, как другие дома по этой стороне улицы, вплотную подступавшие к нему. Вид у Ханны был бледный – она подхватила грипп. Пауль после какой-то ссоры заперся и не выходил из комнаты, малышка была не в настроении и хныкала, а меня самого шатало так, словно я был пьян, – ведь я еще всем телом ощущал прикосновения Люции.
– Ты до завтра? – спросила меня она.
– Разумеется, – ответил я, даже не задумываясь.
Я уже тогда знал, что мне придется изобрести предлог, чтобы ввести ее в заблуждение, но в то же время мне казалось, будто это ничего не значащая ложь; значение имела лишь та комната, та постель и та женщина, что лежала в ней рядом со мной, а Ханна, этот дом и дети, вся моя другая жизнь казались мне неправдоподобным вымыслом – как в тот момент, когда я после долгих часов за рулем присел за стол, отодвинул в сторону резиновую уточку, взглянул в покрасневшие глаза Ханны, и образ Люции показался мне далеким и призрачным. Я откинулся назад. Я дома. Малышка, подцепив ложкой картофельное пюре, теперь размазывала желтую массу себе по лицу. В кармане завибрировал телефон. Эсэмэска. Люция хотела увидеться, причем немедленно.
– Что стряслось? – спросила Ханна. – Сегодня же воскресенье!
– Они полные растяпы, – пробормотал я, а в ответ написал: «Срочно вызывали на работу, умер коллега».
Нажав «Отправить», изумился: ощущение, что я повел себя нечестно, никак не приходило. Словно я и впрямь оставил вместо себя свое второе Я, которое в тот момент направлялось к дому погибшего Гауберлана (или Мольвица? Наверное, лучше его). Я задумчиво кивнул, погладил малышку по голове, вышел из комнаты и направился к Паулю, чтобы серьезно с ним поговорить. Потом собирался написать Люции мейл, в котором говорилось бы, как я вошел в квартиру покойного и, заставив себя успокоиться, отдал первые распоряжения. Без особых подробностей, только в общих чертах, с двумя-тремя точно подмеченными деталями: скособочившаяся дверь; кошка, бродящая по комнатам в тщетных поисках плошки с молоком; надпись на пустой упаковке из-под таблеток. Удивительное дело: с появлением техники мы оказались помещены в мир, где утрачена четкая привязка к месту. Мы говорим словно из ниоткуда, можем находиться при этом где угодно, а поскольку доказать ничего нельзя, то, в принципе, что бы мы себе ни представляли – все правда. Поскольку никто не может упрекнуть меня в том, что я на самом деле нахожусь в другом месте, да и поскольку сам я не до конца, не полностью уверен, где я, – то где инстанция, наделенная правом решать? Реальные, вполне конкретные места в пространстве существовали лишь до тех пор, пока у нас не появились эти крохотные передатчики и мы не научились писать письма, достигающие адресата в ту же самую секунду, как были отправлены.
Я в задумчивости отключил телефон – на тот случай, если она решит внезапно позвонить. Потом скажу ей, что не было сети – это всегда звучит правдоподобно. И, ей-богу, сеть и впрямь постоянно пропадает, кому как не мне об этом знать, в этом и состояла моя работа, за такие случаи я и отвечал. Я сжал кулак, ударил по двери в комнату Пауля и крикнул: «Открывайте, молодой человек, есть разговор!»
И как долго это могло продолжаться? По моим расчетам, этот замес опасности, свободы и двойной игры должен был продержаться недели три, от силы месяц. Но месяц прошел, за ним неделя, другая, а я был далек от разоблачения.
Как это происходило раньше, интересно? Как люди лгали и мошенничали, крутили романы, заметали следы, манипулировали, проворачивали свои тайные делишки, не прибегая к помощи высоких технологий? Ведь я же еще застал то время – и все равно уже не мог себе этого представить.
Я слал Ханне сообщения, якобы из Парижа, Мадрида, Берлина, Чикаго, а одним достопамятным днем даже из Каракаса – сидя на кухне у Люции, строчил первый абзац взволнованного, наспех скроенного послания, описывая желтый от грязи воздух и улицы, запруженные автомобилями, покуда она босиком и в одних трусиках стояла у плиты, а осенний дождь барабанил множеством пальцев по оконным стеклам. Она нечаянно смахнула со стола чашку с кофе; по полу разлетелись осколки, выплеснувшаяся жидкость образовала черное пятно, как в тесте Роршаха.
– Что пишешь?
– Отчет для Лонгрольфа. Один из тех, что проводят у нас ревизию.
И, рассказывая ей про бедолагу Лонгрольфа (трое детей, четыре бывших, алкоголик – в то время лгал я уже по привычке и продолжал изобретать, даже когда на то не было причин), я уже предвидел, как четыре дня спустя, сидя в столовой, пока малютка будет ползать по ковру, а Ханна – сидя рядом, за компьютером, которым я из соображений безопасности никогда не пользовался, – обрабатывать наши фотографии из отпуска, где мы все четверо засняты на фоне мрачного побережья, я стану писать Люции о том, как провожу время на совещании с тем самым Лонгрольфом: об унылой атмосфере, царящей на том этаже, где сидит начальство, об интригах, которые плетут за каждой дверью, нахальной роже Лонгрольфа и свином рыле Сметаны – ах, до чего же все это печально, и как бы я хотел, любимая, оказаться сейчас рядом с тобой. Все для того, чтобы потом ускользнуть из дома («Пойду вынесу мусор!»), прислониться с подветренной стороны к стене, позвонить ей по мобильному телефону и рассказать, как мне все-таки удалось на секунду выбежать на лестницу, только чтобы услышать ее голос.
Ложь? Да, разумеется, это была ложь, но разве я не думал о ней постоянно, разве все мое существо не жаждало близости с ней, разве все те часы, что я играл с детьми или вел с Ханной одни и те же нескончаемые разговоры о налогах, детском саде, плате за воду и ипотеке, я не думал о ее теле, ее лице, ее слегка грубоватом голосе? Какая разница, удерживал ли меня вдали от нее Лонгрольф или наполовину уже чужая мне спутница жизни с двумя крикливыми отпрысками, для которых я и впрямь был чужим, а само их существование все то время, что я с ними проводил, казалось мне плодом больного воображения? Точно так же и наоборот: когда в доме у Люции я запирался в ванной и, пустив воду, беседовал по телефону с Ханной и мальчуганом («Какой шум? Это на линии помехи!»), мое далекое семейство казалось мне близким и дорогим, как никогда доселе, а Люция там, в постели, внезапно становилась для меня столь же обременительным препятствием, как тот заунывный съезд, о пребывании на котором я в тот момент рассказывал в трубку. Я ведь их обеих любил! И всего сильнее – ту, которая в то мгновение была не со мной, с которой я не мог быть рядом, встрече с которой препятствовала другая.
Я начал подозревать, что сошел с ума. Я просыпался под утро и, слушая размеренное дыхание спящей рядом женщины, несколько секунд в ужасе спрашивал себя, не кто она, а кто же я сейчас такой и в каком лабиринте заблудился. Шаг за шагом – ни один не давался мне с трудом, ни один не казался значительным – я все больше углублялся, сам того не ведая, и забрел так далеко, что потерял из вида выход. В такие минуты я закрывал глаза и лежал смирно, целиком отдав себя во власть леденящей, всевозрастающей паники. Но днем, когда я, поднявшись с постели, входил либо в ту, либо в другую роль, так, словно другой у меня никогда и не было, я вновь чувствовал облегчение, и все казалось почти что в порядке.
За два дня до предстоящего съезда европейских поставщиков связи я сидел на своем рабочем месте и разговаривал по телефону с няней. Мы с Ханной собирались отправиться на него вдвоем – мы так давно не проводили времени вместе. Презентация моя обещала быть короткой и не требовавшей подготовки, а гостиница – роскошной, с оздоровительными водными процедурами. Повесив трубку, я обнаружил письмо от Люции. Всего одна строка: «На конгресс я с тобой!»
Потерев глаза, я подумал о том, о чем думал ежедневно, нет, ежечасно: что однажды все взлетит на воздух, что ко мне приближается огненное бедствие.
«Не стоит, – ответил я. – Работы полно, народ соберется ужасный».
И тут только до меня дошло.
Поскольку Люции я ничего не рассказывал ни о каком конгрессе, значит, она знала кого-то, кто тоже там будет. Следовательно, я не мог поехать с Ханной: слишком высока была вероятность, что об этом прознает Люция.
А что, если наоборот? Если я поеду с Люцией? Ханна почти никого из моих коллег не знала. В городе, где я жил, она бывала редко, а моя работа по ряду вполне понятных причин ее не интересовала никогда. Но риск был слишком велик. На мгновение я возненавидел их обеих.
И позвонил Ханне.
– Какая жалость! – ее голос звучал рассеянно; что-то целиком поглощало ее внимание. Я так и представлял ее себе – как она сосредоточенно смотрит в книгу, взгляд ее одновременно мечтателен и бодр, – а само положение вещей (то, что я был не с ней, что у меня была другая и все шло не так, как должно было) нагоняло мне слезы на глаза.
– Никак не выйдет, – проговорил я. – Придется остаться. Слишком много всего на работе.
– Как считаешь нужным.
– В другой раз, хорошо? Вскорости.
Она рассеянно кашлянула. На заднем фоне я услышал шелестящие звуки музыки по радио, похожие на прибой.
– Да-да, все в порядке.
На мониторе появился ответ от Люции: «Глупости! Будет весело. Мне тоже надо развеяться. Если ты едешь, то я с тобой. И никаких возражений!»
– Я все понимаю, – произнесла Ханна. – Все понимаю.
Я повесил трубку. Отговорить Люцию будет не так просто – она всегда интересовалась моей работой. И почему только? Ведь даже меня самого она не интересовала! Но кто-то должен был представлять наш отдел. Если я поеду один, то Люция последует за мной; если я появлюсь там с Люцией, это дойдет до Ханны; если поеду с Ханной, Люция про это узнает; выход был только один. Я вызвал Лобенмейера.
– Категорически невозможно, – ответил тот. – Лечу в Париж. Идея жены. У нас годовщина. Мы давно запланировали.
Я вызвал Шлика.
– Исключено! День рождения у родителей, большой праздник, без единственного сына обойтись никак нельзя. Кроме того, у них своя ферма, а там сейчас свирепствует моровая язва.
Как одно связано с другим, я так и не понял, но, вздохнув, отпустил его и послал за Гауберланом. Тот, как выяснилось, купил невозвратный билет в морской круиз к островам у берегов Шотландии. Сметана был на больничном, а моя секретарша – от отчаяния я даже ее готов был послать – вот уже несколько месяцев готовилась к участию в федеральном чемпионате по пейнтболу в какой-то деревушке в Нижней Саксонии и не могла заменить меня ни при каких обстоятельствах. Итак, оставался единственный выход. Избежать этого было никак нельзя.
«Ничего не поделаешь, придется послать Мольвица, – ответил я Люции. – У него есть связи на уровне руководства – стал оказывать на меня слишком большое давление, – печатал я с трудом, руки дрожали: с одной стороны, конечно, от волнения, с другой – от злости на Мольвица и на то, что он посмел плести интриги. – Тут я бессилен. Мне жаль».
«Это не тот Мольвиц, который умер?» – тут же ответила она.
«Боже мой! Так, спокойствие, только спокойствие, – подумал я. – Дыши глубже. Надо срочно спасать ситуацию».
«Это был тезка. Такое вот странное совпадение».
Я поднял глаза. В дверях стоял Мольвиц.
– Ну что ж, вы добились своего! – накинулся я на него. – С утра в путь!
Мольвиц был еще более взмокшим, чем обычно. Его крохотные глазки тревожно дергались. За последнее время он вроде бы еще поправился.
– И нечего изображать удивление. Вы будете представлять наш отдел на конгрессе. Умно поступили, хитро все придумали. Мои поздравления.
Мольвиц запыхтел.
– Завтра не совсем удачный день, – пробормотал он. – У меня много дел. Не люблю никуда ездить.
Как же он причмокивал, пока говорил!
– Можете, конечно, притворяться! Но вы знаете, что хотите поехать, я это знаю, и этажом выше, – тут я указал пальцем на потолок, – это тоже знают. Вы так, дорогой мой, далеко пойдете!
Он бросил на меня умоляющий взор, потом покорно поплелся восвояси. Я представил себе, как он плюхается в соседней комнате за стол и, подобно огромной жабе, бормоча себе под нос ругательства, принимается строчить на каком-то форуме.
И позвонил Люции.
– Но ведь ничего страшного в этом нет! – тут же воскликнула она. – Все в порядке, бывает. Не принимай близко к сердцу.
Я молча кивнул. Мне уже было гораздо легче. Люция всегда умела утешить.
Когда она позвонила мне, чтобы сказать, что беременна, я проводил время с детьми у бассейна под открытым небом. Солнце плясало по дрожащей поверхности воды, отблески растворялись в глубине; мир словно был пронизан светом. Детский визг, брызги, запах кокосового масла, хлорки и свежескошенного газона.
– Что? – я заслонил ладонью глаза, но рука моя подчинялась мне с опозданием, а пальцы словно обложили ватой.
Колени вдруг стали настолько податливыми, что мне понадобилось присесть. Ко мне подбежала толстая маленькая девочка, ударилась об меня, упала и расплакалась. Я проморгался и услышал свой собственный голос, произносящий: «Это просто великолепно!»
– Правда? – казалось, она не до конца мне верит, да и сам я себе тоже не вполне мог поверить. И все же, отчего во мне внезапно взыграла такая радость? Мой ребенок, мой первенец! Еще никогда я так остро не ощущал, что меня двое, и даже более того – что моя жизнь как будто разделилась на две потенциально возможных. Там, по ту сторону бассейна, ползала по газону моя дочь; чуть поодаль в нарочито небрежной позе развалился мой сын и, в надежде, что я его не замечаю, болтал с двумя сверстницами.
– Не знаю, смогу ли я быть хорошим отцом, – тихо промолвил я и запнулся. Говорить было нелегко. – Но я хочу попробовать.
– Ты лучше всех. Знаешь, когда… Где это ты? Откуда такой шум?
– Я на улице, недалеко от офиса. Больше всего я хотел бы приехать к тебе…
– Так приезжай!
– …но не могу. У меня встреча.
– Так вот, когда мы только познакомились, я и подумать не могла, что ты окажешься таким! Казалось, будто тебя гнетет какая-то огромная тяжесть, а ты при этом… Как бы выразиться? Ты как будто все время заставляешь себя держать спину прямо. А я все никак не могла заставить себя поверить тебе, – она рассмеялась. – Думала, ты со мной не вполне честен.
– Как странно.
Дочь подползала к бассейну. Я поднялся.
– Если бы тогда мне кто-нибудь сказал, что именно с тобой я…
Малышка уже была в опасной близости от края. Я быстро направился к ней.
– Я могу перезвонить?
– Но как ты считаешь, почему…
Я сбросил вызов и кинулся бежать. Острые травинки кололи мои босые ступни. Я перескочил через двух валявшихся в траве ребятишек, обогнул собаку, оттолкнул женщину и успел поймать дочь буквально в метре от воды. Она вопросительно уставилась на меня, поразмыслила минутку и расплакалась. Я взял ее на руки и принялся утешать, шепча на ухо какую-то ерунду. «Перезвоню попозже, – набирал я тем временем в телефоне. – Сел в поезд связи почти нет». Хотел уже было отправить, но подумал и добавил еще: «Я так рад!» Посмотрел прямо на дочь. Мне вновь бросилось в глаза, что с каждым месяцем она все больше становилась похожа на Ханну. Я подул ей на лицо, убирая волосы; она тихонько захихикала, позабыв уже, что только что плакала. И нажал «Отправить».
Мольвиц возвратился совершенно огорошенным. Тихо разговаривал сам с собой, другим не отвечал и сообщать, что с ним приключилось, не собирался.
– Рано или поздно это должно было случиться, – прокомментировал Гауберлан.
– Его выступление обернулось катастрофой, – добавил Шлик. – О нем повсюду судачат. Какой позор для нашего отдела!
– Да о нем еще и не такое говорят, – поддакнул Лобенмейер. – Говорят, он проник в чей-то номер и там…
– Всем свойственно ошибаться, – произнес я, и они умолкли.
Меня ничего уже не интересовало – а сотрудники считали, что, мол, и поделом мне. Я похудел, на классиков меня уже не хватало – Саллюстий казался чересчур говорливым, Цицерон – бессодержательным, ведь ни один из них не затрагивал того вопроса, что будоражил меня все время и воротил моим сознанием, точно вода – мельничным колесом: может, все-таки возможно жить на два дома, двумя жизнями, иметь две семьи, одну здесь, другую там, одно Я в одном, а другое – в другом городе; двух жен, каждая из которых близка настолько, словно она – единственная. Все дело было лишь в грамотной организации, в умелом пользовании расписанием самолетов и поездов, разумном ведении корреспонденции, долгосрочном планировании. Разумеется, могло ничего и не выйти, но ведь могло и… Да, могло ведь и получиться! Хотя бы ненадолго. Или надолго, как знать.
Двойная жизнь: удвоение жизни. Только что я был всего-навсего унылым мелким начальником – как же так могло случиться, что я вдруг начал их понимать, этих чертиков из коробочки, выскакивающих из каждого таблоида, всех этих людей, у которых есть свои тайны, просто потому, что без тайн жить невозможно, потому что полная открытость равносильна смерти, а одного-единственного существования человеку не хватает.
– Как?! – вздрогнул я. Передо мной стоял Лобенмейер, за ним – Шлик. Я не слышал, как они вошли; только потом до меня дошло, что все наоборот: это остальные вышли, а эти двое остались.
Тихим голосом Шлик начал объяснять. По всей видимости, произошло нечто ужасное: служба безопасности известила нас в докладной, что нескольким сотням номеров в базе была присвоена неверная дата для перевода в список свободных, и существовали опасения, что эти же номера, по-прежнему находящиеся в обращении, были присвоены заново. Лобенмейер перепоручил заняться этим делом Мольвицу, а тот отложил на потом, поскольку непременно хотел сначала написать пост на форум «Засеки звезду».
– Куда, прошу прощения?
– Неважно, – ответил Лобенмейер. – Сейчас это не имеет значения. В любом случае, то, чего мы опасались, произошло, и нескольким десяткам новых клиентов были присвоены уже существующие номера, которые, по идее, должны были быть заблокированы к выдаче. Об этом напишут в прессе. На компании висят уже как минимум два иска за причинение ущерба бизнесу. И основная вина ложится именно на наш отдел.
Включился дисплей моего мобильного. На нем высветилось имя жены и сообщение: «Мы приедем тебя навестить!» Сердце мое застучало.
– Поговорим позже, – ответил я и поднялся с места.
– Прошу прощения, – перебил меня Лобенмейер, – но дело слишком серьезное и не терпит отлагательств. Это могло бы…
– И будет! – вставил Шлик.
– …И будет стоить некоторым из нас работы, – согласно кивнул Лобенмейер.
Я нажал одну кнопку, другую, но никакого сообщения не увидел. Могло ли статься, что я все это себе придумал? Или я его ненароком стер? Мне было необходимо знать, ведь все зависело от того, не допущу ли я ошибки.
– Сейчас вернусь, – крикнул я и выбежал за дверь, промчался по коридору, вскочил в лифт, который, жужжа, унес меня вниз, пролетел через холл и выскочил на улицу. «Вот оно, – подумал я. – Вот что со мной теперь, значит, происходит. Все рушится не из-за обстоятельств, не из-за невезения, а из-за нервов. Из-за того, что человек не в силах вынести такого давления. Вот почему все тайное рано или поздно становится явным». Я медленно повернулся вокруг своей оси. Заметил, как прохожие принялись на меня оборачиваться, как на другой стороне улицы ребенок указал на меня пальцем, а мать схватила его и потащила за собой. «Соберись, – сказал я себе. – Соберись, ну, соберись же! Если не дать слабину, то все еще может получиться – надо только собраться». Заставил себя стоять смирно. Взглянул на часы. Постарался сделать вид, будто раздумываю о предстоящей встрече. «Возвращайся, – велел себе я. – Войди обратно в здание. Поднимись наверх. Там они тебя дожидаются. Сядь за стол. Постарайся спасти, что еще можно спасти. Сделай что-нибудь. Защищайся, не вздумай убегать. Ты еще продержишься. Пока».
– Проблемы, достопочтеннейший?
Рядом со мной возник невероятно тощий господин с сальными волосами, в роговых очках и ярко-красной шапке на голове.
– Прошу прощения?
– Что, жизнь трудна? – сказал он с такой же сальной ухмылкой. Звучало это скорее не как вопрос, а как утверждение. – Всякое решение дается с трудом, а планирование будничного распорядка – задача сама по себе настолько сложная, что и сильнейших из нас способна свести с ума. Вы со мной согласны, достопочтеннейший?
– Что?!
– В мире столько вещей, неподвластных нашей воле, но все же кое в чем мы себе жизнь облегчить можем. В моем распоряжении имеется такси, – и он указал на стоявший рядом черный «Мерседес» с распахнутой дверцей. – И мой вам добрый совет в придачу: если есть кто-то, кого вы хотели бы видеть в ближайший час, позвоните ему. Жизнь так быстро проходит. А у нас для этого есть те самые маленькие телефончики, все те электронные штучки, которыми набиты наши карманы. Не так ли, достопочтеннейший?
Я никак не мог понять, чего он от меня хочет. Вид у него был отвратительный, но слова оказывали на меня успокаивающее воздействие.
– Но ведь это никакое не такси!
– Достопочтеннейший! Вы присядьте, назовите адрес – и увидите, как машина эта вмиг превратится в такси!
Поколебавшись, я кивнул и опустился на мягкое, обтянутое кожей заднее сиденье. Мужчина уселся вперед, долго и неуклюже подстраивал под себя водительское кресло, словно это не он только что сидел за рулем автомобиля, поправлял зеркало заднего вида, некоторое время возился с замком зажигания.
– Назовите ваш адрес, пожалуйста, – мягко произнес он. – Я многое знаю, но не всеведущ.
Я назвал.
– Глазом моргнуть не успеете, как будем там, – он завел мотор и вывел автомобиль на полосу. – Вы точно уверены, что хотите поехать домой? Не к кому-то другому? Никому не хотите нанести визит?
Я покачал головой, вытащил телефон и набрал номер Люции.
– Приезжай ко мне!
– Прямо сейчас?
– Прямо сейчас.
– А что ты вообще здесь делаешь? Я думала, тебя на неделю вызвали в Цюрих! Что-то случилось?
Я потер лоб. Все верно, так я ей и сказал, чтобы на следующий день отправиться к Ханне и провести с ней все выходные.
– Все пошло кувырком.
– Опять Мольвиц?
– Опять Мольвиц.
– Еду.
Я нажал на отбой и уставился на крохотный дисплей. А что, если Ханна и впрямь была уже по пути сюда? Значит, я сделал все не так, значит, Люции ни в коем случае нельзя было показываться вблизи моей квартиры. Срочно нужно было перезвонить – вот только которой из двух? Как так могло случиться, что я уже перестал понимать, что происходит? Худощавый тип глядел на меня в зеркало. У меня кружилась голова. Я закрыл глаза.
– Задаетесь вопросом, почему и то, и это не задалось, достопочтеннейший? Потому что человек слишком многого хочет. В самом буквальном смысле. Хочет, чтоб его было много. Быть многосторонним. Жить множеством жизней. Но лишь поверхностно, не углубляясь. Но в своем последнем стремлении, дорогой друг, человек жаждет единения. С самим собой и со всем остальным.
Я приоткрыл глаза.
– О чем вы вообще говорите?
– Ничего я не говорил! А если бы и сказал – лишь то, что вы и так знаете без меня.
– Это вообще ваша машина?
– Это вас действительно беспокоит в настоящий момент?
Всю дорогу до моего дома я молчал. По какой-то причине я решил, что он не станет брать с меня денег, но он заломил невероятно высокую цену. Расплатившись, я вышел из авто, а когда обернулся, его уже и след простыл.
Люция поджидала меня в коридоре под дверью. По всей видимости, она тут же выехала. На нее можно было положиться.
– Что не так? – спросила она. – Мм?
И внимательно взглянула мне в глаза.
Я раскрыл было рот, но закрыл его, так ничего и не сказав.
Она положила руки мне на плечи.
– Ты хочешь мне что-то сказать?
Я не шелохнулся. Мы так и стояли под дверью. Я сделал глубокий вдох, но вновь промолчал.
Мы вошли. Миновали коридор, мою неприбранную гостиную и, как обычно, оказались в спальне.
Мгновение спустя мы лежали рядом, я чувствовал упругость ее тела, мог вблизи рассмотреть, какими темными были ее глаза. Ее пальцы колдовали над моим поясом, мои руки проникли ей под блузу, все происходило само собой, без заминок, без раздумий, словно мы не прилагали к тому ни малейших усилий. Потом – покрывало, нагота, вздохи, ее сильные руки, и я обнимал ее, а она меня, – и вот мы уже вновь разомкнули объятия и лежали рядом, тяжело дыша. На ее коже проступила тонкая сеточка пота. От взгляда на нее во мне пробудилось столько нежности, что я чуть было не произнес слова, которые мне тут же пришлось бы взять обратно. Действительно ли она носила моего ребенка? Но ведь у меня уже было двое, и с ними мне приходилось достаточно тяжело, они и без того казались мне чужими, глядели на меня с сомнением и задавали вопросы, на которые я не знал ответов; я не был им хорошим отцом.
– Так дольше не может продолжаться, – сказала она.
– Что?!
Внутри у меня все перевернулось.
– С этим Мольвицем. Ты слишком хорошо к нему относишься. Надо что-то предпринять.
Я подставил ей под голову свое плечо. До чего мягкими были ее волосы. И этот золотистый пушок у нее на руках, и плавный изгиб ее груди. Ради нее я бы на все пошел, все бы за нее отдал.
Так уж и все?
Все, кроме той, другой, которая, вероятно, через пару минут, а может, на той неделе или в следующем месяце, или когда-нибудь еще в этом году позвонит мне в самый неподходящий момент, чтобы сказать, что решила сделать мне сюрприз и навестить меня, и что она уже в городе, на моей улице или уже прямо в доме, на лестнице, прямо под дверью. Если бы все это было чьей-то выдумкой, подумал я, то это случилось бы прямо сейчас.
Кто-то позвонил в дверь. Я подскочил в постели.
– Что случилось? – спросила Люция.
– Звонок.
– Я ничего не слышала.
Я молча погладил ее по голове. «Пока еще у меня есть возможность во всем признаться, – мелькнула мысль. – Пока меня еще не поймали с поличным. Ты простишь мне?..» Но я знал, что она не простит.
Не потрудившись одеться, я прошествовал в коридор. Если я сейчас открою, а там стоит Ханна, что мне делать тогда? Может, есть еще какой-то способ выкрутиться? В кино и бульварных романах из любой самой безнадежной ситуации находится выход. Главные герои изобретают блистательные отговорки, открывают и закрывают двери, разводят двух женщин по двум разным комнатам и даже оказываются способны водить целые толпы людей мимо друг дружки на крошечном пятачке так, чтобы они не столкнулись. На этом целый жанр выстроили. Наверное, так и впрямь можно было бы устроить, если обладать достаточной решимостью. При должном приложении усилий можно осуществить практически что угодно. Даже раздвоиться. Но у кого, спрашивал я себя, стоя нагишом в коридоре, у кого достанет на это сил?
Я схватился за ручку. Даже убежденность в том, что ничто уже не отделяет тебя от катастрофы, придает уверенности. Еще мгновение поколебался. А почему только одна Ханна, почему не какой-нибудь скандал помощнее, чтоб сильней проняло? Почему бы ей не прихватить с собой еще и детей, почему бы и родителям моим в придачу не заявиться без всякой посторонней помощи из своего мрачного дома престарелых, с чего бы мне не ждать еще и Лобенмейера, Гауберлана и Лонгрольфа из проверочной комиссии, почему не Мольвица, в конце концов; отчего бы не ввалиться сюда им всем, чтобы взглянуть на меня, не прикрытого ни одеждой, ни завесой тайны, показушничества, выдумки или обмана, целиком и полностью в истинном своем обличье?
Я распахнул дверь.
– Входите. Входите же все!
В опасности
– Я думал, мы разобьемся. Господи боже! С тобой что-нибудь подобное хоть раз случалось?
Элизабет покачала головой. На этот раз даже она была готова к худшему: крохотный самолетик скрипел, его сносило порывами ветра, медицинские наборы так и летали по пахнущему маслом и металлом грузовому отсеку. Одному из врачей угодило по лбу, и пришлось наложить ему давящую повязку, чтобы остановить кровь. Лео, однако, все это время сидел тихо. Он был бледен, держал спину прямо; сжатые губы изображали некое подобие вымученной улыбки.
– Я задаю себе вот какой вопрос, – произнес он, запрокинув голову, расставив руки и обернувшись вокруг своей оси. – Какую прелесть мы во всем этом находим? Немного травы, пара деревьев, огромное небо. Откуда такое чувство, словно наконец оказался дома?
– Не кричи, – у нее кружилась голова, ей пришлось даже на мгновение опуститься на землю. Асфальта никакого не было, лишь рыжеватая почва, спрессованная шасси до состояния камня. У обочины взлетно-посадочной полосы их поджидали два джипа и группа людей в форме. У двоих был автомат наперевес.
– Стародавняя мечта, – произнес Лео. – Миллион лет в саванне. А все, что потом, – лишь мелкий эпизод. Тебе что, нехорошо?
– Ничего, справлюсь, – пробормотала она.
Раздался глухой, кашляющий звук: пилот включил турбины. Те стали вращаться, а потом засверкали так, что превратились в серую рябь. Самолет начал набирать ход. Доктор Мюлльнер и доктор Ребенталь грузили наборы во внедорожники, то и дело бросая недоверчивый взгляд на Лео. То, что Элизабет в этот раз прибыла не одна, всем было не по нутру. Так никто не делал, это было не принято; а если кто-то прознал бы, что их пугливый гость – писатель, чья работа – трезвонить обо всем, что ему довелось увидеть, ей бы точно никто этого не простил. Но Лео проявил настойчивость: раз за разом повторял, что хочет познать и ее мир тоже, не может дальше гоняться за настоящей жизнью. И вот она просто взяла его с собой – возможно, потому, что хотела наконец показать ему, что такое эта пресловутая настоящая жизнь, возможно, потому, что ей было любопытно, как он поведет себя, оказавшись в действительно трудных обстоятельствах, ну а возможно, просто потому, что не хотела ему отказывать.
– Это настоящее оружие? – поинтересовался он у врачей. – Вон там, у того человека в джипе, видите? Оно настоящее?
– А сами как думаете? – ответил Мюлльнер, рослый, немногословный швейцарец, долго проработавший в Конго и переживший такое, что предпочитал об этом молчать. Когда во время полета ему по голове угодило ящиком, он даже не вскрикнул.
– Дайте я помогу! – Рихтер вырвал у него из рук тот ящик, что он держал, и швырнул его в багажник. Звякнуло стекло. – Вы читали Хемингуэя? Вы вообще можете здесь работать, не вспоминая Хэма?
– С легкостью, – бросил Мюлльнер.
– Но ведь это вот все, – Лео указал на вооруженных людей, на самолет, в тот момент как раз делавший разворот в конце полосы, – словно сошло со страниц его книг!
– Не показывайте, пожалуйста, – оборвал его Ребенталь.
– Что?
– Пальцем не показывайте.
– Это может их разозлить, – пояснил Мюлльнер. – Уверяю, вы бы этого не хотели.
– Но это же ваши люди!
– Лео, – произнесла Элизабет. – Прошу.
– Но…
– Успокойся и полезай в джип!
Как она могла ему объяснить? Как донести до внешнего наблюдателя, на какие компромиссы приходится идти, работая в зоне военных действий, что приходится платить наименее кровожадной фракции – или, по крайней мере, той, что таковой казалась, а в чрезвычайных ситуациях и просто кому-нибудь за то, чтобы они покрывали и защищали вас? Ей уже не раз приходилось жить в лагере убийц, делить с ними хлеб и похлебку, а потом лечить в разрушенных деревнях людей, которых те, кто принимал ее у себя, решили оставить в живых. Грязи хватало, а о принятии однозначных решений и речи быть не могло. Можно было только пытаться помогать раненым, не задавая вопросов.
– Гляди! – воскликнул Лео.
Она посмотрела туда же, куда и он. В конце взлетной полосы в тот момент как раз отрывался от земли самолет. Он взмыл в воздух, превратился в крошечную точку и исчез на фоне огненного солнечного диска.
– Если бы мы здесь рухнули, – проговорил он, – вот была бы история! Такие строчки хорошо смотрятся в биографии. Пропал над Африкой.
Элизабет пожала плечами.
– С тех пор, как год назад исчезла Мария Рубинштейн, ее книги достигли пика популярности. Они там даже собираются заочно вручить ей премию Ромнера. Господи боже, представь себе, а если бы тогда все-таки полетел я? Кто знает, может, сейчас бы именно я, а не она… Я по-прежнему задаюсь вопросом, должен ли я чувствовать себя виноватым.
Она покачала головой, не имея понятия, о чем он говорит.
Втиснувшись в джип, они покатили по высокой траве. Их волосы развевались на ветру, пахло землей, над головами сияло огромное солнце – так ярко, что приходилось щуриться, а очертания предметов расплывались. Лео что-то крикнул, но она не расслышала. Издалека послышались глухие раскаты грома.
– Что, прости? – крикнула в ответ Элизабет.
– Наконец-то по-настоящему!
– Что?
– Не могу припомнить, когда все казалось таким настоящим!
Она даже и думать не хотела, что он имеет в виду, – ее голова была занята другим. Завтра она займется первыми ранеными. Элизабет знала, что с того момента что-то в ней вдруг перестанет испытывать эмоции. Все станет мягким и ватным, и, покуда она будет делать свое дело, внутри будет царить лишь глухое онемение. Как часто ей уже казалось, что она твердо приняла решение навсегда остаться в Европе и больше не заниматься подобной работой? Сидевший рядом Лео вытащил блокнот и начал что-то строчить. Он что, возомнил себя Андре Мальро? Элизабет бросила взгляд ему через плечо, но разобрать смогла лишь несколько слов: «Гостиная… выключить телевизор… детская площадка… соседка».
Он обернулся и заметил, что она смотрит на него.
– Просто задумка, – крикнул он. – Идея!
Из травы на мгновение показалась пятнистая голова гиены. Сидевший позади солдат прицелился, но не выстрелил – и вот гиена уже осталась позади. Лео продолжал писать; Элизабет уставилась в блокнот и ничего не могла с собой поделать. Давно терзавшая ее мысль о том, что он мог встроить ее в одну из своих историй, создать искаженную, переделанную под его личные нужды копию ее самой была просто невыносима. Но когда бы она ни заводила этот разговор, он увиливал или старался сменить тему.
По прибытии в столицу Рихтер вел себя на удивление разумно. Пока она беседовала с двумя министрами, он стоял поодаль, не привлекая к себе внимания, но в то же время ничего не упускал. Когда они на два дня остались без воды, вел себя как все: не говоря ни слова, вначале умывался минералкой, затем и вовсе перестал. В последний день он тайком заплатил водителю, чтобы тот отвез его в район трущоб, где происходили самые ожесточенные стычки. Она узнала об этом лишь какое-то время спустя. Лео якобы даже вышел из машины, чтобы порасспрашивать людей. С чего это он внезапно набрался смелости? На него было совсем не похоже. Вдалеке вновь прогремела гроза. Она невольно посмотрела в ту сторону, откуда шел звук, но увидела лишь два затерявшихся на высоком небосклоне облачка.
– Я еще никогда не слышал выстрелов, – произнес Рихтер. – Это артиллерия?
– Танки, – ответил Мюлльнер.
Ну, разумеется! Она на мгновение прикрыла глаза. Как так могло случиться, что Лео сразу понял, в чем дело, а она – нет?
Деревня представляла собой несколько хижин, сколоченных из волнового железа. В траве, скособочившись, стояли два ржавых джипа. Вокруг потухшего огня, зевая, сидели с десяток мужчин с оружием наготове. Коза в задумчивости обнюхивала кучку земли. Из одной хижины, склонившись, выбрались трое европейцев: невысокая женщина лет пятидесяти пяти в очках и вязаной жилетке, мужчина в форме с эмблемой ООН на груди, за ними – худая высокая брюнетка удивительной красоты.
– Ридерготт, – произнесла женщина в жилетке. Элизабет понадобилось несколько секунд, чтобы осознать: та только что им представилась. – Клара Ридерготт, «Красный крест». Рада, что вы прибыли.
– Ротман, СООНО, – произнес мужчина. – Ситуация совершенно нестабильна. Не знаю, сколько мы тут еще продержимся.
Вдруг зазвонил телефон. Все вопросительно оглянулись, и наконец с извиняющейся улыбкой Лео выудил из кармана свой сотовый. Странно, что он у него здесь ловил. Рихтер отвернулся и принялся что-то тихо говорить в трубку.
– Мы с вами раньше не встречались? – спросила Элизабет.
– Не могу предположить где, – ответила Ридерготт.
– Нет-нет, – возразила Элизабет. – Совсем недавно, я абсолютно уве…
– Я уже сказала: не могу предположить, где мы могли бы с вами встречаться, – произнесла Ридерготт. Улыбка так и застыла на ее лице.
Тут Элизабет заметила, что брюнетка внимательно на нее смотрит. Эту высокую женщину окружал ореол таинственности, и было ясно: она определенно неглупа. Казалось, что по некой неясной причине именно она здесь главная. От нее трудно было отвести взгляд.
– Премия Эльмитца Карнера! – воскликнул Лео.
– Прошу прощения?
– Мне решили вручить премию имени Эльмитца Карнера. Звонили узнать, согласен ли я ее принять. Я им ответил, что не могу в данный момент думать о такой ерунде.
– И что теперь?
– А я почем знаю! Вероятно, дадут кому-нибудь другому. Я просто не в состоянии сейчас на такое отвлекаться. Видно, перепутали меня с кем-то. С кем-то, кому не все равно!
Элизабет вновь посмотрела на женщину. Что здесь, черт возьми, происходит? Она пока не могла точно сформулировать, что обо всем этом думает, – слишком уж смутными были ее подозрения. В то же мгновение на горизонте возникла яркая вспышка, заметная даже несмотря на то, что вовсю светило солнце; ей показалось, будто земля под ногами дрогнула. Все инстинктивно пригнулись. Лишь пару секунд спустя они услышали взрыв. «Не стоило привозить его сюда, – мелькнуло у нее в голове. – Для Лео это уже слишком». Однако Рихтер производил впечатление человека внимательного и собранного – только губы слегка дрожали.
– Не думаю, что они движутся на нас, – произнес он. – Они продвигаются на север. Вероятно, просто пройдут мимо.
– Кажется, да, – согласился Ротман.
– Никогда не знаешь, – отозвался Ребенталь.
– Откуда ты знаешь, где здесь север? – спросила Элизабет.
– А тут есть слоны? – ответил Лео вопросом на вопрос.
– Все уже по ту сторону границы, – сообщил Ротман. – Убежали, испугавшись войны.
– Вот как бывает: прилетаешь ты, значит, в Африку, может, даже умрешь в этой самой Африке, а слонов так и не увидишь, – протянул Рихтер и улыбнулся брюнетке.
Та поймала его взгляд и посмотрела ему в глаза. В том, как они смотрели друг на друга, чувствовалось доверие, для которого не надо слов; полное взаимопонимание, которое бывает только у людей, знающих друг друга до самых потаенных уголков души.
Элизабет почувствовала, что пульс ее участился.
– Кто-то должен рассортировать лекарства, – обратился к ней Ротман. – Вы мне не поможете?
И верно: сейчас не время было о таком размышлять, пришла пора работать.
Они расположились в одной из хижин и принялись сортировать ампулы с растворами для инъекций; внутри было жарко. Ротман щурился, чтобы лучше видеть надписи. Он тяжело дышал, на усах повисли капли пота.
– Вы сказали, что работаете на СООНО. Почему? – спросила Элизабет.
– В каком смысле?
– Силы Организации Объединенных Наций по охране – это бригады, воевавшие в Югославии. Миротворческие войска ООН в Африке должны называться как-то иначе.
Мужчина ненадолго задумался.
– Видимо, оговорился, – произнес он, изобразив на лице улыбку. – Уж я-то знаю, на кого работаю.
– Так на кого же?
Ротман беспомощно уставился на нее. Снаружи вновь послышался грохот орудий. Дверь распахнулась, вошла брюнетка и склонилась над лекарствами.
– Мы еще не знакомы, – Элизабет протянула ей руку и назвала свое имя.
– Прощу прощения, – женщина ответила ей мягким, но в то же время сильным рукопожатием. – Очень приятно. Я Лара Гаспар.
– Вы… – потерла лоб Элизабет. – А вы разве… не в Америке?
– Это долгая история. И очень запутанная. Вся моя жизнь – сплошь одни запутанные истории.
– Вы просто поразительно похожи, – произнес Ротман.
– Вам так кажется? – отозвалась Лара.
Элизабет встала и, ни слова не говоря, вышла на улицу. Прислонилась к металлическому листу, заменявшему стену. По-прежнему стояла жара, но с каждой минутой становилось темнее. Скоро наступит ночь – вблизи экватора сумерки сгущаются быстро. Лишь спустя пару мгновений она обнаружила рядом с собой Лео.
– Это все не по-настоящему, не так ли? – спросила она.
– Все зависит от того, что считать настоящим, – ответил он, раскурив сигарету. – «Настоящее»! Это слово значит так много, что в конечном счете не значит ничего.
– Вот почему ты так уверенно себя ведешь! Так продуманно, так храбро. То, что происходит, – это твоя версия событий; то, во что ты их превратил. Версия, скомпилированная из нашего с тобой путешествия и того, что ты знаешь о моей работе. И разумеется, как же без Лары!
– Она всегда там же, где и я.
– Я знала, что ты так со мной поступишь. Знала, что попаду в одну из твоих историй! Именно этого я и хотела избежать!
– Мы все всегда пребываем в какой-то истории, – Рихтер затянулся, всполыхнул огонек. Опустив руку, он выпустил в разогретый воздух клубы дыма. – Истории в истории в истории. Никогда не знаешь, где кончается одна и начинается другая! В реальности все они сплетаются одна с другой, и только в книгах четко разделены.
– Не стоило тебе так подставляться с СООНО. Встречал такое понятие – «предварительное исследование»?
– Это не мой стиль работы.
– Возможно, – ответила она. – А я тебя брошу.
Он взглянул на нее. Она почувствовала, как на нее накатила грусть. На горизонте возникла еще одна вспышка. Там, вдалеке, умирали люди, та реальность была настолько пронзительной и болезненной, что описать ее нельзя было уже никакими словами. Неважно, находилась ли Элизабет здесь на самом деле или он все это себе тоже выдумал: были такие места на земле, где царил настоящий ужас; но были и такие, где все вещи представляли собой лишь то, чем они являются.
– Но не сейчас, – возразил он. – Это другая история.
Какое-то время они оба молчали. Рядом с ними люди в форме вновь разожгли огонь и теперь, сидя вокруг костра, тихо переговаривались на своем родном языке. То и дело раздавался смех.
– В настоящей жизни ты точно не стал бы отказываться ни от какой премии. Дай-ка сигаретку.
– Это была последняя.
– И что, неужели с этим ничего нельзя поделать?
Он покачал головой.
– Господи, да нет же! Притом что мне самому срочно нужно еще – я жутко нервничаю.
Она прищурилась, но почти не могла сосредоточить на нем взгляд. Он казался ей каким-то нереальным, даже почти прозрачным, как бы просто стаффажной фигурой, занимающей место настоящего Лео Рихтера. А присутствие и обаяние Лары Гаспар, все это время находившейся там, в хижине, становились все ощутимей – и она это чувствовала.
– Бедная фрау Ридерготт! Без нее ты тоже никак не мог обойтись?
– Ну а почему бы нет? – голос его был словно бестелесным; казалось, он раздавался отовсюду, но при этом был едва различим на фоне вечернего ветра. – Она мне показалась вполне пригодной.
– Пригодной, значит.
– Это разве плохо?
Элизабет пожала плечами и вернулась в хижину. Лара Гаспар пребывала в задумчивости и что-то сосредоточенно рисовала карандашом в альбоме. Она была поистине изумительна. Сидевший рядом Ротман читал потрепанный французский покетбук – «Искусство быть собой» Мигеля Ауристуса Бланкуса. Мюлльнер и Ребенталь играли с одним из постовых в карты.
– То он сдает, то мы, – шепнул ей Мюлльнер. – Потом мы раскрываем карты, а он говорит, кто выиграл. Какая же это, к черту, игра?
Она вновь пожала плечами, показывая, что не в курсе, присела и прислонилась головой к стене. Элизабет валилась с ног от усталости, но решила не засыпать. Ведь что за сны ей станут сниться, как только она смежит веки?
– Кстати, а где Лео?
– Кто? – поднял глаза Мюлльнер.
Она кивнула. Вот, значит, как у них принято поступать, чтобы уйти от ответственности. И вот он уже повсюду, в сути вещей, на небесах и под землей, словно второразрядный божок, и нет никакой возможности призвать его к ответу.
– Нам лучше пойти спать, – захлопнув альбом, произнесла Лара Гаспар. – Завтра будет тяжелый день.
Элизабет прикрыла глаза. Если все это выдумка, то должно что-то произойти, и тогда всем придется туго. А если туго им не придется, значит, никакая это вовсе и не история. Ей вдруг стало безразлично, куда унесут ее сновидения. В кармане зазвонил телефон, но она не придала этому никакого значения.








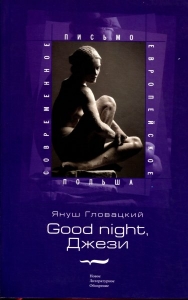




Комментарии к книге «Слава», Даниэль Кельман
Всего 0 комментариев