Сергей Леонидович Лойко Рейс
Памяти моей жены
Анастасии Перфильевой
посвящаю Эту книгу
Благодарность
Автор выражает благодарность редакторам романа:
техническому редактору Ирине Демченко
литературному редактору Павлу Матвееву
выпускающему редактору-корректору Ирине Кривошеиной
Особая благодарность поэту Игорю Иртеньеву за ценные советы по редактуре.
Автор выражает благодарность консультантам:
генерал-лейтенанту ВСУ Игорю Романенко (тема ПВО)
майору разведки спецназа ВСУ Константину Вьюгину
(военная тема — Донбасс)
Ольге Бесперстовой (советы по редактуре и консультация по теме Донбасса)
Артему — Тёме Киевскому (уголовная тематика)
Виктории Катаевой (медицинская тема — родильный дом)
Мише Козыреву (тема Екатеринбурга)
Ирине Демченко (общая тематика)
Светлане Шило (общая тематика)
Марии Касиан (общая тематика)
Наташе Исаковой (советы по диалогам)
Особая благодарность Алексею Дорошу (общая тематика).
Особая благодарность Оксане Макухиной за продюсирование проекта.
Особая благодарность Инициативе Украинской культурной дипломатии в Объединенных Арабских Эмиратах — FromUA Cultural Diplomacy ().
Особая благодарность Александру Куприну, прототипу главного героя, за редактуру контента. За то, что консультировал автора по полицейской, уголовно-процессуальной и военной тематике. За то, что предоставил свою яхту в Марине-дель-Рей (Лос-Анджелес) для работы над несколькими главами романа.
Особая благодарность издателю Дмитрию Кириченко (Bright Star Publishing) и дизайнеру Виктории Кириченко (Bright Star Publishing).
ОТЗЫВЫ
Роман Сергея Лойко «Рейс» — это и классический боевик, и криминальная драма, и туго закрученный политический триллер, и репортерское расследование, вовлекающее в свой водоворот воров и чекистов, маньяков и президентов, Москву и Пафос, Лос-Анджелес и Донбасс. Но подлинной пружиной повествования и маркой качества, отличающей этот роман, служит человеческая боль автора-журналиста, желающего докопаться до правды о гибели рейса МН-17. Этот моральный посыл делает приключенческий роман политическим высказыванием, столь необходимым в мире постправды и в облаке пропагандистской лжи, окружающей грязную войну России в Украине.
Сергей Медведев,
историк, журналист, телеведущий
Вещь — супер! По ходу повествования читателя, как на американских горках, бросает вверх-вниз и из стороны в сторону. Но ювелирно рассчитанная траектория приводит его к финальной точке. После которой… И вот такого я, честно признаюсь, не встречал никогда.
Игорь Иртеньев,
Украина перед Сергеем Лойко в долгу. Это он, московский корреспондент лос-анджелесской газеты, был практически первым, с чьей подачи мир узнал о донецких «киборгах». Это его роман «Аэропорт» (а не сообщения местных изданий, тем более не сводки Министерства информации) донес до разных людей — благожелательных и не очень, заинтересованных и не слишком — правду об очередной войне России. Новый роман «Рейс» отличается от дебюта принципиально: это уже не «новая журналистика» (в духе Капоте, Миллера, Вулфа), лишь слегка беллетризованная для удобства потребителя, это полноценная проза. Да, жанровая, но назвать ее развлекательной язык как-то не поворачивается. Документальная коллизия, выстроенная вокруг сбитого боевиками злополучного малазийского лайнера, масса достоверного фактажа — здесь журналистское ремесло американского разлива берет в авторе верх. И одновременно яркие герои и фабула, захватывающая даже по голливудским меркам, — все это не позволяет отложить книгу, пока не перелистнешь последнюю страницу.
Юрий Макаров,
журналист, телеведущий
Книга интересная, актуальная и глубокая. Да, это триллер, детектив и боевик одновременно, но самое главное, что в основе романа лежит реальное расследование крушения «Боинга» рейса МН-17 — одной из самых кровавых трагедий в войне, развязанной Россией против Украины. С точки зрения военной экспертизы, роман достоверный, отражает произошедшее с документальной точностью и реконструкцией ключевых событий. Поражает скрупулезная детализация образов и сцен, тем не менее эти технические и специальные вопросы не мешают восприятию сюжета и раскрытию образов героев. Множество судеб противоположных, не связанных между собой людей — от жуткого серийного маньяка-убийцы до псевдоминистров, от невинных детей до одержимых жаждой мести зеков — собирает в одном месте война. Напряжение захватывает с первой страницы и не отпускает до самого конца. Невозможно оторваться. Это уникальная, правдивая и совершенно необходимая обществу книга. Политический триллер номер один на сегодня.
Игорь Романенко,
генерал-лейтенант ВСУ в отставке
Пролог ПРИЗНАНИЕ КОШЕВОГО
18 декабря
За решетчатым окном «шли и шли и пели “Вечную память”». Куривший у подоконника капитан полиции Федотов не задавался вопросом, по ком она звучит. Все и так знали, что сегодня хоронят известного байкера Султана, в миру — Ивана Пустового, который «хату покинул, пошел воевать» на Донбасс, где и сгинул в неравном бою с укрофашистами, о чем уже дня три как трубили по всем телеканалам. Депутаты, казаки, рокеры и аналитики распевали панегирики безбашенному герою «народного ополчения Новороссии». Из репортажей явствовало, что Султан, командир добровольческого батальона, воевавший под этим же ником-позывным, попал в окружение под Донецком, отстреливался до последнего патрона и пал смертью храбрых.
Для страны событие стало настолько знаковым, что президент перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию с четверга на пятницу, чтобы принять участие в церемонии — уже на Красной площади, при погребении праха героя в Кремлевской стене. Изуродованный труп Пустового украинские националисты обменяли на двадцать пять своих раненых и убитых соратников. Это тоже было известно Федотову из новостей, ни одному слову в которых он, ветеран двух Чеченских войн, не верил.
Возможно, в какое-нибудь иное хмурое и морозное декабрьское утро он и удивился бы огромному скоплению разношерстного люда, идущего за гробом с непокрытыми головами, красными знаменами, хоругвями, ликами святых и венками с вплетенными в них пластиковыми цветами и оранжево-черными георгиевскими ленточками. Но только не сегодня, когда вывалившийся из его правой почки в мочеточник четырехмиллиметровый камушек причинял ему такие неописуемые мочеполовые страдания, что капитан в течение последнего часа уже четыре раза должен был прерывать допрос и бегать в туалет в дальнем конце коридора.
Неописуемыми эти ощущения представлялись Федотову потому, что стреляный во всех смыслах мент не обладал опытом профилактики мочекаменной болезни. Путаясь в симптомах, капитан грешил на младшего лейтенанта Полухину из разрешительного отдела, которая накануне после продолжительной осады уступила-таки его служебному рвению и разрешила наконец воспользоваться «личным оружием» по прямому назначению. Федотов знал, что он скажет Полухиной в понедельник, когда она попадется ему в коридоре, но не знал, что соврет супруге Кирочке сегодня вечером. Не знал он и когда сможет попасть к врачу, к какому и где, тем более в выходные. А ему объективно становилось с каждой минутой все хуже. Капитан любил это слово — «объективно». Но даже объективно не знал, когда сможет закончить этот допрос, который длился уже около часу и без всякого толку. На физическое воздействие для вразумления подозреваемого Федотов в его сегодняшнем состоянии был неспособен.
Задержанный на месте преступления с оружием в руках что-то невнятно мычал, то ли нуждаясь в срочной психиатрической помощи, то ли в еще более срочной опохмелке. Когда Федотов, морщась от боли, взял с подоконника графин и налил сначала себе, а потом и убийце в стакан воды, тот всосал ее в себя одним глотком. Сделал он это не поднимая головы, причмокивая губами и языком, как зверь, и расплескивая воду на бледно-коричневый линолеум, местами выцветший и исполосованный ножками стола, который все время двигали, и стула, на котором все время ерзали. Потом он вновь обхватил лысеющую голову руками и опять принялся раскачиваться из стороны в сторону в такт своему внутреннему монологу, вздрагивая время от времени — то ли от икоты, то ли от рыданий.
Федотов сам был с жестокого бодуна, но и ему в какой-то момент стало невыносимо дышать лезущими в лицо спиртовыми выхлопами. Капитан открыл форточку и жадно глотнул терпкого, как маринованный огурец, морозного воздуха. После спасительной кислородной инъекции он закурил новую сигарету. Край рыжего горшка с кактусом на подоконнике весь был замалеван пепельными разводами. У подножия покрытого белесыми колючками растения уже образовалась неровная кучка коротких капитанских окурков. В кабинете заметно посвежело. Форточку вполне можно было закрыть, но Федотов медлил. Дотягивая сигарету, он продолжал рассеянно смотреть на мутную черно-красную людскую реку за окном, словно сам пытался ее переплыть и тонул, не в силах справиться с течением.
Среди соседей по подъезду сантехник Кошевой слыл добропорядочным гражданином, примерным семьянином, заботливым родителем двух малолетних детей, к счастью или к несчастью, гостивших у бабушки по случаю ее болезни, и мужем тихой и, по уверениям тех же соседей, незаметной бухгалтерши из ЖЭКа, которую знал, любил и уважал весь дом. Так обстояло дело до вчерашнего дня. В среду вечером, на исходе шестнадцатилетней истории вполне себе устроенного, по показаниям свидетелей, брака, Кошевой выпустил в супругу Соню шесть пуль из «Макарова» интересного происхождения и перед тем, как отключиться, сам вызвал полицию.
Он не был запойным алкашом, да и горьким пьяницей тоже, иначе не работал бы в ответственной организации на ответственном посту. Конечно, выпивал, как все сантехники, но — в дни получки, в меру, тихо и дома. В тот вечер выходивший на балкон покурить сосед, по собственному утверждению, слышал громкие мужские возгласы, доносящиеся из квартиры Кошевого, среди которых якобы различил фразы «Х…й тебе, а не детей, сука рваная!» и «Х…й ты ему достанешься, б…дищща!», которые он дословно и с выражением повторял, особенно усердствуя на шипящем суффиксе, пока капитан не оборвал его.
Дело было, в общем, плевое. Кастрюльный убой. Мокруха-бытовуха голимая. Если бы не ствол.
Ствол был замазанный. Вот откуда, спрашивается, у жэковского сантехника этот номерной, похищенный из машины вневедомственной охраны на парковке у отделения Сбербанка на улице Правды два года назад ментовский ствол, на котором с тех пор висят два убийства? Федотова трудно было чем-то удивить, но здесь, увидев заключение баллистиков, а потом и взглянув на физиономию Кошевого, он испытал нечто похожее на недоумение. Уж больно не вязался этот тип с привычным капитану контингентом. Такие если чем и убивают, то утюгами, разделочными ножами и прочим кухонным инвентарем. И где он взял этот ствол? Не сам же он его похитил в «рабочее от свободы» время…
Подменить капитана в этот пятничный день, увы, было некому. В пятницу сдавали отчетность, и подполковник Трепетных требовал раскрытия. Любыми подручными средствами. Позвав в допросную дежурного, чтобы выбежать в очередной раз в конец коридора, и пролетая мимо кабинета начальника, капитан услышал текст, который заставил его приостановить шаг и прислушаться.
— Какой он, на хер, опер-х…ёпер! — громко говорил кому-то раздраженный шеф. — Совсем нюх потерял. Дал бы злодею по мозгам, глядишь, сразу бы раскололся. Нет, б…дь, не те кадры у меня, не те! Ссут всего, б…дь, козлы!
Вернувшись к себе, закрыв за дежурным дверь и собравшись с силами, Федотов подошел к задержанному и молча, с размаху, ударил кулаком в ухо. Кошевой упал со стула, остался лежать на боку, дергая ногой и рыдая теперь уже в полный голос. Федотов схватил графин и со словами:
— Освежись, урод! — вылил остатки содержимого преступнику на голову.
Тряся головой, сантехник заревел еще сильнее. Брызги так и летели во все стороны.
— Говори, сука, где ты ствол взял, падла! — закричал капитан нарочито громко, чтобы слышно было если и не в кабинете начальника, то хотя бы в коридоре. — Скажешь, где взял, и пойдешь в камеру, проспишься! Может, еще что-то вспомнишь. Говори, козел, пока я сам тебя не пристрелил, падаль!
Усиливающееся болезненное состояние добавило в капитанские угрозы больше истерического фальцета, нежели тяжелого металла, но вовремя привлекло внимание проходившего мимо федотовского кабинета Трепета, как в отделе звали за глаза сурового начальника. Тот остановился, открыл дверь и наиграно поморщился, отводя взгляд от убийцы и склонившегося над ним бледного, как ангел смерти, капитана.
— Где взял ствол, б…дь?! — снова проорал Федотов, не замечая появившегося в допросной Трепета. — Где?!!
Кошевой вдруг сел прямо, не поднимаясь с пола, и спокойным, почти трезвым голосом, ясно и отчетливо, словно диктор по студийному суфлеру, произнес название места, где он обнаружил злополучный ПМ, и название организации, в которой данный объект расположен.
Капитан поднял взгляд, заметил начальника, улыбнулся одним оскалом и, почти забыв о приступе, попятился к столу, чтобы сесть и внести показания в протокол.
— Молодец, — буркнул подполковник, закрыл дверь и направился было в дежурку на дневной развод. Но уже на лестнице, ведущей на первый этаж, он резко остановился, посмотрел на часы, развернулся, как пловец-олимпиец у бортика на короткой воде, и со всех ног кинулся назад.
— Где?! — прорычал он, рывком открыв дверь допросной так, что дверная ручка со стоном гнущегося железа ударилась о стену, а на пол посыпалась штукатурка. — Где, б…дь?! Повтори, что он сказал!!! — палец начальника нацелился точно в переносицу Федотова.
Глаза у Трепета выпучились так, что оперу, глядя на набухающее, лиловое, как свекла, лицо подполковника, показалось: еще чуть-чуть — и того можно будет сразу нести по улице в гробу вслед за новомучеником Султаном, под падающими, сизыми от мороза снежинками… под нестройное и угрюмое, словно вой, пение.
Успевший за полминуты вспотеть Федотов и, похоже, сумевший полностью протрезветь Кошевой одновременно и в унисон повернули головы в сторону подполковника и повторили где. Таким тоном, будто тот и другой были не опером и подозреваемым, а оба соучастниками убийства, из которых какой-то другой, настоящий следователь только что выбил одновременное признание.
Через минуту после объявления тревоги и немедленного сбора всего личного состава подполковник нажал красную, похожую на аварийку, клавишу стационарного телефонного аппарата на столе и сообщил в этот аппарат новость. Сначала скороговоркой, и потом, когда его попросили взять себя в руки и доложить обстоятельно, он взял себя в руки и доложил.
А на улице все «шли и шли и пели». Федотов стоял у открытой форточки и, прислушиваясь к доносящемуся с воли пению, не чувствуя вкуса, тянул очередную сигарету. Кошевого увели, боль утихла, и капитан был почти спокоен.
Безрадостный звуковой фон за окном был внезапно нарушен — вплетаясь в заунывное пение и быстро заглушив его, в кабинет капитана Федотова ворвался рев десятков рокерских моторов. Соратники Султана, члены мотобанды «Белые волки», съезжались на панихиду со всей Москвы.
Глава первая БЕЛАЯ МЕТКА БУЛЬДОГА АЛЕХИНА
Лондон. Пять месяцев назад. Июль
Она и девочки не видели его уже больше трех лет. Шестнадцать лет с ним и три — без него… Другая жизнь, вторая. Эта «вторая» жизнь по ощущениям получилась в разы длиннее первой. Сытая, спокойная, размеренная, устроенная, как в сказке. Но без него. Девочки, которым уже исполнилось шесть и семь лет, давно перестали спрашивать об отце. Настя больше не показывала им его фотографии. Сергей строго приказал ей ни одной старой семейной фотографии не брать с собой. Свадебный альбом, все фото с ней и с детьми — шашлыки, рыбалка, Египет, Кипр — все осталось в Москве. В Москве, из которой они бежали, как наполеоновская армия, — так пошутил он во время их последней встречи. Прошлое было начисто стерто. Целый мир, целая жизнь. Словно выжженная земля. Пепелище. Она тайком сохранила одно его фото из паспорта и еще одно, на котором они были вдвоем. Молодые, веселые, поддатые… И еще одно. Самое любимое и дорогое. Все вместе. С дочками — малютками.
В новой жизни теперь была просторная квартира на втором этаже викторианского дома в Хэмпстед-Хите. Рядом — парк с дубами и кроликами, чуть подальше — озеро с утками и лебедями. На улице, на лужайке соседнего дома целыми днями в разных уморительных позах валялись три упитанно-воспитанных рыжих кота, которые вели себя так, будто вся округа принадлежала им, то есть нагло дрыхли на газоне день и ночь — лапы врозь, соломинка в зубах. Так их однажды нарисовала Лиза, гувернантка, художница по призванию и образованию, проживающая на другом конце Лондона, в Илинге, и часто остающаяся у них ночевать. Девочки очень смеялись и попросили вставить рисунок в рамку. Так смешные коты в Лизином исполнении перекочевали на камин.
Каждый день седой благообразный джентльмен лет восьмидесяти, если не больше, которого в силу его природной аристократической стати трудно было назвать престарелым, выходил из дома напротив ровно в десять утра, минута в минуту. И если Настя в этот момент смотрела в окно или поливала цветы в горшках на подоконнике, джентльмен всегда улыбался ей, поднимая, как тамбурмажор, над головой трость своего неизменного зонтика и вежливо наклоняя седую голову. Зонтик всегда был при нем, независимо от погоды. По заведенному ритуалу он следовал в парк, где и гулял ровно два часа. Бывало, встречая их на улице или в парке, незнакомец вновь улыбался, открывал неизменную жестяную баночку леденцов, угощал ими девочек и заговаривал с ними о деревьях, птицах, погоде — дожде, облаках и солнце. Благодаря Лизиным стараниям Танечка и Верочка уже вовсю щебетали по-английски.
Настя тоже учила язык с преподавателем, пожилой дамой, которая с английским юмором представилась ей как мисс Призм, хотя звали ее совсем по-другому. Настя уже могла сносно читать и писать, понимала, что говорят в новостях по Би-би-си, понимала мисс Призм и своего соседа и могла с ними кое-как болтать. Но, как ни старалась, она все еще не понимала ни слова из уст других встречающихся ей лондонцев, как, впрочем, и язык, вернее, говор героев идущих по телеку фильмов, шоу и других передач.
Мисс Призм и просветила Настю, что ее импозантный сосед был не кем иным, как бывшим шпионом на службе Ее Величества, а ныне известным во всем мире писателем Джоном Ле Карре. Не знакомая с творчеством этого автора, Настя купила его книгу и взяла у него автограф, который он любезно дал ей со своей неизменной белозубой улыбкой и фразой: «Ah, never mind. It is really rubbish»[1]. Белиберда или нет, но Настя так и не смогла осилить ее и оставила на видном месте с закладкой на десятой странице — до лучших времен. Скоро девочки подрастут и прочитают, думала она. Сестренки и так между собой общались на английском и даже понимали диалект кокни, по-русски же говорили все более неохотно, только с ней. С появившимся (и с каждым днем усиливавшимся) акцентом.
Сейчас, положив ноги на пуфик у кресла и откинувшись на спинку из мягкой кожи, она закрыла глаза и раскинула руки, касаясь девочек, которые устроились по обе стороны от нее и уткнулись в экраны. По ее просьбе стюард снял подлокотники между креслами, и они втроем легко уместились на двух. Настя никак не могла справиться с волнением, не покидавшим ее с самого взлета. Сидя в роскошном салоне первого класса авиарейса МА-71 Лондон — Бангкок, она не могла расслабиться. Все ее мысли были только о нем. О далеком Сереже, который через два дня в пятизвездочном бунгало на экзотическом острове Самуи вновь, после трехлетней разлуки, должен стать мужем и отцом — любимым, родным и близким.
Настины пальцы, перебиравшие локоны увлеченных мультиками дочек, словно сами своими подушечками пытались вспомнить прикосновения к его волосам, щетине, шее, спине, губам. Но, как ни старалась, она так и не смогла увидеть его образ, почувствовать запах, услышать голос. На секунду ей показалось, что краешком сознания услышала его далекий смех, но и он растаял, испарился, «как сон, как утренний туман» — лондонский, уже привычный.
— Лена, теперь с девчонками ты одна, — сказал ей Сережа три года назад на прощание в аэропорту Франкфурта, где они расстались в последний раз. — Я не смогу тебе ни писать, ни звонить. Но я буду рядом. Квартира у тебя есть. Ты ни в чем не будешь нуждаться. Денег тебе и девочкам хватит на три жизни. Все номера счетов у тебя есть. Я вас найду, когда пойму, что мы все можем дышать спокойно. Не могу сказать когда, но… Я всегда буду рядом.
Сергей обнял девочек, коснулся губами ее лба. Отвернулся и, не оглядываясь, быстро пошел по направлению к другому терминалу, выкинув по пути завернутый в газету телефон в один мусорный контейнер, а SIM-карты в два других — чуть дальше.
Сергей не оговорился. Тогда ее звали Леной. Еленой Алехиной. Но уже тогда, при первом пересечении границы, она стала Анастасией Ярмольник. У девочек имена остались прежние. А фамилию они, оказавшись в ином мире и окунувшись в новую жизнь, вскоре забыли сами.
* * *
Настя осторожно отвела руки от одновременно забывшихся сном девочек, обхватила себя за плечи, еще глубже вжалась в податливое кресло и вспомнила вдруг их первую встречу двадцать один год назад. Когда она, тогда еще студентка-заочница МОПИ, жила у московской подруги и работала днем приемщицей в прачечной в Марьиной Роще. Кто мог представить тогда, какую роль в их жизни сыграет эта прачечная и выцветшая белая метка с едва различимым номерком на заляпанном вином или вареньем кусочке простыни. Со временем все родные и знакомые знали эту историю наизусть и твердили, что так бывает только в кино.
Однажды в прачечную зашел симпатичный коротко стриженный молодой человек по фамилии Алехин (имя она сразу не запомнила) в помятом сером костюме, белой застиранной рубашке без галстука и показал ей красную книжицу-удостоверение. А затем и ту самую метку.
Геолог Федя Суворов через знакомого сдал свою однокомнатную квартиру на летний сезон студенту из Махачкалы. Когда Суворов вернулся домой в сентябре, он нашел квартиру чисто убранной, а выданные квартиранту ключи были у соседки. Та сказала, что студент уехал еще в июле. Это было странно, ведь он собирался жить по август включительно и заплатил за все три месяца вперед. Странно, но ладно. Уехал и уехал. Бывает.
Утром следующего дня, когда Суворов вышел из квартиры, чтобы отправиться на работу, он сразу же получил увесистый удар по голове, очутился на бетонном полу, почувствовав, как в спину и ноги ему упираются чьи-то тяжелые колени, руки выламываются за спину и на запястьях застегиваются наручники. Суворов был доставлен в милицию, и руководивший операцией молодой опер Сергей Алехин, тот самый, что принес в прачечную метку, заявил Суворову, что для облегчения своей участи ему нужно немедленно признаться в совершении преступления с отягчающими обстоятельствами.
Совершенно ошарашенному Феде признаваться было не в чем. И хотя его с оттяжкой и с удовольствием били всем отделением, он так и не признался. И правильно сделал. Ведь расчленил кухонным разделочным ножом мертвое тело в суворовской ванной совсем не он, а его квартирант — тот самый дагестанский студент-медик, — а потом разнес окровавленные куски, завернутые в обрывки двух суворовских простыней, по нескольким московским помойкам. Все это случилось, пока хозяин квартиры мирно кормил комаров и мошку в поисках медного или железоникелевого колчедана в Восточном Зауралье с кайлом в руках, пытаясь отвлечься от разрыва с любимой — суворовская подруга покинула его незадолго до этого, сказав, что пусть тот живет со своим «колченогим чемоданом».
Никакие менты ничего бы никогда не нашли и гарантированный «висяк» так навсегда и остался бы «висяком», если бы не проявившийся на самой ранней стадии карьеры профессионализм Алехина, к которому в отделе скоро приклеилось прозвище Бульдог — за его железную хватку. Если Алехин шел по следу, он шел до самого конца, и остановить его не мог никто — ни бандиты, ни воры и убийцы, ни сами менты, большинству из которых все всегда было до фени, кроме собственной задницы. Через тринадцать лет Алехин был уже подполковником, начальником убойного отдела. Но это был уже не тот Алехин, который принес приемщице Лене в прачечную судьбоносную метку.
А пока он разматывал свое первое дело, для начала обнаружив на одном из окровавленных обрывков простыни метку прачечной. Лично обойдя затем три десятка прачечных с этой меткой в руках, Алехин, наконец, встретился с Леной и узнал от нее адрес и телефон предполагаемого убийцы.
Навсегда потеряв шесть зубов и веру в человечность правоохранительных органов, геолог Суворов допер в конце концов, что на самом деле могло произойти в квартире в его отсутствие, и поведал ментам о том, что летом жилплощадью «бесплатно пользовался знакомый друга». Беглого студента-медика через его же знакомого дагестанца вычислили, нашли в родном ауле, предъявили обвинение, и молодой горец — как это у них принято, человек чести, — во всем признался. Безо всякого мордобития.
Выяснилось, что в пивнушке возле института студент познакомился с молодым лейтенантом ракетных войск, который с Дальнего Востока приехал в отпуск к девушке в Москву, а та дала ему от ворот поворот. Там же лейтенант и студент начали вдвоем выпивать, а затем продолжили это дело в суворовской квартире в Марьиной Роще, где офицер предложил сыграть в карты.
Они играли в увлекательную азартную игру, популярную у уголовников и московских интеллигентов под названием «сека». Русский покер для ленивых. Лейтенант, по словам студента, жухал «по ходу слово за слово, хреном по столу». Студент хорошо, почти литературно говорил по-русски. В общем, вышел конфликт. Лейтенант схватил кухонный нож, студент, защищаясь, толкнул его. Военный упал на свой нож и — с концами. После чего и был разрезан на составные части, упакован и разнесен по нескольким помойкам в разных районах Москвы. О том, что на использованных в качестве упаковки простынях могут быть метки прачечной, пребывавший в состоянии аффекта студент просто не подумал.
Неизвестно, какие смягчающие обстоятельства (и сколько) привезли родственники-дагестанцы, которые приехали в Москву всем аулом, только студенту дали «по максимуму» — пять лет за убийство по неосторожности. Суворов вставил зубы, был свидетелем на процессе, потом снова уехал в экспедицию и нашел-таки свой колчедан, но квартиру больше уже никогда никому не сдавал. А Лена и Сергей поженились.
И началась у них классическая ментовская жизнь. Сначала снимали квартиру, потом купили свою, потом купили «Жигули», потом, втайне от Лены, Сергей Бульдог вместе с начальником районного управления стал крышевать проституцию и торговлю наркотиками, потом — уже с начальником областного управления и прокурором — игорный бизнес. Потом они с Леной купили «Мерседес» и переехали в загородный дом. Потом одна за другой родились девочки-погодки. Потом…
Потом произошло то, о чем Лена тоже не имела ни малейшего представления и даже не осмеливалась спросить. И совсем уже потом Елена Алехина, бывшая приемщица московской прачечной (номер четыре), стала Анастасией Ярмольник, обладательницей заграничного дипломатического паспорта с пятилетними визами США, Канады и стран Шенгенской зоны. С видом на жительство в Соединенном Королевстве, с роскошной квартирой в Хэмпстед-Хите, с гувернанткой, с ослепительной фарфоровой улыбкой, с «Мерседесом» в гараже и четырьмя миллионами долларов на шести разных счетах в Англии, Швейцарии и на Кипре.
Но без мужа, которого она уже отчаялась когда-либо увидеть и на нежданную встречу с которым летела теперь в Таиланд в салоне первого класса и с запотевшим бокалом «Дом Периньон» на откидном столике.
— Mom, what is behind that curtain, do you think?[2] — прокричала ей на ухо проснувшаяся Танечка, показывая рукой на занавеску, отделяющую салон от остального самолета.
Вернувшаяся из налетевших воспоминаний Настя прижала палец к губам, указала дочке на спящую сестру, сняла с Танечки наушники, и они вдвоем отправились гулять по лабиринтам огромного, как маленький город, «Боинга», в котором летело столько людей, сколько Танечка не могла себе представить, — двести девяносто восемь человек. В одном месте. В одном замкнутом пространстве. В десяти тысячах метров над землей. Точнее, в тридцати двух тысячах восьмистах восьми футов, как следовало бы сказать дочери, если бы Настя могла это без ошибок произнести: что такое метры и с чем их едят, Танечка понятия не имела.
В свои тридцать восемь Настя выглядела лет на десять моложе — с изящными ухоженными руками, чистой гладкой кожей лица без единой морщинки, губами бантиком, русой челкой (не краска, а родной цвет) и слегка курносым носиком, которого она немножко стеснялась. Девочки, как близняшки, были похожи друг на друга и на маму. Ничего папиного. Ни одной Сережиной черточки. «The girls will grow up soon enough and you will all look like Chekhov’s Three sisters»[3], — пошутила на днях начитанная гувернантка Лиза.
Они шли по правому проходу первой трети эконом-класса, когда гигантский лайнер угодил в зону небольшой турбулентности, и салон немного качнуло. Мама с дочкой на секунду потеряли равновесие. Девочка стала падать на справа стоящее кресло, в котором сидела чернокожая блондинка с мальтийской болонкой на руках. Танечка и болонка заверещали одновременно. Настя поймала дочь за руку, притянула к себе, и все они, включая блондинку, весело засмеялись. Болонка успокоилась и вдруг вылетела из рук хозяйки в «распахнутое» окно «Боинга». Внутри салона пошел красивый вольфрамовый дождь, разрывавший самолет и пассажиров на части.
Не чувствуя боли от пронзающих ее тело осколков, оглушенная потоком разряженного ледяного воздуха, Настя инстинктивно схватила в охапку Танечку. Вылетая из самолета среди обломков фюзеляжа, среди кресел, рук, ног и тел остальных пассажиров, в угасающем сознании она продолжала прижимать девочку к себе. «Где Верочка? — было ее последней мыслью. — Как там она одна?»
Последним, что увидели глаза Елены Алехиной, или по паспорту Анастасии Ярмольник, было яркое голубое небо. И быстро приближающиеся снизу белые облака, навстречу которым, как сбитые птицы, с высоты десять тысяч метров падали тела двухсот девяноста восьми пассажиров и команды «Боинга 777» рейса «Микронезиан Эйрвейз» МА-71 Лондон — Бангкок.
Глава вторая ЗАКАЗ КНИЖНИКА
Москва. Июль
На его груди не было ни профиля Сталина, ни Маринки анфас. Зато от пупка до солнечного сплетения — распятый Христос. Сверху, над сердцем, восседал ангел на облаке. Справа — другой. Оба были примитивистскими копиями Рафаэля и с любопытством разглядывали испускающего дух Мессию.
Когда владелец этого шедевра уголовно-прикладного искусства был помоложе, он любил перед зеркалом поиграть упругими грудными мышцами — тогда перекладина креста начинала размахивать ангелами, как крыльями, и могло показаться, что те, как голубые бабочки, вот-вот вспорхнут и улетят.
На обоих плечах его красовались эполеты из семиконечных звезд, внутри которых располагалось еще по паре четырехконечных. На левой руке над локтевым суставом синело воззвание: «Человек человеку lupus est».
Сейчас он растирал длинным махровым полотенцем спину и безучастно рассматривал свои наколки в окаймленном мрамором, местами сочащимся тонкими ручейками осевшего пара зеркале напротив. Ему, как и домашним, тоже показалось, что он заметно похудел за прошедшую неделю. Щеки, глаза и живот ввалились, мышцы рук и ног стали дряблыми. Не нравился он себе. Впрочем, он не нравился себе уже давно.
Даже после получаса в хот-табе — громадной бочке, установленной в предбаннике, — ступни его все равно начинали быстро холодеть. Сегодня вода в бочке была просто кипяток.
— Надя, ты решила проверить, можно ли их сварить хотя бы «в мешочек»? — шутливо-раздраженно сказал он горничной, или домоправительнице, как ее называла его внучка, когда горничная начала заботливо растирать ему ноги каким-то своим особенным зельем, от которого пахло касторкой и дегтем. — У тебя получилось.
Надя, дородная, раскрасневшаяся женщина лет сорока пяти на вид, хотя ей было уже хорошо за пятьдесят, фыркнула со смехом, брызгая теплыми каплями пота с бровей ему на ноги:
— Скажете тоже, Евгений Тимофеич! Девушку в краску ввели…
Ему казалось порой, что этот лютый мороз просто жил у него в костях, вне зависимости от погоды, температуры воздуха и времени года. Он поселился в нем еще во время первой ходки на карагандинскую зону, на заре его тюремной и лагерной карьеры. Тогда он был обычным «мужиком», который «подковой вмерз в санный след», и ничего. Кроме как горбатиться в течение пяти лет на родимое пролетарское государство за пайку черного и миску баланды, ему не светило. Но судьба играет человеком, как он сам — костями домино. И еще тогда, по первоходу и беспределу, он с первого дня уверенно и жестко отказался от выхода в промзону. Отказался от любой работы и постепенно примкнул к отрицаловке. Каждый начальник лагеря стремится сделать свою зону «красной». Когда все зека на зоне работают, это значит, она сто процентов контролируется администрацией. С Женей ни одна зона «красной» не могла стать по определению. Начальники и «кумовья» сначала ненавидели его, но со временем зауважали. За стойкость характера. Ни в первой, ни в одной из своих следующих трех ходок Женя ни лед, ни что бы то ни было еще кайлом не ковырял. Ковыряли другие — те, кто был для этого рожден. Он был рожден для другого и всегда знал это.
Евгений Тимофеевич Симонов не любил вспоминать то время. Не любил и свои татуировки, как старую, потертую, приросшую к коже майку с выцветшими узорами. Он сам себе теперь, по его собственному шутливому признанию, напоминал помятый, потерявший блеск гжельский самовар на кривых жилистых ногах. Ноги пока слушались своего расписного туловища, но ступни постоянно мерзли, навевая малоприятные воспоминания…
Дело свое Надежда знала. Пальцы начинали отходить. Пока она растирала и массировала его ступни и икры, Симонов, закрыв глаза, лежал на спине на огромном диване-аэродроме, установленном недалеко от хот-таба. Евгений Тимофеевич любил этот устоявшийся годами банный ритуал, когда после омовения в дремучем кипятке и принятия пятидесяти грамм португальского резервного портвейна он — не римский патриций, а уважаемый московский «вор в законе» Женя Книжник — мог, как космонавт, сделав два шага по поверхности Луны, сразу приземлиться всем телом на свой аэродром и забыться в руках этой простой, милой и сильной деревенской женщины с простым и надежным именем — Надежда. Которую он взял в дом из деревни совсем юной и которая теперь, после смерти его жены Маши от скоротечного рака, стала, по существу, главной в доме, хотя пока еще без официального статуса.
Погоняло Книжник прикипело к теперь уже восьмидесятичетырехлетнему Евгению Тимофеевичу на второй зоне, где он оказался за недоказанное, по его мнению и «по ходу», преднамеренное убийство. И где он, сильный и умный не по годам зэк, сразу подмял под себя всех мужиков, сук, бакланов и прочих блатных после смерти легендарного Алика Одессита, который умудрился сыграть в ящик прямо на зоне за месяц до того, как должен был откинуться. В результате стремительного «военного переворота» с небольшими, допустимыми в то время и в тех местах человеческими жертвами Женька Штырь, как назывался тогда Симонов, стал исполняющим обязанности смотрящего, да так и остался им до конца срока, который матерому убийце скостили за хорошее поведение и идеальный порядок на зоне.
В своем теплом углу барака, за махровой занавеской, новоиспеченный пахан принимал гостей — зэков и вохровцев, включая «кума» и папу (начальника лагеря), — с книгой в руке. Евгений Тимофеевич — как скоро стали называть его люди с кокардами на фуражках и звездочками на погонах — не кидал понтов. Он просто патологически любил читать. Правильным зэкам зона предоставляет много свободного времени, и за свою семилетнюю отсидку Симонов успел проштудировать всю лагерную библиотеку — от Флобера и Майн Рида до Маркса и Энгельса. Где-то в середине этого долгого срока Женька Штырь выпал в осадок и растворился без следа, а на его месте возник и утвердился Женя Книжник. Когда не осведомленные в подробностях биографии пахана социально близкие осторожно интересовались, не родственник ли он часом автору «Жди меня, и я вернусь…», Евгений Тимофеевич отвечал застенчиво и односложно, будто что-то скрывал: «Нет», — но хорошо его знавшие видели, что сам вопрос ему приятен.
На воле, где Книжник по сей день слыл предельно жестким, не останавливающимся ни перед какой кровью, но справедливым паханом, он также не изменял своей страсти. Среди блатных ходила шутка, что Книжник был официально записан в Ленинскую библиотеку и имел номерной читательский билет с допуском в спецхран. «Почти как Ленин».
Женя Книжник был коротко знаком с режиссером Любимовым и любил сиживать в шестом ряду партера «Таганки» (если, конечно, не был в это время отвлечен отсидкой в местах, далеких от театральной Москвы) на премьерах рядом с самой Фурцевой и другими партийными бонзами высшего разлива. Он всегда был строен, импозантен, свежевыбрит, седоват, прекрасно — по моде лондонской — одет. Советские аппаратчики высокого полета раскланивались с ним в холле не только Театра на Таганке, но и, бывало, ресторана «Арагви», жали руку, спрашивали о здоровье. Не все из них, конечно, знали, кем на самом деле являлся этот породистый джентльмен безупречной стати, похожий на французского посла. Генералы с Петровки и с Огарева уважительно звонили ему сами, предупреждая об обысках, открытии дел и арестах — как его подчиненных в криминальном мире столицы СССР, так и его самого, если распоряжение поступало с самого верха и от него невозможно было отбояриться. Знали, что он никуда не сбежит. «Сотрудничать» не станет, но вести себя будет «правильно» при любых обстоятельствах.
Женя гордился тем, что лично знал Высоцкого. Всенародный бард даже один раз дал приватный концерт у Жени на даче, на котором в числе прочей избранной публики присутствовал первый секретарь то ли Астраханской, то ли еще какой-то хлебосольной и малосольно-икряной области, у которого с Женей имелись в то время некие общие интересы (не связанные с художественной литературой). В чем заключались эти интересы, толком не знал никто (кроме тех, «кому положено»). Зато всем в Москве было хорошо известно, что если кому-то из нужных людей вдруг до зарезу понадобится в большом количестве черная икра, то бежать надо не в Елисеевский и не в «Пекин» (там все равно не дадут, если не будет звонка сверху), а или в кремлевский буфет, или к Жене Книжнику. При этом первый вариант был ограничен наличием у нуждающегося спецпропуска, а Женина контора принимала всех. По звонку. Без пропусков.
Однажды в той же «Таганке», перед премьерным спектаклем «Антимиры», Женя в театральном кафе за чашкой кофе и рюмкой коньяку беседовал с известным литературоведом Бенедиктом Сарновым. Третьим за столом был начинающий писатель и будущий диссидент Владимир Войнович, известный в узких кругах, не как создатель тогда еще ненаписанного «Чонкина», а как автор популярной советской песенки «Заправлены в планшеты космические карты». Говорили в основном Сарнов с Женей. Войнович потягивал армянский коньяк и помалкивал. Когда Женя встал и пошел пожать руку замминистра путей сообщения, Сарнов спросил Войновича:
— Интересный мужик. Кто это?
— Беня, выпивай и закусывай, и пускай тебя не волнуют этих глупостей, — похлопал его по плечу Войнович.
— Он писатель? Или драматург? Где-то я его видел…
— Это наш московский Робин Гуд. Помнишь, тебе в прошлом году вернули угнанную «Волгу» на следующий же день? Так вот, это — он постарался.
К огромному своему сожалению, Книжник так и не встретился с Галичем, которого очень любил и уважал. Они разминулись в пути: Женя ехал из зоны в Москву на поезде, Александр Аркадьевич — улетал из златоглавой в Вену. Но первый свой катушечный «Грюндиг» Женя приобрел специально для того, чтобы слушать запоем не только Высоцкого, но и свои самые любимые баллады в исполнении Галича. Самыми-пресамыми для него были «Облака», «Караганда» да и многие другие. В основном, конечно, про зону, где импозантный московский бард, в отличие от боготворившего его Жени, ни единого дня не провел. Что, однако, не мешало ему, артисту высшей пробы, так вживаться в образ персонажей своих лагерных песен, что Женя только диву давался, в тысячный раз смахивая скупую слезу, неизменно выкатывающуюся у него из левого глаза на раздающемся из динамика крике Галича — про то, как «по наледи курвы-нелюди двух зэка ведут на расстрел». Ведь так пел, словно сам пережил, тащась по наледи в тот весенний денек, и свезло — недострелили. Либо был неким невидимым третьим — ангелом или кто там должен принимать убиенные души в небесной канцелярии… До сих пор в своем частом одиночестве Книжник включал Галича и слушал по нескольку раз, как «облака плывут в Абакан, не спеша плывут облака».
Сегодня, однако, был особенный день. Сегодня Жене было не до чтения и не до музыки. Нужно было жестко и быстро решать вопрос, который мучил его последние три года, царапал изнутри, как проглоченное стекло или игла, загнанная под ноготь на всю длину. Он ждал, когда Надежда закончит массаж. Нужно было сделать звоночек в Лос-Анджелес и «оформить заказ».
Леночка вбежала в предбанник без стука. Надежда повернулась, оторвала руки от его ног, быстро накрыв их до пояса второй простыней.
— Деда, покажи скелета, ну пожалуйста! — запричитала его шестилетняя внучка, врожденная манипуляторша и артистка погорелого театра, как называла ее Надежда, которая в ней души не чаяла и проводила с ней больше времени, чем вся остальная семья и прислуга, вместе взятые.
Дед не стал спорить. Оголив свой блекло-сиреневый торс и затянув простыню на талии, он с некоторым усилием поднялся со своего безразмерного ложа, поднял руки, согнутые в локтях, как цирковой атлет, втянул щеки, закатил глаза и утробно застонал. Леночка заверещала в притворном ужасе, развернулась и, смеясь, полетела назад к двери по длинной мраморной зале, именуемой всеми «предбанником», не забыв при этом пару раз пройтись колесом (она занималась спортивной гимнастикой и уже «подавала надежды») и озорно сверкнув своими белоснежными трусиками под короткой юбочкой-шотландкой.
Глаза деда на секунду-другую повлажнели, и он снова, словно обессилев, рухнул на спину на груду шелковых простыней и своих любимых подушек, туго набитых гусиным пухом.
— Балуете вы ее, Евгений Тимофеич, — кокетливо пробурчала Надежда, закрыв за девочкой дверь на щеколду и вернувшись на свое рабочее место, покачивая завидного размера грудью. — Ну какой из вас скелет?.. Вы мущщина хоть куда. Жених, да и только.
Она вновь макнула ладони в вонючее масло и продолжила растирать ему ноги, поднимаясь своими сильными, теплыми, мягкими ладонями все выше и выше. Через несколько минут Евгений Тимофеевич резко приподнялся на диване и привлек ее к себе. Своей колыхавшейся грудью она раздвинула ему колени, привычно крепко обхватив руками его талию. Ее дыхание стало прерывистым, она тихо постанывала в такт движениям головы. Он гладил ее густые каштановые с редкой проседью волосы. Потом вдруг прижал ее к себе еще сильнее обеими руками, застонал, несколько раз дернулся всем телом и вновь упал на подушки, прерывисто и громко дыша.
Надежда еле заметно перекрестилась, вытерла губы обратной стороной ладони и начала с любовью надевать ему на ноги толстые носки из шерсти «горных козлов», которые связала в деревне ее сестра-рукодельница.
Через некоторое время после того, как традиционный массаж был привычным образом завершен, Книжник пришел в себя, встал, облачился в широкий и длинный до пят махровый халат, затянул туго пояс и, не сказав Надежде ни слова, направился к двери. Раскрасневшаяся домоправительница, не глядя на него, уже стояла на четвереньках с тряпкой в руке и подтирала мокрый кафельный пол возле бассейна и хот-таба.
— Откуда в нем только силы берутся? — шепотом вымолвила она сама себе с улыбкой. — Иссох ведь весь, батюшки мои. После смерти сыночка-то любимого. Как сам еще живой?.. — улыбка съехала с ее лица, и женщина заплакала в голос.
Поздний ребенок, единственный сын Книжника, тридцатитрехлетний Сашенька, юрист по образованию, которое включало в себя и Гарвардскую школу экономики, вернулся, против воли отца, из Америки семь лет назад и стал при родителе кем-то вроде консильери в их теперь уже общем семейном бизнесе. «Папа, я не хочу, чтобы ты провел остаток жизни в русском Алькатрасе», — сказал он как-то полушутя, оправдывая свое решение.
И действительно, после Сашиного возвращения пребывание Книжника на свободе явно, как он сам порой шутил, затянулось, несмотря на усиливавшийся ото дня ко дню ментовский и особенно чекистский беспредел. Книжник был совсем не в восторге от новой власти. «“Кум” должен в лагере банковать, а не в стране», — однажды чересчур откровенно высказался он на одной большой сходке год назад. За этот год шесть из двенадцати титулованных воров, ее участников, уже отправились на нары или насильно в мир иной. Еще четырем пришлось срочно рвануть за «бугор». Книжник же называл себя «последним из могикан». Фенимора Купера он еще на второй ходке, когда у него только проснулась страсть к чтиву, прочел от корки до корки.
Переодевшись из халата в новенький темно-синий «Адидас» без пузырей на коленях, старик устроился в своем офисе под двумя натюрмортами Сезанна (он до сих пор не вполне был уверен, что это оригиналы, а не подделки, удивляясь про себя, как можно «так хреново рисовать такими погаными красками» и отчего это приличные неглупые люди отваливают за такую мазню такие бабки) и включил телевизор. В новостях традиционно показывали очередную артиллерийскую перестрелку на Донбассе.
— Какое, на хер, фашистское кольцо? — в сердцах бросил он невидимому голосу, бубнящему из ящика про «фашистское кольцо окружения», неуклонно сжимавшееся вокруг «города-героя Донецка». — Уроды, совсем края потеряли! Куда лезут? Ну как можно с голой жопой воевать! Даже с Хохляндией! Дебилы, б…дь, кумовские!
В этот момент запиликал вайбер. Арчик из солнечного Лос-Анджелеса подтверждал последние сведения. Выключив телевизор и надев очки, Книжник одним указательным пальцем, путаясь, настучал ответное сообщение: «Товар нужен свжм. Не портите его. Смныч все объяснт. Верю в тебя, брат. Ты стрика не подведешь. Привет маме. Поцелуй девшку от меня». Исправлять не стал — и так поймут.
— Сука ментовская, ну вот и нашел я тебя на краю земли, — вполголоса, но твердо, как приговор, произнес Книжник. — Наконец-то срисовали тебя, голубок красноперый. За общак, само собой, ответишь по полной. А за Сашу, падаль, я тебе сам лично горло грызть буду, мусор!
Книжник встал, посмотрел на часы, налил себе стаканчик «Эвиан» комнатной температуры. Не снимая очков, открыл шкафчик бюро над столом, достал жестяную коробку из-под леденцов, извлек оттуда таблетку престариума 5 мг — от давления, таблетку кордарона 200 мг — от сердечной аритмии, таблетку амоксиклава 625 мг — от обостренной простаты, две таблетки линекса — от дисбактериоза, и таблетку сиалиса 5 мг — чтоб, как говорится, «и хер стоял, и деньги были». Все это «счастье» он проглотил одной пригоршней и запил большими глотками воды.
Включив настольную лампу, Книжник уселся поудобнее в кресло, открыл книгу своего любимого писателя из новых, некоего Феликса Озорного, и начал читать с заложенного места, шевеля губами, почти вслух:
«Ефросинья налила Наташе еще чаю и поведала еще одну страшную историю:
— Мы с мужем снимали дачу — ну, не дачу, чердак в большом загородном доме, километров восемьдесят от Москвы. У хозяев жила кошка. Ей было одиннадцать лет, и она никогда не рожала. А тут вдруг родила. Трое котяток мертвыми вышли, а один — живой. И маленькая дочка хозяев стала реветь и упрашивать родителей оставить котеночка с ними жить. В конце концов хозяин сказал: “Ладно, котенка оставим, но тогда от кошки избавимся — двух кошек мне в доме не надо”. Ну, слово хозяина — закон, и жена хозяина попросила нас — а мы как раз уже съезжали — взять с собой в машину кошку и где-нибудь по дороге ее… того. Ну, оставить. И я (будь я проклята!) согласилась.
Сорок километров кошка лежала на заднем сиденье — не дергалась, не трепыхалась, — и просто выла. Жуткий звук. И через сорок километров я уже не могла выдержать, сказала мужу: “Остановись”. Он тормознул, я взяла кошку (она не дергалась, не сопротивлялась), вынесла ее на обочину и аккуратно уложила в траву. Как уложила — так она и оставалась лежать и только продолжала выть. И этот вой стоял у меня в ушах все следующие сорок километров до города.
Потом…
Следующие одиннадцать лет были самыми страшными годами в моей жизни. Наш с мужем брак — лопнул (я застала его с молоденькой девкой прямо в нашей супружеской постели). Моя мать умерла от рака — умирала долго и в жутких мучениях. Мой сын заболел тяжелым диабетом и просто стал инвалидом в свои двадцать два года. Я… ну, неважно.
Хозяин дачи сдох по пьяни (он вообще был непьющим, но возвращался с посиделок с друганами-ветеранами, где чуток выпил) — задохнулся в собственном гараже, заснул и забыл выключить двигатель “Нивы”. Хозяйский сын, двадцатилетний парень, вернулся из армии, пошел гулеванить с дружками, и какой-то дружок, шутя, ему “засадил под сердце финский нож” (действительно, финский). Была перерезана аорта (очень редкий случай), и он истек кровью за десять минут до того, как приехала “скорая”. Жена хозяина мотыжила огород и поранила мотыгой ногу — ей эту ногу трижды отрезали по куску (все выше, и выше, и выше…), но все равно умерла от гангрены. Не тронуло только дочку хозяев — ту самую, которая упросила оставить котенка.
Господи!.. Она же не выла. Она (или какое-то оно) говорила мне: “Не делай этого — я ведь достану! Я всех достану! НЕ ДЕЛАЙ!”
Она — говорила. Но я… Господи, ну почему?! ПОЧЕМУ я ее НЕ СЛЫШАЛА?!
“Дом, в котором долго жила кошка, а потом ее не стало… Этот дом — мертвый”, — добавила Наташа».
— Вот и я о том же, — угрюмо произнес Книжник, закрыл книгу, снял очки, поднялся, налил себе любимого односолодового литературного виски «Роберт Бернс» со льдом из бара в стене и снова опустился в кресло. — Хуже человека зверя нет. Кстати, где мой Рыжик?
Спящий на полу, на коврике худенький котенок Рыжик при упоминании своего имени легко и бесшумно запрыгнул старику на колени и громко заурчал.
Минуту спустя Книжник уже спал, запрокинув седую голову на мягкую спинку кресла. Теперь он был похож не то на измученного бессонницей престарелого Бунина, не то на утомившегося после трудного концерта Рахманинова. Конечно, если бы из-под расстегнутой «молнии» костюма не виднелся голубой окаемок наколотого креста.
Глава третья АЗИМУТ ХОРУНЖЕГО
Лос-Анджелес. Июль
В самой низкой точке заката красное и туманное, как клюквенный морс, солнце скатывалось в океан так быстро, что при желании можно было уловить его движение. А обладая чуточкой воображения, и представить, что оно погружается в воду так стремительно оттого, что устало к вечеру от своей собственной нестерпимой дневной жары.
Родом из Ебурга (так местная молодежь называет город Екатеринбург), где он провел детство, отрочество и юность, он не привык к жаре. Не любил ее. Но еще больше он не любил кондиционеры, особенно в молах и супермаркетах, искренне не понимая, как все эти Гаргантюа и Пантагрюэли обоих полов (а количество безразмерных людей всех цветов и оттенков в Лос-Анджелесе, как и в остальной Америке, на его взгляд, зашкаливало) передвигаются в шортах и майках по длинному, как взлетная полоса, колбасно-ветчинному отделу, в котором впору было надевать валенки и ушанку.
На своей яхте «Азимут 55С» стоимостью в полтора миллиона долларов, где он жил уже около года, снимая паркоместо в Марине-дель-Рей, что на полпути от аэропорта LAX в Санта-Монику, Сергей включал кондиционер всего два раза. Первый раз в самом начале, когда капитан с бородкой морского волка, но без трубки в зубах, обучавший его основным премудростям судовождения за четыреста долларов в сутки, сразу потребовал включить кондиционер хотя бы в каюте. Второй случился сегодня, когда кондиционер в гостиной включила Галя (если ее действительно так зовут).
Сорокадвухлетний Сергей Алехин, бывший мент, три года возглавляющий негласный список разыскиваемых интерполом уголовного мира, а ныне Григорий Хорунжий, украинский бизнесмен-эмигрант, уже начинал отвыкать от своего настоящего имени, поэтому нисколько не удивился бы, если бы Галя оказалась Таней или Полей. Хотя мысль эта вселяла в него ужас. Тогда все его планы рушились, и Смерть снова маячила где-то рядом.
Он стоял, опершись обеими руками о раковину коньячного цвета в ванной комнате размером больше его первой собственной квартиры. Абсолютно голый, он пристально всматривался во вмонтированное над раковиной зеркало. Алехин разглядывал себя так, что со стороны могло показаться, будто пытается обнаружить на своем жилистом загорелом поджаром теле какой-то едва заметный изъян — и никак не может его найти. Торс Алехина напоминал стиральную доску, на которой местами бугрились канатные узлы мышц и отсутствовали даже мельчайшие жировые складки. Интерьер яхтенной ванной состоял из приземистой мебели, сработанной из тика разных оттенков, от светло-бежевого до темно-коричневого. Коротко стриженный, с короткими усами и бородой, чуть длиннее стандартной в телерекламе мужественной двухнедельной щетины, с ровными чертами лица и тонкими губами — Алехин в одежде не выглядел атлетом. И лицо его было совсем незапоминающимся, разве что искривленный, чуть приплюснутый, как у боксера, нос и небольшой светлый шрам в нижней части левой щеки.
Его замершие в одной точке глаза, казалось, смотрели не на собственное отражение, а куда-то внутрь, в глубь зеркального стекла. Там он пытался увидеть Лену и девочек, но разглядел только их туманные, исчезающие, словно растворяющиеся в вязком синем воздухе, силуэты.
«Неужели все-таки п…дец? — подумал он. — Если так, то как они меня вычислили? Как?»
Алехин закрыл глаза и напряг руки. Он обхватил себя за плечи и, сжав их, представил, что обнимает Лену и пытается ощутить всем телом ее тепло и вдохнуть ее запах, который он, как ни силился, вспомнить не мог… В эту минуту стоявшая у пирса по соседству огромная яхта одного известного российского киноартиста, похожая на двухэтажный дом, завелась и, слегка покачиваясь, стала отходить от причала.
Алехин видел его пару раз. Чернявый, приветливый, узнаваемый, артист редко наведывался в Лос-Анджелес. В его отсутствие на гигантском судне жила девушка лет двадцати. Подружка? Любовница? Дочь?..
«Блин, о чем я думаю?..» — Алехин встряхнулся. Пора было возвращаться в спальню, где Галя, включившая кондиционер на полную катушку, лежа в его халате на кровати-аэродроме, листала пультом телепрограммы на огромном, во всю стену, экране.
Все эти три года Алехин ни на секунду не забывал о том, что, помимо его жены и детей, с ним желали (возможно, даже более страстно) повидаться очень плохие парни, у которых были серьезные счеты с беглым обладателем теперь уже пятидесяти шести из шестидесяти двух миллионов долларов из их бесследно исчезнувшего три года назад в приграничных псковских лесах общака.
За эти три года он исколесил полмира. Одна за другой менялись страны — Кипр, Германия, Камбоджа, Мексика… И вот последний приют беглеца — Марина-дель-Рей, похожая на огромную лагуну с золотым песком, пальмами и мачтами сотен яхт, нашедших пристанище в гигантской бухте. Здесь уже почти год он не чувствовал никаких тревожных «уколов», никаких признаков опасности, но все равно не позволял себе расслабиться. Он не мог иначе. Не мог не только вызвать к себе жену и дочерей, но даже просто позвонить. Не мог подвергать их жизни смертельной опасности, не убедившись окончательно, что погоня сбилась со следа.
Стоянка яхты длиной больше сорока пяти футов (его была около пятидесяти пяти) обходилась в три штуки долларов в месяц. Но и по этой цене снять место было практически невозможно. Их просто не было. Менеджер яхтпаркинга смуглая девушка Алиша с улыбкой шире, чем у Джулии Робертс, и юмором острее, чем у персонажей Вупи Голдберг, пошла ему навстречу без требования поручительств и надежной кредитной истории. Он заплатил налом за год вперед, и место нашлось. Алиша лично провела его к месту на пирсе и на следующий вечер, после работы, зашла к нему — справиться, все ли устраивает. И задержалась до утра.
Он жил под легендой одинокого человека и со временем полностью вжился в роль. Для полноты и достоверности образа следовало бы еще завести лабрадора или золотистого ретривера, но Алехин не хотел светиться, прогуливаясь, как многие местные собачники, вдоль главного канала марины. Да и зачем ему собака? Он сам Бульдог. По крайней мере, очень долго служил на этой должности — и в отличие от прежнего имени, это, намертво приставшее к нему когда-то в другой жизни, прозвище не мог забыть, сколько бы раз ни менял паспорта и банковские реквизиты.
Месяц назад, впервые за три года, слушая шорох прибоя и шелест пальм, Алехин наконец даже не поверил, а нутром почувствовал, что его тянувшийся из далекой России след начал замерзать. И, взвесив все «за» и «против», связался через доверенного посредника с Лондоном.
Он все рассчитал до мельчайших деталей — он и Лена с детьми летели на Самуи в разные дни разными рейсами, зарезервировав разные отели. Они должны лететь сегодня, он — послезавтра. И вот его прекрасный foolproof[4] план начинает сыпаться, еще не начавшись? Пока не выяснит, что это за Галя и кто может за ней стоять, он просто не имел права никуда лететь.
Галю Алехин подцепил абсолютно случайно. В баре отеля «Ритц Карлтон», недалеко от марины, куда открыт доступ для всех и где был камин высотой в человеческий рост и уютные глубокие диваны с красно-желтыми накидками. Вернее, что гораздо хуже, она подцепила его. Ясно было одно: Галя не была похожа на проститутку, что еще больше настораживало. Девушку по вызову в Лос-Анджелесе, впрочем, как и везде, опытный глаз русского опера Алехина мог распознать с первого взгляда.
Однажды, больше из любопытства, чем от одиночества, Алехин позвонил в escort service[5]. Предварительно убедившись, что номер начинается на «310» (префикс Беверли-Хиллс), он сказал:
— I need a good-looking Russian-speaking girl.
— Bilinguals are sixty-five dollars extra[6], — проинформировал мужской голос на том конце.
— Sixty-five only? — уточнил Алехин. — Not seventy-five?
— No, sir. Sixty-five only, — подтвердила трубка. — For you, sir.
— Ok, then go fuck yourself.
— Sir! Sir! You misunderstood me. For you…
— Ok. Write down my address…[7]
В разговорном английском за год в Калифорнии он «наблатыкался» вполне, правда, и база у него была неплохая: Алехин учился в спецшколе № 13 Ебурга, знаменитой на всю Россию тем, что в свое время английский там преподавали лучше, чем в МГИМО. И не по одним только советским учебникам. В удивительной школе тогда работали еще более удивительные преподаватели из тех самых белоэмигрантских «шанхайцев», которые выросли в Китае и потом, после смерти Сталина, имели неосторожность вернуться на историческую родину, а родина их дальше Урала не пустила. Может, так и к лучшему. Могли бы к стенке поставить. Сережин учитель английского языка Юрий Петрович Бородин вырос в Шанхае в семье белоэмигрантов и с рождения говорил на трех языках: китайском, английском и русском. Его семья осела в тогдашнем Свердловске. В 60-х Бородин устроился учителем в школу и начал обучать детей родному английскому. Неудивительно, что у многих, включая Сережу, английский в исполнении Бородина стал любимым предметом. На уроках и вне класса Юрий Петрович разговаривал с учениками только по-английски. Ни одного русского слова. Никогда. Словно преподаватель, который при желании мог процитировать весь «Серебряный век» русской поэзии, не знал и не понимал русского. Классические драмы Шекспира его ученики с удовольствием заучивали на оригинальном шекспировском языке! Для этого в школе был создан целый английский театр. Репетиции перемежались с классами сценической речи и уроками настоящего классического фехтования — от того же Бородина. Каждый год в апреле — мае устраивались театральные фестивали. Сережа Алехин так увлекся театром, что всерьез подумывал о том, чтобы после школы податься в артисты. Алехин на всю жизнь запомнил, как мечтал сыграть Ромео. Правда, не только из-за своего увлечения языком, но и потому, что был влюблен в Марину Авдееву — Джульетту. Однако, увы, ему досталась тогда лишь роль Джеффри Хиггинса в «Укрощении строптивой». Сердце его разбилось, как тогда казалось, навсегда. В любом случае, на сценической карьере был поставлен жирный крест. Вот так — хоть упустил Джульетту и не стал артистом, зато любовь к английскому сохранил навсегда.
Исколотый татуировками худой филиппинец привез модель-неудачницу.
— You can’t have sex with our girls, Mister. We’re a registered legal business, we don’t want problems[8], — скороговоркой пробормотал он обязательную ритуальную мантру и, взяв депозит, уехал.
Общение с проституткой на полчаса вернуло Алехина в его прежнюю жизнь и профессию, по которым он иногда испытывал нечто вроде ностальгии.
— Тебя как зовут-то?
— Снежана.
Алехин брезгливо поморщился. Он ждал чего-то подобного — Снежаны-Анжелы-Кристины.
— Давай без творческих псевдонимов.
— Анжелой меня зовут по паспорту, — соврала моделька и скосила глаза в угол.
Оба засмеялись.
Дальше в ходе разведопроса с пристрастием уже в популярном клубе «Солт» на свет вылезла нехитрая история. Девушка сама из Зеленогорска, подруга познакомилась в Интернете с амером и переехала сюда, сделала ей вызов, получила отказ, но тут отменили визы в Мексику, и она взяла билет до Тихуаны. Осветлила волосы, чтобы на границе не цеплялись; подружка и ввезла ее через Сан-Диего — две блондинки на хорошей машине, — никто не остановил.
Врет, понял Алехин, должны были ID в любом случае спросить. Потом у Анжелы все было хреново — актерского таланта не обнаружилось, за массовки студии платят пятьдесят долларов в день, а на это не прожить.
— Да, нет повести печальнее на свете, чем повесть о минете в туалете, — закрыл тему Алехин.
Расстались они друзьями. Алехин наградил ее сотней сверху. Она, слава богу, не наградила его ничем. Проституток подполковник больше не вызывал и ругал себя нещадно, что ради тупого мужского каприза так подставился. Хорошо, что все обошлось.
И вот теперь черт его дернул вляпаться с Галиной.
* * *
Она сидела в баре в углу, недалеко от рояля, за которым одетый в какой-то голливудский реквизит, от ботинок до бабочки, тапер, зализанный под Фрэнка Синатру, отвязно импровизировал. На вид ей было около тридцати, возможно, больше. Светлые волосы, коротко стриженные. Белая, расстегнутая до грудной цензурки блузка, джинсики с дырками на коленях. Губы тонкие, ненакрашенные, и тоненький чуть задранный вверх, как у мальчишки, носик. Она окинула взглядом бар, посмотрела на часы, заказала себе еще одну Frozen Margarita[9] и вновь огляделась. Ее взгляд задержался на нем — смуглом незнакомце в солнечных очках, натянутой на брови бейсболке Clippers, c аккуратными усами и бородкой. (В прошлой жизни Алехин ни бороды, ни усов не носил, но теперь, отпустив их, типа, для конспирации, привык и даже считал, что растительность на лице ему идет.)
Под нарочито изломанный тапером ритм Strangers In The Night[10] она встала, подошла к его столику и, улыбаясь, спросила с акцентом стюардессы на рейсе «Аэрофлота»:
— Pardon me, please, sir. Аre you Andrew?
— No. Why? — ответил Алехин практически без акцента.
— Oh, sorry… I am to have a blind date here with a guy named Andrew and he is like not showing up.
— Ok. No problem at all. Why don’t you call him then?
— I did. His phone is dead. But thanks so much. I am sorry for misunderstanding. Have a great day.
— You too[11].
Она вернулась к своему столику. Позвонила еще раз куда-то. Не дозвонилась и вновь принялась за растаявшую «Маргариту».
Алехин прикончил свой «Джемисон» и поднялся, чтобы уйти, но тут мент внутри его задал вопросы, на которые у него не было ответа. Сердце заныло, голова заболела. Алехин сел и заказал себе stoly on the rocks[12].
Эндрю все не появлялся. Девушка больше не звонила, а пила уже третью «Маргариту», ни разу не взглянув на него.
Алехин напрягся, понял, что не может уйти, не выяснив все до конца. После всех предосторожностей лететь в Таиланд на встречу с женой и детьми — с «хвостом»? До долгожданного рейса — два дня. Разобраться надо сейчас, подумал он. Вызвать огонь на себя. То, что она не проститутка, Алехин понял с первого взгляда. Роста невысокого. Ненакрашенная. Глаза веселые, взгляд немного застенчивый. Улыбка с неровными зубками, но открытая и искренняя. Такие девчонки-травести в их школьном театре играли Тома Сойера. Появись сейчас Эндрю — нет вопросов… Эндрю не появлялся, а девушка не уходила.
— Извините, — сказал по-русски Алехин, приложив ладонь к бейсболке и улыбнувшись. — Похоже, Эндрю не придет. Могу я присесть и угостить вас?
Последующие два часа в баре и полчаса в постели в каюте «Азимута 55С» ясности не прибавили.
Галя вела себя вполне непринужденно, то есть реалистично стонала, вскрикивала в правильных местах и кончала от души. Родом из Хабаровска, она приехала в Америку с подругой, музыкантшей и лесбиянкой. Они вместе прожили шесть лет. Потом подруга изменила ей с виолончелисткой из эмигрантского квартета, где играла на скрипке. Галя уверяла, что сама она не лесбиянка, а просто «влюб-ляется в человека, а не в женщину или в мужчину». История хорошая, оригинальная, непридуманная или, наоборот, придуманная очень убедительно. Из своего опыта Алехин знал, что легенды преступников с артистическими данными и воображением, как и, наверное, легенды шпионов, да и самого сегодняшнего Алехина, должны изобиловать маленькими, на первый взгляд, незначительными деталями, например про грудь, в которой, как она объяснила ему в самом начале постельного получаса, у нее нет эрогенных зон, «и настраивать приемник таким образом необходимости нет».
«Или я чересчур подозрителен, или придется проверить на тоненького», — подумал он, возвращаясь в спальню и приглушив кондиционер. Можно, конечно, провести «доверительную беседу», то есть как в свое время старые прожженные опера учили его, салагу, азам ремесла: доверительно наклонившись к подозреваемому, резко ударить его полуоткрытыми ладонями по ушам. Это, как правило, сбивает объект с толку, и разговор становится конструктивным. Еще если вспоминать старое, то очень хорошо работал многократно повторяемый вопрос в сочетании с нажимом пальцами в заушные впадины. Здесь это может не сработать. Девушка заплачет, начнет орать: «Полиция!» И что тогда? Свернуть ей шею и утопить тело, так и не добившись признания?
Перебирая в уме эти, когда-то не совсем бредовые варианты, Алехин вошел в спальню — и остолбенел. На огромном экране телевизора он увидел себя — крупным планом, только без усов и бороды. «What the fucking fuck?[13] — промелькнуло в голове. — Этого не может быть!» В чем дело? Галя поставила какое-то видео, пока он был в ванной?
— Постой, постой! — почти закричал он. — Крутани назад! Дай-ка мне пульт!
Он прокрутил новости назад — и, действительно, вновь увидел то, что увидел. То есть себя. Одетого не пойми во что, чуть ли не во фрак. После того как он пару раз проиграл этот эпизод со звуком, мистерия раскрылась. Престижную журналистскую премию в Нью-Йорке вручали московскому корреспонденту «Лос-Анджелес геральд» Сергею Прохорову. Прохоров, о котором до сегодняшнего дня Алехин и слыхом не слыхивал, выглядел как его двойник, его однояйцовый близнец, хоть и с идиотской прической, вернее сказать, без нее.
— Ты тоже заметил, как похож? — с удивлением спросила Галя. — Отрасти он бороду и усы, и вылитый ты. Ты его знаешь? Родственник? Брат?
— Первый раз вижу, — Сергей действительно был так ошарашен своим внешним сходством с этим незнакомцем, что на секунду-другую отвлекся от своих подозрений.
Алехин, представившийся Гале в начале вечера, как и должен был, Гришей, менеджером по продаже винтажных автомобилей, сел на кровать, вошел в Интернет на айфоне и сразу же нашел свою копию. Прохоров был на два года старше и работал на американцев в Москве последние двадцать лет.
«Чудеса в решете, — вспомнил он любимое восклицание своей тетки и спохватился. — Не отвлекайся, Сережа. С Галей нужно решать здесь и сейчас».
— Я выйду на минутку за почтой, — сказал он, подошел к встроенному шкафу, снял халат, надел джинсы и майку.
Пока Галя продолжала смотреть телевизор, вновь прокручивая эпизод с его «близнецом», Алехин быстро вытащил из тумбочки всегда заряженный девятимиллиметровый «Глок G43» и, резко нагнувшись, положил его под самый край кровати.
Потом, быстро перекрестившись правой рукой, средним и указательным пальцами левой нащупал уплотненную точку размером с дайм под левой ключицей и, глубоко вздохнув, нажал на нее.
Галя, услышав звук падения позади себя, оглянулась и, закричав «Гриша, Гриша! Fuck![14] Fuck! Что с тобой?!», бросилась к нему.
Гриша лежал на спине без движения. Глаза его были широко открыты. Взгляд стеклянный. Стоя над ним на коленях, девушка нагнулась и приложила ухо к его губам. Дыхания не было. Взяла его правую руку. Пульса не было.
— Е… твою мать!!! — совсем иным голосом закричала Галя. — Fuck!!!
Она вскочила, стала открывать шкафы и шкафчики, нашла его кошелек, вытащила оттуда несколько кредитных карт и небольшую пачку стодолларовых купюр и дрожащими руками засунула их себе в сумочку. «Молния» на сумочке никак не закрывалась. Она дернула ее что есть силы и сломала язычок на застежке.
Потом молниеносно оделась и ткнула пальчиком в кнопку на мобильнике.
— Быстрее, быстрее! Он не дышит! — закричала она в трубку по-русски, как только ей ответили, и, бросив телефон на кровать, выскочила на палубу. Стоя под изогнутым пластиковым флайбриджем, она сжимала и разжимала перед собой кулачки и напряженно вслушивалась в ночные звуки под простирающимся над ней до горизонта звездным калифорнийским небом.
Глава четвертая SCOTCH® STRETCHABLE TAPE
Лос-Анджелес. Июль
В службе спасения 911 не принимают вызовы на русском. Даже в Лос-Анджелесе. Запишут все, конечно, как водится, до единого звука. Переведут и отреагируют. Но для начала адрес спросят. У кричавшей в панике по-русски Гали ничего не спросили. Они и так знали адрес. Их было двое.
Не прошло и пяти минут, как они поднялись на яхту и спустились в спальню. Сначала один, затем другой. Высокие, плечистые, смуглые, но не латиносы. Один, помоложе, в черных очках, был худой, как жердь, в черной приталенной рубашке, заправленной в черные джинсы в обтяжку, и в черных же блестящих кожаных ботинках с длинными острыми, чуть загнутыми вверх носами. Второй — постарше, тоже в солнцезащитных зеркальных очках, был в широкой гавайской рубахе навыпуск с орнаментом из красно-синих попугаев и в темных широких слаксах. Он выглядел помощнее и грузнее первого и с заметным брюшком. Уже на лестнице внутри яхты достали пистолеты. Они не были похожи ни на агентов ФБР, ни на полицейских. Еще меньше на бригаду службы спасения. Они даже не были похожи на men in black[15] без костюмов и без галстуков.
Чтобы успокоить скулящую на грани истерики девушку, спустившуюся с ними в каюту, тот, что помоложе, врезал ей вполсилы, хоть и наотмашь, ладонью по щеке. Галина упала на постель, закрыла лицо руками и заскулила еще громче — с рывками, с дрожью, сотрясаясь всем телом. Черный наклонился, отвел ее руку и негромко и спокойно спросил о чем-то на незнакомом Алехину языке. Галина в ответ сквозь всхлипывания пробормотала что-то столь же короткое и непонятное.
Тот, что с попугаями, склонился над Алехиным, потрогал ему шею, прислушался к груди. Сердце не билось. Дыхания не было. Он покачал головой, выругался по-русски и затем прорычал напарнику короткую и гортанную команду на их языке. Алехин, раскинувшийся на полу с остановившимся взглядом, отчетливо слышал все и уловил в этой фразе обращение, которое звучало как имя, — Карó, с ударением на последний слог.
«Армяне, — понял Сергей. — Но какие? Местные бойцы? Связи Книжника? Все-таки достали…»
Пока они не обнаружили пистолет, нужно было оживать. Приходить в себя и задавать визитерам наводящие вопросы. Но, как Алехин ни старался, ему никак не удавалось сделать тот самый спасительный глоток. Горло пересохло. От волнения губы моментально покрылись сухой корочкой.
«Этого еще не хватало, — подумал Сергей, в очередной раз судорожно пытаясь сделать необходимое глотательное движение. — Вот ведь мудак! Нужно было перед «смертью» выпить хотя бы стакан воды!»
Между тем Галя, или как там ее звали на самом деле, сидела на кровати, поджав под себя ноги, прижимая обеими руками сумочку к груди, а прибывшая по ее сигналу бригада быстрого развертывания уже успела перевернуть спальню вверх дном. У старшего, которого, как выяснилось из Галиного слезного обращения, звали Арсен, вдруг громким начальным аккордом «Ламбады» зазвонил телефон. На вопросы звонившего тот отвечал сбивчиво и растерянно. Наконец, обращаясь к собеседнику, толстый назвал его Арчик-джан.
Все. Сомнений не было — Алехин нарвался на армянскую мафию.
Они что-то конкретно ищут. Что? Из всего услышанного «мертвец» на полу сначала разобрал только четыре матерных слова на русском, но в конце разговора мысленно поблагодарил Арсена за то, что тот перешел на доходчивый английский.
— Dump the fucker? — переспросил Арсен. — Оk, Archie. As you say[16].
Алехин напряг горло еще раз. Безрезультатно. Теперь уже Арсен и Каро что-то громко обсуждали между собой, оживленно размахивая руками и широко разводя пальцы при каждом восклицании.
— Оk, start the fucking engine! Let’s get the fucking boat out of the marina![17] — прорычал, наконец, Арсен на английском, давая понять, что дискуссия окончена, закурил сигарету и вышел из спальни в гостиную.
«Миксаная братва, — понял Сергей. — Ары ливанские и советские. Матом шпарят, а с паханом на английский переходят. Местные. Так Книжник в деле или нет? На простое ограбление не похоже. Слишком мандражисто — прямо землю носом роют».
Алехин услышал звук распахнувшихся дверей, стук падающей мебели. Обыск продолжался.
Каро побежал на палубу.
Оставшись в спальне одна, Галя вытерла слезы. Собрав силы, села на колени перед Сергеем, перекрестилась, что-то шепотом запричитала и правой рукой осторожно закрыла ему глаза. И тут она заметила пистолет — под кроватью, прямо рядом с правой рукой мертвеца. Быстро вытянув руку над неподвижным телом, схватила «Глок», положила в сумочку и вновь попыталась закрыть «молнию» трясущимися пальцами. У нее снова не получилось. Выругавшись по-русски, она вытащила пистолет, с размаху швырнула его на пол и выскочила из спальни. «Глок», прокатившись под кроватью, оказался в другом конце каюты.
Наверху, в рубке, Каро вновь что-то прокричал вниз Арсену. Тот бегом поднялся на палубу. Некоторое время было слышно, как оба орут, перебивая друг друга. Затем их гортанную ругань заглушил прерывающийся рык моторов. Двигатели то заводились, то глохли, сотрясая весь корпус яхты. В конце концов успокоились и завелись.
Распростертый на полу спальни Сергей все это слышал, все, кроме армянского, понимал, но, как ни силился, не мог прийти в себя. Что-то пошло не так. Совсем не так, как он задумал. Между тем «стремительный и хищный, с почти вертикальным форштевнем», как значилось в рекламном проспекте, силуэт «Азимута 55C» рывками отделялся от пирса.
Армяне, возможно, были правильными бандитами, передовиками, как сказали бы старые советские менты, криминального производства, но мореплавателями они оказались никудышными.
На «Азимуте» стояли три силовые установки Volvo Penta IPS 600 суммарной мощностью 1305 лошадиных сил. На панели управления есть кнопка Blower, которую обязательно нужно нажать перед тем, как заводить моторы. Тогда включаются мощные вентиляторы, вытягивающие из машинного отделения газы — смесь паров топлива, которая может взорваться, особенно если моторы сразу не заведутся. Для симметрии используются два больших топливных бака с обеих сторон; если они наполовину пусты, то тоже могут сдетонировать из-за накопившихся в них паров топлива, смешанных с кислородом. Яхта заводится двумя ключами. В ней два мотора — port иstarboard. Port — это правый мотор, и вся сторона тоже называется port side. Starboard — соответственно, левый. Иными словами, если моторы не схватываются сразу и требуется подкачка, то в закрытом моторном отделении воздух замещается взрывоопасной смесью. Именно это, судя по звукам, и происходило.
Сергей был не в состоянии подняться в рубку, чтобы в доступной форме посоветовать Каро и Арсену, прежде чем грабить и угонять яхты, разобраться с матчастью и обучиться хотя бы элементарным азам кораблевождения. Скорее всего, весь инструктаж в таком случае свелся бы к мордобитию и перестрелке, а, по крайней мере, один «язык» был нужен ему живым. Пока обездвиженный Алехин предавался этим печальным размышлениям, лежа на полу в спальне, яхта, набирая обороты, уходила в открытое море.
Алехин помнил, что баки неполные и могут сдетонировать. Как было подробно описано мелким шрифтом в правилах пользования, «заблокированный входной патрубок ограничивает доступ охлаждающей забортной воды, что ведет к перегреву двигателя, плавлению пластиковых труб, крыльчаток и изоляции проводов, что, в свою очередь, ведет к короткому замыканию». Сергей это знал. Каро с Арсеном — точно нет.
Да и откуда выходцам из далекого горного края, рядовым бойцам самого крутого, семизвездочного армянского преступного синдиката в Калифорнии — Armenian power[18], знать о наличии в моторном отсеке двух небольших кранов, при открывании которых обеспечивается доступ забортной воды для охлаждения двигателей (как радиатор в машине, только тут весь океан — радиатор). Если их не открыть, мотор будет медленно перегреваться и с большой долей вероятности может взорваться уже в океане.
Последним усилием воли Сергей напряг горло, попытался глотнуть и вернуться к жизни. Раньше ему это удавалось с неизменным успехом.
Первый раз он «умер» ровно десять лет назад — барахтаясь в воняющей дерьмом воде сливного канала в богом забытом углу Тверской области. Глотать эту воду было очень неприятно, но чего не сделаешь, чтобы воскреснуть, смертью смерть поправ. «Погиб же на боевом посту» майор Сергей Алехин, выполняя свой служебный милицейский долг.
Тверская область. Десять лет назад
Алехин с детства был романтиком. Читал правильные книжки — про таинственный остров, всадника без головы и благородных ментов. Отчасти поэтому и пошел в опера после окончания Горного института в родном Ебурге. Ну и чтобы от армии откосить. Пригласил его к себе в районную ментуру земляк — Антон Слуцкий, с которым они жили в одном дворе, играли в одной школьной футбольной команде и вместе с остальными пацанами «с раёна» мутузились до смертоубийства с «парковыми». На улице Луначарского была почта, и был, соответственно, «почтовый двор», по соседству с которым и выросли Антон с Серегой. И были ребята из района ЦПКиО. Их звали «парковые».
Антон, бывший двумя годами старше, начинающий каратист и боксер, отбил истекающего кровью Алехина у пятерых «парковых», которые уже приготовились забить того насмерть ногами и штакетинами.
Потом через двоюродного дядю, генерала МВД, Антон перетащил Алехина за собой в Москву, где тот окончил вечерний юридический, одновременно продвигаясь, опять же не без помощи Антона, по карьерной лестнице. Со временем он стал чувствовать себя частью этого холодного, как трофейный гранит на Тверской, злого, недружелюбного города, каким он всегда был и оставался для Сергея, — мегаполисом, населенным тачками, проститутками, наркоманами и бандитами.
Скоро отношения двух приятелей переросли в настоящую ментовскую дружбу, своего рода особое явление, о котором написаны целые романы, например про Жеглова и Шарапова. Антон с Сергеем хоть и не были похожи на этих героев, но, как и отчаянные ловцы «черных кошек», всегда были готовы и даже не раз пытались друга за друга жизнь отдать, — по счастью, всякий раз безуспешно.
Потом романтика закончилась. Антон пошел на повышение — в область, куда, снова-таки, перетащил за собой товарища по оружию. Ну и в области, на свежем воздухе, друзья, что называется, развернулись и поднялись. Вместе с местным прокурором и главным эфэсбэшником они раскрутили подпольный игровой бизнес, а затем и подмяли под себя всю наркоту, контрабанду и проституцию. И, как говорится, стали жить-поживать и добра наживать, достигнув степеней известных в правоохранительном бизнесе. Ментовская карьера, если ты не дурак в погонах, состоит из двух половин: во время первой ты рискуешь жизнью, ловишь плохих парней и перебиваешься с хлеба на квас; зато во второй, если повезет и есть способности, делишь окружающий мир с теми же плохими парнями, покупаешь «Мерседес», дом, отдаешь детей в хорошую школу, а жену — в консерваторию, и едешь отдыхать на Кипр с подругой.
В тот момент, когда Сергей Алехин только еще приближался к пику первой, героической, части своей карьеры, ему довелось выйти на след самого страшного серийного убийцы в истории постсоветской России.
В многотомном деле было пятьдесят три трупа. Детей школьного возраста, от десяти до двенадцати лет, — мальчиков и девочек, и молодых женщин, задушенных упаковочной лентой, изнасилованных, как писалось в протоколах, «в извращенной форме» и изуродованных напоследок особым способом, фирменным знаком преступника. У каждой из жертв, пока они еще были живы, маньяк начисто выскабливал левый глаз. Чем-то вроде заточенной стальной ложки, размером с десертную, заключили криминалисты. Все убийства пришлись на последние два года. Маньяк орудовал в двух областях — Московской и Тверской.
Антон был старшим в гигантской и с каждым новым трупом все более разрастающейся следственно-оперативной группе, что вела дело Офтальмолога — так окрестили изувера в их убойном отделе. Которое, в отличие от дела Чикатило, Фишера и других монстров советских времен, так и не было предано огласке. Оно было «на прямом контроле» у президента, и тот лично распорядился «не пугать граждан ужастиками». Мол, их и так «сверх нормы» по телеку. Сергей был в группе вторым после Антона, и для обоих это было в прямом смысле делом чести. Тогда еще это понятие для обоих что-то значило.
Пятьдесят три тела было найдено и опознано. Среди них — шесть молодых женщин. Все с рыжими волосами. Кроме того, за этот период без следа пропало еще сорок шесть детей и подростков. В три раза больше, чем за предыдущие два года. По пропавшим женщинам точной статистики не было. По Москве уже поползли леденящие душу слухи. Слуцкий с Алехиным требовали предать дело огласке, чтобы постараться хотя бы предотвратить новые исчезновения и, как говорил на последнем оперативном совещании сам министр, «бесчеловечные убийства». Но им было сказано твердое «нет».
— Наверху сугубо против, — заявил министр. — Занимайтесь своим делом. Ищите его. Чем быстрее найдете и обезвредите изверга, тем больше спасете подрастающего поколения.
Вышел Сергей на Офтальмолога по упаковочной ленте, использовавшейся как основное орудие убийства. Во всех убийствах маньяк применял один и тот же вид ленты — Scotch® Stretchable Tape. От обычного он отличается тем, что продолжает сжиматься и после того, как им, к примеру, обернуть горло обессиленной жертвы. Если напрячь мышцы шеи, то человек, находящийся в сознании, может сдержать сжатие, а без сознания — нет. Тем более ребенок. Как правило, все жертвы Офтальмолога к этому моменту были без сознания и просто медленно угасли по мере сдавливания горла лентой.
В этом смысле Офтальмолога можно было назвать маньяком-гуманистом, как однажды мрачно пошутил Антон. Сергею было не до шуток. Он вцепился в это дело, как бульдог, и выяснил в конце концов, что лента эта в открытую продажу не поступала. Небольшая партия ее была однажды завезена в Россию вместе с немецким оборудованием, которое применяется на промышленных насосных и очистных станциях. В Европе этот тип скотча используют в основном для особенно крепкой упаковки, но он также хорош для электрической проводки в зоне повышенной влажности — продолжает стягивать контакт, выжимая воду.
— Сережа, мы ищем даже не иголку, а клеща в стоге сена, — однажды в сердцах заявил ему Антон, которому теория с лентой с самого начала показалась пустой тратой времени. — Потому что клещ все время ползает, кровь ищет, и лентой твоей его хер поймаешь. Его кровью ловить надо. На живца.
Несовершеннолетних «живцов» в автобусах и электричках, по задумке Антона, изображали четыре девочки из школы милиции, на которых школьная форма сидела, как на звездах из домашнего порно. Так что на второй день пришлось их переодеть в «гражданку», которая по стилю была не намного скромнее, чем предыдущие наряды. С девушками в транспорте разъезжал целый батальон оперов. Офтальмолог на «живцов» ни разу не клюнул, хотя к девушкам каждый день приставали многие пассажиры, даже вполне трезвые, о чем потом очень быстро и очень искренне сожалели.
Оставшись в одиночестве, никем не понятый со своей лентой, Сергей продолжал лично таскаться двадцать четыре часа в сутки по подмосковным и тверским насосным и очистным. Он уже подумывал плюнуть на это бесперспективное занятие, пока не разговорился с начальником смены очистного комплекса завода по производству азотных удобрений в пригороде Твери. Разговор состоялся в конторском помещении. Мастер ленту узнал и подтвердил, что им поставили четыре рулона вместе с новыми немецкими фильтрами три года назад. Тогда у них было два наладчика оборудования, работающие, в частности, и с этой лентой — Козлов и Сыромятников. Но Козлов месяц назад утонул на рыбалке на реке Медведице, где они, кстати, с Сыромятниковым вместе и были.
— Пошел купаться, здорово поддавши, и утонул, — рассказывал мастер. — Тело так и не нашли. У Сыромятникова теперь сменщик Кургузов. Но тот в больнице лежит с переломом ноги. С дерева упал. С березы. Веники резал.
По словам мастера, наладчики работают посменно: сначала один — два дня по двенадцать часов, затем другой. Потом по два дня отдыхают. Ленту он сам видел у них в слесарке. Ключа от нее, кроме них, больше ни у кого нет.
— Егор сегодня на дежурстве, — закончил мастер. — Можете с ним поговорить. Сейчас я его вызову.
— Не надо, — остановил его Алехин. — Я сам к нему зайду. Где это?
— А вон она, слесарка, — мастер в окно показал на небольшое, стоящее в метрах пятидесяти от конторы, одноэтажное здание из желтого кирпича.
Алехин остановился на полпути, когда почувствовал, как у него потянуло под ложечкой. Так бывало всегда, когда он брал след. Вернувшись в контору, сказал мастеру не поднимать шума и оставаться пока здесь, а сам вызвал группу захвата.
Антон без особого оптимизма в голосе сказал, что приедет лично, и попросил подождать пару часов.
Сергей сел пить чай с мастером, не выпуская из поля зрения дверь слесарки.
Сыромятникову было тридцать четыре года, рассказал мастер. Нелюдимый, неженатый, живет в Твери с матерью. Мало с кем общается. Но заядлый охотник и рыбак.
Ожидание затянулось. Уже вечерело. Антон перезвонил, сказал, что группа торчит в пробке на Ленинградке перед Солнечногорском, попросил еще «малька потерпеть» и ничего без него не предпринимать. Сергей пообещал, но в конце концов не выдержал, снял «Макаров» с предохранителя и прогулочным шагом, руки в карманах, пошел по тропинке, протоптанной среди заросшего травой пустыря, к слесарке.
Когда до желтого здания оставалось метров двадцать — двадцать пять, дверь слесарки, оббитая проржавевшей жестью, отворилась, оттуда вышел высокий худой человек, одетый более чем странно для теплого безоблачного июльского вечера. На нем была темно-коричневая фетровая шляпа, темные очки с широкими, закрывающими треть лица стеклами и длинная тонкая, зеленого маскировочного цвета плащ-накидка от дождя. Человек слегка прихрамывал на левую ногу.
Не поднимая головы, глядя себе под ноги и деловито напевая вполголоса какую-то знакомую песню то ли из мюзикла, то ли еще откуда, словно не замечая идущего навстречу Алехина, незнакомец обошел его слева и продолжил было путь, когда Сергей обернулся и окликнул его: «Простите, товарищ… Вы не Сыромятников?»
Незнакомец остановился, повернул голову почти на сто восемьдесят градусов и после едва заметной паузы буркнул: «Нет», отвернулся и продолжил путь.
— А можно ваши документы посмотреть? — неожиданно продолжил Алехин, хотя спросить хотел совсем другое.
В этот момент к конторе на двух машинах уже подъезжали Слуцкий с оперативниками. Алехин не видел их. Он больше не видел ничего и никого, кроме Офтальмолога перед собой. Сомнений, что это и был маньяк, у него не было. Хоть и выглядело все это даже для самого Алехина как-то глупо и ненатурально. Как, к примеру, встретиться в каком-нибудь зачуханном Лыткарино лицом к лицу с настоящим киношным злодеем из «Молчания ягнят» или «Шерлока Холмса». Весь этот дурацкий опереточный прикид со шляпой, плащом и очками, однако, не сбил его с толку, хоть и немного отвлек.
— Да, конечно. Сейчас, — незнакомец остановился, развернулся и поспешил назад, к Алехину. На ходу он сунул руку во внутренний карман пиджака под плащом и еще ускорил шаг.
Заточенная, как бритва, стальная ложка оказалась в руке Сыромятникова быстрее, чем «Макаров» — в руке Алехина. Маньяк метил в сонную артерию, но чуть-чуть промахнулся. Сталь чиркнула майору по горлу. От резкой боли Алехин вскрикнул и упал на колено. И тут же получил второй удар — сверху вниз, в левую скулу. Ложка пропорола щеку, скользнув по верхней челюсти и выскочив между губ. От удара Алехин почти откусил себе язык. Его рот мгновенно заполнился кровью.
Сыромятников развернулся и кинулся бежать. Выдернув ложку и бросив ее на землю, Алехин вынул из-за пояса пистолет и сделал три выстрела по маньяку, убегающему в сторону широких очистных колодцев сразу за слесаркой. Стрелял по ногам. Хотел взять живым. Ни разу не попал.
Зажимая ладонью кровоточащую рану на шее, он ринулся вслед за Офтальмологом. Снова выстрелил. И снова промахнулся. И еще раз. И еще.
Офтальмолог перевалился через метровый забор и, огибая люки очистных слева, побежал к сточному каналу, который спускался по пологой горке прямо к Волге.
— Шывомяшников, штой! — с трудом ворочая распухшим языком, на сбившемся дыхании прокричал Алехин, отнимая руку от шеи и перепрыгивая через забор очистных.
У бордюрного бортика канала Алехин почти догнал запыхавшегося Офтальмолога.
Между тем спецназовцы, вооруженные автоматами, добежали до слесарки и увидели их. Слуцкий не давал приказа стрелять — Алехин был в секторе обстрела.
— Почему не подождал?! — Антон в сердцах бросил сам себе, уже успев опередить автоматчиков в тяжелых брониках и касках метров на пятьдесят.
Алехин не слышал его негодующего возгласа — он целился в маньяка.
Сыромятников, взобравшийся на ограждение сливного канала, представлял собой идеальную мишень. До него было метров двадцать пять, когда Алехин, задыхаясь, отплевываясь кровью и зажав рукоятку пистолета обеими руками, замер. Дыхание сбилось, рука дрожала. Темнело в глазах. Задержав дыхание и мысленно пожелав маньяку сдохнуть, Алехин нажал на спуск. В этот момент блеснул последний луч заходящего солнца — и ударил ему в глаза. Гильза выскочила из отражателя и шмякнулась в траву. Сергей не знал, попал он или нет. Стрелял уже по корпусу.
Покачавшись на бортике несколько секунд, Офтальмолог схватился рукой за правый бок и рухнул в мутный вонючий канал. Стремительное течение понесло его вниз, в Волгу. Шляпа слетела, и голова подпрыгивала в бурлящей воде, как мяч. Алехин, не раздумывая, прыгнул вслед за ним.
В самом устье канала, за сто метров от сброса, он поравнялся с Офтальмологом, обхватил его правой рукой за шею и начал душить. Офтальмолог отбивался, как мог. Они оба то исчезали, то вновь выныривали на поверхность.
Слуцкий приказал автоматчиками бежать вдоль канала к Волге, а сам прыгнул за Алехиным. Ростом на голову выше друга, косая сажень в плечах, мордастый, румяный, русоволосый, одним словом, былинный русский богатырь из серии «Мои первые книжки», — он ушел под воду, как бомба, подняв ниагарский водопад брызг, и, вынырнув, широкими и резкими саженками, на полкорпуса выскакивая из пенящейся мутной воды, поплыл вслед за Сергеем.
Солнце зашло. С каждой секундой становилось все темнее. Недалеко от берега в сторону Калязина медленно плыла огромная баржа, время от времени сипло гудя. К этому моменту мент и маньяк в своей отчаянной смертельной схватке были уже под водой. Офтальмолог слабеющими пальцами нащупал левую ключицу Сергея и попытался вырвать ее, чтобы ослабить бульдожью хватку опера.
Ничего у него не вышло, и маньяк, успевший здорово глотнуть отравленной воды, уже начал терять сознание, когда руки опера вдруг сами собой ослабли, глаза открылись под водой и замерли, остекленев. Сыромятников оттолкнулся руками и ногами от безжизненного тела Алехина, но запутался в своем плаще. В этот момент он напоминал гигантского морского ската, непонятным образом оказавшегося в Волге и опускающегося на ее дно.
Антон, наконец, достиг того места, где, оставив за собой воронку водоворота, исчезли под водой Сергей и Офтальмолог, и, набрав в легкие воздуха, нырнул. Вынырнул Слуцкий почти через минуту. Плывя на спине к берегу, он тащил за собой безжизненное тело друга. Двое спецназовцев, побросав оружие, кинулись в воду на помощь. Другие бегали по берегу, всматриваясь в темноту, с автоматами наизготовку. Маньяка нигде не было видно.
Сергей не дышал. Антон стал делать ему искусственное дыхание — рот в рот, как учили, — но у того в легких не было воды. Его друг не захлебнулся. Он просто умер. Сердце не билось. Нужен был открытый массаж или электрический разряд. Электрошокера ни у кого из экипированных под завязку спецназовцев не оказалось.
Антон стоял на коленях у неподвижного тела друга, глядя в небо, где уже можно было различить звезды. Спецназовцы, поснимав каски, стояли рядом. Все молча ждали вертолет.
Когда баржа, в сумерках похожая на кашалота, дала последний гудок и скрылась за поворотом, река словно встала. В абсолютной тишине полного речного штиля Сергей вдруг сделал громкий, с присвистом, вдох и задышал.
Сергей помнил каждую секунду своей смерти — как Антон вытаскивал его на берег, как делал ему искусственное дыхание, как рядом в это время надсадно гудела медленно проплывающая баржа. Он помнил все это так же ясно, как если бы был не самим собой, майором Сергеем Алехиным, а кем-то другим, кто сначала выключил его из привычной для него действительности, а потом снова — одним щелчком невидимого тумблера — в нее включил. Он не знал, кто все это с ним проделал, да и думать об этом было некогда.
— Я не мог, — засипел Сергей, обращаясь сам к себе, — не мог промахнуться…
— Серега, не бери в голову, — Антон обнял воскресшего друга обеими руками. — Ты молодец. Ты попал. Он не всплыл. Труп выловим, если сам не всплывет.
Водолазы искали тело Офтальмолога четыре дня. Не нашли. Течение Волги ближе к ее истокам совсем не такое, как возле Саратова, не говоря уже об Астраханской дельте.
На садовом участке Сыромятникова на пустыре рядом с сараем, больше похожим на собачью конуру, откопали еще двадцать четыре детских тела, доведя общий счет погибших от рук Офтальмолога до семидесяти семи.
В квартире маньяка в убогой «хрущевке» на окраине Твери нашли его выжившую из ума мать, холодильник с заплесневелыми и сгнившими продуктами, а в морозильнике — почерневшие от времени, закаменевшие куски мяса, которое оказалось на поверку бараниной. Ни одной фотографии Сыромятникова, даже детской, дома не обнаружили, как не нашли и ни одного документа с его фотографией. Жильцы дома, даже жившие с Сыромятниковыми в одном подъезде, тоже толком описать его не смогли. Даром, что соседи. Говорили, что ни он, ни мать ни с кем в доме не общались.
Школы, где он когда-то учился, больше не существовало, в ее здании вот уж несколько лет, как располагался колледж имени Картье-Брессона, где учили фотографировать свадьбы, корпоративы и похороны. Нашли, однако, бывшую классную руководительницу Сыромятникова. И она не смогла его вспомнить. Более того, в ее семейном архиве обнаружились фотографии всех ее классов, кроме одного. Того самого, в котором учился будущий маньяк.
В паспортном столе записи о получении паспорта гражданином Сыромятниковым, к удивлению, тоже не нашлось, как будто он его и вовсе не получал. Единственным документом, попавшим в распоряжение оперов, который подтверждал его существование, была копия свидетельства о рождении, обнаруженная в Тверском загсе. И все.
Утонул маньяк или спасся и сбежал — было неясно, но дети с того дня перестали массово исчезать. Ни одного детского тела, искалеченного в фирменном стиле Офтальмолога, найдено более не было. Через год маньяка посчитали погибшим. Дело, правда, не закрыли (по закону такие дела закрывают только по прошествии пяти лет). Но приостановили. Антона и Сергея представили к внеочередным званиям, повысили в должности и удостоили денежных премий (в цену ящика водки на двоих), и хотя действующих сотрудников именным оружием не награждают, однако для обоих по личному распоряжению самого президента сделали исключение. Его дарственная и была выгравирована на стволах: «За боевые заслуги». С подписью Самого. Предавать историю гласности было строжайше запрещено.
Антон с тех пор стал в шутку называть друга Горцем, то есть Бессмертным из знаменитого фильма с Шоном О’Коннери и кем-то еще. Шутка шуткой, но Сергей скоро на самом деле узнал, что он и есть в каком-то смысле Горец.
Через месяц после его чудесного спасения на месте кровоподтека под левой ключицей все еще оставался темный круглый синяк размером с рублевую монету, который стал плотным на ощупь, но безболезненным.
Однажды, совсем по другому поводу — уже с острой болью в пояснице, Алехин навестил своего старого знакомого, мануального терапевта, полковника медицинской службы Сергея Федоровича Глушакова, заведующего отделением рефлексотерапии в военном госпитале имени Мандрыко.
Они были знакомы уже лет пять, с тех самых пор как Сергей раскрыл банду домушников, ограбивших квартиру Глушакова, и помог вернуть хозяину почти все украденное. Глушаков был известен всей Москве как гениальный мануальщик. За один сеанс он мог привести в порядок любую спину или поясницу и, говорят, даже вправлял позвоночные грыжи. Кроме того, он был прекрасным иглоукалывателем и в свое время ездил к дружественным китайцам в Благовещенск на курсы акупунктуры.
Алехин заодно показал Глушакову свой странный синяк. Тот осмотрел его, медленно покачал головой, словно увидел злокачественное образование и осторожно надавил на пятно большим пальцем. Сергей осел и повалился на тахту. Глаза его остекленели, дыхание прекратилось. Пульс исчез. Глушаков совершенно спокойно склонился над ним и медленно и отчетливо произнес, глядя прямо Сергею в лицо:
— Сережа, я знаю, ты видишь и слышишь меня. Слушай внимательно. Попробуй глотнуть. Сделать глотательное движение. Глотай! Один глоток. У тебя получится. Давай, давай. Не ленись. Один глоток.
Обездвиженный и парализованный, Сергей напрягся и со второй или третьей попытки сделал-таки глоток. Сделал и задышал.
Глушаков был немногословен. Угостил его чаем и попросил приехать снова.
Через неделю они повторили опыт с тем же результатом. Потом еще и еще раз. Сергей снова и снова умирал и возвращался к жизни. Между четвертым и пятым сеансом он несколько раз легко, словно робот, самостоятельно отключался и возвращался к жизни уже у себя дома, чем однажды неимоверно напугал вернувшуюся из магазина жену, у которой случилась истерика. Пока она в отчаянии вызывала «скорую», муж «воскрес» сам.
Наконец, в последний его визит Глушаков усадил Алехина в кресло. Принес из кухни армянского коньяку с лимоном и, выпив с Сергеем по рюмочке, нарушив тем самым свой «сухой закон» после трех лет на Афганской войне, торжественно произнес:
— Ты, Сережа, конечно, можешь теперь выступать в цирке, зарабатывать приличные бабки и перестать ловить отбросов общества. Ну, а если серьезно, то передо мной сейчас сидит в добром здравии уникальный, один на сто миллионов, обладатель редчайшей двести девяносто шестой точки акупунктуры — точки жизни и смерти, или по-китайски «шенгси диань», — Глушаков даже написал название иероглифами — 生死 — на бумажке, которую торжественно вручил Алехину, как почетную грамоту.
Они выпили еще. Глушаков долго рассказывал изумленному Сергею про вселенную под названием «человеческое тело» и звезды и галактики в ней. В его случае речь шла о феномене, объяснить природу которого с точки зрения классической медицины невозможно. Состояние не коматозное и даже не пограничное, а скорее какое-то… запредельное. Кислород продолжает поступать в легкие. Человек продолжает находиться в полном сознании и отдавать себе отчет во всем, что происходит вокруг него. Он все слышит и все видит (в основном периферийным зрением — глаза открыты, зрачки не двигаются, не реагируют на свет или движение). С другой, внешней стороны, создается полное ощущение клинической смерти. При первичном осмотре дыхания нет, пульса нет, сердце не бьется. Но если не приходить в себя, то и продвинутые медицинские приборы в дальнейшем не способны фиксировать признаки жизни. Глушаков поведал, что истории известно множество таких ранее необъяснимых случаев. Нечто подобное, из серии трагических чудес, в свое время произошло с Николаем Васильевичем Гоголем, которого похоронили, а когда по какой-то причине вскорости эксгумировали, писатель, по слухам, лежал на боку. То есть очнулся в гробу и умер там уже по-настоящему, не в силах выбраться наружу. Человек приходит в себя или при повторном воздействии на точку, или совершая глотательное движение, единственное физическое действие, на которое он в данный момент способен. Невероятно, но факт. Это не летаргический сон, а нечто другое, чему нет разумного объяснения и что официальная медицина и наука отказываются признавать.
Было уже за полночь, когда, наконец, ошеломленный Алехин встал, обнял доктора, поблагодарил его и отправился восвояси. Больше они не встречались. Дома и на работе проштудировал в Интернете всю имеющуюся литературу по иглоукалыванию и летаргии, но ясности у него от этого не прибавилось. И с тех пор он держал свою тайну при себе, не поделившись этим открытием ни с Антоном, ни с женой, которую Алехин больше не пугал преждевременной кончиной и чудесным воскресением Лазаря.
Лос-Анджелес. Июль
Все шло к тому, что Сергею, если он немедленно не воскреснет, как учили, предстояло сгореть вместе со своей яхтой, пары горючего в моторном отсеке которой достигли критической концентрации и сдетонировали в тот момент, когда она наконец вышла в открытый океан, тем самым превратив береговую линию во второй горизонт.
Раздался взрыв. Яхту тряхнуло, как во время шторма. Потом после короткого затишья сверху, с палубы, стали доноситься жуткие вопли; похоже было, что кто-то из злодеев ранен или один из них улетел за борт. Кричали дуэтом, на два голоса — мужской и женский.
Алехин осознавал, что яхта горит и тонет, одновременно распадаясь на части. Но он ничего не мог с этим поделать. Он продолжал без движения и без дыхания лежать на полу и, как ни старался, так и не мог сделать необходимый спасительный глоток.
Глава пятая БУНКЕР
Москва. Июль
Стол длинный, метров шесть, не меньше. Массивный и холодный. Из камня. То ли гранита, то ли мрамора. В подвальном сумраке толком не разберешь. За столом — четверо, по одному с каждой стороны. Но главного видно сразу. Щуплый и лысоватый, с пустыми белесыми глазами, он сидит во главе стола со скучающим видом, медленными полукруговыми движениями головы разминая затекшую шею.
Остальные трое расположились треугольником с другой стороны стола, почти касаясь локтями друг друга, и поедают глазами старшего, хотя внешне они не выглядят моложе, скорее даже наоборот.
— Итак, покалякаем о делах наших скорбных, — главный начал встречу с цитаты из популярного фильма своего любимого режиссера.
Свет постепенно потух, как в кинозале, и за спиной говорившего засветился огромный, во всю стену, экран. На нем человек в туго перетянутой портупеей камуфляжной полевой форме без знаков различия, с глубоко посаженными зеленовато-водянистыми глазами и одутловатым лицом, на котором выделялись ухоженные щегольские усики, заметно грассируя, заявил: «В районе Снежного только что мы сбили самолет украинских ВВС. Предупреждали же — не летать в нашем небе. “Птичка” упала за террикон. Где-то за шахтой “Прогресс”. Жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали». Затем последовали кадры, на которых было хорошо видно, как с земли на горизонте поднимается сносимый ветром вправо огромный столб черного дыма.
Экран погас, и в зале воцарилась тьма. Одна за другой перед каждым из присутствующих, словно сами собой, зажглись свечи. Не электрические, а настоящие восковые. Где-то в потолке, в углу помещения, зашелестела вытяжка.
Неровные отблески пламени свечей искажали черты присутствующих до неузнаваемости. Все, кроме глаз. Говорили они негромко, но под сводами подвального потолка, будто в старинном винном погребе Шильонского замка, где Байрон от нечего делать выцарапывал заточенной ложкой свое бессмертное имя на скальном камне стены, голоса их звучали если не утробно, то гулко, незнакомо и зловеще. Словно говорили не люди, а копии Дарта Вейдера. Подвальные заговорщики-масоны говорили негромко, но их слова, несмотря на искаженные липкой акустикой средневекового подземелья голоса, были отчетливо слышны и понятны каждому из них. Причем чем тише говорил присутствующий на тайной вечере, тем отчетливее слышали его собеседники.
Окажись на столе игральные карты, а вместо свечей — канделябры, можно было бы принять их за картежников, гнущих, «Бог их прости, от пятидесяти на сто» в штоссе (он же фараон) ХIХ века (для обычной «пульки» все происходящее выглядело чересчур таинственно). Но ни игральных карт, ни тем более мела или каких-либо иных предметов в руках у собравшихся за столом не было. Все — часы, телефоны, ручки, даже расчески с носовыми платками и брючные ремни с ботинками — было сдано охране еще на первом пункте пропуска, на так называемой «Единице». На всех были теплые валяные тапочки. Каменный пол был с подогревом. Но все равно зябко. Их руки лежали на столе, хорошо различимые в отблесках горящих свечей. Главный Дарт Вейдер, наконец, нарушил тишину гулким эхом утробного мычания.
— Что это, я вас спрашиваю? Что это такое?
— Это министр обороны ДНР Белкин, — после паузы за всех ответил сидевший по правую руку от главного.
— Я не спрашиваю, кто это. Я спрашиваю, что это. Что он несет?! В смысле, кто разрешил?
В зале воцарилась мертвая тишина. В подобной ситуации одно мгновение тянется бесконечно, как в фильме ужасов или в страшном сне.
— Вы понимаете, вы отдаете себе отчет в том, что произошло и что этот полудурок сейчас несет? Почему это вообще оказалось на экранах, в Интернете и еще черт знает где?! Всего лишь час спустя после трагедии? — продолжил после затянувшейся паузы главный.
Не дождавшись ни от кого ответа, он некоторое время молчал. В помещении вновь образовалась тишина, только еще более мертвая, холодная, просто могильная. Было слышно, как участники вечери дышат.
— О том, почему вообще эта трагедия оказалась возможной, мы поговорим позже. А пока все, что я хочу услышать, — это кто выпустил этого идиота в эфир, если все здесь присутствующие уже через двадцать семь минут после произошедшего знали, что случилось и чей самолет там упал? Я хочу услышать хоть одно разумное объяснение этого очередного дебильного фак-апа, который сбил все наши планы, не говоря уже о том, что в катастрофе погибло черт знает сколько ни в чем не повинных людей — пассажиров, сами знаете какого, рейса.
— Если позволите, я мог бы поделиться некоторыми соображениями на этот счет, — наконец ответил самый молодой из участников совещания, сидящий по левую руку от старшего.
— Bitte tu mir einen Gefallen[19], — с нарочитым акцентом ответил по-немецки старший и сразу же с некоторой издевкой в голосе повторил по-английски с еще более заметным акцентом: — Please, be so kind to explain[20].
— Не было возможности сразу же связаться с вами. Вы плавали в бассейне. Когда стало ясно, что по ошибке, по трагической случайности был сбит другой борт, мы сразу же решили подстраховаться. На тот случай, если нам не удастся убедить мировое сообщество, что рейс Лондон — Бангкок был сбит ВСУ, Вооруженными силами Украины. Что на самом деле и произошло. А так… ну сбили ополченцы. Отбили у ВСУ ракетный комплекс и сбили.
Говоривший выпалил все это скороговоркой и громко выдохнул, как после глубокого нырка.
— Не кажется ли вам, любезный, что это слишком мудрено для мирового сообщества? — ответил вопросом старший.
Ни один из говоривших в обращении не использовал личные имена, отчества и, не дай бог, названия должностей. В таких беседах, особенно в подземном бункере, это было строго запрещено.
Любезный ответил молчанием. Старший воспринял это как согласие с высказанным им предположением. Так его учили много лет назад. Все, чему он тогда научился, работало до сих пор и — в этом он был совершенно уверен — будет работать здесь всегда.
— Хорошо, — в его голосе отчетливо прозвучала угроза. — А теперь пусть мне доходчиво объяснят, почему вообще был сбит самолет, летевший другим рейсом?
Эффект сказался мгновенно. Сидевшего за дальним концом стола грузного, с животиком и усами человека средних лет, к которому, собственно, и был обращен этот вопрос, передернуло уже от первого слова «хорошо». Главный говорил с мягкой, еле заметной шепелявостью, и в глубине подвала шипящие начинали присвистывать.
Его адресату вдруг, не к месту и не вовремя, вспомнился эпизод из детства: как он собирает с мамой морошку на болоте. И вдруг сквозь густой, но негромкий гул повисшей в воздухе мошки он отчетливо слышит свистящий звук у себя за спиной, поворачивается и в ужасе отпрыгивает назад, падая спиной на влажную, холодную и пружинящую кочку и роняя бидончик с ягодами. Перед ним на едко-зеленом мху, среди янтарных пятен зрелой морошки разлеглась здоровенная черная, как деготь, гадюка. Подняв голову и шипя, страшная чешуйчатая тварь хочет броситься на него и сожрать — всего, целиком, с зелеными резиновыми сапожками и белой кепочкой с целлулоидным козырьком и надписью заграничными буквами Tallinn…
— Я вас спрашиваю — вас, сидящего на этой нелепой лошади, — громко, не без актерского пафоса, продолжил старший.
Приближенные давно и хорошо знали, что он любил оперировать цитатами из старых фильмов советского времени. Необязательно советских. Иногда подчиненные угадывали контекст и отвечали цитатой на цитату, радуясь, что могут быть причастными к интеллектуальному дискурсу, и одновременно радуя шефа, который не мог удержаться от того, чтобы снисходительно не выдавить в ответ сухой, похожий на кашель, смешок.
Если бы тот, к кому был обращен вопрос, знал, из какого фильма цитата, и ответил: «Сударь! Оскорбив лошадь, вы оскорбили всадника!» — быть может, он на секунду и разрядил бы сгущающуюся вокруг него атмосферу. Но он вырос вдали от цивилизации, далеко-далеко от Москвы, на западной окраине которой он сейчас вместе с другими сидел в бункере на глубине сто двадцать четыре метра под землей. Его родиной, где суждено было провести детство и отрочество, была глухая забайкальская деревня, где не то что франко-итальянских «Трех мушкетеров» 1961 года выпуска, а вообще никакого кино в те былинные времена не показывали. Ни французского, ни итальянского, ни советского. Никакого. За неимением кинотеатра и электричества. Позднее, когда будущий министр после службы в армии перебрался в город и устроился на работу в пожарную часть, в кинотеатрах шли уже совсем другие фильмы.
Он закашлялся, чтобы прочистить горло, и, как мог, отрапортовал:
— Разрешите доложить. В Донецкой области плохо работает ГЛОНАСС…
— Правда? Что вы говорите! — казалось, старший обрадовался, услышав это признание. — А где он вообще хорошо работает, ваш ГЛОНАСС? На Марсе? На Луне? Придурки ваши — они что, в конце концов, за целый день не могли разобраться, где находится стартовая позиция?!
— Разобрались, но не сразу. Это поле рядом с населенным пунктом Первомайский. Но после опроса местного населения и сопровождавших их ополченцев они оказались сначала в другом Первомайском. Их в Донецкой области, как выяснилось, шесть. Пока искали нужный, время шло. Когда нашли, не успели приспособиться к местности. Азимут был один, а эшелоны разные. Из двух целей выбрали неправильную.
— А вы не знали, что будет две цели?
— Не знали. Лондонский с задержкой вышел. Диспетчеры ему и аэрофлотовскому высóты в процессе полета поменяли, а азимуты те же оставили. Нас не предупредили. Нас же там нет.
— Это вы сейчас в мой огород передразниваетесь? Про нас там нет?
— Нет, нет. Я… Я… хотел объяснить, почему нас не предупредили.
— Но вы хотя бы знали, что там шесть Первомайских?
— Знали. Но они не знали. То есть знали, но ошиблись. Я же говорю, ГЛОНАСС…
— Ага. Значит, ГЛОНАСС виноват! Это ГЛОНАСС, значит, сбил самолет, так выходит?
— Не совсем так, — у министра начала кружиться голова. — Мы, конечно, сбили. Но стреляли правильно.
— Стреляли правильно, а попали не туда? Так, так, — тут старший, наконец, понял, что не сходится в путаных объяснениях министра. — Я вот, честно, не понимаю, какое отношение имеют шесть Первомайских к тому, что сбили не тот самолет, если, как вы утверждаете, стреляли правильно.
На этом месте министру следовало бы доложить старшему, что для того, чтобы корректно, по всем правилам произвести пуск, расчету необходимо некоторое время и усилия, чтобы привыкнуть, прижиться к местности, определить на локаторе реперные точки — скалы, терриконы, холмы, здания, строения, башни, лес и т. д. То есть отсечь на радаре все лишнее, что поначалу может цеплять глаз на предельно малой высоте. Именно это полчаса назад объяснил министру, бывшему пожарнику, генерал-лейтенант Троекуров, начальник ПВО и доктор военных наук, который приехал в ставку вместе с ним и томился теперь в «предбаннике». Министру тогда показалось, что он понял, но теперь понял, что не понял. Из расстроенной его головы даже вылетело, что такое азимут. В обычной ситуации Вадим Вадимыч, выслушивая доклад министра, мог бы, как и сам министр, изобразить умного, покачать головой, понимающе пошевелить губами, да и дело с концом. Ну как бы один начальник докладывает другому, более старшему начальнику то, что сам не совсем понял. Старший тоже не понимает, но делает вид, что понял. Два минуса рождают плюс. Разбор полетов состоялся. Все довольны. Но это в обычной ситуации. В этот раз ситуация, однако, была совсем не обычной. Более того, в каком-то смысле экстраординарной.
Вадим Вадимыч не захотел просто изображать умного и шевелить губами. Он и так был умный. Он хотел понять, что произошло, и требовал разумных объяснений.
В обычной ситуации министру следовало бы позвать Троекурова, но даже тогда это было бы стыдно и неудобно. Словно расписаться в своей некомпетентности. Сейчас же вызов Троекурова был смерти подобен, и, скорее всего, командующий ПВО в этом случае вышел бы из бункера уже в должности министра.
— Вы правы, — окончательно запутавшийся в реперных точках своей головы министр очень пожалел, что вообще заговорил о логистике, о Первомайском и о ГЛОНАССе, не разобравшись в предмете. — Не имеют. Не имеют Первомайские отношения. Я к слову, просто. Рассказал о трудностях на месте, так сказать. Общая картина. Диспозиция…
— Да уж, картина! Картина маслом! Диспозиция! Это я все понимаю. Я не понимаю, почему вы, скажем, за час до пуска не поинтересовались, какова картина и диспозиция в воздухе.
— Нас не предупредили.
— Вы министр обороны! — почти перешел на крик старший. — Вас жареный петух должен в жопу клюнуть, чтобы предупредить? Как в сорок первом?
Министр молчал. Он не знал, что сказать. По всему выходило, что виноват он. Зря он выгораживал расчет. А впрочем, в любом случае виноват будет он.
— Но объективно, рейс «Аэрофлота» тысяча двести восемьдесят девять летел в это время выше, а MA-71, соответственно, ниже, — министр уже понимал, что его ничего не спасет и что выхода нет. — Он и стал объектом целеуказания. То есть, я хочу сказать, стреляли правильно, а… попали не туда. Ну, то есть сбили не то.
— То, не то! — повысив голос на октаву, почти прокричал старший, так что присутствующие инстинктивно схватились за уши. — Молодец, б…дь! И про рейсы мы теперь все знаем, и про компании! Скажите еще для большей ясности, что рейс был Москва — Ларнака. Сто пятьдесят девять пассажиров вместе с экипажем! Вы совсем идиот?! Вы понимаете, что убили на сто пятьдесят человек больше, чем, чем…
Старший осекся и не закончил фразу. Он сунул руку под стол, достал оттуда какой-то тяжелый металлический предмет и одним движением руки катнул по гладкой поверхности стола опешившему министру, оба соседа которого сразу же отодвинулись от него как можно дальше.
— Да, дорогой, вы угадали, — кивнул старший, и в голосе его, словно вилка по стеклу, звякнул металл. — Это не ГЛОНАСС. Это — ПМ. Пистолет Макарова. Он сбоев не дает и везде, в отличие от ГЛОНАССА, работает хорошо. В нем один-единственный патрон. И это не русская рулетка. Патрон уже в патроннике. Вы знаете, что делать, если с предохранителя не забудете снять. Вы человек чести, не правда ли? Ну что ж, надеюсь, я в вас не ошибся, — с этими словами старший встал и направился к двери. У двери остановился и, обернувшись, обратился к двум другим онемевшим и словно окаменевшим свидетелям происходящего: — Господа, а вам что, особое приглашение? Или вы хотите составить компанию господину министру?
Когда дверь за вышедшими закрылась и министр остался один на один с вороненым пистолетом, лежавшим перед ним на столе, он несколько минут тупо сидел без движения, не в силах поверить в происходящее. Он бы все отдал сейчас, только чтобы каким-нибудь волшебным образом исчезнуть из Москвы — навсегда. Просто испариться — сгинуть без следа, как только что сгинули почти триста пассажиров этого злосчастного самолета, оказавшегося не в то время не в том месте.
Министру вдруг жутко захотелось вернуться в свою родную пожарку в Улан-Удэ. А оттуда выдвинуться по бескрайнему холодному Байкалу на катере «Орленок-2» на север, в Хакуссы, окунуться в горячую речку, вытекающую кипятком прямо из родонового источника, открытого еще казаками петровских времен, закрыть глаза, забыть обо всем и раствориться в волшебной воде, ласкающей мягкими зелеными водорослями его усталое бренное тело и незаметно проникающей внутрь аж до самых костей…
Резко схватив пистолет со стола, он снял предохранитель, взвел курок, сунул ствол в рот, закашлялся, вытащил, сблевал на поверхность стола то, что еще оставалось в желудке от утренних бутербродов с икрой, приложил ствол к виску и нажал на спуск…
Когда трое вернулись в комнату, подвальная уборщица тетя Шура уже успела привести стол в порядок. Старший забрал у несостоявшегося самоубийцы незаряженный пистолет и усмехнулся, явно довольный произведенным эффектом. Вслед за ним осторожно захихикали и двое других. Смех, как известно, бывает заразителен, и весьма. Вскоре все четверо хохотали в голос. Громче всех смеялся сам министр, по лицу которого текли слезы раскаяния, облегчения и радости. Он уже и думать забыл о том, чтобы провести остаток жизни в нирване родонового источника в Хакуссах. Впереди его, как всегда, ждали большие дела. О чем и было заявлено сразу же после того, как смех затих и участники совещания расселись по своим местам.
— Итак, — начал старший, обращаясь персонально к незадачливому самоубийце, — после того как вы доказали, что честь офицера для вас не пустой звук, переведем наш разговор в практическое русло и решим, что нам делать в возникшей не по нашей вине ситуации, — он больше не ерничал и не старался никого напугать, а говорил совсем другим, вполне деловым тоном. — Операция «Тайфун» отменяется. Теперь, из-за неправильного «Боинга», мы не можем начать полномасштабную войну. Пусть ее англичане начинают. У нас на это морального права нет.
— Именно, — после паузы взял слово четвертый участник совещания. — «Нью-Йорк таймс», как всегда, осторожничает и в этом смысле, как всегда, работает на нас — «предположительно», «якобы» и все такое. Наши партнеры тоже пока не сделали никаких поспешных заявлений, кроме выражения озабоченности и соболезнований. Никто нас впрямую не обвиняет. Более того, по сведениям из наших источников, на западе сегодня никто особенно не заинтересован в выяснении конкретных обстоятельств. Мы уже запустили из разных источников четыре варианта двух основных рабочих версий, указывающих на факт того, что украинцы сами сбили этот самолет или дебилы-добровольцы. Надеемся, что заявлением Белкина была создана предпосылка для того, чтобы, в самом худшем случае, обвинить ополченцев в трагической ошибке. Что же касается самого «Бука», то ополченцы, по этой версии, использовали трофейный комплекс, захваченный у ВСУ еще в мае во время наступления сил ДНР по всему фронту и при паническом бегстве украинских войск. В любом случае, к чему бы ни привело международное расследование, оно продлится не год и не два, а гораздо дольше.
— А там, глядишь, и ишак сдохнет, — пошутил старший и, не дожидаясь смеха, продолжил: — Значит, так. Несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, мы не можем позволить себе полностью отказаться от военной операции. Иначе это будет расценено как слабость с нашей стороны и косвенное доказательство нашей вины в произошедшей трагедии. У американцев отлично работает космическая разведка. Они прекрасно осведомлены о том, какой кулак мы сконцентрировали в Ростовской области. Если мы сейчас не ударим, они решат, что наши планы разрушила трагедия с «Боингом». То есть мы сами, типа, во всем признались. Но и полномасштабное вторжение сейчас будет выглядеть для мирового сообщества неоправданным. И черт его знает, чем, какими новыми магнитскими списками и санкциями все это может закончиться. Поэтому приказываю: провести ограниченную тактическую операцию по деблокированию кольца окружения вокруг Донецка, конкретно в районе Иловайска. Этот маневр, учитывая фактор внезапности и неожиданности, приведет к окружению и уничтожению значительной части сил и средств ВСУ. После чего им станет просто нечем воевать, и они будут вынуждены согласиться на любые наши условия, лишь бы усидеть в своем Киеве. Какие будут мнения или вопросы?
Мнений и вопросов не последовало.
Министр попытался, правда, что-то сказать, но все, что у него получилось, звучало как облегченное «Буезде».
— Отлично, — подвел черту под совещанием старший. — Тогда я объявляю траур по жертвам киевской хунты, а вы, господа, готовьте новый план действий. Мы должны нанести им упреждающий удар не позже следующего понедельника. Или лучше всего утром в воскресенье. Да, именно так. Блицкриг вежливых зеленых человечков номер два. В воскресенье, в четыре часа утра. Пока все спят по своим постелям. Малой кровью, могучим ударом. На вражеской территории. Победа будет за нами. Доложите мне о подготовке операции не позднее шестнадцати ноль-ноль завтра. Все свободны. Хорошего дня, господа, как любят говорить наши заокеанские партнеры.
Все натужно хихикнули и потянулись к выходу. Последним, держась рукой за сердце и слегка пошатываясь, зал покидал министр.
— Как дети, честное слово, — пробурчала себе под нос тетя Шура, включила неровно мигающую азбукой Морзе, как в мертвецкой, голубую неоновую лампу под потолком и стала сгребать заскорузлой ладонью огрызки свечей в черный пластиковый мешок с ручками, похожий на тот, в которые судмедэксперты упаковывают трупы.
Лос-Анджелес. Июль
Алехин понимал, что за взрывом газовоздушной смеси в моторном отсеке вскоре, по логике вещей, следует ожидать и взрывы обоих топливных баков. И то, что осталось от яхты, сначала буквальным образом взлетит на воздух, а затем окончательно потонет. Вместе с ним.
Он уже лежал в луже соленой морской воды, уровень которой повышался с каждой минутой. Яхта тонула. На мостике что-то продолжали орать. Морская соль щекотала его ноздри, текла ручейком в горло. Он вдруг вздохнул и — перестал тонуть вместе с яхтой.
Вскочив на ноги, Сергей заскользил по щиколотки в воде по наклону к правому борту, упал, ударился плечом о стену. Пытаясь подняться, почувствовал под правой рукой железо на деревянном полу. Его «Глок». Поднимаясь, проверил предохранитель. Прежде ему не доводилось стрелять из «водяного» пистолета, и он был не вполне уверен, что получится. «Макаров» бы не подвел. Не говоря уже о «Калашникове», который, в принципе, тоже можно купить в здешнем магазине.
Сергей поднялся в развороченный взрывом моторный отсек. Сцена — как финал спилберговских «Челюстей», только пока еще без акулы. Многотонные двигатели оторвались и уходили на дно вместе с частью отсека. Освободившись от этого груза, яхта вынырнула на треть корпуса и начала активно гореть. Слева по борту, визжа и захлебываясь, барахталась в воде Галя. Справа видна была голова одного из армян, то выныривающая из пятна горящей на поверхности солярки, то снова скрывающаяся под водой. Другой — Сергей опознал в нем Каро — в отчаянии бросал товарищу пластиковые стулья с палубы в горящую воду…
Это было то, что Алехин увидел в первую секунду своего появления в кадре фильма-катастрофы. В следующую — он сам стал его персонажем, и действие пошло в режиме «здесь и сейчас».
Арсен снова выныривает и снова в огне, что-то опять кричит, захлебывается и исчезает, похоже, на этот раз — с концами.
Каро бросается за спасательным кругом, закрепленным на флайбридже, и встречается взглядом с воскресшим мертвецом, которого они собирались утопить. Его глаза — и так в половину осунувшегося в одночасье скорбного лица — вылезают из орбит от ужаса, рука сама собой лезет за пояс.
Мертвец с пистолетом в руке просит армянина не делать этого:
— Let’s talk. There is no need to kill each other[21].
Сергей с удовольствием пристрелил бы Каро без лишних слов, но ему нужно точно выяснить, что привело бандитов к нему; к тому же он не уверен, что после купания в океанской воде хваленый «Глок» не даст сбоя.
Оглушенный взрывом бандит не слышит, что ему кричит Алехин, и достает-таки свой ствол — только для того, чтобы получить сразу три пули в грудь и последовать за собратом в горящую воду справа по борту. Один выстрел делал только Пушкин, мысленно повторяет ментовскую аксиому Алехин. В жизни, когда на тебя направляют или хотя бы пытаются достать пистолет, ты стреляешь несколько раз. Здесь и сразу. «Потом» может и не быть. Из выходных отверстий в спине Каро вылетают кусочки ребер и фрагменты позвоночника: hollow point bullet — это игрушка для взрослых, убеждается Алехин, не имевший до этого случая возможности использовать свой смертоносный арсенал в деле.
Галя все еще барахтается на поверхности. Она видит Алехина на палубе с пистолетом в руке.
— Гриша, Гриша, спаси меня! — истошно, из последних сил кричит она. — Я не умею плавать!
Алехин поворачивается на голос, встает на колени у борта и рявкает ей что есть силы:
— Кто заказал меня? Кто дал приказ?
Галя с вытаращенными глазами цвета спелого граната, захлебываясь, трясет головой, кричит:
— Арчи… Арчи сказал… Гриша… Гриша… Гриша…
— Гриша умер. Прости, — Сергей протягивает ей руку в тот момент, когда ее коротко стриженная мальчишеская головка навсегда исчезает под водой.
Алехин поднимается и бежит по скользкой палубе к задранному носу яхты, где слева от форштевня закреплена восьмифутовая надувная шлюпка. Сбрасывает ее в воду и сам прыгает за ней, по пути освобождаясь от «Глока». Он успевает, не влезая в шлюпку, держась за нее рукой, отплыть на два десятка метров, когда баки взрываются один за другим. Обломки судна взлетают в воздух. Через несколько минут на воде остается быстро затягивающаяся воронка, вокруг которой в горящем топливе и масле остаются плавать ошметки того, что не тонет.
Алехин с усилием вскарабкивается в шлюпку и определяет по звездам направление. Угрызения по поводу гибели Гали? Ничего личного. Он просто не успел ее спасти. Бывает.
* * *
Если у кого-то есть иллюзии по поводу Тихого океана, основанные на рекламных проспектах отдыха под нависающей пальмой Мальдив, то Алехин с удовольствием разочаровал бы подобных идеалистов. Прежде всего, если уж на то пошло, Мальдивы в Индийском океане, а не в Тихом. Что такое вода Тихого океана? Херня, по сути, редкостная. Всегда холодная, кроме, может быть, сентября. Всегда вызывает желание вылезти из нее, если уж такой дурак, что залез. Эта вода имеет черный оттенок и кажется тяжелой, как свинец. Высокая волна на просвет — довольно приятного зеленого цвета, но если в Каннах такой волной восхищался бы весь берег, то здесь только зябко поежишься. В отличие от дружелюбного Средиземного моря, Тихий океан никогда не вызовет умиления. Это не друг. Если ты плаваешь в Малибу, устал и хочешь выйти на пляж — make sure[22], что у тебя осталось достаточно энергии, чтобы победить невероятно тягучую обратную волну, вымывающую песок прямо из-под ног. Поэтому там так много спасателей.
В Америке вообще половина населения работает спасателями. Подъемный кран пригонят, чтобы кошку с дерева снять. Но спасут. И кино про это снимут. И потом у Опры Уинфри в специально, за счет шоу, закупленных для этого костюмах будут о своем подвиге скромно так трепаться под всхлипывания и слезы многомиллионной аудитории. Но в океане, вдали от берега спасателей может не оказаться. И если ты все же решил погрузиться в пучину с борта яхты, все может обернуться большой печалью. Тихий океан — это суп. Суп живности. Кроме акул, там всегда и везде в шаговой доступности морские львы.
Тут следует заметить, что это не тот ластоногий милашка, который крутит в цирке хала-хуп, жонглирует разноцветными мячиками и целуется с дрессировщицей в юбочке с блестками. Морской лев — отнюдь не предмет для умиления. Это жуткая машина весом в полтонны с песьей башкой. Пасть у льва — точная копия волчьей. Людей эти твари совершенно не боятся и всплывают рядом с тобой мгновенно и бесшумно, легко вызывая ступор или даже инфаркт у человека неподготовленного.
Только подплыв к маленькому островку, с бурунами волн вокруг, над которым орали сотни птиц, Алехин понял, что перед ним как раз плавает мертвая, разбухшая туша морского льва, которого со всех сторон, несмотря на темень, долбят чайки. Если в океане кто-то сдох и всплыл на поверхность, то окружающая фауна приходит в необычайное оживление — драки, крик, в общем, движуха. Из-под воды в это время кто-то невидимый неистово и остервенело вырывал из мертвого тела куски жира и мяса. «Старик и море», — вспомнил Алехин и представил себе, как его качающееся на волнах мертвое тело сверху долбят чайки, а снизу рвут на части акулы и те же морские львы…
Москва. Июль
— Женя-джан, — расплывающийся в нестойких пикселях искаженного сигнала скайпа Арчик разводит руками и говорит классическими кавказскими причитаниями. — Прости, брат. Не нашли его. В новостях сказали, что яхта русского бизнесмена взорвалась и пошла на дно в акватории. Мамой клянусь, даже фото не показали. Мои люди тоже не вернулись. Мой племянник… Вах-вах-вах…
Книжник, не говоря ни слова, ударом ладони по интерактивному монитору отключает сигнал. Возвращается к московским новостям. Скулы его сжаты. Лишь движение ноздрей выдает эмоции. По телевизору целый день крутят новости про сбитый укрофашистами британский лайнер.
— Туфта голимая! — в сердцах бросает Книжник, окончательно выключая телевизор и задумчиво откидываясь на подушки. — Зачем им это надо? Впрочем, хер с ними со всеми… Со своим бы кипишем разобраться. А тебя, мусор, я все равно хоть на дне океана достану.
Глава шестая БОЛИВАР
Лос-Анджелес. Июль
Уже светало, когда Алехин догреб до Марины-дель-Рей. Как только увидел лес мачт, снял всю одежду, кроме спортивных трусов, которые надел, собираясь «выходить за почтой» перед визитом дружественной армянской делегации, — словно знал, что пригодятся. Вот и сгодились. Снял кроссовки, связал шнурки. Открыл клапаны шлюпки, спрыгнул в холодную утреннюю воду и поплыл к берегу, держа кроссовки одной рукой на весу. Шлюпка, пуская пузыри, медленно скрылась под водой позади него.
Пока Сергей плыл, в его голове все мельтешилось, мысли не могли собраться, а разливались киселем, как проплывающие мимо медузы. Ясно было одно — в Таиланд он лететь не может. Вернее, лететь-то он может, но делать этого нельзя. Он не имеет права рисковать — наводить бандитов на след Лены с девочками.
Алехин выбрался на берег на крайнем правом пирсе. Надев кроссовки, побежал трусцой, как обычный утренний джоггер — сначала по пирсу, потом по дорожке рядом с центральным каналом бухты. На канале ему встретилась лишь одна дама средних лет в надвинутой на глаза бейсболке и в радужной безрукавке почти до белых, как молоко, выпуклых коленок, выгуливающая лабрадора такого же цвета. Когда они поравнялись, женщина была занята тем, что сосредоточенно то ли пристегивала, то ли отстегивала поводок от собачьего ошейника. Когда пес, бодро подпрыгнув на месте и освободившись от рук хозяйки, дернулся было составить Алехину компанию, дама выкрикнула вслед беглецу:
— Halt, bad boy! Get back! Get back! Bad boy, ba-a-a-a-a-d![23]
— You bet![24] — ответил Алехин, не поворачивая головы и не замедляя бега.
В конце набережной, на втором большом паркинге он с трудом отыскал неприметный серебристо-серый седан «Тойота Приус». Присев на колено, оторвал из-под днища за правым передним колесом жестяную коробочку с магнитом на крышке и ключами внутри, открыл машину, сел в кресло, завел мотор, огляделся и, не заметив ничего подозрительного, стал медленно выезжать с парковки в сторону своего пирса. В семистах метрах был припаркован его «Порш Кайенн Турбо» 2009 года. Обе машины он купил с рук, чтобы лишний раз не светиться с карточками. По закону любая покупка наличными, превышающая десять тысяч долларов, должна в обязательном порядке быть задекларирована в IRS. Заплатил Сергей за «Кайенн» двенадцать тысяч, а оформили, по обоюдному согласию, как девять с половиной. Для ежедневных поездок, когда таковые случались, он пользовался «Поршем». «Приус» не засветил ни разу. Даже близко к нему не подходил. Оставлял, как говорится, на «черный» день. Алехин и представить себе не мог, насколько черным окажется для него этот день.
Проезжая мимо «Порша», вокруг которого ничего подозрительного, кроме двух темнокожих тинэйджеров на скейтбордах, он не заметил, Сергей мысленно попрощался с машиной. Большинство русских, в отличие от американцев, относятся к своим машинам не просто как к средству передвижения, а как к членам семьи или близким друзьям. Алехин исключением не был. В момент, когда он мысленно произнес свое «прощай», в одной фаре «Порша» вдруг отразился утренний солнечный блик, — и Сергей поймал в зеркале заднего вида ослепительно-трогательную попытку автомобиля напоследок печально подмигнуть ему одним из своих удивленных, широко открытых глаз.
«Вот и все, дружок, — подумал Алехин. — Прощай. Больше не увидимся».
Он вспомнил, как прощался с Леной и девочками во Франкфурте три года назад. Они смотрели ему вслед так же печально и потерянно, как быстро удаляющийся «Порш». Болезненное чувство нахлынувшей, как первая волна прибоя за спиной, безысходности окатило Алехина с головы до ног — так сильно, что он прижался к бордюру, остановил машину и, не заглушая двигателя, опустил голову на сложенные крестом на руле руки. В его ноздрях до сих пор стоял смрадный дух разлагающегося тела растерзанного морского льва. Совсем недавно лев резвился в морской воде и думал, кого бы ему еще сожрать, — и вот он, мертвый, болтается на волнах, и чайки клюют его сверху, а невидимые морские хищники раздирают из-под воды…
— Я не смогу, не смогу их увидеть, — услышал Алехин свой собственный пустой, безжизненный голос. — Книжник вычислил меня. Я не могу рисковать ими. Что же делать? Как дать знать?.. Как объяснить Лене? Ну как, б…дь?!
Алехин уже два дня пытался вспомнить, какую любимую книжку девочки просили читать им перед сном и кто из них засыпала первой — Верочка или… Сергей с ужасом засомневался в том, кто из них старше — Танечка или Верочка. Он попытался услышать их голоса — и не смог. Закрыл глаза, попытался увидеть Лену… но увидел только ее расплывающийся туманный силуэт.
— Не могу больше без них! — закричал сам себе Алехин. — Не могу!
Он пришел в себя не от своего крика, а от осторожного, хотя и настойчивого стука в боковое водительское окно, и вздрогнул, словно проснулся.
— You ok, sir? — Девушка в форме офицера полиции неслышно подъехала на роликовых коньках и стучала ему в окно рукой в черной перчатке. — Can I help you, sir?[25]
— Oh, I am fine, thank you, — опустив стекло, тряся головой и протирая глаза, словно после сна, ответил Алехин. Ему сейчас только не хватало оказаться в участке. — I am perfectly fine, officer. Thank you so much[26].
Девушка наклонилась чуть пониже, словно попыталась уловить в дыхании Алехина пары алкоголя. Но за время морской прогулки следы виски успели выветриться.
«Сейчас попросит права», — с ужасом подумал Алехин. В сегодняшнем состоянии он не мог вспомнить, какие у него документы в бардачке этой машины, если вообще там что-то было. Полицейская обязана убедиться, что у него с собой права и хотя бы копия страховки. Только после ее требования можно потянуться к бардачку. Если сделать это по собственной инициативе, офицер вправе открыть огонь на поражение. В Калифорнии без страховки ездить нельзя — штраф семьсот двадцать долларов. Это, в общем, не такая проблема, но придется ехать в участок и тогда… Алехин, как мог, заполнил паузу своей улыбкой, открытой и располагающей, как он надеялся. Надежда оправдалась.
Полицейская сверкнула ему в ответ классической американской широкой и белозубой улыбкой с брекетами, на которых красовались искусственные бриллианты, выпрямилась и приложила руку к своей черной бейсболке с эмблемой полиции Лос-Анджелеса:
— Оk, drive carefully, sir. Have a nice day![27]
Она изящным жестом руки оттолкнулась от крыши «Тойоты» и широкими сильными движениями атлетических загорелых ног в коротких атласных черных шортах легко и уверенно заскользила дальше вверх по бульвару Линкольна.
— Уф!.. — выдохнул Алехин, открыл бардачок и достал бумаги. У него в руке оказались права на имя Юрия Жданова и ксерокопия страховки. Пистолета там не было. Хотя наличие оружия в бардачке не понравилось бы полиции меньше, чем отсутствие прав.
Российский загранпаспорт и грин-карта на имя Жданова ожидали Алехина в сейфе в маленькой (одна спальня) съемной квартире в Санта-Монике в двухэтажном апартамент-хаусе на углу Линкольна и Монтаны. Там же было около двухсот тысяч наличными, два айфона, два пистолета и набор кредитных карт на оба его нынешних имени — Григория Хорунжего и Юрия Жданова. На фамилию последнего предусмотрительный Алехин и снимал квартиру, как запасной аэродром на «случáй боевой тревоги».
Сергей открыл Wi-Fi, вошел в Интернет, проверил билеты. Все так. Рейс завтра в десять утра. Лена и девочки должны были уже приземлиться. Но им еще предстоял стыковочный рейс из Бангкока в Самуи. Разница во времени с Лос-Анджелесом — пятнадцать часов.
«Ночью звякну им в отель», — решил он.
Алехин налил себе полбокала «Джемисона», из диспенсера холодильника насыпал в бокал льда и сделал маленький глоток. Понял вдруг, что умирает от жажды. Достал банку ледяной кока-колы с пружинящими, запотевшими и обжигающими пальцы боками, выпил ее одним глотком, затем вторую. Снова пригубил виски и уселся на диван перед телевизором на стене, положив ноги на журнальный столик.
Он не стал включать телевизор. Закрыл глаза и… В мозгу вдруг опять возник образ растерзанного морского льва.
Алехин был несметно богат. В четырех европейских банках и в Bank of America на номерных счетах и в сейфах у него в общей сложности было более пятидесяти миллионов долларов. Но даже со всем этим несметным богатством ощущал он себя сейчас загнанным и обреченным зверем, вроде… этого несчастного морского хищника. Ну, разве что живым. Пока что.
Один. Без семьи, без друзей. С чужими документами. С прошлым, которое преследует его по пятам. Не отпускает. Как он оказался здесь? Как он стал самым несчастным миллионером? Что дальше? Всю жизнь в бегах? Каждую секунду трястись за жизнь своих родных, которые так далеко. Они — словно мираж, который невозможно потрогать, к которому даже приблизиться невозможно…
Псковская область. Три года назад
Прохладным ранним утром нежаркого московского августа Алехин садился в «Лэнд Крузер». На пассажирское сиденье рядом с полковником Антоном Слуцким, своим прямым и непосредственным начальником и единственным другом. Им, полковнику и подполковнику полиции, или милиции, как она называлась еще несколько месяцев назад, предстояло проехать около семисот километров до Нарвы, пограничного эстонского города. Сопровождать грузовик с «сигаретами». Никому другому поручить этот ценный груз Книжник не мог. Антон отвечал за его доставку головой. И доверял только Сергею. Только они знали, что по возвращении получат причитающиеся им пятьдесят тысяч зеленых на брата. За один рейс. И ни цента меньше, как любил приговаривать Антон.
Девочки спали, когда Алехин уходил. Лена встала за час до него. Возилась на кухне, сварила ему овсянку, кофе, сделала бутербродов в дорогу, налила в термос чаю. Они обнялись, поцеловались. В губы. Дольше, чем обычно.
— Задержишься еще на полчасика? — улыбнулась она и взглянула на него такими теплыми и… родными карими глазами.
Сергей с трудом оторвался от нее. Взял пакет с продуктами. Поправил рубашку и свитер поверх броника.
— Не торчит? — спросил он.
— Что не торчит? — с той же веселой улыбкой переспросила она, протягивая руку к его поясу и поправляя пряжку на ремне. Махровый халат у нее на груди распахнулся от этого движения, и его вновь потянуло к ней как магнитом. От нее пахло теплом, постелью, любовью.
— Господи, ты все об одном и том же! — засмеялся Алехин, и шрам на его левой щеке заплясал. — Я спрашиваю, броник не торчит?
— Не торчит, не торчит. Успокойся… — сказала она, поджав губы и отодвинувшись от него, как обиженная девчонка.
Как она была похожа в такие минуты на обеих дочек, или они на нее… Как он любил ее в этот миг… Впрочем, как и всегда.
Алехин проверил ПМ сзади за поясом, две обоймы в обоих карманах, снова обнял ее, чмокнул в лоб и легкой походкой двинулся к калитке — стройный, подтянутый, уверенный в себе.
У спортивной площадки поселка в километре от трассы его уже ждал Антон. Сидел на пороге открытой двери и курил. Они обнялись, как кавказцы (оба побывали в Чечне во время последней войны), и похлопали друг друга по спине. Антон сплюнул, бросил окурок на дорогу. Сергей затушил его ногой, театрально покачал головой, поднял и швырнул в мусорный бак возле выхода со спортплощадки.
На площадке было пусто, на тартане высыхал туман. В сетке мини-футбольных ворот зияли дыры, на перекладине сидели две вороны. В окрестном лесу шумела жизнь, пели птицы, трещали ветки, гудели комары, куковала кукушка.
— Подожди, — сказал Антон, внимательно прислушиваясь. — Семь… восемь… девять… двадцать два… двадцать три…
— Мы так прокукуем всю нашу поездку, — Алехин бросил сумку на пол под спинку своего сиденья, открыл бардачок и положил туда ПМ.
— Ну еще минуту, — Антон продолжал считать: — Тридцать семь… тридцать восемь… тридцать девять… Интересно, кому она кукует? Мне или тебе?
— Дели на двоих и узнаешь, — ответил Сергей, усаживаясь. — Мы все равно с тобой умрем в один день. Погибнем в неравном бою. В борьбе за это.
— Три… В борьбе за что? — Слуцкий сбился и кончил считать.
— Это из песни. «Смело мы в бой пойдем…»
— «За суп с картошкой…» — подхватил Антон, захлопнув дверь и заводя машину.
— «И повара убьем столовой ложкой!» — окончание куплета, который они помнили еще со школы, друзья пропели нестройным дуэтом, как заезженная пластинка, подпрыгивая вместе с машиной на ухабах.
Оставляя за собой не только это туманное утро с лужицами на тартане футбольной площадки и усердной кукушкой где-то в сырой чаще неподалеку, они не знали, что ждет их впереди. По крайней мере, один из них точно не догадывался, что из этого рейса если кому и суждено вернуться, то совсем уже в иную жизнь…
Слуцкий сразу показался Алехину каким-то необычным. Странным. То молчал, погружаясь в себя и невпопад отвечая на вопросы друга, то начинал вдруг возбужденно болтать о какой-то ерунде.
— Антон, ты в порядке? — в какой-то момент не выдержал Сергей. — Дома все нормально?
Антон жил с матерью и сестрой в большом загородном доме в Барвихе, который построил в одно время с Сергеем три года назад. Постоянно что-то доделывал. Два раз менял рулонный газон. Жена, Зина, ушла от него в прошлом году. Детей у них не было, и она, как сама выразилась в беседе с его Леной, «устала от его е…ного б…дства». Последней каплей стало то, что она, по ее словам, застала его в московской квартире (Антон иногда из-за дел службы не возвращался в Барвиху) с каким-то полуодетым юношей. Алехин, зная, как Антон волочится за каждой юбкой, не мог в это поверить. Но она не стала устраивать никаких «разборов полета», а просто ушла — к своему бывшему сокурснику, врачу-урологу. Антон как-то не особенно горевал по этому поводу.
Алехин никогда о причинах их семейной размолвки с другом не заговаривал, но вот сейчас, когда проезжали Ржев, Слуцкий вдруг сам спросил, почему тот ни разу не поинтересовался, что случилось.
— Моя, небось, твоей наговорила хрени всякой, а вы поверили? — надавил он. — Так?
— Антоша, никто ни мне, ни Лене ничего не наговаривал, — соврал Алехин. — Разошлись и разошлись. Это ваше личное дело. Я не вмешиваюсь.
И тут Слуцкого как прорвало. После того как они с Алехиным поменялись местами и тот повел машину, Антон, размахивая руками, в деталях полчаса рассказывал, как сосед сверху, мальчишка-десятиклассник («Я его родителей давно знаю»), спустился к нему чуть ли не в одних трусах и «в очках на голую жопу» — узнать, не залил ли он его.
— У них там кран потек на кухне или разводка труб в стене, — сыпал ненужными подробностями Слуцкий, словно оправдываясь, пока Алехин, испытывающий сильное неудобство от рассказа, молча смотрел в окно.
Мент может быть умным или глупым, плохим или хорошим, но вранье от туфты отличает на раз. Работа такая. Умел это делать и Алехин. Он вообще был убежден в том, что когда люди врут, то всегда ради какой-то выгоды, если не дураки. Зачем Антону понадобилось возвращаться к этому?.. И почему именно сейчас? Сергей ведь никогда его ни о чем не спрашивал. Может, именно поэтому…
— Ну вот, приходит он, спрашивает, потолок не протек, типа, — не унимался Антон. — А я в одном халате, кофе пью. Ну, решил ему тоже налить, когда выяснили, что не протек. В смысле потолок. И тут — Зина, как назло. Позвонить не могла? В общем, сыр-бор. Парень — в трусах, очках и тапочках, и я — в халате… Ну, все равно, ты ж меня знаешь, Алехин, не хуже, если не лучше Зинки. Вот ты поверил бы в такую чушь? На ее месте?
— Если бы потолок протек, я бы поверил, — сострил Алехин и засмеялся.
— Вот и она тоже, б…дь! — рявкнул без намека на смех Слуцкий. — Где, говорит, протечка? В общем, ушла и ушла… Дура. Но ты-то мне веришь? Веришь, что я не трахал того паренька?
— Успокойся, Антоша. Верю, верю! — еще громче засмеялся Сергей. — Ты паренькам только мозги можешь затрахать, как мне сейчас. А по-взрослому ты трахаешь людей совсем другого пола. Не смеши, а то долбанемся сейчас, кто будет твою «антилопу» чинить? — сделал паузу и рассказал Слуцкому бородатый анекдот про мужика, которого соседка попросила посмотреть изнутри ее шкаф — почему тот открывается каждый раз, когда по улице проходит трамвай.
— Вот и прикинь: приходит муж, а сосед у него в шкафу сидит, как ты говоришь, «на босу ногу», — рассказывал Сергей. — И спрашивает: «Ты что тут делаешь?»…
— «Ты не поверишь — трамвая жду!» — ухмыльнувшись, закончил за него Антон.
— Вот мы смех…ечками тут с тобой, а… а времена-то наступают стрёмные, — перевел разговор на другую тему Антон.
Времена, действительно, наступали стрёмные. Прокурор области, его зам и их коллеги-партнеры-подельники уже чалились в СИЗО. Игорный бизнес накрылся. Наркота, проституция — перешли в руки чекистов.
Ставки росли. На кону оставался самый жирный кусок — обналичка. Золотое дно. Механизм был простой. Банки, которые в начале 2000-х росли как грибы, теперь лишались лицензий день через день. Но перед назначением внешнего управляющего наличка из их сейфов извлекалась, конвертировалась в валюту и вся вывозилась за границу.
Однако в начале процесса деньги «остывали» в квартирах-отстойниках, снимаемых специально для этих целей. Квартира-сейф, гараж-сейф, домик-сейф, офис-сейф, баня-сейф — неважно. В квартиру или дом и даже в гараж или баню просто так — без санкции судьи, без уголовного дела — следователю не войти. Вот и росло число таких «панельных сейфов», набитых «лавé» под завязку.
В прошлом году в Питере арестовали майора, у которого в квартире нашли не то что киношный кейс с «лимоном» зеленых, а на восемь миллиардов рублей валюты, в банковских упаковках по сто долларов и евро. Майор-миллиардер пошел в несознанку: мол, знать ничего не знаю, квартира тещи, я — не я и теща не моя. Мента выпустили под залог. Он сразу исчез — испарился в тот же день. Пока деньги, оприходованные, как вещдоки, прели в хранилищах Следственного комитета, хозяева объявились. Неприметный банк, практически банкрот. Год документы подбивали. Половину вернули. Половина пошла на откаты всем заинтересованным лицам.
История про задрипанного питерского майора с восемью «ярдами» в тещиной квартире стала самым популярным анекдотом года. Этот курьезный случай, конечно, был исключением — неловкой накладкой. А вообще, все обычно проходило как по маслу. Наличка шла в Эстонию через «зеленые коридоры» — как раньше, в «лихие» 90-е, сигареты и спирт. А дальше, уже в Европе, отмывалась через отработанные годами каналы. Тамошние оперативники то ли действительно не замечали этого, то ли закрывали глаза — деньги же ввозят, а не вывозят, в конце концов. Иногда кэш перевозили грузовиками. И даже самолетами.
Смышленые конторские быстро смекнули, что к чему, и начали лихо подминать бизнес под себя, не желая ни с кем делить сферы влияния. Отстрел авторитетов принял угрожающий характер. Артем Тагильский, Витя Япончик, Витя Тесак, Дед Хасан… Кто следующий? Женя Книжник? По всему выходило, что следующим в этом расстрельном списке должен был стоять теперь именно он.
Женя, один из самых мудрых и изобретательных «воров в законе», понимал и чувствовал, что удавка вокруг его шеи с каждым днем стягивается все туже и туже. Кроме прочего бизнеса, он еще контролировал в Москве всю торговлю фильтрованной питьевой водой. Двадцатилитровая пластиковая бутыль наполняется водой из-под крана, пропущенной через обыкновенный угольный фильтр, и продается ежедневно десяткам тысяч клиентов с рентабельностью в двести процентов. Как говорится, живи и радуйся. Снимай сливки — с воды.
Но бизнес этот был больше для антуража, для отвода глаз. Последние два года Женя сосредоточился на обналичке. Отработал все ходы и выходы до мельчайших деталей. Договаривался с банком. Убеждал, угрожал. Потом с чиновником или чиновниками в Минфине. С ними было проще — больше понимания предмета.
Слуцкий и Алехин были в деле с самого начала. За приличные деньги (Книжник не был рыцарем, но и скупым тоже не был) они сопровождали грузы до границы с Эстонией, где для них открывали «окно». Груз, как положено, был упакован в коробки от сигарет, с логотипами всех известных марок, которые в свое время производили в Приднестровье, оттуда шли через Украину в Россию, попадали в Эстонию и далее везде.
Маршрут этот бы освоен Книжником еще в начале 2000-х, когда он действительно занимался контрабандой поддельных сигарет, одним из самых прибыльных бизнесов того времени. Точнее, вторым по рентабельности после войны в Чечне, на которой более предприимчивые пацаны сколотили целые состояния. Книжник, как убежденный законник, был принципиально против «бессмысленного насилия» и не пытался на нем заработать. «Кровавые башли плохо пахнут», — говорил он тем из авторитетов, которые не брезговали ничем и относились к его принципам снисходительно — как к проявлению стариковского чудачества. За прошедшие годы от многих из них не осталось не то что роскошного мраморного надгробия — даже урны с прахом.
Сразу за Нарвой, уже на сопредельной территории, в лесу груз встречали местные братки, все тоже русские, которые в ангаре на бывшей военной базе перегружали объемистые коробки в местный грузовик или в несколько мини-автобусов. На этом задача подполковника и полковника считалась выполненной, и они возвращались на родину — через новое «окошко».
Этим двум ментам Книжник доверял больше, чем своим людям. Все-таки дисциплина, ответственность, привычка к порядку… ну, и ментовские ксивы. И проверенные личные отношения. В свое время Антон с Сергеем помогли Жене оприходовать водяной рынок в Москве. За долю в бизнесе укатали двух важных конкурентов — наехали, попрессовали, потрясли и закрыли. Те вышли на волю — не то что бизнес отдали, а вообще из Москвы переехали за Урал, где обоих и пришили через год в местных разборках. А Женя между тем бизнес монополизировал. И ментам «по ходу» помог, решил вопросы в сфере интимных услуг — убедил знакомых ребят подвинуться, мол, «ментам тоже кушать надо».
С обналичкой, однако, Книжник сначала использовал друзей втемную — впаривал им, что, дескать, картины старинные и антиквариат вывозит. Слабость стариковская и все такое. Помощь нужна по маршруту следования, чтобы лихие люди ненароком не грабанули. Платил хорошо. Доверял — знал, что менты с антиквариатом крысятничать не станут. Но потом еще больше доверился и раскололся, когда понял, что они и так обо всем давно догадались и что «перед пацанами неловко получается».
Обналичка — прибыльный бизнес. От десяти до сорока процентов заработать можно. Но чекисты перекрывали один канал за другим. И вот под давлением сына и обстоятельств Книжник с разрешения и благословения братвы начал вывозить в Европу общак. Наличными. По частям.
В этот день Сергей с Антоном сопровождали грузовик с шестьюдесятью двумя миллионами долларов. Они знали, что груз важный еще и по тому, что с ними будет ехать Саша, сын Книжника, или Книжник-Джуниор, как называли его на американский манер. Саша на «планерке» объяснил им, что в этот раз задание особенное, и, чтобы лишний раз не светиться, желательно ограничиться одним табельным стволом на человека без всяких автоматов, гранатометов и пулеметов и… обойтись без бронежилетов.
Сергею пункт про бронежилеты не понравился, но он успокоился, когда увидел, что Саша и остальные бойцы сами были без броников. Антону, похоже, было все равно — он вообще никогда не надевал броник. Как и договорились, ограничились одним табельным «Макаровым» на брата, за поясом сзади или в бардачке без кобуры. Сергей, однако, в последний момент передумал и под рубашку с легким свитерком надел кевларовый броник, облегченный, «для танцоров диско», как писали изготовители в проспекте, — мало ли что. Береженого, как говорится, бог бережет.
В составе сопровождения ехали четыре бойца Книжника в кузове и Джуниор с водителем в кабине, а на «Лэнд Крузере» Слуцкого — он сам и Алехин. Ехали, как обычно, с липовыми сопроводительными документами, все чин чинарем. Не придерешься.
В Пскове Саша пересел к ним в машину. Сказал, задница в грузовике устала.
Алехин знал, что Книжник души не чает в своем сыне, особенно после рождения внучки. Тот, в общем, был правильным пацаном. Даже чересчур правильным. Он выглядел, как в американском кино выглядят выпускники Гарварда (Саша его и окончил). С короткой фасонной стрижкой, со стоячим чубчиком, в роговых очках, подтянутый, аккуратный. Не атлет, но спортивный, с румянцем на щеках и ямочкой на подбородке, где наотрез отказывалась расти щетина, — Саша в свои тридцать три был чем-то похож на Гарри Поттера из трейлера (сами фильмы про Поттера Алехин принципиально не смотрел, на волшебников за свою ментовскую карьеру он насмотрелся на всю оставшуюся жизнь). Говорил Саша очень грамотно, литературно, порой с вкраплениями иностранных конструкций в речи, и легким американским акцентом и интонациями. Книжник с гордостью рассказывал, что Саша по субботам ездит играть в подмосковный гольф-клуб в Нахабино.
В чаде своем Женя видел то, чего сам он в жизни не испытал и не достиг. Его сын стал своего рода исполнившейся Великой Американской Мечтой Книжника — той мечтой, о которой он впервые узнал из книг Драйзера, взятых в лагерной библиотеке, во вторую ходку, а потом уже из гангстерских фильмов. Когда Марио Пьюзо был впервые издан в России, Книжник не поленился прочитать «Крестного отца», хотя по фильму знал сюжет наизусть. Женя уважал Дона Корлеоне, который был против того, чтобы выпускник колледжа Майкл шел по его стопам, но его собственный Аль Пачино оказался таким же упрямым. И вернулся в Россию. Несмотря на внешнюю мягкость характера, Саша сумел-таки настоять на том, чтобы «работать» вместе с отцом, иначе тот его «больше никогда не увидит».
В глубине души Книжник, чего греха таить, был рад тому, что Саша с ним и что он может любоваться своим красавцем и умницей каждый день и, главное, знать, кому передаст бизнес, в котором Саша уже успел преуспеть. Он вел дела настолько «цивилизованно», насколько это сегодня было возможно в России. Саша не любил эффектных понтов со стрельбой и считал, что не бывает таких проблем, которые невозможно разрешить путем переговоров. Папа его, как человек, приобретший свой огромный криминальный опыт за долгую жизнь в экстремальных условиях, был уверен в обратном, однако разубеждать сына не старался. Вместо этого он делал все, чтобы обеспечить ему надежное прикрытие. На всякий случай. Вот и в этой поездке Книжник был спокоен за безопасность своего сына в окружении двух прожженных оперов.
Под Ивангородом, уже почти на самой границе, они съехали, как обычно, с трассы на проселочную дорогу без указателя, асфальтовую, но с ухабами, перемежающимися огромными воронками, словно от бомбежки. Грузовик и «Лэнд Крузер» переваливались по ней, как жуки, около километра, пока не достигли окраины безлюдной деревни, где находилась заброшенная и частично руинированная колхозная МТС.
Станция, похоже, померла еще раньше, чем деревня, которая со своими серыми покосившимися избами с проваленными крышами из дранки, сорванными трубами и глазницами разбитых окон и уже совершенно не проезжей ни на чем дороги начиналась немного поодаль. На территории станции единственным зданием с уцелевшей крышей было нечто вроде сарая или амбара, на воротах которого до сих пор висел на удивление не сорванный никем здоровенный ржавый «амбарный» замок.
Чтобы лишний раз не мозолить глаза на трассе, караваны Книжника останавливались здесь не в первый раз. Ждали, когда погранцы, и те и другие, откроют «коридор», сообщат о времени и маршруте. От станции до границы ехать было двадцать минут. Для официального пересечения границы была одна дорога. Нелегально, в сотрудничестве с пограничниками, проехать в Эстонию и обратно через «зеленые коридоры» можно было еще в четырех местах.
В прежние рейсы Алехин садился в машину и пересекал границу первым, а за ним уже шел грузовик. Еще во время второго рейса, несколько месяцев назад, Сергей по собственной инициативе установил над воротами МТС, под козырьком крыши, между двумя ласточкиными гнездами, едва приметную инфракрасную камеру. На всякий случай. Она срабатывала на «движуху» и отправляла сообщение об открытии ворот ему на мобильный. Миниатюрная камера была запрограммирована снимать все происходящее на территории станции вплоть до окончания движения. Сработала она только один раз. На лося. Качество картинки было отличное. Кроме сохатого и их самих, в этот медвежий угол, похоже, никто никогда не забредал.
В ожидании звонка с границы все вышли из машин. Размяться, отлить и перекусить. Было шесть вечера. Ехали двенадцать часов, с двумя остановками на заправку и «пис-стоп».
День был тихий, теплый и приветливый. Если бы не налетевшая из леса мошкара, вообще райский. Лениво отмахиваясь от комаров, четверо бойцов и водитель грузовика по-хозяйски расстелили на траве клеенчатую скатерть, вокруг положили коврики-карематы. Как-то почти незаметно на «поляне» образовались бутерброды с колбасой, сало, маринованные огурчики, вареные яйца, жареные куриные ножки, хлеб, грибочки — в общем, чем богаты, тем и рады. Достали пластиковые стаканчики, стали открывать термосы с чаем и кофе. Шумели, хохмили, курили. Пригласили к столу и Сашу с ментами. Стволы лежали на земле у каждого под рукой. В лесу щебетали птицы. Откуда-то появился тощий рыжий кот, которого тут же пригласили за стол и угостили варено-копченой «Московской».
Алехин еще протирал влажной тряпкой лобовое стекло от прибитого к нему гнуса, когда Саша с Антоном приблизились к «столу» и открыли по «вечере» огонь на поражение.
За свою ментовскую карьеру Алехин повидал всякого, но к такому крутому развитию сюжета оказался явно не готов. Он не знал, какой план был у Книжника-младшего и Антона, но действовали они не только хладнокровно, но и явно скоординировано.
Менее чем через минуту все было кончено. Армия Книжника в составе пяти человек, окровавленная и мертвая, валялась в разных позах у накрытого стола с яствами, между которыми черной кровью расплывался кофе из опрокинутого и простреленного термоса. Залетного деревенского кота и след простыл. Других свидетелей не оставалось. Кроме подполковника полиции Сергея Алехина.
Закончив с застольем, Антон и Саша одновременно повернулись к нему и с непроницаемым выражением лиц навели на него стволы.
«Этого не может быть, — промелькнуло в голове у Сергея. — Это сон. Это не со мной происходит».
Он вообще словно впал в какой-то ступор, но… вдруг резко очнулся, увидев, как Саша вдруг перевел свой пистолет на Антона.
— Антон! — крикнул Алехин за секунду до того, как Саша выстрелил два или три раза.
По крайней мере, одна из пуль угодила Антону в правый бок, пока тот разворачивался. Антон, схватившись левой рукой за бок и попятившись, в свою очередь сделал три выстрела по Книжнику-младшему. Саша упал.
Алехин успел достать свой ПМ из-за пояса, но все еще не мог поверить, что Слуцкий действительно целился в него.
Антон поморщился, оторвал руку от раны и посмотрел на нее. Кисть вся была в темно-красной, почти черной крови. Антон покачал головой и, молча подняв голову, повернулся всем корпусом и посмотрел другу в глаза. Алехин держал свой ПМ обеими руками, вытянув их перед собой, но… никак не мог нажать на спусковой крючок.
Слуцкий еще раз покачал головой, словно удивляясь самому себе, и выстрелил. Он знал, что делает, — стрелял прямо в сердце друга. Алехин упал плашмя на спину и замер. Ключица, как минимум, была сломана, но что там ключица по сравнению с болью, пульсирующей у него в мозгу: «Антон… Как же ты мог?.. Хорошо, что броник высокий». Открытые глаза Алехина были неподвижны. Сергей был «мертв».
Антон сел на колени, проверил пульс на безжизненной руке друга, стянул с себя окровавленную рубашку, со стоном разорвал ее пополам, связал оба конца и, как мог, обвязал рубашку вокруг голого торса, прикрыв рану. Потом встал, шатаясь, дошел до своей машины, открыл багажник, положил пистолет на коврик, с трудом достал одну за другой (левой рукой он придерживал себя за бок) две двадцатилитровые канистры с бензином. В этот момент у Саши в кармане брюк зазвонил мобильник. Антон вновь инстинктивно схватился за пистолет. Когда эти звонки стихли, зазвонил уже его мобильный. Звонили с границы. Он поднес трубку ко рту и коротко сказал:
— Выезжаем. Ждите.
Затем подошел к убитым, раскинувшимся вокруг клеенчатой скатерти. Слуцкий облил каждый труп бензином, вылив на них всю канистру, и одной спичкой поджег сразу все тела. В небо взметнулся столп огня. Потянуло паленым мясом.
Открыв вторую канистру, Слуцкий так же облил и поджег тело сына Книжника. Сашины руки стали подниматься, словно хватаясь за воздух, а ноги согнулись в коленях и затряслись. Антон направил пистолет на агонизирующего, охваченного пламенем несостоявшегося Дона Корлеоне-II, но стрелять не стал. Саша горел с треском, как факел. Судороги прекратились.
Покончив с мертвыми бандитами, Слуцкий повернулся к Алехину. Тот продолжал лежать без движения. Пуля застряла у него в бронике под левой ключицей. Точно в точке номер двести девяносто шесть. Сергей видел над собой безоблачное ярко-синее небо и двух аистов, пролетающих на бреющем полете невысоко, прямо над ним. Ему казалось, что они поддерживают друг друга крыльями.
Все его чувства обострились. Он слышал, как большие птицы перекликаются между собой, слышал звук разгорающегося неподалеку костра и чувствовал запах гари. Окончательно придя в себя, Сергей вспомнил, что теперь нужно сделать, — и глотнул. Затем задышал, громко и прерывисто, и сел, упершись в землю руками и тряся головой.
Антон с пистолетом в руке стоял в метре прямо перед ним. Другой рукой он прижимал рану на боку, опустив открытую канистру на землю. Глаза у него сделались мутными, сквозь пальцы проступала кровь. Сергей поднял голову и, тяжело дыша, молча посмотрел в глаза другу.
— Прости, Сережа. Боливар не вынесет двоих… — Антон закашлялся нервным смешком и выстрелил другу в лоб.
Сергей инстинктивно зажмурился, но услышал лишь сухой щелчок. Выстрела не прозвучало. В обойме кончились патроны. Антон выругался себе под нос, нажал пальцем на кнопку. Пустой магазин беззвучно приземлился в траву. Он достал новый магазин из кармана, вставил на место ударом кисти, вновь направил дуло Сергею в голову и нажал на спуск.
И вновь осечка. Бледный как смерть полковник Слуцкий выронил пистолет, упал на колени и с хрипом повалился ничком перед Сергеем. Когда тот нагнулся над другом и перевернул того лицом к себе, все уже было кончено. Антон уходил на глазах. Сергей понял, что это агония. Он не знал, слышит ли его друг, и не знал, что сказать. Он держал голову друга на коленях, поддерживая рукой за подбородок. И молчал.
Вдруг Антон открыл глаза, с видимым усилием улыбнулся одними губами и спросил:
— Ты мне не поверил?
— Ты о чем?
— О мальчике. О соседе.
— Поверил.
— Ну и дурак.
Антон закрыл глаза. И умер.
Шесть трупов догорали в нескольких метрах поодаль. У Антона вновь зазвонил телефон в кармане. Сергей достал его, нажал прием и услышал:
— «Коридор» закрывается через пять минут. Где вы?
— Простите, мы не успеваем, — сказал Сергей и бросил было трубку, но через секунду вновь поднял ее, нашел номер Книжника и сам позвонил.
— Да, Антон. Слушаю, — голос Книжника звучал немного раздраженно, словно его оторвали от чего-то важного. — Антон, Антон… Я не слышу ничего…
Сергей кинул трубку на тело Антона, повернулся, побрел к амбару, встал на колоду перед воротами и снял камеру. Она продолжала работать. Он достал из нее флэшку, положил ее в карман, а камеру бросил на землю. Вернулся к телу Антона, поднял валявшуюся рядом зажигалку, облил его оставшимся в канистре бензином и поджег труп. Потом подошел к «Лэнд Крузеру», вылил остатки бензина на переднее водительское сиденье, кинул в салон зажженную зажигалку и, не оглядываясь, побрел к грузовику. Остановился, вытащил свой телефон, вернулся к машине и бросил его на горящее сиденье…
Лос-Анджелес. Июль
Чтобы отвлечься от воспоминаний, нахлынувших на него, словно из фильма о чьей-то чужой, нездешней жизни, Алехин включил телевизор, долистал до новостей. В верхнем углу экрана появилась надпись UKRAINE. В правом — МА-71 LONDON — BANGKOK. На экране между этими двумя надписями посреди какого-то мутного пейзажа поднимался черный столб дыма…
Глава седьмая «ЭЛ ДЖИ»
Донецкая область. Июль
В Первомайском «установку» закатили на трейлер. Накрыли брезентом, как могли. Поверх брезента — камуфляжем. Рыча и заливая окрестности черным, жирным дымом, добавляющим цвет дегтя в серую палитру облака пыли, трейлер по главной дороге степенно и сурово отправился в обратный путь. На родину. Двести кэмэ до Ростова, где установку перегрузят на поезд и отправят эшелоном до Курска.
Расчет расположился на лавочках у здания почты в ожидании Михалыча, прапорщика Грязнова, который и должен был с минуты на минуту забрать их и проследовать назад тем же маршрутом. Броники, автоматы, рация — все это поехало в машине охраны и сопровождения вместе с тягачом. Зенитчики оставили себе только табельное оружие — «пээмы».
Жара, мухи, бессонница, тлетворно приторный запах дизеля, пропитавший за сутки все тело до косточек. Солнце, как доменная печь. Все руки пообжигали о броню. К чему ни прикоснешься, хоть ссы на пальцы — а то волдырь вскочит. А в поле, пока ждали пуска, и вода кончилась. По дороге до Первомайского — ни одной реки, прудика или хотя бы лужи.
У первого же сельпо остановились. Затарились водой. Электричества в селе два дня как нет. Вода теплая. Жажду не утоляет. Купили колбасы «Докторской» и хлеба. После того как погрузили комплекс на тягач в условленном месте у почты, все вчетвером развалились на обшарпанных лавочках в дырявой, как старая рыболовная сеть, тени подвядших кривых абрикосов. Все в пыли, машинном масле. Куртки мокрые насквозь. За пару дней в пути на спинах образовались мишени из соляных кругов высохшего пота.
Пили и пили. Не могли остановиться. Капитан Курочкин, лейтенанты Федулов и Картавов пили газированную «Левобережную». Четвертый номер расчета — прапорщик Калужинов жадно пил теплую, пузырящуюся, как из огнетушителя, кока-колу из двухлитровой пластиковой бутыли. Пил, рыгал и икал одновременно. Остальные тоже булькали газами и смеялись над прапорщиком. Хлеб съели. Капитан попробовал колбасу, сказал, что испортилась, и они без особого сожаления (из-за невыносимой жары аппетитом никто не страдал) кинули ее местному Шарику. Тот сожрал килограмм подтухшей «Докторской» и разлегся кверху пузом под лавкой, вытянув на всю длину подрагивающие в судорогах удовлетворения костлявые, содранные на суставах лапы.
Дверь почты была заперта на амбарный замок, похоже давно. На ней висела кособоко прилепленная скотчем выгоревшая бумажка с текстом, в котором можно было разобрать только первые три заглавные буквы и восклицательный знак в конце «ВНИ…!» Кругом не было ни души. Два деревянных дома по соседству, серые, некрашеные, со щербатым шифером на крышах, стояли с окнами, забитыми поржавевшими неровными листами тонкой жести. Перед ними зияли палисадники с низкими, ржавыми, покосившимися проволочными заборчиками и высохшими кустиками бывших цветов, сгоревших на солнце вместе с высокой серой травой.
Для выполнения команды «передвигаться предельно скрытно» в поселке Первомайском Донецкой области не требовалось специальных усилий.
Офицеры молчали. С тех пор как лейтенант Федулов не выдержал и спросил перед пуском: «Откуда, б…дь, военный транспортник на высоте, б…дь, девять тыщ?», а комрасчета вежливо попросил его «на х…й заткнуться», никто больше о пуске не заговаривал. Ждали Михалыча. А говорить было о чем. Все знали, что целей оказалось две, и что ни одна из них по размеру на военную не походила, и что ракету пускали по нижней. Странное задание было выполнено. Пуск был сделан в 12.20. Цель поражена. Теперь нужно доехать до дома и там уже можно начать думать.
Через двадцать минут после условленного времени, в 16.40, показался «уазик» в новеньком камуфляже с незнакомыми номерами. Подъехав, он остановился, подняв облако пыли, из которого вышел не Михалыч, а незнакомый приземистый военный без знаков различия, без броника, но в туго набитой разгрузке, с приветливым широким рябым лицом и словно приклеенными, ухоженными и закрученными вверх, как у Чапаева, серыми от пыли усами.
— Капитан Курочкин? — прибывший военный приветливо оглядел отдыхающий расчет.
— Так точно. А с кем?.. — мельком глянув на корочки и поднявшись с лавки, спросил капитан.
— Я майор Кравченко, — незнакомец протянул свою «корочку». — У меня приказ лично подвезти вас и людей до Кожевни, где вас будет ждать ваша машина.
— А наш водитель?
— Вот он вас там и будет ждать.
— Понятно. А где эта Кожевня?
— На самой границе. Не помните? Должны были проезжать, когда сюда ехали.
— Не помню. Ночью было, — сухо ответил Курочкин.
— Ну что? По коням? Багажа, я вижу, у вас немного. Это хорошо, а то у меня генератор в багажнике все место занял. Везу в ремонт. Здесь генераторы летят, как…
— Сейчас. Одну минутку, — не дослушав, оборвал Курочкин и достал из брючного кармана мобильник. Пока набирал номер, увидел, что зоны нет. Выключил. Снова включил. Ничего не изменилось.
Курочкин был единственным в расчете, кому на время операции было разрешено иметь с собой мобильник, но со строгим наказом — держать его выключенным все время нахождения на Донбассе. За исключением экстренных случаев.
Документы у майора были в порядке. Однако не предупрежденному о замене машины Курочкину случай представился экстренным. Но — «вне зоны действия сети».
— У нас тут со связью беда, — продолжал Кравченко. — До Мариновки доедем, там сигнал хороший. У вас МТС?
— А далеко это, товарищ майор? — включился в разговор Федулов.
Весь расчет был уже на ногах. Лица оживились. Глаза из-под пыли заблестели.
— До Мариновки-то? Сорок килóметров будет, — бодро ответил майор, развернувшись и направляясь к машине. — Дорога говно. Но за час допилим с божьей помощью.
Майор открыл багажник, достал тряпку, протер, а скорее, размазал пыль по стеклам «уазика» и открыл все двери.
— Поедем в тесноте, да не в обиде, — засуетился он. — Пацаны похудее, втроем на заднее, а товарищ капитан — со мной.
Внутри машины была просто парилка. Кондиционер сломался на второй день эксплуатации, пожаловался майор. Скорость на ухабах невысокая. Окна открыть — вся пыль в кабину.
— Пар костей не ломит, — добавил он.
Попутчики молчали, обливаясь потом и допивая уже вторую порцию газированной жидкости. Навстречу минут десять с оглушительным ревом и лязгом шла, по ощущениям, целая танковая бригада новеньких, хоть и покрытых толстым слоем пыли Т-72. Разъехаться было трудно. Остановились на обочине, ждали. Вышли в кусты отлить, вернулись и снова ждали. Дышать, что на улице, что в машине, было нечем. Когда танки прошли, еще минут пять ждали, пока уляжется пыль.
Первым нарушил тишину Калужинов, обращаясь, видимо, ко всем сразу:
— Купил жене стиралку. «Эл Джи». Год копил. А она прыгает так, что вся квартира ходуном. Что делать?
Прапорщик-контрактник Калужинов был единственным в расчете родом из Курска, где дислоцировалась их 329-я зенитно-ракетная бригада ПВО Сухопутных войск Российской Федерации.
Капитан же, родом из Читы, с женой и двумя детьми жил в съемной однокомнатной квартире на окраине Курска. Оба неженатых лейтенанта, один из Норильска, другой из Мурманска, жили в общежитии, расположенном в комплексе бывшего женского монастыря, по два человека в кельях три на два метра.
По сравнению с остальными членами расчета механик-водитель Калужинов жил, как падишах, — прямо рядом с частью в роскошной трехкомнатной квартире в «хрущевке» без лифта, на третьем этаже, с матерью, парализованной теткой, беременной женой и ее пятилетним сыном от первого брака. Поэтому его разговор про стиральную машину поддержать было особенно некому. Разве что майору с капитаном.
— А чего жена прыгает-то? — сострил майор, у которого на каждом ухабе пот капал со лба на усы, а оттуда, как с тающих сосулек, на грудь и на руки на руле. — От счастья?
Майор говорил с сильным южнорусским акцентом с фрикативным «гэ» и оборотами то ли ростовского, то ли донецкого говора, перемежая речь, как старший по званию, крепкими матерными выражениями.
— Да не жена прыгает, — серьезно ответил прапорщик. — А машинка. Так прыгает, прям от пола отрывается.
— У моего старшего брата так было, — вступил в разговор Картавов. — Он учитель физры в ПТУ. Так он принес домой две двухпудовые гири. В училище их никто, кроме него, все равно поднять не мог. Поставил на машинку — стала меньше прыгать.
Все, кроме прапорщика, дружно засмеялись, пока «уазик» не подскочил на очередном ухабе так, что хохотуны едва шеи не сломали, ударившись головами о потолок.
— Бли-и-и-н! — Картавов резко прижал грязную кисть к губам. — Бли-и-и-н! Язык прикусил… — он сплюнул кровь на пол между ног.
— Раньше делали машинки из стали, как все остальное, — продолжил разговор майор. — А теперь х…й знает из чего. Экономят на всем. Япошки хитрожопые.
— «Эл Джи» корейцы делают, — опять серьезно сказал прапорщик.
— Что корейцы, что японцы — все один хер косоглазые, — заключил Кравченко.
В этот раз даже прапорщик рассмеялся. А капитан только улыбнулся. Одними губами. Его мать была наполовину буряткой, и он унаследовал от нее широкие скулы, раскосые темные, как уголья, глаза и кривые ноги.
Вдруг вспомнилось, как в детстве, лет в пять, он болел с высокой температурой, а бабушка, одетая во что-то похожее на матрас, сидела у его кровати, склонившись над ним, и что-то непонятное быстро-быстро шептала своим беззубым ртом, закрыв глаза, покачивая головой и обдавая его лицо теплым прокуренным дыханием, в котором табак был вперемешку с луком, рыбой и — спиртом. А мама с папой что-то очень громко говорили друг другу на кухне. Понял потом, что ругались. На следующий день он выздоровел, а бабушка уехала назад на Байкал. И больше он ее не видел. Хоть и осталось это самым стойким воспоминанием из всего детства.
У Курочкина в курской квартире стиральной машинки не было. Зато была стиральная доска. С премии за эту мутную командировку (обещали чуть ли не месячный оклад за четыре дня пути и один-единственный пуск) они с Таней и планировали машинку купить и в зале обои новые поклеить. Теперь он точно «Эл Джи» покупать не станет, подумал капитан. А то та будет детей по ночам будить.
Когда вновь замолчали, капитан вдруг спросил, обращаясь к майору:
— Новости не слушали сегодня?
— А здесь мертвая зона, — ответил майор. — Ни трубка, ни радио ничего не ловят. Здесь вообще народ живет, как при царе Горохе. Деньги непонятно какие — рубли и гривни вперемешку. Цены поэтому, даже в Донецке, я слышал, х…й проссышь. Электричество чуть ли не по карточкам. Никто не працюет ни хера. Вооружили долбое…ов, а воевать никто не хочет. Алкаши и наркоши. Ополченцы-х…еченцы. Мы, б…дь, за них воюем! Вот мы уйдем, придут бандеровцы, б…дь. А за ними — негры с поляками. Вые…ут всех и высушат. А потом замочат. Не доводя до сортира, б…дь!
Не в меру распалившийся на ровном месте майор, который еще минуту назад весело шутил, резким движением подхватил пачку «Мальборо» из бардачка перед капитаном, повертел в руке, понял, что «не в тему», бросил сигареты назад, хлопнул с размаху крышкой бардачка:
— Достала эта бодяга!
Все помолчали с минуту-две. Потом майор продолжил:
— А если ты за новости, товарищ капитан, то все тихо и спокойно. На западном фронте, б…дь, без перемен, на х…й. Сбили наши сегодня очередной укропский транспортник. Так что все путем. Победа, б…дь, будет за нами. И п…дец.
— Кому? — спросил прапорщик серьезным тоном.
— Им. Кому… — майор и глазом не повел. — А потом вам… То есть нам.
— А нам-то — за что? — мгновенно среагировал молчавший всю дорогу лейтенант Федулов.
Никто не засмеялся.
У скелета какого-то жестяного ангара снова пришлось остановиться и ждать с закрытыми окнами. Шли «Грады» и самоходки. Но в этот раз колонна была поменьше. Через пять минут продолжили путь. Снова сквозь кромешную пылевую и дымовую завесу.
Когда у всех уже вновь пересохли губы и начали плавиться мозги, остановились на автобусной остановке в метрах двадцати от магазинчика в Мариновке. До границы оставалось минут двадцать, не больше.
— Лучше здесь особо не светиться, — сказал майор, когда капитан и остальные начали дружно открывать двери. — Двери-то откройте, а сами сидите в машине. Не высовывайтесь.
— Это приказ, — добавил майор и спросил: — Я в лавку. Чего кому взять?
— Возьмите нам, пожалуйста, воды по большой бутылке, — ответил за всех капитан и начал доставать кошелек из нагрудного кармана.
— Не парься, капитан, — с улыбкой сказал майор, остановив своей рукой руку капитана. — Сегодня я угощаю!
Все опять засмеялись. Тут, спохватившись, капитан спросил прапорщика, что тот будет пить, и окликнул майора, который уже был в дверях магазина:
— Прапорщику кока-колу, пожалуйста!
— Есть, товарищ генерал! — майор театральным жестом взял под козырек и исчез в дверях магазина.
Курочкин достал телефон и включил его.
«Просто проверю, есть ли зона», — решил он.
Зона сразу замигала аж четырьмя палочками, а телефон запиликал сообщениями. Капитан прочитал оба, одно за другим. В первом курский супермаркет «Билла» предлагал пятидесятипроцентную скидку на все сорта кофе, но только на 30 июля. Второе было от жены Танечки: «Я соскучилась. Как ты там? Привези нам из Ростова бутылочку нефильтрованного подсолнечного масла. На рынке поспрошай. Люблю».
— Товарищ капитан, мне бы выйти, — Калужинов приоткрыл дверь.
— Зачем? — не отрывая глаз от телефона, спросил Курочкин.
— Ну, по нужде…
— А раньше что ж?
— Так приспичило.
— А, ты в этом смысле, — въехал в тему капитан. — Ты же колбасу вроде не ел? Ее же Шарику скормили, нет?
Лейтенанты дружно оскалили зубы.
— Ну, товарищ капитан…
Курочкин посмотрел на дверь магазина. Майора видно не было.
— Ты слышал, что майор сказал? Не светиться. Сейчас он вернется, я скажу.
Калужинов тяжело вздохнул и промолчал.
Курочкин еще раз взглянул на дверь, в которой исчез майор. Ему самому вдруг нестерпимо захотелось выйти из «уазика». И не просто выйти, а быстро, бегом бежать от этого места — куда угодно, не разбирая дороги, лишь бы только побыстрее и подальше.
«Что такое? — не понимая, что с ним творится, подумал капитан. — Никогда такого не было…»
Чтобы переключиться и унять неожиданно просквозившую вдоль позвоночника ледяную волну, он, не поднимаясь с пассажирского сиденья, начал настукивать ответ жене: «И я…»
Вдруг от сильного толчка рука капитана дрогнула, и сообщение из двух букв отправилось в Курск. Танечка так и не узнала, что «и он», потому что в тот момент, когда палец Курочкина непроизвольно задел кнопку «Отправить», «уазик» уже взлетел на метр над землей, потом с грохотом и лязгом приземлился и через несколько секунд стоял, весь объятый огнем и черным дымом.
Продавщица лежала на полу среди кучи осколков от разбившихся оконных стекол. Майор за секунду до взрыва присел на корточки под подоконник, наклонившись, вжав голову в плечи и закрыв ее руками, в одной из которых держал черный пластиковый пульт с кнопками и антенной, похожей на те, какими дети на улицах управляют машинками и вертолетиками. Когда взрывная волна прошла, он выпрямился и стряхнул с себя осколки стекла. Выглянул в разбитое окно, увидел горящий автомобиль, достал из разгрузки «Макаров», потом, убедившись, что из машины никто не выбрался, вернул его на место.
Затем вытянул из кармана бурые в трещинах перчатки из грубой кожи, надел их, выбрал с пола узкий и длинный осколок размером со столовый нож, зашел за прилавок, где на спине лежала продавщица с красным лицом, вся в слезах, не переставая креститься. Кравченко опустился перед ней на одно колено, левой рукой зажал ей рот и, прижав голову женщины крепко к полу, правой рукой вонзил ей осколок точно в сонную артерию.
Майор быстро вскочил на ноги, опасаясь быть забрызганным кровью, и вышел из магазина, пока продавщица на полу билась в конвульсиях, выдернув окровавленными от порезов руками осколок из шеи. Кровь фонтаном со свистом заливала ей грудь.
На улице он еще раз взглянул на горящий «уазик», обошел магазин с другой стороны, сел в припаркованную там «девятку» с ростовскими номерами. Машина завелась с пол-оборота, и майор, не оглядываясь, поехал в сторону границы.
Между тем Таня Курочкина несколько раз пыталась дозвониться мужу, но абонент был недоступен. Она отправила ему несколько сообщений, прося перезвонить, как только он их получит. Смски уходили в неизвестность, но сигнала об их доставке адресату не поступало.
Поздно вечером она позвонила командиру дивизиона и командиру бригады. С тем же результатом. Всю ночь не спала. Утром ей позвонила Нина, машинистка из штаба бригады, ее подруга, и сообщила, что командир дивизиона майор Крючков находится в госпитале, в реанимации, с тяжелым отравлением, а командир бригады подполковник Горовой вообще с вечера исчез. Никто, включая жену, его найти не может.
— Даже его эта самая… ну, ты меня пóняла… Люська наша, по секрету, не в курсе, где комбриг, — с нервным и ревнивым смешком добавила Нина. — От курочкинского расчета тоже ни слуху ни духу. Но вроде как на учениях в Ростове. Так что скоро по-любому объявятся. А у нас здеся покаместь непонятки одни творятся. В общем, дурдом.
И действительно — через полчаса Курочкин «объявился».
Сердце Танечки тяжело бухнуло, когда ей пришло сообщение от мужа. «Период ожидания данного абонента истек», — прочитала вслух Танечка и заревела.
Глава восьмая ОТКРОВЕНИЕ
Донецкая область. Июль
Дождя не было давно. Оводы и слепни устало гудели и трусливо, украдкой опускались на ее голые иссохшие руки, покорно сложенные на коленях. Руки были словно из задубелой кожи, с глубокими трещинами морщин. Казалось, расправь она кисти, вытяни пальцы — и кожа с них осыплется глиняными черепками. Кровеносные сосуды отчетливо выделялись на ней, как синюшные линии рек и притоков на выгоревшей, вымоченной и успевшей просохнуть контурной карте. Жужжащие и подрагивающие заостренными задницами в предвкушении скорого утоления жажды кровососы с трудом прокалывали заскорузлый панцирь, и, не находя крови, разочарованно улетали прочь в поисках иных источников пропитания.
Полина Трофимовна не обращала на них никакого внимания. Она почти не слышала их висевшего в воздухе тонкого хорового жужжания и не чувствовала укусов. Ее подслеповатые глаза без очков были точно большие бельма, отреченные, без всякого выражения, словно слепые. С прямой спиной и широкими худыми плечами-коромыслами издалека она казалась огородным чучелом, с которого слетела шляпа и которое, утомившись в бесплодных поисках головного убора, присело на лавочку отдохнуть.
Казалось, полуистлевший пергамент ее вытянутого худобой лица состоит почти из одних морщин. Морщины руслами высохших ручейков стекали вниз по щекам; над тонкими, как бечева, бескровными, словно сросшимися губами отчетливо выделялся круглый, неровный, расплющенный нос, покрытый широкими загрубевшими порами, из которых местами торчали угри. Они напоминали ростки на старой картофелине.
Надето на ней было какое-то рубище, отдаленно похожее на демисезонное, шитое-перешитое, стиранное-застиранное, бесцветное и бесформенное пальто. На ногах даже сквозь калоши на босу ногу выпирали с внутренних сторон ступней и лодыжек круглые, словно камушки-гладыши, косточки.
Она сидела так, казалось, все восемьдесят два года своей жизни. Словно жизни и не было. То есть жизни не было в ней, жизнь проходила, пробегала, проползала где-то рядом — спереди, сбоку, сзади — по траве, по кустам, перелесками, закоулками и огородами. Вечные соседские дети, сидя на корточках в пыли посреди улицы-дороги, пытались насосом с рваным шлангом накачать истлевшие шины своих велосипедов с сорванной цепью и нерабочим звонком. Едва отличимые друг от друга мужики и бабы брели на работу на шахту или в магазин за водкой, хлебушком и колбаской. На обратном пути их уже можно было различить: мужики шатались и падали. Бабы тащили сумки и детей из детского сада. И так каждый день.
Потом шахты одна за другой позакрывались. Мужики, которые еще могли в руках держать молоток с драночными гвоздями, уехали шабашить, а те, что остались, окончательно спились. Бабы, правда, все так же брели на остановку и тряслись на желтом «пазике», плетущемся мимо разрушенной прогрессом шахты «Прогресс» в город, где до недавнего времени можно еще было найти хоть какую-то работу и торговали магазины. В Вершках генделик, существовавший с рождения Полины Трофимовны, закрылся еще в 90-х. Всю жизнь был — и вот исчез. Как не было.
Зимой она почти не выходила на улицу. Топила печку, вязала и перевязывала одни и те же носки из грубой, серой и сыплющейся, как память, шерсти. На улицу выходила только для того, чтобы откопать дверь и крыльцо из-под снега. Внучатая племянница Нинка, которую Полина Трофимовна звала крестницей, получала за нее в городе пенсию и там же покупала ей самое необходимое.
Отец не вернулся с фронта во Вторую германскую. Даже письма ни одного не получили. Мать работала у фрицев прачкой. После войны ее сослали на поселение в Норильск, а Поля в двенадцать лет осталась с теткой и бабушкой. С северов мать не вернулась. Два письма от нее остались. После школы Полина устроилась в Торезе на пищевкусовую фабрику разметчицей. Так и проработала там до пенсии. Ничего не наработала, только руки поизносила.
Первый муж ее любил, пил и бил. Зимой по пьяной лавочке переходил речку ночью со смены, провалился одной ногой в полынью, да так и заснул. Проснулся — а нога вмерзла в лед. Дергался, кричал. Люди прибежали. Топором и ломом долбили лед в полынье. Ногу ампутировали. Он совсем лютым стал. Пил и пил. Угрожал, матерился, ругал за бездетность и за инвалидность свою. Как напьется, так сразу — за нож или за топор. Был бы на двух ногах, убил бы. Но гангрена выше пошла, и помер он. Убивалась она страшно. Выла от горя. Любила. Хоть и пьяница и бузотер, но свой, родной. Он же несерьезно это — за топор. Ну, характер такой у мужика, они ж все такие, вон и в городе тоже.
Второй муж был справным. Особо не прикладывался. Разве что по праздникам. Поправки ради. Работал мастером на ТЗШК — Торезском заводе шахтовой крепи. В конце 70-х поехал на шахту Розы Люксембург — эту самую крепь, ими поставленную, проверять, но попал под обвал. Достали через два месяца. В закрытом гробу останки хоронила. Без единой слезинки. Выплатили компенсацию — целых сто двадцать рублей. Из конторы в магазин зашла — купить на поминки что: селедочки там, беленького, помадки цветной, — и украли у нее кошелек со всеми деньгами.
Потом сократили ее на производстве под пенсионный возраст, и просиживала она день-деньской с тех самых пор, после всей этой кривой жизни, с прямой, как палка, спиной на завалинке. Словно изваяние. То деревянное, то глиняное, то каменное. По погоде. А погода в это военное лето была сухая и удушливая.
Вот так и сидела она и в этот день в ожидании чего-то. Не то дождя, не то второго пришествия. И одно из них случилось. За околицей в поле что-то ухнуло, словно гром, и следом на окраину Вершков, на дорогу, поле и лес посыпался тяжкий град из человеческих тел, рук, ног, голов, чемоданов, кресел и железок, что падали прямо с неба в облаке огня и дыма.
— Свят, свят, свят, — поднялась она, с трудом оторвав одеревеневшие мослы от лавочки, перекрестилась три раза, повернулась и с такой же прямой спиной вошла обратно в дом.
Дома умылась под висящим на стенке цинковым умывальником, вымыла ноги, переоделась в белую полотняную ночную рубаху до пят, взяла с телевизора потрепанный томик с заложенной очками страницей, зажала ее заскорузлым, скрюченным пальцем, надела очки, легла на кровать, прямо на одеяло в блеклых цветных заплатах, поморгав, привыкла к полумраку, вою сирены и крикам на улице и начала читать: «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы…»
Ополченцы, отряд человек в двадцать, на джипе и грузовике, прибыли в Вершки через полчаса.
— Дедер, это я, Копатель! — тонким, высоким, почти женским голосом кричал в трубку Алексей Чепурных, аспирант кафедры археологии и краеведения исторического факультета Томского государственного университета, доброволец, романтик русского мира и по совместительству командир роты Отдельного батальона особого назначения ДНР. — Вы не представляете, что здесь происходит! Полная вакханалия!
— Что там, б…дь, такого происходит? — Дедер, начальник гарнизона Тореза, местный житель, был человеком, к экзальтации не склонным. До того как стать главным командиром ополченцев в Торезе, он служил заместителем начальника охраны исправительной колонии № 97 в Макеевке. — Ты, б…дь, можешь на человеческой мове изобразить? Або тебе перекладача трэба?
— Дедер, здесь… — Копатель запнулся, снял пилотку фасона Второй мировой войны, вытер ею красное тонкое безусое лицо с большим нарывающим прыщом на подбородке и, замешкавшись с подбором слов, прокричал: — Адский ад! Грабеж и мародерство!
Он хотел было добавить междометие «б…дь» и даже задержал для этого дыхание, но у него в который раз не получилось. Алешенька, как к нему с нежностью обращались все дамы на кафедре (а он там был единственным мужчиной), матом ругаться не умел и до своего прибытия на Донбасский фронт делать этого не пробовал. Археолог с позывным «Копатель» принадлежал к вымирающему виду восточносибирской интеллигенции, унаследовавшей свои традиции от ссыльных декабристов, и резонно считал, что в его словаре достаточно языковых средств для выражения мыслей без использования слов-паразитов.
— Ты мне вот чего скажи, — перебила его трубка. — Это борт ВСУ?
— Я не знаю ничего ни про какой борт, но здесь десятки, если не сотни мертвых везде и повсюду, — ответил Копатель. — По моему убеждению, здесь разбился пассажирский самолет. Вы меня понимаете, Дедер?
Дедер молчал. Никто не знал, как на самом деле зовут Дедера. Дедер и Дедер. То ли имя, то ли фамилия, то ли позывной. В личном общении подчиненные обращались к нему «товарищ Дедер». По рации и телефону — просто Дедер, как к позывному.
Дедер лично назначил археолога командиром роты, как он говорил, «для прикола», «а если серьезно», то чтобы у него «хоча б один ротный не был дурнем чи дебилом». На самом деле остальные ротные — один бывший местный зэк и четыре бывших военных из России — были далеко не идиотами, просто Дедер всех местных добровольцев, по определению, величал «дебилами», а приезжих — «дурнями», ничего особенно оценочного в эти понятия не вкладывая. Дедер совмещал склонность к садистской жестокости — качеству, выработанному годами работы в исправительной системе, — со здоровым, как ему самому казалось, солдатским юмором и презрением к роду человеческому. Например, он любил выводить пленных бандеровцев на расстрел, ставил их лицом к стенке, а сам усаживался с «расстрельной» командой у противоположной тюремной стены, у здания бывшего КПЗ. Они молчали, курили, смотрели на пленника в ожидании того, когда тот обмочится, обделается или потеряет сознание. Вот тогда уже, натешившись вдоволь, они отводили «расстрелянного» назад в камеру.
Однако, чтобы узникам жизнь не казалась медом, время от времени пленных расстреливали по-настоящему. И не только пленных. Однажды Дедер лично пристрелил одного из своих солдат. Перед строем. Бедолагу мародера опознала подслеповатая старушка, у которой, по ее словам, тот ограбил квартиру.
Дедера боялись и уважали. Копатель чувствовал себя при нем, как комиссар Фурманов при Чапаеве. Он был вообще единственным из подчиненных, кто осмеливался спорить с Дедером. В том числе и по поводу бессудных расстрелов. Поначалу Дедера это забавляло. Потом, утомившись состязаться с «ботаником» в красноречии, он поставил точку: «Я здесь суд, прокурор, судья и защитник, поня́л? И других защитников нам не трэба».
— Ты уверен, что борт гражданский, Копатель? — в минуты особой важности Дедер переходил с суржика на чистый русский, даже без фрикативного «гэ». — На сто прóцентов?
— Никаких сомнений, — ответил Копатель. — Все тела и части тел в гражданской одежде. Много женщин и детей. Никакого оружия или боеприпасов. Чемоданы и сумки все гражданские. На обломке крыла написано «Айрвейс»[28].
— Что написано?
— «Айрвейс».
— Что, б…дь?
— «Авиалинии».
— А что там, б…дь, должно быть написано? Железная, б…дь, дорога?
— Я в том смысле, что — самолет гражданский. На военных не пишут «Авиалинии».
— А, ты в этом смысле. Да, б…дь… попали, б…дь…
— Что?
— Ничего. Забудь, б…дь. Так что там, ты говоришь, с мародерством, б…дь?
— Местное население обворовывает трупы. Снимают одежду, украшения, часы. Роются в багаже, уносят вещи.
— Расстреливать на месте, б…дь!
— Так тут одни женщины и дети!
— Я про местных жителей, а не про пассажиров, б…дь!
— Я тоже про местных. Беспредельничают старики, женщины и дети. Да еще пожарный расчет из Тореза. Тушили горящие обломки, вода у них кончилась, тоже теперь бегают по полю, переворачивают трупы, тащат багаж в свою машину.
— Зрозумив, б…дь. Пристрели кого-нибудь, б…дь, чтоб разбежались! Или, б…дь, в воздух постреляй! И жди меня, б…дь! Сколько, б…дь, у тебя людей?
— Восемнадцать.
— Двадцать восемь, б…дь, панфиловцев четырнадцать танков фашистских, б…дь, подбили. А ты, б…дь, не можешь, б…дь, мирное, на хер, население разогнать с целым, б…дь, взводом?! Я щас подъеду. Держи, б…дь, оборону, никого не подпускай! Ищи, б…дь, черные ящики!
— А как они выглядят?
— Ящики, б…дь! Черные, б…дь, ящики! Черные! Зрозумив?
— Понял.
Дедер повесил трубку и задумался. Из рассказа «ботаника» он понял только одно — дело плохо. Он не знал, что там случилось на самом деле, чей это был самолет и кто его конкретно сбил, но понимал, что сбили или ополченцы, что вряд ли, или… Но точно не «укропы». Дедер утер тыльной стороной ладони выступивший на лбу пот, встал из-за стола и начал собираться на выезд.
Как всякий вертухай со стажем, он первым делом начал просчитывать возможные последствия персонально для себя. По прикидкам Дедера выходило, что его за это никто из начальства не вздрючит. На донецких ему было положить с прибором, поскольку подчинялся он им чисто формально, а до Ростова от Тореза было далеко. Не говоря уже о Москве.
— Ну что ж… — спрятав телефон, археолог достал из кобуры ТТ. — Будем стрелять.
Но стрелять, кроме него, было некому. Все до одного его бойцы, в разнообразных камуфляжах, брониках и разгрузках с автоматами за спиной, уже топтались по задымленному полю среди местных мародеров в поисках, чем бы поживиться. Они переворачивали трупы, поднимали куски тел, что-то снимали с них, бросали обратно в выгоревшую, нескошенную траву. Единственными, кто не участвовал в грабеже, были Копатель с пистолетом в руке и две буренки с выпирающими, как каркас, ребрами, которые паслись метрах в ста от последнего дома, после которого начиналось поле.
Дым уже заволок полнеба. По полю, заваленному трупами и обломками самолета, передвигались мутные тени.
— Это же просто Босх, — прошептал археолог. — Чистый Иероним Босх. В оригинале.
Солнце почти скрылось в черной дымовой завесе.
«Наверное, вот таким явилось солнечное затмение воинам князя Игоря», — продолжил рефлексировать ополченец-романтик Алексей и, смутившись своим несвоевременным мыслям, с пистолетом в руке двинулся к толпе.
Навстречу ему из дыма выбежали два чертика. Один поменьше, другой побольше. На секунду Копателю показалось, что это видение и он сходит с ума. Он передернул затвор. Чертик побольше гнался за другим, приближающимся к Алексею. Наконец, Копатель разглядел, что это были дети лет восьми — десяти. На обоих были детские маски с трубками для сноркеллинга. На одном бледно-розовая, на другом ярко-желтая. У того, кто догонял, на руках были надеты темные ласты, и он угрожающе ими размахивал, что и сбило Копателя с толку. С визгом, который заглушали маски и трубки, дети пробежали мимо него по направлению к селу.
За ними какая-то старуха в махровом линялом халате и в тапочках на босу ногу, упираясь из последних сил и матерясь, катила детскую коляску, из которой торчали два чемодана. «Как она их туда засунула? — подумал Чепурных. — Как же расторопен и смекалист становится наш народ в счастливые мгновенья присвоения чужого добра!» Старуху с чемоданами командир ополченцев тоже не остановил. Она так и прочертыхалась мимо, как несмазанная телега, не останавливаясь и не поднимая на него глаз.
За «старой телегой» из дыма выплыла, покачиваясь, громадная фигура, которая что-то несла под мышкой, придерживая это обеими руками. По приближении археолог разглядел в фигуре высокого сильно нетрезвого мужика с огромными плечами в синей, выгоревшей спецовке навыпуск, под которой начинались длинные голые волосатые ноги с огромными пятнами ссадин на коленях. Мужик был не только без штанов. Он был еще и босой. Под мышкой он нес две окровавленные тонкие руки с торчащими из них белыми обломками костей.
Археолог не знал, что перед ним — живая легенда местного фольклора, бывший знаменитый углекоп, а ныне рядовой наркоман Артем Карзухин. Карзухин прославился на всю округу не тем, что был шахтером и одновременно алкашом, который трезвым просто не спускался в забой — этим тут никого не удивишь. Легендарен он был потому, что опохмелялся уже в забое электрическим током.
В шахте той, как и почти везде на Донбассе, добывали уголь антрацит. Для мужика двухметрового роста, как Карзухин, вагонетки были словно игрушечные. Сверху, под сводом забоя, шел голый кабель. Перед вагонетками — микротрамвай с дугой. Дуга касается кабеля, второй контакт — рельсы. Одной рукой Карзухин брался за кабель, другой — за металлический борт вагонетки. Ток был большой, но для него не смертельный, однако свидетели утверждали, что у Карзухина при этом из глаз и из ушей сыпались искры, а тело его все сотрясалось и извивалось, как в пляске святого Витта. Карзухину, правда, для этого номера нужен был еще и ассистент, чтобы помочь ему разжать руку после электроопохмелки, что в одиночку не всегда получалось, даже у такого здоровяка. Опохмелившись таким образом, Карзухин дальше работал абсолютно трезвым и порой выдавал на-гора по две-три нормы. В передовиках ходил. На Доске почета из-за пагубной привычки «не висел», но шахтеры между собой называли его «наш передовик алкоголического труда».
Появившись на месте трагедии одним из первых, Карзухин попытался стянуть кольца и перстни с пальцев двух оторванных рук, на которые наткнулся в поле, но у него сразу не получилось. Инструмента с собой не было. Не отрывать же пальцы на виду у всех. Вот и потащил руки домой целиком.
Когда Копатель разглядел, что держит в руках этот голем, он сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом направил пистолет на шахтера. Тот остановился и осклабился:
— Ты что, командир? Там еще есть. Иди, собирай.
— Стой! — закричал Чепурных, как ему самому казалось, страшным голосом. — Стрелять буду!
Карзухин остановился, потряс головой и бросил одну из рук к ногам ополченца:
— На, сука, подавись, пидарас е…аный!
Чепурных молча поднял пистолет еще выше, направив его прямо Карзухину в лицо. Тогда окончательно слетевший с катушек великан совершил то, чего никто не мог ожидать и от чего даже у него самого волосы встали дыбом. Он схватил обрубок конечности двумя руками, поднял его к лицу и, мотнув головой, с рычанием, как голодная цепная дворняга, впился в руку кривыми желтыми клыками.
— Е… твою мать! — выдохнул аспирант-археолог Чепурных.
С закрытыми глазами засадив всю обойму в лицо сума-сшедшему, он сам потерял сознание и повалился наземь, в сухую некошеную траву, как Вещий Олег после встречи с черепом любимого коня.
Глава девятая «КАМАНДАРИЯ»
Шереметьево. Июль
Алехин полулежал с закрытыми глазами в огромном кресле салона первого класса. Он выпил уже три или четыре бокала виски, но мозг его оставался предельно трезвым и ясным. Сергей старался хоть на секунду расслабиться, забыть обо всем, уснуть. Но сон не шел, и память не оставляла его.
Когда самолет попал в воздушную яму, салон затрясло. Тележка официанта покатилась вперед и со звоном ударилась в дверь кабины пилотов. Алехин на секунду радостно подумал, что сейчас лайнер разобьется, и все кончится. Но тряска очень скоро прекратилась, из-за занавески выплыла улыбающаяся стюардесса, «как принцесса, похожая на весь гражданский флот», и, наклонившись разрезом блузки прямо к лицу Алехина, обдала его ароматом «Шанели»:
— What would you like for lunch, sir? Beef, chicken or trout?[29]
Алехин не хотел есть. Он попросил еще виски и подумал: «Ты чего, Сережа, хочешь накликать?.. Тут с тобой летят двести человек. Женщины с детьми… Их мужья ждут. Как ты ждал Лену с девочками… Хочешь убиться, как они? О’кей. Купи себе самолет — тебе это по карману… Взлетай, найди чистое поле и бейся там, сколько душе угодно. Или… перестань об этом думать».
Алехин вновь погрузился в воспоминания. Как ни пытался, он так и не мог вспомнить, какую книгу в последний раз читал девочкам на ночь. Почему-то очень хотелось вспомнить именно это и мучило, что никак не мог. И не спросишь теперь, и не узнаешь. Никогда. Никогда. Никогда!..
«Хочешь узнать, кто их убил? — Алехин не переставал задавать себе вопрос, на который знал ответ. — Ты их, Сережа, убил. Заставил бежать из страны… Поставил на кон их жизни из-за этих проклятых бабок… Ты убил… Кого еще ты хочешь найти?»
Его мысли ходили по кругу и неизменно возвращались к вынесенному самому себе приговору.
Перед отъездом из Лос-Анджелеса, скорее всего навсегда, Алехин пересмотрел все новостные сюжеты о британском «Боинге», прочитал все репортажи «Лос-Анджелес таймс» и других главных газет.
Как он был далек от всего этого. Какие-то хохлы, бендеровцы или бандеровцы, как там их кличут, Майдан, Янукович, самооборона, аннексия, вторжение, война… Кого с кем? Русских с украинцами. Это же — бред, как такое вообще возможно? Как получилось, что какие-то идиоты сбили самолет с живыми людьми? Зачем?! И почему, если уж война, не закрыли небо для полетов? Кто стрелял?.. Ошибка это, роковая случайность или?.. Как узнать? Кремль свою вину отрицал. Ну, естественно. Там никогда ни в чем не признáются без паяльника в жопе. Ополченцы? Что за ополченцы? Что за добровольцы? Откуда они взялись? Шахтеры на танках? Трактористы с зенитными ракетами? Что за бред!.. Ополченцы заявили, что — да, сбили. Но другой самолет, украинский, военный, а «Боинг» не сбивали. Киев все валит на Москву. Кто все-таки дал приказ? Откуда там ракетная установка, которая может сбивать самолеты на высоте десять тысяч метров?
Даже в своей дикой тоске Алехин думал о случившемся, как сыскарь, как мент, который ищет во всем происходящем причинно-следственную связь. Как все эти годы искал он причины того, с чего начались его скитания под вымышленными именами с миллионами на банковских счетах. Как Саша Книжник-младший и Антон, его лучший друг, могли сговориться за его спиной — решить всех замочить и хапнуть общак. А ведь Саша и так был единственным наследником Книжника, его любимчиком, гордостью и смыслом жизни старого вора.
Алехин тогда уже понимал, что у старика дела не ахти и что за ним вот-вот придут чекисты, как пришли они за остальными «ворами в законе», которые покоились теперь в мраморных усыпальницах с ангелами-хранителями на плитах во весь рост на самых видных участках Ваганьковского кладбища, рядом с бардами, поэтами, писателями и футболистами. Вряд ли Саша мог уговорить отца бежать за границу, прихватив с собой общак «синдиката». Не мог же он не понимать, что Книжник жил по законам воровской чести и никогда бы на это не пошел. Почему Джуниор обратился к Антону, а не к нему? Почему Антон ему ничего не рассказал? И неужели Саша хотел навсегда расстаться с дочерью и женой? Или он рассчитывал, что Книжник простит его и отпустит их к нему, куда там он планировал бежать?
И все явственней вспоминал Алехин детали отношений Саши с Антоном, их, как в Америке говорят, body language[30], то, как они смотрели друг на друга, как обращались друг к другу… как-то не по-мужски, что ли. Или ему это сейчас кажется? Да еще этот эпизод со школьником, соседом Антона… Неужели это правда? Если так, тогда почему они стали стрелять друг в друга? Или Саша в конце концов решил кинуть и дружка и провернуть все один? Не оставлять свидетелей? Использовал Антона втемную? Но почему тогда, уже получив его пулю, Слуцкий стрелял в Алехина? Почему?..
На все эти вопросы отвечать было некому — мертвых не спросишь. Теперь в том, что осталось от жизни Алехина, появились новые вопросы, на которые тоже не было ответа. Как и среди прочих на вопрос: за каким хреном он летит туда, куда летит?
Самолет начал снижение. Стюардесса попросила всех пристегнуть ремни безопасности и объявила, что температура в районе аэропорта «Шереметьево» в «городе-герое» Москве была 24 градуса выше ноля. По Цельсию. Без осадков.
Российский бизнесмен Юрий Петрович Жданов пристегнул ремень, закрыл глаза и неожиданно для самого себя уснул…
Пафос. Три года назад
…И увидел во сне, как почти три года назад они сходили с трапа самолета в аэропорту Ларнаки и ехали на такси в Пафос. Встревоженная, молчаливая жена и усталые, засыпающие, ничего не понимающие дети.
Кипр — удивительное место. Там триста шестьдесят пять дней в году солнце. Вокруг лазурное, спокойное и чистое Средиземное море. Родина мифов и легенд, из которых местная история ажурно сплетена. Все достопримечательности — мифологические: здесь — вот у этого камня — Афродита первый раз вышла на землю из пены морской (и куча туристов, снимающихся на фоне скалы — свидетельницы этого удивительного события), там — замок в Пафосе, где жил Отелло (!). И плевать всем, что Отелло нигде не жил, кроме как в трагедии Шекспира. Просто замок настолько красив, что трудно поверить, что мавр, который «сделал свое дело», всего лишь плод воображения поэта…
В Пафосе они сняли квартирку-студию на втором этаже трехэтажного жилого дома во второй линии от моря. Пешком ходили на пляж, валялись на белом песке, учили девочек плавать, пока обосновавшийся здесь лет пять назад должник Алехина Слава Рабинович выправлял им всем новые документы.
В 2000-х годах Рабинович, бывший при совке школьным учителем математики по имени Всеволод Израилевич Гиммельфарб, сколотил себе состояние на рынке дипломатических, а при очень большом желании и иностранных паспортов и виз. Как ему это удавалось, оставалось тайной для всех, но паспорта и визы, которыми торговал Сева Сруль, как его тогда называли московские менты, были — комар носа не подточит. Имена, отчества, фамилии и даты рождения в них были, разумеется, фальшивые, но сами документы — бланки — настоящие. И печати тоже. Первый такой документ он выправил сам себе, ради эксперимента, навсегда перелогинившись, как сказали бы теперь, в Вячеслава Эммануиловича Рабиновича, а дальше пошло-поехало…
Новоиспеченный Рабинович прикупил себе домик в Пафосе, переехал на Кипр, получил гражданство, но бизнес свой не закрыл, а, наоборот, развил, превратив в настоящее «турбюро для избранных». Очень состоятельные клиенты, по разным причинам нуждавшиеся в смене личности, приезжали с заказами к нему на Кипр. Чекисты достать его отчего-то не стремились. Более того, по подозрению Алехина, они сами — порой лично, а возможно, и корпоративно (тут очень тонкая грань) — пользовались его услугами.
Бежал же Рабинович с родины неспроста — после того как гастролеры из Абхазии похитили его младшего сына, семилетнего Давидика, а Алехин вернул ему сына живым и невредимым, лично завалив двоих уродов и отправив остальных горячих кавказских парней на зону остудиться. Напуганный до крайности Рабинович не стал дожидаться ни суда, ни следующего раза, а выбрал, как Галич, свободу. И заодно и ПМЖ на Кипре. Для суда над абреками хватило и других эпизодов.
И вот теперь пришел Славин черед выручать спасителя своего чада.
Без всяких анекдотических прибауток и акцента, несмотря на обе его фамилии и происхождение, Рабинович объяснил Алехину, что не возьмет с него, боже упаси, ни копейки, кроме гонорара чиновникам, «вовлеченным в процесс», то есть на круг двести сорок две тысячи триста восемьдесят семь долларов, копейка в копейку, учитывая срочность, статус виз и количество паспортов.
Алехин пожал Славе руку и выдал названную сумму. Это были действительно копейки по сравнению с гонораром «официальным и не очень» лицам за легализацию остальных алехинских денег и открытие шести номерных счетов в четырех странах. Там тоже были задействованы должники Алехина, которым он доверял и которые божились, что не возьмут себе ни цента, только… Нужно было немного подождать — в данном случае не больше месяца.
И они терпеливо ждали. Спали все вчетвером в одной постели, которая занимала полквартиры. Вечером сидели на балконе — в лоджии — в лучах мягкого кипрского заката. Дети пили виноградный сок, а родители — вино из вяленого винограда — «Камандарию», рецепт которой, опять же согласно национальному мифу, принадлежал крестоносцам, отдыхавшим и залечивавшим раны на острове после крестовых походов.
— Словно сок солнечный пьешь, — говорила Лена с улыбкой. — Сразу в кровь. И сразу так тепло внутри.
Они занимались любовью украдкой в ванной, ночью, пока дети спали, и оба чувствовали, что в их жизни не было более сладостных моментов абсолютного счастья, полного нежности и любви.
Еще вспомнилось Алехину во сне, как они взяли напрокат старый «Лэнд Крузер» с ручной коробкой передач и поехали на нем в горы, в монастырь, по серпантину, обсаженному сначала виноградниками, а затем кедровым бором. В монастыре ели белый мягкий марципан из баночек, которые вручную закатывали сами монахи.
На обратном пути Алехин забыл снять машину с ручника, на половине пути вниз тормоза раскалились и отключились. Сергею удалось остановить джип при помощи манипуляций с передачами, но на горной площадке пришлось ждать около часа, пока тормоза остынут и снова заработают. В ожидании они гуляли вчетвером неподалеку среди душистых кедров, у которых смола пахла ладаном. Девочки бегали вокруг деревьев друг за другом, визжали и собирали шишки. Они с женой сплели пальцы рук и не разжимали их. На этой высоте жары уже не было. Прямо перед ними внизу сверкало изумрудами море, а воздух был так наполнен густым свежим ароматом кедровой смолы и хвои, что, казалось, они купаются в нем, как в морском прибое.
— Я люблю тебя, родной, — тихо прошептала Лена. — Люблю больше всего на свете. Я… просто не смогу без тебя жить.
— И я, — ответил Сергей.
— Не волнуйся, — прошептала она. — Все будет хорошо. Мне сегодня приснился хороший сон.
Лена не смогла рассказать Сергею о том, что там было в этом сне, потому что он «закрыл ей рот горячим поцелуем». Девчонки щебетали и смеялись где-то неподалеку, а они никак не могли оторваться друг от друга. Это был действительно горячий и самый длинный поцелуй в их жизни. Длиннее уже не будет.
Тормоза остыли. Они спустились вниз. У дома в «Мерседесе» их ждал не на шутку встревоженный Слава. Лена с девочками поднялись в квартиру, а Сергей сел в машину к Славе. От кондиционера в салоне стоял антарктический дубак, но через пару минут Сергею стал душно и жарко. Едва поздоровавшись, Слава сказал, что люди Книжника прилетели в Ларнаку.
— Восемь человек, — сообщил он. — Из аэропорта в гостиницу ехали на четырех тачках. В «Юропкаре» в аэропорту взяли.
— Ты уверен, что это люди Книжника?
— Уверен. У меня в аэропорту свои дежурят. Встречают рейсы из России-матушки раз в день, на случай нечаянных гостей. Витя, мой человек с опытом и двумя ходками, опознал двух из них как бойцов Книжника.
Алехину стало совсем жарко.
— Что ты предлагаешь? — спросил он, хотя заранее знал ответ.
— Вот документы с визами, — Рабинович протянул ему пакет. И скороговоркой, хоть и подробно, объяснил, что для Лены с девочками один комплект — на Анастасию Ярмольник, с английской визой и видом на жительство. Для самого Алехина два паспорта — американский и российский с грин-картой, американские права для обоих комплектов и карточки с номерами соцстрахования.
— Может, не надо было американский? — спросил Алехин, словно можно было еще поторговаться, поехать назад в «магазин» и поменять на другой. — Стрёмно как-то. Я там не был ни разу. И говорю с акцентом. Со школы не практиковался.
— Поверь мне на слово, Сережа, — у Рабиновича прямо на глазах покраснело лицо и появилась одышка, — в Америке половина населения по-английски говорит с таким акцентом, что ты закачаешься. Там для жизни главное, чтобы деньги были и корочка с твоей мордой лица на ней. В смысле, водительские права — главный документ внутри страны. А кто ты там и что ты, на это всем насрать с высокой статуи Свободы. Вот, к примеру, это карточка страхования только для проформы. Там просто имя и номер, даже фото нет. Ее с собой таскать не надо, номер нужно знать наизусть. Как и паспорт. Тот вообще только для поездок за границу нужен. Не как у нас, то есть у вас. То есть у них уже теперь…
Слава нервно засмеялся. Сергей увидел, как у него дрожат руки и губы.
— И чем хорош американский паспорт: у американцев при въезде и выезде в Штаты на границе пальчики не катают и штамп о пересечении не ставят, — продолжал Слава уже почти скороговоркой и с заметной одышкой. — На доверии работают. Так что ты теперь Григорий Хорунжий. Извини за хохлацкий привкус, но для американцев она, фамилия, — ни русская, ни украинская, а типичная американская, то есть никакая. И акцент в тему. А там подучишь.
— Понял. А второй, значит, российский.
— Это на случай, если пробьют где-то на чем-то и за попу возьмут. Тогда для эвакуации ты — российский бизнесмен Юрий Жданов. Счета в «Бэнк оф Америка» на Хорунжего и на Жданова открыты. На одном тридцать шесть штук, на другом — четырнадцать. В конверте в протоколе все номера и цифры. Пятьдесят штук. Из того, что ты мне дал. На месте сам пополнишь по усмотрению. Переводом или еще как-нибудь.
— Пятьдесят штук долларов? — механически переспросил Алехин, пока переваривал навалившуюся информацию.
— Нет, тугриков монгольских, — попытался сострить Рабинович. — Карточки кредитные на месте оформишь. С этим проблем нет, там даже у собак и кошек кредитки есть. И еще — о паспортах. Корочки живые, выписанные два и три года назад, как бы. С парой-тройкой виз со штемпелями и штампами пограничными. Ну, история поездок. Понимаешь?
— Понимаешь, когда вынимаешь, — теперь уже пришла очередь Алехина острить. По-ментовски.
— Да, вот, не потеряй, — Слава протянул ему сложенный вчетверо листок бумаги. — Здесь контакты полезные, если что. Алик Золотаревский в Бруклине. Все объяснит. Все порешает. Главное, чтобы сказал, что от меня. И привет ему. Тут же второй телефон. Кирилл Бродский. Это в Лондоне. То же самое. Этого я уже предупредил.
— Спасибо, — Сергей засунул бумажку в кошелек.
— Теперь с билетами, — не улыбнувшись, продолжил Слава. — Это важно. Вникай, Сережа. Извини, если тебе туда не надо. По телефону не в тему было. В общем, учитывая логистику момента, взял до Франкфурта. Там большой аэропорт. Самый большой в мире. Есть, где затеряться. А оттуда сами решите, куда и когда лететь. Вылет из Ларнаки в шесть утра. Собирайтесь сейчас. Ночь проведете у меня. Так надежнее. Охрана и все такое. Сейчас подъедет Андрей, мой второй водитель. Он вас отсюда завтра по холодку и заберет. А вот и он.
— Сколько я должен за билеты?
Слава нервно засмеялся.
К подъезду тихо подрулил «Шевроле Тахо» с полностью затемненными окнами.
Ночью Сергей с Леной не спали. Лежали молча. Никто не сказал ни слова. Девочек еле разбудили в три утра. Полусонными уложили на заднее сиденье. Туда же села и Лена, пока Сергей прощался со Славой. Лицо Рабиновича за ночь вытянулось и осунулось. Сразу стало видно седую щетину на ввалившихся щеках.
— Если вдруг отмена рейса или что, сюда не возвращайтесь, — сказал на прощание Слава. — Андрей отвезет вас в Аянапу. Это рядом с Ларнакой. На том конце. А там по обстановке решим.
— Как они на меня вышли? — Алехин задал главный вопрос, который, как сверлом, буровил мозг.
— Вышли. На тебя или… на нас обоих. Времени разбираться нет. В любом случае, если ко мне придут, я боли не переношу, Сережа. Скажу, что летите во Франкфурт под своими именами, как есть. Они могут в аэропорту проверить. Вот тебе телефон. Выбрось его во Франкфурте после моего звонка. Если не позвоню, не пошлю сообщения — выбрасывай не только телефон, но и все ваши старые документы. Дальше Алехины не летят. Все понял или повторить?
— Все понял, Слава. Спасибо, друг.
— Да не за что, сынок. Зол зайн мит мазл, майне киндер[31].
Ехали по старой дороге, дублеру хайвэя, вдоль моря. И красиво и… от греха подальше. Если бандиты поедут в Пафос, то, скорее всего, по хайвэю. Уже после Лимасолла над крутым обрывом на вираже им навстречу, выскочив на бешеной скорости на половину встречной полосы, пронеслась колонна из двух черных «Мерседесов» и одного черного «БМВ». Андрей только успел повернуть руль резко влево, зацепив боком скалу на обочине, и машины разъехались в миллиметре друг от друга. После этого Андрей резко дал вправо, и «Тахо» вылетел на противоположную обочину. Машину с визгливым скрежетом занесло, и гравий из-под колес полетел вниз, в море. Андрей все же сумел одной рукой вырулить с самого края обрыва над пляжем на дорогу. Другой он одновременно достал из бардачка «Макаров» и кинул его на колени Сергею. Тот моментально снял затвор с предохранителя, повернулся к Лене и приказал нагнуться и закрыть телом спящих детей.
— Они едут со скоростью под двести! — выдохнул Андрей, также наращивая скорость. — Это точно наши клиенты. Только бы не повернули обратно…
В зеркале заднего вида пыль с обочины стояла столбом.
— Останови! — приказал Алехин и рефлекторно отгородился левой рукой от вскинувшейся с заднего сиденья жены. — Тихо, Ленка! Я их задержу.
— Все нормально! — Андрей перестал вглядываться в зеркало. — Уехали.
Пыль позади «Тахо» понемногу улеглась. Дорога сзади вплоть до виража, который едва не стал роковым, была пуста. Так и не успевшая ничего сказать Лена тихо всхлипывала сзади, прижимая к себе спящих девочек.
Андрей позвонил Славе, рассказал о встрече.
— Авось пронесет, — ответил Слава. — Откуда им знать, куда ехать.
Не пронесло. Слава не вынес боли. Он умер после первого удара. От сердечного приступа.
На обратном пути Андрей вновь встретил стремительно несущуюся черную кавалькаду. Телефон Славы не отвечал. В доме Андрей застал его и двух охранников мертвыми. Повсюду были следы борьбы и валялись стреляные гильзы. Дом был перевернут вверх дном. В полицию Андрей не звонил. Не хотел быть свидетелем. И правильно. Лишние вопросы — лишние хлопоты. Доброго шефа уже не вернешь, а жизнь себе можешь испортить.
Полицию вызвали встревоженные выстрелами соседи. Трое полицейских, вооруженных пистолетами, без бронежилетов, приехали на синей «Шкоде Октавии» через полчаса. В доме они нашли только трупы.
Когда бандиты примчались в аэропорт, борт Ларнака — Франкфурт был уже в воздухе.
Во Франкфурте, не дождавшись звонка, Сергей выбросил телефон и SIM-карту в разные урны, порвал их с Леной настоящие паспорта на мелкие кусочки и спустил их в унитаз в туалете.
Из Франкфурта в Америку летел американский бизнесмен украинского происхождения Григорий Хорунжий, а в Англию — Анастасия Ярмольник с детьми.
В этой жизни встретиться им уже было не суждено.
Глава десятая THE BITCH[32]
Вершки. Июль
Она не выходила из дому уже два дня. На улице было все так же жарко и душно. Внутри, если откинуть скрипучий люк подпола и держать его открытым, а окна закрытыми, жара была не такой мучительной. Из люка тянуло холодной сыростью. Главное — туда не упасть. А так можно жить, и ночью не задохнешься.
Весь предыдущий день шум в поле не затихал. Даже ночью гудели и ревели движки машин и бронетранспортеров. Ополченцы в конце концов привели Апокалипсис к общему знаменателю, разогнали всех гражданских, растащили сами все, что еще оставалось ценного на поле, куда два дня назад упали обломки «Боинга» и тела пассажиров рейса МA-71. Территория была оцеплена вооруженными людьми. На помощь ополченцам приехали какие-то казаки на «отжатых у “укропов”» тачках, военные, по словам Нинки, аж из Ростова на бронетехнике, иностранные наблюдатели в белых касках и на белых джипах, журналисты, фотографы и телевизионщики. Жизнь вокруг поля смерти била ключом. За окном время от времени раздавались одиночные выстрелы и слышались угрожающие крики. Стреляя в воздух, военные сдерживали особенно ретивых корреспондентов и мародеров из соседних деревень, которые приехали «помочь», а попали к «шапочному разбору».
На колхозном рынке в Торезе предприимчивые жители уже вовсю торговали награбленным, в основном косметикой: духами, тушью для ресниц, помадой, тенями. Также предлагались кулончики, цепочки, крестики, серьги и колечки, детские игрушки и предметы «импортной» одежды и обуви. Один казак, без оружия, в папахе, зеленом кителе, трениках и кроссовках, безуспешно пытался продать шесть не сильно разбитых и потрепанных чемоданов. Отдавал за бесценок. Никто даже не приценился. С турбизнесом в Торезе было традиционно плохо. Война мало что изменила в этом смысле. Денег у людей не было, и ехать было некуда и не на чем. Те, кто могли уехать, сделали это еще в мае, когда неместный паренек в тельняшке и папахе сорвал украинский флаг с козырька здания горадминистрации и объявил Торез «свободным городом, на хер».
Когда охрана на следующий день после трагедии вернулась к своим прямым задачам и обязанностям и оттеснила толпу мародеров с поля, на нем появились призраки в резиновых костюмах и марлевых масках. Они прибыли откуда-то издалека, то ли из России, то ли из Донецка, в составе колонны из трех грузовиков-рефрижераторов и нескольких машин охраны. Ночь напролет, до самого утра, они собирали тела, части тел, вплоть до оторванных пальцев и ушей, после чего забитые под завязку рефрижераторы отправились на железнодорожную станцию в Торез.
— Бабушка, ты что, к земле привыкаешь? — пошутила Нинка, чуть не свалившись утром в зияющий чернотой люк сбоку от широкой и высокой печи. Печь в доме Полины Трофимовны занимала полкомнаты, сквозь осыпавшуюся местами столетнюю штукатурку проступали кривые красно-серые кирпичи.
Нинка принесла нарезной батон и бутылку кефира и заодно похвасталась приобретениями — иностранной помадой и тушью. На крестнице была новая блузка цвета, как она сказала, «форель», но не «новая новая», а «просто новая», которую из-за разницы в размере невозможно было застегнуть на последние две пуговицы. От этого Нинка с ядовито-красными губами и антрацитово-черными ресницами показалась Полине Трофимовне еще большей «оторвой», чем обычно. Нинка же рассказала бабушке Поле о том, что творилось последние два дня в окружающем мире по ту сторону двери ее хаты. В том числе и про рефрижераторы с оторванными ушами и пальцами, уехавшими с поля на станцию в Торез.
Нинке в марте стукнуло двадцать девять. Не красавица, но в теле, крепко сбитая, курносая и улыбчивая, она уже два года как была второй раз замужем за Виталиком, безработным шахтером из Макеевки, на десять лет старше ее, который в апреле оставил ей на попечение трехлетнего сына-дауна от первого брака и уехал на заработки в Россию — «будуваты хаты для москалей». Его бывшая отбывала семилетний срок за торговлю наркотиками и возвращать себе свою кровинушку не спешила. В мае Виталик позвонил Нинке и сообщил, что не вернется домой, пока не кончится война, и что пускай за него «дурни воюют».
Нинка, которая работала за гроши сортировщицей на почте в Торезе, убивалась две недели, а потом закрутила с ополченцем из России, женатым безработным трактористом, который приехал, как он сказал, «подняться и сшибить деньжат», чтобы расплатиться по кредиту за ремонт «халупы» в богом забытом поселке недалеко то ли от Таганрога, то ли от Тагила. (Где именно находилась его халупа, Нинка не вникала — она не собиралась никуда переезжать из Тореза.)
Нинкин первый муж Петро погиб при взрыве метана в шахте пять лет назад. Их общая дочь, десятилетняя Таня, уехала к другой бабушке, Полининой сестре, в Харцизск, что рядом с Донецком, на две недели и должна была вернуться завтра. Война сосредоточилась вокруг Славянска, Краматорска, Иловайска и Донецкого аэропорта, находившегося далеко от сестриного дома. Почти во всем Донецке, в Харцизске и Шахтерске на пути в Торез было спокойно, жизнь не била ключом, но продолжалась, рейсовые автобусы ходили два раза в день, как при Януковиче.
Когда Полина Трофимовна, узнав о Нинкином романе, принялась отчитывать крестницу, для убедительности приводя кровавые примеры из Ветхого Завета, Нинка только повертела бедрами в юбочке, которая, по мнению бабушки, кончалась там, где начинались плотные икристые ноги и, лихо кружась и пританцовывая, ответила ей бесстыжей песенкой:
Вечерело, да. Солнце село, да. Ночь темным темна-а-а-а-а-а. Вышла девица прогуляться, да. Все равно война-а-а-а-а-а. Увидала, да, лейтенанта, да. Говорит она: «Заходите, мол, я свободная И живу одна-а-а-а-а-а…» Муж с войны домой вернулся, да. Стукнул ей по лбу. «Ты зачем, моя дуреха, да, Отдалась ему?» «Я сначала, да, не давала, да, А потом дала! Не ругай меня, муж мой Ванечка, Все равно война-а-а-а-а…»Бабушка только головой покачала и незлобиво в который раз назвала ее охальницей и оторвой. Но, отдать должное, пела Нинка хорошо, задорно и голосисто, как сама Полина в молодости. Девушки в селе тогда пели на голоса, как в «Кубанских казаках». И одевались по-человечески. Теперь ходят не пойми в чем, как мужики. И, кроме Нинки, в селе никто не поет. Да и песни у Нинки другие, хулиганские какие-то, что ли.
Нинка не скрывала, что косметику ей подарил ее ухажер — танкист Вася, тот самый бывший тракторист. Еще бижутерию. Нинка потрясла перед лицом подслеповатой бабушки сережками в ушках из желтого блестящего, как латунный половник, металла с вкраплениями из зеленых стекляшек, которые Нинка назвала «малахитовыми изумрудами». Потом она продемонстрировала новую клетчатую сумочку с иностранными буквами на ней.
— Бабуля! — торжественно произнесла Нинка, подперев одной рукой крутое, выгнутое колесом бедро, а другой подняв сумочку над головой. — Три тысячи долларов вещь! Катька специально в Интернете смотрела! Три ты-щщщи́!
Полина Трофимовна отвернулась, пошла в кухню убрать в холодильник кефир, да вспомнила, когда дверь открыла, что электричества четвертый день как нет. В подпол ставить? Раньше в подполе картошку хранили, морковь, овощи всякие. Капусту квашеную в эмалированном ведре, с краешком сочной белой марли, аппетитно торчащим из-под крышки под камнем, банки трехлитровые с маринованными огурцами, помидорами, компотами. Сало.
А сейчас там пустота, как в склепе. Права Нинка-то. Дух идет оттуда какой-то замогильный. Вот так упадешь и пролежишь денек-два на холодке, пока не найдут и по-лю́дски не похоронят. Сколько шума было из-за этого подпола, когда Нинкина мать беременная туда грохнулась! Может, Нинка из-за этого и шустрая такая. Вспомнила Полина, как со старшей сестрой, погодкой, и мамой прятались там от немцев. Но нашли их немцы. Смеялись. Помогли вылезти.
Один жил у них в хате целый год. Офицер. Мама готовила, обстирывала его. Он чистый всегда был, бритый, стриженый. Не ругался никогда. Приносил еду. Хлеб, колбасу, консервы. Конфеты — леденцы. Приходя вечером домой, улыбался маме, их с сестрой по голове гладил. Нет, конечно, не гладил, а касался волос только. Правда, и не разговаривал с ними почти. Маму он на работу устроил. Мама на него порой смотрела так, по-женски. Полина только потом, когда подросла, поняла, как мама смотрела на него. Они с сестрой и мамой втроем на кухне жили и спали, а он в комнате. У офицера на столе стояла в рамочке карточка жены и детей. Сидел перед ней каждый вечер, как молился. Показывал им, мол, вот жена моя и дети, мальчик и девочка. По-немецки, конечно, говорил. Но понятно было, как тут не понять.
К концу года, уезжая уже, подарил маме цепочку, вроде как серебряную. На ней пластинка была с надписью, выбитой клинышками какими-то. Цепочку украли, когда маму арестовывали после войны. Тогда унесли все, что можно. Понятые, соседи, тоже забрали много чего. Стулья и из посуды то-се. И мамины платья, сапожки, валенки оставшиеся унесли. Даже телогрейку взяли. На кой она вам теперь, сказали. Сказали, мама приедет — все вернут. Поносят и вернут. Мама не приехала.
— Бабушка, у меня для тебя тоже подарок есть, — Нинка прервала ее воспоминания, протянув красивое кожаное портмоне. — Будет у тебя в чем пенсию держать, а то лежит под газеткой на телевизоре, как неродная, — Нинка засмеялась опять, довольная, что и бабке сделала подарок.
Полина Трофимовна помяла портмоне в руках, словно оценивая качество кожи, потом положила его на стол и проводила Нинку до двери. На крыльцо выходить не стала. За дверью на улице металлический голос говорил что-то в мегафон. Что, не разобрать.
Сквозь льняные выцветшие занавески с неровной, путаной бахромой внизу и поникшие кружева гераней на подоконниках свет в комнату едва проникал. Лики в красном углу были неразличимы. Чтобы их разглядеть, даже днем нужно было лампадки зажигать. А вот все остальное привыкшие к полумраку, слезящиеся глаза Полины видели хорошо. Она старалась не выходить на улицу, где свет сухого жаркого дня резал ей глаза до слепоты, так что она переставала различать цвета, и все вокруг становилось серым.
Она села за стол, надела очки, взяла в руки портмоне, понюхала его, ощутив сладкий запах настоящей кожи. Повертела, приоткрывая и заглядывая в кармашки. Во всех было пусто, кроме одного. В нем она обнаружила фотокарточку. Маленькую, цветную, счастливую. На карточке была молодая семья, муж и жена, сидящие на красивом крыльце, видно, что большого дома. У них на коленях сидели две девочки лет трех-четырех. Все лица светились одинаково счастливыми улыбками. Мужчина был интересный такой, симпатичный, а женщина… Вдруг Полина поняла, что женщина на карточке была вылитая ее мама, какой она ее помнила. Правда, у мамы волосы были рыжие, а у этой светлые. Полина верила в переселение душ и не очень удивилась такому поразительному сходству, просто смотрела на карточку и тихонько, беззвучно плакала. Одними глазами.
Тут ее вновь отвлек звук шагов на крыльце. Нинка вернулась? Забыла что? В дверь осторожно постучали. Не Нинка. Та не стучит. Полина встала, вложила фото в портмоне и, прижимая его к груди, подошла к двери и открыла ее. На крыльце стояла молодая женщина. В безжалостном обжигающем солнечном свете Полина Трофимовна не увидела ее лица. Разглядела только силуэт, объятый солнечными лучами с обеих сторон. Ее раскинутые по плечам волосы были словно пламя. Красное, нет — рыжее пламя. Как у мамы.
— Ты вернулась, мама? — почти не разжимая губ, вымолвила Полина. — Ты пришла за этим? На, возьми.
Она протянула молчаливой женщине портмоне. Та приняла его, не понимая, о чем идет речь. Говор пожилой женщины и слова, сказанные вполголоса, были словно нерусскими. Полина больше ничего не сказала. Она развернулась, как в трансе, и с прямой спиной, как жила, сидела и ходила, вошла назад в домашний сумрак и затворила за собой дверь.
Джейн посмотрела на закрытую дверь, потом на портмоне, открыла его. Портмоне было пустым.
Джейн Эшли, корреспондент журнала «Нью-Йоркер», подняла руку, чтобы вновь постучать в дверь. Но, подумав, не стала этого делать. Вряд ли она добилась бы чего-нибудь вразумительного от безумной старухи. Убрала портмоне в рюкзак, который сняла со спины, вытащила оттуда пластиковую бутыль с теплой негазированной водой, вытерла платком выступивший на лбу пот, закрыла рюкзак и сошла с крыльца на пыльную, ухабистую улицу поселка, где жили удивительные люди. Ни один из тех, с кем она разговаривала сегодня, не сказал ни слова сожаления о погибших пассажирах «Боинга». Она не видела ни единой слезы. Ни у взрослых, ни у детей. Ни у мужчин, ни у женщин. Разбившиеся были для них словно инопланетянами, жертвами несчастного случая, а не войны, которая разгоралась вокруг у них на глазах. Но они ее словно не замечали. Они даже толком не могли объяснить, кто с кем воюет и почему.
Самым популярным объяснением было то, что русские освобождают Донбасс от бандеровцев, чтобы защитить жителей. На ее вопрос: «А вы видели хоть одного бандеровца, и кто это такие?» — у жителей ни одного вразумительного ответа не нашлось.
Jane the Bitch, как ее за глаза называли коллеги, да и все те, кто с ней сталкивался по работе, направилась назад к полю смерти, вокруг которого кипела жизнь. Английское слово bitch — очень хороший пример для филологов, изучающих теорию перевода. Просто перевести этот термин, как «сука», можно, но это будет неточным переводом. Английское bitch гораздо богаче и глубже даже слова ocean. В английском варианте столько коннотаций, смыслов, что назвать Джейн по-русски просто сукой — даже в самом широком русском понимании этого слова-явления — было бы в корне неверно.
Джейн была той самой сукой, что готова принести в жертву родную мать ради сенсации или просто ради цитаты. Она шла до конца, рискуя своей жизнью, жизнями других, не разбирая средств, но и не думая о деньгах или карьере. Она искала сюжет или тему, как вампиры ищут кровь.
У нее не было друзей, она ни с кем не общалась, кроме тех, кто был ей нужен как материал, средство или объект для очередного горячего репортажа. Никто не знал, есть ли у нее семья. Она была идеальным роботом-журналистом из будущего. Джейн никогда не брала отпуска, не ездила ни в какие поездки, не связанные с работой. Она никогда не шутила и не улыбалась, если этого не требовалось для интервью. Но и угрюмой ее нельзя было назвать. Внешне она всегда оставалась отстраненной, холодной, безразличной. Не задавала вопросов государственным лидерам и кинозвездам на пресс-конференциях. Ее невозможно было представить праздно болтающей на корпоративной вечеринке. Она не расставалась с айфоном. И, даже разговаривая с кем-либо по рабочей надобности, постоянно проверяла новости и сообщения в почте. Даже во время интервью, что ставило собеседников в неудобное положение. Но они общались с ней и говорили ей то, что не сказали бы тысячам журналистов, в глазах которых можно прочесть участие или хотя бы понимание. Как она это делала? Как мог робот с холодным алгоритмом вместо души вызывать в собеседниках столько эмоций и откровений? Понять это было невозможно. Слова «магия» и «волшебство» для этого не подходили. Они были слишком живыми, чтобы объяснить феномен Jane the Bitch.
Джейн достигла в своей профессии всего. Начав карьеру как провинциальный репортер телеграфного агентства, она за короткий срок поднялась до элитной журналистики высшей пробы. От нее уже давно не требовали новостей и их развернутой интерпретации собеседниками, политиками и аналитиками, как это делают гранды мировой журналистки, такие как «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс».
Она давно научилась собирать любую статью, как десятилетний фанат «Лего» собирает из пластиковых деталей пиратский корабль или бензоколонку. Сначала — lead, вступление, первая фраза. Джейн была непревзойденным мастером leads. С первых слов она втягивала читателя в статью и не отпускала до конца. Дальше — диспозиция, цитата с одной стороны, пример, сноска, история, взгляд с другой стороны, мнение одного-двух имеющих репутацию незаангажированных аналитиков — и kicker, окончание. По-английски звучит как «удар». Лучше Джейн подобрать последний гвоздик для крышки гроба, в смысле — статьи, не мог никто. Не говоря уже о том, чтобы забить этот «гвоздик».
В случае появления горящей мировой новости Джейн могла написать восемьсот слов меньше чем за полчаса. Ее новостные интервью длились ровно до того момента, пока она не получала то, что ей было нужно. Поэтому многих респондентов после интервью с Джейн не оставляло ощущение участия в чем-то вроде coitus interruptus[33]. К сорока двум годам Джейн сама превратилась в новость. Теперь искушенная читательская аудитория ждала от нее не пересказа истории с чьими-то цитатами, но — ее слов, ее мыслей, ее откровений, независимо от того, о чем она писала, — о «Буре в пустыне», резне в Руанде или выборах мэра Москвы. В Америке она превратилась в Джеймса Джойса журналистики. Редакторы больше не ставили ей условий, не определяли лимит слов. Она могла написать статью, занимающую вообще все текстовые полосы журнала, и редакторы выпустили бы журнал в таком виде, зная, что тираж разойдется, как горячие пирожки.
Джейн могла приехать на большую тему — например, на войну в Ираке, — и честно, в равных исходных условиях работать рядом с сотнями других журналистов. Но не проходило и дня, как она заставляла остальных коллег кусать локти, увидев, какую историю, какую цитату, какой факт она нарыла в общедоступных раскопках. Это непередаваемое чувство отчаяния и зависти, сродни такому же чувству у рыбака, который видит, как сидящий неподалеку другой рыбак раз за разом вытаскивает лещей, сомов и щук, в то время как у него самого лишь изредка клюет всякая мелочь. Хочется раз и навсегда разломать удочку на мелкие кусочки или, в случае с Джейн, выкинуть лэптоп в окно и сменить работу.
Она не курила и не пила. Под утро в осажденном Багдаде, когда остальные журналисты, перескочив через свой дедлайн, падали как подкошенные и засыпали мертвым сном либо пили до утра, отмечая удачную фотографию или классную, добытую кровью и потом статью, она легко могла отправиться одна на десятикилометровую пробежку по набережной Тигра. Для пузатых, усатых иракских солдат, коротающих рассветные часы на набережной возле своих зениток с рюмками обжигающего черного, как кофе, сладкого-пресладкого чая в руках, бегущая по Багдаду в лучах рассвета белая женщина была привидением, призраком надвигающегося Армагеддона. Если, конечно, они раньше не видели Сару Коннор (Линду Хэмилтон) из «Терминатора-II».
Тело Джейн являло собой эталон фитнесса — одни мышцы, ни грамма жира. Высокая, под метр восемьдесят, стройная, худая, с тонкими скулами и яркими карими глазами, Джейн при желании могла добиться успеха и на подиуме. Но это была не ее чашка чая.
Тогда же, в Багдаде, весной 2003-го случай застал ее в лифте отеля «Палестина», заблокированном между шестнадцатым и семнадцатым этажами после того, как во время очередной американской бомбардировки отключилось электричество. Она оказалась в компании двух запаниковавших итальянских телевизионщиков, которые везли на последний этаж две канистры с бензином для своего генератора. Очутившись в ловушке в стальной коробке, итальянцы принялись, размахивая руками, что есть силы орать и призывать на помощь. Им было от чего прийти в ужас. Попади бомба в отель и начнись в нем пожар, лифт для них троих в компании двух канистр с бензином в одну секунду превратился бы в печь крематория. Джейн стояла молча, скрестив руки на груди, и думала о том, что она может пропустить дедлайн и не выйти вовремя в радиоэфир.
«Идиотка, — мысленно нещадно ругала себя Джейн. — Зачем ты решила прокатиться на этом сраном лифте вместе с гребаными макаронниками вместо того, чтобы подняться на свой семнадцатый этаж пешком? Тупая, ленивая, толстая сука!»
Итальянцы упали на колени, начали рыдать и молиться. Бог не замедлил услышать их молитвы, и помощь пришла. Служащие отеля сумели инструментами открыть дверь лифтовой шахты, но лифт застрял между этажами. И зазор оказался таким узким, что в него можно было при желании передать пленникам разве что воду, еду и при необходимости медикаменты.
А тут еще возьми да и начнись новая бомбардировка. Отель вновь сотрясался, как сухое дерево, пока американцы укладывали одну за другой умные ракеты в дворец Саддама Аль Салам на противоположной стороне Тигра. Обслуга, пытавшаяся вызволить пленников, разбежалась. Итальянцы принялись еще усерднее молиться святой Марии, когда Джейн, не говоря ни слова, ухватившись за выступ пола следующего этажа, подтянулась на руках и, напрягая и расслабляя все мышцы тела, сантиметр за сантиметром протиснула себя в узкую щель между полом площадки этажа и потолком открывшегося лифта. Это продолжалось долгих пять минут. Тот случай, когда пять минут длиннее жизни.
Ни тогда, ни потом она ни на секунду не задумывалась о том, что, если вдруг включат свет, лифт просто разрежет ее пополам.
Выбравшись из шахты, Джейн сказала итальянцам, что пошла за помощью. Но вместо этого побежала в свой номер и за пятнадцать минут настрочила текст репортажа на тысячу двести слов. И успела выйти в эфир «Нэшнл паблик рэйдио» в назначенное время и под аккомпанемент продолжающейся бомбежки, которая затихла только тогда, когда Джейн попрощалась в эфире с ведущими.
Заточенные в лифте итальянцы представить себе не могли, что Джейн рисковала жизнью, выбираясь из лифта, не для того, чтобы спасти себя и уж тем более несчастных их, а ради обычного радиорепортажа.
Справедливости ради, надо сказать, что, как только репортаж состоялся, Jane the Bitch вернулась к лифту и попросила отчаявшихся и умирающих от ужаса итальянцев передать ей одну за другой обе канистры, которые пролезли сквозь зазор с огромным скрипом. Затем она бегом с двумя полными двадцатилитровыми канистрами в руках спустилась с семнадцатого этажа на первый. Американцы, как всегда, бомбили Багдад по объявленному расписанию. Служащие сверились со своими часами и начали потихоньку выбираться из подвала-бомбоубежища и возвращаться к своим обязанностям. Джейн заставила их заправить принесенным ею бензином пустой генератор лифта и включить его. Итальянцы были спасены. Они молились Деве Марии, а спасла их Сука Джейн. Не без помощи Девы Марии, были уверены итальянцы.
Джейн же политкорректно отругала себя за «макаронников» и, как человек прямого действия, выкинула этот подвиг начисто из головы.
Она доводила до изнеможения своих переводчиков и водителей. В отличие от молниеносной работы над dailies — ежедневными статьями, — ее интервью и беседы для features — тематических проектов — могли продолжаться бесконечно. Она ценила любую деталь, то, чего так не хватает в работе репортера ежедневной газеты или службы новостей. С ней говорили люди, которые не разговаривали ни с кем. Она могла быть безумно жесткой и даже жестокой, идя к своей цели. В 2000 году она провела несколько месяцев на войне в Чечне, собирая материал о пытках и бессудных казнях мирных жителей. Ее статья в результате была написана не со стороны жертв, а со стороны палачей, которых ей удалось разговорить. Ходили слухи, что ради этого она переспала с командиром отряда Псковского ОМОНа, что было неправдой. Никаких доказательств тому, естественно, не было, но злые журналистские языки ухватились за эту легенду и неустанно пересказывали ее, оснащая все новыми подробностями для коллег-новичков, еще не знавших, что это за fucking bitch[34].
В Багдаде, в том же отеле, Джейн разработала оригинальный, позднее вошедший в учебники по журналистике способ перехитрить агентов «Мухабарата» — саддамовского гестапо. В начале войны, когда режим Саддама еще продолжал функционировать почти как прежде, в смысле постоянных запретов и ограничений на журналистскую деятельность, великий и ужасный министр информации Ирака Удай Аль-Тай в качестве компромисса разрешил журналистам держать компьютеры и лэптопы в номерах отеля, но только невключенными, более того — нераспакованными. Писать статьи, обрабатывать фотографии и пересылать в свои издательства и то и другое им было разрешено лишь непосредственно из здания иракского «Министерства правды». И пока туда не угодила парочка «умных» ракет, превратив его в бетонные щепки, агенты «Мухабарата» совершали постоянные рейды по этажам отеля «Палестина», где проживало большинство журналистов, вламываясь в номера, чтобы проверить, как соблюдаются установленные правила.
С нарушителей, конечно, не сдирали живьем кожу, их не пытали на медленном огне и не расстреливали. Но для большинства журналистов положенное наказание было гораздо хуже вышеперечисленных. Работа в логове врага, в Багдаде, для многих была пиком их журналистской карьеры, билетом в известность, мостиком к премиям, к будущим книгам и сценариям. Тех, кого саддамовские гестаповцы ловили в отеле с включенным компьютером, немедленно лишали аккредитации и высылали из страны. Аккредитации вообще выдавали только на неделю или две и продлевали за взятки — за пять блоков американских сигарет, ящик виски и на худой конец за пару-тройку сотен тех же вражеских баксов. В специальном отделе «Мухабарата» находили время читать все статьи на всех языках, просматривать все фотографии и видеоматериалы и делали свои выводы. В какой-то момент даже команда CNN была со скандалом изгнана из Багдада. Сказали в эфире что-то не то. Напуганные журналисты ходили по этажам «Палестины», как по минному полю.
Джейн тогда выходила в эфир чуть ли не каждый час или полчаса. И ее лэптоп и спутниковый телефон в номере отеля были постоянно включены.
Вот сидит она, готовит свой очередной репортаж, как в дверь начинают ломиться вооруженные сотрудники «Мухабарата». Джейн спокойно встает, оставляет компьютер включенным на столе, срывает с себя блузку и лифчик, подходит к двери и резким движением распахивает ее. За дверью стоят три араба в военной форме, пузатые и усатые, с «Калашниковыми» в руках, а перед ними появляется огненно-рыжая красавица с балетной талией, с ровненькими ромбиками мышц живота и упругой обнаженной грудью с розовыми сосками. Пока гестаповцы в смятении извиняются и не знают, куда деть глаза, Джейн хладнокровно просит прощения, говорит, что она только что вышла из душа и ей нужно пять минут, чтобы закончить туалет. Потные от беготни и волнения офицеры с пунцовыми щеками поверх загара беззвучно, словно немые, машут руками, а она закрывает дверь. Потом спокойно выключает лэптоп, прячет его в сумку под кровать и вновь идет открывать дверь. Длинный коридор этажа пуст. Саддамовцев и след простыл.
Джейн была волчицей-одиночкой, воплощением латинского правила Omnia mea mecum porto[35]. У нее всегда все было с собой. Когда отключали электричество, ей не нужно было тратить время на поиски генератора. В условиях стационарной войны, как было в Ираке или Афганистане, он появлялся у нее на балконе гостиничного номера в первый же день и ждал первой бомбежки. Она могла ничего не есть и не пить сутками, если это мешало работе, но у нее под рукой всегда была тщательно собранная медицинская аптечка — на все случаи жизни. Если существовала хоть малейшая опасность отравиться (а в таких местах, как Афганистан, она подстерегала журналиста на каждом шагу), Джейн пила только кипяченую воду и изредка ела рис.
В 2001 году в Афганистане, работая на территории Северного альянса, который воевал с талибами, пока американцы бомбили Кабул, Джейн заставляла своего водителя каждый вечер двадцать минут кипятить воду из пандшерских ледников в специально купленном ею для этой цели на рынке самоваре. Потом по ее инструкции он охлаждал воду в том же ледяном ручье и разливал в ее четыре пластиковые полуторалитровые бутыли из-под минеральной воды, которую она купила в Таджикистане и привезла с собой. В Афганистане бутылированную воду тогда купить было невозможно.
Так она и питалась кипяченой водой долгий месяц на севере Афганистана, пока остальные журналисты постоянно лечились подручными средствами от дизентерии и гепатита. Что поделаешь, они любили тоненькие сухонькие бараньи шашлычки на узеньких, как иглы, шампурах, не понимая, что шашлычки эти делаются из того самого мяса черного цвета, что продается на каждом афганском рынке. Джейн спросила об этом водителя, когда увидела черное шевелящееся мясо в первый раз.
— Нет, мясо красное, не черное, — бодро ответил водитель. — Просто мухами облеплено. Ничего страшного.
Своего долгожданного «Пулитцера» она и получила за статью, которая потрясла всех больше, чем двумя десятилетиями ранее одноименный роман Уильяма Стайрона и фильм по этому роману. В романе героиня проживает остаток своей жизни в бесконечных мучительных воспоминаниях о том, как ей предоставили выбор между двумя ее маленькими детьми: один ребенок отправляется с ней на свободу, другой — в газовую камеру нацистского концлагеря. И она делает выбор. В статье этот сюжет был повторен в точности — но дело было уже не в Польше времен Второй мировой, а в России начала XXI века. И это был не роман. Это была реальность.
В Беслане, пока все журналисты ждали развязки трагедии с участием сотен детей-заложников в захваченной террористами школе, Джейн нашла молодую женщину, которую, как и в романе Стайрона, звали Софией. Ее накануне штурма захватчики отпустили в группе других женщин с детьми. Среди заложников было двое ее детей. Трехлетний мальчик и шестилетняя девочка. Ей разрешили взять с собой только одного. На выбор.
— Я не могу этого сделать! — взмолилась женщина, рыдая. — Можно, я заберу и сына и дочь?
— Нет, — твердо сказал главарь банды. — А если будешь и дальше ныть, останешься здесь вместе с обоими.
Она увела с собой сына, а дочь осталась в захваченной школе.
— Мама, мама! — кричала она ей вслед. — Мамочка, вернись!
Джейн нашла отчаявшуюся мать в доме ее свекра в ночь перед развязкой. Они разговаривали час. После этого Джейн написала свою версию — «Выбор Софи II», и стала звездой журналистики. А дочка-заложница выжила в пожаре и перестрелке и вернулась домой целая и невредимая из бойни, в которой погибли более трех сотен заложников, среди них десятки детей.
Потом была еще минута славы, когда воссоединенная семья засветилась в одном из самых популярных американских телешоу. В компании с Джейн. София и ее дети со слезами на глазах вновь рассказали свою леденящую душу историю. Там же в студии, под водопад слез легендарной ведущей и аплодисменты массовки, они и попросили политического убежища.
Там же в Беслане Джейн рассталась с единственным человеком в ее жизни, в котором она разглядела мужчину, а не просто бесполого журналиста. Это был корреспондент «Лос-Анджелес геральд» Сергей Прохоров. Симпатия была взаимной. Оба в то время работали в Москве, а познакомились в Багдаде. До Беслана их платонический роман продолжался около года, пока Прохоров с гордостью не показал ей свою «потрясную», по его словам, съемку операции по «освобождению заложников». На самом деле не было никакой операции. Был кромешный ад. Школа сгорела дотла. Среди погибших под пулями и в огне пожара было сто восемьдесят шесть детей. Десятки спецназовцев и местных жителей были убиты и ранены. Ни один террорист не вышел из школы живым.
Прохоров, тогда еще фанатик фоторепортажа, по духу был очень близок Джейн. В Беслане снимал в самом пекле. В редакцию он послал галерею из тридцати шести разных кадров. Среди них было два, которые Джейн выделила для себя. На одном окровавленная девочка лет семи сидит на коленях на земле, крича и закрывая уши руками. На другом она уже лежит на том же месте — мертвая, с пулевым отверстием в виске.
— А можно посмотреть всю раскадровку эпизода с девочкой? — спросила она тогда в отеле.
— Конечно, вот она, — Прохоров с гордостью открыл в компьютере нужную папку и, пробежавшись по кадрам, нашел эпизод.
Джейн внимательно смотрела и губами отсчитывала про себя кадры.
— Что ты делаешь? — спросил несколько озадаченный Сергей.
— Ничего. Сколько кадров в секунду?
— Камера снимает?
— Да.
— Десять, а что?
— Ничего.
— Что ничего?
— Сережа, у тебя было девять секунд.
— Не понял…
— Ее убили на девяносто шестом кадре.
— И?
— Сережа, ты ведь мог спасти ее, — ровным голосом сказала Джейн. После пяти лет работы в Москве она прекрасно, почти без акцента говорила по-русски.
— У меня другая работа, Джейн, — сказал он после паузы. — Мы фиксируем происходящее. Не вмешиваемся. И вообще, когда я снимал, то ни о чем не думал.
— Ты был рядом. Мог попытаться взять на руки и унести.
— Знаешь, милая, — выдержав еще более долгую паузу, холодно ответил Прохоров. — Читатели должны знать правду. Как все было. И точка. Не я же ее убил, в конце концов. Мне что, по-твоему, нужно было бросить камеру и взять в руки автомат? Я не солдат, Джейн. И это не моя война. Я не спасатель. У меня другая работа. Я делаю то, что умею. Как и ты…
Джейн встала и молча вышла из его номера. Прохоров ее не удерживал. При этом он не знал и знать не мог, что самым главным и самым страшным откровением для Джейн было то, что, скорее всего, на месте Сергея она поступила бы точно так же.
Но мертвая девочка словно встала с тех пор между ними. Джейн не могла простить ему и себе ее гибель.
Роман закончился, так толком и не начавшись.
* * *
Ополченец Иван Рыльников — коротконогий мужичок с бычьими глазами навыкате и в новенькой зеленой форме не по размеру — сам не мог понять, как так получилось, с какого такого бодуна он взял и выложил все этой рыжей бабенке, слово за слово, хреном по столу. Никому, даже в ментовке в таких деталях не рассказывал то, что он рассказал журналистке. А именно — что привело его сюда.
Они сидели прямо на траве под боярышником на самом краю поля. Мертвых увезли, но все равно было приказано никого на поле не пускать, пока не соберут и не увезут все железки. Однако уже в первый день местные ухитрились разобрать полсамолета и вывезти на металлолом. Потом приехал Дедер, обложил стоявших в оцеплении «х…ями» и погнал половину личного состава в пункт приема лома — «вернуть, б…дь, все железяки взад, как былó». Остальным было категорически приказано никого из местных на поле больше не пускать. Больше не пускали.
Рыльников настоялся на жаре и был счастлив посидеть в тени, попить водички и поболтать с красивой девчонкой-иностранкой. Правда, немного напрягало то, что, разговаривая, ему приходилось задирать голову, но в сидячем положении разница в росте была не так заметна, как стоя. Джейн отдала ополченцу свою вторую бутылку и изображала максимально возможное внимание к его нехитрой истории. Этим репортерским искусством она владела безупречно.
— Я таксовал в Питере, ишачил, по ходу, на компанию «Дилижанс», — Рыльников сидел, широко расставив ноги и потягивая воду из подаренной ему Джейн бутылки. — Получаю заказ: отвезти деда восьмидесятилетнего на дачу в поселок под Кавголово. Февраль — лютый, как хохлы говорят. Холодрыга, по ходу. Темень непролазная. У меня еще «Яндекс навигатор» глючит, фигню всякую показывает. Короче, везу я деда на эту дачу. Бензин на нуле. Найти не могу. Потом вдруг навигатор определяет место. Я говорю деду: «Приехали». Он расплатился, вылезает. Темень кругом. Дома какие-то рядом. Я уехал. Ночью дочка этого деда шум подняла. Он, типа, на дачу не доехал. Спрашивает диспетчера, кто его вез. А та, по ходу, провтыкала. После пересменки, типа. Короче, вместо того чтобы позвонить напарнице, поискать и мне позвонить, она протупила. Мол, не знаю, звоните завтра утром. Короче, утром семья через ментов вышла на директора нашего, Шарипова Ревзана Ревзановича. Меня, по ходу, отыскали. Поехали туда с ментами. Ну, на место, где высадил, значит. Дед, по ходу, замерз. Нашли его недалеко. В снегу. Поселок нежилой оказался. Ну, зимой не живет там никто, по ходу. А я знал? Ошиблись мы с поселком. Этот навигатор гребаный… И еще диспетчерша, эта дура тупая. Короче, я один во всем виноват. А что я? Мне сказали, я отвез. По навигатору. Если б дочка сразу спохватилась да диспетчерша не протупила, я бы приехал, отыскал его, и дед живой бы остался. А теперь я, по ходу, виноватый. Оставление в опасности, типа. Статья у них такая есть. Шарипов с диспетчерами-падлами — в шоколаде, а мне, значит, в тюрьму?
— Ужасный случай. Я вас понимаю, — Джейн записывала на айфон и одновременно огрызком карандаша в блокнотик. — Так вас сюда вместо тюрьмы послали?
— Смеетесь? Я под подпиской. Следствие, по ходу, фуйня-муйня. А тут Сашка, друг брата, одноклассник, уезжает на Донбасс на войну. Я ему говорю: «Я бы поехал, да паспорта заграничного нет». Он говорит: «Да не надо там паспорт заграничный». Мол, по ходу, границы больше нет. Один общий русский мир. Платят сто тысяч в месяц. На всем готовом. За свои — только до Ростова доехать. Ну, я собрался и поехал с ним. А чего мне собирать — только подпоясаться. Следователю в мае позвонил отсюда. Мол, простите, все такое. Не сбежал. В армию забрали. А он мне: «Какую, на хрен, армию? Ты ж служил уже!» А я ему — мол, на Донбасс. За родину, по ходу, за Путина. Он не стал наезжать. Говорит: «Вернешься, дай знать». И все. Вот воюю здесь уже три месяца как. Деньги платят. Не сто тыщ, конечно, как обещали, но больше, чем в такси. Может, вернусь с войны, мне скидка будет.
— Что будет?
— Скидка. Ну, по ходу, в положение войдут. Герой, типа, и все такое. Примут. Во внимание, по ходу. На суде. Нет?
— В этом смысле, да, понимаю. А если вас убьют?
— Ну, убьют, так убьют. Тогда уж никакого суда точно не будет.
— А как же семья? У вас дети есть?
— Есть, да, по ходу. Дочка. Шесть лет. Жена — инвалид по зрению. Не работает. На пособии.
— А что с ними тогда будет?
— Ну, я им деньги посылаю. Больше, чем за полгода года в такси, вышло. А убьют… Что ж… Тюрьма лучше, что ли?
— Понятно. Вы в боях участвовали?
— Да, в Авдеевке рубеж держали. Две недели на передовой. Хреновато приходилось. У них профессионалы: поляки, канадцы, негры. Оружие американское.
— Вы лично негров видели? Или поляков?
— Сам — нет. Врать не буду. Ребята рассказывали. Одного в плен взяли. Отстреливался до конца, пока, по ходу, патроны не кончились. Потом четверо наших его скрутили. Здоровый, черт. Но белый. Не негр. Говорили, хохол из этой… как ее… из Магнитобы. Это где, не знаете?
— Манитоба в Канаде.
— Ну вот! Я ж и говорю. Видите?
— Понятно. А кто, по вашему мнению, сбил самолет?
— Да тут и без мнения все ясно. Пиндосы, по ходу, и сбили. У нас таких пушек нема. Пассажирские на высоте десять тысяч летают. По ним из «мухи» несподручно шмалять.
Джейн, как всегда, сама выбрала себе цель и поставила перед собой задачу — выяснить, кто сбил МА-71 и почему. Всем, кроме этого русского таксиста и его товарищей, и так все было ясно. Но это «ясно» на предстоящем суде не предъявить. Нужны были факты, и добыть их, кроме Джейн Эшли, больше некому. Именно так ей и сказал редактор по скайпу утром:
— We have confidence in you, Jane. Take your time and don’t stick your neck out too much. Knowing you it is wishful thinking but still. Take care and stay safe, please[36].
Джейн уже взяла шесть или семь интервью с жителями и ополченцами. Ничего нового. Шлак. Золото нужно мыть дальше…
Сигнал на околице села возле маленького аккуратного кладбища был хороший. Распрощавшись с Рыльниковым, Джейн открыла свою страницу в Фейсбуке и написала новый пост. По-русски.
«ВНИМАНИЕ.
Я обращаюсь к тем, кто что-то знает о сбитом 27 июля над Донбассом пассажирском “Боинге” или имеет к этому отношение. Если вы еще живы, отправляйтесь как можно скорее в ближайшее западное посольство, предпочтительнее американское или британское. Не подвергайте себя и своих родных смертельному риску. Можете также связаться напрямую со мной. Я помогу вам получить убежище и денежное вознаграждение.
Пишите мне сюда или на имейл: Jane.Ashley@gmail.com или Jane.Ashley@nyker.com»
Затем она продублировала сообщение во ВКонтакте и позвонила своему донецкому водителю. Он, как договаривались, ждал ее у сельсовета.
— Бандеровцы, фашисты, укропы? — недалеко от сельсовета Джейн догнал высокий человек в военной форме, с открытым лицом, широкой белозубой улыбкой и сощуренными умными глазами. — Угадал? Каких еще злодеев обнаружили?
— Откуда вы знаете, о чем я разговариваю с людьми? — спросила Джейн, тоже улыбнувшись. — И кто вы?
— Капитан Сергеев, — представился военный, щелкнув каблуками высоких новых сапог, на которых разве что не было шпор. — Заместитель начальника гарнизона Тореза по политической части. Здесь все корреспонденты со всеми говорят об одном и том же: кто сбил «Боинг».
— Джейн Эшли, корреспондент журнала «Нью-Йоркер», — представилась Джейн, продолжая улыбаться. — Так кто же его сбил?
— Да мы его сбили, мы, — понизив тон, сказал капитан. — По ошибке. Только не надо меня цитировать. Если вам интересно, мы могли бы об этом поговорить более подробно. Только не здесь и не сейчас. Я должен возвращаться в Торез. Запишите мой телефон.
Капитан продиктовал Джейн свой местный номер. Она тут же при капитане набрала его, и трубка в кармане его разгрузки отозвалась вступительными аккордами Money. Джейн не терпелось продолжить разговор с капитаном, но интуиция ей подсказывала, что спешить не надо. Капитан еще раз улыбнулся, мягко и, пожалуй, что слишком тепло пожал ей руку и, слегка прихрамывая, направился назад к полю, где его ждала машина.
Уже в машине на обратной дороге в Донецк Джейн вспомнила о портмоне в рюкзаке, достала его и начала вновь рассматривать эту столь странным образом попавшую к ней вещь. И тут в одном из карманов она обнаружила фотографию семьи, что, скорее всего, погибла в самолете, откуда и взялось это портмоне. Папа, мама, две дочери.
— What the fuck?![37] — она вскрикнула вслух по-английски. Так громко и резко, что водитель на всякий случай остановил машину.
С фотографии на Джейн Эшли глядел Сергей Прохоров. Про женщину и двух девочек рядом с ним ей ничего не было известно. Она никогда их раньше не видела. Джейн перевернула фотографию, надеясь на обороте найти объяснение. Обратная сторона карточки была чиста.
Глава одиннадцатая КОМПОТ
Ростов-на-Дону. Июль
— Сорок два — это хорошо, — сказал пожилой вербовщик, за спиной которого на стене большими поржавевшими кнопками было прикноплено красное знамя с желтой, засаленной до серых пятен бахромой, желтым бархатным профилем Ленина в правом верхнем углу и надписью буквами из желтого плюша «Второй Украинский!!!». — Правильный возраст. Осознанный выбор. Мальчишек под пули мы не гоним. Артиллерист — еще лучше. Танкистов перебор, а вот артиллеристов нехватка. Вы свой ВУС номерной помните?
Алехин посмотрел на рекрутера, словно не расслышал.
«Как же, он сказал, его зовут? — подумал Сергей. — Арсений Павлович? Николаевич? Так, если угадаю, все будет хорошо, — усмехнулся про себя термину “хорошо”. — Ладно, пусть будет Николаевич. Что такое ВУС? Что он хочет услышать? Прокалываться на ерунде не надо, Сережа. Пауза. Тупи дальше. Сейчас ветеран Ватерлоо все сам объяснит».
— Военно-учетная специальность, — словно прочитав ход мыслей Алехина, продолжил собеседник. При этом он, откинув голову, прошелся морщинистой ладонью, как гребнем, по редким седым, отступавшим почти на затылок от крутого лба волосам. — В военном билете.
Алехин посмотрел на него внимательно.
Лоб у вербовщика был неровный, с каменистыми наростами надбровных дуг и бровями, нависающими, как сапожная щетка, над рыхлым бледным лицом с огромной лиловой бородавкой под пористой правой ноздрей.
Одет был ветеран в помятый синий костюм с десятком блеклых орденских планок на груди. От ветерана пахло если не нафталином, то какой-то унылой смесью пота, табака, лука и… чего-то лекарственного. Возможно, в запарке прифронтовых будней он вообще не покидал свой кабинет. Дневал и ночевал на рабочем месте, неделями не меняя засаленный пиджак с белесыми разводами под мышками и рубашку с затертым до дыр воротом, застегнутую на верхнюю пуговицу, из дырочки которой торчала нитка.
Когда ветеран открыл рот и начал собеседование, отвыкшему от российской действительности Алехину пришлось задержать дыхание и инстинктивно отодвинуться на стуле. При ближайшем рассмотрении рекрутер выглядел хоть и изрядно потрепанным, но слишком молодым для ветерана ВОВ. Хорошо за шестьдесят, но не больше. А колодки… Мало ли блестяшек в СССР наштамповали в 70–80-х? На ветерана последних войн, начиная с Афганской и кончая Чеченскими, по возрасту он тоже не тянул.
Вербовщик высморкался в скомканный носовой платок на столе и, уставившись в лицо Алехину глубоко посаженными красными глазами без ресниц, повторил:
— Военный билет у вас с собой?
Блин! Военный билет. Конечно. Как он мог об этом не подумать? С тупой болью, занывшей в виске, Алехин осознал, что именно военный билет и был здесь и сейчас главным проездным документом, билетом на войну. Не паспорт, тем более заграничный, без прописки, да еще и с американской, английской, шенгенской и сербской визами. Хорошо хоть Сербию Рабинович к делу влепил. Вот ведь ушлый дядя. Обо всем подумал. Про заграничный паспорт он, конечно, может отбрехаться тем, что… Ну, подумал, что для пересечения границы нужен этот, а не общегражданский, который оставил дома в Звенигороде, чтобы не пропал на войне. А вот с военным билетом, да, блин, прокол…
— Вот ведь дурак! — стукнул себя по лбу Алехин. — Его-то я с собой и не взял, дурья башка. Как я мог так лохануться… Собирался в спешке. Что ж мне — еще раз за дорогу платить, за билетом ехать?
Возникла пауза. Седой вербовщик оглушительно чихнул, не прикрывая рот, смачно высморкался в тот же самый платок. Вытер им заслезившиеся глаза и лоб. Затем встал и отошел к зарешеченному окну. Рычажок щеколды на открытой форточке был привязан веревкой к гвоздю в стене. В тишине было слышно, как веревка потрескивает на легком ветру. Но тут треск заглушил подъехавший грузовик. Затем со скрипом открылась дверь кузова и три или четыре мужских голоса стали в унисон скучно и однообразно материться. Главный ростовский вербовочный пункт располагался в двух комнатах на втором этаже складского помещения магазина «Дары русской Кубани» на улице Розы Люксембург.
Арсений Николаевич (теперь Алехин почему-то окончательно уверился, что того именно так и звали) посмотрел в окно, снял трепещущую веревку с гвоздя и начал закрывать форточку.
— Николаич, оставь, — обратился к нему второй вербовщик по имени Иван Федотович Рыбников (его имя Алехин запомнил сразу). — Дышать нечем.
Иван Федотович сидел за столом, закинув ногу на ногу, вполоборота, растирая пальцами окурок, который он уже потушил и теперь просто продолжал механически тыкать им в стоявшую перед ним жестяную пепельницу. Из троих в комнате курил только он. Одну за одной.
«Chain smoking[38]», — вспомнил про себя Алехин американскую фразу.
— А ты, Рыбников, кури меньше, — огрызнулся Николаич начальственным тоном. — И дышать всем легче будет. Правильно я говорю, товарищ… Жданов?
— Е-е-е-е-е-е-е-е-е… твою мать! — загрохотал за окном бас одного из грузчиков. — Протри, б…дь, зенки, мудило х…ево!
Старший закрыл окно и вернулся к столу. На лице его не было осуждения. Мат не раздражал его, а просто отвлекал. Не давал сосредоточиться. Рыбников, на вид чуть постарше и позатасканней, чем сам Алехин, между тем производил впечатление бывшего кадрового офицера. Взгляд у него был такой… с хитрецой. Смотрел он на Алехина с симпатией, хоть и молчал. Одет Рыбников был в новенькую легкую маскировочную форму без погон. Плюс высокие нагуталиненные вместе со шнурками берцы. Тоже почти не ношенные на вид.
— Жданов, хотите компоту? — наконец нарушил молчание офицер, заглянув для верности в лежавший перед ним паспорт.
— Не откажусь, если честно, — поспешно согласился Алехин. — В горле пересохло.
Он был рад смене темы. Разговор нужно было как-то продолжать. Нельзя так легко сдаваться. Говори, Сережа, говори. Чем дольше общение, тем легче зацепиться за что-то. При визуальном прямом наблюдении за объектом слежки, например в ресторане, можно, как вариант, пойти в туалет, потом выйти оттуда, вытирая руки или, еще лучше, спохватившись, застегивая ширинку у всех на виду. Сразу становишься общим русским местом, частью пейзажа, своим в интерьере. Объект, увидев это, теряет к тебе интерес, и сиди потом в его поле зрения, сколько влезет. Он к тебе привык. Тут не ресторан, но тоже можно потянуть. Предлагают пойло какое-то — пей, пока привыкают. Можно, кстати, икнуть или рыгнуть либо пролить компот на рубашку. Смех и юмор помогают найти контакт. Несмотря на его теперешнее состояние, Алехин был весь собран, как на задании. Он ждал подходящего момента, чтобы рассказать анекдот про евреев или хохлов.
У стены стояло черное облупившееся пианино. Сверху, на его крышке, рядом на полу и по всей ширине стены была расставлена рядами целая батарея трех- и пятилитровых запыленных банок — с огурцами, помидорами, черемшой, перцами, капустой, грибами, яблоками, персиками, абрикосами и другими маринадами, соленьями, компотами, вареньем и конфитюрами. Из-за жары и духоты внутри и снаружи все эти дары природы выглядели не очень-то. Но выбора у Алехина не было. Компот нужно было попить. Пригубить хотя бы.
Пока Николаич сидел за столом, еле слышно мыча себе под нос что-то похожее на «Прощание славянки» и неуверенно отбивая такт костяшками пальцев, Рыбников встал, подтянул ремень обеими руками, вытащил из брючного кармана открывалку, подошел к пианино, выбрал банку с каким-то розовым содержимым, потряс, посмотрел на свет, привычным армейским движением вытер рукавом пыль с крышки и, прижимая одной рукой банку к животу, другой бережно открыл ее, как бармен бутылку коньяка.
Затем, поставив банку на стол, Рыбников взял с подоконника три граненых стакана, подул в каждый и наполнил их компотом до верхней риски — так аккуратно, словно водку разливал. Оставалось еще открыть банку с огурцами и раздать каждому по корнишончику на закусь, но до этого не дошло.
У другой стены кучей, почти до потолка были навалены мужские, женские и детские ботинки, сапоги, одежда всех уровней поношенности, игрушки, рулоны туалетной бумаги, коробки стирального порошка и много чего еще из гуманитарки.
— Люди несут и несут, — Николаич поймал взгляд Алехина. — Народный гнев и народное сострадание не знают границ. Со времен Великой Отечественной не было такого подъема. Все для фронта! Все для победы!
Он еще долго гундел про «великую битву за свободную от фашистского ига Украину», про зверства бандеровцев, которых почему-то упорно именовал бендеровцами. Алехину, правда, было все равно. Политика его интересовала примерно так же, как есть ли жизнь на Марсе. Об этой войне он толком узнал только после гибели своих. Раньше не вникал.
— …наших распятых детей, поруганных жен и дочерей! — все больше входил в раж Николаич. — Массовые убийства… Злодеяния, которым нет прощения… Дорога жизни… Наши сердца…
На этой высокой ноте Алехин окончательно перестал слушать вербовщика и перевел взгляд на его коллегу, обдумывая следующий шаг. Рыбников выразительно ответил ему взглядом, почти незаметно проведя пальцами по своим губам — дескать, бла-бла-бла…
«Контакт, похоже, есть», — с надеждой подумал Алехин. И отхлебнул из выданного ему стакана.
Компот был малиновым, скорее всего прошлогодним, приторно-сладким и жажды не утолял. Проглотив пробу, Алехин выпил стакан одним глотком. Николаич только пригубил, поморщился и поставил стакан на стол. На ободок стакана тут же, одна за другой, уселись три толстые черно-зеленые мухи с блестящими боками. Рыбников, так и не притронувшись к компоту, одним молниеносным движением руки поймал сразу всех трех, сжал кулак и, раскрыв его, сбросил придушенную добычу на пол.
Насмешливый жест коллеги про «бла-бла-бла», однако, не укрылся от Николаича, и он оборвал себя на полуслове. «Какую страну просрали! — подумал он. — Какое время было. Речи. Встречи. Как он на собраниях клеймил. А теперь работай с этими беспринципными перевертышами-белогвардейцами вроде Рыбникова. Нет, б…дь. С таким настроем фашизм нам не одолеть».
— Понимаешь, Юра, — Николаич перешел на «ты», что уже было шагом вперед, — мы-то рады тебя послать. Больше того, транспорт формируется и колонна планируется на… Ну, короче, планируется на ближайшее время. Проблема в том, что в автобусе, «Мерседесе» с кондиционером, если ты заметил там, во дворике, черный со шторками такой, сидят, сам понимаешь кто. Два этих самых… Вот именно. Такое время. Так вот они после нас фильтруют личный состав добровольческого корпуса, заводят анкеты, определяют цели, задачи и выправляют сопроводительные документы для пересечения границы и обустройства на месте. Так что мы, сам понимаешь, со всей душой. Мы тебя сейчас к ним выпустим, а у тебя и военного нет, и паспорт заграничный. И визы иностранные… В общем, войди в положение.
На этом Николаич с Рыбниковым встали, давая понять, что аудиенция закончилась, как будто за окном стояла очередь из добровольцев.
Алехин, еще не осознав, что его только что послали, открыл рот, чтобы что-то сказать, как-то зацепиться. Но не успел.
Дверь распахнулась, и в комнату вошла полусогнутая бабка в длинном шерстяном платке и валеных чеботах. В руке она держала пакет.
— Вот, жертвам возьмите, люди добрые, — прошамкала она, не обращаясь ни к кому конкретно и не поднимая головы. — Яички свежие. Двенадцать штук.
Бабка аккуратно положила пакет на стол, перекрестилась в угол на плакат с портретом Сталина в серой железной рамке, развернулась и вышла не попрощавшись.
Алехин только сейчас увидел портрет генералиссимуса в темном углу. Над портретом, как покрывало над иконкой, висело красное полотнище, перекрещенное синими полосами с белой окантовкой, похожее на флаг мятежной Конфедерации времен Гражданской войны в США. Только без звезд. «Лампадки не хватает», — подумал он и стал подниматься с нарочито расстроенным видом. Взяв паспорт, он сунул его в задний карман брюк.
— Так что езжай за военным билетом, или пусть пришлет кто, если есть, где пожить, — виновато сказал старший. — Без военного, брат, никуда. Кстати, Юра, ты где остановился? У тебя есть, что поесть? А то возьми яйца. До Донбасса все равно не доедут.
— Спасибо, — смущенно ответил Алехин. — В следующий раз.
В этот момент у Николаича зазвонил телефон. Он посмотрел на экранчик, поспешно вышел в другую комнату и захлопнул за собой дверь. Слышно было, как он оправдывался перед кем-то на повышенных тонах.
— Жданов, подожди, — неожиданно сказал Рыбников, когда Алехин уже был в дверях. — У тебя мобильник с собой? Набери мой номер и сохрани. Позвони завтра, если останешься. Может, что-то образуется. А пока ищи билет.
Он продиктовал Алехину номер. Тот набрал. Через секунду в нагрудном кармане куртки у Рыбникова заиграло «Мальчик хочет в Тамбов, чики-чики-чики-чики-та…».
Рыбников похлопал Алехина по плечу и пожал ему руку. Алехин спустился по лестнице на первый этаж и вышел во двор. Грузовик стоял впритык к обитой ржавым железом двери. У черного «Мерседеса» маячили двое в серых костюмах. Не глядя на них, Алехин направился к выходу на улицу. Эфэсбэшники курили, смеялись и смотрели ему вслед.
До отеля было десять минут ходьбы. Несмотря на жару, Алехин решил не брать такси, а прогуляться и все хорошенько обдумать по дороге. Какого хера он вообще тут делает? Зачем вернулся в Россию? Что он может изменить? На хрена ему Донбасс? Его жена и дочери погибли. Их нет, нет. Даже если он найдет то место, кто ему выдаст их останки? (Алехин и в мыслях старался избегать называть их по именам. Особенно дочек.) По документам он не имеет к ним никакого отношения. Он для них теперь вообще — никто. Ни муж, ни отец, даже не дальний родственник. Какие у него права? И… Куда теперь приходить, чтобы помянуть их, приносить цветы? Просто у могилки посидеть?
— Сережа, чего ты хочешь? — Алехин сказал это вслух, остановившись на тротуаре.
Проходившая мимо женщина средних лет с двумя темными матерчатыми авоськами в руках, оглянулась на него, покачала головой и продолжила путь.
Спохватившись, Алехин стал отвечать на свой вопрос уже про себя: «Не ври хоть сам себе. Тебе совсем другое нужно. Просто узнать, кто, как и почему. Так ведь? Чтобы что? Отомстить? Кому? Как?»
Ни на один из этих вопросов ответа у него не было, кроме фирменного «Проснемся — разберемся». Но для этого нужно было хотя бы проснуться. Все последние дни он провел, как во сне. Только в самолете, после объявления о скорой посадке, он вообще осознал, что приземляется — в Москве.
Там же в кассе «Аэрофлота» он купил билет в Ростов. Вылет на следующий день. Он даже не смог заставить себя поехать в город. Просто взял такси из Шереметьева в Домодедово и в машине вновь уснул.
Проснулся с тем же не проходящим ощущением пустой головы, пустой души и сердца, словно вырезали из него какой-то главный орган, без которого жить невозможно в принципе, а он почему-то все еще живой. Как зомби. И нет, конечно, голова не была пустой. Она была набита постоянно шевелящимися мыслями, которые мельтешили и налезали друг на друга, сбиваясь и путаясь. Как черви в банке у рыбака.
И что было делать в Москве? Поехать посмотреть на дом? Чтобы рвать себе душу в клочья? И подставиться?
«Хватит истерить, Алехин, — приказал себе бывший опер. — Определись здесь и сейчас, пока не поздно. Либо возвращайся в марину, где тебя уже обыскались все армяне Америки, или еще куда. Куда захочешь. Ты же миллионер, Алехин. Ты можешь все. Кроме одного. Не можешь вернуть свою семью. И никогда не сможешь. Не хочешь жить дальше — купи себе ствол, а там все просто и почти безболезненно. Четыре варианта: в лоб, в висок, в рот и в сердце. Все работают, если палец на спуске гнется».
Вдруг Сергей понял, что это не он сам с собой говорит. Это не его слова. Не его мысли. Вся эта рефлексия была чужеродной ему, как вирус, проникший и разрушающий его изнутри. Надо было немедленно заканчивать с этим самокопанием и думать о конкретных следующих шагах.
Он остановился на углу, купил в уличном ларьке стакан семечек и пошел дальше, лузгая семки, как мальчишка из его детства на улице Ебурга, когда он был беден, одинок и счастлив, о чем не догадывался.
Город жил оживленной будничной жизнью. Такой характерной ростовской. Машин на улицах было много, но без пробок, как в Москве. Много «Жигулей». В Москве их теперь редко встретишь. Водители то и дело гудели друг другу, высовывались из окон и крутили у виска пальцами. Среди пешеходов особенно много было военных. Это в первую очередь бросалось в глаза. При этом большинство из них выглядели не охранниками банков, аптек, магазинов, выряженными для устрашения в военную форму, а настоящими военными — с «Калашниковыми», перекинутыми через плечо за спину дулом вниз.
Еще подъезжая к городу на такси из аэропорта, Алехин обратил внимание на колонны бронетранспортеров, танков и крытых зеленым брезентом грузовиков. «Удивительно, — усмехнулся он про себя, — что жители еще не роют противотанковые рвы и окопы, а в небе над Ростовом не висят аэростаты». Тогда было бы полное ощущение, что фашистские танковые клинья уже приближаются к окраинам города по шоссе от Таганрога. На какое-то мгновение Алехину показалось, что он явственно слышит рокот танковых моторов «панцервагенов» и даже видит перед глазами черные кресты в белой окантовке на их приземистых бортах и прямоугольных башнях из военных фильмов его детства, например эпопеи «Освобождение», которую смотрели всем классом. На секунду зажмурившись, он снова открыл глаза. Наваждение рассеялось. Танки, двигавшиеся навстречу, были высокими и без крестов. На них вообще не было никаких опознавательных знаков, кроме широких белых полос на бортах. Полосы проплывали мимо него, как гробовые крышки: одна, вторая, третья, четвертая…
Сочно пахнущие свежеотжатым подсолнечным маслом семечки вернули Алехина к жизни. И тут же он ощутил острый приступ голода. По пути ему попалось полуподвальное заведение с вывеской «Караоке-бар “Сергей Есенин”». Не останавливаясь, он прошел мимо и через блок-полтора увидел какую-то огромную позолоченную дверь, по обеим сторонам которой стояли два молодых человека в новенькой отутюженной казацкой форме времен «Тихого Дона». В руках у них были торчащие вверх шашки наголо, а на головах — широкие черные каракулевые папахи. Выглядели они как-то странно. Что-то во всем этом антураже было настолько не вяжущееся ни с Ростовом (в его представлении), ни с каким другим знакомым ему русским городом, тем же Ебургом или Тверью, что Алехин остановился и спросил часовых, не ресторан ли это и нельзя ли здесь перекусить.
Один из казаков вложил шашку в ножны, попросил у Алехина закурить и, услышав в ответ, что приезжий человек некурящий, просветил его, что это клуб и в нем есть и бар и ресторан, только они, как и клуб, открываются через час и будут работать всю ночь напролет.
— Какой клуб? — поинтересовался Алехин.
— Мужской. «Голубой Дон».
— Понятно, — Алехин улыбнулся, поделился с охранниками семечками, отдал им честь, взяв под козырек воображаемого кивера, и через десяток метров свернул налево, на площадь с большим собором с золочеными куполами с одной стороны и забегаловкой под вывеской «Надежда» — на противоположной. Туда он и направился.
«Вера и надежда тут на площади, а любовь — за углом, как и положено», — заключил про себя Алехин и только теперь понял, что так резануло его в облике казачков — оба были без усов и с напомаженными ярко-вишневыми губами.
Алехин покачал головой и улыбнулся — впервые с тех пор, как утонула его яхта вместе с Галей и армянскими ковбоями. Случайная встреча с ряжеными казачками, несущими караул у дверей «Голубого Дона», и нарастающее с каждой минутой чувство голода вернули его к жизни. Он больше не думал о самоубийстве.
«Все по порядку, — открывая дверь «Надежды», Алехин вырабатывал план ближайших действий. — Сначала перекусим, потом достанем военный билет, потом узнаем правду, потом проснемся — разберемся и…»
Параллельно бегущая и более не путающаяся другая мысль уже подсказывала ему, где в этом городе можно приобрести военный билет.
Харцизск. Донецкая область. Июль
Девочка лет десяти стояла на остановке, держа в руке пластиковый пакет с аккуратно завернутым в бумагу бабушкиным пирогом. Она возвращалась от бабушки домой к маме в Торез. Танечка Круглова на автобус опоздала. Позвонила маме. Нина отправила ее назад, к бабушке, и наказала вернуться завтра. Танечка любила жить у бабушки в Харцизске. Во дворе есть детская площадка, а дома у бабушки три кошки и четверо котят. Сначала, как войдешь, пахнет кошками, потом принюхиваешься и становится хорошо. Бабушка готовит вкусно. Конфеты, варенья. А котята просто прелесть. Один рыжий, один черненький, два серых полосатых. Такие игровые. Особенно рыжий. Надо будет уговорить маму взять одного. Танечка сначала расстроилась, что не довезет маме пирог. Но вспомнила котят и заулыбалась.
— Девочка, на автобус опоздала? — спросил белозубый военный, высунувшись в окно джипа, притормозившего у остановки.
— Да.
В лице военного было что-то такое теплое и дружелюбное, что Танечка, обычно застенчивая и нелюдимая, ответила ему.
— А куда тебе ехать?
— В Торез.
— И я туда же. Могу подвезти.
— Правда? — улыбнулась девочка. — Щас я только маме позвоню.
Она набрала номер несколько раз, но зона исчезла.
— Садись, по дороге позвонишь, — военный протянул руку через пассажирское сиденье и открыл дверь.
Продолжая набирать мамин номер, Танечка села в машину. Водитель нагнулся над ней и аккуратно, стараясь не касаться девочки, пристегнул ей ремень безопасности. От военного пахло свежестираной формой и одеколоном. Машина заревела и помчалась по безлюдной улице, где удушливый смрадный ветер гонял обрывки бумаг, упаковки, пустые бутылки и прочий мусор, который давно уже никто не убирал. Попадая сквозь открытое водительское окно в салон, ветерок в одну секунду становился свежим и прохладным. Танечка попробовала открыть свое окно, но кнопка была заблокирована.
— Если открыть оба окна, то сквозняк будет, и мы простудимся, — улыбнулся военный. — Как тебя зовут?
— Таня.
— А меня дядя Паша. Сколько тебе лет?
— Десять.
— Куда едешь?
— К маме. Пирог везу. От бабушки.
— Ого! А серого волка не боишься? Мама где работает?
— На почте, — Танечка засмеялась и вновь набрала номер мамы, на этот раз успешно. — Мамочка, я еду. Мы через полчаса будем.
— Мы? — переспросила Нина. — Автобус пришел?
— Нет. Мы с дядей Пашей едем.
У Нины вдруг перехватило дыхание. Она услышала в трубку, как дядя Паша весело пропел: «Мы едем, едем, едем в далекие края!»
— Таня, слушай меня! — прокричала Нина. — Дай трубку дяде Паше немедленно!
Танечка протянула военному телефон. Тот почти без звука одними губами спросил Танечку:
— Как маму зовут?
— Нина, — так же артикулируя, шепотом ответила Танечка.
— Ниночка, не беспокойтесь, — бодро отрапортовал дядя Паша, взяв трубку. — Это старший лейтенант Шипилов. Павел Шипилов, командир четвертой роты двадцать седьмой добровольческой бригады.
— Мы знакомы?
— Кто ж вас не знает? — Шипилов озорно подмигнул Танечке. — Я к вам на почту пару раз заходил.
— Ну хорошо, — у Нины отлегло. — Вы ее до дома довезете? Там просто. Она покажет. Это сразу за администрацией. Улица Марата, восемь. Или можете просто у почты высадить. Сама дойдет.
То ли Нина на что-то нажала, то ли снова пропала зона, но разговор на этом оборвался.
Все время, пока ехали, Шипилов и Танечка весело болтали. Про бабушку, про маму, про школу, про котят, про папу и про войну. Выяснилось, что у дяди Паши тоже кошка с котятами. А раньше еще и собака была.
Шипилов по дороге угостил ее леденцами и шоколадной конфетой. Леденцы Танечка положила в рот, а конфету в сумку к пирогу, для мамы.
По дороге было четыре блокпоста. Три поста ополченцев и один — российских десантников. Джип дяди Паши проехал их без единой остановки.
На въезде в Торез остановились у приземистого домика.
— Я на минутку домой заскочу, — сказал дядя Паша. — А ты подожди здесь. Я мигом.
Не выключая двигателя и оставив дверь машины приоткрытой, дядя Паша зашел в дом. Танечка захотела было перезвонить маме, сказать, что будет через пять минут, но телефон остался у дяди Паши. Он забыл ей его отдать.
Шипилов появился через пару минут. В руках у него была пушистая серая кошка.
— Танечка, хочешь на моих котят посмотреть? — улыбаясь, спросил он.
Девочка вышла из машины. Шипилов наклонился к ней. Она погладила кошку. Та заурчала. Они вошли в дом. Закрывая дверь, старший лейтенант огляделся по сторонам.
Нина между тем вновь почему-то заволновалась. Позвонила Танечке. Телефон находился вне зоны действия сети. Позвонила в комендатуру. Там ей сказали, что старший лейтенант Павел Шипилов ни в гарнизоне, ни в двадцать седьмой бригаде не числится.
Дядя Паша вышел из дома через пять минут. Сел в машину и поехал дальше. Лицо его было непроницаемо серьезно. Хотя под нос себе он напевал что-то веселое, ритмичное. По дороге он выкинул в окно прилипший к запястью обрезок Scotch@ Stretchable Tape, открыл Танечкин пакетик, вытащил оттуда бабушкин пирог с капустой, откусил, прожевал и жадно съел весь целиком, но голода не утолил.
— Еще не вечер, Красная Шапочка, — вслух сказал офицер с задумчивой улыбкой и выкинул в окно Танечкин телефон. — Еще не вечер.
Глава двенадцатая ГИТЛЕР
Ростов-на-Дону. Июль
В ресторане «Надежда» если что и изменилось с советских времен, когда он еще назывался «Юность», то явно не в лучшую сторону. В просторном вымощенном щербатой и неровной серой плиткой холле у стены слева темной и пыльной пустотой зияла гардеробная. Облокотившись на ее стойку и уронив лысую голову на руки, спал сидевший на стуле грузный охранник в синей навыпуск рубахе с навсегда взопревшими подмышками.
Судя по храпу, он спал мертвым сном, несмотря на то, что из ресторанного зала неслась нестерпимо громкая и лихая песня в стиле «русский шансон». Алехину потребовалась всего пара секунд, чтобы по голосу опознать исполнителя. Это был знаменитый ебургский шансонье, известный в ментовской среде тем, что еще при советской власти угодил на долгий срок на Колыму — но не за сомнительные песенки, а за что-то другое, более существенное. Тридцать пять лет назад, когда Сережа Алехин пошел в первый класс, песни бывшего зека, перековавшегося в шансонье, звучали в Ебурге из каждой второй открытой форточки и из каждого третьего включенного в розетку утюга. С тех пор шансонье давно освободился, стал легальным бизнесменом и миллионером, но в его песенном творчестве мало что изменилось — он по-прежнему рифмовал «в горле» с «упорно» и «прозевали» с «плохо жевали» и считал себя суперзвездой, безвинно пострадавшей от коммунистической тирании.
Открыв дверь туалета с нарисованной на ней шляпой с пером, Алехин буквально наткнулся на торчащий из стены и загораживающий добрую половину прохода писсуар. Это устройство было оборудовано автоматической системой смыва, которая срабатывала в неопределенный момент сама по себе. Не успевшему застегнуть джинсы Алехину инстинктивно пришлось отпрыгнуть, чтобы его не обдало холодным душем, когда смыв без предупреждения сработал.
Выйдя из туалета, Сергей испытал сильное желание вернуться на улицу. Но чувство голода пересилило брезгливость. Он двинулся направо и вошел в огромный прямоугольный зал с парой десятков столиков.
У противоположной стены зала возвышалась пустая сцена с черным роялем на фоне задника с приморским пейзажем а-ля Айвазовский, окаймленным бархатистыми вишневыми портьерами. Возле высоких зашторенных кремовым тюлем окон высились разлапистые широкие растения с зазубренными блестящими листьями. В прошлой жизни у них дома в прихожей, сбоку от лестницы, стояло такое же, но Сергей уже не помнил названия.
Зал был пуст, если не считать шумной компании из четырех коротко стриженных среднего возраста «братков», одетых и выглядевших, как «братки», и двух проституток, выглядевших и одетых, как проститутки.
Алехин сел за столик в противоположном углу, как можно дальше от динамиков, из которых неслось надрывно-разухабистое:
Люблю ходить, в карманы руки, не спеша, В слепые окна посвистеть… А ту, которая с другим, — но хороша! — Глазами, и не только, догола раздеть!Появился официант. Алехин, объясняясь не столько словами, сколько жестами, попросил его первым делом убавить звук хотя бы наполовину и принести ему бутылку холодного «Боржоми» и меню. Официант закивал и поспешил в служебное помещение.
Через пару минут мощь шлягера снизилась до менее убойной, о чем Алехин тут же пожалел. Компания за столиком у противоположной стены общалась между собой не менее истерично и преимущественно матом. По долетавшим до него репликам и междометиям Алехин узнал, что «у Вована днюха, а он морду воротит». Девушки то визгливо смеялись, то просили налить, то нестройно подпевали голосу уральского соловья. Все они были заметно пьяны и вели себя соответственно.
Увесистое меню, которое принес официант, насчитывало более ста наименований блюд, в том числе такие диковинно звучащие, как «Салат оливье тре деликат под соусом провансаль» и «Борщ из гусиных копченостей с разными капустами и босторферными яблоками».
Уточнив, что копчености и капусты, равно как и яблоки, название которых мгновенно вылетело у него из головы, являются ингредиентами самого обыкновенного борща, Алехин сделал заказ и попросил принести также сто граммов водки — неважно, с каким названием, лишь бы очень холодной, а еще лучше ледяной.
Записав заказ в блокнот, официант двинулся в сторону кухни, но Алехин окликнул его и спросил, есть ли в ресторане вай-фай. Получив утвердительный ответ вместе с листком из блокнота с надписью Nadezhda-net пароль 666, Сергей достал айфон и вошел в Интернет. Набрав в поисковике «военный билет ростов-на-дону срочно», подумав, добавил «дорого», потом последнее слово стер и нажал на Enter.
С деньгами у Алехина, как известно, проблем не было и в этом столетии не предвиделось. До вербовочного пункта он посетил с десяток банкоматов, где отоварил шесть имевшихся у него кредитных карт в общей сложности на двести тысяч рублей. Все карточки, кроме одной, работали, и это было хорошо. Военный билет мог стоить приличных денег.
Яндекс выдал сто сорок восемь вариантов. Проглядев первые тридцать, пока не начались повторы, Сергей выбрал «Справки на вождение, оружие, свидетельства о рождении, больничные листы, трудовые книжки, охотничьи и военные билеты, дипломы круглосуточно» и записал указанный телефон. После чего взглянул на часы, а затем — на дверь, ведущую в служебные помещения ресторана. Официанта со своим заказом он не увидел.
Между тем за столиком у изрядно разогретых соседей назревал скандал.
— Саша, ты, б…дь, меня б…дью называешь? — визгливо вопрошал женский голос. — После всего, что было?!
— Да иди ты на х…й, Таня! Выпила, б…дь, лишнего, гражданка Николаева. Веди себя…
— Это ты, б…дь, лишнего ширнул, енот поганый! — гражданка Николаева, словно только и дожидавшаяся, пока ее пошлют в указанном направлении, взвилась еще пуще. — Всю, б…дь, жизнь мне испоганил, козел!
— Ты посмотри на себя в зеркало! — повысил голос Саша. — Ты, сука, на вокзале сосала, как последняя б…дь! Я ей жизнь испортил? Из говна, б…дь, вытащил, дуру немытую, трепак простил, пристроил в культурный бизнес. Нет, б…дь, видали?! А?!
Таня резко вскочила со стула. Покачиваясь, размахнулась сумочкой и влепила Саше со всего размаху по уху. Пока его компаньон и вторая девушка продолжали смачно закусывать жирной селедочкой с луком, давясь от смеха, Саша медленно поднялся, выкатил глаза на пунцовом лице и вкатил Тане профессиональный боковой в челюсть. Удар был такой силы, что девушка пролетела метра полтора по залу, выбила из рук у подвернувшегося на траектории полета и тщетно пытавшегося увернуться официанта тарелку с алехинским борщом из гусиных копченостей и грохнулась, раскинув руки, на пол. При этом угодила она не просто на пол, а в лужу того самого борща, который кроваво-красными ручейками мгновенно начал растекаться из-под ее головы во все стороны.
Алехин встал, подошел к суетящемуся официанту, сунул ему стольник в нагрудный карман, перешагнул через бесчувственную проститутку и направился в сторону веселой компании. Боксер Саша уже успел сесть на место. Поймав движение Алехина мутным взглядом, он приподнялся и полез правой рукой за пояс брюк сзади. Остальные, вытирая салфетками липкие, лоснящиеся рты, молча наблюдали за развитием событий.
Алехин прошел мимо, не скосив и глаза, и вышел в холл.
— Пора полицию вызывать, — сказал он проснувшемуся и протирающему очки охраннику.
— Какую полицию? — печально хмыкнул охранник. — Они полиция и есть…
— Нюх потерял, — Алехин произнес это вслух, оказавшись на улице. — Простите, Таня. Сейчас, честно, не могу ничем помочь. В следующий раз, гражданка Николаева. Мне еще правду узнать надо, — тут же осознав по ходу движения, что последнее предложение было не просто фразой, а цитатой из какого-то до боли знакомого кинофильма. Но не смог сразу вспомнить, из какого.
Отразившись от купола собора шаровой молнией, солнце мгновенно ослепило его.
«Вспомнил! — воскликнул уже про себя и для себя зажмуривший глаза Алехин. — “Свой среди чужих…”»
Рядом с отелем Алехин зашел в «Макдональдс» и поужинал картошкой фри с кетчупом и куриными крылышками с соусом барбекю, запил это дело приторно-сладкой кока-колой со льдом.
«С американской не сравнить, — подумал он. — То, что не могут не воровать при производстве, это факт. Это не обсуждается. Значит, Coke[39] должен быть менее сладким. Но он более сладкий, чем американский. Значит, они туда добавляют сахар. Зачем? Чтобы скрыть недостачу того, что украли. Не сахар же, раз добавляют? А что тогда?»
Продолжая решать про себя эту логическую задачу, он добрался до гостиницы и поднялся в номер на третий этаж.
Как только Сергей закрыл за собой дверь, телефон на столе моментально зазвонил.
— Добрый вечер, — запело сопрано, одновременно выдыхающее сигаретный дым, на другом конце провода. — Не хотите сегодня отдохнуть? Замечательные девушки. Не пожалеете.
Алехин повесил трубку. Посмотрел на часы. Было 21.16. В Ростове время московское. Набрал номер, выуженный из Интернета. Ответил мужской голос. Разговор был короткий. Незнакомец прервал его на полуслове, сказав:
— Подробности при встрече.
Договорились на одиннадцать утра. В Парке культуры и отдыха имени Октябрьской революции. У пруда с черными лебедями. От гостиницы на такси — пять минут.
Сбросив кроссовки, Алехин, не раздеваясь, рухнул на неразобранную двуспальную кровать и мгновенно забылся мертвым сном.
* * *
— Сережа, я волнуюсь, — Лена говорила тихо, чтобы не разбудить девочек, которые спали вдвоем на соседней кровати в номере. — Может быть, не надо туда ехать?
Сергей лежал на спине с открытыми глазами, закинув левую руку за голову, а правой обнимая Лену, которая лежала вплотную рядом с ним на боку, привычно обхватив его рукой и положив свою теплую ногу поверх его. Ее голова покоилась у него на груди. Он перебирал пальцами ее волосы, гладил плечо. Она скользила рукой по его щетинистому подбородку, медленно спуская руку вниз и теребя пальцами волосы у него на груди. От ее волос пахло свежестью. И любовью.
— И что? — спросил Сергей полушепотом.
От шепота у него садился голос. В детстве он много орал и громко пел. Однажды сорвал голос. Так, что даже говорить не мог. Получалось сиплое бормотание. «Ухо-горло-нос» прописал лечение и запретил говорить шепотом. А орать — наоборот, разрешил. Столько лет прошло, а он неукоснительно следовал советам врача, как будто работал не ментом, а оперным баритоном. У них дома была гитара. Лена любила слушать, как он поет. Он редко пел в компаниях, а вот дома делал это с удовольствием.
— Ты ничего там не узнаешь, родной, — прошептала Лена и коснулась губами его плеча. — Я боюсь, Сережа. Места себе не нахожу. Держусь, как могу, при девочках. Там же война. Тебя убьют, Сережа… Я прошу тебя…
Алехин почувствовал, как повлажнели волосы у него на груди. От ее слез. Он поднял руку к ее мокрой щеке, прижал к себе голову и поцеловал ей волосы на макушке, потом приподнялся, обнял и поцеловал в губы… И тут проснулся от громкого, как пожарная сирена, звонка. Вновь звонил гостиничный телефон. Он резко вскочил, схватил трубку. Посмотрел на часы. Было два ночи.
— Уважаемый гость, простите за поздний звонок, — прощебетал девичий голосок с мягким южнорусским акцентом. — Вы хотели бы хорошо отдохнуть, расслабиться в компании с нашими девушками?
Алехин протер глаза. В комнате было темно и душно. Окно закрыто. Кондиционер он не включал.
— Пришли мне русскую девушку от тридцати пяти до сорока лет, среднего роста, грудь третьего размера, некурящую, не брюнетку, — продолжая тереть глаза, вполголоса сказал Сергей, словно все еще боялся кого-то разбудить. — Есть у вас такие?
— У нас девушки на любой вкус, — с готовностью ответила трубка. — Вам на когда?
— На сейчас.
— Хорошо, ожидайте. Предоплата сто процентов. Девушке. На месте. Тариф — две тысячи рублей час, шесть тысяч рублей до утра, десять тысяч на сутки.
— А на неделю?
— По договоренности, — трубка захихикала. — Хорошего вам отдыха.
Девушка постучала в дверь через пятнадцать минут. Алехин успел принять мужской мгновенный «командировочный» душ и почистить зубы. Голый, прикрываясь полотенцем, он открыл дверь, повернулся и, не взглянув на девушку, лег в постель, накрывшись простыней.
Проститутка вошла и закрыла дверь. Сказала «добрый вечер». Тем же самым голосом, что и трубка четверть часа назад. Прошла в комнату. Села на стул у стола. Положила на стол сумочку и открыла ее. Алехин с трудом разглядел девушку в неярком свете ночника, висевшего у кровати на стене, — такой маленькой она ему показалась. На вид и восемнадцати не дашь. Волосы темные, коротко стриженные. Худенькая, невысокая. Груди не было совсем.
— Кристина, — представилась она застенчиво.
— Так это ты мне звонила? — спросил Алехин.
— Да, я, — девушка продолжала смотреть в сторону. — Вы простите. Просто сегодня мое дежурство. Двух остальных уже разобрали. Мне уйти? Я понимаю, что вы не то хотели. Но я… не курю.
— Оставайся, раз уж пришла, — рассмеялся Алехин. — Хоть поспишь у меня до утра.
— В смысле?
— Раздевайся, ложись. Поздно уже.
— А деньги?
— На столе.
Кристина пересчитала шесть бумажек, положила их в сумочку, быстро разделась, достала из сумочки блестящий квадратик и подошла к постели.
— А душ, Кристина? У меня горячая вода есть.
— Я утром принимала.
— Теперь примешь ночью. Давай, давай, топай в ванную.
Кристина смущенно выполнила приказ и провела в душе чуть ли не полчаса.
«На неделю вперед», — подумал Алехин.
Вернувшись, Кристина села рядом с ним на кровать, прикрывая несуществующую грудь рукой и, как конфетку на ночь, протянула ему презерватив.
Алехин положил его на тумбочку за голову и подробно проинструктировал Кристину, как лечь: справа от него, обхватить его рукой и ногой, положить голову ему на грудь. Голова Кристины пахла солнцем и семечками. Сергей уткнулся подбородком в ее волосы и закрыл глаза. Он покрепче обнял ее плечо и почувствовал, как она откликнулась всем телом. Так они проспали до утра.
— Сколько тебе лет? — спросил Алехин утром.
— Семнадцать с половиной.
— Как тебя зовут, Кристина?
— Лена. А вас?
— Макаренко, — Алехин вручил ей неиспользованный презерватив. — И не забудь свое software[40].
Лена хихикнула, положила презерватив в сумочку, смущенно, по-детски улыбнулась и вышла за дверь.
* * *
В парке было людно. Сергей с трудом нашел свободную скамейку. В небольшом квадратном пруду действительно плавали четыре пары черных лебедей.
— А вы знаете, Сергей Михайлович, что лебеди живут всю жизнь только в одном браке? — спросил прохожий, мужчина средних лет, остановившись у его скамейки. — Да, да. Более того, если один из супругов погибает, то оставшаяся половинка живет до конца своих дней в одиночестве и больше партнеров не заводит.
Незнакомец снял черную бейсболку с эмблемой Dallas Cowboys и широко улыбнулся щербатым ртом с неровными желтыми зубами.
* * *
Он был улыбчивым по жизни, но сейчас ему было не смешно.
— Ты разумеешь, падла, х…есос ментовский, крыса е…аная, каких золотых пацанов ты сдал? — наклонившись над ним, просипел Гнедой. — Ребята чалятся на зоне по твоей вине, паскуда, а ты тут жируешь, петушило! Ты ж их еще и обобрал, падла! Крыса ты, в натуре, помойная. Менты тебя отмазали, а ты, Гитлер, должен был щас под шконкой тухнуть. Там бы тебя и загасили, как два пальца об асфальт. Но ты думал, мы тебя не достанем. А мы достали. Вот и будет тебе щас казнь лютая, как на зоне.
Гена Филимонов, в прошлом художник и свадебный фотограф, а теперь торговец наркотиками по кличке Гитлер, лежал связанный по рукам и ногам, упакованный, как куколка гигантской бабочки, в спальный мешок, сквозь который спину уже прожигала холодом и страхом заледеневшая осенняя земля. Бандиты вывезли его на свою турбазу «Хрустальная» под Ебургом. Здесь кричи не кричи, никто не услышит — лес кругом. Кляп у него изо рта вытащили для последнего слова. Из запекшихся окровавленных губ в морозный воздух вылетал пар. Облачко за облачком. Глаза моргали, тело, словно пробитое электрошокером, нервными судорогами тряс ледяной ужас. Он не мог произнести ни слова. Смотрел снизу вверх на темные силуэты своих мучителей и ждал смерти. Как избавления. Только бы не больно было, думал Гитлер. Он не выносил боли. Его зубной врач, протирая спиртом прокушенную руку, сказала, что у него болевой порог отсутствует и что ему нужно сначала нервы вылечить, а уже потом к стоматологу записываться. Теперь было уже поздно лечить нервы.
— Закроешь, глаза, падла, мы тебя пилой пилить будем, — продолжил Гнедой, еще ниже наклонившись к лицу жертвы. — Слушай расклад. Сейчас Заноза будет вкручивать тебе между ребров супинатор. Вот эту заточку железную из твоего ботинка, гнида. Тебе коци больше не пригодятся. А мы все будем смотреть тебе в глаза до последнего. Пока штырь не проколет тебе, падла, твое гнилое сердце. Смотри! Дернешься, закроешь, сука, глаза, мы тебя по частям нарежем. Только медленно-медленно.
Гитлер не мотал еще ни одного срока и не знал, как казнят на зоне «крыс». А Гнедой и Заноза знали. Два «приговора» Заноза привел в исполнение собственноручно. Казнь провинившегося блатного проводится в соответствии с устоявшимся ритуалом. В установленном старой тюремной традицией порядке. Когда приходит малява с приговором, из ботинка достается супинатор. Его долго точат о бетонный пол. Сам приговоренный может точить — содержание малявы пахан не разглашает, — и он не подозревает, что эта заточка скоро пройдет между ребер именно ему. Все в бараке или в камере готовятся (билеты «раскуплены»), но никто еще не знает, кто «крыса кумовская» — или же он придет с послезавтрашним этапом, или он пьет чай в соседней хате, или вот он, сука, спит на верхней шконке. Или это ты сам и есть. О том, что заточка изготовлена по ее душу, «крыса» узнает лишь тогда, когда по сигналу пахана сокамерники набрасываются на него, вяжут и запихивают в рот его же носки — чтобы не скулил перед казнью. А то прибежит «кум» и все испортит.
Но сейчас эта предосторожность была излишней — вокруг места казни на десятки километров тайга. Ори сколько хочешь.
— Как понял меня, фашист? — закончил вступительную часть Гнедой. — Если все ништяк, даем тебе последнее слово, сука.
Филимонов заморгал глазами навыкате и попытался качнуть головой.
— Ре… ре… ребята, простите меня, — прошептал Гитлер. — Я не «крыса», мамой клянусь.
— Мы твою маму на х…ю видали, Гитлер, — Гнедой цыкнул слюной себе под ноги и перекрестился. — Ну, Заноза, поехали. С богом.
Четверо приблизились и стали склоняться над Гитлером.
— Все смотрим ему в глаза, — командовал Гнедой. — Запоминаем!
Острая боль пронзила грудь приговоренного, когда заточенная сталь супинатора под опытной рукой Занозы прошла сквозь мешок, одежду, стала прорывать кожу и плавно скользить вниз по ребру.
Гитлер задрожал всем телом, обмочился, зажмурил глаза и что есть силы завизжал. Он был так оглушен своим криком и ужасом, что не услышал сухого щелчка выстрела. Давление супинатора ослабло. Заноза, хрипя, повалился лицом на мешок. Остальные вскочили, развернувшись на звук. Алехин, без куртки, без шапки, как и запрыгивал в машину, не останавливаясь, сделал еще четыре выстрела. Гнедой молча упал на спину с дыркой во лбу. Остальные трое с матерным хрипом катались по земле, пуская кровавые парны́е пузыри и суча ногами.
* * *
В ростовском Парке культуры имени Октябрьской революции перед Алехиным стоял его крестник Гена Филимонов, старше его на десять лет, последние девятнадцать живущий под чужим именем в Ростове, завязавший с наркотой и промышляющий ныне подделкой документов.
В бурном 1995 году Гена был одновременно и наркоманом и драг-дилером. Мелкотой, но все же. Он толкал «герыч» небольшими партиями по студенческим и рабочим общагам. Согласно легенде, его погоняло — Гитлер — объяснялось тем, что в свое время подающего надежды художника-самоучку не приняли в художественное училище. Он обиделся, отрастил усики щеточкой, как у Адольфа Алоизовича, принял свою первую, но не последнюю дозу и начал травить остальное прогрессивное человечество.
Талантливый человек талантлив во всем. Кончилось тем, что креативный Гитлер разработал на дому, как он говорил, «алхимический метод» синтезировать свой собственный метадон с гораздо меньшей себестоимостью, чем привозной афганский героин.
Он приторговывал под крышей банды Зябликова, которая контролировала практически весь оборот наркотиков в Ебурге. В то время базовой территорией синдиката был Чкаловский район, откуда и расползалась по всему городу-миллионнику — как это именовалось на оперативном жаргоне — вся «наркоактивность». В Чкаловском раньше был цыганский поселок, откуда исторически все и началось.
Во времена детства Алехина поселок выглядел, как неописуемо засранный шанхай, — косые деревянные хибары и немытые оборванные дети, ползающие в грязи перед ними. С тех пор все круто изменилось, и на месте халуп теперь возвышаются аляповатые кирпичные терема и дворцы с башнями до небес.
Алехин был свидетелем того, как цыгане свернули свой «первобытно-общинный бизнес на травке» и под угрозой полного истребления переместились «в какой-то другой Мухосранск». Такие обороты использовал в своей лексике майор Назир Салимов, занимавшийся борьбой с наркотой в Чкаловском РУВД. Салимов прославился тем, что пачками сажал потребителей. В главк шли сумасшедшие цифры посадок, и Салимова носили на руках. До того как он сросся, как сиамский близнец, с организованной преступностью, Салимов с агентурой расплачивался героином — и это при том, что приказ напрямую запрещал вербовать наркозависимых. Но Салимову никакой приказ был не указ. К тому времени уже весь Ебург превратился в один огромный наркопритон. В подъездах бабушки боялись прикоснуться к перилам — зараженные гепатитом и СПИДом нарики втыкали туда свои иглы. Лампочки были выкручены, и в темноте под ногами хрустели шприцы.
С Салимовым, уже полковником, потом долго сражался активист Веня Гроссман, который начинал как глава полублатной структуры «Чистый город», а впоследствии за заслуги в неравной борьбе со вселенским злом был избран мэром города. В итоге противостояния Назира закатали. Но это было уже через десять лет. А начинали службу Алехин со Слуцким под началом Салимова.
Из Средней Азии и Афганистана героин поставлялся с фруктами на овощебазу № 4, которой владел тогдашний вице-мэр Ебурга Понтеев по кличке Понт, севший в итоге за заказную мокруху. Всю эту индустрию — каналы поставки, сбыта и денежные потоки, — в свою очередь, крышевал генерал МВД Гафур Мирзоев (Гафор Седой). Уже три года, как он отбывал пожизненное, но иногда перезванивался с друзьями и бывшими коллегами по службе. До ареста Седого Алехин два раза сталкивался с ним в кабинете Салимова. Колоритнейший персонаж.
Кончилось тем, что предприимчивый Гитлер начал барыжничать сам по себе, в обход замкнутого круга: синдикат — Саланг — Хорог — овощебаза — Салимов — Гафор Седой — СИЗО — зона — синдикат. На него стали смотреть косо, заподозрив в том, что он крысит или кроит долю с общего дела, иными словами двигает пацанам фуфло, а сам барыжит синтетику под видом натуры. И непонятно, чем бы это обернулось для одаренного алхимика, если бы Гитлера не прихватил на расфасованном товаре Алехин. Выслушав краткое содержание текста своей статьи, Гитлер стал умолять не закрывать его и согласился сдать синдикат с потрохами. У Алехина это было первое по-настоящему серьезное дело, и он предложил Филимонову сделку, руководствуясь соображениями собственной карьеры. Перед массовой облавой шустрый Гитлер набрал у заложенных им подельников товара в кредит на довольно серьезные бабки с надеждой, что отдавать не придется. Алехин и представить себе не мог, что вскоре ему придется спасать ничтожному толкачу жизнь, рискуя собственной.
Дело стало раздуваться подробностями, и его передали в ОБНОН и ФСБ, откуда оно закапало, а затем и потекло. Пока часть банды сидела в СИЗО, другую часть за отсутствием улик выпустили, и те сразу начали зачищать поляну. Гитлера вычислили одним из первых. И, если бы не Алехин, гнить бы сейчас его косточкам с заточкой между ребер в бору под Ебургом, а не рисовать больничные листы под ростовским солнышком.
Тогда же юный максималист, романтик-бессребреник, воспитанный в духе «Рожденной революцией», Алехин нарушил правила и вмешался в судьбу Гитлера, отбив его в одиночку из лап зондеркоманды. Тела пятерых бандитов (чтобы не пойти под суд, Алехину пришлось добить и трех остальных) нашли следующей весной, и неопознанные трупы прошли по категории «подснежники».
Гитлер, который молился на Алехина, как на крестного-спасителя, некоторое время безвылазно жил у того в квартире, пока Сергей по доверенности не продал дом неудачливого барыжника, оставшийся Филимонову от матери-одиночки, и не переправил перековавшегося наркошу-уголовника-стукача с Урала «на юга», где тот разжился левыми документами и купил в Ростове квартирку. Тут он с тех пор и обретался — с липовым паспортом в кармане и со шрамом под сердцем, в котором преданно хранил, как он выразился, «пожизненную благодарность» Алехину.
Бывший мент и бывший стукач обнялись, расцеловались и пошли в стекляшку на противоположном берегу пруда отметить превратности судьбы и вторую часть аксиомы, что гора с горой не сходятся.
— Я ведь ваш голос еще вчера по телефону вычислил, Сергей Михайлович, — поделился Гитлер, стряхивая пальцами пивную пену с губ. — Поверить не мог, что это вы, но голос ваш спутать невозможно.
— Во-первых, не Сергей Михайлович, а Юрий Петрович, — поправил его Алехин. И, упреждая проявление излишнего любопытства, отрезал: — Не задавай вопросов. Просто слушай.
— Понимаю, понимаю, понимаю, молчу, — навострив уши, раскачивался Гитлер в такт словам, которые звучали, как заклинание.
Военный билет, значит, военный билет. Сказал, что сам такие сложные ксивы не ваяет, но есть люди, которые в этом деле «рубят, как Рубенс, так что от живой попы не отличишь».
— Это хорошо, — Алехин отхлебнул не успевшего потеплеть пива и понял, что есть сермяжная правда в том, что в пиве самое главное и самое вкусное — это первый глоток, а дальше имитация употребления. — Как быстро?
— Когда вам надо?
— Три дня назад.
— Через два дня, в четверг, то есть в пятницу будет готово. Но есть одна проблема…
— Какая?
— Ваша бородка. Она, конечно, элегантная, и все такое. На геолога похожи. Но на военный не годится. Фото без бороды я могу лет на двадцать омолодить. А с бородой… Да и не выдавали раньше такие докýменты, чтобы с бородой.
— Так что делать?
— Вон парикмахерская. Я вас там подожду. А потом зайдемте ко мне в ателье, я вас щелкну, и дело в шляпе.
В ателье после окончания съемки Алехин дал Гитлеру бумажку с необходимой для билета информацией: звание — ефрейтор, должность — снарядный (номер расчета 122-мм Д-30, ВУС — 135533, в/ч 44646, ДВО).
Он сделал домашнюю работу еще накануне в «Макдональдсе». Полазил по Сети. Выбрал самую простую артиллерийскую специальность — снаряды подносить. Можно, конечно, было присвоить себе сержантскую должность первого номера, наводчика, но название Алехину пришлось не по душе, да и для нее требовалось разбираться в таких деталях, как «работа на прицельных приспособлениях и с помощью поворотного и подъемного механизмов производство горизонтальной и вертикальной наводки». И он остановился на подносе снарядов.
— Сколько я тебе должен? — спросил Алехин в конце фотосессии, когда Филимонов снимал ксерокопию с паспорта Жданова.
— Да боже вас упаси, Сергей… ой, Юрий Петрович! — запричитал Гитлер. — Мне-то ничего, а вот товарищу, который, собственно, и будет это…
— Сколько?
— Двадцать семь с половиной тысяч рублей.
— С половиной? — Алехину стало интересно. — Отчего не ровно?
— Такой курс, — Гитлер виновато развел руками, словно хотел показать, что к его ладоням не прилипло ни одной купюры. — Там на доллары считают.
— На, держи аванс, — Алехин протянул фотографу пятнадцать тысяч. — На номер, с которого я тебе звонил, не звони. Я сам тебе позвоню.
— Ясно, ясно, — понимающе закивал Гитлер и не удержался, чтобы все же не задать вопрос. — На задании? Секретном?
Алехин без слов отвернулся и вышел из ателье. По дороге в отель он выкинул в первую попавшуюся урну SIM-карту и в ближайшем ларьке купил новую. На паспорт Жданова.
Харцизск. Июль
На площади у столба с привязанными к нему за спиной руками стояла женщина средних лет. Блузка и юбка с пятнами крови были местами порваны. Голова опущена. Светлые седеющие волосы сбились и слиплись. На них тоже была видна кровь. На груди у нее висела закрепленная вокруг шеи картонка с неровной надписью жирным черным фломастером: «АГЕНТ ХУНТЫ».
Перед привязанной к столбу выстроилась группа из нескольких женщин и двух мужиков. Поодаль стоял военный с автоматом в форме ополченца с устало-безразличным выражением лица.
Женщины что-то яростно кричали на сочном гэкающем суржике, бросали в привязанную помидорами и проросшей картошкой, норовя угодить ей в лицо. Жертва мотала головой, стараясь избежать попаданий, и скулила и подвывала от боли и унижения.
— Сука укропская! — крикнул вдруг молчащий до времени толстый краснолицый мужик в домашних тапочках и майке-алкоголичке, из которой на приспущенные шаровары вылезало пузо. Он достал кусок чего-то белесого из пластикового пакета и стал отчаянно и яростно запихивать сопротивляющейся женщине в рот. — Жри свое сало, б…дища бендеровская!
Участницы представления еще сильнее распалились и всячески подбадривали толстяка. Одна из них нечаянно угодила ему помидором в затылок. Тот отошел от «агента хунты», отряхивая волосы. Воспользовавшись этим, жертва экзекуции выплюнула сало изо рта и застонала.
Ополченец продолжал смотреть в сторону, курил и не вмешивался.
— Что здесь происходит? — раздался громкий командный голос.
Все, включая ополченца, повернулись и увидели красивого, высокого военного с увесистой кобурой на боку. На голове у него была выгоревшая советская воинская шляпа времен Афганской войны, на носу — темные очки. Несмотря на отсутствие знаков различия, в нем чувствовалась офицерская выправка. Наличие пистолета способствовало этому впечатлению.
Ополченец выкинул окурок и отдал что-то вроде чести, неуклюже приложив руку к непокрытой голове.
— К пустой голове руку не прикладывают, — резко, без намека на юмор, оборвал его офицер. — Немедленно развяжите женщину! Кто приказал? Кто это сделал?
— Она вывесила над крыльцом школы бендеровский флаг, — стала объяснять одна из баб. — Ихний, жовто-блакитный. Училка она. Укрáинского. Вот что. Ее из школы еще весной погнали. А щас там летний пионерский лагерь. Так она пришла и повесила, сучка такая. Люди ее спыймали, суда доставили. Жители наши. Родители детей ихних.
— Во-первых, сине-желтый флаг — это не бандеровский флаг, — переходя на более спокойный тон, урезонил ее офицер. — Бандеровский — черно-красный. Во-вторых, развяжите ее немедленно. Это приказ.
Бабы и мужики стали уныло расходиться, ворча себе под нос. Ополченец развязал избитой женщине руки, и она, продолжая рыдать, закрыла ими лицо и сползла по столбу на землю.
— Успокойтесь, успокойтесь… — военный заботливо помог ей подняться, обнял за плечи и прижал к себе. — Все кончено. Больше этого не повторится. Новороссы не должны использовать украинские методы. Вам это понятно? — обратился он к ополченцу. — Ваше имя, батальон, бригада?
— Самохин я, Петр Самохин, из седьмой роты, — невнятно пролепетал солдат. — Я вообще мимо проходил. Вызвал милицию. Стою, жду.
— Самохин, вы будете наказаны. Дождитесь милиции, затем доложите вашему командиру роты о случившемся. Он вам мозги вправит. Где вы живете? — человек с кобурой перевел взгляд на женщину, затем спохватился и вновь повернулся к Самохину: — Доведите учительницу до дому. Смотрите, чтобы с ней больше ничего не случилось! Если она будет нуждаться в медицинской помощи, вызовите «скорую» и дождитесь приезда вместе с ней. Все ясно?
— Так точно, — угрюмо ответил Самохин, добавив уже себе под нос: — Это вам не при Яныке. Милиция, «скорая»… Где их днем с огнем? Рожна печеного не хотите?
— Выполнять!
Офицер передал продолжающую плакать и дрожать жертву на руки Самохину, а сам поднял с земли картонку с надписью, с усилием разорвал ее на мелкие кусочки и двинулся в противоположную сторону, продолжая монолог себе под нос:
— Неандертальцы! Дикари! Фашисты!
Метров через триста он поравнялся с мальчишкой, который сидел в пыли, пытаясь безуспешно натянуть на велосипед соскочившую цепь. Офицер остановился, без слов присел на одно колено, ловким движением натянул цепь, вытер масляные пальцы о край еще более грязной майки мальчишки (все равно маме стирать), щелкнул того по носу, потрепал по башке и продолжил путь.
— Ау, родная! — постучал он в окно своего дома в конце поселка. — Я вернулся, милая.
Не дожидаясь ответа, офицер отпер ключом дверь, снял сапоги, надел тапочки, прошел на кухню, вымыл руки и лицо и, насвистывая любимую арию из популярного мюзикла «Собор Парижской Богоматери», открыл люк подпола, спустился туда и зажег свет.
— Заждалась меня, любовь моя, — ласково сказал он. — Моя девочка, ласточка моя. Сейчас я буду с тобой.
Из темного холодного угла на него смотрели безумные, воспаленные глаза Танечки. Ее рот был заклеен скотчем. У нее больше не было слез. Она сидела на куче пустых картофельных мешков. Ее плечи содрогались от холода и ужаса. Слышно было, как стучат ее зубы под пленкой. Ее ноги были связаны в щиколотках, а руки — в запястьях за спиной.
Офтальмолог щелкнул у нее перед лицом пальцами и, словно фокусник, выхватил из нагрудного кармана остро заточенную стальную десертную ложку.
Глава тринадцатая РОЗЫ
Донецк. Июль
Они прогуливались по улице Артема. Капитан Сергеев и журналистка Джейн Эшли. Розы на всем протяжении этого главного и самого красивого проспекта (несмотря на название «улица») Донецка были все так же цветисты и хороши, как и до войны. Но во всем уже начинало чувствоваться какое-то запустение. Розы не радовали глаз, а вызывали ощущение тревоги и напряжения, как подсолнухи в фильме Довженко. А улицы, несмотря на прекрасный летний день, казались холодными, потому что почти обезлюдели. Все магазины и лавки на проспекте были закрыты. Большинство жителей уехало — кто в остающуюся под властью Киева часть Украины, кто в Россию, кто еще дальше. Те, кому ехать было некуда или не на что, сидели по домам, опасаясь лишний раз встречаться с патрулями сепаратистов. Дээнэровцы не брезговали под видом проверки документов у «подозрительных» заглядывать и в их бумажники. «Отжимали» все чаще не только кошельки, но и машины, квартиры и даже дома.
Джейн, бывавшая в Донецке до войны, помнила его уличные пробки из «Мерседесов», «БМВ» и порой даже «Бентли» с номерами 3333, 9999, 6666, 0007 и т. д. Теперь же среди редких машин преобладали советские «Лады» и «Нивы», словно их достали откуда-то со свалки и снова пустили в дело. Лица встречавшихся немногочисленных прохожих были тревожными и растерянно-провинциальными. Присутствовало ощущение, что все городские жители исчезли, а им на смену в большой город съехались люди из села, которые, не зная дороги, заблудились.
На самом деле так оно и было. Сельские поликлиники, аптеки, магазины, сберкассы давно закрылись. За всем необходимым селяне приезжали в город. Но и здесь почти ничего не работало. Жизнь концентрировалась вокруг продовольственных рынков, куда предприимчивые торговцы из числа горожан что-то привозили из России и продавали втридорога и куда приезжали крестьяне торговать своими овощами и фруктами, домашней колбасой, сырами и молоком. На рынках появилась давно забытая мутная самогонка в пятилитровых бутылях с огромными резиновыми пробками. В ходу были как украинские гривни, так и российские рубли, принимавшиеся к оплате по курсу три к одной. Пенсии и пособия не выплачивались. Банкоматы нигде не работали. Некоторые зияли уже вывороченными внутренностями. Отделения банков были, за редким исключением, закрыты.
Растущую тревогу и напряжение неустанно подогревал телевизор. Украинские каналы были отключены. По российским шли постоянные репортажи о зверствах бандеровцев в «захваченных» городах и поселках Донбасса и о приближающемся штурме Донецка «фашистскими ордами». Правительство ДНР, возглавляемое каким-то пришлым мужичком небольшого роста, бородатым, с заплывшими от хронического пьянства глазками и со смешно звучащей фамилией Рататуй, объявило о мобилизации в армию всех мужчин от восемнадцати до сорока лет. На окраинах в отдельных районах электричество отключали на сутки и больше. Милиция словно испарилась. Ни машин с мигалками, ни патрульных, ни постовых. Зато на каждом перекрестке стояли бронетранспортеры и танки. По вечерам, ранним утрам и особенно по ночам прямо через город шли целые колонны военной техники и грузовиков без номеров и каких-либо опознавательных знаков. Но все знали, что идут они из России.
Донецк не видел такого количества разношерстных военных со времен Второй мировой войны, когда город был захолустным шахтерским поселком и носил название Сталино. Танками и БТРами дело не ограничивалось. То там, то сям на улицах встречались пушки, самоходные и на гусеничной тяге, а на окраинах — похожие на «Катюши» «Грады». Вдруг, словно из-под земли, возникали казачьи разъезды с шашками и нагайками, словно просочившиеся в XXI век сквозь трещину во времени. Они оставляли после себя на мостовых кучи «ароматных» конских яблок и исчезали в той же «трещине». Город был полон военных грузовиков, перевозивших из района в район «ополченцев» в камуфляжной форме и какие-то грузы, упакованные в матерчатые зеленые мешки и тяжелые снарядные ящики. Служившие в армии горожане определяли их как запасы воинской амуниции и боеприпасы.
Каждый вечер по местному телевидению выступал министр обороны самопровозглашенной республики Рудольф Белкин. Этот высокий нескладный человек в туго перетянутой портупеей камуфляжной полевой форме без знаков различия, с глубоко посаженными зеленовато-водянистыми глазами и одутловатым лицом, на котором выделялись ухоженные щегольские усики, был похож на стандартного белогвардейского офицера из советских фильмов о Гражданской войне. Белкин клялся, что город врагу не отдадут, и призывал всех к спокойствию. Смысл его выступлений сводился к тому, что Россия и лично президент Пухов не оставят их в беде, защитят и помогут. Касаясь бытовых вопросов городского управления, Белкин оглашал большое количество им подписанных указов, направленных на поддержание строгого порядка и неукоснительного соблюдения законности. В частности, под предлогом военного положения он запретил продавать в Донецке алкоголь с семи часов вечера и до одиннадцати утра и приказал конфисковывать самогон у торговцев на рынках. Другим приказом министра обороны население информировалось, что с уличными грабителями и мародерами в Донецке отныне поступают по законам военного времени.
Еще совсем недавно, в апреле, у многих дончан было ощущение, что Донбасс вот-вот будет аннексирован Кремлем, как и Крым, и люди заживут мирно и счастливо с российскими зарплатами и пенсиями. Но после трех месяцев вялотекущей войны это ожидание, преобладавшее среди «рабочего класса и трудового крестьянства» сменилось непреходящей тревогой и неопределенностью. В июле после магазинов, аптек и ресторанов пришел черед промышленных предприятий и шахт, которые начали закрываться одно за другим.
Шахтеры, правда, еще по большей части продолжали спускаться в забои, хотя и безо всякой надежды на зарплату. Ходила шутка, что они, «спускаясь из запоя в забой», скрываются таким образом от призыва в народно-освободительную армию Белкина. Некоторые шахты наладили поставки угля в Ростовскую область за наличные. Однако всем этим бизнесом руководили какие-то полууголовные элементы, так что деньги до шахтеров и их семей все равно не доходили.
Война неотвратимо надвигалась на Донецк.
Сергеев сорвал несколько пышных чайных роз, обмотал их колючие стебли газетой, поднятой со скамейки, и вручил букет Джейн.
— Так вы действительно утверждаете, что ополченцы сбили пассажирский самолет? — спросила Джейн, давая понять, что не настроена на лирический лад.
Капитан Андрей Сергеев позвонил ей накануне, как обещал, и сказал, что у него есть информация, которая ее, возможно, заинтересует. Они договорились встретиться у пятизвездочного отеля «Донбасс Палас», где Джейн остановилась.
Внутри отеля приближение войны нисколько не ощущалось. Перебоев не было ни с продуктами, ни с электричеством. Все службы отеля работали исправно. Персонал был приветлив, меню ресторанов и баров, как и обслуживание в номерах заметных изменений не претерпели. Джейн все это мало волновало. Для нее главным было наличие бесперебойного скоростного Интернета, но и с этим все было в порядке.
Она предложила Сергееву прогуляться по проспекту, чтобы заодно еще раз посмотреть, что происходит в городе.
Неожиданно тишину улицы разорвал рев моторов. Больше двух десятков военных грузовиков «Урал», сопровождаемых несколькими БМП и БТРами, въехали в самый центр и остановились вдоль всего проспекта, оглушая редких прохожих рокотом двигателей и укутывая клумбы с розами сизой дымкой выхлопных газов.
Из грузовиков с гиканьем и смехом начали выгружаться вооруженные люди. Никто так не умеет создавать впечатления вооруженного до зубов воинства, как бывшие чеченские партизаны-подпольщики, а ныне спецназ российских Внутренних войск. Они напоминали разлапистых крабообразных черепашек-ниндзя в новенькой камуфляжной форме без шевронов и иных знаков различия. В масках и без, каждый воин нес на себе целый арсенал оружия — от автоматов, пистолетов и пулеметов до связок гранатометов.
Горцы стали непринужденно располагаться на проспекте, некоторые начали справлять малую нужду прямо на клумбы. Джейн опустила глаза на букет в своей руке, потом подняла их на капитана.
— Да, да, конечно, — спохватился Сергеев, пытаясь пошутить. — Дети гор. Дальняя дорога. Им простительно. Прямо отсюда они пойдут в бой.
— В бой? — переспросила Джейн. — Враг у ворот?
— Их задача отбить аэропорт у украинских десантников, — перешел на серьезный тон Сергеев. — Мы своими силами не справляемся. А у формирований Курбанова большой опыт ведения боевых действий в городских условиях.
— Ах, вот что, — подхватила его слова Джейн. — Я видела плоды их совместных с российской армией усилий в Грозном в двухтысячном году. Незабываемое зрелище. На площади Минутка можно было снимать кино про Сталинградскую битву.
— Я думаю, здесь до этого не дойдет. У них тактическая задача. Сам факт их присутствия — хороший знак.
— В смысле?
— В смысле вовлеченности России в конфликт. Это, кстати, к вопросу, кто сбил самолет. Сейчас даже неважно, кто — мы, российские войска или даже украинцы.
— То есть?
— Главное, что падение самолета должно стать катализатором возвращения Донбасса в Россию. Своими силами и средствами у нас это не получится, даже если Москва будет продолжать снабжать нас оружием и группами особого назначения. В истории мы это уже проходили. Взять хотя бы Испанию. В тридцать шестом году СССР активно посылал законному правительству оружие и добровольцев, но фашистам они все равно проиграли. Для решения стратегической задачи крупномасштабное российское вторжение на Донбасс просто необходимо. Чтобы у Киева, а в первую очередь у Запада, не было иллюзий. Донбасс, как и Крым, — историческая часть России, и малой или большой кровью мы добьемся его возвращения. Чем быстрее Россия официально введет войска и остановит эту гражданскую войну, тем больше вероятность того, что удастся ограничиться малой кровью.
В этот момент их беседа прервалась еще одним явлением. С десяток автобусов остановились прямо напротив «Донбасс Паласа». Из боковых окон свешивались российские триколоры и трехцветные черно-сине-красные флажки ДНР с серыми двуглавыми орлами посередине. Из автобусов с песнями и возгласами стали выгружаться женщины средних лет с флагами, транспарантами и цветами. Их сопровождало несколько телевизионных съемочных групп.
— А вот и группа поддержки прибыла, — отметила Джейн. — Похоже, сейчас начнутся, как это у вас называется, массовые гуляния.
— Да, по программе это будет сцена братания народа со своими освободителями, — засмеялся Сергеев. — Потом военный парад, а потом горячие кавказские парни прямо с парада пойдут в бой. Как в сорок первом году. Тогда зимой было. Сейчас летом.
Облегчившиеся на кусты роз кавказцы между тем уже становились в круг посредине проспекта и начинали свой народный танец, сопровождавшийся беспорядочной пальбой в воздух из автоматов и пулеметов.
Понаблюдав за представлением пару минут, оглушенная выстрелами Джейн предложила зайти в отель и выпить в баре по чашечке кофе, чтобы продолжить разговор в более спокойной обстановке.
В баре Сергеев рассказал, что ему тридцать шесть лет, что в послеперестроечную смуту он, «как дурак», окончил военно-политическую академию, но ни дня не служил, а устроился учителем истории в престижную московскую школу, где и работал до недавнего времени. Кроме того, Сергеев признался, что руководит военно-патриотическим клубом «Орленок» при московском Дворце пионеров.
— Пионеров нет, а Дворец есть? — спросила Джейн, пригубив обжигающе горячий кофе.
Ирония в ее голосе явно задела Сергеева.
— Вы зря так думаете, — вновь серьезно заговорил капитан. — Россия возрождается как империя, и пионерские организации в обновленном виде уже формируются повсеместно. Но теперь у них совсем иная идеология, не имеющая ничего общего с коммунистическим интернационализмом.
До Джейн дошло, почему капитан скорее вещал, чем говорил, словно на собрании или в аудитории. Учитель истории. Захотел стать ее творцом?
Стрельба за окном усиливалась. Официантки и повара стояли у окон и открытой двери и глазели на происходящее, покачивая головами.
— Хорошо, — Джейн вернулась к главной теме разговора, — я так понимаю, вы хотите убедить меня, что самолет сбили вы, а украинцы ни при чем. Почему?
— Да, именно так, — оглянувшись по сторонам и понизив тон, продолжил вполголоса капитан. — Или мы, или российские специалисты. Чем больше будет этому доказательств, в том числе и в прессе, тем быстрее Москва будет поставлена перед фактом, что все карты открыты и отступать некуда. Промедление смерти подобно, как говорил в семнадцатом году товарищ Ленин.
Джейн хмыкнула, но ничего не сказала. Этот странноватый русский капитан был ей интересен. Он не врал в глаза, как абсолютное большинство «ополченцев» и «добровольцев», с которыми она пообщалась в последние дни, и не старался убедить ее в том, что она зря сюда приехала и никогда ничего не узнает. Интересный тип. Говорит, как лекцию читает.
— Более того, у меня даже есть четыре фотографии конкретно этого ракетного комплекса, который произвел пуск, — перейдя почти на шепот, продолжил Сергеев.
— Вы мне их можете показать? — спросила Джейн, не глядя на капитана, стараясь не выдать своего волнения.
— Конечно, только не здесь.
— У вас они с собой?
— Да, в телефоне.
— Вы можете скинуть их мне на имейл?
— Вы хотите, чтобы меня завтра же арестовали и расстреляли прямо здесь, на этом проспекте? И закопали тут же под кустами роз. Вы придете на похороны?
— Хорошо, я могу подняться в номер, взять ноутбук и сделать прямо здесь даунлоуд.
— У вас есть провод для скачивания с этого телефона? — Сергеев показал ей свой смартфон «Самсунг».
— У меня все есть. Подождите здесь пару минут.
— Нет, так не пойдет. Тут слишком много людей.
— Так дайте мне свой телефон. Я поднимусь к себе на пять минут и спущусь к вам.
— Поймите меня правильно, Джейн. В телефоне есть информация, которой я делиться не могу.
— Вы мне не верите?
— Верю, но береженого бог бережет.
Джейн внимательно посмотрела на Сергеева. Она сейчас отдала бы все за эти фотографии.
— Сколько вы хотите за них, Андрей? Извините, что я так впрямую спрашиваю. Дело очень важное.
— Мне ничего не надо. Я уже объяснил свой интерес.
— Хорошо. Что ж. Извините за вопрос. Я должна была его задать. Давайте поднимемся ко мне и сделаем это.
— Если вы не против.
— А у меня есть выбор?
Сергеев смущенно улыбнулся.
Номер Джейн был на пятом этаже. В лифте она спросила у Сергеева, был ли он ранен на войне.
— Нет, — Сергеев понимающе улыбнулся. — А что прихрамываю, так это старая история. В детстве увлекался верховой ездой. С лошади упал. С тех пор лошадей боюсь как огня.
В номере было сумеречно и прохладно, шторы задернуты, работал кондиционер. В комнате был беспорядок, словно здесь только что прошел обыск. На полу вокруг раскрытого чемодана валялись различные предметы одежды, каска, бронежилет, камера, провода, кабели и зарядные устройства всех видов. Шкаф был раскрыт. Постель разобрана. На прикроватном столике стояли четыре бутылки минеральной воды «Эвиан».
— Извините за бардак, — извинилась Джейн. — На улице война, сами понимаете. Все должно быть под рукой.
— Ну что вы, не переживайте. У меня дома такой беспорядок, вы даже представить не можете, — Сергеев развел руками, словно пытаясь продемонстрировать размеры своего домашнего беспорядка. Его не переставал удивлять ее уровень владения русским языком. Журналистка? Или?..
— Пить хотите? — Джейн посмотрела ему прямо в лицо. — Кроме воды, правда, ничего нет. Хотя в мини-баре должно быть что-то покрепче и холодное. Я еще не открывала.
— Спасибо. Я бы сейчас выпил глоток холодного виски, если есть. У нас здесь с этим сложно.
— Понимаю, — тряхнув копной рыжих волос, Джейн села на корточки перед мини-баром, одной рукой поправляя локоны, другой открывая дверцу. — Вам повезло, есть «Белая лошадь». Будете?
— Не откажусь, — капитан принял из рук американки ледяную бутылочку, отвернул крышку и одним глотком выпил ее почти всю. — Как же давно я не был дома…
Джейн ничего не ответила, предложила ему сесть в кресло у телевизора. Сама подошла к столику, достала из сумки ноутбук и включила его.
— Я готова, — сказала она через минуту, не в силах справиться с волнением. — Вы фотографии в смартфоне открыли? Давайте его сюда.
Сергеев подошел к ней сзади, через плечо передал телефон. Она, не оборачиваясь, стала подсоединять его к компьютеру. Капитан стоял у нее за спиной и следил за ее движениями.
На экране крупным планом появилось отчетливое изображение, по словам Сергеева, самоходной огневой установки от комплекса «Бук М 1–2» на трейлере. На борту легко можно было различить белые цифры «232». На следующей фотографии было видно, как трейлер движется по улице какого-то поселка мимо огромного щита с рекламой «Супутникового телебачення».
Сердце Джейн забилось, как у археолога, который спускается в гробницу Хеопса. Она облизала губы и вновь провела рукой по волосам. Ее волнение не скрылось от Андрея. Он приблизился к ней вплотную и обнял за плечи.
В следующую секунду он уже катался по полу и выл от боли, держась обеими руками за низ живота: не поворачиваясь, резким движением Джейн вонзила ему острый локоть правой руки точно в пах.
Вскочив со стула, она схватила со столика стеклянную бутылку «Бадуа» и разбила ее о мраморный подоконник. Затем вытянула из-под подушки «Макаров», присела на одно колено возле поверженного капитана и, приложив острие разбитой бутылки к его горлу, хриплым голосом прошептала:
— Если еще раз коснешься меня, motherfucker[41], я отстрелю твои fucking balls[42]!
Через несколько минут капитан пришел в себя. Джейн вручила ему еще бутылочку «Белой лошади» «на дорогу», отдала телефон, поблагодарила и выпроводила за дверь, пожелав удачи на службе.
Джейн успокоилась, только когда наполнила ванну обжигающе горячей водой, вылила сверху целую бутылочку пены и улеглась в воду, закрыв глаза. Ей не терпелось послать фотографии в редакцию. Но в Торезе один военный из местных ополченцев, который, по его признанию, был «за Украину», обещал «по секрету» познакомить ее со свидетелем пуска ракеты — своим свояком, как он сказал. Ей было необходимо хотя бы одно свидетельство реального очевидца — с именем и местом жительства. Она пошлет фото вместе с интервью. А пока…
Она лежала в облаке пара, закрыв глаза и положив себе ладонь между ног. Она была возбуждена. Ее пальцы двигались. С губ слетел стон. Она несколько раз содрогнулась всем телом.
Джейн не была лесбиянкой, но и с мужчиной она никогда не была, если не считать того случая, о котором она пыталась забыть все эти годы и не могла, как ни старалась. Их было четверо. Все были пьяны и обкурены. Включая ее. После школьной вечеринки. Она, тихая, застенчивая, провинциальная шестнадцатилетняя девочка, отец которой работал ковбоем-смотрителем на ранчо одного богатого адвоката, а мать — официанткой в Red Lobster, местном ресторанчике дешевой сети sea food[43] для клиентов с достатком ниже среднего, выпила вина и покурила «травки» первый раз в жизни.
Трое были из ее класса. Один студент из местного университета, племянник сенатора. Они наручниками приковали ее к кровати в трейлере одного из них — его родители уехали в гости к родственникам на неделю в соседнюю Оклахому. Молодые люди насиловали ее два дня и две ночи напролет. Больше всех усердствовал племянник сенатора. Ей было больно. Ее тошнило. Но они вливали ей в рот водку. И продолжали…
Адвокат, работодатель ее отца, отказался помогать ей. Суд, на котором присутствовал чуть ли не весь город, был для нее хуже изнасилования. Защита обвиняемых доказала с показаниями многочисленных свидетелей, что никакого изнасилования не было, а была обычная студенческая оргия. По мнению защиты, к которому прислушивалось жюри присяжных, синяки от наручников доказывали только то, что она сама настаивала на извращенном сексе, насмотревшись порнофильмов. Родители сторонились ее, не разговаривали с ней. Поверили, что во всем виновата именно она.
Джейн бросила дом, школу, уехала к тетке на другой конец страны, окончила там школу, поступила в университет, на факультет журналистики. Чтобы прокормить себя, работала в баре, в стрип-клубе по ночам. Но ни единого раза с тех пор она не была с мужчиной.
Целовалась после этого только один раз. Со своим московским коллегой Прохоровым. Но не сложилось. Она часто вспоминала о том первом и последнем поцелуе, о том, как он говорил с ней, пел ей песни под гитару, обнимал ее, фотографировал. И жалела, что все так получилось. Винила во всем только себя. Но тут же говорила сама себе, что главное в ее жизни — работа, а все остальное….
Еще не успела стихнуть последняя судорога оргазма, как Джейн открыла глаза и тут же переключилась на другие мысли — она в очередной раз на пороге огромной сенсации. Она вылезла из ванной, не вытираясь подошла к компьютеру и вновь открыла фотографии «Бука М 1–2».
Москва. Июль
— Ты уверен?
— Мы с ним знакомы сто лет. Он мне лично дело шил, Евгений Тимофеевич. Чуть на тот свет не отправил. Ошибки быть не может.
— Понятно. В пятницу, говоришь?
— Хотел в четверг. Я сказал, не успею.
— Молодец. Зачем ему билет?
— Не сказал.
— Без бороды, говоришь?
— Да. Сбрил при мне. Могу фото переслать и паспорта копию.
— Хорошо. С тобой свяжутся до вечера.
Прервав разговор, не попрощавшись, Книжник иссушенными желтыми пальцами обхватил и сжал высокие скулы над впалыми небритыми щеками. Он не испытывал ни удивления, ни радости, ни удовлетворения. Рядом на столе лежал распечатанный на принтере скомканный листок бумаги, в котором при желании можно было различить три цифры — 220. Не напряжение в сети и не сумма прописью, а количество нанограмм ПСА (простатического специфического агента), то бишь белка, на миллилитр сыворотки крови. Иными словами, смертный приговор. Четвертая стадия рака простаты. Метастазы в тазовых костях и прямой кишке.
Участившиеся боли Книжник, которого жизнь научила терпению, до сегодняшнего дня связывал с последствиями давнишней сложной операции по удалению геморроидальных узлов и с хроническим простатитом, заболеванием, которое в «тепличных» условиях жизни на зоне считается нормой и пустяком. Он обходился антибиотиками и болеутоляющими, в том числе и наркотиками, пока боли не стали невыносимыми.
Светило московской урологии Андрей Петрович Морозов, который умел лечить пациентов одним своим присутствием и словом, только снял очки, вытер пот над бровями и беспомощно развел руками:
— Запустили, Евгений Тимофеевич. Запустили… Mea culpa…[44]
На самом деле они оба знали, что анализ давно нужно было сделать. И профессор на этом настаивал. Но Книжник, как юноша, гордившийся мужскими способностями в его возрасте, и слышать не хотел о том, чтобы ради объективности анализа отказаться от половой жизни на целых три недели.
— Надежда не поймет, — с наигранным смущением говорил он.
— Надежды юношей питают, — отшучивался в ответ профессор и ограничивался массажем, который на некоторое время избавлял Книжника от регулярных болей.
УЗИ ничего необычного для его возраста не показывало. Да — аденома, да — увеличенная железа. Но ведь ему восемьдесят четыре. Столько не живут. С аденомой или без.
Книжник погладил рукой почти не отличимую от цвета кожи татуировку над локтем другой руки и вдруг вспомнил, как откинулся с зоны «умирать от туберкулеза».
Было это в 80-х. Зона на Алтае. Злая. Холодная. Книжник и равные ему могикане уголовного мира никогда не использовали по отношению к себе книжного определения «вор в законе». Называли себя просто — Воры. С большой буквы. Авторитетам было западло ходить на зону за убийство. Не их уровня статья. Закрыли его тогда по полной — за мошенничество в особо крупных. Уже в то время Книжника не только боялись. Многие его любили и уважали. На союзном сходняке единогласно решено было Евгения Тимофеевича выручать.
План, как сценарий триллера, сродни сюжету «Графа Монте-Кристо», разработали с участием самого Книжника. Вкратце сценарий состоял в том, чтобы диагностировать Книжнику последнюю стадию туберкулеза и скостить ему срок, учитывая состояние здоровья. Типа, пусть зэк дома помирает, чтобы статистику зонную не портить. Обычная практика советских пенитенциарных учреждений.
Начальник зоны подполковник Сапегин был в курсе плана и косвенно в нем участвовал. Однако была одна загвоздка. Лепила, или, на человеческом языке, зонный врач, был в контрах с Сапегиным, и склонить того к сотрудничеству не представлялось возможным. Но, на счастье Книжника, на той же зоне чалился домушник Богданов по кличке Карась. У того была критическая стадия туберкулеза. Такая, что собирались его уже освидетельствовать и сплавить на тубзону, чтобы не мозолил здесь глаза.
Так вот Карасю, который возрастом, телосложением и ростом подходил под параметры Книжника, уголовные мастера-художники в течение недели скопировали на тело все до одной наколки Книжника. Когда татуировки прижились и «успокоились», подслеповатому лепиле на рентген и анализы предоставили умирающего Карася под видом Книжника. С синими звездными погонами на зоне, кроме Книжника, никто не рисовался. И лепила это скушал и актировку подмахнул.
Таким макаром скостили Книжнику пять лет. И выпустили — по статье «Досрочное освобождение от отбывания наказания по болезни». А Карась на зоне остался. Зэки, по просьбе благодарного Книжника, «грели» Богданова, как могли: кормили за двоих, снабжали лекарствами с воли, молоком, витаминами. Так что тот вдруг на глазах на поправку пошел. Но за месяц до конца срока умер. От быстротекущего рака простаты.
«Ирония судьбы, — подумал Книжник. — Подарил мне Карасик “туберкулез”, а рак, выходит, в довесок пошел».
Рак неоперабельный. Осталось жизни от двух месяцев до года. Не больше. Ударная химия. Другого не дано. Или никакой химии, а молитва Николаю Угоднику. Но где тот угодник и чем и сколько он берет, Женя Книжник не знал. Так и не удосужился за долгую жизнь ни в одной книге прочитать.
Как любой пациент после оглашения ему смертельного диагноза, Книжник сразу почувствовал неимоверную слабость и прилив ломящей боли по всему телу. До шума в ушах и хруста костей. Все вокруг приобрело иной цвет, запах и звук. И даже дородный зад домоправительницы Надежды, протирающей в этот момент пыль на плинтусе в ближнем углу, более не вызывал в нем привычных чувств.
Разговор с Гитлером, однако, вывел Книжника из ступора, словно месть Алехину будет для него избавлением, средством притормозить утекающую на глазах жизнь. Что еще оставалось в ней для него? Внучка, Надя и месть… Желание мести грело его, перевешивало все. Он не ненавидел Алехина. Странно, но он даже восхищался им. Как бы он поступил на его месте? Воровской закон работает надежнее и безотказнее, чем следствие и судопроизводство. Любой, кто нарушает его, не должен избежать наказания. Гибель Саши — это личное дело между Книжником и Алехиным. Перед тем как привести приговор в исполнение, он очень хотел посмотреть менту в глаза. И спросить его, что же там, в лесу, произошло и как умирал его сын. Книжник оплатил тогда экспертизу ДНК всех найденных обгоревших трупов. Алехина среди них не было. А ведь он всегда симпатизировал менту, доверял ему, как никому из своего окружения. Более того, он знал, что Саша недоволен тем, как идут дела, что устал от России и хочет снова уехать за границу. Как сын уговаривал его бросить все и рвать когти из «этой гребаной помойки». Незадолго до трагедии Книжник начал догадываться, что сын копает под него. И это несмотря на то, что он поставил Сашу главным по вывозу миллионов за границу, будто пытался успокоить его, что их переезд в скором времени состоится. Книжник до сих пор не мог поверить в то, что в итоге случилось. Он кого угодно мог подозревать. Даже Сашу, в конце концов. Потому что были основания. Но Алехин, как никто другой, казался ему человеком слова. В то же время хороший мент — мертвый мент, пытался убеждать себя Книжник. Мусорам нельзя доверять ни при каком раскладе.
И теперь он хотел видеть Алехина, как никого другого в своей утекающей по секундам жизни. Он почти с самого начала этой истории вычислил, где живет семья беглого мента — его жена Лена и дочки. После смерти Рабиновича в его бумагах пацаны нашли-таки копию паспорта Лены-Насти — косяк, не характерный для покойного. Но Книжник не брал заложников. Не его метод. Семья — это святое. Они ни при чем. Книжник не беспредельщик, не чекист, не мент, а Вор. Вор, который крестил одну из дочерей этого мента. Мента, который его обокрал. И убил его единственного сына.
Он сам найдет Алехина и сам во всем разберется. Он уже его нашел. То, что Алехин три года не выходил на связь со своей семьей, за которой люди Книжника следили все это время, могло означать лишь одно. По каким-то причинам он с ними расстался, дал денег и бросил. Слежка прекратилась только в конце июля, когда лондонская полиция загребла обоих его людей за попытку ограбления борделя. Ничего лучше не придумали. Идиоты. Никому нельзя доверять. И жалование у них нормальное было, и все такое. Живи, радуйся. Не в Урюпинске, а в Лондоне. Как на отдыхе. Но сколько волка ни корми…
Книжник не успел еще возобновить слежку в Лондоне, как Алехин сам нарисовался в Лос-Анджелесе. Старик не поверил армянам, что Алехин утонул. Менты не тонут, угрюмо шутил он. И вот Алехин всплыл. В Ростове…
Да, семья Алехина жила на деньги общака, но синдикат не знает, что деньги пропали. Из всех отцов-основателей теперь остался только он один, Женя Книжник. Никто, кроме него и Алехина, больше не знал, сколько было денег в том грузовике и что с ними произошло. Так получилось само собой. Чекисты нажимали на спусковой крючок быстрее, чем Воры могли предвидеть. Теперь его черед только вопрос времени. И он падлой будет, если не успеет достать Алехина и задать тому пару вопросов; он его достанет. Пока не достали его самого.
Денег и собственности, что оставались сейчас у Книжника, и так, без украденного общака, хватит невестке, внучке, Надежде, коту Рыжику, обслуге и всей его армии на три жизни. Книжник, как охотник, испытывал нечто вроде азарта погони. Он чувствовал, что Алехин вот-вот окажется в его руках. Единственное, чего он не понимал, — это зачем, ради чего мент вернулся в Россию и зачем ему военный билет. Он что — сошел с ума? И хочет ехать на войну? Или спрятаться там от него? Не выйдет.
— На войну, товарищ Жданов, ты не поедешь, — улыбнулся в первый раз за день Книжник. — Сначала ответишь за «Звезду» и «Ленинград», за Михаила Михайловича и Анну Андреевну. Потом — по отдельной статье, за Сашу. А с деньгами, по ходу, разберемся. Деньги рак не лечат… — и он потянулся к телефону.
Глава четырнадцатая РЯДОВОЙ ПОЛИТРУК
Ростовская область. Август
Черный блестящий муравей упорно карабкался вверх по сухой травинке. Травинку Алехин зажал в кулаке, лежа в копне сена и жмурясь на яркий свет полуденного солнца. На конце травинка обрывалась, но муравей настырно лез и лез вверх, словно там, на обрыве, была какая-то одному ему видимая цель.
Неподалеку две небольшие темные птицы взмывали в воздух и, сложив крылья, отвесно падали друг за дружкой, в нижней точке почти касаясь земли. Потом с криками взмывали вверх снова, чтобы вновь упасть. Птичий крик был почти не слышен за рокотом моторов, доносившимся от шоссе. Там шла и шла бесконечная колонна бронетранспортеров, танков, «Градов», самоходных пушек и зеленых грузовиков с кузовами, покрытыми серым брезентом. Пыль стояла столбом. Сухой ветер подхватывал ее в небо узкими спиралями мини-смерчей и относил в бескрайнее поле.
Украинская граница начиналась километрах в двадцати. Туда и направлялась колонна. Алехин и его спутники решили остановиться. Переждать. Больше не было сил глотать пыль. Колонну было все равно не обогнать, и чтобы не задохнуться — лучше пропустить и дать ей уйти подальше. Решили, что пары часов хватит. К тому же у «Патриота» приспустило правое переднее колесо. Отъехали по ухабистой грунтовой дороге к лесополосе, куда не долетала пыль с трассы. Расположились в прозрачной тени жиденьких березок, раскурочив ближайшую копну, чтобы удобней было присесть и полежать.
Рыбников молча и сосредоточенно менял колесо. От помощи Алехина он отказался. Писатель Захаров ходил взад-вперед по бровке лесополосы, ни на секунду не прекращая своего бесконечного монолога. Никто не задавал ему вопросов, а он все говорил и говорил, словно всю жизнь до этого молчал. Не столько даже говорил, сколько старался перекричать рев колонны. Поскольку Рыбников был занят, монолог в основном был обращен к Алехину, который сосредоточенно разглядывал муравья на травинке и держался из последних сил, чтобы не откинуться на спину и не уснуть под монотонный дорожный гул и обрывки фраз, которые мог разобрать. Он не хотел обидеть писателя невниманием и время от времени кивал, давно уже потеряв нить его рассуждений.
— Я мог бы что-то придумать про свои иллюзии, чтобы показаться более рефлексирующим и повысить степень доверия к себе, — кричал Захаров, не обращая внимания на то, слушают его Алехин с Рыбниковым или нет. — Но я, когда перечитывал свои тексты, написанные до Майдана и во время Майдана, ясно понял — у меня не было никаких иллюзий. Я сразу понял и беспристрастно сообщил читателям, что: а) на Украине назревает гражданская война; б) поход Украины в Европу будет провален; в) закваска у «антикоррупционной» борьбы украинского народа в целом русофобская — они ведут себя так, словно все их проблемы им завезли из России. В то время как мы им никаких проблем не завозили и вообще не очень обращали внимания на то, что там у них происходит.
Писатель был невысокого роста. Круглый, с двумя мясистыми подбородками. Он все время сморкался в носовой платок, глотал пригоршнями какие-то таблетки и протирал тем же платком круглые очки и красную блестящую лысину. Под носом у него торчали ухоженные усы щеточкой. Время от времени он пощипывал их левой рукой, когда она была свободна. Большую часть времени писатель жестикулировал ею — широкими волнообразными движениями, в такт своим размышлениям о судьбах страны, народа, литературы и по национальному вопросу. Новенькая, хоть и выгоревшая на солнце камуфляжная американская военная форма сидела на нем так плотно, что казалось, она вот-вот разойдется по швам.
Алехин был несказанно счастлив, когда они, наконец, остановились на непредвиденный привал. Кондиционер в «Патриоте» совсем не тянул. Вдоль военной колонны они ехали не меньше часа. Окна пришлось держать закрытыми из-за оглушающего рева моторов и сплошной пылевой и выхлопной завесы. В жизни Алехина путешествия бывали и пострашнее и потруднее. Но в этот раз его не столько утомила сама дорога, сколько нескончаемый словесный понос политрука. Захаров ехал в действующую, как он выразился, армию русского мира не только как писатель, но и как «почетный политрук» одного из ее добровольческих батальонов. Алехин молча завидовал Рыбникову, а тот молча вел машину. Писатель и Алехин расположились сзади. Политрук в сопровождении капитана Рыбникова и подполковника Алехина ехал на фронт не с пустыми руками. Весь проем переднего пассажирского сиденья, часть салона сзади и багажник были под завязку забиты автоматами, цинками с патронами, бронежилетами, гранатометами, деревянными ящиками с похожими на незрелые ананасы осколочными гранатами Ф-1, аккуратно, как елочные игрушки, разложенными по ячейкам. Среди всей этой разношерстной и разнокалиберной амуниции, способной на время вооружить и оснастить партизанский отряд какого-нибудь неистового Че Гевары, был даже пулемет — ПКМ. Алехин на секунду представил Захарова на тачанке и с пулеметом и улыбнулся в первый раз за день. При всей своей неистовости политрук на пламенного экспортера революции не тянул. Гораздо больше он напоминал Алехину киношный образ генерального секретаря госбезопасности, отчима советской ядерной бомбы, Героя Социалистического Труда, маршала Советского Союза, изменника родины и английского шпиона Лаврентия Павловича Берия.
Писатель сидел, плотно прижавшись к Алехину своим пропотевшим, жирным боком, астматически дышал, как карп на прилавке магазина «Живая рыба», и, наклонившись вполоборота вперед, беспрестанно что-то говорил, брызжа слюной прямо ему в лицо. От писателя пахло, как спел один бард о проводнике в поезде, «пивом, носками, табаком, грязным полом», плюс — перегаром, одеколоном и давно нечищеными зубами.
Платону Захарову было лет сорок — сорок пять, что по российским меркам позволяло отнести его к разряду «молодых литераторов». Но писателем он был чрезвычайно плодовитым. Писал исключительно военные боевики. На злобу дня. Благо, тема войны в России последний десяток лет вновь стала востребованной. Это была его очередная командировка на войну. До недавнего времени во всех своих боевых приключениях Захаров скромно именовал себя «простым солдатом родины», которая позвала в поход. И вот теперь повысил себя чином сразу через несколько званий.
Менее популярные литераторы с брезгливой завистью величали его между собой «соловьем Генштаба». Его четыре романа о Чеченской войне — «Ведь это наши горы!», «Смерть на Минутке», «Двадцать пятая рота» и «Грозовой перевал» — стали бестселлерами и разошлись миллионными тиражами. По двум из них были сняты телесериалы, завоевавшие высокие рейтинги. Однако серьезные издательства его сторонились. Почетный президент Русского Ордена Вселенских Хоругвеносцев Захаров слыл пещерным антисемитом, ксенофобом, гомофобом, сексистом, сталинистом и православным радикалом. Литературный истэблишмент — критики и братья по цеху — также обходили его творчество стороной, относясь к нему, как к покойнику, о котором — или хорошо, или ничего. Хорошего о нем ни один авторитетный критик не мог из себя выдавить ни строки даже за большие деньги, ругать же Захарова никто из них тоже не хотел, боясь накликать на себя гнев его многочисленных сектантов-поклонников. По тиражам и народной популярности Захаров в России на сегодня был писателем Номер Один, и критикам приходилось с этим считаться. И молчать в тряпочку.
Лет пять назад боевой генерал, ветеран-инвалид Афганской войны, Герой России и президент одной северокавказской республики Магомед Магомедович Магомедов лично подал иск в суд, требуя изъять из блокбастера «Кавказский разлом», снятого по сценарию Захарова, эпизод с фразой «Не брат я тебе, гнида черножопая!». Также генерал-президент требовал удовлетворения миллионного морального ущерба жителям республики, эмоционально пострадавшим в результате просмотра этого «расистского беспредела».
Процесс был публичный и громкий до чрезвычайности. Магомедов его проиграл. Захарова защищал Плевако современной российской адвокатуры — Генрих Водорезов, высокий, седой как лунь и похожий сразу на всех американских президентов на долларовых купюрах, вместе взятых. Баритоном оперного певца Водорезов убедительно доказал суду, что отвратительную фразу в сценарии Захарова произносит отрицательный герой, ксенофоб и злодей, которого через семь эпизодов все равно убивают, и что уважаемый Магомед Магомедович и его соплеменники «просто не досмотрели кино до конца». Магомедов, лично присутствовавший при оглашении, воспринял приговор как оскорбление его ветеранской чести и достоинства. В течение короткого времени на Захарова было совершено четыре покушения, и он чудом остался жив, расширив свою читательскую аудиторию на весь русский мир — так теперь было принято именовать в России страны ближнего и дальнего зарубежья, в которых имелась хоть какая-то русскоязычная диаспора. А Магомедова вскоре отправили в отставку со своего поста указом президента — в связи с утратой доверия.
Обо всех этих перипетиях и этапах боевого пути «соловья Генштаба», равно как и о его творчестве, Алехин не имел ни малейшего понятия, пока Рыбников не раскрыл ему глаза.
Вечером предыдущего дня он неожиданно встретился с Рыбниковым в холле отеля. Тот сидел за журнальным столиком и листал какой-то рекламный проспект.
— Жданов! Как хорошо, что я тебя нашел! — вскочил и бросился к нему Рыбников, словно они были давнишними друзьями. — Как у тебя дела с военным билетом?
— Выслали, — коротко ответил несколько ошеломленный Алехин. — Сказали, послезавтра доставят. Заказным письмом. А как вы меня нашли, Иван Федотович?
— Давай просто — Ваня и на «ты», ладно? — Рыбников крепко похлопал Алехина-Жданова по обоим плечам. — Я тебе звонил. Телефон отключен. Потом вычислил, где ты мог остановиться. Ростов — город маленький.
— Хорошо, Иван. Чем могу быть полезен? Может, кофе, чай? Или что покрепче?
— Я заказал себе бутылочку холодной минералки. Сейчас принесут. Садись пока, — Рыбников уселся обратно в свое кресло. — Есть дело на сто тыщ.
Алехин присел рядом на диван. Официант принес воду и один бокал. Рыбников налил его до краев, передал Алехину, а сам одним глотком из горлышка осушил запотевшую бутылку «Боржоми», выдохнул газы сквозь ноздри и попросил не успевшего далеко уйти официанта принести еще пару бутылок и второй бокал.
Конечно, Рыбников не мог до него дозвониться. Алехин выкинул симку после встречи с Гитлером. Если Рыбников лично заявился к нему в отель, значит, есть на то причина. Рыбников, человек военный и прямой, капитан связи в отставке, объяснил Алехину, что в Ростов приехал «выдающийся писатель земли Русской» Платон Захаров. Приехал для того, чтобы дальше отправиться — в Донецк, в штаб Белкина. Его там знают и всегда готовы встретить как родного. Белкин — его давнишний друг. Но Захаров — человек скромный, не хочет шума, фанфар и прочего. Его просто нужно доставить на место и как можно быстрее. Он не хочет, чтобы ему, как генералу или президенту, высылали охрану, «типа, отрывали военнослужащих добровольцев от дела». Поэтому и намеревается сделать Белкину сюрприз — приехать неожиданно к старому товарищу, «свалиться как снег на голову в летний зной».
— Между нами, он не хочет, чтобы Белкин заранее сооружал для него потемкинскую деревню, — сказал Рыбников.
— В смысле? — не понял Алехин.
— В апреле, еще в Слонявске, вместо фронта Белкин — из лучших побуждений, конечно, заботясь о безопасности Захарова, — отправил его с охраной на мирную окраину, где два подразделения белкинских ополченцев, которых тот привез с собой из Крыма, разыграли Куликовскую битву. Специально для писателя, представляешь? В результате взрывом был разрушен частный дом. Под завалом погибло два бойца. Четверо ранены.
— И?
— Захаров не дурак. Он бывал на реальной войне. В Чечне. На вокзале в Грозном попал в окружение. Отстреливался наравне со всеми до последнего патрона, пока подмога не пришла, был ранен. В госпитале провалялся пару недель… В общем, он сразу просек, что ему туфту впаривают, но, чтобы не обижать Белкина, ничего не сказал. Теперь он хочет настоящей войны. С кровью и мясом, как у него в книгах. Читал «Грозовой перевал»?
— Нет.
— А «Смерть на Минутке»? Или «Русские люди с длинными стволами»?
— Если честно, я вообще мало читаю. И никогда о таком писателе не слышал.
— Хорошо. Ты только ему так не скажи. До утра время есть, почитай в Интернете про него. Типа, краткое содержание и все такое.
— До утра? Зачем?
— А затем, что ты едешь со мной, то есть с нами.
— Куда? С кем?
— Ты мне сразу понравился, Жданов. Вижу, ты парень настоящий. Я сопровождаю писателя в Донецк. Мне нужен еще один человек.
— А как же военный билет?
— С Захаровым и его документами нас ни ФСБ, ни погранцы фильтровать не будут. Прямым ходом к Белкину, а там, на месте, он тебя определит. Ну как? По рукам?
— Я могу подумать?
— Нет. Стартуем в пять утра. По холодку. Ты машину водишь?
— Да, конечно.
— Отлично. В два руля поедем.
— На чем?
— «Патриот». «Уазик». Самая подходящая машинка. Хоть по полю, хоть по лесу. До Донецка дорога — песня. С «Макаровым», «Калашниковым» обходиться умеешь?
— На раз.
— Отлично! Вот тебе обмундирование, — Рыбников протянул Алехину увесистый пакет, из которого торчал рукав камуфляжной серо-зеленой формы. — Вроде твой размер. Не подойдет, на месте разберемся. Но лучше ехать в форме. Броник, каску и оружие получишь завтра. Жду тебя в штабе в четыре сорок пять. Ты там был — где базарили с Николаичем. Эфэсбэшники подгоняют свой автобусик к полшестого, поэтому мы должны успеть выехать до их приезда. Писатель, конечно, отбрешется за нас, если какие сложности возникнут, но… зачем лишние хлопоты?
Они допили «Боржоми» и расстались, как старые друзья.
Алехин ехал на войну. Чужую войну. Он сам толком не понимал, зачем. Но что-то внутри гнало его туда. Хотя бы взглянуть… на поле… где они… Ком в горле не давал ему дышать. Целую минуту не мог разжать стиснутые челюсти.
В 2000 году в составе отдельной сводной бригады спецназа Внутренних войск он провел три месяца в Грозном. В самом пекле. Через Чечню так или иначе прошли все российские менты. Как опера́. Или как пушечное мясо. Людей не хватало. В топку были брошены все. Антон, пользуясь своим блатом на Мытной, вовремя вытащил его оттуда — спас ему жизнь. После его отъезда полбригады полегло под Веденом — колонна попала в засаду.
«Эх, Антон, Антон… Зачем ты меня спасал? — в который раз за последние три года Алехин мысленно задал этот вопрос Слуцкому. И сам же на него ответил: — Чтобы потом убить».
Несмотря на все, что случилось, Сергей скучал по другу и вспоминал о нем немногим реже, чем о жене и дочках. Значит, опять война. Все повторяется, только… Только теперь его дома никто не ждет. Да и никакого дома у него теперь нет.
* * *
Алехин был прав насчет «дома, которого нет», а вот о том, что его никто не ждал, — ошибался. Через два часа после того, как писатель, Рыбников и он сам отправились на войну, в ростовском аэропорту из самолета, прибывшего из Москвы, вышли два не совсем неприметных пассажира. Их задача была — доставить Алехина в Москву «живым или полуживым» во что бы то ни стало. Два бандита, Петя Лысовик и Павлик Гарькавый, были одними из лучших бойцов в синдикате Книжника. Оба родом с Восточной Украины, из Харькова и Днепропетровска, оба в начале своей карьеры отслужили в армии и потом подались в Подмосковье «строить москалям дачи». Работали полгода, пока не решили ограбить ювелирный магазин в Истре. Там их и взяли с поличным. Через год на зоне огромного, как Кинг-Конг, Петра, которого блатные обломать не смогли, как ни старались, взял под свою опеку Книжник. Вскоре Петр обзавелся погонялом Боксер и стал его персональным телохранителем.
Откинувшись с зоны, Петя-Боксер остался в команде Книжника в Москве и с разрешения хозяина пригласил к себе Гарькавого, который к этому времени тоже успел откинуться и уехать домой в Днепропетровск. Через пару лет Петр и Павел (погоняло — Айртон) стали лучшими бойцами, или хитменами синдиката, как их на американский манер называл Книжник-Джуниор. Книжник доверял парочке самые крутые дела — похищения и ликвидации. Хотя последнего Книжник старался избегать. Никто в банде Книжника, да и в московском уголовном мире в целом, не мог в предельно короткий срок разработать, похитить и оттранспортировать объект лучше, чем неразлучные Боксер и Айртон.
Вот и в этот раз Книжник поручил самое главное дело последних лет жизни этим ребятам. Оба хорошо знали регион, не раз бывали в Ростове, Донецке и Луганске. Свободно изъяснялись на суржике, имели по два паспорта — российский и украинский — на всякий случай. Украинское законодательство запрещает двойное гражданство. Но где преступники и где закон? Эти две почти что параллельные прямые сходятся только в суде. Если Боксеру с Айртоном и было суждено попасть туда снова, то уж точно не за лишний паспорт.
Багажа у них с собой не было. В зале прилета их, как официальную делегацию, встречал лично «вор в законе» Ричмонд Беленький, который в свое время, по слухам, что-то проиграл Книжнику на зоне в карты. Никто толком не знал — что. Понятно было, что скорее чью-то жизнь, чем миску баланды. В общем, остался должен.
Ричмонд пожал бандитам руки, пожелал удачи и отправил со своим шофером в черном «мерсе» с тонированными стеклами «на малину» по указанному ими адресу. В машине они получили от водителя по комплекту ТТ со сбитыми номерами и с двумя обоймами к каждому. Ровно через сорок четыре минуты машина остановилась у дома номер 41/66 по улице Ленина, где в Ростове-на-Дону проживал Гитлер. Два шкафа, один высокий прямоугольный, второй короткий и квадратный, в серых с искоркой костюмах, белых рубашках навыпуск и черных начищенных ботинках, вышли из машины и набрали на домофоне номер 336.
Гитлер стоял у кухонного окна своей двухкомнатной малогабаритной квартиры на четвертом этаже. Он видел, как к дому подъехал «Мерседес». Видел, как вышли из него двое в сером. До того как запиликал звонок домофона успел подумать, что черный цвет был бы более «в тему». Перекрестился, подошел к двери и нажал кнопку. Пока слушал грохот приближающегося лифта, перекрестился еще раз.
— Господи, прости грешного раба твоего, — прошептал Гитлер, стоя на пороге открытой двери.
* * *
Алехин приехал на место сбора на десять минут раньше назначенного. Форма ему подошла. Вечером, после ухода Рыбникова, он купил в соседнем с отелем спортивном магазине объемистый ранец-рюкзак, куда положил все необходимое. Как они с Антоном шутили в молодости — джентльменский набор: джины́-часы-трусы. Смену белья, носки, медикаменты из ближайшей аптеки. Пару бутылок воды.
— Сидит как влитая! — обрадовался Рыбников, увидев его в обновке. — Сейчас продолжим экипировку. Начнем с личного оружия. Садись в машину.
Иван влез на водительское сиденье, пригласил Алехина сесть сзади и, обернувшись, вручил ему новенький «Макаров» с четырьмя магазинами.
— Проверь машинку, пока писателя не подвезли, — коротко сказал он.
Алехин взял ПМ в руку, щелчком вытащил обойму. Положил ее на сиденье рядом с остальными тремя. Снял затвор с предохранителя. Огляделся. Убедился, что улица пуста, взвел затвор, высунул руку в окно, направил ствол вверх и нажал спусковой крючок. После сухого щелчка поставил затвор на предохранитель, ударом ладони вставил обойму в пистолет и убрал его вместе с магазинами в объемистый карман рюкзака на молнии. Проверил ход застежки туда-сюда. Убедился, что все работает, и вспомнил, как он взял ПМ в руки в первый раз.
Осенью 1995 года Алехина отправили в Челябинскую межобластную школу милиции — что-то вроде crash-course[45] для новых офицеров с высшим, но техническим образованием. Он навсегда запомнил первое занятие в оружейке. Пожилой майор с усталым безразличным лицом обратился ко всем курсантам со словами:
— Вы ведь все знаете про Тринадцатую, так называемую красную, колонию в Нижнем Тагиле? И наверняка знаете, что примерно половина из отбывающих там наказание ментов сидят за незаконное применение оружия. Так вот, слушайте внимательно — там нет и никогда не было ни одного осужденного за неприменение! Не надо это записывать, просто запомните: пистолет — ваш лютый враг! Его можно тупо потерять. Можно забыть на подоконнике, посрав в общественном туалете. Его у вас может украсть товарищ по службе, чтобы занять вашу должность. Помните: залетев в притон без пистолета, вы можете получить п…ды, а расстреляв там обойму — срок. Начнем с предохранителя…
По логике челябинского майора выходило, что Алехин должен был навечно поселиться в Тринадцатой колонии. И произойти это должно было еще девятнадцать лет назад — после того как он в запале пролил первую кровь, пристрелив сразу пятерых, когда спасал Гитлера в лесу под Ебургом. Ну ладно, что было, то было. Что касается Гитлера, то он позвонит ему сегодня с дороги, чтобы не будить сейчас, и попросит попридержать билет до следующего раза. Уходя из отеля, он вложил оставшуюся часть денег за липу в конверт, заклеил и оставил на ресепшене. На имя Адольфа. Алехин не любил оставаться в долгу.
Между тем привезли писателя. Из въехавшей во двор темно-синей «Шкоды» выкатился круглый, как колобок, бритый тип в камуфляже с гитлеровскими усиками под носом, в три прыжка преодолел расстояние между машинами, рванул ручку задней двери и плюхнулся на заднее сиденье рядом с Алехиным.
В машине, после знакомства, писатель попросил обращаться к нему на «ты» и не обращать внимания на его статус.
— Да, на войне я политрук, — заявил он. — Просто рядовой политрук Захаров. Такой же защитник отечества, как и вы. Зовите меня просто — политрук Захаров. Или Платон.
Курская область. Август
Лида принесла вместе с ужином очень плохую весть. Виталик Крючков, командир его дивизиона, скончался ночью в госпитале на Ленина от тяжелого отравления. Три дня в коме. Ни слова не сказал. Картинка вырисовывается та еще. Ребят из расчета Курочкина взорвали в первый день. ЧП на учениях. Непроизвольный подрыв боеприпаса. Какой, на хер, непроизвольный? Какие, на хер, учения? Взорвали пацанов, и концы в воду! Если все так и есть, как он думает, то следующим в траурном списке станет он, Герой России, подполковник Георгий Горовой, командир 329-й зенитно-ракетной бригады ПВО Сухопутных войск Российской Федерации.
Подполковник, одетый в синий шерстяной спортивный костюм с коленями-парашютами, пальцами извлек из пол-литровой банки последний соленый огурец. Огурец не хрустел. Нужно было банку на ночь в холодильник поставить. Да все равно не помогло бы — свет отключили. Только к утру дали. Сжевав огурец, Горовой запил его рассолом прямо из банки. Походил по предбаннику туда-сюда. Увидел, что за окном начинает темнеть, открыл дверь, вышел из прохладной бани в удушливую вечернюю жару, сел на ступеньки и обхватил голову руками.
Мысленно он ругал себя последними словами. Как он мог на это пойти? Как он мог согласиться? Трус! Идиот! Мудило! Дебил! В какой-то момент он даже застонал, не в силах больше выносить безвыходность своего положения. Потом мысленно ухватился за то, что спас жену с дочерью, и перестал беспомощно тонуть в своем горе. Главное, что они в безопасности. Татьяна с Машенькой уехали еще в конце июня в Литву к ее сестре Лане. Та замужем за литовцем. У них свой дом в Ниде, лошади, катер, сосны, белые грибы. Таня каждое лето ездит к ней. А ему нельзя. Невыездной.
Жора был не против ежегодных поездок Тани. Иначе он бы не проводил дней и ночей с Лидой, медсестрой из госпиталя. Все сплетничали за спиной, что у него шуры-муры с Люсей из штаба. И ни единая душа не знала, что у него роман с Лидой. Таня ревновала его к одной, а он спал с другой. И алиби на месте, и совесть чиста. Лида была разведенная, без детей. Горовой — ходок со стажем. Для Лиды он даже завел отдельный телефон с SIM-картой на ее имя, чтобы жена ненароком не поймала его на такой ерунде. Вот и пригодилась конспирация. Нежданно-негаданно.
Это его пока и спасало. А то лежал бы сейчас в морге, как Виталик, постаревший за три дня лет на тридцать, со слезшей, как у змеи при линьке, желтой кожей и выпавшими волосами. В палату к нему никого не пускали, даже жену. Та в коридоре день и ночь рыдала, убивалась, рассказала Лида. В городке (они все жили в военном городке рядом с поселком Маршала Жукова) был объявлен траур. «Погибший на учениях» расчет из второго дивизиона хоронили всей частью.
Теперь только один Горовой знал, что это за учения. Он был уверен, что его уже ищут и рано или поздно найдут. Он не мог оставаться на одном месте. Не мог рисковать Лидой. Перед тем как выкинуть в речку Сейм телефон, он позвонил Тане, сказал, чтобы не волновалась за него. Мол, уезжает в командировку, но возникли чрезвычайные обстоятельства, и они с дочкой ни в коем случае не должны возвращаться в Россию. Он потом все объяснит.
— Не переживай и никому не звони, — сказал, почти прокричал он в трубку, когда Таня начала рыдать. — Я сам буду звонить. Я люблю вас. Все будет хорошо.
У Лиды была дача в Сахаровке. Осталась ей от родителей. Туда он и доехал общественным транспортом в тот же вечер, отдав кошку Мусю на попечение жене прапорщика Исакова, которая обожала детей и зверей и ухаживала за Мусей, когда Таня была у сестры, а он на дежурстве. Взял все деньги, что были дома, документы, Танины драгоценности — два золотых кольца, цепочку и три пары серег с камешками. Сунул в сумку пистолет без кобуры с тремя снаряженными магазинами и ушел из дому. Похоже, что навсегда.
Горовой был плотным, пышущим здоровьем мужиком сорока четырех лет. Год до пенсии по выслуге лет. Они собирались с Таней уехать к ее родителям в Крым. Теперь это было просто, потому что Крым наш, российский. У них был там огромный дом, доставшийся еще от выселенных татар, правда, не на побережье, а в получасе езды до моря, в Старом Крыму. Так назывался поселок. Места — красоты неописуемой. Рядом лес вперемешку с маковыми полями. В лесу — старинный армянский монастырь. Последний раз они там были год назад. В августе, когда Таня с Машенькой вернулись из очередной поездки в Прибалтику. И в этом августе, через неделю, собирались поехать туда. Но жизнь распорядилась иначе. А так мечтали посидеть под тенью столетнего грецкого ореха во дворе, поесть особенных крымских помидоров — «дамских пальчиков» с огорода, которые даже без соли безумно вкусные, словно уже под маринадом. Прогуляться пешком до плато в Планерском, заглянуть в монастырь. Поваляться на пляже в Коктебеле.
Горовой снова задрожал от ужаса и отчаяния. И что сказать Лиде? Она уже волноваться начала, не понимает, что происходит. А он ее все завтраками кормит. Мол, завтра все объяснит. У него от переживаний волосы дыбом встают вместо члена, который, наоборот, три дня ни на что не реагирует, что тоже Лиду настораживать должно. Раньше ведь по два-три раза в день «это самое».
— Ты что, Горовой, виагру какую-нибудь принимаешь? — смеялась она. — Ты ж меня уже до полусмерти затрахал, любимый мой, сладкий, золотце мое, — и опять начинала сама к нему приставать.
Ох, и злое…учая девка досталась, думал он. Сама кого угодно затрахает до «мама-не-горюй». А теперь — все, карантин и караул. Никакой виагрой не поднимешь. А ведь стоял, как боже мой, как «Бук М 1–2» на боевом дежурстве…
Горовой понял, что если сейчас не успокоится, то у него просто лопнет башка. Хоть в петлю лезь! Он зашел в дом, достал из прикроватной тумбочки пистолет. Повертел в руках. Приставил к виску, посмотрел на себя в зеркало, вставил дуло в рот, закашлялся и, матерясь, швырнул оружие на пол.
Он ведь сразу понял, что дело швах, когда начальник войск ПВО приехал. Генерал-лейтенант Троекуров. Он всего один раз в жизни его раньше видел. На штабных учениях. До этого по всем вопросам общался с командующим армией. А тут — через голову. Приезжает без звонка, без предупреждения. Запирается с ним в штабе. И начинается — х…е-мое, мотня в пользу бедных. В конце концов разобрались с задачей, с датой, со временем, с «коридором».
У Троекурова выходит — боевое задание, у Горового — херня ка-кая-то непонятная. Десять тысяч метров — это вообще, б…дь, гражданский эшелон. Какие, на х…й, ВСУ?! Они вообще боятся бумажный самолетик запустить, после того как зенитчики из 53-й бригады «Вербами» их транспортники и вертушки «поприземляли». Там вообще ни одна б…дь не летает, кроме гражданских бортов. И то не ниже девяти пятьсот.
— Георгий Семенович, вся надежда на вас, — тупо глядя в карту Украины на столе, сказал Троекуров. — Секретное правительственное задание.
Последняя фраза Горовому очень не понравилась.
— Зенитно-ракетный комплекс «Бук М 1–2» предназначен для противовоздушной обороны войсковых группировок и объектов, — начал тупить комбриг. — Он используется для поражения самолетов армейской, оперативно-тактической и стратегической авиации, вертолетов огневой поддержки, крылатых ракет и дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов.
— Ты что, Горовой, ваньку валяешь? — повысил голос генерал, но спохватился, посмотрел на запертую дверь, потом поднялся, подошел к окну и сам закрыл форточку. — Да, гражданский коридор! Я и без тебя знаю, умник хренов! И борт будет гражданский. Только с виду. Внутри там американское высокоточное вооружение. Целый самолет вооружения. В результате его использования погибнут тысячи наших солдат. Наши танки, как спичечные коробки, гореть будут. Как в Ираке. Ты этого хочешь?
— Я понимаю, товарищ генерал, — угрюмо возразил Горовой. — А почему мои ребята должны это делать? Там, под Ростовом, двадцать вторая, двадцать седьмая бригады есть. Под Таганрогом — тридцать четвертая. Почему мои?
— Потому что ты, Горовой, самый лучший, — взбодрился генерал. — Кто отличился при контрольных пусках весной? Пушкин? Тухачевский? Кто одной ракетой сбил маневрирующую мишень типа «Стриж» в сложной помеховой обстановке? Шесть расчетов стреляли, а попал только ты! Одной ракетой на высоте десять тысяч! На дальности тридцать два килóметра! Как в игольное ушко, б…дь!
— Не одной, товарищ генерал, а двумя, — посчитал нужным поправить начальника Горовой.
Лесть даже в самой сложной обстановке играла с военными злые шутки. Они не привыкли, чтобы их хвалили. Тем более так откровенно.
— Вторая уже по обломкам пришлась! — Троекуров стукнул кулаком по столу так, что латунная пепельница подпрыгнула и брякнулась на пол.
Кучка окурков рассыпалась на лакированном паркете вокруг нее, как солнечные лучики, выложенные ребенком маленькими узенькими камушками вокруг круглого большого голыша на пляжном песке. Горовой вспомнил о скорой поездке в Крым и немножко успокоился.
— Что ж? Целый комплекс выдвигать? — спросил вдруг Горовой, сам не зная, почему и как это вышло. Он просто хотел поскорее закончить этот дурной разговор и выйти из душной комнаты, не догадываясь, что уже сдался.
— Что ты имеешь в виду? — Троекуров сменил тон на деловой.
— Машину командного пункта, — начал перечислять подполковник, — СОЦ, СОУ и ПЗУ.
— Зачем? — усмехнулся генерал. — Мы же не войну объявляем. Эшелон, азимут, дата, время до минуты — все расписано по ноткам. Играй, не хочу. Тебе нужно будет одну ракету пустить, максимум две. И домой. ПЗУ вам хватит с головой. Ну, повезете четыре ракеты на всякий случай. Да, ты ведь в отпуск собрался, я слышал? В Крымнаш?
Горовой криво ухмыльнулся. Естественно засмеяться у него не получилось. «Слышал ты, ага, — подумал он. — Ты обо мне, вообще, когда узнал? Вот ведь, суки, обложили…»
— Хорошо, — подполковник постарался сказать это настолько твердо, насколько мог. — Мне самому расчет подбирать, или как?
— Дык мы ж вроде договорились, — генерал достал из кармана очечник, надел очки в роговой оправе, перетянутые узким кусочком скотча в соединении правой дужки. Потом из другого кармана выудил листочек и развернул его, продолжая говорить себе под нос: — Поедут твои ворошиловские стрелки, которые «Стрижа» сбили. Как их там? Ага, вот: Курочкин, Федулов и Картавов. И Калужин тоже.
— Калужинов, — поправил подполковник, поняв, что теперь уже не отвертеться. — Товарищ генерал-лейтенант, мне нужен приказ.
— Ты его получил. Нет?
— Я имею в виду письменный приказ. С указанием координат стартовой позиции и эшелона цели и всем остальным.
— Горовой, — генерал снял очки и внимательно посмотрел на комбрига, — я чего-то не догоняю. Ты слышал о такой штуке, которая называется военной тайной?
— Что-то слышал, — немного осмелев, ответил подполковник. — Мы просто засунем приказ в сейф, и все. Из кабинета никуда не денется.
— Если бы Жуков каждый раз требовал у Сталина письменные приказы, мы сейчас с тобой служили бы в Вермахте. Это в лучшем случае.
— Не самый худший вариант, — ухватившись за шутку, постарался перевести разговор Горовой, хоть и понимал, что загнан в угол. — Может, зарплата была бы поприличней.
— А зарплата начальника моего штаба тебя не устроит? — хитро сощурился генерал. — Пирогов на пенсию собрался. Должность, да, ответственная. Но ведь генеральская. Звездочки, опять же, другие. Сначала три, а потом, глядишь, — одна, да побольше.
— Вы мне предлагаете новую должность? — прямо спросил Горовой.
— Предлагаю, — прямо ответил Троекуров.
— Мне нужен письменный приказ, — не купился Горовой.
— О твоем назначении?
— О боевом задании.
— А ты знаешь, что это не мой приказ? — глаза генерала округлились, словно невидимые руки мгновенно вставили ему удивленные линзы. — Это его приказ.
— Чей — его?
— Его! — генерал показал глазами на потолок.
— Министра?
— Бери выше.
— Куда ж выше? — продолжал валять ваньку Горовой.
— Короче, подполковник, — Троекуров снял очки и начал укладывать их в очечник, — я хотел по-хорошему. Не выходит у нас. Ты отказываешься выполнять личный приказ верховного? Я тебя правильно понял? Сдавай дела и дуй в Крым. Только смотри, одно слово о нашем разговоре — и…
— Верховный вам лично дал приказ? — спросил Горовой, глядя куда-то мимо Троекурова, словно за спиной генерала возникла вдруг какая-то новая фигура.
— Нет, передал с нарочным, — попробовал съязвить генерал. Но у него не очень выходило. — Под расписку в журнале. Что ты как курсант, в самом деле?!
Троекуров уже начал уставать от этого разговора. Он был совсем не дурак и понимал, что приказ — действительно идиотский (это на языке гражданских).
— Хорошо, я согласен, — Горовой встал и начал разминать ноги, сгибая и разгибая их в коленях.
— Что, затекают коленки-то? — по-отечески спросил генерал.
— Да, и поясница что-то дурака начала валять, — осознав, что проиграл, успокоился подполковник. — Старость не радость.
— Не переживай. Выполнишь задание, слетаешь ко мне на недельку в Москву. Я тебя за ручку свожу к полковнику Сергею Федоровичу Глушакову, начальнику лаборатории рефлексотерапии в Мандрыко. Он тебя за один сеанс на ноги поставит. Ноги будут, как у жеребца. Про спину забудешь. И х…й будет стоять, как у Гагарина.
— А я все думал, почему он разбился. Рычаги перепутал.
Оба засмеялись.
— Товарищ генерал-лейтенант, у меня есть одна просьба.
— А-а, так ты с требований на просьбы перешел, полковник? — Троекуров снова хитро посмотрел на Горового. — Это уже неплохо.
— Подполковник, товарищ генерал, — поправил его Горовой.
— Ну, знаешь, военный, это мне решать, сколько тебе звездочек носить. Сказал — полковник, значит, полковник. Жди приказ первого августа. Со всеми вытекающими. У тебя, кстати, выпить чего-нибудь найдется? А то в горле пересохло. Давно столько ни с кем не гутарил.
— «Боржоми»?
— Ты, полковник, действительно сегодня что-то тормозишь. Я же ясно сказал — выпить, а не сиську пососать. Я доходчиво излагаю?
— Так точно, товарищ генерал! — звякнул воображаемыми шпорами повеселевший Горовой.
Пока он открывал сейф и тянулся за дежурным коньяком, генерал напомнил ему о его просьбе:
— Так что ты хотел, Горовой? Какая просьба? Давай, валяй, я сегодня добрый.
— Вы не могли бы лично отдать приказ моему расчету? А то, знаете…
— Знаю, — оборвал его довольный генерал. — Знаю, что ты меня опередил. Именно это и собирался сделать. Зови сюда своих ворошиловских стрелков. Кстати, знаешь про них анекдот?
— Про моих ребят?
— Нет, про стрелков.
— Не знаю. А может, знаю… Нет, не знаю, — Горовой произносил слова, не вдумываясь в их смысл. Мгновенная реакция Троекурова на его просьбу показалась ему странной, но в чем здесь подвох, он еще не понял, и ему снова стало тревожно на душе.
— Короче, — генерал взял его за локоть. — Кстати, знаешь, что надо говорить, когда кто-то в разговоре с тобой говорит «короче»?
— Нет. А что?
— «Короче у соседа» — надо говорить, — лицо Троекурова вдруг стало пунцовым от резкого приступа смеха. — Короче, б…дь, у соседа! А-ха-ха-ха-ха! Ты понял? Что у соседа — короче?
— Понял, товарищ генерал, — выдавил из себя смешок Горовой.
— Так вот. Короче, идут два ворошиловских стрелка по площади Пушкина в Москве, — грузное тело и лиловые щеки генерала все еще сотрясались от смеха. — Ты в Москве был? Площадь видел?
— Так точно. Был, видел.
— Молодец, — генерал успокоился и не дрожащей более рукой начал разливать коньяк по рюмкам, которые Горовой достал вместе с бутылкой из сейфа. — Ну, давай! За звезды в небе. Чтоб на погоны сыпались! И за силу русского оружия. Вздрогнем, брат!
Троекуров одним глотком выпил рюмку и, не поморщившись, налил себе еще. Горовой последовал его примеру.
— Лимона у тебя нет случайно? — улыбка на лице генерала стала тепло растекаться по всему его телу. — Люблю, знаешь, по-человечески, чтобы и вкус был, и букет.
— Так точно, — Горовой полез в маленький холодильник под портретом Верховного главнокомандующего в форме офицера-подводника. — Как я мог забыть?!
Он достал уже порезанный на дольки лимон на блюдечке с золотой каймой и поставил на стол.
Выпили еще по одной.
— Ну вот, значит, идут стрелки эти… ворошиловские… по площади Пушкина, — язык у генерала начал слегка запинаться. — Ты, кстати, заешь, поч…чиму площадь так называ-ется?
— Ну, имени Пушкина, поэта.
— Пра-а-а-льно. А если ни-и знашь названи-и-и-я, как узнать назва-а-а-а-а-ние?
— Не знаю.
— Во-о-о-т им-м-м-но. Там Пушкин стоит. Сан Сегей-е-е-е-йч. Памятни…ик! — Троекуров икнул и потянулся за лимоном.
— Да, знаю. Стоит.
— Так во-о-о-т. Один стрело-о-к другому говори-и-т: «Не пйму. Па-а-а-мятник Пушкину. А попа-а-а-а-л-то Дантес!» Данетес, б…дь, попал. Понима-а-ашь?
— Так точно. Ха-ха-ха! — в этот раз Горовой засмеялся ненатужно. Он никогда не слышал раньше этого анекдота. — Дантес попал, товарищ генерал. В Пушкина.
— Во-о-т им-мно, — удовлетворенно хмыкнул Троекуров. — Как ты в того «Стрижа». — Генерал-лейтенант смачно высморкался в огромный, как шаль, носовой платок, спрятал его в карман кителя и продолжил совершенно трезвым голосом: — Ну, полковник, давай своих ворошиловских орлов. У меня всего час остался.
Через двадцать минут все четверо были в штабе. Разговор прошел спокойно и взвешенно. Протрезвевший генерал пообещал расчету новые звездочки и должности. Всем, кроме механика-водителя. Тому денежную премию. По-отечески обнял каждого, рассказал дежурный анекдот про смекалистого солдата и под дружный хохот своего воинства отправился на аэродром, где его уже ждал самолет с включенными двигателями.
* * *
— Я не слышал этого анекдота раньше, — капитан ФСБ Чернецов снял наушники и спросил старшего лейтенанта Павленко. — Правда, смешной?
— Вы про какой, Николай Борисович? — Павленко тоже снял наушники. — Если про смекалистого, которому писец, то, да, слышал. А про Пушкина нет.
— Ну правда ведь смешной?
— Очень, Николай Борисович, — Павленко с сосредоточенным видом вновь надел наушники и отмотал запись назад.
Они сидели в мини-вэне «Фольксваген» у дома через дорогу от входа в часть, метрах в пятидесяти от штаба.
— Гораздо смешнее, товарищ капитан, что разговор, кроме нас, еще кто-то писал.
— С чего ты взял?
— А наденьте наушники, плиз.
— Ну, надел. И где?
— Вот. Послушайте здесь, в самой концовке.
Чернецов напрягся и расслышал отчетливый сухой щелчок в конце записанного ими разговора.
— И что? — спросил он. — С чего ты взял, что это запись?
— У нас жучок вставлен в его семейную фотографию. Ту, что на столе, в толстой позолоченной раме с подставкой. Щелчок отчетливо слышен, так? Щелкнуло то, что лежало на столе рядом с фотографией. Вот, к примеру…
Павленко достал свой смартфон «Самсунг» и поставил его на запись. Через несколько секунд выключил. Отчетливый щелчок в конце был идентичен записанному только что в кабинете Горового.
— Кроме того, по ходу записи были многочисленные наведенные помехи, — добавил Павленко. — Помните этот писк время от времени, как будто волна в радиоприемнике слетает?
— Да, точно. Я думал, это у нас какие-то помехи.
— Нет, не у нас. Разговор писал кто-то еще. Кроме нас.
— Ух ты. Интересно девки пляшут. И кто же?
— Я думаю, командир бригады. Генералу зачем это писать?
— По логике вещей — да. Ему незачем. Х…ёво это, Павленко.
— Вот и я о том же. Вносим в отчет?
— Придется. Куда денешься…
* * *
Эфэсбэшники были правы. Горовой записал весь разговор на свой второй смартфон, в котором, кроме Лидиного номера, больше никаких других контактов не было. Сейчас подполковник вновь в который раз прослушал всю запись в телефоне от начала до конца и процедил сквозь зубы:
— Да уж, смешной анекдот… Попал, говоришь, как в «Стрижа». Видел бы ты, сука, того «Стрижа», б…дь…
Потом он лег на кровать и включил телевизор. Начал было засыпать под музыку рекламы и вдруг очнулся от суровых ноток в голосе диктора: «Мы прерываем программу для срочного выпуска новостей. Сегодня в одиннадцать часов утра в Ростовской области во время учений разбился вертолет Министерства обороны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. В результате аварии все восемь человек на борту, включая членов экипажа, погибли. В числе погибших — начальник войск ПВО Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Герман Троекуров, его заместитель генерал-майор Анатолий Малышев и два полковника из оперативного управления штаба ПВО. По предварительной информации, вертолет задел провода высоковольтной линии в условиях непогоды и плохой видимости и после падения на землю взорвался. В районе падения проводятся работы по обнаружению останков погибших».
Горовой вышел в Интернет в смартфоне, набрал в поиске pogoda.ru, выбрал intellicast и нажал ссылку на Ростов-на-Дону.
Тридцать два градуса выше ноля. Солнечно. Без осадков.
Глава пятнадцатая РУССКИЙ МИР
Ростов-на-Дону. Август
— То есть не придете, точно? — переспросил Гитлер, сделал Боксеру с Айртоном, стоящим рядом с ним, круглые глаза и прижал указательный палец к губам. — Понял. А когда ждать? Ага. Сами перезвóните. Понял, понял, понял. Все готово. Я здесь. Да, да. Спасибо. Ага. Да, заскочу в отель. Да, да. Спасибо, спасибочки, Серг… ой, простите, Юрий Петрович. Такой день. Голова крýгом.
Гитлер выключил телефон. Передал бандитам содержание разговора. Те переглянулись, и Петро перезвонил Книжнику. Тот взял трубку на первом гудке и, коротко переговорив с Боксером, велел ему передать трубку Гитлеру.
— Что случилось, Гитлер? — спросил Книжник. — Вы там с ребятами не спугнули его часом?
— Да нет, Евгений Тимофеевич. Он сказал, чтобы я ждал. Что вернется.
— А когда? И куда его понесло? Ты его не спрашивал?
— Да не успел я, Евгений Тимофеевич. Мы говорили-то всего минуту-полторы. Не больше. Вот ребята здесь рядом не дадут соврать.
— Ну гляди, Гитлер, ты меня знаешь, соврешь — ласты склеишь. Короче, сделай копию с билета. Дай ребятам. Но для начала пусть в отель сгоняют.
— Мне как раз туда надо.
— А тебе-то зачем?
— Деньги он мне там оставил, сказал. В конверте. У администратора.
— Какие деньги?
— Да за билет этот.
— Деньги, говоришь, оставил? Это не есть гут, Гитлер.
— Натюрлих. А что делать, Евгений Тимофеевич?
— Дай трубку Боксеру.
Книжник велел всей троице ехать в отель и «поспрошать туда-сюда». Если ничего нового не выяснят, то один вернется с Гитлером на квартиру, другой в отеле снимет номер и будет дожидаться Алехина там.
— Номер недорогой! — уточнил расстроенный Книжник таким тоном, словно наказывал их за провинность. — Гулять повода нет. Сами на месте решите, кто куда. Кто с Гитлером на хазе останется, а кто в отеле. И никаких б…дей и вообще самодеятельности. Усекли? Ушки на макушке! Без моей команды не дергаться. И по улицам особо не шляйтесь. Если он в городе… хотя это вряд ли, то может срисовать на раз. А вас, братцы-акробатцы, ни с кем не спутаешь.
— Я понял, шеф, — угрюмо ответил Петя. — Все сделаем, как…
Он не успел закончить. После краткой паузы в ухе послышался бесстрастный женский голос: «Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети…»
Мариновка. Донецкая область. Август
Догнали военную колонну у Матвеева Кургана. Думали уже, что придется вновь встать на якорь, но колонна, издали похожая на бесконечный товарный поезд, потекла налево — на Амвросиевку. Алехин со спутниками поблагодарили провидение и, открыв все окна, повернули направо, на Куйбышево, откуда до границы оставалось с десяток километров.
Писатель не умолкал ни на минуту. От привала до Куйбышева он успел рассказать Алехину «краткое» содержание своего нового романа, ради которого «труба вновь звала в бой». Сюжет был закручен лихо. Близкое будущее. Начатая киевской хунтой гражданская война стремительно захлестывает Украину. По всей стране беспредельничают банды правосеков, мародерствуя, грабя мирных жителей и расстреливая просто за косой взгляд. После нападения одной из фашистских шаек на Запорожскую АЭС Россия принимает решение о вводе на юго-восток Украины миротворцев. Русские десантники высаживаются в Запорожье. Вместе с десантниками на головы фашистских карателей прыгает и тридцатитрехлетний российский писатель-патриот родом из этих мест. Он родился и ходил в школу в Запорожье. Парашютист он неумелый, и пока внизу идет яростный бой, его ветром относит в лес на окраину города. При приземлении он подворачивает ногу. По счастью, совсем недалеко, в спальном районе города живет его первая любовь. Запорожье в руках карателей-бандеровцев, приехавших с запада Украины. В ярости от того, что вокруг Запорожья вспыхивает огонь партизанской борьбы, правосеки зачищают город — мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет расстреливают на месте. Город завален трупами. Залит реками крови. Герой романа уехал из родных мест пятнадцать лет назад. С тех пор его первая любовь по имени Олеся нашла себе нового друга, Петра. Они втроем в свое время учились в одном классе. Петро, несмотря на украинское имя, патриот русского мира. Таких, как он, в Запорожье много, но не многие из них осмеливаются дать отпор пришлым бандитам. С самого начала противостояния Петро берет в руки автомат и идет сражаться с фашистами. К нему присоединяются другие активисты. Вместе они создают подпольную организацию МНГ (Молодая Новорусская Гвардия). Организацию выдает предатель. Почти все ее члены арестованы. После страшных пыток их, еще живых, кидают в заброшенную шахту. Петру одному чудом удается бежать. Во время неравного уличного боя он ранен в руку.
— Да, вы правы, — радостно вскрикивает писатель, хотя ни Рыбников, ни Алехин не произнесли ни слова. — Прямо как у Фадеева в «Молодой гвардии». И это не прямое заимствование сюжета! Отнюдь. Там даже ссылка на источник будет. Это символ. Те же фашисты, и те же патриоты. Семьдесят лет минуло! А история повторятся! Ее не обманешь!
Далее сюжет плавно перетек в сцену, где Олеся укрывает истекающего кровью Петра у себя в маленьком частном доме. Туда же приползает и писатель с подвернутой ногой. И Олеся прячет их обоих.
Захаров пересказывал сюжет с таким упоением, будто сочинял и добавлял в него детали по ходу повествования и радовался, как ребенок, каждой удачной находке. Глаза у него блестели, с бровей на очки капал пот, он часто облизывал языком блестящие пухлые губы и причмокивал. Поскольку все окна в машине были открыты и степной ветер со свистом прошивал «Патриот» насквозь, Захаров не говорил, а почти орал.
— Представляете, какой замес?! — потирая руки, входил в еще больший раж писатель. — В маленьком доме любовный треугольник. Оба героя ранены и оба влюблены в Олесю! А вокруг дома на красной, как кровь, заре сосредоточиваются силы правосеков. Короче, они…
Алехин с надеждой ухватился было за слово «короче», но его надежда не оправдалась. Описание боя и спасения всех троих заняло еще несколько долгих минут, пока разгоряченный и раскрасневшийся писатель не поставил точку в героической саге, ударив сжатыми кулаками по обоим своим круглым коленям так, что «Патриот» аж вздрогнул. Дорога была из рук вон, и Рыбников устал лавировать между колдобинами.
— Ну, как вам история? — спросил задыхающийся писатель. — Мурашечная, правда? Это ж реальный синематограф, друзья мои!
— А предатель кто? — спросил Алехин, которому уже неудобно было отмалчиваться.
— А ты не догадываешься? — почувствовав контакт с аудиторией, писатель плавно перешел на «ты».
Алехин отрицательно покачал головой.
— Вот это очень здорово! — писатель стал яростно протирать бериевские очки рукавом. — Интрига сохраняется до самого конца. Сжимается, как пружина.
— И кто же? — повторил вопрос Алехин.
— А вот не скажу, — задорно воскликнул Захаров и снова перешел на «вы». — Прочитаете и сами узнаете, кто предатель. И что с ним стало. Мой роман может нравиться или не нравиться. Я все-таки не Владимир Набоков и даже не Захар Прилепин. Но она никого не оставит равнодушным. Это я могу гарантировать.
— Прямо как кино у вас книга получается, да? — Алехин уже ругал себя за то, что втянулся в литературную дискуссию.
— Я и пишу книгу, почти как готовый сценарий. Короткие жесткие сцены. Предложения в одно, два, максимум три слова. Как у Хемингуэя. Как одиночные выстрелы и отрывистые очереди. Одна сцена цепляет за другую. Ни единого провисания. В каждой главе, в конце, мостик в следующую. Понимаете для чего? Правильно! Чтобы книгу отложить невозможно было. Чтобы ночь напролет. Каждая новая глава кончается на полустоне, на полувздохе. Зависает между жизнью и смертью. И боже упаси, никакой толстовщины с игрушечной войной аристократов. Никаких черных лосин и белых плюмажей. Кровь, пот и слезы. И интрига! Интрига до самого конца. И, конечно, культура эпизода, черт побери. Каждая, даже самая мельчайшая, казалось бы, не имеющая отношения к сюжету деталь должна быть выпуклой, выверенной, предельно реалистичной. Чтобы читатель видел картинку, как в три-дэ! И в то же время ощущать себя в романе, как в лабиринте. Он не должен угадывать ни одного следующего хода.
— Здорово, — вяло согласился Алехин и вдруг неожиданно для себя добавил: — Вот вы сказали — «спальный район». А дом-то у вас, у девушки этой — частный, маленький. Это больше на частный сектор похоже.
— Замечательно! — с готовностью подхватил писатель, радуясь хоть какой-то реакции на еще не написанный шедевр. — Конечно, частный сектор! Это ж не Москва. Хватил я со спальным районом. Конечно, частный! Какой вы молодец, Жданов! Как я рад, что вы с нами едете! То есть я с вами!
В этот момент Рыбников, который никак не участвовал в беседе и даже не прислушивался к ней, сбавил скорость. Они проезжали через поселок городского типа Куйбышево Ростовской области. Хотели остановиться у магазина, купить воды, но перед входом на улице стояли и сидели на корточках человек пятьдесят кавказцев. Как на картинке из телевизора — в камуфляже, обвешанные оружием, многие с бородами. «Как по Чечне едем», — подумал Алехин.
— У выходцев с Кавказа есть привычка провожать взглядом каждую женщину, лошадь и автомобиль, — писатель тоже перешел на другую тему. — Это ведь исторически в них заложено. Кого похитить и что украсть? Вот так ведь и будут вдоль дороги, как стервятники, весь день на корточках сидеть, пока жертва не появится. Неистребимая, столетиями выработанная привычка. Такой, образно выражаясь, дух гор.
— Это курбановцы из чеченского батальона «Юг», — впервые вступил в разговор Рыбников. — Бывшие бандиты, бородачи-головорезы. Я в прошлую командировку шел с одним таким по тропинке вокруг террикона в Счастье. Я впереди, а курбановец за мной. Мне его в охранники при́дали. Вот он мне вдруг и говорит: «Брат, можно, я впереди пойду?» Я интересуюсь, типа, почему. А он как выдаст: «Я, как перед собой чью спину долго вижу, хочу кинжала воткнуть, брат». Вот так мы с ним погуляли. Кинжала, б…дь, воткнуть! А ведь точно, мог бы зарезать, дикарь хренов. Глазом бы не моргнул.
По городку Рыбников ехал медленно, осторожно и поэтому мог участвовать в разговоре, точнее, вставить что-то свое в монолог за спиной.
— Именно! — подхватил, словно подсказку, Захаров. — Их нельзя переделать. Воевать с ними — себе в убыток! «России от Кавказа одно беспокойство», — говаривал в свое время наш славный генерал-лейтенант Ермолов, Алексей Петрович. А он-то знал, что говорил. Не зря пол-Кавказа пожег! Эх, красиво Михаил Юрьевич, подлец, это описáл! — и, потрясая сжатым кулаком, писатель продекламировал:
Ура — и смолкло. — Вон кинжалы, В приклады! — и пошла резня. И два часа в струях потока Бой длился. Резались жестоко, Как звери, молча, с грудью грудь, Ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть… (И зной и битва утомили Меня), но мутная волна Была тепла, была красна.— И только Барятинский, — продолжил писатель уже прозой, — Александр Иванович, царствие ему небесное и поклоны земные от всех россиян, князь, что пленил неуловимого Шамиля, придумал, как использовать деструктивную энергию диких горцев в интересах государства Российского! Очень просто! Нанимать на воинскую службу!
Алехин почувствовал, как волна, исходившая от писателя, захлестывает его с головой. Она была осязаема — мутная, красная, теплая. Скорее, даже горячая. На какое-то мгновение Сергей вдруг увидел себя со стороны — но не себя сегодняшнего, трясущегося в железной коробке по степной дороге рядом с этим лоснящимся от пота краснобаем, а Сергея Алехина десятилетней давности. Когда тот, отплевываясь заполнившей рот кровью, не раздумывая прыгнул в сточный канал вслед за Офтальмологом — и умер, захлебнувшись в потоке. Умер, чтобы воскреснуть и, оправившись после ранения, еще долго ощущать на языке омерзительный привкус отравленной дерьмом воды. В горле тут же возникли спазмы. Сжав челюсти, Алехин подавил приступ тошноты и постарался отодвинуться от Захарова как можно дальше. Но писатель не обращал внимания на мимику попутчика — его несло вперед:
— Ну чертовски же хорошо у Лермонтова: «мутная волна была тепла, была красна»! Там же, в горной речке, вода ледяная даже в жару, как сейчас. А у него — «тепла». От крови. Потом и Лев Николаевич целой повестью разродился. Да все без толку. И только в августе четырнадцатого Николай Александрович внял советам покойного князя и додумался платить им деньги и отправить на войну с остальным цивилизованным миром. Я говорю о Дикой дивизии. Сразу двух зайцев! Победят врагов — орлы! А погибнут за Россию — слава тебе господи! Чем меньше головорезов и грабителей вернется в родные аулы, тем спокойнее будет на больших дорогах. Иосиф Виссарионович, однако, в разумном страхе, что Гитлер их перекупит, в сорок третьем году решил вопрос, как ему казалось, радикально. Оказалось, однако, не до конца. Сегодня модно мазать Сталина с Гитлером одной краской. Да на месте Сталина Гитлер решил бы чеченский вопрос куда быстрее… и экономнее. Но его подход к делу недопустим, а сталинский недостаточно радикален. Национальный вопрос — не онкология. Тут «химией» и хирургией не обойдешься. Атомную бомбу под этот вопрос заложил еще в свое время этот графоман-психопат, Ульянов — товарищ Ленин. Создание нового федеративного государства по национальному признаку на пепелище царской России было самой страшной ошибкой вождя. Расхлебываем до сих пор. Борис Николаич покойный и Вадим Вадимыч несменяемый два раза Грозный рушили. До основанья. А затем? Правильно! Метастазы! И вот тогда, как раз вовремя, пригодился нашему Верховному опыт бывшего подводника. Знаете, как на подводной лодке извести крыс?
Алехин уже готов был заснуть, если бы не ухабы. Чем ближе к границе, тем раздолбанней становилась дорога, изуродованная танками, тягачами и прочей гусеничной техникой. Когда писатель повторил свой вопрос, Рыбников, который не разобрал смысла ни в первый, ни во второй раз, понял только интонацию, ключевое слово «как» и переспросил:
— Как? — просто чтобы писатель отвязался.
Человек войны, Рыбников, даже если бы расслышал бóльшую часть писательского монолога, в национальном вопросе разбирался плохо и, кроме «чурки-гребаные-хули-с-них-взять», никакой другой позиции не имел.
— А вот так, штабс-капитан Рыбников. Это безумно интересная история.
— Штабс-капитан? — перебил «безумно интересную историю» Рыбников. — Это что за звание такое?
— Не читали?
— Не помню.
— Так и называется — «Штабс-капитан Рыбников». Гениальный рассказ. Вы его героя мне чем-то напоминаете. Немногословный такой. И глаза прищурены.
— Я вообще военную литературу не особо, — Рыбников старательно щурился от ядовитого солнечного света. — Вранье одно. Особенно мемуары. Пишут о том, чего не видели. Все себе герои такие. Придумывают всякую ерунду.
— Ерунду, значит? — писатель притворился обиженным.
— Ваши книжки не в счет, товарищ Захаров, — спохватился Рыбников. — Вам, как себе, верю. Все ваше прочел. «Перевал» особо понравился. Просто очень круто. Жаль, что всех пацанов положили…
— Правда жизни! — многозначительно провозгласил польщенный Захаров. — Жизнь — это, к сожалению, смерть. Неразлучная пара. Так вот, хотите про крыс дослушать? Ни у меня, ни у моего коллеги по перу Куприна, Александра Иваныча, вы об этом не прочтете.
С немого согласия Рыбникова писатель пустился в многословное и натуралистичное описание того, как на подводных лодках ловят трех-четырех крыс, сажают в бочку, закрывают крышкой с грузом, выдерживают неделю, пока одна из крыс, самая живучая и агрессивная, не сожрет всех остальных. Потом крысу достают и, провозгласив крысиным королем, выпускают «на вольные хлеба». Крыса, ставшая в результате эксперимента каннибалом, в течение месяца сжирает всех остальных сородичей в подлодке.
— Вот именно так и поступил наш президент в Чечне, честь ему и хвала! — резюмировал Захаров. — И оказался тысячу раз прав. Теперь выбранный им чеченский полевой командир, который буквально перегрыз горло всем остальным, получает от России гигантскую контрибуцию, отстроил Грозный-Сталинград заново и регулярно поставляет свою Дикую дивизию для самых ответственных заданий «партии и правительства». Да, согласен, пограбят немножко, позверствуют в процессе, но задание выполнят. И в республике тихо — все бандиты и бывшие герильерос при деле, и стране хорошо — с глаз почти что долой. Учитывая неизбежные и необходимые войны по периметру нашей осажденной крепости, которые могут длиться годами…
Под разглагольствования писателя по вопросам геополитики Алехину незаметно для себя удалось-таки задремать. Проснулся он от острой боли в пояснице при наезде на особенно крутую колдобину. Он и не заметил, как проехали государственную границу, которую с обеих сторон никто не охранял. Пограничные шлагбаумы были сломаны и валялись на обочинах. Кирпичные будки пограничников и таможенников стояли почерневшие от пожара, посеченные пулями, зияющие черными щербатыми отверстиями бывших окон и дверей.
Писатель покрутил головой, снял очки, протер слезящиеся глаза и, оценив картинку за окном как «незаживающие раны войны», вернулся к своему монологу.
— Если бы в семнадцатом году Корнилов направил Дикую дивизию в Петроград, а не на Кавказ, где она и растворилась, разграбив по пути полстраны… Отправь генерал их в мятежный Питер, и вся эта Великая большевистско-жидовская революция была бы удавлена в зародыше малой кровью. И Россия не погрузилась бы в кровавую купель, и нам сейчас не нужно было бы скрести осколки империи по сусекам.
Захарова окончательно прорвало. Он оседлал своего любимого конька.
— Великие умы не зря предостерегали Россию от опасности жидовской чумы задолго до октябрьской катастрофы! — кричал писатель прямо в ухо Алехину. — Не хотели прислушаться к голосу разума в лице, скажем, Достоевского! А ведь тот ясно предупреждал, прямо-таки взывал: «Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России. И начнется… Ибо нет у нас для нее надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, стойла; зальют мир кровью… Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его Кагал — это заговор против русских». Что тут возразить? Каждое слово — в точку! Сейчас уже так не поговоришь. Правда никому не нужна. А ведь украинский Майдан — это тот же кагал, только управляемый из Вашингтона! И что мы в результате этого оранжево-жовто-блакитного Майдана имеем? В том виде, в котором Украина была в девяносто первом году, — ее не будет! В мире это понимают все, кроме пары сотен долбанутых на всю голову украинских блогеров. Крым никто им не вернет, Новороссия уже есть, и вопрос лишь в том, насколько увеличится ее территория. Уменьшиться она уже не может. Украинский народ не справился с имперским наследством, которое досталось ему за так. В какой-то момент в Киеве твердо решили, что двадцать миллионов — или чуть меньше — русских не живут на Украине как дома, а пришли к украинцам в гости. И поэтому они должны участвовать в любом хоровом пении и прочих плясках, искренне верить в безумную версию украинской истории…
Захаров сам не заметил, как плавно съехал с извечной еврейской темы на проблемы украинского национализма:
— На той территории, что станет Новороссией, мы не отвернемся от украинской культуры. Мы будем всячески культивировать и вышиванки, и песни, и пляски, и Лесю Украинку, и жовтое, и блакитное. То есть те в Новороссии, кто считает русскую культуру родной, будут иметь свою культуру, а кто воспитан в украинских традициях — пусть их хранит. Чтобы хоть до какой-то части майданствующей Украины дошли вещи простые и добрые. Что есть Украина другая — Украина поэтичная, прекрасная, волшебная, гордая. Сестра России, мать своим детям, удивительная земля. Украина Гоголя, Хлебникова, Багрицкого и Лимонова, Украина Котовского, одесской литературной школы, маршала Рыбалко, «Молодой гвардии» и ополченцев Славянска и Краматорска. А есть Украина, вывернутая наизнанку, остервеневшая, полезшая на четвереньках в Европу, где ее никто не знает, не ждет и вообще в гробу видали, — Украина «лесных братьев», хаоса, гилляк, низколобого национализма и смехотворных мифов про Киевское княжество как истинную Русь; Украина казаков, пошедших служить турецкому султану или под гитлеровские знамена. И первая Украина до сих пор всегда брала верх над второй — не только в военном противостоянии, но и в культурном, и в метафизическом смыслах. И опять возьмет! А мы ей поможем…
Алехин успел проснуться где-то в середине украинофобской части монолога и почувствовал, как его снова начинает тошнить. От неровной дороги, духоты, жары, но больше всего от писателя. Вся эта бодяга про евреев, русских, украинцев, приправленная цитатами из Достоевского, была ему глубоко до фонаря. Украинский конфликт, противостояние Запада и России, причины разгорающейся войны и политический расклад волновали его, как рецепт голубцов. Еще не доехав до места, он начал уже чувствовать накапливающуюся усталость от нескончаемого марафонского забега, от не начавшегося еще расследования и от сжигающей остаток его души жажды мести. Непрерывно бубнящий Захаров своим липким и вонючим присутствием душил его, словно спрут. Алехину вдруг стало так погано, что он едва не попросил Рыбникова остановить машину, чтобы выскочить и сунуть два пальца в рот.
К счастью, Захаров закончил свой монолог сам. Разглядев что-то в окно, когда они въезжали в село Мариновка, он застучал пальцами по плечу Рыбникова, требуя остановить машину.
Рыбников сбросил газ, нажал на тормоз и выключил зажигание. «Патриот» замер на месте. Открыв дверцу, политрук вывалился наружу и, на ходу вытаскивая из нагрудного кармана блокнот и ручку, покатился, словно огромный камуфлированный колобок, туда, где суетились люди в военной форме.
На теневой стороне улицы, под невысокими грушевыми деревьями, касаясь крышей их ветвей, стоял голубой туристический автобус с ростовскими номерами и надписью Sputnik на боку. Несколько военных вытаскивали из автобуса плачущих маленьких детей и ставили их на землю. Детей было тридцать или даже больше, на вид — не больше трех-четырех лет. От силы пять. Почти все они кричали и рыдали. У нескольких штанишки и платья были мокрыми.
— Дорогие дети, сейчас мы все пописаем и попьем вкусной родниковой водички! — пытаясь перекричать ревущий хор и держа за руку зашедшегося визгом мальчика, громко объявила худенькая женщина с усталыми глазами, в несвежем белом халате, в тесных обтягивающих джинсах и со стетоскопом на груди. — А потом вы все получите конфеты.
Один мальчуган в коротких штанишках на подтяжках упал ничком и стал биться головой о землю. Военный из охраны с автоматом за спиной поднял его на руки, прижал к себе и гладил по голове.
— Была бы девчонка, а не мальчик, и развевающийся за плечами плащ — так вылитый памятник русскому солдату-освободителю в Трептов-парке, — с удовольствием отметил писатель, подходя к ревущей группе и на ходу записывая осенившее его сравнение в блокнот.
Автобус сопровождали два военных «уазика» с откинутым верхом и мини-автобус съемочной группы российского телеканала «Заря». Оба в военной форме, но без оружия, корреспондент с микрофоном в руке и оператор с камерой на плече хлопотливо суетились вокруг детей, выбирая ракурс для планов и перебивки.
Двое военных водили по очереди детей через дорогу. Туалета там, конечно, не было, зато росли высокие кусты шиповника с крупными розовыми плодами, рассыпанными по зелени листьев, как по вывешенному на просушку постиранному зеленому ковру. Доктор со стетоскопом достала из объемистой сумки два рулона туалетной бумаги и передала военным. Успокоить детей не получалось, своим плачем они все больше заводили друг друга.
Вслед за детьми из автобуса вышел крепкий мужик в линялой майке-безрукавке, водитель. Вытирая руки о майку, он раздраженно пробормотал:
— Зассали весь салон, твою мать! Кто отмывать-то будет?..
Алехин вылез из машины и решил пройтись, размять затекшие конечности и посмотреть, что делается вокруг. Еще в машине он вытащил из сумки пистолет и сунул его за брючный ремень за спину — на всякий случай. Отворив калитку палисадника у ближайшего дома, Сергей сел перед клумбой ядовито-красных и оранжевых георгинов и высоченных желтых, как лимон, циний. Помочь плачущим детям он ничем не мог, вступать в разговор с неизвестными автоматчиками не хотел. Еще меньше ему хотелось попадать в объектив видеокамеры.
— А я вас узнал, дорогая товарищ Бородина, — сказал Захаров, подойдя к женщине со стетоскопом и протягивая руку. — Вы ведь Доктор Варя, не так ли?
Губы доктора растянулись в улыбке. Но ввалившиеся красные глаза оставались отрешенными, как на портретах святых мучениц эпохи Возрождения.
— И я вас узнала, Платон Парамонович, — она с готовностью пожала ему руку. — Какой вы неугомонный. Опять на войну?
— А вы, я вижу, опять с нее? Что здесь происходит? Откуда эти несчастные дети? Как мы можем помочь?
Журналисты с камерой переключились с детей на писателя и Доктора Варю, известного российского волонтера, открывшую несколько хосписов и приютов для вынужденных переселенцев в России и в Украине.
— Да из детского садика в Донецке, — утомленно махнула рукой Доктор Варя. — В городе бомбежки каждый день. Вот, вывозим детвору потихоньку. В Ростов. Там уже приют открыли для детей с Донбасса. Так дело пойдет, будем дальше возить.
— Бомбежки? — продолжая что-то черкать в своем блокнотике, спросил Захаров. — И кто бомбит? Хунта?
— Ну а кто ж еще? — ответила Доктор Варя, вытирая платком влажные, усталые красные глаза. — Да вы и сами все знаете, Платон Парамонович. Ковровые бомбардировки чуть ли не каждый день. Ну и есть еще одно ужасающее обстоятельство. Не могу об этом сейчас рассказывать, чтобы не пугать людей. Короче говоря, было принято решение эвакуировать детские сады, спасать детей из этого ада. Воспитатели отказались ехать. Вот, сами управляемся, как можем.
— Я все пишу, Паша, — тихонько толкнул в бок оператора корреспондент, говоря шепотом ему на ухо. — Это Захаров, Паша! Захаров! Бинго! Он нам сделает сумасшедший синхрон!!!
Писатель продолжал лихорадочно строчить в блокноте.
Журналист показал оператору большой палец. Писатель тактично замолчал, продолжая лихорадочно строчить в блокноте.
Доктор Варя достала из сумки целлофановый пакет и начала обходить детей, гладя их по головкам и вручая карамельки в красной обертке. На фантиках было выведено «Москвичка» — стилизованной под церковно-славянский шрифт вязью.
— Варя, я просто преклоняюсь перед вами, — сказал писатель, идя вслед за женщиной и по пути механически поглаживая рукой детские головки. — Не скудеет Россия-матушка своими матьтерезами. Я восхищаюсь вашим героизмом, вашей преданностью делу, вашей жертвенностью!
— Ну что вы все обо мне, — Варя скромно опустила глаза. — Я лишь одна из многих. Это наше общее, как, по-моему, вы написали, русское горе.
Писатель-политрук не успел смутиться, как неподалеку страшно заверещали тормоза подлетевших к месту сбора детей «Жигулей». Из машины почти на ходу выскочила грузная молодая женщина с красным зареванным лицом и растрепанными волосами.
— Люба, Любанька, дитятко мое! — со слезами закричала она, встав на колени и распахнув руки навстречу девчушке, отделившейся от толпы и бегущей к ней что есть духу. — Успела, успела, мама рóдная! Успе-е-е-е-ла! А-а-а-а-а-а!
Женщина, рыдая, прижимала к себе плачущую девочку, которая уткнулась головой в грудь мамы. Из машины вышел худенький небритый мужичок в серой спецовке, картузе и подошел к матери и девочке, нагнулся и обнял их.
— Бери ее, Радик, — обратилась женщина к мужу, резко прекратив рыдания и вытирая красное лицо полной рукой. — Веди в машину, не выпускай. Мне тут побалакать маненько трэба.
Решительно тряхнув головой, громко, как бешеная кобылица, сдув с лица нависшую челку и сжав кулаки, женщина направилась в сторону доктора и писателя, не понимающих, что происходит. Вернее, Доктор Варя уже догадывалась, что надвигается скандал, а писатель — еще нет.
— Что ж ты, сучка, делаешь?! — закричала женщина в лицо Варе, остановившись на расстоянии вытянутой руки, не обращая внимания на оператора с камерой, корреспондента и всех остальных. — Ты пошто детей воруешь, б…дища?! Своих нет? Кто тебе дал право издеваться, глиста в корсете, прошмандовка в халате?!
Она сорвала с шеи доктора стетоскоп и начала стегать им Варю по лицу и груди. Экзекуция продолжалась несколько секунд, пока двое военных не схватили ее за руки и не оттащили от доктора, у которой из рассеченной губы на белый халат уже капала кровь.
— Ради бога, не трогайте ее! — вытирая платком кровь и помаду с губ, вступилась за женщину Бородина. — Ее можно понять. Война кругом. Люди все на грани нервного срыва.
Военные не выпускали разъяренную мать, пытавшуюся вырваться из крепких мужских рук. Дернувшись несколько раз и поняв, что дотянуться до врачихи ей уже не удастся, женщина снова начала рыдать, запрокинув голову и повиснув на руках военных.
Бородина подошла к плачущей матери сама.
— Мы не могли поступить иначе, — обратилась она к женщине. — Детей надо спасать. Вы всего не знаете. Мы сейчас не можем об этом говорить, поверьте. Все фамилии, телефоны записаны. Мне сказали, что согласие родителей на каждого ребенка получено.
— Кого спасать?! — снова пришла в ярость женщина. — Спасай своих детей! Много их у тебя, своих-то, что ты за нашими приперлась? Кто тебе дал право до моего ребенка касаться?!!
— Но ведь бомбежки! Люди гибнут. Женщины, старики, дети…
— Какие бомбежки?! Кино насмотрелась? Никаких у нас бомбежек нет!
— Вы не в себе, — растерянно сказала Доктор Варя. — Успокойтесь. Выпейте воды.
Еще один военный подошел к женщине и протянул ей бутыль с холодной водой из колонки неподалеку. Двое других ослабили хватку. Женщина отчаянно махнула рукой и выбила бутылку у того из руки.
Дети, все как один, перестали плакать и, вытаращив глазенки, с раскрытыми ртами следили за происходящим. Они никогда не видели дерущихся женщин. И никогда не видели Любину маму, веселую и добрую хохотушку, в таком состоянии — они даже не сразу ее узнали.
Между тем Радик усадил дочку в машину, а сам подошел к жене и неуклюже обнял ее обеими руками.
— Маша, поехали домой, — спокойным голосом сказал он. — Любушка плачет.
— Не приставай, Радик! — грубо оттолкнула его Маша. — Пусть эта тварь еще Сашку отдает. Сашенька, родненький, иди сюда, миленький!
Мальчик, который до этого лежал и бился головой о землю, неуверенно оглядываясь на Доктора Варю, побрел к женщине, видимо не понимая, что освободился из плена.
— И Саша ваш сын? — встрял в разговор писатель.
— Не мой, — прижимая к себе мальчика, твердо сказала Маша. — Золовки младшенький. Только без него не уедем.
— Пускай забирает, — Доктор Варя отвернулась, беспомощно разведя руками.
Маша подняла трехлетнего малыша на руки и понесла к машине, в то время как тот через ее плечо смотрел на остающихся рядом с автобусом детей.
Алехина тронула эта сцена. Он вспомнил своих дочек. Сердце забилось, и закололо в глазах и висках.
В детском садике дети всегда завидуют тем, кого забирают раньше других. Для малышей остаться, когда всех уже разобрали, с уставшей, безразличной воспитательницей — целая трагедия. Они вдруг все вместе, разом осознали, что произошло: двоих забрали, а их забирать уже некому. И ринулись к машине, которая завелась и начала разворачиваться. Дети кричали, рыдали, спотыкались, падали, а «Жигули», набирая скорость, уже катились назад в Донецк. Саша и Люба стояли на коленках на заднем сиденье и смотрели в окно на удаляющихся бегущих следом и протягивающих к ним руки детей.
Военные, писатель, Доктор Варя, журналисты, Рыбников с Алехиным и даже расстроенный водитель бросились за ними, собрали всех и, несмотря на их громкий плач и вой, стали запихивать в автобус.
Журналист посмотрел на оператора и вопросительно дернул подбородком. Оператор показал ему большой палец.
— Сейчас звоню в контору, — сказал журналист, поспешно доставая телефон. — Наши в Ростове их перехватят. Там две группы есть. А мы за писателем. По коням.
— Нам еще разрушения где-то снять надо, — сказал оператор, садясь за руль. — Или из архива возьмем?
— У нас в архиве есть дом из Слонявска, такой конкретно раздолбанный, помнишь, снимали? Там еще пацаны гильзы собирали. Мы пару планов с ними и без них сделали. С кошкой и детской коляской. Ну, вспомнил?
— Ах, да, — спохватился оператор. — Точно, там чистая Хиросима. Так мы ж его давали уже два раза.
— Ну что ты как маленький? Еще раз дадим. Кто на это внимание обращает?
Пока телевизионщики грузились, они потеряли машину с писателем из виду. Догнали на самой окраине Донецка, где унылая Матвеевка плавно перетекала в такой же безликий Пролетарский район и где «Патриот» остановился на заправке. Тихонько встали в стороне в ожидании. Работала одна колонка. Марка бензина была указана, как Super. Писатель и Алехин вышли из машины размять ноги.
— Капитан, есть чем расплатиться? — зевая, спросил Рыбникова утомленный писатель.
— Да, не беспокойтесь, товарищ Захаров.
— Какая тут валюта сегодня в ходу?
— Да, любая. Кроме монгольских тугриков.
Перед ними сиял белизной роскошный «Лексус 570». Дальше за ним какие-то военные заправляли серебристую «Тойоту Лэндкрузер».
Лилия Павленко, элитная донецкая проститутка по кличке Липа, классическая крашеная блондинка с ярко-красными пухлыми губами, решила снять туфли на высоченных каблуках, чтобы размять затекшие пальчики, пока стоит в очереди, и забыла перевести машину в режим паркинга. Она поняла свою ошибку, когда сама подпрыгнула на сиденье. «Лексус» въехал «Тойоте» прямо в зад. Не на скорости — полз как гусеница, так что ущерба — никакого. Но боевой экипаж «Тойоты» посчитал иначе.
Два здоровенных кавказца в военной форме обошли машину сзади, стали размахивать руками и кричать что-то на своем гортанном языке. Из водительской двери с трудом вылез третий, великан с рыжей бородой, в национальной черной шапочке с зеленой арабской вязью на лбу. Движениями непомерно длинных рук и кривых ног он напоминал гигантского краба.
Липа мгновенно сориентировалась и, заблокировав все двери, достала из сумочки айфон и дрожащими длинными пальцами стала набирать номер под шифром «Белка». Номер был занят. Она набрала еще раз. С тем же результатом. Машина закачалась, когда рыжий постучал кулаком в окно и пригласил Липу знаками на выход. Не глядя на бородатую гориллу, Липа продолжала безуспешно набирать номер «Белки».
Тогда владелец роскошной огненно-рыжей, достающей до груди бороды пулеметчик батальона «Юг» Мовлади Идигов, расслабленным движением достал из кобуры ТТ, резким ударом рукоятки разбил стекло и еще более решительным движением другой руки открыл дверь и вытянул визжащую Липу из машины. Та выронила айфон и распласталась у ног гиганта, поджав колени и инстинктивно закрывая лицо обеими руками.
Идигов нагнулся, схватил Липу за плечи и одним движением поднял ее, как резиновую куклу. Липа оказалась почти одного с ним роста.
— Ну что, коза? — хриплым басом проворчал рыжий. — Клучи давай.
— Что здесь происходит? — срываясь на высокий фальцет, вмешался в ситуацию Захаров.
У Алехина аж скулы свело от досады. Он медленно потянулся за пистолетом.
— Ты, брат, куда ехал? — гигант перевел взгляд на толстяка. — Туда и ехай, брат.
И тут произошло то, чего никак нельзя было ожидать. Скорее всего, писатель не хотел этого говорить. Просто сорвалось. Видимо, он еще не отошел от нервного напряжения, и булькавшие в нем щи из патриотической квашеной капусты выплеснулись наружу.
— Не брат я тебе, гнида черножопая! — выдохнул писатель, который уже на слове «гнида» понял, что не попал в контекст.
И это были его последние слова. Байрон русского мира Платон Захаров рухнул как подкошенный на спину с пулевым отверстием во лбу.
— Снимай, снимай, Паша! Все снимай! — корреспондент тыкал оператора в бок кулаком, не отдавая себе отчета в том, что этими действиями мешает тому выполнять свою работу. Они сидели на корточках, прислонившись спинами к дверям машины, прижавшись друг к другу, метрах в десяти от разворачивающейся драмы. — Я ох…еваю, Паша! Это полный п…дец!
То, что происходило в эти секунды на заправке, действительно трудно было охарактеризовать иначе. Но корреспондент ошибался насчет полноты явления.
Идигов пережил Захарова лишь на пару секунд. На нем не было бронежилета, и Алехин аккуратно, чтобы не задеть визжащую блондинку, всадил три пули из своего «Макарова» рыжему великану в область сердца. Чеченец повалился на землю вместе с девушкой. Липа с трудом выкарабкалась из-под его туши, но достаточно разумно осталась лежать лицом вниз, прикрыв голову руками. Метрах в трех от нее надрывался трелями откатившийся айфон в розовом с блестками чехле: это перезванивала пропустившая вызов Липы «Белка».
Увидев, что Рыбников уже разворачивает машину, Сергей бросился к Липе. В то же время двое других чеченцев безуспешно пытались открыть багажник «Тойоты», чтобы достать оружие: дверца намертво уперлась в капот «Лексуса». Тогда один из них обежал машину, открыл боковую дверь и, нырнув в салон, вытащил оттуда два автомата.
Алехин упал наземь, накрыв собой Липу, и, держа пистолет в вытянутых над головой руках, дважды выстрелил под днищем «Лексуса» по ногам того чеченца, что остался у багажника. Тот успел достать из кармана гранату Ф-1 и вытащить чеку, но кинуть ее ему было не суждено. Одна из пуль Алехина разнесла ему левую лодыжку. Чеченец выронил гранату и с матерными стонами упал за «Лексусом». Сергей, не видя катящейся лимонки, выстрелил по упавшему еще раз. И опять попал. Между ног. Чеченец быстро-быстро засучил ногами в высоких, импортных, песочного цвета берцах и замер.
Рыбников с автоматом наизготовку уже почти добежал до «Лексуса», когда третий чеченец срезал его автоматной очередью. Алехин вскочил на ноги и, продолжая держать «Макаров» обеими руками, выпустил оставшиеся в обойме патроны курбановцу в голову. Тот опрокинулся на спину — прямо в открытую дверцу «Тойоты». Тут, как раз, подоспело время взорваться гранате, катившейся по другую сторону «Лексуса». Осколки прошили машину, чудом не задев Алехина, но изрешетив огромное тело рыжего, которое закрыло лежащую рядом с ним Липу, как щитом.
Сергей бросился к девушке и рывком помог ей подняться. Она оказалась на голову выше него. Они перепрыгнули через труп писателя и кинулись прочь от «Лексуса». Алехин почувствовал, как под подошвой его башмака на асфальте что-то хрустнуло. Не было времени нагибаться, но он отчего-то был совершенно уверен в том, что наступил на круглые очки политрука Захарова. Это была последняя мысль, пришедшая в голову Алехина перед тем, как разлившийся во время перестрелки бензин вспыхнул и колонка взорвалась.
Опытные телевизионщики с удивительным хладнокровием продолжали снимать весь этот экшен. Алехин с девушкой бежали мимо них к «Патриоту».
— Офицер, вы из какого батальона? — успел спросить корреспондент.
— Иди на х…й, — успел крикнуть в ответ Алехин.
— Простите? — не расслышал корреспондент.
Рыбников, как знал, оставил машину включенной. Алехин усадил теряющую сознание Липу на заднее сиденье, где еще пять минут назад сидел Захаров, и повернулся, чтобы побежать назад — к убитым попутчикам. Может, Рыбников еще жив, подумал он. Но огонь объял уже все трупы, и проверить это не было никакой возможности.
Заправка горела адским пламенем, испуская в безоблачное голубое небо клубы жирного, черного дыма. Алехин с Липой ехали в Донецк. Оператор держал их машину в объективе до тех пор, пока она не скрылась с глаз.
Через пару часов в эфир российских теленовостей вышел репортаж с Донбасса под грифом «срочно». Начинался он с драматической перестрелки на бензоколонке. Кто в кого стрелял, было непонятно. Но происходящее выглядело как добротное военное кино в лучших традициях Ридли Скотта и Стивена Спилберга.
— Прямо на окраине Донецка ополченцы столкнулись сегодня с группой спецназа ВСУ! — журналист канала «Заря» Егор Непомнящий позировал на фоне густого черного дыма с мелькающими в нем языками пламени. — В результате жестокого, но короткого боя враг был уничтожен. Однако, к огромному сожалению, российская культура и вся Россия сегодня понесли невосполнимую потерю. В этом своем последнем бою с оружием в руках погиб великий русский писатель и политрук русского добровольческого батальона «Дагомея» Платон Парамонович Захаров. Он в очередной раз ехал в Донецк собирать материал для своей новой книги, действие в которой должно было разворачиваться на полях сражений восставшего Донбасса с киевскими карателями, но теперь эта книга уже никогда не будет написана…
Далее во весь экран появилось круглое улыбающееся лицо «соловья Генштаба» с датами рождения и смерти, перехваченными георгиевской ленточкой. Кончался сюжет полной драматизма заключительной сценой бойни на бензоколонке. Поджарый военный лет сорока, похожий на американского спецназовца из кино, и высокая стройная блондинка буквально выскочили из языков пламени, охвативших станцию, и бежали прямо на камеру, которая выхватила крупным планом его мужественное загорелое лицо с голубыми глазами и шрамом на левой щеке. Алехин даже успел крикнуть прямо в камеру: «Иди на …!» Последнее слово, несмотря на спешку, выпускающие успели запикать. Но все было и так ясно.
У ошеломленного Книжника было ощущение, что Алехин обращался непосредственно к нему. Не в силах поверить в происходящее, он остановил автоматическую запись. Прокрутил эпизод два раза с начала до конца и выключил телевизор. У него не было слов.
— Ну, Алехин, у тебя совсем крыша съехала, — наконец пробормотал он и потянулся за телефоном. — Пора «скорую помощь» вызывать.
И набрал номер под шифром «Боксер».
Глава шестнадцатая ТАНЕЧКА
Курская область. Август
Подполковник проснулся один. Лида рано утром уехала на дежурство, не разбудив его. Оставила записку, чего поесть и как согреть. Легли спать поздно. Горовой, чтобы расслабиться, выпил на ночь стакан водки. Не пробрало, так и лег трезвый. Они долго не могли уснуть, лежали молча. Лида вытащила одеяло из пододеяльника. Жара даже ночью не отпускала. Горовой прислушивался к дыханию Лиды. Она лежала лицом к стене, к нему спиной. Погладил ее по спине. Не отозвалась. Хотя и не спала. Просто лежала тихо. Лида чувствовала, что происходит что-то нехорошее. Она никогда не видела Жору в таком состоянии. Приехал не на машине, без формы, черт знает в чем, небритый. И вообще какой-то не такой. Что стряслось, спросить постеснялась. Может, что в семье?
Она знала, что «дорогая» его в отъезде. В отпуске. Он обычно был улыбчивый, веселый и даже по-своему нежный. Порой брал ее на руки, относил в постель. Нарвал в прошлый раз полевых цветов — ромашек и колокольчиков розовых, меленьких. Где взял? Сушь же кругом… А тут ни слова. И глаза будто не его. Красные, воспаленные и… пустые. Словно смотрит и не видит. Вроде внутрь себя смотрит. И не поцеловал даже. Не то что в губы — вообще не поцеловал. И обычно если и пахнет от него чем, то одеколоном. Сильный такой запах. Словно им специальный военный одеколон выдают. А тут пахнет потом. И рубашка несвежая. Будто он и… не он. Или он, но лет на десять старше. Какой-то весь вдруг вылинявший стал, как соседский кот.
Спросила, как дела. А он промычи что-то в ответ — и за бутылку. Открыла ему огурцы мамины. Больше не спрашивала. Они никогда особенно много не говорили. Говорил обычно он, она слушала. Он любил всякие армейские прибаутки — голосом таким строевым говорил, как в мегафон: «Эй, вы трое! Ну-ка, оба ко мне! Что морды такие красные, как огурцы! Водку пьянствуете? Беспорядок нарушаете? Молчать, я вас спрашиваю! Я вам кто или нет!» Лида каждый раз умирала от смеха — «красные, как огурцы», «кто или нет».
Особенно ей нравилось его выражение «Проснемся — разберемся». Такое бодренькое, оптимистическое. Он часто так говорил. Уже другим, родным, теплым голосом. Проснемся, мол, разберемся. Обнимал ее, целовал в губы. Как ни брился до синевы, а все равно щетина колючая. Сначала щекотно было. Потом привыкла. А когда там, внизу ее целовал, то щетина — не щетина. Все внутри переворачивалось. Никто ее так не целовал. Никогда в жизни. Все какие-то дурные попадались. Ее и дурой называли, и даже истеричкой. Хотя какая она истеричка?.. А тут серьезный. Офицер. Любит. Подарки дарит. Ни разу слова обидного не сказал. Веселый. Один недостаток — семейный. Ну хоть такой. Таких сейчас днем с огнем не найти. Одни алкаши да наркоманы. И вдруг — как подменили. Ну совсем другой. Ну ладно. Проснемся — разберемся, решила она. И уснула.
Утром еще раз посмотрела на него внимательно. Рот открыт. Дышит прерывисто. С храпом. Провела рукой по волосам — а затылок весь мокрый. От жары, наверное. Сварила ему кашу овсяную, как он любит, на молоке. Оставила на плите. Сама дошла до остановки. Полчаса ждала автобуса. Приехал битком набитый. Мужики одни. На работу в город едут. Дышать нечем. Пот, похмелье, табак. Еле дотерпела до своей остановки. В больнице понюхала нашатыря. Перестало тошнить.
«С чего бы это? — подумала Лида. — Чегой-то меня тошнит? Укачало, поди, с козлами этими».
И пошла делать уколы и капельницы ставить.
Проснувшись, подполковник не стал разогревать остывшую кашу — одну ложку съел, вторая в рот не полезла. Запил холодным чаем. Натянул треники. Вышел в огород. Солнце чуть не в зените. Все какое-то вокруг не зеленое, а серое. Даже помидоры в парнике. Вернулся в дом. Открыл Лидин старенький ноутбук, его подарок, с треснутым углом. Вставил в него модем. Через минуту засветился сигнал. Не синий, а зеленый. Но и такой сгодится. В Яндексе набрал свое имя, фамилию и отчество. Миллион всяких незнакомых Горовых. О нем вроде ничего. Включил диспетчерскую программу по эшелонам и рейсам. Начштаба принес два дня назад. Говорит, посмотри, Михалыч. Руки не доходили. Вот теперь дошли.
Координаты стартовой позиции, эшелон и время до минуты Горовой помнил наизусть. Час листал номера рейсов с датами, часами и эшелонами. Наконец убрал пальцы с клавиатуры. Протер глаза, обхватил мокрыми от пота ладонями щеки и скулы. Не может быть… Этого не может быть! Ладно, что промахнулись и сбили другой борт, сомнений у него с самого начала не было. Но выходило еще хуже. По всему выходило, что сбить они должны были борт Москва — Ларнака. Пассажирский. Аэрофлотовский. Их подставили. Его подставили. С самого начала. Зачем врали про секретный рейс с оружием, если в это время пассажирский летел? Почему он, идиот, не посмотрел, не проверил? Почему на слово принял? А если бы не принял, что изменилось бы? Лежал бы сейчас в морге, как Виталик, и фонил бы, как Чернобыль. Так, по словам Лиды, сказал кому-то по секрету главврач. А она случайно подслушала. Кофе тому приносила.
Еще раз просчитал все — и снова сошлось, как ни крути. Да и ребята условный знак дали — пуск успешный, задание выполнено. Назад дороги нет. Куда бежать? Не просидит же он у Лиды на даче до конца жизни? К Тане в Литву? Литва — заграница. У него отродясь заграничного паспорта не было. Ищут его, поди. Найдут и придушат. Удавят, отравят, пристрелят, как собаку…
Горовой громко застонал, сжав кулаки. Зашел в дом. Нашел в куртке кошелек, стал пересчитывать деньги, выронил кошелек. Из него выпали разные дисконтные карточки. Прачечная какая-то, «Диана». «Ветерок». «Перекресток». Кому теперь все это нужно? А вот и визитка чья-то. Поднимая, машинально прочел: «Алла Островская, специальный корреспондент “Новой газеты” в Курске». Кто такая?.. Бросил визитку на стол. Вспомнил. На прошлой неделе приходила — насчет обрушения кровли в спортивном зале. Там троих из второго дивизиона поранило. Дальше КПП не пустили ее. Оставила ему карточку. Передали. Зачем-то в кошелек сунул. Фамилия ему знакомой показалась. Ну конечно, это ж она раскопала компромат на вице-губернатора — педофил, барыга и все такое. Получила трубой по голове. Вице арестовали. Следствие идет. Ее по второму каналу показывали — оклемалась. Героиня теперь…
Горовой постучал по карточке пальцами. Вновь поднес к глазам. Имейл. Два мобильных. Надел куртку и сунул ее в карман. Зубы не чистил, просто прополоскал рот вчерашним чаем. Зажевал позеленевшим куском лимона оттуда же. Открыл шкаф, пошуровал на верхней полке, нашел какую-то старую белую панаму, Лидиного папы еще. Она ее не выбрасывала, на огороде в ней на солнце трудилась. Еще нашел там зеленую жестяную коробку от виски. Он как-то сам ее приносил. Название замысловатое, хрен прочтешь. Сам и выпил. А коробку Лида приспособила. Открыл, а там — нитки разноцветные всякие в катушечках и мотках. Вытащил все. Достал из-под кровати пистолет с магазинами. Аккуратно уложил в коробку. Все влезло. Нашел на кухне изоленту, перемотал коробку, засунул в два пластиковых пакета, взял лопату и закопал в саду, все время оглядываясь, вдруг кто увидит. Никого вокруг не обнаружилось. Сверху куском дерна с травой и одуванчиками прикрыл. Рядом с забором, у компостной ямы вырезал. Ногой края разгладил. Вроде в глаза не бросается. Вернулся на кухню. В зеркале над умывальником увидел свое небритое, опухшее лицо с глазами в красных прожилках, натянул панаму и вышел, забыв запереть дом.
Час спустя, уже в Курске у вокзала Горовой, поторговавшись с цыганом с золотыми зубами, купил у того левую симку. Вытащил Лидину, вставил новую, достал визитку журналистки и набрал первый мобильный. Абонент недоступен. Набрал второй. Ответил приятный, грудной женский голос. Не раздумывая долго, Горовой представился. Островская резко прервала его на полуслове:
— Георгий Михайлович, где вы сейчас находитесь?
— У вокзала, — ответил еще больше озадаченный Горовой.
— Никуда не уходите! Ни с кем не разговаривайте! — голос у журналистки был тревожный. — Я сейчас подъеду. Оранжевая «Таврия». Через шесть минут буду. Ради бога, оставайтесь на месте!
Островская промотала назад видеозапись недавних новостей. Во весь экран портрет Горового и текст: «Сегодня рано утром возле своего дома неизвестными был предположительно похищен командир воинской части, подполковник Горовой Георгий Михайлович. Может быть одет в гражданскую одежду. Всем, имеющим какую-либо информацию о местонахождении подполковника Горового, просьба немедленно сообщить по телефонам Облотдела внутренних дел». Далее перечислялось три телефонных номера, два из которых были хорошо известны журналистке. Они принадлежали местному управлению ФСБ.
В сестринской, где на холодильнике стоял телевизор, на последних словах новостей у Лиды из рук выпал бутерброд с колбасой. Она даже не подняла его. Вышла из комнаты. Обеденный перерыв продолжался, медсестрички досматривали новости. Лида вышла на улицу. Набрала номер Жоры. Телефон отключен. Лида позвонила еще раз и еще, затем неуверенной походкой двинулась к шлагбауму у ворот. Выйдя за ворота, Лида перешла улицу, подошла к дверям районного отдела полиции, вновь набрала номер. Не дозвонившись, убрала телефон в карман халата, который забыла снять, выходя из больницы, пропустила двух напомаженных, в черных сетчатых колготках и коротких юбках блондинок, которые, заливаясь смехом, вылетели из дверей, и зашла внутрь.
Донецк. Август
Алехина на мгновение ослепила вспышка, отразившаяся в зеркале заднего вида. Взрывов было три. Третий самый мощный. Сначала на воздух взлетели колонки, затем бензохранилище. Взрывной волной машину дернуло, и руль у него в руках повело.
Липа наклонилась вперед, закрыла голову руками и заскулила в такт ухабам, на которых трясся и дергался «Патриот». Алехин не наращивал скорость, но и не тормозил, пока кровь из ранки над бровью, которая образовалась еще при взрыве гранаты, не залила ему глаза. Он понимал, что рана пустяковая. Боли не было. Но видеть он уже ничего не мог и остановил машину посреди дороги, включив аварийку. Липа подняла голову, увидела в водительском зеркале, что все лицо ее спасителя было в крови, и вновь заверещала.
Алехин вышел из машины. С полкилометра позади бензозаправка трещала огнем, как колонна физкультурников — знаменами на параде. Ветер с пожарища дул в их сторону, и небо над ними уже застилала пелена черного, свистящего дыма. Немногочисленные прохожие разбегались в разные стороны. Несколько военных, сопровождаемые горсткой мальчишек, бежали в сторону пожара. Навстречу им из-за поворота выскакивали удирающие от войны бродячие собаки и уличные кошки.
Алехин достал из заднего кармана брюк платок. Вытер лицо. Протер глаза. Кровь продолжала сочиться откуда-то со лба. Он ощупал лоб и обнаружил неглубокую, но длинную рану над правой бровью рядом с переносицей.
«Зацепило чем-то, — подумал он. — Хорошо, голову не оторвало».
Липа вышла из машины, подошла к Алехину, оглянувшись пару раз в сторону пожара. Коленки у нее были ободраны и кровоточили. Алехин открыл багажник, из своего рюкзака достал аптечку, быстро отыскал в ней рулон ваты, пузырек с перекисью и тюбик с бетадином. Отщипнул ваты, обмакнул ее в шипящую жидкость и протянул Липе:
— На, протри коленки. Потом бетадином помажем, чтобы болячки не загноились.
— Это что-то типа йода, — ответила она, приходя в себя. — Я знаю. Нет, йодом не надо. Он щиплет и некрасиво. И маникюр весь измалюю.
Липа покрутила руками у себя перед лицом. Ладони тоже были ободраны и саднили.
Алехин рассмеялся, глядя на ее длинные ногти с пурпурным маникюром. Липа взяла у него ватку, быстро протерла себе обе ладони, взвизгнув пару раз. Потом протерла коленки.
— Теперь болячки некрасивые останутся, — сказала она, порылась в аптечке и отыскала в ней упаковочку мозольного лейкопластыря. Другого не было.
Пока мимо них, на скорости объезжая «Патриот» прямо по тротуару, дребезжа железом, без сирены, громыхала пожарная машина, Липа отвела руку Алехина и осмотрела его лоб. Рана оказалась не глубокой. Она взяла еще кусочек ваты, осторожно кончиками пальцев, стараясь не повредить маникюр, обмакнула в перекись и аккуратно прижала к его ране. Подержала в таком положении некоторое время, другой рукой поправляя ему прическу. Отняла ватку, выпятила губы, подула на рану, приложила ватку вновь, крепко прижала, отняла и одним умелым движением заклеила рану пластырем.
— У вас телефон есть? — спросила она.
— Есть, — Алехин достал телефон, посмотрел на экран. — Сигнала, правда, нет. Симка ростовская.
— Странно, — Липа окончательно пришла в себя. — Должна ростовская здесь работать. Но тут, в Донецке, сейчас такая хренотень с сигналом…
Айфон Липы остался лежать на заправке. Возвращаться за ним не было смысла. Наверняка сгорел.
— Куда едем? — спросил Алехин. — Подвезу. Но я в Донецке впервые. Дороги не знаю.
— А куда вам надо? — Липа говорила на суржике, окая и гэкая.
— По-хорошему — в штаб к Белкину. Мы к нему ехали.
— К Белкину? — девушка первый раз улыбнулась, вновь взглянув на Алехина. — Тогда нам по пути. Только не в штаб поедем, а сразу домой. Он сейчас дома.
— Откуда вы знаете? — удивился Алехин. — Вы его знакомая?
— Это он мой знакомый, — рассмеялась Липа. — А я его девушка.
— Вы из Москвы?
— Нет, я местная, — вновь улыбнулась девушка. — ППЖ. Походно-полевая жена — так он меня зовет. Типа шутка. Не смешно, правда?
— Понятно, — с каждым ее словом Сергей все сильнее удивлялся тому, как ему неожиданно повезло. — А что это за уроды? Ну, которые на вас напали?
— Это зверьки из чеченского батальона, — улыбка слетела с лица девушки. — Они недавно в городе. Непонятно, чем занимаются. Вернее, понятно: грабят, насилуют, тащат все, что плохо лежит, отжимают машины, дома, и никто им не указ. Зато на фронт — ни ногой. Только с бабами герои. Рудик пытается всеми силами отправить их обратно в Россию. То есть домой, в Чечню. Но на них ни у кого управы нет. Звери и есть звери.
— Рудик?
— Рудольф Иванович Белкин. Министр обороны ДНР.
— Я понял. Вы думаете, удобно к нему домой?
— Конечно, — девушка протянула Сергею руку. — Вы же мой спаситель. Без вас я бы уже в шашлык превратилась. Меня Липа зовут. То есть Лиля.
— Серг… — спохватился Алехин, пожимая ей руку. — То есть Юрий. Юрий Жданов. Дорогу покажете?
— Поехали, Сергей, то есть Юрий, — Лилия засмеялась. Она подумала, что мужчина ее передразнивает.
Надо быть повнимательней, подумал Алехин. С Белкиным такие номера не пройдут. Он распахнул пассажирскую дверцу, быстро перекидал оружие, два броника и несколько цинков с патронами из проема переднего сиденья на заднее и оставил дверь открытой для блондинки.
Пока Липа, или Лилия, усаживалась, вновь осматривая и ощупывая пальчиками свои разбитые коленки, Сергей обошел машину и открыл заднюю дверь, чтобы убрать аптечку в рюкзак. Кроме оружия и боеприпасов, значительное место в багажнике занимали шесть или семь увесистых прямоугольных пачек в коричневой бумажной упаковке. Алехин разорвал бумагу на одной из них. Это были стопки книг. Новенькие копии романа писателя Захарова «Битва за Донбасс». Он достал одну из книг, машинально полистал. На задней обложке был портрет автора. Алехин бросил книгу на асфальт. Потянулся было за всей упаковкой, но передумал. Закрыл багажник и сел в машину.
«Патриот» тронулся, набирая скорость. «Соловей Генштаба», летописец русского мира, политрук Платон Захаров, в военной форме, черных очках и с биноклем на груди, неотрывно смотрел с обложки своего последнего романа в черное небо над Донецком. Битва за Донбасс продолжалась. Без него.
Липа указывала дорогу. Здесь налево, тут направо.
Проехали какую-то безлюдную промзону с длинными бетонными заборами, складскими помещениями и трубами. На обочинах им попались четыре танка и две установки «Град». Экипажей не было видно. Трое мальчишек раскачивались на пушке одного из танков. Маленькая пятнистая собачонка тявкала, подпрыгивала и пыталась ухватить их за ноги.
Как только начался жилой район, сразу появилось множество людей. В основном это были женщины с ведрами. Они стояли в очереди к желтому водовозу, заехавшему прямо на некошеный выгоревший газон.
— Воду отключили, — пояснила Липа. — В центре реже отключают. А в частном секторе обычное дело. Иногда целый день нет ни воды, ни света. Говорят, из-за обстрелов. Они вот нагнали сюда этих «Катюш». Стреляют прямо из-под домов по аэропорту. А те в ответку.
— По аэропорту? — не понял Алехин. — Почему?
— Да там бендеровцы засели. Рудик говорит, они полосу охраняют, чтобы транспортники садились, когда ихнее наступление начнется. Вся война сейчас в основном вокруг аэропорта и происходит. Отсюда недалеко. Слышите разрывы?
Алехин приглушил двигатель, остановился. Через открытое окно было отчетливо слышно, как вдалеке ухала канонада.
— Ночью все небо там светится, — продолжила Липа. — Там в окрестных селах, говорят, ни одного целого дома не осталось. А они все фигачат и фигачат. И те и другие.
На светофорах не останавливались. Пешеходов было мало. Машин еще меньше. Да и большинство светофоров все равно не горели. На Макеевском шоссе (Липа называла его «Макшоссе») нашли работающую заправку. Сторговались на ста долларах за бак. Алехин расплатился наличными. Поехали дальше.
На улице с названием «50 лет СССР» вновь пришлось остановиться. Неровная колонна из сотни человек, в основном женщин за пятьдесят, пересекала дорогу. Они держали в руках российские триколоры, флаги ДНР и транспаранты. На одном Алехин прочитал: «Степаненко, верни пенсии!»
— На Ленина идут митинговать, — объяснила Липа. — У нас митинги теперь каждый день. Телевидение, то, се. Жизнь бьет ключом.
— Степаненко ж вроде как президент Украины, — заметил Алехин. — А здесь у вас власть, типа, российская. Чего ж они хотят?
— Да просто пенсии уже три месяца не получали. Банки позакрывали все свои отделения. Почта не работает. Москва обещала российские пенсии платить. Они ж больше, чем наши. Все обрадовались. А деньги из-за войны никак не подвезут. Рудик уже и звонил и писал — все без толку. У него за все сердце болит. И голова.
— А чем Степаненко виноват?
— Он же президент Украины, или где? Война не война, а мы пока все украинские граждане. Мог бы как-то договориться деньги пересылать. Хоть пенсии… У меня мама в Торезе. Пенсионерка. Если бы не я, голодала бы уже. Все кругом переходят на подножный корм. Хорошо, лето — с огорода можно покормиться.
— Как вы ловко мне башку заклеили, — сменил тему Алехин. — Раз-два, и не кровоточит больше.
— Да я вообще в медицинский поступала, — ответила Липа. — Не поступила. И работать пошла в роддом в Макеевке. Думала, потом поступлю. Вы не смотрите, что я такая красивая. Мне уже тридцать два. Я пока блондинкой не заделалась, как на каторге, в этом роддоме пахала день и ночь. Все зря. Так и не поступила ни во второй, ни в третий раз. Работа в роддоме каторжная. А деньги — никакие.
Алехин посмотрел на Липу внимательно. Только что на их глазах погибла куча людей. Их самих чуть не убили, а она — про какой-то роддом.
— Вы, наверное, думаете, какая дура, да? — смутилась под его взглядом Липа. — Всех поубивали, мы чудом, типа, живы, а она какую-то фигню лепит, да?
— Ничего я такого не подумал, — Алехин отметил проницательность девушки и покачал головой. — Просто верчу головой. Голова гудит.
— Да и прическа у меня сейчас «я упала с самосвала, тормозила головой», да? — Липа стала наощупь поправлять волосы руками. — У меня тоже ум за разум зашел, честно. Просто чтобы вы не думали, что я всегда проституткой была.
— Да что вы, Лилия! — Алехин с трудом скрыл свое удивление, потому что с первого взгляда понял, с кем имеет дело. А вот как она поняла, что он понял?
Шествие пенсионерок закончилось, а Алехин все не нажимал на газ. Улица была пуста. Ни людей, ни машин. Окружающий пейзаж все больше напоминал Алехину город-призрак из американских ужастиков про ходячих мертвецов.
Липа помолчала немного и продолжила свой рассказ о том, как «санитарка-звать-Тамарка» осваивала роддом. Вставала в пять утра, чтобы на смену успеть. Приезжала сонная и сразу в палату к новорóжденным.
— А они все орут как резаные, — Липа прижала ладошки к щекам и широко открыла рот, изображая резаных. — Они все в металлических кроватках по периметру палаты, запеленатые такие, как куколки. У них на каждой кроватке — бирочка, на ручке — бирочка, и на шее на веревочке бирочка висит. У покойника бирочка на ноге, а у новорóжденного — на руке. Так что — туда и оттуда, как говорится, с бирочкой. Это чтоб не попутать бэбиков. На всех бирочках одно и то же написано: пол, имя матери, вес при рождении, дата и время. Ну, рождения в смысле.
Дальше Липа в деталях рассказала, как перепеленывала «бэбиков» ровно шесть раз в сутки.
— Надо всем попы помыть, марганцовкой пупы обработать, а потом разложить на поднос такой на колесиках и мамашкам развезти по палатам на кормление.
Детей Липа укладывала «по нескольку штук» на одну каталку. На ней стояли пластиковые ячейки, куда она их «лóжила» по одному.
— Пока мамашки кормят, я бегом взад. В палату. Грязные пеленки вынести в стирку. Все в какашках и писюшках. Потом чистые постелить, полы помыть. Шесть раз в сутки мыла, как моряк палубу. Да, у меня моряк был знакомый, хотя какой он, на фиг, моряк. Просто пришел из армии со флота, ну, дембельнулся, так? В форме с лентами такой ходил целый год, пока пьяный под трамвай не попал. Так вот он говорил, у него сверкала, как у кота яйца. Ну, палуба, в смысле, сверкала то есть. Я не знаю, как у кота сверкают, у меня кошка, но полы у меня сверкали. Это точно. Так привыкнешь тереть, что ночью просыпаешься, а руки сами — туда-сюда. Только еще раком встать.
Липа засмеялась и взмахнула руками, словно застеснялась сказанного. Глаза заблестели. Ей было и смешно и горько это вспоминать, словно не с ней было.
— Да, кому расскажи, не поверят, — вытерла слезы Липа. — Самое ужасное было не это, а когда рождались мертвые бэбики или при родах умирали. Или после родов сразу в интенсивной терапии. В палате, в смысле. Их нужно было завернуть в пеленки и положить в морозильную камеру. А потом с нашим неонатологом Лилией Петровной Самофаловой ехали на больничной машине с этими трупиками в морг, на вскрытие. Я это так ненавидела — прямо жуть!..
Липа замолчала и уставилась в окно. Алехин надеялся, что эта ужасная тема закрыта, и он скоро забудет о том, что его девочек ни на какое вскрытие не возили — нечего было везти… Но, помолчав с минуту, Лилия продолжила рассказ:
— Еще для меня кошмаром конкретным было выносить мусор с абортария. Ну, там ручки-ножки. Сроки беременности разные. Если срок большой, то плод сформирован. Ну, там с ручками и ножками. Значит, в матку вводят специальные крючки и содержимое выскабливают. И плод разрывается. Отдельно ручки. Отдельно ножки.
Проехали еще два квартала. Мимо какого-то сгоревшего стадиона с почерневшими от сажи стенами с колоннами. Сильнее всего на свете сейчас Алехин хотел, чтобы она заткнулась. Чтобы подавилась чем-нибудь. Или просто закашлялась. Липа продолжала:
— Упаковывают мусор и выносят с отходами из кухни на помойку. А там больничные собаки с крысами между собой дерутся, кому что. Я плакала все время. А когда приходила на работу, то среди новорóжденных выбирала себе любимчика и пеленала его, как своего. Ну а потом, как в кино, как в сериале, — фотограф один, там друг его, значит, фотосессия, эскорт и — пошло-поехало…
Алехин остановил машину. Выбежал. Согнулся. Его жилистое тело дернулось пару раз. Блевать было нечем. Он опустился на одно колено, оперся рукой о землю. Подумал, хорошо, если дети и Лена погибли в воздухе. Распались на тысячи мельчайших кусочков. На атомы и молекулы или как там это называется. А вдруг они долетели до земли? Пусть даже мертвые?..
Липа вышла из машины, подошла к нему. В этот момент они услышали истошный женский крик:
— Военный, военный, помогите! Помогите!..
Возле помойки с тремя переполненными, даже на расстоянии зловонными мусорными баками несколько женщин склонились над чем-то, стеная и причитая. От их криков Алехин пришел в себя. Поднялся, вместе с Липой подошел к ним и отодвинул рукой чью-то загораживавшую обзор спину.
На тротуаре на спине лежала девочка лет десяти. Ее безжизненное лицо было бледное, как восковая бумага, платье, все в темных пятнах, измято и порвано, ноги окровавлены выше колен. Она была мертвая.
«Не может быть! — словно током ударило бывшего опера по прозвищу Бульдог. — Этого, б…дь, не может быть!»
Подполковник Сергей Алехин почувствовал, как по хребту снизу вверх стремительным ручьем пробежала ледяная волна.
Правый глаз девочки — открыт. Он был похож на перегоревшую лампочку от карманного фонарика. На месте левого зияла черная, кровавая дыра.
Глава семнадцатая КУ-КЛУКС-КЛАН
Донецк. Август
Ближе к вечеру потрясенные и вымотанные Алехин с Липой добрались до Ворошиловки — как называли дончане Ворошиловский район, облюбованный для проживания местными олигархами, ментами, бандитами и прочими власть имущими.
Бóльшую часть пути они молчали. Да и о чем было разговаривать после всего пережитого. Там на проспекте, не дождавшись вызванных еще до их появления милиции и «скорой», они завернули тело девочки в одеяло, принесенное одной из женщин, и сами отвезли его в городскую клиническую больницу № 2. К ним вышел толстый мужик в камуфляже и с рацией в нагрудном кармане. Сказал, что дежурная бригада на операции и принять тело некому. И чтобы они либо дожидались, пока освободятся врачи и составят акт, либо оставили труп и свои паспортные данные. Алехин не хотел светиться, и непонятно, чем бы все это закончилось, если бы не Липа. Одно только произнесенное ею магическое слово — точнее, фамилия — мгновенно разрядило ситуацию. Охранник принял труп, сам написал расписку и, пожелав счастливого пути, провожал взглядом удаляющийся «Патриот», записав на всякий случай номер.
Уже на подъезде к месту картина, открывшаяся Сергею, ошеломила его. Он ехал на войну, а приехал в Изумрудный город.
Ни в Беверли-Хиллз, ни под Москвой, в крутой Барвихе, не видывал он подобных замков. А белкинский, напротив которого остановились, вообще выглядел как средневековая крепость, раскинувшаяся на добрых полутора гектарах, опоясанная великой китайской стеной из розового камня, к которому вела вымощенная желтой плиткой подъездная дорога. Весь этот замысловатый Диснейленд возвышался над здешним nouveau riche ландшафтом с остроконечными черепичными крышами, зубчатыми стенами и диковинными растениями, в том числе банановыми пальмами и сбросившими кору платанами, и виден был отовсюду. Над воротами красовались три гигантские буквы «К», окаймленные, как новогодние елки, сотнями не выключенных с ночи лампочек.
«Особенно ККК вставляет», — поразился Алехин. Для человека, меньше недели назад прибывшего в Донецкий бассейн из страны Гарриет Бичер Стоу, это было несколько неожиданно.
— Ку-клукс-клан? — спросил он, сбавив скорость.
— Че? — не поняла Липа. — Та нет, это ж инициалы Каметова. Кай Камильевич Каметов — Кэ Кэ Кэ. Не слышали? Самый богатый человек Украины.
— Так мы к нему приехали?
— Сейчас сам все увидишь, — с видом хозяйки замка сказала Липа, неожиданно перейдя на почти снисходительное «ты».
Вдоль стены шел крепостной ров, наполовину заполненный зацветшей и дурно пахнущей водой. Там, где раньше в изумрудной голубизне резвились желтые, оранжевые, красные и пятнистые карпы кои, теперь на поверхности плавал студенистый кисель из серовато-желтых водорослей. Берега рва застилал узкий перед стеной и широкий с противоположной стороны, выгоревший, с бурыми проплешинами, пожелтевший газон. Стоило «Патриоту» подъехать поближе, массивный подвесной мост на цепях поднялся и забаррикадировал ворота. Тут же охранники в камуфляже, вооруженные автоматами и пулеметами, со всех сторон бросились к дверям «Патриота», но, завидев Липу, замерли на полпути и, сняв полевые пехотные кепки, отвесили гостям нечто вроде поклонов. Мост со скрипом опустился. Еще более массивные дубовые ворота распахнулись, и «Патриот» въехал в запущенный дендрарий, который еще не так давно считался богаче, ухоженнее и экзотичнее знаменитого киевского ботсада. Чего там только не было — от голубых елей, туй и кедров до эквадорских банановых пальм и платанов с Женевского озера. Однако пожелтевшая трава на газонах была давно не кошена. Газоны, дорожки и тропинки между ними были покрыты бледно-коричневой пожухлой листвой, как глубокой осенью. Цветы в разнообразных клумбах скукожились, поникли и опали. Можжевельники и туи порыжели. На кустах роз еще висели высушенные бутоны, как елочные игрушки в детском доме. В густой удушливой духоте летнего вечера томился осязаемый привкус забвения и запустения.
«Садовники или сбежали, или их всех отправили на фронт», — подумал Алехин.
Липа похлопала Сергея по плечу и указала рукой на колоннаду главного здания усадьбы, выглядывавшую из-за неухоженного садового лабиринта из шиповника, барбариса, граба, магонии, татарского клена, тиса, боярышника, ирги и форзиции. На мраморных ступенях колоннады сидели, стояли и прогуливались вооруженные охранники, видом и экипировкой напоминавшие ломбардцев из охраны Папы Римского, вооруженных, однако, не пиками и арбалетами, а винторезами. Тут же, по обе стороны от центральной аллеи, были припаркованы две новенькие, сверкающие свежей краской бронемашины «Тигр» с крупнокалиберными пулеметами, установленными над люками на крышах кабин.
Из позолоченных дверей за колоннами выбежал пожилой мужчина с седыми волосами, напоминающими парик, и в чем-то вроде ливреи, скроенной из камуфляжа.
— Лилия Егоровна, голубушка! — приветливо запричитал он, открывая пассажирскую дверь и подавая Липе руку. — Мы уже все извелись! По телевизору показали в новостях ваше чудесное спасение. Рудольф Иванович так разнервничался! Так разволновался! Отправил за вами два БТРа. А вы с ними, выходит, разминулись… Идемте же быстрее. И вашего спутника прошу с вами. Только оружие оставьте охранникам, плиз, — извиняющимся тоном добавил он, с приветливой улыбкой взглянув на Алехина и разводя руками: мол, ничего не попишешь, таковы у нас правила гостеприимства.
Алехин передал пистолет ближайшему амбалу с АКМом и последовал за Липой и ее провожатым в дом.
Они услышали музыку еще до того, как привратник Савелий, который воспитывал олигарха Каметова с самого рождения, открыл дверь в залу. Олигарха там, однако, не оказалось. Его вообще не было ни в Донецке, ни на Донбассе. Одни говорили, что он бежал в Киев, другие — что в Москву, третьи отправляли его на Маврикий. Он и раньше, до войны, не часто появлялся в родном городе, предпочитая управлять своими заводами и шахтами с помощью средств коммуникации, установленных на борту океанской яхты «Глория-5», которую приобрел у султана Брунея. Каметов был спортивным олигархом. Он обожал серфинг под парусом и с парашютом. И, конечно, горные лыжи. Как же без этого?
Звуки лились не из динамиков. Музыка была живая. Человек в атласной приталенной белой рубахе навыпуск, в синих не слишком широких галифе с тонкими красными лампасами и в высоких начищенных до блеска кожаных сапогах цвета жженого апельсина и фасона Англо-бурской войны стоял к ним спиной у распахнутого настежь французского окна и играл на скрипке. В некотором отдалении за кустами отцветших пожелтевших рододендронов и раскидистой, расползающейся во все стороны ежевики, по берегам трех небольших прудов, анфиладой спускающихся друг за другом по пологому пригорку, поднималась красная кирпичная стена с зубчатыми башенками с бойницами и жестяными флажками.
Алехин в консерватории был один раз в жизни и то на репетиции — нужно было допросить пианиста-клептомана. Классическую музыку слышал в основном в исполнении рингтонов. Но его тронуло, как самозабвенно играл незнакомец. Лена в таких случаях говорила — за душу берет. Правда, душа у Алехина была такая истерзанная и измученная, что и взяться теперь было особенно не за что. Да еще и девочка эта обезображенная не шла из головы. Ну и, конечно, тот, кто это сделал.
«Ну вот и еще один утопленник воскрес», — качнул головой Алехин и в одно мгновение остро почувствовал, как зачесался шрам на щеке. Машинально поднеся к лицу правую руку, едва коснувшись кожи, он вдруг почему-то явственно увидел перед собой не спину убегающего Офтальмолога, а лицо умирающего Антона — с заострившимся носом и быстро светлеющими, словно расплывающимися в глазницах зрачками. И услышал его голос: «Ты мне поверил?.. Поверил?.. Ну и дурак. Никому не верь. Пропадешь…» Видение потускнело, распалось на мутные пятна. Спустя мгновение исчезли, растворились и они.
Раскачиваясь в такт музыке, скрипач повернулся к вошедшим своим тонким бледным лицом. Редкие русые, словно напомаженные волосы, — волосок к волоску уложены в аккуратный пробор с левой стороны. Глаза закрыты, рубашка расстегнута на груди почти до пояса. Наконец, встряхнув два-три раза головой, он закончил играть, бессильно опустил смычок и открыл глаза. Они оказались холодными, белесыми и с поволокой, точно слепые. Рукава его рубашки были закатаны выше локтей, и Алехин не смог не обратить внимания на бледные синюшные кровоподтеки на обоих сгибах.
— Бессмертный Иоганн Себастьян, — глядя куда-то сквозь гостей, произнес скрипач. И, слегка грассируя, с легким театральным пафосом, будто раскланивался после аплодисментов и объявлял следующий номер, пояснил: — «Чакона» Баха. Великая, музыка! Вечная!
Липа бросилась к скрипачу, обняла и несколько раз поцеловала в щеки, нос и губы. Белкин развел руки со смычком и скрипкой в стороны, словно пытался уберечь их от Липиных поцелуев.
— Все, все, девочка моя, — ласково сказал он. — Будет, будет. Меня чуть инфаркт не хватил, когда увидел, как вы с молодым человеком убегаете от взрыва. Пришлось за скрипку взяться, чтобы как-то успокоиться… И телефон твой отключен. Почему? — вопрос был адресован Липе, а между тем мутные глаза Белкина уперлись в лицо Алехина и застыли не мигая.
Сергей тоже, не отводя глаз, внимательно рассматривал этого человека.
На вид Рудольфу Ивановичу Белкину было за сорок пять. Высокий, подтянутый, стройный. Скрипка, немецкая фабричная копия Страдивари ХIХ века, в его руке добавляла облику аристократизма. Вот только глаза… Глаза — нехорошие. Как у Гитлера в Волчьем логове или на турбазе «Хрустальная».
— Он сгорел, — объяснила Липа.
— Прекрасно. Возьми себе у Савелия новый. Если у него нет, пусть купит.
— В Донецке сейчас такой не купишь.
— Не переживай. Он найдет, — Белкин почесал смычком подбородок. — Из Москвы выпишет. Или из Киева, в конце концов. Это все такие пустяки, что… Благодарю вас за героическое спасение жизни этого чудного создания, — наконец обратился Белкин к Алехину. — С кем имею честь?
— Жданов. Юрий Петрович Жданов. Просто Юрий.
Липа освободила Белкина от своих объятий, вытерла у него со щеки остатки своей помады и уселась за широкий и длинный дубовый стол. Взяв из хрустальной чаши гроздь зеленого винограда, она стала с интересом наблюдать за церемонией знакомства ее благодетеля с ее спасителем.
— Ну что ж, просто или сложно Юрий, перед тем как пригласить вас в столовую на ужин, хотел бы в знак благодарности и уважения выпить с вами рюмочку.
Белкин положил скрипку со смычком на край стола и пожал Алехину руку. Рука у него была вялая и потная. Затем, указав ему на стул на изогнутых ножках рядом с тем, на котором сидела Липа, Белкин прошествовал, скрипя сапогами и присвистывая их подкованными металлом каблуками по паркету, к огромному бару в стене и достал из холодильного отделения запотевшую прозрачную бутылку белого вина с латинскими буквами и каким-то замысловатым вензелем из виноградных гроздьев на этикетке. Липа начала резать пластиковым ножом сочный бархатный персик. У Алехина засосало под ложечкой. Усевшись рядом с девушкой, он взял из чаши гроздь белого кишмиша. Между тем Белкин вернулся к столу с бутылкой в одной руке и тремя высокими хрустальными бокалами в другой.
— В жару жажду утоляет не вода или пиво, а белое вино, — наставительно сказал он. — Только при условии, что оно правильно охлаждено. Я вас сейчас угощу, если вы не возражаете, моим любимым рейнским «Рислингом», выработанным из винограда с «королевской лозы» заботливыми немецкими виноградарями по соседству с мысом Лорелей, легендарным местом, с вершины которого молодой романтик Генрих Гейне взирал на изгиб Рейна и был так возбужден, что разродился одной из лучших своих баллад из «Книги песен». Подается рейнский «Рислинг» ледяным. Кто пьет этот божественный напиток неохлажденным, подлежит расстрелу на месте без трибунала и следствия.
Белкин разлил вино по бокалам и провозгласил тост:
— За удивительное спасение девушки Лилии героическим добровольцем Юрием. Вы ведь доброволец? — уточнил он, хоть и с улыбкой, но пристально взглянув на Алехина. — Я правильно говорю?
— Так точно, — ответил Алехин и одним глотком выпил весь бокал.
Белкин сделал лишь маленький глоток, вытер белоснежной салфеткой тонкие губы, поставил свой бокал, налил Алехину новый и уселся по другую сторону стола.
— А сейчас расскажите мне, просто Юрий, что произошло с моим добрым другом Платоном, ведь, как вы прекрасно понимаете, Платон мне друг, но истина дороже, — Белкин говорил теперь холодным отстраненным тоном, теплые нотки, услышанные Алехиным в его голосе во время презентации «Рислинга», напрочь исчезли. — Я знаю, что он… его больше нет с нами. Мои люди обнаружили среди пепелища его останки. И не только его.
Выпив залпом и второй бокал, Алехин вкратце изложил, что произошло, пользуясь казенным языком полицейского отчета, в бюрократическую размеренность которого Липа время от времени вставляла гневные инвективы, не вполне цензурно оценивающие роль чеченских добровольцев в вооруженном противостоянии на Донбассе.
— Собственно, я так и думал, — бесстрастно качая головой, продолжил Белкин, когда Алехин закончил рассказ, а Липа немного успокоилась. — Друзья мои, я понимаю. Вы взволнованы, и разделяю ваш праведный гнев. Но давайте сразу договоримся о терминах: никаких чеченцев там не было. А были вооруженные до зубов украинские спецназовцы, проникшие на нашу территорию в целях диверсии. Причем захватчики многократно превосходили в живой силе и технике группу наших добровольцев, положивших свои жизни, но не пустивших бандеровцев в город. Как в песне поется, любимый город может спать спокойно. Писатель Захаров оказался, как всегда, на переднем крае битвы добра со злом и погиб, как герой. Прошу понять меня правильно, — Белкин посмотрел прямо в глаза Алехину. — С телевизионщиками, свидетелями перестрелки, я уже успел договориться. По политическим мотивам мы не можем иначе. Кремль объявил трехдневный траур. Захаров, как новомученик русского мира, будет захоронен в Кремлевской стене. Он убит укрофашистами. Это — решение президента, и обсуждению не подлежит. Мы же не врем, что он закрыл своим телом вражеский дот или, там, пошел на воздушный таран. Правда сильнее лжи. Тема закрыта.
Липа пожала плечами, Алехин молча кивнул. Меньше всего их обоих волновала трагическая судьба писателя.
— Липочка, дорогая, — обратился Белкин к девушке, — я отдаю себе отчет, в каком ты сейчас состоянии после всего пережитого. Поэтому, думаю, тебе следует пойти к себе, успокоиться, принять душ, позвонить маме, возможно, съездить к врачу. Я понимаю, твой «Лексус» приказал долго жить. Возьми пока мой «Тигр», если надо, а завтра что-нибудь подыщем.
Липа улыбнулась Алехину, поцеловала Белкина в обе щеки и, покачивая бедрами, как модель на подиуме, вышла из зала.
— Как вы поняли, Юрий, я не привозил Лиличку из Москвы, хотя и собираюсь ее туда с собой забрать после окончательной победы русского оружия, — сказал Белкин, когда Савелий закрыл за Липой дверь. — Простите, если это прозвучит несколько цинично, но девушка, по существу, мой военный трофей. Впрочем, как и весь этот замок. Все, что вы видите вокруг, включая Лилию и Савелия, досталось мне на ответственное хранение от местного олигарха Каметова. Полагаю, вы знаете, о ком речь.
Алехин неопределенно пожал плечами, что могло быть в равной мере истолковано как «да», «нет» и «мне плевать», и Белкин продолжил свой рассказ:
— После того как мне удалось взять небольшой городок Слонявск с мизерной группой из двенадцати спецназовцев, которые обратили в бегство триста украинских спартанцев, ваш покорный слуга, которого покойный писатель Захаров окрестил в одном из своих военных очерков Наполеоном Новороссии, отправился в поход на Донецк. В пути в мой маленький отряд влились сотни добровольцев, многие из которых на свой страх и риск с оружием в руках пересекли государственную границу, чтобы встать в ряды народного восстания. По мере продвижения к Донецку мы практически без боя захватили десятки танков, бронемашин, установок «Град» и другой техники, брошенной врагом во время панического бегства.
Заметив, что бутылка «Рислинга» опустела, Белкин поднялся, принес вторую и вновь наполнил бокалы.
— Развивая метафору, Захаров сравнил наш победный марш с наполеоновским «полетом орла», — Белкин заглянул в глаза Алехину, не увидел в них понимания и объяснил: — Он имел в виду знаменитый поход возвратившегося с Эльбы Наполеона из Канн на Гренобль в одна тысяча восемьсот пятнадцатом году. Свергнутый с трона император начал его с горсткой преданных ему гвардейцев, а закончил с целой армией, которая перешла на его сторону.
Белкин пододвинул чашу с фруктами ближе к Алехину и жестом пригласил его вновь поднять бокалы.
— Так и мы, дойдя до Донецка, превратились в мощную народно-освободительную армию, — продолжил министр обороны ДНР. — Опасаясь народного гнева, местная власть поспешно бежала в Киев, а господин Каметов, по существу хозяин всех здешних мест, владелец шахт, заводов, борделей и пароходов, торжественно вручил мне ключи от города. Короче говоря, мы заключили с ним джентльменское соглашение: он передает новому правительству во временное пользование все местные шахты и предприятия под гарантии того, что ни одно из производств не будет остановлено и ни одна из шахт не будет закрыта. Доходы мы будем с ним делить пополам, пока не кончится война. А дальше будем уже официально решать, что делать со всей этой собственностью. Пока что наш устный договор основан на взаимном доверии. Я солдат и человек чести. Думаю, Каметов это понимает. Кроме всего прочего, Каметов передал мне во временное владение свой замок, в котором мы с вами находимся. Я, со своей стороны, гарантировал ему, что имение не будет разграблено или разорено. Его дворецкий Савелий остался на месте, как и девушка Лилия. Вроде как присматривать за мной, чтобы не заблудился в здешних анфиладах. Осталась также и часть прислуги, включая поваров. Ландшафтный дизайнер, садовники, разнорабочие, все остальные девушки его эскорта покинули резиденцию вместе с хозяином. Я несказанно рад, что Лилия не последовала их примеру. Она искренняя, добрая, заботливая девушка и очень светлый человек. Я не собираюсь присваивать себе ничего в каметовском имении, но… Заботиться о всех этих садах, дендрариях и газонах у меня нет ни времени, ни желания. Идет война. И я не привык к роскоши.
Алехин слушал разглагольствования Белкина с неподдельным интересом. Он не понимал, что вызвало у этого человека такой поток красноречия и такую степень откровенности с ним — в сущности, совершенно незнакомым человеком. Его сейчас гораздо больше интересовала любая информация о недавней трагедии с британским самолетом. Ради этого за последние сто двадцать часов он переместился в этот неведомый ему мир с другого конца земного шара.
Сергей был уверен, что необходимая ему информация у этого павлина имеется, и напряженно размышлял о том, каким способом ее из него извлечь. Пока все складывалось как нельзя более удачно. И он внимательно слушал Белкина, с готовностью подставляя свой бокал всякий раз, когда этот человек, утверждавший, что он не привык к роскоши, брался за запотевшую бутылку. Такое вино Алехин пил второй раз в жизни. Первый был на годовщине свадьбы Саши Книжника, когда невестка поведала тестю под большим секретом, что беременна и что у Евгения Тимофеевича скоро появится внук или внучка. Женя не смог сдержать слезу и выкатил угощение для всех. Среди прочего был там и «Рислинг», правда, мозельский, — как говорили, по семьсот евро за бутылку (на самом деле — не больше семи).
* * *
Наполеон Новороссии действительно к роскоши не привык. Хоть и не особенно бедствовал в прошлой жизни.
Рудольф Иванович Белкин родился в Москве, на Старом Арбате. Его родители были профессиональными музыкантами. Оба играли в оркестре Большого театра: папа — валторнистом, мама — скрипачкой. Жалование у обоих было весьма скромное, но выживали супруги Белкины очень даже неплохо благодаря заграничным поездкам.
Во время зарубежных гастролей им платили командировочные по двадцать пять долларов в день. На питание. Огромные по тем временам деньги для советского человека. Естественно, ни на какое питание эти доллары не тратились. Советские музыканты даже воду в отеле пили из-под крана, а не из мини-бара. Ни в какие рестораны или кафе не ходили. Питались тем, что брали с собой в дорогу. Чемоданы всех без исключения артистов оперы, балета и музыкантов оркестра в полете из Москвы ломились от консервов, колбасы, суповых пакетиков, сухофруктов, растворимого кофе и индийского чая со слоном на этикетке по сорок восемь копеек за пачку. Все возили с собой кипятильники. Некоторые, особенно хозяйственные, брали на гастроли электрические плитки и кастрюльки для приготовления супа. Консервы грели в номере прямо в банках. Выходит такой Эскамильо на сцену, поет о своей любви к Кармен, срывает аплодисменты, а потом бежит в номер и «рубает в маринаде салаку».
На обратном пути те артисты, кто не рискнул попросить политического убежища, как Михаил Барышников или Александр Годунов, везли в Москву чемоданы, набитые дешевыми импортными шмотками, колготками, парфюмерией, сигаретами и сувенирами. Все это моментально распродавалось в стране, где чего ни хватишься, так того и нет. На вырученные от такой унизительной коммерции средства и жили, по советским меркам, припеваючи. Покупали квартиры, машины, дачи, устраивали деток в музыкальные школы и к частным преподавателям иностранных языков.
Хилого здоровьем Рудика тоже отдали в музыкальную школу. Хотели путем внутриродовой селекции вырастить из него советского Паганини. Не вышло. Нет, Рудик к восьмому классу играть выучился очень даже прилично. Подавал надежды. Радовал маму, бабушек, смущал дедушек и не раздражал папу. Однако случилась непредвиденная трагедия. В восьмом классе на уроке физкультуры Рудик упал с «козла» и сломал руку. Рука срослась, но на карьере скрипача этот перелом поставил крест. Рудик, правда, не особо переживал, в отличие от его родителей. У него, кроме навязанной ему с детства музыки, была настоящая страсть — история. И не просто история, а история военная. Он взахлеб читал все, что мог, о жизни и подвигах Александра Македонского, Ганнибала, Суворова, Чапаева и Жукова. Роман Тарле «Наполеон» Белкин знал наизусть.
Кроме этого, Рудик покупал тоннами цветной пластилин, и пока остальные мальчишки играли в футбол и казаков-разбойников, а в старших классах тайком курили в дворовых беседках, на чердаках пили портвейн и гуляли с девчонками, он, вызубривший от корки до корки Lehrbuch der Bogenfuhrung auf der Violine, лепил целые армии и выстраивал макеты разных великих сражений на полу, на столе, на диване и подоконнике в своей комнате. Мама возвращалась домой и выговаривала ему, что он утомляет пальцы и что это скажется на занятиях музыкой, но с его исторически-пластилиновой страстью сделать ничего не могла.
В конце концов, изгой в собственном классе и во дворе, музыкант-неудачник и хиляк-доходяга занялся в десятом классе спортом. Купил на сэкономленные от завтраков деньги гантели, начал качаться день и ночь и, когда пришло время, всем насмешникам и родителям назло поступил в ОВОКДКУ — Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище.
В Омске жила его тетка, мамина сестра. А муж у нее был военным комиссаром в горвоенкомате. Сдав последний школьный экзамен и получив аттестат, Рудик оставил прощальное письмо родителям, сбежал в Омск и, остановившись у тетки, поступил в училище. Мама с папой приезжали в Омск, уговаривали вернуться, но он им прямо сказал, что они испортили ему жизнь и в Москву он ни за что не вернется. Тем более что его переводят на казарменное положение. Убитые горем родители вернулись в Москву ни с чем.
Папа вскорости умер от рака. Мама не вынесла горя, начала пить. Однажды меняла занавески в кухне. Табуретка под ней закачалась. Она упала. Сильно ударилась головой. Начались постоянные головные боли. Такие, что даже играть в театре больше не могла. Устроилась по блату в консерваторию преподавателем по классу скрипки. Бросила пить. Завела себе какого-то мужика, виолончелиста из оркестра под управлением Павла Когана. Но головные боли не прекращались. Ей бы по-хорошему ультразвук сердца сделать, а она таблетки глотала. Шла однажды на работу, упала и умерла в одну секунду. Разрыв аневризмы аорты.
К моменту, когда Рудик в 1988 году окончил училище, он остался круглым сиротой. Ну а сначала, став курсантом, он заделался барабанщиком в своей учебной роте. Каждая рота передвигалась по плацу под дробь барабана. В училище был свой штатный духовой оркестр. Скрипок в нем не было, и Рудик играл там на барабане вместе с другими курсантами, со старослужащими и сверчками из роты охраны. Он вообще до дрожи обожал военные марши. Не советские, а старые, времен царской армии. Училище располагалось в здании бывшего юнкерского училища, а старшие курсы проходили обучение в бывшем казачьем — офицерском. Сама атмосфера в этих зданиях была настолько пронизана героическим духом истории, что время, проведенное в этих стенах, несмотря на тяготы и лишения воинской службы, стало для Белкина самым счастливым в его жизни.
Он наизусть знал все старые воинские марши. Особенно любил «Марш лейб-гвардии Егерского полка». Белкин знал, что «Егерский марш» изначально был маршем прусской армии, сочиненным немецким композитором Генрихом Гоманом в 1813 году.
Начальство быстро заметило необыкновенный интерес курсанта Белкина к военной музыке и прилежание при исполнении ее. После окончания училища юному лейтенанту было предложено возглавить оркестр, заменить вышедшего на пенсию майора Глухова, но Белкин, который очень переживал, что не успел на Афганскую войну, хотел служить своей родине в окопах, а не в оркестре, и — отказался.
Распределили Белкина в самые что ни на есть окопы. В мотострелковый полк, расположенный в амурской тайге, в пяти километрах от китайской границы, рядом с поселком Фердюкино, где обретались в основном алкоголики, наркоманы и бичи.
Условия службы были такими, даже для офицеров, что военное училище казалось Белкину курортом. Летом — плюс тридцать. Зимой — столько же, но в минус. Резко континентальный климат. Под землей — вечная мерзлота. Учения с рытьем окопов превращались в ад. Мерзлоту взрывали тротилом.
Как-то летом при жуткой жаре проводили учения в условиях, приближенных к условиям атомной войны. Все солдаты и офицеры в костюмах ОЗК, в противогазах, с оружием, по полной выкладке должны были сделать десятикилометровый марш-бросок. После броска взвод Белкина должен был три часа лежать в болоте, имитируя засаду, пока не дали отбой газам и радиации. Задохнувшиеся бойцы сняли противогазы и увидели друг друга. У всех, включая Белкина, кожа вокруг глаз была съедена мошкóй. Мошка́ значительно меньше комара, но комар прокалывает кожу своим носиком, как шприцем, а у мошки такого носика нет. Зато полный рот зубов поострее, чем у пираньи. Мошка просто сжирает человеческую кожу постоянными укусами. И еще. Комар где присаживается, там и кусает. Чтобы укусить во второй раз, ему приходится вновь взлетать и садиться. А мошка приземляется и ползает по человеку, пока не найдет съедобное место. Белкин и солдаты все эти три часа, что лежали в болоте, нещадно лупили себя по глазницам противогазов, чтобы раздавить проползающую внутрь маски мошку. Но окуляры у противогазов в железных ободьях, и под ними ничего раздавить нельзя. Мошка концентрировалась вокруг глаз и просто выедала все, что могла, под окулярами противогазов.
В памяти Белкина навсегда остался огромный транспарант на полковом плацу. На плакате неизвестный Остап Бендер нарисовал советского солдата, у которого одна рука была в два раза длиннее другой. Солдат был в каске. В короткой руке он держал за цевье автомат, указательный палец длинной руки красноречиво прикладывал к губам. Текст гласил: «ТС-С-С-С! ДО КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЫ 5 КИЛОМЕТРОВ!»
В солдатской столовой, которую Белкин посещал время от времени как дежурный офицер, висел другой вдохновляющий плакат. На нем была нарисована тарелка с гигантской куриной ножкой, от которой полукружьями поднимался пар, превращающийся в воззвание: «БОЕЦ! ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ УКРЕПЛЯЕШЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ!» Что тщательно или нет пережевывали за обедом в их столовой бойцы, Белкину было известно. Курица, тем более куриная ножка, даже в офицерский рацион не входила, не говоря уже о солдатском.
Полк, в котором служил лейтенант Белкин, находился во втором эшелоне прикрытия государственной границы. В первом, в укрепрайоне из дотов, дзотов и рвов, непосредственно перед их зоной ответственности стояли погранцы, усиленные двумя полками — мотострелковым и танковым. Их задачей было, в случае китайского нашествия, продержаться два часа. За это время полк Белкина должен был занять оборону и продержаться следующие три часа. Офицеры в полку шутили, что, если миллион китайцев перейдет границу, первый эшелон продержится две минуты, а второй — три, в лучшем случае, четыре. То есть не позже, чем через шесть минут, Фердюкино станет частью Китайской Народной Республики.
В Омске на последнем курсе училища у возмужавшего Белкина появилась девушка, первая женщина в его жизни. Она приехала к нему в Фердюкино, чтобы навсегда связать с ним судьбу и не расставаться, пока смерть не разлучит. Лейтенант Белкин жил тогда в общежитии для младших офицеров — неказистом кирпичном бараке без горячего водоснабжения. Туалет из трех секций был один на всех, с холодным полом из кафельной плитки и дырками в полу, которые в армии и в исправительных учреждениях называют óчками.
Военные части всегда выписывали для рядового и офицерского состава обязательную программу: газеты «Правда», «Красная звезда», «Известия». В каждую роту по два-три комплекта. Поэтому хватало всем. В батальоне один комплект подшивался в Ленинской комнате, она же «красный уголок», а остальное использовалось по прямому назначению. Когда Таня приехала к Белкину, то, кроме прочих полезных вещей, привезла с собой самый страшный в СССР дефицит — туалетную бумагу. Сошла с поезда, счастливая и гордая, обвешанная, как революционный матрос, но не пулеметными лентами, а связкой рулонов туалетной бумаги.
Так они и зáжили в этой продуваемой всеми ветрами общаге, подали заявление в местный загс и ждали, когда им выделят квартиру для семейных офицеров. Однажды в туалете лопнула канализация и помещение затопило нечистотами. Стояла холодная осень. На улицу по нужде не сходишь. Пока ремонтировали трубы, офицеры положили в туалете кирпичи, чтобы перескакивать с одного на другой и таким образом достигать желанного очка. Когда Тане нужно было в туалет, Белкин вставал у входа на стреме, пока она прыгала по кирпичикам туда и обратно, держа в одной руке рулон туалетной бумаги, в другой — кастрюльку с водой, согретой на кухонной плите. Вокруг ее тоненькой шеи, как шарфик, развевалось полотенце. Однажды, поскользнувшись, она грохнулась всем телом в зловонную жижу. Белкин повел истерично рыдающую невесту в баню, на пороге которой она чуть не наступила на здоровенную крысу. Но баня в этот день была закрыта на дезинфекцию. Тогда они пошли в котельную, и там он помыл Таню горячей водой из трубы. Там же в последний раз они занимались любовью. Ничего хорошего из этого не вышло. Пока он сопел сзади, она держалась обеими руками за горячую трубу и обожгла руки. Она плакала, он чертыхался.
На следующий день, когда Рудольф был на дежурстве, Таня собрала пожитки и уехала. Больше они не виделись. Она ни разу ему не позвонила и не ответила ни на одно из его писем.
В 1992 году, после распада Союза, Белкин уволился из армии. Вернулся в Москву, примкнул к необольшевистской организации «Рабочая коммунистическая партия», которой руководил некто Ампилогов. Говорили, что в марте 1993-го Белкина будто бы видели в Сухуми в составе абхазских вооруженных формирований, штурмовавших город на российских танках. Затем, в октябре того же года, он вел толпу на штурм Останкино. Во время ночной перестрелки с «витязями» он был тяжело ранен. По выздоровлении прямо из больницы его перевезли в следственный изолятор Лефортово, где предъявили обвинение в организации вооруженного мятежа с целью захвата власти. В это время Белкин тесно общался со следователями ФСК, и после амнистии участникам несостоявшегося переворота его карьера неожиданно пошла в гору.
Чуть ли не через неделю после выхода из заключения капитан запаса (как он умудрился быть произведенным в капитаны из старших лейтенантов между допросами в изоляторе, осталось тайной, покрытой лефортовским мраком) Белкин возглавил ВИОР — Всероссийское историческое общество реконструкций.
Так его детские пластилиновые мечты воплотились в реальность. В течение следующих лет под активным и щедрым патронажем власть предержащих Белкин воссоздал многие великие битвы прошлых столетий, принесшие славу российскому оружию.
Венцом его реконструкторской деятельности стало грандиозное шоу по случаю двухсотлетнего юбилея Бородинской битвы. Для этой постановки ателье «Мосфильма» пошило тысячу костюмов для различных родов войск русской армии и тысячу пятьсот — для французской. Французы, по замыслу реконструктора, должны были иметь изначальное преимущество в живой силе и технике. Музейное оружие для тех и других, начиная от ружей и кончая пушками, было воссоздано тульской Корпорацией Калашникова. «Московский комсомолец» утверждал, что реконструкция Бородинской битвы обошлась бюджету страны дороже, чем реальная битва — бюджетам тогдашних Российской и Французской империй, вместе взятым. Воссозданную битву освятили своим присутствием президент, патриарх, министр обороны, лидеры многих государств, послы и военные атташе, аккредитованные в России.
В дальнейшем Белкин, переехавший в новый дом в Петрово-Дальнем и пересевший на заднее сиденье шестисотого «Мерседеса» с тонированными стеклами, создал и возглавил огромную сеть патриотических обществ, разбросанных по всей России — от Москвы до самых до окраин. В феврале 2014 года под видом подготовки масштабной реконструкции героической обороны Севастополя во время Крымской войны Белкин ввез на полуостров около двух дивизий вежливых «зеленых человечков», которые мгновенно организовали там «всенародный референдум», приведший к тому, что западные страны назвали оккупацией и аннексией. В апреле Великий Реконструктор с одним отрядом российского спецназа захватил уездный городок Слонявск в сердце Донбасса, что и явилось, как стали писать историки и аналитики по обе стороны фронта и через океан, спусковым крючком войны в Восточной Украине, продолжающейся по сей день.
* * *
— Итак, Юрий, что привело вас сюда? — продолжил разговор Белкин.
Алехин решил на все вопросы отвечать как можно короче и без эмоций.
— Хочу защищать русский мир.
— Похвальное желание. В каком полку служили?
— В артиллерии. Дивизион гаубиц. Сто двадцать вторых.
— Еще лучше. Но предложить вам по ВУСу пока, увы, ничего не могу. Я открою вам, Юрий, военную тайну. Сейчас на вооружении нашей армии стоят гаубицы сто пятьдесят два миллиметра, но обслуживаются они полностью российскими профессионалами, а вся артиллерия, как и танковые подразделения и приданные нам в усиление ДШБ — десантно-штурмовые батальоны, — подчиняются напрямую российскому Министерству обороны. Так что сами понимаете… Но я вам этого не говорил. Хорошо?
— Вас понял, — Алехин был готов к такому ответу. — А добровольческая армия, о которой вы говорили? Она…
— Конечно, существует, — не дал ему договорить собеседник. — У нее несколько иные функции и задачи. Мы, по существу, раскручиваем идею. Мы — оголенный нерв. Мы — телевизионная картинка, черт побери…
Белкин нервно забарабанил пальцами по столу, достал айфон, стал быстро прокручивать сообщения. Потом раздраженно бросил аппарат на стол. Закатил глаза. Потер пальцами лоб над бровями.
Алехин не вполне понимал, что происходит и почему «волшебник Изумрудного города» в должности министра обороны ДНР с такой откровенностью продолжает саморазоблачаться в его присутствии.
— Думаете, зачем я вам все это рассказываю? — словно прочитал его мысли Белкин. — Видите ли, Юрий… Я хорошо разбираюсь в людях. Всю жизнь с ними работаю. Вижу, что вы человек не только смелый, но и порядочный, серьезный и, похоже, проницательный. Более того, вы заметно отличаетесь от добровольческого контингента, с каким мы сегодня, к сожалению, имеем дело. Скажу вам как есть: этот контингент…
Тишину за окном разрезали автоматные очереди. Алехин резко соскочил со стула на пол, присел на одно колено за столом, потянулся к поясу — и вспомнил, что сдал оружие.
— Вот дебилы… — не поворачивая головы на звук, Белкин недовольно поморщился и успокаивающим жестом предложил ему подняться. — Говорил же им, вечером не беспокоить, а то потом сразу настроение ни к черту. Чувствуешь себя всю ночь, как Раскольников, который старушку убил.
Он встал, направился, слегка прихрамывая на левую ногу, к широко распахнутому окну, откинул занавеску и пригласил Алехина подойти.
— Тут у меня вид замечательный на мою собственную теперь уже стену Пер-Лашез, — Белкин показал на красную стену метрах в ста за окном. — Расстреливаем диверсантов, шпионов, мародеров, наркоманов и дезертиров три раза в неделю. Не гнушаемся чисткой рядов. Кадры решают все. Не вполне уверен, что помогает, но работаем… и, как говорится, могила исправит.
С широкого балкона второго этажа открывался замечательный вид на сад внизу и кирпичную стену, перед которой автоматчики за руки и за ноги поднимали тела расстрелянных. Двое были в майках и кальсонах, один — в черных трусах. Алехин не знал, что сказать. С таким скорым и эффективным отправлением правосудия в своей милицейской практике он встречался только один-единственный раз — в своем собственном исполнении, когда спасал жизнь Гитлеру.
— Военно-полевой суд, — будто снова угадал его мысли Белкин. — А как иначе? Мы должны уметь себя защитить. Мы — молодая республика, которая только обретает государственность. Мы уже не Украина и еще не Россия. И, похоже, никогда ею не станем… к сожалению. Половина украинских судей, если не больше, разбежались. Несколько лагерей просто открыли ворота и выпустили зэков. На свободе оказалось множество воров, насильников и убийц. Многие из этой преступной братии влились в добровольческие ряды. Система спецпроверки у нас пока еще не работает, а необходимость в кадрах высока, как никогда. Из этих троих один — мародер, двое других — драг-дилеры. Приговор я подписал вчера. Вышинский мог бы позавидовать — я прокурор, защитник и судья в одном лице, как царь Соломон. Мне достаточно взглянуть раз на морду арестованного, чтобы сразу понять, с кем имею дело. Когда я взглянул на вас, Юрий…
Оборвав фразу на полуслове, Белкин пригласил ошарашенного Алехина назад в гостиную и задернул занавеску.
— Должен вам сказать, что контингент, который прибывает из России, не многим лучше местного отребья, — продолжил министр обороны после того, как они вновь оказались за столом. — Безработные, наркоманы, бомжи, те же уголовники. Или просто дебилы, которые хотят сшибить легких денег и расплатиться по кредиту за телевизор или стиральную машину. Со времен песенки «Гренада, Гренада, Гренада моя…» ситуация в международном добровольческом движении, знаете ли, изменилась. И не в лучшую сторону. Одни только казаки с чеченцами чего стоят! Иногда я просто не понимаю, на чьей стороне эти кроманьонцы воюют. Вот Захарова убили, скоты. Пристрелили, как собаку. Большого русского писателя. Им все равно, кого и где убивать. Писателя, журналиста, политика, бизнесмена… Им человека убить, что нужду справить. Подтерся ладонью и пошел тебе же руку этой ладонью жать! Ненавижу! А что делать? Кстати, уже месяц, как в окрестностях зверствует маньяк-убийца. Два-три трупа в неделю. Дети. Изнасилованные, удушенные. Левый глаз у каждой жертвы выскоблен. Да, да! Я не шучу! Именно левый. То есть почему только левый, а не правый? Маньяк, маньяк, однозначно. Но чей? Наш или один из тех, что здесь из тюрем разбежались? Мы, конечно, пустили слух, что бандеровские агенты зверствуют, но я-то знаю… Это не совсем так. Или совсем не так, если уж быть точным в формулировках.
— А ПВО у вас тоже нет? — вдруг спросил Алехин, хотя ему не терпелось узнать, как можно больше про маньяка тоже.
— Нет, конечно. Откуда?
— А кто же, по сводкам, сбивает все эти украинские самолеты?
— Не понимаете кто? Спасибо хоть на том, что сбивают. Вся надежда на регулярные части. Но их страшно не хватает. Нам обещали широкомасштабную помощь. Понимаете, о чем я говорю? Но украинцы неожиданным ходом расстроили все планы — сами сбили гражданский борт, и детально разработанная «Барбаросса» накрылась медным тазом.
— А разве не мы сбили?
— Нет, конечно. Это киевская провокация. Ни у нас, ни у наших войск, которые тут рассредоточены, нет таких средств. Это все-таки десять тысяч метров высоты. Тут нужен ракетный комплекс «Бук». Вот у Украины они как раз в наличии имеются.
Белкин разлил остатки «Рислинга» по бокалам и предложил Алехину, не чокаясь, помянуть Захарова.
— Я знал мастера лично, — сказал Белкин печально. — Огромного таланта был человек. Настоящий патриот земли русской, хоть и еврей.
— Еврей? А мне показалось, как раз наоборот, — пожал плечами Алехин.
— Наоборот? — с улыбкой переспросил Белкин. — Антисемит, в смысле?
— Ну типа того.
— Я знаю, о чем вы. Это он для красного словца. Как наденет форму… Ну, знаете: «Как надену портупею…»
Алехин с пониманием кивнул головой.
— Одно другому не мешает, — философски добавил Белкин и продекламировал:
За все на еврея найдется судья — За волосы, нос, за сутулость. За то, что еврейка стреляла в вождя. За то, что она промахнулась.— Ваши? — спросил Алехин.
— Нет. Это Губерман. Читали?
— Не пришлось.
— И ведь писатель наш не только за идею, — вернулся к Захарову Белкин, — он ведь за честь девушки вступился, судя по вашему пересказу. Послушайте! Прямо как поэт — невольник чести! Хотя, знал бы Захаров, о какой чести идет речь, глядишь, и жив бы остался.
Белкин усмехнулся. Алехин нет.
— Это я так, без обид… констатирую только, — министр посмотрел на него долгим немигающим взглядом. — Липочка все равно уже отдыхает и нас не слышит.
Алехин взгляд выдержал и решил: каким бы ни был следующий вопрос Белкина — отвечать только правду.
— Слушайте, Жданов, а кто вы по профессии? Я же не пальцем сделанный и вижу, что вы никакой не артиллерист.
— Оперуполномоченный, — спокойно ответил Алехин. — В смысле, в прошлом. Сейчас бизнесмен. Уже давно.
— Ух ты! — воскликнул Белкин. — Такие кадры нам как раз нужны! Займетесь маньяком, Жданов?
— Если честно, то я из полиции именно поэтому ушел. Воротит меня от всего этого. Насмотрелся.
— Отлично! В таком случае, у меня есть еще лучше идея! Не хотели бы вы на время стать личным телохранителем и водителем для Лилички? Вы уже с ней познакомились. Я заметил, что вы оба друг другу успели понравиться. Мне некогда этим заниматься. И какому-нибудь троглодиту из этих… ну, вы понимаете, поручить ее никак не могу. Особенно после этого случая с Захаровым. У нее мама в Торезе. Это здесь недалеко. Дыра дырой, я вам скажу. Но Лиличка мотается туда-сюда. Жить будете здесь. На всем готовом. Самое безопасное и приятное место — во всех отношениях. Три тысячи долларов в месяц. О’кей, четыре. Ну, что? По рукам?
— Я не против, но при двух условиях, — ответил после паузы Алехин. — Первое. Мне нужен будет пропуск — такой, чтобы нас никто здесь не тормозил. Чем больше остановок, особенно на блокпостах, тем больше шансов попасть под обстрел.
— Считайте, что такой пропуск у вас уже есть. А второе требование?
— Извините, если вторгаюсь в распорядок дня, но можно изыскать возможность расстреливать наркоманов, изменников и дезертиров в каком-нибудь другом месте теперь? После сегодняшней перестрелки на заправке, я думаю, у Лилии от стрельбы будет нервный срыв.
— А вы, Жданов, психолог, я посмотрю.
— Нет, я просто бывший мент. Знаю, о чем говорю.
— Хорошо. Уговорили. Найдем злодеям другую стенку. После коммунаров на Пер-Лашез тоже больше никого не расстреливали. Ну, все теперь? По рукам?
После секундного колебания Алехин пожал протянутую вялую руку императора Наполеона Белкина.
Торез. Донецкая область. Август
— Вы представляете, Джейн, они эвакуируют сегодня население из Киевского района.
— Зачем?
— Устанавливают там среди жилых кварталов минометы, «Грады» и артиллерию! Что значит — вызываем огонь на себя.
— Кажется, я понимаю. Они пытаются ответным огнем разрушить город?
— Именно так. Так произошло уже в Спартаке и в других районах рядом с аэропортом. Как только заканчивается ответный огонь, они вызывают телекамеры, и на российских экранах появляются доказательства преступлений киевской хунты.
Сержант-ополченец Неустроев продолжал свой рассказ, слегка задыхаясь от быстрого шага. Тягаться с Джейн ему было тяжко. Сержант с первого взгляда вызвал у нее доверие. Даже внешне он разительно отличался от того добровольческого сброда, с каким ей приходилось общаться. Мягкий, почти интеллигентный. Глаза светлые, с искоркой. Из местных. Не смог уехать из-за семьи. Отправил ее в село, а сам не сумел уклониться от службы в добровольческой армии Белкина — тут или служи, или подвал местного гестапо, поведал ей Неустроев. Говорил он на чистом русском, без всякого гэканья. Ни одного матерного слова за два дня знакомства она от него не услышала. Служил сержант в комендантской роте. Отвечал за снабжение бойцов продовольствием.
Вчера они с ним ездили на передовую. Замечательные интервью взяли. Удивительные типажи. Хоть сейчас массовку с участием пиратов со шхуны Джека Воробья снимай, подумала, увидев их, Джейн.
Накануне Джейн договорилась с Неустроевым встретиться в условленное время возле почты в Торезе. Джейн приехала на автобусе. Сержант был пунктуален, пришел минута в минуту, что тоже очень понравилось Джейн. Сейчас они шли к нему домой. Пять минут от почты, сказал он. Сказал, что машина в ремонте. Сегодня починят, завтра свозит ее в Киевский район. Но сегодняшние интервью были для нее самым главным. Учительница из Счастья и ее муж, оба были свидетелями того самого трагического пуска «Бука», утверждал сержант. Муж даже снял комплекс на телефон. Правда, не сам пуск, сказал сержант. Но все равно это было безумно важно, хоть у нее уже были фотографии. А тут первые свидетели-очевидцы. Чего еще желать? Все складывалось как нельзя лучше.
Подошли к дому. Приземистый, неприметный. Окна занавешены. За углом припаркованы видавшие виды «Жигули».
— Приехали, ждут, — сказал Неустроев. — Их транспорт.
— Уже в доме? — удивилась Джейн. — Не в машине?
— Я им ключ под ковриком оставил, — сержант приложил палец к губам: — По секрету. Не надо, чтобы нас на улице видели вместе. И в такую жару в машине, сами понимаете… Задохнешься.
Он постучал в дверь три раза, словно азбукой Морзе, с разными интервалами, и поспешно открыл ее своим ключом. В сенях было темно.
— Молодец, — отдала ему должное Джейн. — Конспиратор. Такие времена.
— Не снимайте обуви, — посторонился и дал ей пройти в темную комнату Неустроев. — Пол холодный. Проходите.
Действительно, в темной комнате с занавешенными окнами было темно и прохладно, словно сыро. И странный сладкий запах сразу ударил ей в нос. Ее вдруг, в одно мгновение, охватил какой-то первобытный холодный страх, который шел из самого сердца.
Джейн не успела развернуться. Сержант крепко обхватил ее одной рукой, а второй прижал ей ко рту и носу влажную холодную тряпку. Джейн даже не успела поднять руку. Голова у нее закружилась. В глазах вспыхнул яркий свет и вмиг погас. Ноги подкосились. Все вокруг заволокло тьмой — она отключилась.
Когда Джейн очнулась, то сразу поняла, что не может встать — лежит на чем-то деревянном с привязанными растянутыми вверх, вниз и в стороны руками и ногами. Ей было трудно дышать. Весь низ ее лица от носа до подбородка был туго перетянут несколькими слоями чего-то липкого, скорее всего изоленты или скотча. Деревянный стол, на котором он была распята, стоял, по всей видимости, посреди темной комнаты с низким потолком. В ноздри вновь ударил липкий, сладковатый запах. Джейн попробовала пошевелить руками и ногами. Бесполезно. Тот, кто привязывал ее к столу, знал свое дело.
Ей безумно захотелось в туалет. Она крепко закрыла глаза, потом резко открыла их, словно пытаясь проснуться. Но это был не сон.
Глава восемнадцатая ГЕТТИСБЕРГ
Ростов-на-Дону. Август
— Значится, так, товарищи Гарькавик и Лысовой…
— Гарькавый и Лысовик, товарищ капитан.
Командир десантно-штурмового батальона 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии майор Гарифуллин еще раз сверился с бумажкой, присланной из штаба армии.
— Ну да, ну да, — замялся он. — Так точно, Гарькавый и Лысовик. В армии служили?
— В танковых войсках, — ответил Паша. — Механик-водитель Т-64.
— ПВО, — Петя был краток. — Поваром.
— Боевой опыт имеется? — продолжая глядеть в бумажку, угрюмо спросил майор.
— Имеется, — ответил за двоих Петро, имея в виду, конечно, опыт, полученный в Москве и окрестностях уже после армии и зоны.
О деталях майор расспрашивать не стал. Осмотрел их экипировку и вооружение: автоматы, броники, каски, камуфляжные костюмы. Солдаты как солдаты, только морды наглые и возрастом постарше. Для ополченцев в самый раз. Откуда у них все с собой, майор вдаваться не стал тоже. У него свое задание, у них свое. Но камоки у парочки импортные, конечно, не то слово, «не в пример», как комдив говорит по любому поводу.
О том, какое у этих мордатых задание, майор, само собой, понятия не имел. Да это его и не интересовало. Задание же у Пети с Пашей было проще некуда: добраться до Донецка, связаться с матерым уголовником Витей Гармонистом, который «держал» весь город до того, как поменялась власть, с его помощью найти бывшего мусора Алехина, похитить его и доставить в Москву. Книжник подчеркнул, что работа «ювелирная» и опасная, и пообещал за нее заплатить по высшей ставке, так что бандитам было за что горбатиться, изображая из себя пушечное мясо. Если бы майор вдруг узнал, какой была ставка, он понял бы, что потратил жизнь зря и не на то. Хотя… он и так об этом догадывался.
— Значится, так, механики и повара с боевым опытом, — еще раз окинув прикид «командированных» завистливо-беглым взглядом, заключил Гарифуллин. — Выдвигаемся на тридцати двух машинах. Пойдете с ребятами на броне. Вам — БМП номер два три один. Вон он. На первой остановке после границы, а это будет Успенка, я вас больше не вижу. Ферштейн? Моя задача обеспечить транспорт через границу. Дальше сами. Я вас не знаю. Вы меня не видели. Я понятно излагаю?
— Так точно, товарищ майор, — опять за двоих ответил Петр.
— Ну и отлично. Стартуем через полчаса, в двенадцать ноль-ноль. У прапорщика Ферапонтова — вон тот лысый, — получите сидушки, чтобы жопу, по ходу, не отбить. Счастливого пути.
Майор отвернулся и бодро зашагал в начало колонны. Друзья-напарники направились к прапорщику за «сидушками», не особо понимая, о чем идет речь.
Краматорск. Донецкая область. Август.
It’s gotta be rock and roll music If you wanna dance with meIf you wanna dance with me… — сквозь наушники «Битлз» оглушали его больше, чем рев «Ми-24», который несся на предельной скорости и так низко, что почти касался макушек деревьев.
Капитан морской пехоты США в отставке Эндрю Михал, или Андрий Михальчик, украинский эмигрант в четвертом поколении, последний раз летал на такой машинке под Фалуджей в Ираке в 2003 году. Эндрю сидел за штурвалом. Вторым в кабине был сам командующий АТО на Донбассе генерал-майор ВСУ Степан Дронов. В грузовом отсеке сзади два спецназовца из отряда «Дельта У», командиром и главным инструктором которого и был американец.
В бронике, разгрузке, со штурвалом в руках и автоматом возле сиденья, в обрезанных черных кожаных перчатках, с непокрытой коротко стриженной серебристой головой, теперь уже Андрий — Эндрю выглядел человеком войны, сделанным из одних прямых углов, будто его собрали из гигантских деталей «Лего». Даже голова у него, с прической бобриком, была не круглая, а квадратная. Индивидуальности его прямоугольному лицу с тяжелым квадратным подбородком придавали шрамы, словно реки или горные гряды на карте, рассекающие лоб, щеки, бритые виски и упрямые, сжатые губы. Следы ранений, полученных в Афганистане, Ираке и Косово.
В возрасте тридцати восьми лет Андрий резко оборвал военную карьеру и вышел в отставку. Случилось это в год, когда у него родился первенец сын и умер отец, от которого он унаследовал среднего размера техасскую компанию Michalchik Foods, специализирующуюся на продаже мяса и мясопродуктов в соседнюю Мексику. Почти столетний семейный бизнес пережил все кризисы и потрясения — от Великой депрессии 1930-х до войны за рынок с аргентинскими «мраморными баронами» 1970-х. «Говядина, сынок, — это продукт, который в мире никогда не выйдет из моды, — сказал как-то его немногословный отец, ветеран Вьетнамской войны Грег Михальчик, добавив не без черного юмора: — Как и пушечное мясо. Из дураков».
Отец знал, о чем говорил. А насчет дураков он, конечно, кривил душей, уговаривая сына не связывать свою судьбу с морской пехотой. Его прадедушка по материнской линии, старший лейтенант кавалерии конфедератов в Техасской бригаде Джеймс Р. Бервелл, и его пять братьев — все погибли при Геттисберге. Семья традиционно гордилась такой памятью, однако у Грега было свое мнение по поводу того, что приобрела бы семья, останься все братья в живых. Когда еще мальчишкой он спросил у отца о его украинских корнях, тот отшутился, сказав, что происходят они от Тараса Бульбы в исполнении Юла Бриннера. «Отчего же тогда дед тебя назвал не Тарасом, а Грегори?» — шутил в ответ Эндрю, но отец только махал рукой. У отца было мало времени заниматься с детьми, и в семье с Эндрю по-украински старалась говорить только его бабушка, когда он навещал ее, приезжая из их родного Аргайла в Хьюстон во время каникул. Бабушка пела ему украинские песни, а однажды, когда Эндрю исполнилось двенадцать лет, подарила ему на день рождения настоящую вышиванку, которую он стеснялся носить. Еще она готовила смешной суп Borsch из свеклы, томатного соуса и мяса, который он, давясь, ел, только чтобы не обидеть ее.
Однако чем старше становился Эндрю, тем явственней пробивалось в нем то украинское, что было в нем заложено природой на генетическом уровне и что бабушка бережно пыталась взрастить и сохранить.
В Косово, шесть лет назад, Эндрю познакомился с тогда еще полковником Степаном Дроновым, который руководил украинским подразделением в составе миротворческих сил. Дронов был русским. Украинским владел, но без крайней необходимости говорить на нем не пытался, тем более что в украинской армии оперативный язык до последнего времени как был, так и оставался русским. Степан и Эндрю общались в переписке по-английски, причем Дронов обращался к нему, называя по-русски — Андреем.
Когда Россия захватила Крым, вышедший в отставку капитан морпехов Эндрю Михальчик связался со Степаном, занимающим к тому времени высокий пост в украинском Генштабе, и предложил свои услуги в качестве военного эксперта. Получив добро, он передал свой процветающий бизнес во временное управление брату жены и в конце марта прилетел в Киев. На полигоне под Киевом он тренировал украинских спецназовцев так, как его в свое время тренировали в Военно-морской академии США в городе Аннаполис, в Мэриленде, — до двадцать седьмого пота.
В середине апреля, когда Россия начала отправлять через границу боевые группы «ополченцев» и «добровольцев», генерал-майора Дронова назначили командующим АТО на Донбассе. В июле, после того как ВСУ добились первого крупного успеха — выбили сепаратистские бандформирования из Славянска, а затем и из Краматорска, штаб АТО был размещен в этом городе. По предложению Дронова Андрий с отрядом в составе роты натренированных им спецназовцев присоединился к нему в Краматорске.
Сейчас они летели на suicide mission[46], как сказал Андрий, с генералом и двумя добровольцами из его ПЭО — первый, сержант Саша Поплавский, спецназовец израильской армии. Еще мальчишкой он перебрался с родителями из солнечной Одессы в еще более солнечную Хайфу. Саша представить не мог после десяти лет войны с террористами в Израиле, что ему доведется продолжить эту войну и на бывшей родине. Вторым был поляк украинского происхождения Мачек Голота, капрал спецназа польской армии, с которым Эндрю познакомился в Афганистане. Вместе они попали в мясорубку под Кандагаром. Чудом выбрались. Полякам, как и американцам, пришлось нелегко в войне с Талибаном.
Эти трое и составляли костяк отряда быстрого реагирования, расквартированного в Краматорске.
Сын генерала Дронова — Василий пошел по стопам отца и служил лейтенантом на погранзаставе Успенка на границе в Донецкой области. От линии Краматорск — Волноваха до самой границы территория на штабной карте была закрашена красным цветом и по большей части контролировалась сепаратистами. Застава в Успенке уже больше двух недель, по существу, находилась в оперативном окружении. Украина еще только концентрировала силы и средства для контрнаступления на позиции «повстанцев» и пока не могла деблокировать окруженные заставы.
Накануне вечером застава подверглась нападению сепаратистов с тыла и массированному артиллерийскому обстрелу с территории России. Двадцатитрехлетний Василий, единственный сын генерала, был тяжело ранен. Парня нужно было срочно эвакуировать на вертолете, но все полеты были запрещены Генштабом. Террористы были вооружены российскими ПЗРК. За последние недели четыре вертолета и два военно-транспортных самолета ВСУ были сбиты в разных точках над Донбассом — потери в живой силе исчислялись сотнями.
— I must save Vasya, — сказал Дронов. — If I could I would fly alone. I can’t put the lives of my subordinates at risk.
— Well, Machek, Alex and I are volunteers, — ответил Андрий. — Technically we’re not your men. We volunteer for the mission. Do you guys?[47]
Мачек и Саша молча кивнули.
— And I can fly the chopper myself, — добавил Андрий. — I have a helicopter pilot license and I flew the fucking thing in Iraq[48].
При каких обстоятельствах он flew the fucking thing, Андрий не рассказал. Генерал вопросов не задавал. Он знал о том, что Михальчик может управлять вертолетом, и втайне надеялся на то, что тот вызовется сам. Это был единственный шанс спасти Васю.
Дронов сказал, что, если им повезет, все должно пройти удачно. Он все еще надеялся получить у русских «коридор».
На сборы отвели полчаса. Пока спецназовцы укладывались, генерал выехал на своем джипе без охраны из расположения части на противоположную окраину Краматорска, достал из бардачка обычный телефон, из кармашка на молнии в кошельке вытащил новую SIM-карту, вынул оттуда же клочок бумаги с номером без имени и набрал его.
— Боцман, это Бедуин, — спокойно и отчетливо произнес Дронов, когда мужской голос ответил. — Можешь поговорить?
— Простите, кто говорит? — после затянувшейся паузы ответила трубка.
— Бедуин, — повторил Дронов. — Рязанка. Грозный. Вокзал.
Дронову показалось, что он слышит дыхание собеседника.
— Простите, вы ошиблись номером, — наконец вымолвил тот.
Командующий Южным военным округом российских вооруженных сил генерал-майор Андрей Незабудько узнал голос своего однокурсника по Рязанскому десантному училищу, с которым они вместе, тогда под позывными Боцман и Бедуин, во время штурма Грозного попали в окружение на железнодорожном вокзале в 1995-м. Тогда оба еще служили в одной армии. Вскорости после Первой чеченской Дронов переехал в Киев. Принес присягу Украине. Теперь двух бывших боевых товарищей, как линия фронта, разделяла государственная граница, через которую Незабудько сегодня отправит железный кулак из танковых и десантных частей общей численностью до двадцати тысяч человек. Вторжение первого эшелона этой группировки в Украину должно было начаться в течение нескольких следующих часов.
— Спасибо, ты настоящий друг, — успел сказать Дронов. — Привет всем и поцелуй сам знаешь кого.
— И ты от меня, — почти шепотом ответил Незабудько и сбросил звонок.
Им так хотелось много чего спросить друг у друга и много о чем поговорить. Но разговор на этом закончился. «Коридор» Дронов не получил. Даже спросить не смог. Впереди была война.
Дронов прекрасно знал, что этой авантюрой с вертолетом он совершает должностное военное преступление и может загреметь под трибунал. Знал также, что рискует жизнями лучших своих людей. Как и знал, что, окажись они в такой ситуации, он бы не задумываясь пришел на помощь. Васю нужно было вытаскивать. Перед отлетом Дронов дал команду своему начальнику охраны капитану Глушко сообщить об «угоне» вертолета в Киев, только если они через три часа не вернутся. Глушко хотел лететь с ним, в первый раз матерился при генерале, но потом подчинился.
Между тем они уже подлетали к Успенке. Пока без приключений.
Небо вокруг заволокло дымом. Андрий сверился с картой.
— One minute to landing[49], — отрапортовал он.
Мачек, Саша и генерал передернули затворы АКСУ. У каждого с собой был также ПБ. В кабину перед взлетом загрузили восемь «мух», две снайперские винтовки — винторез и СВД, пулемет ПКМ, коробку с дымовыми шашками РДГ-2Б, коробку с «лимонками». И носилки.
Из четверых только генерал знал, что АКСУ в армии называют «ксюхой». Он нежно прижимал автомат к груди, пытаясь не думать о том, что он скажет своей Ксюхе, Ксении, если…
Дымовые шашки точно не понадобятся, подумал Эндрю, все кругом и так в дыму. Он посмотрел на часы. Полет длился уже больше часа.
— We have twenty minutes on the ground if we gonna keep it a three-hour tour![50] — прокричал он генералу и остальным, когда посадил вертолет на поляну перед горящей, как нефтехранилище, заставой.
Эндрю не выключал двигателя. Мотор тарахтел, пропеллер разгонял дым, обращая его в смерч, и, казалось, раздувал пожар еще сильнее. Генерал и Саша выпрыгнули из грузового отсека, Андрий — из кабины, а Мачек остался сидеть на пороге с открытой дверью и пулеметом в руках наизготовку.
У них оставалось двадцать минут, чтобы отыскать Васю и других выживших. И потом, если найдут, еще как минимум час на то, чтобы вернуться назад. Если долетят. Сюда летели зигзагами на высоте от трех до десяти метров. И скорость была минимальной, чтобы уверенней управлять машиной на таких низких высотах. И Эндрю нужно было время, чтобы привыкнуть к управлению. Он обещал, что назад полетят быстрее.
Ростовская область. Август
— Давайте, хлопцы, налягаем на кашку! — густым басом призывал прапорщик Семенов, наваливая по два половника пшенной каши с горохом подставляющим миски танкистам. — Когда еще горяченького поедим? Дальше будет один сухпай. Налягайте, пацаны. И за чайком. Сахару кому сколько влезет. Я сегодня добрый.
Полевая кухня повара третьей и четвертой рот Семеныча, как звали его танкисты, считалась лучшей в бригаде. Никто так не варил борщ, как Семеныч, наполовину украинец — по матери. И мясо у него в борще всегда было нежное и сочное, пальчики оближешь. Иногда он баловал не только офицеров, но и остальных сослуживцев котлетками. Как в ресторане. Даже в полевом лагере под Ростовом. Чай у Семеныча был всегда крепкий и настоянный. А кофе — черный и густой. В чай прапорщик часто добавлял травок — мяту, чабрец, тимьян. Чай с лимоном в армии вообще никто не подавал, а у Семеныча случалось. Замкомроты Труфанов, по прозвищу Трюфель, весь округлый и лоснящийся, как самовар, утверждал, что Семеныч так вкусно готовит, «потому что не ворует». В это трудно было поверить. Повар отнюдь не выглядел скелетом и всегда хитро улыбался в свои раскидистые, как у Буденного, усы.
— Чаек сегодня особенный! — зазывал Семеныч. — Мичуринский. Со зверобоем и душицей. По три кружки на душу. Всем хватит.
Танкисты и подходили по три раза, а он разливал и разливал. Третьей роте 6-й Ченстоховской танковой бригады в составе отдельного ДШБ предстояло пройти всего около сорока километров и через Успенку выйти к Бойковскому. Сопротивления не ожидалось. Пограничная застава украинцев возле Успенки была подавлена огнем и должна уже находиться в руках ополченцев. Ближайший укрепленный вражеский рубеж предполагался в ста километрах — в Волновахе. Легкая прогулка. Блицкриг, как пошутил за офицерским завтраком Трюфель.
Наконец заморили червячка, стали собираться. Колонна выступала через двадцать минут. Семеныч начал сворачивать кухню. Через час приедет «ЗИЛ», подвезет до колонки. Там бачки с мисками, кружками, ложками помыть, и — в Ростов. Приказа выдвигаться в Донецк пока не поступало. Бригада дальше на сухпае пойдет.
Семеныч слил остаток каши и чая на землю, закрыл баки крышками, вытер руки и лоб. Улыбка слетела с его лица.
— Ну, хорошо вам просраться, хлопчики, — еле слышно и совсем другим тоном сказал он себе под нос. — Будет вам и блиц, и крик, и в рот компот.
Успенка. Донбасс. Август
Застава напоминала Брестскую крепость. Все было разрушено, горело и дымилось. Земля на десятки метров вокруг была выжжена и покрыта, как язвами, глубокими дымящимися воронками.
Нашли шесть тел. Все в форме украинских пограничников. Василия среди них не было. Он и остальные или скрылись, или их подобрали и увели нападавшие. Бой был серьезный. Дронов обошел каждую развалину, пробежал по дороге вокруг части. Втроем с Эндрю и Сашей они прошерстили весь окрестный лес и поле. Мачек с пулеметом в руках охранял вертушку. Время летело. Поиски продолжались. Андрий взглянул на часы. Стоянка продолжалась уже двадцать две минуты. Никто ничего не спрашивал. Все ждали решения генерала.
Тот достал мобильный, вновь набрал номер сына. Звонок не прошел.
— Поехали! — рыкнул генерал, пытаясь перекричать рев мотора, и махнул рукой с автоматом в сторону вертолета. — We are done here, guys. Let’s go![51]
Пока под прикрытием Мачека добежали до вертушки, прошла еще минута. Генерал влез в грузовой отсек последним, держась за руку Саши. Перед тем как закрыть дверь, он оглянулся еще один, последний раз. Вертолет взлетел.
У Успенки пролетели прямо над российской бронеколонной.
— Майк, Майк, прием! — генерал вызвал по рации артиллерию. — Сплошные осадки, сплошные осадки! Прямо сейчас!
Это был прямой приказ открыть заградительный огонь из всех имеющихся средств. Генерал успел дать координаты, скорость и направление колонны, прежде чем граната, пущенная из «мухи», задела хвост вертолета и вывела из строя второй пропеллер. Высота была около десяти метров. Машину закружило, как в вихре, и вынесло над березовой лесополосой, срезая верхушки, на линию электропередач. Там вертолет задел провода, снес опору и рухнул на землю, только чудом не взорвавшись.
Андрий соскочил на землю первым. Застонал от боли, упал, перевалился на спину. Понял, что у него выбита коленная чашечка. Задержав дыхание, одним резким движением руки вправил ее на место. И только потом закричал от боли, вскочил и, подпрыгивая на одной ноге, бросился к двери грузового отсека. Но не успел коснуться ручки, как дверь открылась сама. Двигатель выключился при ударе, но винт еще продолжал крутиться по инерции.
Из отсека вывалился Мачек. Сразу же развернулся к двери и принял генерала у Саши с рук на руки. Тот был без сознания. Андрий подхватил генерала под мышки, Мачек — за ноги. Пока они вдвоем с Мачеком бегом переносили Дронова на безопасное расстояние, Саша выбрасывал из отсека автоматы, гранатометы, пулемет и носилки.
Вертолет взорвался за секунду до того, как Саша успел выпрыгнуть сам. Машина горела уже минуты три, когда Андрий, коротко перекрестился, отвернулся от разгорающегося пламени пожара и осмотрел генерала. Тот пришел в себя и тихо стонал.
— Andrey, I don’t feel my legs, — наконец, выговорил Дронов настолько спокойно, насколько возможно. — My back is broken.
— Don’t worry, Stepan. You just had a bad fall. Will get you to hospital. You will be alright. General, Sasha is gone[52].
Внешних ранений у генерала Андрий при беглом осмотре не обнаружил, но два или три ребра с левой стороны, скорее всего, были сломаны. Он через брючину вколол генералу в ляжку буторфанол, от болевого шока. Дронов не слышал последних слов. Он был без сознания.
С дороги, метрах в тридцати от падения вертушки, за лесополосой слышался нарастающий рев моторов и лязг. Не встречая сопротивления, российская бронеколонна медленно продвигалась в сторону Бойковского.
* * *
— Землячок, закурить не будет?
Конопатый ефрейтор вопросительно смотрел на Пашу из-под каски.
— Мы не курим, братан, — за двоих ответил Петя.
— Это правильно, — ефрейтор провел рукой по лицу, стряхивая пыль, и ухмыльнулся. — Здоровенькими помрете, — и безо всякого перехода задал следующий вопрос: — А вы откуда такие красивые?
— Из штаба округа, — просветил любопытного стрелка Павел и отвернулся.
— А, ну то-то я гляжу, — тут же стал развивать тему конопатый. — Какой на вас прикид крутой. Там выдали? — теперь он обращался к Петру.
— На продскладе, — Петя тоже отвечал односложно, не изъявляя особого желания вступать в разговор.
— Ага. Щас. Рассказывай.
Ефрейтор полез в карман, вытащил мятую пачку, поднес ко рту и попытался губами ухватить сигарету. В этот момент БТР сильно тряхнуло, и пачка выпала у него из руки и улетела куда-то вбок.
— Вот черт, — беззлобно выругался солдат и счел нужным пояснить: — Последняя. Была.
Паша с Петей промолчали.
— Не, а все же, — не отставал прилипчивый вояка, — где такие камоки получили?
Петя смерил его взглядом:
— Сказано ж тебе, в «Военторге». В Биробиджане.
— А это где?
— В Америке, б… — Петя начал раздражаться. — Ну чего пристал?
Ефрейтор недоверчиво покрутил башкой.
Насчет Америки Петя соврал только наполовину. Камуфляжи на обоих и вправду были загляденье. Американские. Даже лейблы не китайские, а родные. Материя легкая, с пропиточкой, зеленая, но не крокодилья, а с пустынной искоркой-печалькой — типа ветераны-ветераны. Друзья купили их по наводке Гитлера в магазине «Охотник» на Большой Садовой в центре Ростова.
— Это идеальная комбинация для охоты на крупного рогатого врага, — пошутил владелец лавки Никон Приземистый, слывший на всю округу спецом по охотничьему и рыбачьему прикиду. — По сезону просто один в один. Под мышками и в паху окошки в сеточку — яйца не преют и комарики не духарятся.
— Хау мач?[53] — спросил Петя.
— Двести, — хихикнул Никон. — Сач мач[54], ребятки.
— Рублей? — попытался скрыть удивление Паша.
— Золотых, — засмеялся Никон. — Как в стране дураков.
— Щас позырю, остались ли золотые, — Петя вытащил из кармана ТТ и бережно положил его на конторку. — По ходу, не найду.
— Ребята, все нормально, — потускнел и попятился Никон. — Мы же вчера переоценку сделали. Сто пятьдесят.
— Тебе налоговую сейчас организовать или через полчаса? — Паша полез в карман.
— Я все понял, мужики, вы охотники-профессионалы. Профессионалам скидка — пятьдесят процентов. То есть сто.
— За оба? — Петя, который в юности занимался боксом, понял, что соперник в нокдауне и можно добивать.
— Ребята, честно, если я продам оба вместе слитно за сто, я наварю всего двадцать. Это прямой путь к разорению.
— Мы пошутили, все нормально, — успокоил его Петя и отсчитал сто пятьдесят долларов: две мятые засаленные бумажки по пятьдесят, две по двадцать и десятку.
Никон хотел было посмотреть одну купюру на свет, но решил подождать, пока «охотники» не выйдут из магазина.
У поворота на Успенку колонна остановилась. Майор Гарифуллин по рации всем передал: «Земля», — вышел из своего «Тигра», подошел к БМП номер 231 и знаками показал прикомандированным сойти с брони.
Друзья, пошатываясь, слезли на землю и начали выбивать друг из друга пыль, толстый слой которой покрывал их с ног до головы.
— Все, мужики, дальше сами! — успел крикнуть Гарифуллин, прежде чем его оторванная голова сбила Пашу с ног.
Тот упал на спину, увлекая за собой друга.
Кругом все взрывалось и горело. Самая мощная современная система залпового огня «Смерч» работала по наводке Дронова аж от самого Мариуполя. Внутри танка метрах в тридцати БК сдетонировал с такой силой, что гигантской силы столб огня вырвал и подбросил башню, как игрушечную. Она с лязгом и скрежетом грохнулась на БМП, на броне которого еще минуту назад мирно пылились Петя с Пашей и приставучий ефрейтор с товарищами. Десантников, которые оставались на броне, держась за рамы, и след простыл — словно испарились. БМП охватило пламя. Наконец, что-то взорвалось внутри и у бронемашины. Башня танка съехала с ее брони, как крышка с гигантской кастрюли, перевернулась и накрыла обезглавленное тело Гарифуллина.
Обстрел прекратился так же неожиданно, как и начался. Остановившаяся колонна еще взрывалась и горела, а Петя с Пашей коротким перебежками, падая при каждом взрыве и вновь понимаясь, передвигались в сторону какого-то одноэтажного строения на левой стороне дороги, напоминавшего коровник. До Успенки оставалось чуть больше километра.
Пока Мачек с Эндрю отлеживались в лесополосе рядом с не приходившим в сознание генералом, дым от горящей колонны полностью закрыл дорогу. Воспользовавшись этим, спецназовцы стали поспешно собираться: повесили на себя по паре РПГ каждый, а Мачек еще умудрился подхватить пулемет. Они переложили генерала на носилки, бросили ему в ноги три автомата и, сгибаясь под тяжестью оружия и генеральского тела, в стелящемся дыму перебежали дорогу позади колонны. Не успели они добежать с носилками до коровника, как начался новый обстрел.
Один из снарядов разорвался недалеко от уткнувшихся в землю спецназовцев. Обдал их жаром взрывной волны и присыпал землей.
Когда обстрел стих, Андрий повернулся на бок, потряс головой, протер от грязи глаза и понял, что контужен. В киселе перед глазами плавали черные мушки. Ему показалось, что тело Мачека, который, падая, накрыл собой генерала, словно парило в воздухе рядом с ним. Но это был обман зрения, следствие контузии. Мачек лежал без движения. Генерал, наоборот, пришел в себя и, задыхаясь, пытался освободиться от безжизненного тела поляка. Андрий встал на колени, помог Дронову сдвинуть тело, перевернул поляка на спину и понял, что Мачек убит. Все лицо его было в крови. Он не дышал. Пульса не было. Из шеи торчал длинный зазубренный кусок метала.
— Ни х…я себе командировочка, — выдохнул Петя, когда обстрел прекратился. — Я, б…дь, на это не подписывался. Пусть Книжник сам здесь воюет.
Во время обстрела друзья сидели, прислонившись к кирпичной стене, на соломе, перемешанной с навозом, закрыв уши руками. Земля подпрыгивала, стены тряслись, потолок из шифера местами осыпался. Коровы, не переставая, мычали хором, подпевая обстрелу и в такт тряся головами.
— Это да, — Паша постучал себя по ушам. Обстрел кончился, но коровы продолжали реветь, и ему казалось, что этот звук шел откуда-то прямо изнутри его головы. — Петя, надо как-то, б…дь, выбираться отсюда. До Донецка при таком раскладе мы ни живыми, ни мертвыми не доберемся.
— Какой, на хер, Донецк? На х…ю я видал эту, б…дь, Курскую дугу!
— Hey, guys, I need a hand, — в лучах проникающего сквозь отвалившуюся дверь света стояла, покачиваясь и направив на них автомат, высокая фигура с широченными плечами. — Get the fuck up and help me[55].
Бандиты не поняли, что говорил неизвестный, но как-то сразу осознали, что зря они свои автоматы побросали по дороге. И оба вместе сообразили, что соваться в карманы за другими стволами на глазах у этого Терминатора будет точно «не в тему».
Пока они поднимались, Андрий покачнулся. Земля поплыла у него под ногами. Ему пришлось опереться о дверной проем, чтобы не упасть. Он был уверен, что перед ним русские и использовать свой ломанный украинский было бессмысленно, тем более когда сознание почти ускользало от него.
— Hurry up, motherfuckers, — вымолвил он. — Hurry up for fuck’s sake[56].
— По-английски говорит, — шепнул Петя, поднимаясь и тряся головой.
— Откуда ты знаешь? — удивился Паша, тоже поднимаясь и отряхиваясь.
Андрий не слышал, что они говорили. Из ушей у него текла кровь.
— Американец, — ответил Петя шепотом. — Фак, б…дь, фак один.
Американец выглянул на дорогу, увидел, что на месте, где чадила расстрелянная колонна, признаков жизни больше не было, и, поведя автоматом из стороны в сторону, показал бандитам на выход.
— П…ц, — прошептал Петя. — Пашка, на расстрел ведут.
Они медленно, держась за руки, вышли из коровника. Эндрю подтолкнул их стволом автомата в спины.
— Он, по ходу, американец! — осенило Пашу. — Они, по ходу, и расх…ячили колонну! Если они американцы, то мы с тобой, Петя, украинцы. Они же за нас! А он думает, мы русские, б…дь! А мы, по ходу, нет! Мы, б…дь, ук-ра-ин-цы, Петя!
— Мы украинцы! — подхватил Петя. Подняв руки вверх, он медленно развернулся, понял, что американец не слышит, и что есть силы закричал, как футбольный фанат на матче, размахивая руками с растопыренными пальцами и покачивая корпусом из стороны в сторону, словно вот-вот и погонит волну по стадиону. — Ук-ра-и-на! Ук-ра-и-на! Мы — украинцы!
Эндрю не слышал их и тщетно пытался по губам определить, что эти пленные русские солдаты кричат ему. Единственное, что ему сейчас было нужно от них, — это помочь дотащить генерала до коровника и спрятать его там. Потом он мог или пристрелить их, или заставить нести раненого, но куда? Они летели сюда больше часа. Это больше ста километров. Генерал не доживет. Да и он тоже. Нужен транспорт. Рация осталась в вертолете. Нужно проверить телефон, а пока что самое главное — втащить Дронова в безопасное место.
— Ще не вмерла України ні слава, ні воля, — воспользовавшись замешательством американца, запел Паша, приложив руку к сердцу, сначала неуверенно, а потом все громче и громче: — Ще нам, браття українці, усміхнеться доля…
Дальше он слов не знал и стал повторять первые две строчки, только еще громче. Петя попытался подпеть другу, но он вообще не знал слов и просто что-то мычал, для убедительности кивая головой.
Американец не мог понять, что происходит. Русские по непонятной причине начали петь.
— This is fucking crazy! — закричал он, выплевывая изо рта сгусток крови. — Shut the fuck up![57]
В этот момент Эндрю понял, что к нему вернулся слух, потому что вдруг расслышал слабый голос, доносящийся с обочины из-за спин русских.
— Andrey, Andrey! — сиплым шепотом пытался кричать генерал. — They are Ukranians! Ukrainians!..[58]
Дронов с первого взгляда понял по форме, что они не русские и даже не сепаратисты.
— Ukrainians? — переспросил пораженный Андрий. — Fucking Ukranians, are you?[59]
— Yes, yes![60] — заулыбался Петя во весь рот.
Он всунул руку в нагрудный карман, чтобы достать паспорт, и понял, что нужно на ощупь выбрать один из двух — русский или украинский. Но как?
Петя закрыл глаза. Попытался вспомнить хоть какие-то слова бабушкиной молитвы, но не смог — и достал из кармана синий украинский паспорт. Выдохнул с облегчением и протянул его Эндрю. Тот раскрыл паспорт. Полистал и, повернувшись к Дронову, показал тому документ. Генерал кивнул, и американец бросил паспорт назад Пете. Затем показал автоматом на генерала на носилках и, сконцентрировавшись, выговорил по-украински с сильным акцентом:
— Несіть його в будинок.
Коровы затихли, успокоились, и беглецы провели свой военный совет. Известие о гибели Саши и Мачека просто добило Дронова. Он сам хотел бы сейчас умереть, и каждое слово давалось генералу с трудом. Поэтому, когда он спросил, кто они такие и как попали сюда, а Петя ответил за двоих: «Долго объяснять, дядя», — генерал не стал вдаваться в подробности. Нужно было сначала выбраться, а потом уже разбираться. Бандиты поняли, что перед ними большой начальник, возможно генерал. Генерал убедился, что перед ним — свои. От телефонов, что у Дронова, что у Михальчика, толку не было — вне зоны покрытия. Скорее всего, русские, продвигаясь в глубь территории, глушили украинскую мобильную связь.
План дальнейших действий Дронов с Михальчиком обсуждали уже на английском. Бандиты внимательно слушали, стараясь не пропустить ни одного слова или, скорее, понять хоть одно. Идея была проста — пробиваться к Волновахе по пересеченной местности. Главным на повестке стоял вопрос транспорта. Можно было добыть гражданскую машину в Успенке, но как проехать больше шестидесяти километров, не минуя позиции и блокпосты сепаратистов? На этот вопрос Дронов ответить не мог. Русское наступление вообще спутало все карты. Новый приступ боли был таким сильным, что генерал опять отключился.
Андрий выдал бандитам по автомату. Теперь все были вооружены. В разгрузке у Эндрю было четыре снаряженных магазина. У двух украинских «патриотов» не было ни одного запасного. Еще в их арсенале было четыре «мухи», пулемет с одним магазином, два пистолета ПБ, шесть гранат Ф-1, «Глок» и ПМ. На пять минут боя, подумал Андрий. Травма спины у генерала была более чем серьезная. Дронов вообще не чувствовал ничего ниже пояса. Да и тело Мачека нужно было вывозить к своим. Саша сгорел в вертолете. С самого начала это была миссия камикадзе. Андрий не мог понять, как он на это согласился. Он мог и не соглашаться, но… тогда Дронов улетел бы один. Да и какой смысл сейчас об этом рассуждать? Оставалось только идти в Успенку, найти любую машину и пробиваться с боем — другого не дано.
Андрий поднялся, жестами показал бандитам, что уходит.
— You, guys, stay here and take care of the general until I return, — сказал он, тщательно выговаривая каждое слово. — Ok?[61]
— Yes, yes! — друзья с понимающим видом закивали головами, сами удивляясь пробившемуся вдруг у них разговорному английскому. — О’кей, о’кей, о’кей!
— Дивіться за генералом, — повторил Андрий, сам удивившись проснувшемуся у него дару к родному языку. — Я скоро повернуся.
Петя и Паша переглянулись, не веря себе, что они, оказывается, теперь и по-американски все понимают.
Андрий пододвинул ПКМ ногой поближе к Павлу, вышел на улицу и отправился в Успенку. На окраине села он наткнулся на два зеленых «уазика» с георгиевскими ленточками на антеннах…
— Fuck you, motherfuckers[62], — капитан Корпуса морской пехоты США Эндрю Михал, потомок офицера Третьего арканзасского пехотного полка Техасской бригады и Тараса Бульбы в исполнении Юла Бриннера, поднял автомат и принял свой последний и решительный бой на окраине Успенки, его украинского Геттисберга.
Петя, Паша и очнувшийся генерал слышали стрельбу со стороны села. Затем взрыв гранаты. Через несколько секунд все стихло.
Глава девятнадцатая «ГЕРОЯМ СЛАВА»
Успенка. Донецкая область. Август
— Ребята, бросьте меня, — проговорил Дронов, оглядев обоих украинцев в американской форме. — Бегите отсюда. Я сам здесь разберусь.
Васенька, скорее всего, погиб. Дронов-старший его не спас. Всех троих его боевых друзей убили из-за него. И сам он не жилец со сломанной спиной. Дронов попытался расстегнуть кобуру, но пальцы не слушались.
Петр вколол ему очередную дозу обезболивающего. Генерал затих.
— Ну что, линяем, Петя? — неуверенно произнес Паша. — Генерал наш, по ходу, не жилец…
Петр молчал. Он вдруг остро, до мурашек, почувствовал… не то что жалость к генералу, приступ патриотизма или, там, чего-то в этом роде. Он сам не мог объяснить… Последний раз что-то похожее накатило на него на зоне, когда дома, в Украине, умер отец, а его не отпустили на похороны. Паша посмотрел другу в лицо и увидел на его грязной от пыли щеки влажную дорожку.
— Понял, — сказал он. — Остаемся. Воры своих не бросают.
— Какой он тебе, на х…й, свой? — словно опомнившись, рассмеялся, шмыгнув носом, Петя. — Где он и где мы, чувырло?
— Мы-то, по ходу, еще живы, — неуверенно буркнул Паша и пошел к двери «срисовать поляну».
* * *
Вторая колонна ДШБ, усиленная еще одной танковой ротой, остановилась, поравнявшись с догорающими остатками первой. Замыкали колонну четыре грузовика с десантом. Получив подробный доклад о разгроме, командование приказало отправить тридцать шесть раненых и тела двадцати восьми убитых, включая майора Гарифуллина, на двух «Уралах» в сопровождении БТРа в Ростов. Ехавшие в грузовиках десантники пересели на броню.
Батальону было приказано временно расположиться в Успенке и ждать дальнейших указаний. Те, кто планировал операцию, не ожидали, что погода вдруг испортится и налетит «Смерч». Тактическая обстановка на украинском фронте срочно требовала корректировки и новых вводных.
На шоссе остались дымящиеся остовы сожженной техники. Остатки двух колонн прогромыхали мимо коровника в сторону Успенки.
«Все, я больше не могу, — подумал лейтенант Андрей Харитонов, командир танка Т-72 номер 624, на котором первые две цифры башенного номера были аккуратно закрашены белой краской. — Обосрусь сейчас, честное слово!»
Он приказал мехводу остановить машину возле коровника. Если не считать обстрела, это была уже вторая вынужденная остановка за последние несколько часов по той же причине — у всего экипажа понос, словно отравились чем-то. А ведь ничего, кроме как за завтраком у Семеныча, не пили и не ели. О чае с «травками» не вспоминали.
«Нет повести печальнее на свете…» — вспомнил лейтенант какой-то недавний смешной анекдот, но подходящая случаю рифма не складывалась. Нужно было вылетать пробкой из танка, одновременно расстегивая и спуская штаны.
Выбравшись со скоростью звука из танка, экипаж едва добежал до стены коровника, где уселся в рядок орлами. Двигатель не выключали.
— Сидіти, хлопці! — Паша со стороны выглядел, как партизан из старого советского кино вроде «Смелые люди», который застал фашистов в интересном положении. — Відповідаємо на запитання, пацани.
Пацаны не знали, что делать. Продолжать сидеть? Или с голой жопой бросаться на двух вооруженных громил? Все трое, не сговариваясь, выбрали первое.
— Скільки пального? — спросил Петро. — Надовго вистачить?
— Полный бак почти, — ответил командир. — Можно штаны надеть?
— Не варто, — отрезал Петя, дав короткую очередь у того над головой из АКСУ. — А то розмови не вийде. На скільки кілóметрів вистачить?
— До Киева не доедете, — ответил лейтенант. Тон у него получился обиженным. В такой позе не до геройства.
— А до Волновахи?
— Хватит с головой. Дотуда шестьдесят кэмэ, а у нас… то есть у вас… на двести хватит.
— Пашо, братан, ти ж танкістом був, водієм? — спросил Петро.
— Так точно.
— Прокатишь?
— Нет базара, брат.
Бандиты разрешили танкистам встать, забрали у них телефоны, а у лейтенанта прихватили еще и пистолет Стечкина.
— Що у вас у танку? — спросил Петр лейтенанта, жестом приглашая того подняться.
— Боекомплект — тридцать семь артиллерийских выстрелов, — отрапортовал лейтенант, застегивая штаны. — ПКТ. К нему две тыщи патронов. Пулемет НСВТ башенный. К нему триста патронов. Ну, еще автоматы АКМС и СПШ и Ф-1. А Стечкина вы у меня забрали.
Петр переглянулся с Павлом. Тот утвердительно кивнул.
— А що це з вами з усіма? — спросил Петя. — Від обстрілу?
— Сами не знаем, — ответил лейтенант. — Может, обстрел. Может, съели чего. Весь день всех крутит. В других экипажах такая же херня.
— До речі, про з’їсти, — оживился Паша. — Щось маєте?
— Полмашины сухпая, — вступил в разговор наводчик, успокоившись, что их, похоже, не будут убивать.
— Да, и телефоны вы у нас забрали, — спохватился лейтенант. — Здесь все равно глушилки работают, не прозвонишься, а у меня там жены телефон, мамы.
Посоветовавшись, бандиты отдали лейтенанту его телефон. Два других оставили себе.
— Яке у вас завдання? — органично входя в роль «кума», спросил Петя.
— Тактическая была выйти сегодня к Бойковскому, завтра на рубеж Волноваха — Краматорск. Но вот теперь новая вводная — ждать приказа в Успенке. Да, вот еще что, — вспомнил лейтенант, — у нас при артобстреле башню заклинило. Так, что вряд ли стрелять из пушки сможете и из ПКТ тоже. Он с пушкой спаренный.
Действительно, Паша с Петей сразу не сообразили, что башня танка была повернута на сто восемьдесят градусов назад.
— Зрозуміло, — закончил разговор Петя. — Ну, ми рушатимемо, поки ваші не повернулися. Допоможіть лише пораненого до танка затягти.
Танкисты с готовностью вынесли из коровника генерала и с трудом опустили его в люк наводчика справа от башни. Пришлось броник снимать, чтобы поместился. На генералов лючок не рассчитан. От переноски Дронов в сознание не пришел. Тело Мачека привязали к раме за башней. Танкисты показали, где проволока лежит. Павел тоже едва втиснулся в люк мехвода внизу. Напоследок лейтенант объяснил Пете c Пашей, как доехать до Волновахи:
— По шоссе прямо до Бойковского, а там по указателям найдете, не промахнетесь.
Когда бандиты с генералом отъезжали, экипаж приветливо махал им вслед, как старым друзьям. Ну, подумаешь, танк у них угнали. Зато живы остались.
Краматорск. Донецкая область. Август
Президент Степаненко со свитой из генералов на четырех вертолетах и с группой прикрытия из восьми «Ми-24» прилетел из Киева в штаб АТО в Краматорск. Информация была противоречивая. Сначала было доложено, что Дронов исчез, потом — что его похитили. Затем Дронов объявился на границе, сообщил о российском вторжении, дал точные координаты, скорость и маршрут движения головной колонны русских и с тех пор на связь не выходил.
В новеньком пустынном камуфляже и с воспаленными от бессонницы красными глазами, президент временно принял командование АТО на себя. Пытался связаться со своим российским коллегой по прямому проводу. Не получилось. Ответили, что Вадим Вадимович «отдыхает» и когда освободится, перезвонит.
Министры обороны и иностранных дел двух стран, в отличие от президентов, связались друг с другом и обсудили ситуацию. Российские коллеги утверждали, что понятия не имеют ни о каком «вторжении», и попросили «не нагнетать», добавив, что за действия «ополченцев ДНР» не отвечают.
— Мы принципиально не ввязываемся в гражданскую войну на Украине, — отметил ледяным тоном российский министр иностранных дел Ковров. — Это внутреннее дело Украины, суверенитет которой мы всесторонне уважаем.
— Во-первых, не «на Украине», а «в Украине». А во-вторых… — украинский министр крепко выругался по-русски и бросил трубку.
— Дебилы, б…дь, — озабоченно повторил свою любимую мантру Ковров и передал трубку помощнику.
Представитель Украины в ООН уже потребовал срочного созыва Совета Безопасности. Сайты новостных агентств и газет уже пестрели фронтовыми сводками.
Президенту Степаненко было доложено, что после ракетного обстрела передовых формирований противника в районе Успенки продвижение врага приостановлено. Две украинские танковые дивизии уже выдвигались на линию главного удара. Авиация приведена в полную боевую готовность. В стране объявлено военное положение и начата мобилизация всех мужчин от восемнадцати до сорока пяти лет.
В 16.00 президенту доложили, что передовой отряд противника все-таки прорвался к Волновахе, на окраине которой несколько минут назад был замечен первый российский танк, и посоветовали Верховному главнокомандующему возвращаться в Киев. Президент отказался.
— Тут і зараз вирішується доля України! — ответил он под камеры во время прямого включения по всем телевизионным каналам страны. — Я залишаюся на бойовому посту.
Волноваха. Донецкая область. Август
Бандитский экипаж на русском танке во главе с не приходящим в сознание украинским генералом Дроновым между тем миновал несколько населенных пунктов, напугав до смерти прохожих и редких автомобилистов, и без особых помех приблизился к Волновахе. По пути Паша раздавил шесть блокпостов сепаратистов, а Петя обстрелял из башенного пулемета две машины, пустившиеся было в погоню. К этому времени информация о прорвавшемся передовом танке противника уже была доведена до украинских артиллеристов.
На пересечении улиц Центральной и Юбилейной снаряд, пущенный прямой наводкой из гаубицы, просвистел в сантиметрах от башни и угодил в здание Русского драмтеатра имени Фадеева, в котором, к счастью, никого не было. В театре был выходной. Пропустив старуху с козой, Павел свернул в ближайший двор, раздавив доминошный стол и опрокинув железную горку на детской площадке. Остановил танк, выключил двигатель, вылез, поднялся к башне и прокричал на ухо Петру:
— Кажется, дальше ехать нет смысла. Нас срисовали. Мы ж на русском танке!
— У нас же пушка назад, — неуверенно возразил Петя.
— У саранчи тоже коленки назад.
— Ты прав, — согласился Петя. — Как, б…дь, я об этом забыл!
— Ты про пушку?
— Нет, про кузнечиков, б…дь!
У Павла, однако, созрел план.
Взяв у Пети один из русских телефонов, он позвонил куму в Одессу. Кум работал в налоговой инспекции. Петя мог слышать только то, что кричал в трубку Паша.
— Юрчик, це я, Павло! Та з якої, на хер, Москви?! Ну і що, що номер ростовський?! Я зараз у Волновасі! У Вол-но-ва-сi, б…дь! Слухай, я не знаю, скільки на номері грошей. Якщо номер вимкнеться, подзвони Ніні в Москву, попроси її терміново, б…дь, дуже терміново покласти на номер гроші! Якщо вимкнеться й не включиться, мені п…дець, Юрчик!.. П…дець!
Через пару минут номер выключился. Еще через десять — Нина положила на него деньги. Паша снова набрал кума. Объяснил ему, как мог, ситуацию. Тот связался с братом жены, начальником аппарата Одесской обладминистрации, тот — с ветераном-афганцем, кавалером ордена Красного Знамени и бизнесменом Борей Барабашем, тот — с президентом спортивного канала Витей Самойловым, тот — с бывшим чемпионом мира по боксу, а ныне мэром Киева, а тот… В общем, через двадцать две минуты им перезвонили из штаба АТО. Ни Павел, ни вырвавший у него трубку Петя, ни звонивший министр обороны, ни его заместитель, переходя с русского на украинский, на мат и обратно, никак толком не могли понять друг друга, пока Дронов, для которого Паша предусмотрительно открыл люк, чтобы тот окончательно не задохнулся, не пришел в себя и не взял трубку.
Через несколько секунд генерал говорил с Верховным.
Москва. Август
«…Пока киевская хунта, развязавшая войну на Донбассе против собственного народа, обвиняет нас во всех смертных грехах, ее президент-узурпатор награждает нацистских палачей орденами за массовые убийства мирных жителей», — закончила свой гневный комментарий Мария Комарова, официальный представитель МИД России.
На этом месте репортаж «России-24» плавно перетек в Штаб АТО в Краматорске, где президент Степаненко награждал именным оружием двух отличившихся патриотов. Видеосюжет был заимствован у Пятого канала украинского телевидения. Специальный корреспондент «России-24» в Киеве Андрей Кленов, однако, сопроводил видео собственным комментарием: «Военные преступники, матерые, объявленные в розыск уголовники Петр Гарькавый и Павел Лысовик из организации “Правый сектор”, запрещенной в Российской Федерации, обвиняются российской военной прокуратурой в массовых убийствах мирных жителей города Счастье Донецкой области во время этнической чистки населенного пункта после вероломного захвата его нацистскими карателями из “Правого сектора”».
Комментарий продолжался в том же духе. А камера крупным планом давала лица застенчиво улыбающихся Петра и Павла в офицерской, с иголочки, форме с двумя сверкающими вороненой сталью самозарядными пистолетами, разработанными в свое время Карло Береттой.
Боксер и Айртон продолжали улыбаться в камеру, но в головах у них уже беспокойно крутились мысли о том, как жить дальше. Как ни крути, обратного пути в Россию больше нет. Прощай, Москва, прощайте, Книжник с братвой. Родина приняла Петра и Павла и сделала их героями. Отсюда и надо теперь плясать. Только пока не понятно, в какую сторону…
— Твою мать! — Книжник запустил в настенный экран пустым бокалом и промахнулся.
Налил себе ледяного виски в другой бокал и запил горсть таблеток, уложенных стопочками на столе, и к месту вспомнил строки из любимого Галича: «Я гляжу на экран, как на рвотное». Затем включил компьютер и на украинских сайтах мгновенно отыскал научно-фантастическую историю о том, как спецназовцы Гарькавый и Лысовик, отличившиеся в свое время в Ираке, Афганистане и Косове, в ходе секретной миссии угнали российский танк последней модели и добыли информацию, благодаря которой удалось предотвратить наступление российских войск на востоке Донецкой области. Руководил операцией лично командующий АТО генерал-майор Степан Дронов. За успешно проведенную операцию Дронов представлен к высшей государственной награде — званию Героя Украины. Также к званию Героя Украины были представлены украинские спецназовцы Андрий Михальчик, Александр Поплавский и Мачек Голота. Посмертно. Двое других отличившихся спецназовцев Гарькавый и Лысовик награждены именным оружием. В ходе операции генерал Дронов получил тяжелые ранения и срочно отправлен в одну из лучших американских клиник. В конце сюжета было также сказано, что сын Дронова, лейтенант пограничных войск Василий Дронов, был тяжело ранен в результате бандитского нападения на заставу Успенка. По последним сведениям, раненый герой, «попавший в лапы захватчиков», в настоящее время находится в военном госпитале Ростова-на-Дону, и уже идут переговоры о его возвращении в Украину. Далее следовали сводки о боевых действиях и потерях с обеих сторон вооруженного конфликта.
Ни в одном из репортажей, конечно, ничего не говорилось о том, что Айртона с Боксером поначалу тоже было представили к званию Героя, но СБУ в кратчайший срок успела сделать домашнюю работу и героев «пробить». За полчаса до награждения президенту было доложено о деликатных обстоятельствах дела.
— Чи винні були хлопці, чи ні, та згідно з вашою доповіддю однаково виходить, що строки свої вони відсиділи й на волю вийшли із чистою совістю, — заметил помощнику президент. — А те, що вони до останнього часу займалися у Росії продажем питної води, так це не злочин. Вони вчинили як справжні патріоти. Перейшли лінію фронту, урятували життя Дронову. Угнали російський танк — прямий доказ агресії.
— Російська пропаганда скористається моментом і викладе весь їхній підспідок, — предупредил помощник.
– І нехай! — заключил президент. — Хто їм тепер повірить? Після всього.
Однако со званием Героя решили повременить до следующих подвигов, а оружием именным — наградить, что и было сделано. Помощник оказался прав. Кремль отмалчиваться по этому поводу не стал.
В сетях, на чатах и форумах украинские активисты весь последующий день умирали со смеху над нелепым враньем российской пропаганды о том, что оба отличившихся в блестящей операции спецназовца были известными российскими уголовниками.
«Не реготав так із тих пір, як вони зробили з Архенюка головоріза на чеченській війні», — написал на своей страничке в Фейсбуке один популярный киевский блогер.
Книжник тоже долго не мог уснуть в эту ночь. Только ему было не до смеха. Ни лекарства, ни виски не помогали.
— Ну почему, почему никому никогда нельзя доверять?! — ворочаясь с боку на бок, бормотал. — Даже собственному сыну! Даже самым отмороженным и самым преданным козлам!
* * *
После часа кряхтений и вздохов на смятых простынях Евгений Тимофеевич, наконец, задремал. По мудрому зэковскому поверью, спящий заключенный… свободен. Да, да! Ведь это не какой-нибудь зэка Симонов, номер С-412, статья 102-я, часть третья, улыбаясь детской улыбкой, спит на сплющенной и вонючей подушке. Это его исколотое татуировками и подточенное циррозом дряблое тело. Сам Женя Симонов сейчас на свободе — жмурясь на летнем солнышке, пьет он пенное пивко в парке Горького и пытается познакомиться со студенткой из Твери, и все-то у него отлично. И вся камера это знает — без нужды не шумят, и вот даже пахан неодобрительно смотрит на нерасторопного шныря, уронившего алюминиевую кружку: дайте человеку побыть на свободе, суки. И вскрикнет бедный зэк, проснувшись, и навалится на него горькая реальность, но вспомнит сон и… улыбнется щербатым ртом.
В компании со сном к Книжнику пришли воспоминания. Мозг, скинув половину каждодневных забот, очистился и стал ярко и в цвете вытаскивать из завалов памяти дела и делишки прошлых лет, которые он обстряпывал сам, не нуждаясь в услугах дебилов с мозгом размером в пулю калибра 9,2 мм.
Все самое главное в жизни он сделал сам. И первые деньги, не рубли и копейки, а Деньги с большой буквы, он добыл сам. Не последнее дело для Вора, как бы презрительно ни трактовали их старые традиции.
Память подхватила его и унесла в далекие 70-е, в Ивдельскую колонию ИК-62. В памяти навсегда запечатлелся розовощекий плотный грузин, пришедший этапом отбывать срок за хищение госсобственности. Грузина звали Геннадий Ганелия, и недавно коронованный Книжник поджидал его с нетерпением. Еще три недели назад получил он маляву о том, что этапом из Москвы идет «сладенький», с которого кормилась чуть не вся Бутырка — и воры и «кумовья».
Судя по тому, что на новоприбывшем были теплые шерстяные носки, а из-под робы выглядывал кашемировый свитер телесного цвета (чтоб не бесить охрану), — на этапе он тоже особого горя не знал. Цеховик, фарцовщик, расхититель — в зоне всегда праздник. Да и любой другой, оставивший на воле хорошую «жировую прослойку», — радость в бараке. Вокруг такого несчастного сразу вскипает бурная коммерческая деятельность — определяются состав и частота посылок, организуются передачи денег родственниками «сладенького» в общак на воле и многое другое. Если этот процесс происходит стихийно или в лагере по какой-то причине отсутствует смотрящий — бедолагу просто рвут на части.
Но в этом случае повезло обоим — Гена оказался щедрым, но духовитым, а Книжник к тому времени уверенно держал зону. Он сразу понял, что чрезмерный прессинг может только навредить — была опасность серьезных конфликтов с грузинскими ворами, которых всегда было непропорционально много и которые присматривали за соплеменниками, заступались за них. Книжник выбрал единственно верную тактику — он приблизил к себе расхитителя госсобственности и отправил маляву в Москву, чтобы братва разузнала побольше о том, кто такой этот залетный и чем он дышал на воле.
У Книжника уже тогда была репутация вора мозговитого, который книжки читать не брезгует. Поэтому никто не удивился, когда Женя начал брать уроки грузинского языка у Ганелия.
В обмен на приличный взнос в общак Ганелия был продвинут в хлеборезы, шестерки его не трогали, посылки для братвы приходили регулярно, срок катился ровненько, и уже неспешно собирались документы на УДО, как вдруг с воли залетает письмо-бомба. Верный человек сообщил Книжнику, что его новому опекаемому судом вменялось хищение неслыханной по тем временам суммы — двести двадцать четыре тысячи рублей, из коих родному государству осужденный не вернул ни копейки.
Огромные дома Ганелия в Зугдиди и Сочи были конфискованы, хотя адвокаты доказывали, что они были построены еще дедушкой подсудимого со стороны жены. Судьба же наличных денег следствием и судом так и не была установлена. У зэка свои методы ведения следствия, и зачастую они куда более эффективны, чем у следаков.
— Слушай внимательно, не блажи и не перебивай, — однажды Книжник вызвал Ганелия на разговор. — Ты был в руках государства и смог деньги удержать. Молодец. Но теперь ты в руках воров, а это совсем другая песня. Надо поделиться, Гена. Можно на худой конец в ювелирке. Тс-с-с-с… Я ведь попросил не перебивать. Про то, что денег нет, мы с тобой говорить не будем, — мне это как-то даже не к лицу будет: я не опер и не прокурор. Думай до завтра. Если не договорились — в понедельник у тебя будет первое нарушение режима и можешь забыть об УДО, в среду вместо кухни пойдешь в промзону, а в пятницу… Про пятницу пока не будем. И да — больше уроков грузинского у нас с тобой пока не будет. Думай, зэка Ганелия.
Вечером воскресенья Гена пришел в занавешенный угол барака, как теперь бы назвали — офис Книжника, постучал в деревяшку нар, поднял войлок и зашел внутрь…
Что ж, вроде бы все устаканилось и правильно срослось. Восемьдесят косарей наличными в сто- и двадцатипятирублевых купюрах были закопаны на один метр в могилу Зураба Ганелия (1899–1975) на городском кладбище Зугдиди. Больше, заявил Гена, у него нет ни гроша.
Теперь Книжнику следовало принять целый ряд непростых решений — посылать ли людей в Зугдиди или ждать конца своего срока? Если посылать — кидать ли эти деньги в общак или придержать? И самое главное — что делать с грузином? Совершенно очевидно, что если следствие доказало двести двадцать четыре тысячи, то реально украдено в четыре-пять раз больше. Значит, надо прессовать дальше.
Прессовать Ганелия по-настоящему почему-то не хотелось. Мысль об общаке пришлось оставить: о вливании такой суммы сразу узнает клан грузинских «воров в законе», определят источник, и будет нежелательная свара — «славяне нашего раздели» и прочее. В итоге Женя переправил в столицу подробные инструкции, и в Зугдиди уехал Семен Дурак, преданный охранник и дальний родственник. Дураком его прозвали за отсутствие страха и сильное заикание.
Под шестью плитами, плотно втиснутыми в обрамление черного камня, был песок. Из песка Семен выкопал три коробки белой пластмассы размером с шахматную доску. Две коробки были замотаны по шву синей изолентой, а одна просто закрыта. Во все три проникла влага, но купюры оставались годны. В открытой оказалось двадцать шесть тысяч, а в замотанных — по тридцать.
Невообразимые деньги. Книжник потерял сон. Он понимал, что разрулить эту историю нужно очень деликатно: Ганелия провел уже прилично времени в лагере, пообтерся и приобрел даже подобие авторитета, особенно среди кавказцев — ломать его сейчас будет непросто. В то же время очевидно, что бабла у него «немеряно», что могила отца была чем-то вроде кошелька для непредвиденных расходов и что главные бабки… Где-то рядом? Или нет?
Книжник возобновил уроки грузинского, и хотя прежних отношений уже не было, вору-психологу важно было общение. Он уже неплохо натаскался в разговорном грузинском, но продолжал практиковаться вокруг простых тем: «мама — папа — семья». Подолгу он рассказывал о своей вымышленной семье, заставляя Гену поправлять его и незаметно расспрашивая его по-грузински о его собственной семье. Так он постепенно узнал, что старший Ганелия был директором заготконторы в городе Гегечкори и переехал в Зугдиди после того, как склад и бухгалтерия очень удачно сгорели дотла вместе со всей отчетностью.
— А мама?
Оказалось, что она умерла от рака еще в конце 60-х.
«Если мать похоронена в Гегечкори — отчего было не спрятать деньги в ее могиле, раз уж у Гены такая страсть к могилам предков?» — резонно размышлял Книжник, который с логикой, в отличие от закона, дружил. Постепенно Женя пришел к убеждению, что основные деньги именно там — на кладбище неизвестного ему городка Гегечкори в Грузинской ССР.
По весне Книжник откинулся. К удивлению братвы, в Москве он не объявился — сказал, что хочет оттянуться в Сочи, куда вызвал Семена на машине. Могилу Семен нашел сразу — она копией повторяла памятник в Зугдиди. Было видно, что архитектурный ансамбль памятника относительно недавно подвергся реконструкции, и это дало Книжнику надежду — именно при переделке можно хорошо запрятать клад. Уже через час Семен наткнулся совком на металлическую цепь. Копать вдоль нее пришлось довольно долго. Другой конец цепи был приварен к внушительных размеров алюминиевому двуручному бидону с крышкой на защелках. Бидон еле дотащили до машины, Книжник сел за руль и глубоко задумался, а набожный Семен побежал приводить в порядок могилу. Светало…
— Деда! Деда! Ты чего так долго спишь? — Леночка вскарабкалась на постель и ладошкой водила по его щетине на щеке, как по щетке.
Старик очнулся, помолчал, собрался с мыслями и вздохнул.
— Да так, егоза… вспомнил кой-чего. Собери-ка мне вот лучше эти бумаги с пола.
За завтраком, состоявшим из овсяной каши, двух яиц вкрутую и полбокала «Роберта Бернса» с таблетками, Евгений Тимофеевич пересилил себя и не стал включать телевизор. Он бы не удивился, увидев по ящику мусора Алехина в генеральской форме, обвешанного георгиевскими ленточками, как рекламный «Бентли» в «Крокус Сити».
Глава двадцатая ЛОГОВО ЗВЕРЯ
Донецк. Август
Всю ночь напролет не могли заснуть. Даже не пытались. Было воскресенье. Его редкий выходной. В полдень оторвались друг от друга. На завтрак — яичница. С ветчиной и помидорами, как он любит. Кофе. Не допив кофе, снова оказались в постели. Наконец, покачиваясь, вышли из дому. Она уговорила его сходить с ней в Третьяковку. Держались за руки. Так и дошли до метро с переплетенными пальцами, останавливаясь через каждые сто метров и целуясь. По-настоящему. Жарко. Не отрываясь. День был хоть и майский, но уже солнечный и теплый. В метро было прохладней. На эскалаторе — даже очень. Она стояла на ступеньку выше. Эскалатор длинный. «Я замерзла», — вдруг сказала она. Он обнял ее, прижал к себе крепко-крепко. Так и приехали к дежурной будке внизу, обнявшись. Тут же, не сговариваясь, прыгнули на эскалатор, что шел вверх. До дома от метро уже не шли, а бежали, и… Не вылезали из постели до следующего утра. Он встал в шесть часов, побрился, надел форму, достал из нижнего ящика платяного шкафа пистолет, засунул его за пояс сзади, вернулся в спальню, поцеловал ее спящую. Лена притворилась, что спит. Спит, а у самой на лице улыбка. Окно открыто. Сквозь прозрачные, легкие шторы с шепотом утреннего свежего ветерка проникает мягкий весенний солнечный свет. Вместе с запахом черемухи…
Как давно это было. Словно не с ним. Совсем в другой какой-то жизни. Он боролся с воспоминаниями, как мог. Но Лена и девочки всегда были рядом. Он слышал их шаги, голоса, смех. Никто не может так хихикать, как маленькие девчонки. Будто птички щебечут. Он не видел их мертвыми и представить не мог. Только живыми. Сейчас этот терпкий густой аромат тогдашней черемухи шел, словно от подушки, и заливал всю комнату вокруг. Он протянул руку. Никого. И опять нестерпимо жарко и душно.
Алехин повернулся на живот, перевернул подушку, уткнулся в ее короткую прохладу лицом. Кондиционер не работал. Электричество во всем районе отключили еще вечером. В открытое окно слышна была далекая канонада. Липа сказала, что каждую ночь в районе аэропорта обстрелы. Одни стреляют, другие отвечают. «Грады», пушки, минометы. И так до утра. В целях безопасности Белкин запретил пользоваться подстанцией. Бак с дизельным топливом опустел еще в июне, когда белкинские ополченцы захватили Донецк. Вдруг бомбежка или обстрел, а тут — под боком — резервуар с горючим.
Алехин снова перевернулся на спину и тут же уснул. Джетлаг брал свое. Лена шла впереди с каким-то военным. Он знал, что это она, даже несмотря на рыжие волосы. Почему, кстати, рыжие? Алехин ускорил шаг, но окликать не стал. Что она делает здесь, на Донбассе? Приехала за ним? А девчонки с кем? И что это за военный? Он уже был так близко, что услышал их голоса. Военный размахивал руками. Что-то оживленно рассказывал. Она смеялась. Ну точно Лена. Кто же еще? До них оставалось меньше десяти метров, когда они остановились у приземистого одноэтажного домика. Военный одной рукой взял Лену за локоть, а другой — отворил дверь без ключа. Она была не заперта.
— Лена! — крикнул Алехин что есть силы. — Не входи туда!!
Она не услышала его и вошла. Алехин бросился бегом за ними. И вдруг почувствовал, что движется, как в замедленной съемке. Он едва отрывал ноги от земли, словно на них были свинцовые колодки. Военный медленно повернулся, увидел его, улыбнулся и зашел за Леной в дом, захлопнув за собой дверь. Со спины офицер казался ему знакомым. Но лица его Алехин не узнал. Когда они скрылись внутри, Алехин был уже в двух шагах и тут с удивлением увидел, что перед дверью на пороге сидит девочка лет десяти в синем платье. Откуда она взялась? Еще секунду назад на крыльце никого не было… Девочка сидела к нему спиной и что-то негромко напевала чистым голоском, раскачиваясь из стороны в сторону в такт мелодии.
— Девочка, чей это дом? — остановившись, спросил запыхавшийся Алехин.
— Мой! — девочка крикнула гортанным чаячьим голосом и обернулась.
Лицо у нее было бледно-голубое, словно изо льда вырезанное. От нее веяло холодом. Оба глаза, каждый крест-накрест, были заклеены желтым скотчем…
Алехин с криком проснулся. Вскочил на ноги. Подбежал к окну. Обстрел продолжался. Черное небо на горизонте за стеной Пер-Лашез подсвечивали всполохи, как отражение далекой грозы.
— И давно у вас маньяк орудует?
— Да как война началась. Дети стали пропадать. Мальчики и девочки. Находят потом, один, два, три трупа в неделю, и у всех один глаз выколот. Люди, особенно бабы, такие страсти рассказывают, не приведи Господь. В селе рядом с Иловайском старушка одна живет. Как Ванга, все предсказывает. Войну предсказала. Сказала, что Крым через пять лет утонет. На дно пойдет. А про это… Говорит, дьявол это. Люцифер, говорит. Говорит, его детская кровь питает… Докторша приезжала из Москвы. Целый детский сад с собой забрала, пока дьявол не извел, сказала. Откуда они в Москве узнали?
Сергей с Липой ехали в центр города. Ей нужно было сначала в парикмахерскую, а потом в другое место на маникюр. А затем уже в Торез к маме. Таким вот нехитрым выдался первый рабочий день на Донбассе у сыщика Бульдога, преступника Алехина, миллионера Хорунжего и бизнесмена Жданова: поработать личным водилой и охранником у проститутки Липы.
Белкин, как и обещал, выдал Алехину два пропуска — один на машину, другой личный. У Алехина остались две фотографии из тех, что распечатал в своем ателье Гитлер, когда снимал его на военный билет. Вот и пригодились. Личный пропуск был похож на ментовское удостоверение. Корочка красная, блестящая. Золотыми буквами вытеснено: «Вооруженные Силы ДНР». Внутри через обе стороны разворота шла волнистая черно-оранжевая георгиевская лента. Фото Алехина. Звание, фамилия и инициалы — капитан Жданов Ю. П., подпись Белкина и гербовая печать с двуглавым орлом.
Белкин спросил, не против ли Жданов ездить на своей машине — ростовским номерам больше доверия. Жданов был не против. В левый угол лобового стекла над торпедой он приклеил изолентой заламинированный пропуск на листке плотного ватмана: «ВЕЗДЕ». Золотыми буквами наискосок на сине-черно-красном поле, с пересекающей его георгиевской лентой, с номером, подписью и печатью. Оба документа сделали в течение получаса в канцелярии штаба, который располагался в левом крыле главного здания в поместье Каметова.
У Липы в Торезе жила мама. Война подбиралась все ближе и ближе. Липа решила перевезти маму во дворец. Белкин не возражал, только в том случае, «если мама не будет сидеть у него на голове».
— Рудик, ты же знаешь, что мама туда не залезет, — рассмеялась Липа. — Она же инвалид.
Рудик потрепал ее по щеке, одобрительно похлопал Алехина по плечу, как генералиссимус Суворов гренадера перед походом через Альпы, пожелал им обоим хорошего дня и отправился в город на «заседание Совета министров», не забыв вручить Алехину смартфон «Самсунг» с двумя номерами на карточке — его и Липы. Они не смогли проверить, работает телефон или нет. Сигнала не было.
— Ничего у этих бездарей не работает! — посетовал Белкин, прощаясь. — Эти министры, это их временное правительство — достали меня уже дальше некуда. Один — бывший организатор наркопритона с судимостью, другой — до войны супермаркет охранял. Еще есть мойщик окон из Ростова и рекламный продюсер-педераст из Питера. Вывести бы всю шайку во двор да и шлепнуть! Все руки не доходят…
Белкин уехал на «Тигре» с БТРом охраны. Заседание не состоялось. Все смотрели телевизор.
Утром российские войска перешли границу. Государственный департамент США сделал заявление. Войска НАТО по всему периметру российской, украинской и белорусской границ приведены в полную боевую готовность.
В полночь по московскому времени состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН. Президент Степаненко ввел в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию. Полчаса назад объявили, что идет «запланированный» телефонный разговор президента России Вадима Вадимовича Пухова с президентом США Ребеккой Шогрен. Российское телевидение всячески подчеркивало, что разговор состоялся по просьбе американской стороны. Все томились в ожидании результатов. Что сказала обаятельная хозяйка Белого дома своему кремлевскому коллеге, что пообещала, чем пригрозила, осталось тайной за семью печатями, но уже через два часа Белкину дозвонились два комбата вооруженных сил ДНР и сообщили непонятную информацию с блокпостов на главных дорогах: российские бронеколонны и транспорты с пехотой и десантом приостановили свое продвижение в глубь Донбасса, а некоторые механизированные части разворачиваются и двигаются назад в сторону российской границы.
— Твою мать! — ударив кулаком по столу, тихо сказал сам себе Белкин. — Почему нас не предупредили?! Кукловоды хреновы!
Уже неделю министр обороны ДНР не получал никакой информации из Москвы — после того как дал интервью о британском самолете, который сбили ополченцы.
Через час президент Пухов появился в прямом эфире и заявил, что Россия проводит военные маневры в Ростовской области, вблизи границы с суверенной Украиной. «Наших войск на Украине нет, — в который раз, как заклинание, повторил президент. — Мы не несем ответственности за действия ополченцев. Мы, наоборот, стараемся делать все возможное, чтобы дипломатическими усилиями потушить разгорающееся пламя гражданской войны на востоке Украины».
Всю ночь не смыкавший глаз в ожидании вестей с фронта Белкин впал в бешенство. Еще через час он совершил неожиданный и почти безумный шаг: сам пригласил журналистов CNN и BBC и сказал, что Россия «сливает Донбасс», а президент Пухов «пляшет под американскую дудку».
— Зачем мы вообще здесь воюем, держим оборону, самолеты сбиваем? — заявил Белкин в конце интервью.
Через несколько минут эта фраза звучала уже во всех теле- и радиорепортажах, перепечатывалась всеми агентствами и газетами мира.
* * *
— Кто-нибудь может, в конце концов, закрыть пасть этому мудаку, а еще лучше зашить ему рот навсегда?! — воскликнул в сердцах президент Пухов, с раздражением переключив CNN на BBC, где опять был тот же Белкин с тем же самолетом. Вадим Вадимыч выключил телевизор совсем и велел помощнику больше его сегодня не беспокоить.
Пухов вел здоровый образ жизни. Он не курил и не пил. Ни «Джемисон», ни «Роберт Бернс», ни даже «Столичную». Поэтому нервы вне эфирного времени у него были ни к черту.
— Вот ведь сука, мразь, лесбиянка х…ва! — никак не мог после разговора с госпожой Шогрен успокоиться российский президент. — Ну откуда у них эта запись? Кто это мог сделать? Конечно, мы скажем — фальшивка. Будем все отрицать. Но осадок-то останется.
В кабинете, после того как помощник вышел зашивать навсегда рот Белкину, не осталось никого, кроме президента, но при всем своем раздражении он не повышал голос.
— Все, абсолютно все, к чему ни прикоснись, имеет глаза и уши, — бормотал он. — Нет, они не посмеют это опубликовать. Не посмеют. Это же не в их интересах. Они не могут позволить себе потерять Россию навсегда. Как надежного партнера…
Пухов улыбнулся, выпил стакан теплого «Боржоми», расслабился и решил переключиться на другие дела, чтобы больше не думать об унижении, которое испытал во время телефонного разговора с коллегой. Он нажал на столе клавишу интеркома из слоновой кости, как на приборной панели незабываемого «Газ-21» и… попросил принести ему досье Симонова Е. Т.
* * *
Белкин вышел на улицу, по дороге к машине дал три коротких и злобных интервью российским журналистам, сел в «Тигр» и приказал водителю, седоватому прапорщику Емелину, ехать назад в штаб, то бишь в поместье ККК.
На кругу, на пересечении Югославской улицы и улицы Олимпиева, возле заправки «Торнадо» «Тигр» Белкина взлетел на воздух. Взрыв радиоуправляемого фугаса, заложенного в канализационный люк по маршруту следования, был такой силы, что многотонная машина перевернулась в воздухе два раза, прежде чем приземлиться возле образовавшейся гигантской, словно от падения метеорита, воронки. Когда потрясенный Белкин вылез с белым как мел лицом из покореженной бронированной двери и сделал два неуверенных шага в сторону, пуля калибра 7,62 мм, пущенная с крыши соседней пятиэтажки, угодила ему между глаз. Снайпер с позывным «Желудь» был точен. Как в феврале на Майдане.
По дороге Алехин с Липой беспрепятственно проехали три блокпоста: два — ополченцев, и один — российских десантников. Ополченцы загорали на травке. Десантники, голые по пояс, играли в волейбол. Откуда-то совсем издалека раздавались частые разрывы. «Как в Чечне, — подумал Алехин. — На “Град” или “Ураган” похоже».
Война приближалась. Надо было торопиться.
— Вот смотри, смотри, Юра! — крикнула вдруг Липа, показывая рукой на проезжавший встречный старинный микроавтобус-«рафик». — Пидарас поехал!
— С чего ты взяла? — отвлеченно спросил Алехин. — Они разве на Донбассе водятся?
— Это он, Тихоненко, гандон штопанный, маму сбил! Она с тех пор почти не ходит.
Липа в деталях поведала Сергею, как двадцать лет назад водитель маршрутки, курсирующей и по сей день между Торезом и Донецком, на пешеходном переходе сбил маму. Этот Тихоненко оказался к тому же еще и нетрезвым. Завели дело. Ждали суда. У Тихоненко была жена и двое детей. Водила был бедным, и денег откупиться от иска у него не было. С работы его тут же выгнали. И вот, когда мама вернулась из больницы, он принялся каждый день приходить к ним домой.
— Придет, сядет перед дверью на коврик — и сидит, как собака, — рассказывала Липа. — Уж все соседи привыкли. Лифта в доме нет. Пятиэтажка. Так те, которые на верхних этажах живут, чуть ли не перепрыгивали через него. А мы-то на втором. Сидит так и молчит. Я из школы иду, а он перед дверью. И молчит, как немой. Принес бы денег или в магазин сходил, на рынок съездил. А он сидит и сидит, как памятник на острове… этом, как его… ну, Масленицы, что ли… ну, по телевизору…
— Пасхи?
— Да, точно, Пасхи. Попутала я, — рассмеялась Липа. — Масленица — это с блинами. Мама уже стала на костылях ходить, а он все сидит и сидит. Каждый Божий день. Часами. Маме жалко его стало. Она его то борщом угостит, то чайком. А в праздник так еще и рюмочку нальет. В общем, до суда не дошло. Мама разжалилась. Забрáла заявление.
— А почему пидарас-то? — спросил Алехин. Он не любил, когда свидетели путаются в показаниях.
— Так я об этом как раз. Когда мама уже стала ездить в город, она, как все, на маршрутке ездила, — продолжила Липа. — А Тихоненко на работу вернули. Прикинь. На ту же маршрутку. Так вот он потом все время с мамы деньги за проезд брал. И с меня брал, козлина. Я в школу, когда не успевала пешком, так две остановки на его проклятой маршрутке ехала. И недавно к маме ехала на нем, так взял двадцать гривен, не постеснялся. Рубли брать не стал, патриот хренов.
— Да, действительно, пидарас, — согласился Алехин.
Подъехали к маминой пятиэтажке. Сергей сказал, что постоит внизу. Когда надо будет, за вещами поднимется.
— Ты мне в окошко покричи, — сказал он. — Квартира какая?
— Двухкомнатная. Санузел зато раздельный.
— Да нет. Я спрашиваю, номер какой?
— Тридцатая, — засмеялась Липа. — Опять я туплю. Завóшкалась совсем.
С этими словами Липа скрылась в доме.
Как только Алехин остался один, опять накатило. Совсем явственно прозвучал голос Лены — точно, ее голос. Словно просит о чем-то. Он даже обернулся. Слов не разобрал, хотя… нет, разобрал — понял, о чем просит, и — сразу забыл. Как отрезало.
Алехина вдруг охватило необъяснимое волнение. Чувство, с которым он прежде почти не сталкивался. Чувство это росло и распирало его изнутри. Он вдруг остро ощутил, что надо срочно что-то делать, куда-то пойти. Словно зовет его что-то. Но что и куда? Мысли в голове совсем перепутались. Он присел на порог раскрытой двери «Патриота».
В этот момент дверь дома открылась, и Липа с расстроенным видом вышла на улицу — у мамы, оказывается, давление подскочило. Переволновалась из-за предстоящего отъезда. Лежмя лежит. С котом на животе.
— Рыжик мурчит и лечит ее, а она головы поднять не может, — пожаловалась Липа. — Я думала, придуряется. Померили — сто восемьдесят на сто двадцать. У меня верхнее выше ста двадцати не поднимается. А у нее нижнее — сто двадцать. Нельзя ее никуда везти. Щас таблетки приняла, подождем.
Липа сказала, что останется с мамой, по крайней мере, до завтра и что Алехин может ехать во дворец или куда ему вздумается, а утром они созвóнятся.
— Не могу Белкину дозвониться, — добавила она. — Сигнал есть, а оба его телефона вне зоны. Если увидишь, скажи ему, что я у мамы осталась. На ночь. Он тебе поверит.
Они попрощались. Алехин сел в машину, включил двигатель и поехал. Как робот. Он не понимал, что делает. И остановиться не мог. Словно машина сама все делала за него, а он просто изображал водителя. В какой-то момент Алехин решил, что это сон. Закрыл глаза, открыл, но… продолжал ехать. Он попытался остановить машину — и не смог. Тормоза отказали, передачи не двигались, двигатель не отключался. Голова закружилась. Алехин потерял сознание.
Очнулся на окраине какого-то села. «Патриот» стоял аккуратно припаркованным на обочине. Алехин вышел из машины. Пошел в сторону первого дома. Увидел, что в выгоревшем поле с правой стороны стоят военные грузовики и ходят какие-то люди в форме. Мимо него друг за другом бежали двое мальчишек с деревянными ружьями. Он поймал одного из них за ворот рубахи.
— Как село называется?
— Вершки! Вершки же… Дяденька, пустите меня!
Сергей отпустил мальчика. Сел на землю, обхватил голову руками. И неожиданно успокоился.
Вот и конец маршрута. Приехал, наконец, на семейное кладбище. В этом белесом от жары небе над его головой они и погибли. Он приехал найти убийц. И отомстить. Кому? Себе, наверное. Он сам убийца и есть, и его потянуло на… На место преступления. Он должен был быть с ними. В этом чертовом самолете. А он прятался, как крыса, на яхте в Лос-Анджелесе. Трахал проституток. Лена с девочками три года папу не могли увидеть, по твоей, папа, вине. А в день, когда они на самолете к тебе летели и погибли, ты так ждал встречи, что какую-то б…дь в баре подцепил и в постель к себе заволок. Ну, конечно, это проверка была. Умного изображал. Ждал, когда «остынет след». Ты в какой книге это прочитал, Алехин? Ты вообще когда книгу последний раз в руки брал? В кино подсмотрел? По телеку? Про остывающий след? Он никогда не остынет, Алехин. Твоя жена и дочери, которых ты так любил и по которым так убиваешься теперь, погибли из-за тебя, мусор. Именно — мусор, а не мент. Ты, Алехин, себя жалеешь сейчас, а не их. Ты даже маньяка своего поймать не смог, Бульдог тупой. Все очень просто, Алехин. Ты спи…дил чужие деньги. Да, нет на тебе крови младшего Книжника. И Антона не ты убил. И вообще никого на удивление не замочил в тот день. Ты просто поработал часок в крематории и оприходовал чужие бабки. Да, бандитские, да, кровавые. Да, отжатые у других людей. Но не твои. Тебе нужно было вернуться к Книжнику, все рассказать, вернуть бабки. А ты их украл. И потом запрятал свою семью в укромное место, а себя — еще дальше. Ты так всю жизнь ховаться и хотел, как сказала бы эта Липа? След шестидесяти «лимонов» не остынет никогда, Сережа. И ты это знаешь лучше всех. Деньги не пахнут — они воняют, Алехин. Что ты с ними можешь сделать теперь, что купить? Из-за этих е…ных бабок погибла твоя семья. Твоя жизнь. И никто, кроме тебя, не виноват. Кого ты здесь ищешь, кому хочешь отомстить? Тому, кто на кнопку нажал? Кто приказ отдал? Но они не в твою семью стреляли. А в самолет, потому что здесь война. Но это не твоя война, Сережа. И семья твоя не должна была здесь оказаться. Они должны были быть с тобой. Совсем в другом месте. Ты идиот, Алехин, ты просто мудак. Ты всех обдурил, Сережа. Ты купил им билет на войну, в один конец, на тот свет, а сам отсиживался на другом краю этого. Если ты мужик, Алехин, то достань свой «Макаров», или что там у тебя припасено за поясом, и пусти себе пулю в лоб. Рискни. Кто знает, может, они еще здесь. И ждут. А ты все не стреляешь. Уговариваешь себя, что должен кого-то найти и кому-то отомстить. А ИМ нужна эта месть? Ты ИХ спросил? О’кей. Найдешь виноватых, убьешь, отомстишь. Тебе полегчает? Семью вернешь? Будешь снова счастлив, офицер? Хотя какой ты, на хрен, офицер? Ты мент поганый, Алехин. Мусор. Для тебя человека убить — что высморкаться. Семью ты любил? Если бы любил, то был бы с ними. А ты, Алехин, любишь только деньги. И что ты теперь на них купишь? Новую семью? Новый дом? Дворец? Новую яхту? Всех б…дей? Тебе это надо? Нет, ты правильно сделал, что приехал сюда. Ты приехал прощения попросить. Так проси скорей. А потом езжай назад, в белкинский дворец, и убейся — хоть об стену…
— Военный, вам плохо? — прервал его самоубийственный поток сознания человек в синей форме российского МЧС, который держал в руках что-то похожее на пылесос.
— Я в порядке, спасибо, — Алехин опустил голову от солнца, которое стояло почти в зените и било прямо в глаза, если посмотреть вверх. — А что это у вас?
— Металлоискатель, — эмчеэсовец сел рядом с ним на землю, вытер пот с красного лица и достал пачку «Мальборо». — Американский. Потрясающая машинка. На полметра под землей иголку чувствует. Закурите?
— Нет, спасибо, не курю, — Алехин разглядывал металлоискатель. — Какие сокровища ищете?
— А вы разве не в курсе? Все более или менее крупные обломки самолета уже собрали. Ищем теперь то, что могло под землю уйти, в траве затеряться. Сердюков. Капитан Сердюков.
— Алехин. Подполковник Алехин, — оговорился Сергей. Но слово уже вылетело.
Они пожали друг другу руки.
— Командир ополченцев? — спросил Сердюков.
— Вроде того.
— Понятно. Что, машина сломалась?
— Да нет. Просто решил отдохнуть. Сейчас поеду.
— Хорошее дело. Мы тоже закругляемся. Охрану еще вчера сняли. Все поле зачищено. Можно в футбол играть. Трава отрастет и будет, как раньше. Словно ничего не было.
— А где остальные обломки?
— В Донецке на вокзале. Будем отправлять в Англию.
— А тела?
— Да какие тела… Не хотел бы я быть на месте родственников сейчас. Даже представить не могу, что они чувствуют. Вы бы видели этот ужас. Все вперемешку. Даже по ДНК многих не опознать. Ну не будешь же ты палец хоронить… Или ухо, к примеру. Или будешь?
— Что, все так плохо?
— А как ты думал? — Сердюков перешел на «ты». Докурил сигарету до самого фильтра, бросил на землю. Стал подниматься, отряхивая форму. — Ну, мне пора.
— А останки тоже на вокзале?
— Нет, сегодня отправили. В четырех вагонах-рефрижера-торах. В Ростов. Оттуда чартером в Лондон. Так, по крайней мере, сказали.
— Понятно.
Алехин встал, пожал Сердюкову руку. Тот подхватил металлоискатель и вернулся к своим в поле. Алехин направился было к машине. Но вдруг остановился и снова сел на землю. Земля была горячая, как сиденье с подогревом.
— Ну чего расселся? — услышал он сухой, как осенний дубовый лист, старушечий голос за спиной. — Чего сидишь? Ничего здесь больше не высидишь, милок.
Алехин повернул голову, увидел очень старую женщину с морщинистым лицом, в платке и линялом, неопределенного цвета рубище. Плечи у нее, однако, были расправлены, словно она опиралась на что-то, словно за спиной у нее была невидимая стена. От старухи даже на расстоянии пахло погребом. И старостью.
Он не стал ничего говорить. Наговорился с Сердюковым. Вновь отвернулся и стал смотреть на работающих в поле эмчеэсовцев.
— Иди, давай, — сухо, без всякого выражения продолжила Полина Трофимовна. — Она ждет тебя.
— Кто? — устало и безразлично спросил Алехин, не поворачивая головы.
— Сам знаешь кто. Иди, спасай ее. А то поздно будет.
Алехин повернулся и увидел спину удаляющейся старухи. Она сняла платок и держала его в руке. Ветер растрепал ее сухие седые волосы. И она больше не казалась такой старой. Просто уходящая женщина. И все.
Через несколько секунд Сергей завел мотор, заглянул в зеркало заднего вида и не увидел старухи. Та точно растворилась.
В Торезе Алехин остановился у колонки, где какой-то военный с шутками и прибаутками поднимал и вешал ведра, полные ледяной воды, на крючки коромысла на плечах заливающейся смехом женщины лет тридцати.
Продолжая смеяться, женщина, однако, сказала ему ее не провожать, «а то муж увидит».
— Муж объелся груш, — пошутил военный, по возрасту офицер или контрактник. На ополченца он был не похож. Высокий, поджарый, в хорошо сидящей форме российской армии.
Алехин нажал на рычаг колонки. Давление было таким, что он сразу забрызгал себе брюки и ботинки. Тщательно вымыл руки, лицо, шею ледяной водой. Нагнувшись, попил с пенящейся струи. Утолив жажду, направился к машине и вновь поймал взглядом офицера.
Тот закончил любезничать с женщиной с коромыслом, отдал ей честь и пошел в другую сторону, постукивая себя рукой по ляжке в такт мелодии, которую довольно громко напевал себе под нос:
— Та — та-та-та-та-та — та-та-та — та-та…
Когда «та-та-та-та-та» вдруг кончилось словом «Эсмеральдá», Алехин остановился как вкопанный. Он слышал эту песенку раньше. Офицер удалялся, прихрамывая на левую ногу. Алехин мгновенно почувствовал на языке зловонный вкус воды из сливного канала под Тверью. Он вспомнил теперь, откуда была эта ария и где он ее слышал. Незнакомец не оглядывался. Алехин старался держать дистанцию. К сожалению, других прохожих на улице не было, и стоило тому оглянуться, как он тут же заподозрил бы слежку. Но военный шел, не оборачиваясь. А у Алехина не было выбора.
Прошли два квартала. Мимо пустынного детского сада, мимо пятиэтажки из белого кирпича, с бельем, свисающим с веревок на балконах. Прошли мимо почты. Офицер остановился у стеклянной двери и долго читал объявление, потом снова двинулся в путь.
Алехин проверил пистолет за спиной.
«Хорошо бы с предохранителя снять, — подумал он, но решил не рисковать. — Успею. Главное — не спугнуть. Не упустить в этот раз».
Офицер остановился у приземистого одноэтажного домика из широких некрашеных, посеревших от времени бревен, с крышей из старого, местами битого шифера. Открыл дверь ключом и, не оборачиваясь, вошел внутрь.
«Странно, — пронеслось в голове у Бульдога. — Странно, что он не посмотрел по сторонам перед тем, как войти».
Алехин подошел к двери. Подождал, пока сердцебиение придет в норму. Достал пистолет, снял с предохранителя и, медленно придерживая, взвел затвор. Поднял руку, чтобы постучать. Раздумал. Кистью легко толкнул дверь. Она была не заперта. Придерживая дверь свободной рукой, Алехин открыл ее достаточно для того, чтобы протиснуться внутрь.
Посреди кромешной тьмы Сергей остановился, дал глазам привыкнуть. Стал разбирать очертания. Окна закрыты и занавешены. Воздух прохладный и сырой. В нос сразу ударил сладковатый запах плесени с примесью еще чего-то знакомого. Но сразу вспомнить чего, не получалось. Держа ПМ перед собой на уровне лица обеими руками, он сделал три легких шага, стараясь не наступать на пятки. И вдруг отчетливо вспомнил этот запах. Так пахнет кровь, затекшая в щели и зазоры между половыми досками и высохшая в них. Ему показалось, что скрипнула половица. Или это был чей-то глухой стон в глубине дома. Алехин так и не успел понять, что это было. Как и не смог определить, чем его ударили сзади по голове.
Просто вокруг больше ничего не стало, ни очертаний предметов, ни звуков. Ничего, кроме окутавшей его тьмы.
Глава двадцать первая ШРАМ
Торез. Донецкая область. Август
Ни дуновения ветерка. Ни ряби на воде. Гладь, как зеркало. Лодка, незаметно перетекая в отражение, кажется от этого высокой. Вокруг никого. Озеро пустынно. Природа замерла, как на фотографии. В синем небе ни облачка. Вода такая же синяя, как небо. Разве что чуть зеленоватая возле поросших высокой осокой и ольхой берегов. Странно, что совсем не слышно ни птиц, ни звуков другой лесной жизни. Даже комары не гудят. Их или вовсе нет, или слишком далеко от берега. Тишина такая, что даже не звенит в ушах. Мертвая. Словно картинка в 3D — неживая, но проработанная до мельчайших деталей. Лодка замерла посередине озера. Обездвижены и силуэты двух людей в ней. Как и их зеркальные копии в воде. И вот будто включили звук — женщина в лодке смеется. Гулко, как павильонная запись. Мужчина молча встает во весь рост. Что-то говорит. Женщина на корме тоже поднимается, опираясь тонкой рукой в белой перчатке о бортик. Снова смех — теперь смеются оба.
Алехин вдруг видит их совсем близко, словно камера, без перебивки, выдала передний план, как в кино. В жизни так не бывает. Зато теперь он может разглядеть ее лицо. Женщина удивительно похожа на Лену. Да это Лена и есть! Нет, не она. Просто очень похожа. У женщины рыжие волосы. И платье у нее старинное, как из 30-х годов, светлое в темный горошек. И даже заколка в волосах старинная, черепаховая. Стоп! Стоп, Алехин, откуда ты знаешь? Как ты смог это разглядеть? Что ты знаешь о черепаховых заколках?
Лица мужчины не видно. Он стоит к Алехину боком. Белая рубашка. Серые бриджи. Высокие носки-гетры. Прическа — полубокс. Это старое кино. Но почему тогда цветное? Почему такой насыщенный, яркий цвет? И такой густой, затхлый запах воды, словно и не озеро вовсе, а болото. И от этого как-то тревожно и не по себе.
Мужчина поднимает к глазам огромную, квадратную, старинную черную фотокамеру. Рыжая женщина, похожая на Лену, ставит руки на бедра, кокетливо поворачивает вбок обе сомкнутые в коленях ноги. Поднимает подбородок. Голова тоже вполоборота. Позирует. Все-таки кино. Старая, отреставрированная, неестественно ярко раскрашенная копия. Как «Унесенные ветром». Впрочем, это тоже американское кино. Или книга? Алехин не может вспомнить названия. Тоже из двух слов. Вот сейчас он… Да, да, да! Мужчина широко размахивает тяжелой камерой на кожаном ремешке, как пращой.
Но… это… не… кино…
Рыжая женщина теперь оказывается в жилете цвета хаки, в синих потертых джинсах. А мужчина — военный. Он в военной форме. Знакомая фигура. Где он мог его видеть? Это не кино! Не кино… Но почему Алехин не может крикнуть? Не может ни рот открыть, ни пошевелить губами. Ни вообще сдвинуться с места. Во время замаха, как в замедленной съемке, мужчина поворачивается лицом к Алехину, и… тот узнает себя.
Военный со всего маху бьет Лену камерой по голове. Она падает за борт. Звук опять отключен. Лена бесшумно барахтается в воде, пытаясь уцепиться рукой за борт. Мужчина беззвучно бьет ее веслом по руке. Потом по голове. Еще и еще раз…
Лена! Леночка!.. Она исчезла. И только круги расходятся по поверхности воды…
Адская боль в голове, словно ее раскололи пополам.
Искры в глазах и… И черные ручьи…
Алехин пришел в себя. Его рот был наглухо заклеен скотчем, несколько раз туго обмотанным вокруг головы. Руки — вытянуты вверх над головой, связаны в запястьях. Сергей запрокинул голову, увидел, что его накрепко стянутые скотчем и веревкой руки привязаны к массивному ржавому крюку. Крюк, в свою очередь, висел на короткой цепи, выходившей прямо из верхней точки потолочного свода, из потемневших от времени некрашеных досок.
«Раньше был чердак, — сообразил Алехин. — Потолок разобран. Готовая пыточная камера».
Кисти онемели. Сергей не чувствовал их. Ноги тоже были связаны в щиколотках и почти касались округлых, щелистых досок пола со следами потерявшей блеск и потемневшей коричневой краски. Любое движение ног отзывалось острой болью в плечах и голове. Голова нестерпимо ныла в затылке.
Алехин опустил голову. Посмотрел по сторонам. Тусклая настольная лампочка в углу на маленьком столике под черными ликами икон в белом кружевном обрамлении едва освещала неширокую комнату с двумя низкими и узкими окнами, за которыми вместо дня была ночь.
За столиком под иконами Сергей разглядел темную фигуру. Присмотрелся.
Мужчина пил из большой жестяной кружки. От кружки поднимался пар. Время от времени он что-то макал в нее, потом, причмокивая, жевал. В детстве в таких случаях тетка, мамина сестра, строго отчитывала Сережу: «Не сёрбай!» Был бы рот не заклеен, так бы и сказал сейчас: «Не сёрбай, дядя!»
В комнате было душно и сыро. Когда глаза привыкли к сумраку, Алехин присмотрелся получше. Любая деталь, даже самая незначительная, могла спасти ему жизнь, но могла и…
За окнами чернела не ночь, хотя на них не было занавесок. Они просто были наглухо закрашены черной краской. В Ебурге такую краску называли «кузбасс-лаком». Обе двери в поле зрения Алехина были раскрыты и тоже зияли чернотой. Откуда-то, то ли из соседней комнаты, то ли из сеней, доносились сдавленные стоны. У оштукатуренной стены, выкрашенной от пола в зеленый и ближе к потолку в белый цвета, стояли темный шкаф и две табуретки. На одной — ведро. На другой — стакан с зубной щеткой и двумя полувыдавленными тюбиками пасты. На стене висел жестяной умывальник. Над ним — прямоугольное зеркало без рамки, треснутое наискосок, с ржавыми пятнами по углам. Под умывальником на табуретке — пластиковый тазик. А рядом, на полу, еще один — эмалированный и размером побольше.
Офтальмолог закончил завтрак. Или это был полдник? Или ужин? Алехин не знал, сколько времени он провел без сознания.
Сыромятников вытер рукавом рот. Надел очки. Поднес к глазам паспорт. Не вставая со стула, повернулся к Алехину.
— Сто пятьдесят третий.
Это был Офтальмолог. Сомнений больше не было. Во время их первой встречи Сыромятников произнес только две фразы: «Нет» и «Да, конечно. Сейчас». Всего четыре слова. И еще «Эсмеральда», которую маньяк напевал тогда себе под нос. Как часто за прошедшие годы эти слова и мотив этой арии крутились в голове сыщика, путались, сбивались в какофонию и не ложились друг на друга… И вдруг все сошлось, словно щелкнул замок сейфа после набора шифра, и дверца отворилась. Это был тот самый голос.
— Ты — сто пятьдесят третий, Алехин, — повторил Офтальмолог. — Или как там тебя теперь?.. Жданов? Твой номер — сто пятьдесят три. Или сто пятьдесят четыре. Если договоримся, что лэйдис ферст[63], Жданов. Или все же Алехин? Как тебе привычней?
Сыромятников мотнул головой в сторону раскрытой двери, из-за которой и доносились стоны. Алехин уже разобрал, что стонала женщина. Чего он не мог понять, как ни силился, это каким образом маньяк срисовал его и так оперативно устроил засаду. И вообще, откуда ему известно его настоящее имя?
— Ты ведь, судя по визам, прямо из Америки ко мне, — продолжил Офтальмолог. — Так соскучился? Вот и хорошо. Вот и встретились. Я тоже скучал.
«Нужно разговаривать с ним как можно дольше, — мелькнуло в голове у Алехина. — Но как, если рот заклеен? Надо как-то тянуть время. Что-то всплывет. Кто-то придет. Снаряд попадет в дом. Землетрясение. Что-то обязательно должно произойти. Инфаркт у одного из них. Потолок упадет или пол провалится. Что-то случится. Обязательно. Иначе не может быть. Проснулись, надо разбираться».
Он замычал, мотая головой, давая понять, что тоже хочет что-то сказать.
— Хорошо, дадим тебе последнее слово, — Сыромятникову в роли хозяина положения тоже не терпелось пообщаться. С жертвой. Тем более с таким почетным гостем. Он любил разговаривать с ними, особенно с детьми, утешать их, давать конфеты, уговаривать, что мама скоро придет и все будет хорошо. И что это просто игра.
Сыромятников подошел к Алехину и медленно размотал скотч. Он стоял совсем рядом, смотрел Сергею прямо в глаза. Затем поднял правую руку и со словами:
— А вот и мое клеймо! — указательным пальцем потянулся к его лицу.
Сергей попытался дернуть головой, чтобы избежать прикосновения, но это было бесполезно. Палец маньяка ткнулся ему в щеку над краем губы.
— На самом видном месте, — удовлетворенно прокомментировал Офтальмолог. Приблизившись, он чуть ли не обнюхал шрам. — Хорошо, кстати, зашили.
Алехин почувствовал, как его начинает подташнивать — то ли от омерзения, то ли от контузии. То ли от всего вместе.
Между тем он все же успел отметить, что один зрачок у Сыромятникова был неподвижен. Не то чтобы не успевал за другим, а вообще не двигался. Лицо Офтальмолога в полутьме было серое, гладко выбритое и совершенно безжизненное, как маска. Ровный нос, ровные скулы, белесые брови. Глаза выпуклые, близко посаженные, без ресниц. Правый глаз тусклый и живой, левый блестящий и мертвый. И если бы не глаза маньяка, перед ним стоял бы манекен, фоторобот, а не человек. «Человек…» — повторил про себя Алехин и улыбнулся затекшими губами.
— Что? — спросил Офтальмолог, стряхивая ладонью влажные крошки от сухаря с тонкой серой губы. — Плевать в лицо не будем, а? Кина не будет? Лбом в лоб пробовать тоже не будем, нет? Неинтересно с тобой, Алехин. Даже лягушка, когда ей в жопу вставляешь соломинку и надуваешь, старается хоть лапками подергать.
— Как ты меня вычислил, Сыромятников? — тихо спросил Алехин.
— По запаху, Сережа, по запаху, — Офтальмолог улыбнулся серыми губами. — Я с детства плохо вижу. Инвалид по зрению. А вот слышу и особенно запахи чувствую хорошо. Как волк. Я не помню лиц. Но помню номера и запах каждого номера. Тебя не удивляет, что я тебе по имени? А может, ты уже привык на Юру отзываться? Ну, я и так могу, ты только скажи.
Алехин промолчал. Редкий случай, когда он просто не знал, что сказать. Головная боль отдавалась в глазах. После такого нокаута боксеры до следующего матча год приходят в себя. Алехин знал, что времени у него гораздо меньше. Дай бог, если один день.
— Я после того волжского купания в твоей теплой компании залег на дно. Не на речное, как ты уже понял, а у одной подруги, — между тем продолжал Офтальмолог. — Рыжей, кстати. Она теперь номер восемьдесят семь, если я не ошибаюсь. Хотя…
Он стал загибать пальцы, делая вид, что считает про себя. Дойдя до конца первого десятка, махнул рукой, словно сбился со счета, и вернулся к тому, с чего начал:
— А ты ведь попал в меня, Соколиный Глаз. Сквозное ранение в правый бок. Прямо под печенью. Чуть повыше — сантиметр-два, — и кормил бы я сейчас окуньков. Ты мне теперь литр крови должен, не меньше.
Офтальмолог вернулся к столу и вновь громко глотнул из кружки.
— А чего ты не спрашиваешь, откуда я твое имя знаю? — продолжил он, вновь усаживаясь за стол. — У тебя ведь в паспорте Жданов написано, а другого нет. Так вот. Долгая, в общем, история, но я тебя вычислил, мент, уже давно. И домик твой, малюсенький такой, на скудную ментовскую зарплату нажитый, тоже нашел. И девочек твоих наблюдал пару раз. Ждал, когда подрастут. Ты ведь знаешь мои строгие моральные ограничения, Алехин. Ребенок моложе десяти лет — табу. Я не педофил долбанный.
Он снова отхлебнул из кружки и продолжил:
— Думал, лет через семь-восемь познакомлюсь с ними поближе. А вы всей веселой семейкой в один божий день взяли и исчезли, словно испарились. Ну, теперь, раз ты, Сережа, вернулся ко мне навсегда, то могу тебя заверить: обязательно найду их и передам от тебя последний заботливый родительский привет.
— Не найдешь, — Сергей сдерживал себя как мог, стараясь говорить как можно более ровным тоном. — Их больше нет. Они погибли в июле. Разбились в самолете. Тут, рядом.
— Соболезную, если не врешь. И себе соболезную. Такие симпатичные девочки, обе — вылитый папа. И мама ничего. Жаль, не рыжая.
— Ее тоже нет. Они вместе разбились.
— Так вот, значит, зачем ты здесь, Алехин. Ты, значит, по поводу самолета? А я, значит, тебе под руку подвернулся? Ну, никак и никуда мне от тебя не деться, Алехин. Мы с тобой, как сиамские близнецы. Пора уже решать этот вопрос хирургически. Не хочется расставаться так рано, но пора.
Офтальмолог взял со стола здоровенный тесак и вновь подошел к Алехину. Тот инстинктивно зажмурился. Попытался вспомнить бабушкину молитву, но даже первые слова «Отче наш» вылетели у него из головы.
— Что такое, кум? — Офтальмолог засмеялся. — Ты чего так испугался? Я ж не маньяк какой. Уже и пошутить нельзя?
Укоризненно качая головой, маньяк развернулся и со смехом бросил тесак под стол. Алехин сглотнул слюну и спросил, чтобы перевести разговор:
— Так кто сбил самолет?
— А ты никому не скажешь? — продолжал хихикать Офтальмолог. — Ладно, по старой дружбе открою самую секретную военную тайну. Русские сбили. Наши с тобой соплеменники. Притащили для этого дела целый «Бук» из Ростова. Знаешь, есть такой ракетный комплекс «Бук»? Сам не пойму, на фига им это надо было.
— А ты здесь с какого боку? — продолжил расспрашивать Алехин.
«Время. Самое главное сейчас — выиграть время».
— Как с какого? Забочусь о подрастающем поколении. Ты знаешь, Алехин… Ты ведь не сомневаешься, что я — маньяк. И редкостный причем, да? Меня еще в «Книгу рекордов Гиннеса» занесут. Ну, типа, посмертно, да? Только давай обойдемся без унижений и оскорблений, уважаемый. Вот член один КПСС, товарищ Чикатило Андрей Романович, так тот — да, классический маньяк. Из учебника сексопатологоанатомии. Слышал о такой науке? Нет? И правильно. Я сам ее придумал. Так вот по этой моей лженауке Чикатило — всем маньякам маньяк. Унылый, правда, до блевотины, и людоед голимый к тому же. Как будто нельзя пельменей отварить или, там, колбаски купить… Впрочем, в его время, может быть, и нельзя было. Критиковать легко. Ты вот сам попробуй. У Чикатилы сраного — пятьдесят три номера, а у меня — на сотню больше. А ты вот все равно считаешь, что я — такой же, е…нутый на всю голову маньяк, да, Алехин? Признайся. И неведомо тебе, дорогой мой опер-попер, что у меня — миссия, камарад Жданов. Мис-си-я! — Сыромятников поднял правую руку и выставил указательный палец. После чего посмотрел прямо в глаза Алехину и задал вопрос: — Вот какая у тебя, полковник кислых щей, миссия на этой планете?
— Ты прав, никакой, — согласился Алехин, больше для того, чтобы успокоить разошедшегося не на шутку психопата. — А форма тебе зачем?
— Так я теперь ополченец-доброволец. Прапорщик при штабе бригады. Снабженец я. Спец по «у кого что плохо лежит». Машина, пропуск. Туда-сюда. А детишки тут разные под ногами путаются день и ночь. Присмотру никакого. Одно слово — война. Кто-то же должен о них позаботиться, да?
Не дождавшись ответа, Сыромятников продолжил:
— Я сначала очень злился на тебя, Алехин. Два года из норы не вылезал. Рану зализывал. Извелся весь. Это ведь как наркотик, Алехин. Как наркотик. Еще хуже. Это я тебе говорю.
— И давно ты здесь?
— А тебе что за дело? — вдруг насторожился Сыромятников. — Ну, второй месяц пошел. И что?
— Ничего. — «Время. Время…» — Так какая у тебя, говоришь, миссия?
— Простая! Трехзначное число.
— А у тебя разве не трехзначное уже?
— Трехзначное, да не то.
— А какое тебе надо?
— Чтобы как в книге.
— В какой книге?
— В главной, — Офтальмолог поднял со стола засаленный, потертый томик и показал его Сергею. — Впрочем, ты не поймешь, Алехин. Но подсказку заслужил. Какие три цифры бандиты твои для понта на номерах своих тачек возят?
— Три шестерки, что ли?
— Приз в студию, Алехин! Вы отгадали число зверя! Получаете еще час жизни! А я пока пообщаюсь тет-а-тет с рыжей красавицей, женщиной моей мечты.
— В той комнате?
— Точно, а как ты угадал? Вот ведь не пропьешь ментовское мастерство. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла… Помнишь такую песню, Алехин? Кстати, какой глаз у тебя, как у орла? Левый или правый? Ты ведь знаешь, что я не из пустого интереса спрашиваю.
Алехин промолчал. Песню из мультфильма про бременских музыкантов он помнил очень хорошо. Ее любил напевать Антон Слуцкий, когда у него было хорошее настроение — будь то грамотно проведенная облава на наркопритон в Ебурге или работенка непыльная от Жени Книжника уже в Москве.
— Ты не ошибся, мент, — Офтальмолог смел рукой со стола крошки и положил на него томик Евангелия, замызганный донельзя. — В той комнате отдыхает одна девушка. Как ты должен был уже догадаться, рыжей масти. И американка при этом. А-ме-ри-канка, Алехин! Не баба Люся из сельпо. А импортный товар! Ну, правда, не мог себе отказать. Понимаю, имидж страны перед проклятым Западом мараю. Но все равно спишут на бендеровских хохлофашистов. И тебя туда же спишут.
— А зачем тебе я, Сыромятников? Ты себе только статистику попортишь.
— Ты прав, Алехин. Я не по этой части и ничего с тобой не сделаю. Пальцем не коснусь. Только глаз заберу, если не возражаешь. Так, на память. Мы же с тобой не чужие люди.
Сергею показалось, что, произнеся последнюю фразу, Офтальмолог подмигнул ему мертвым глазом.
Джейн не знала, сколько часов пролежала, распятая на столе. Она уже раз не вытерпела, обмочилась и успела просохнуть. Ее мутило, видимо, от эфира или хлороформа, которым усыпил ее маньяк. Все время кружилась голова, и сердце билось неровно, казалось, прямо в ушах. Раза два или три она теряла сознание. Когда приходила в себя, начинала методично сжимать кисти рук, пытаясь двигать ими во все стороны. Ей показалось, что правая кисть стала будто бы посвободней и поворачивалась в петле уже почти на девяносто градусов. Появилась надежда выбраться. Слабая, но все же.
Придя в себя после очередного обморока, Джейн услышала голоса в соседней комнате. Говорили негромко. Она могла разобрать только отдельные слова. Ее похититель разговаривал с другим мужчиной. Это был последний шанс. Другого не будет. Она пыталась промычать что-то сквозь туго замотанные скотчем губы. Дыхания не хватало. Она почувствовала, что вот-вот снова лишится чувств.
— Сыромятников, ты всегда был таким? — спросил Алехин, которому слова давались все труднее и труднее, а руки почти вылезли из плечевых суставов.
— Нет, не всегда, — лицо Офтальмолога исказилось. — А зачем тебе?
— Просто интересно, — Алехин понял, что нащупал больное место маньяка. — Неужели, как обычно, трудное детство? Семейное насилие? Отец или отчим пьяница и садист? Классика жанра, да?
Алехин понимал, что вызывает огонь на себя, но ему почему-то очень не хотелось сейчас, чтобы маньяк уходил в комнату к той, как он сказал, рыжей девушке.
* * *
У десятилетнего Егора Сыромятникова не было ни отца, ни отчима. Мать, лаборантка в Калининском НИИ тонких химических технологий, развелась с пьяницей мужем еще до рождения мальчика. Отчимом для сына с тех пор не обзавелась, но уже год, как в их квартире появился сожитель. Пока еще без официального статуса. Инженер из того же НИИ Валерий Семенович Лаврушин. Ради Кати, Егоркиной матери, он ушел из семьи, от жены и двух детей, и переселился в их однокомнатную квартирку в «хрущевке» в рабочем районе Твери. Егор ненавидел Валерия Семеныча. Хотя тот не пил, не курил и к Егору относился хорошо, даже ласково называл его Егорушкой или Егорчиком. Пытался с ним играть, уроки помогал делать. Покупал мороженое, в кино их с матерью водил, но…
Во-первых, Егор дико ревновал к нему мать. Во-вторых, просто испытывал к нему какое-то физическое отвращение. Когда Валерий разговаривал, у него отвратительно пахло изо рта, словно внутри что-то гнило. К этому еще примешивался запах его носков и ихтиоловой мази. Оба нижних отсека холодильника теперь под завязку были забиты лекарствами Валерия. Инженер был неизлечимо болен тяжелой формой экземы. Когда у него случалось обострение — довольно часто, — он даже не мог носить верхнюю одежду дома. Шлепал по комнате босиком, в синих семейных трусах, стряхивал сухие чешуйки кожи с рук и ног прямо на пол. При обострении ступни у него покрывались красными, сочащимися сукровицей волдырями.
Валерий с мамой спали на кровати, а Егору пришлось перебраться на диван. Диван был ужасно неудобным. Егор все время боялся, что какая-нибудь острая пружина выскочит наружу и вопьется в него, пока он спит. Поэтому спал он плохо. Его мучили кошмары и мерзкие звуки, доносящиеся с кровати. Он желал Валерию смерти. Он мечтал о том, чтобы на того наехал трамвай или чтобы Валерий умер поскорее от своей болезни. В школьной библиотеке Егор нашел экзему в медицинском справочнике. Оказалось, что недуг хронический (Егор не понимал этого слова), но вовсе не смертельный.
Как-то, возвращаясь с работы, Валерий увидел мальчишек, играющих во дворе в футбол. Среди них был и Егор, который отвернулся и сделал вид, что не видит его. Валерий спросил, не возражают ли они, если он сыграет с ними. Мальчишки постарше согласились. Сказали, что как раз нужен вратарь. Воротами были стволы высоченных тополей. Валерий встал на ворота Егоркиной команды. Сразу пропустил два гола. Неуклюже грохнулся пару раз. Ударился головой о дерево под смех детворы и разбил себе нос. Кровь не останавливалась, и Валерий, подхватив свой драный портфельчик с перемотанной изолентой ручкой, отправился домой, запрокинув голову и придерживая кровавый платок на носу одной рукой. Егору хотелось провалиться сквозь землю.
Однажды в серый осенний день Валерию было так нестерпимо плохо, что он не пошел с мамой на работу, а остался дома и чертил что-то на листах ватмана, разложенных на столе. Он густо намазался своей вонючей мазью, и, придя из школы, Егор расположился на кухне, чтобы перекусить и сделать уроки. Валерий пришел к нему на кухню, сварил пельмени для обоих, быстро съел свою порцию, заварил чай и вернулся в комнату к своим чертежам. Не обращая внимания на холод и дождь, Егор широко распахнул кухонное окно, чтобы не задохнуться от смердящего запаха. Но пельмени в его тарелке все равно пахли Валерием. Давясь от тошноты, Егор спустил остатки в унитаз и принялся пить чай с малиновым вареньем, чтобы отбить запах. Пользуясь отсутствием мамы, он взял десертную ложку вместо чайной.
Он уже доедал вазочку варенья, когда Валерий вернулся в кухню, встал у него за спиной и спросил:
— Егорчик, почему ты меня ненавидишь? Что я не так делаю?
Мальчик не отвечал.
— Прости меня, — Валерий наклонился над ним и положил обе вонючие руки ему на плечи. — Я очень люблю тебя и твою маму… Правда, очень люблю. Мы накопим денег и купим большую квартиру, и все будет хорошо. А летом втроем поедем на…
Егор так и не услышал, куда они поедут летом втроем, потому что, схватив ложку, развернулся и со всего маху воткнул ее Валерию в глаз.
Тот отскочил, рухнул на пол, с криком вырвал ложку из глаза, обхватил голову руками и засучил ногами, вертясь на полу от боли. Егор приволок из угла круглый увесистый камень, каким мама придавливала квашеную капусту в ведерке, нагнулся и бил Валерия камнем по голове, бил, пока тот не затих.
Когда мама вернулась домой, Валерий был мертв. Она не проронила ни единой слезинки. Ни слова не говоря, вызвала милицию и собрала необходимые вещи. Перед тем как приехал наряд, она строго-настрого велела Егору говорить, что его не было дома, когда это случилось. Мать взяла вину на себя и отправилась в лагеря на шесть лет за непредумышленное убийство.
Егора приписали в областной детский дом имени Н. К. Крупской для трудных подростков. За высоким железным забором в сосновом бору рядом с городком Медное. Переселяясь в интернат, из своей квартиры он забрал с собой только десертную ложку.
В детдоме его невзлюбили с самого начала. Все детдомовцы выросли без родителей, а он был чужаком, пришельцем из другого мира. Его били нещадно. Воспитатели не обращали на это никакого внимания. Однажды он попытался сбежать оттуда. Милиция поймала его, как водится, на вокзале и, даже не выслушав, вернула обратно. В ту же ночь старшие мальчики связали его, заклеили рот скотчем и изнасиловали. Сказали, что ночью подушкой придушат, если стуканет воспитателям.
Следующая попытка побега была еще более неудачной. Перелезая через забор, он оступился и напоролся глазом на острую железку. В больнице глаз удалили. Когда он вернулся в детдом, то так и ходил в очках с заклеенной черной изолентой глазницей, как пират. Его больше не трогали, а просто не обращали внимания, сторонились, как чумного.
Он тайно влюбился в одну рыжую девочку на пару лет старше его и однажды, не выдержав, подошел к ней на перемене. Она стояла во дворе за углом и курила с двумя другими девчонками. Он протянул ей две веточки сирени, которые сорвал тут же во дворе.
— Иди на х…й, урод, пока п…дюлей не получил, — сказала рыжая красавица и бросила ветки ему в лицо под смех своих подружек.
Так он и жил в этой тюрьме, опущенный и презираемый всеми, пока мать, освободившаяся через три года по УДО, не забрала его домой.
Покидая детдом, он ничего не взял с собой из того нехитрого имущества, которое у него там за эти годы скопилось. Только ложку — ту самую, десертную, с выдавленным на ручке клеймом: «Сталь нерж. Ц. 22 к.»
* * *
— Долго рассказывать, Алехин, — улыбнулся одним оскалом Сыромятников и замолчал.
Он подошел к умывальнику, поднял с пола большой таз с выщербленной эмалью, вернулся назад и поставил его Алехину под ноги. Сергей попытался связанными ногами оттолкнуть таз, но силы оставили его. Сыромятников надел на руки медицинские перчатки бледно-салатового цвета. Натягивал их на пальцы, казалось, всю жизнь. Потом вытащил из кармана что-то завернутое в целлофан. Это была заточенная, как бритва, стальная десертная ложка.
— Все, все, Сереженька, уже немного осталось, — прошептал маньяк. — Чуть-чуть придется потерпеть. Будет немножко больно. Но до свадьбы заживет.
Он поднес руку к лицу Алехина и, проведя холодным металлом по его губам, щеке и виску, очертил петлю вокруг его левого глаза. И улыбнулся.
Где-то неподалеку заухала артиллерийская канонада. Пол в доме закачался. Алехин понял, что время его истекло, а он так ничего и не придумал.
— Ты знаешь, мент, я даже не буду заклеивать тебе рот. Твой крик никто не услышит, — Офтальмолог осторожно надавил заостренным краем ложки на угол левого глаза возле переносицы.
Алехин дернулся от боли, инстинктивно прикрывая глаз.
— Прости, что без наркоза, — Офтальмолог пальцами левой руки стал растягивать веки Алехина. — Иначе, дружище, будет не в кайф ни мне, ни тебе.
В этот момент из соседней комнаты раздался громкий стон, переходящий в утробное мычание, будто связанная девушка начала задыхаться.
— Подожди здесь, — маньяк опустил руку. — Не уходи никуда. Мы еще не кончили. По крайней мере, я… Сейчас вернусь.
Джейн почувствовала, что веревка на запястье правой руки начинает давать слабину. От постоянного движения скотч тоже набух, как чешуйчатая кожа змеи перед линькой. У Офтальмолога больше не было при себе его любимой Scotch® Stretchable Tape. А отечественная упаковочная лента не имела стягивающего или удушающего эффекта при напряжении. «Сейчас немножко отдохну и добью ее», — решила Джейн, замерев и пытаясь отдышаться через нос. Ее запястье уже кровоточило ручейком. Тяжелые капли падали на пол. Если маньяк сейчас придет, все пропало. Он все поймет.
— Офтальмолог! — собравшись с силами, крикнул Алехин вдогонку Сыромятникову.
— Простите? — маньяк остановился в дверях и обернулся. — Вы мне?
— Вам, вам. Кому же еще.
— Как вы меня назвали? — Офтальмолог сделал шаг в сторону Алехина. — Я даже не заметил, как мы перешли на «вы». Обычно наоборот бывает.
— Офтальмолог. Это ваша оперативная кличка.
— Почему?
— Догадайся с трех раз.
— Ах, да, конечно! — засмеялся маньяк, подойдя ближе. — Как я сразу не додумался. Оф-таль-мо-лог! Остроумненько! Ничего не скажешь. И кто такой остроумный это придумал?
— Я.
— Так ты, выходит, мой крестный, Алехин! Рад познакомиться. За это стоит выпить.
— А что у тебя есть?
— В машине водка. Но она теплая, если не горячая. Тебе может с сердцем стать плохо, полковник. Или все еще подполковник? Мы не можем так рисковать твоим драгоценным здоровьем.
— Так что же мы будем пить?
— Как насчет чайку? Горяченького еще? Только не уверен, что понравится.
— Почему нет? У меня во рту пересохло.
— Да многие этот чай на дух не переносят. Китайский. «Лапсанг сушонг» называется. Его бы хорошо с лимончиком или еще лучше с лаймом, но тут, на Донбассе, они все никак не поспеют.
Название чая показалось Алехину знакомым. Офтальмолог наполнил кружку до краев. Поднес ее к губам Алехина. Тот сделал жадный глоток и сразу вспомнил, где и когда пил его. И как за чаем «с дымком» доктор Глушаков поведал ему о… Алехин осекся на полумысли. Ему показалось, что он думает вслух.
— Действительно, вонючий, — сказал он. — Так носки пахнут, если дня три не снимать.
— Именно, — еще больше оживился Офтальмолог. — С оказией достался. Нас тут с комбригом на днях угостил сам Белкин. Он так и сказал: чай, мол, из портянок. Даром, что офицер. Разбирается в портянках. Сказал, что нашел во дворце несколько пачек, а ему не пошло́, что ли. Я как принюхался, сразу понял, что с дегтем намешан. Обожаю этот запах. Словно копченый. С дымком, короче.
Сыромятников сам отхлебнул из кружки и вновь поднес ее к лицу пленника, который сделал еще один глоток.
— Офтальмолог, слушай, тебе не обидно, что я тебя так называю? — продолжил тему Алехин.
— Что ты! Совсем нет. Наоборот, красиво звучит. Я в детстве мечтал стать врачом. Но потом раздумал. Я тебе признаюсь: чужая боль доставляет мне удовольствие. Было бы неэтично давать клятву Гиппократа с таким пороком, да?
— Наверное. А чем ты хрустел там за столом?
— Сухарики.
— Самодельные или покупные?
— Покупные, зараза! Жесткие, как кирпичи. На упаковке написано — «Бородинские». Могу дать попробовать, если хочешь. Только их в чае вымачивать надо. А у тебя руки заняты. Ладно, я тебе один на пробу намочу.
Офтальмолог вернулся к столу, взял с тарелки черный сухарик размером с палец, опустил его в кружку и вернулся к Алехину. Вставил сухарик ему в рот, как сигарету, и стал добродушно наблюдать, как Сергей пытается раздробить зубами еще не пропитавшийся чаем сухарь.
— Вот и я говорю, — посочувствовал маньяк. — Издевательство какое-то. Зубы поломаешь. Мне мама сухарики делала на маслице из настоящего бородинского хлеба. Пальчики оближешь.
— Я тоже такие любил, — Алехин проглотил остаток сухаря. — Мне жена делала на подсолнечном масле. Тоже из бородинского.
— А мне на сливочном, с сольцой, — маньяк перекрестился свободной рукой. — Царствие небесное твоей супруге, опер. Искренне сочувствую.
— Спасибо на добром слове. Сам-то не женат еще?
— Нет. Меня только рыженькие интересуют. Но как-то у нас с ними до свадьбы никак не доходит. Хотя и попадались очень ничего себе.
Сыромятников протянул кружку Алехину и другой рукой наклонил Сергею голову, чтобы удобно было. Алехин опустошил кружку одним глотком.
— Ну ладно, дружище, — сказал Офтальмолог, поставив пустую кружку на стол. — Заболтались мы с тобой. Пойду проведаю красавицу. А то ей, наверное, скучно там одной.
С этими словами Сыромятников направился туда, откуда доносились стоны. Алехин больше не мог придумать, чем его остановить. Придумалось совсем другое…
Джейн уже почти полностью освободила правую руку, когда ее мучитель вновь оказался рядом с ней. Она замерла, стараясь не спугнуть его.
Маньяк наклонился над ней, разрезал ленту по линии рта, но губу все же задел. Джейн громко задышала, как больная скарлатиной, сплевывая кровь с раненой губы сквозь образовавшееся отверстие. Офтальмолог улыбнулся, облизал ложку.
— Девочка, миленькая, я понимаю, тебе не терпится, — прошептал он, наклонившись над ней. — Я не забыл о тебе. Я помню. Еще не вечер. Вся ночь впереди.
В отсутствие маньяка Алехин вытянул подбородок вперед и резким движением попытался дотянуться его кончиком до круглого темного пятна размером в американский гривенник под левой ключицей — точку жизни и смерти под номером 296, согласно китайской народной медицине. Промахнулся. Попробовал второй раз. Опять не получилось. И тут же услышал приближающиеся шаги маньяка. Возбужденному вкусом крови женщины Сыромятникову уже не терпелось закончить с ментом и вернуться к ней.
Собрав все оставшиеся силы, Сергей дернул головой в третий раз. Есть контакт! Алехин вскрикнул и уронил голову, безжизненно повиснув на вывернутых руках.
Сыромятников подошел к нему и сразу понял, что тот без сознания. С размаху ударил левой кистью по щеке, чтобы привести в чувство. Жертва не откликалась. Маньяк взял Алехина за подбородок и резко поднял ему голову. Прижал два пальца к артерии — пульса не было. Мент был мертв.
Мертвые предметы не интересовали маньяка. Человек принципов, Офтальмолог не умел мухлевать. Он не мог присваивать номера трупам — только живым.
Сыромятников грязно выругался, сжал кулаки и принялся отчаянно топать ногами. Если бы он не матерился, то выглядел бы как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Наконец, истерика стихла. Офтальмолог подошел к стене, взял табуретку, вернулся к Алехину и, опираясь на его безжизненное тело, вскарабкался на нее. Достав из кармана охотничий нож, срезал веревку с крюка. Тело Алехина с тупым звуком падающего мешка с картошкой шмякнулось на пол.
Маньяк нагнулся, разрезал ленту и веревку на руках жертвы. Так легче упаковывать труп в мешок. Затем разрезал веревку и ленту на ногах и, не вставая с колен, вновь пригнулся к лицу, стараясь уловить малейшие признаки дыхания.
И отпрянул.
Из горла Алехина вылетел хриплый свист. В этот раз тому удалось с первой попытки сделать спасительный глоток. Вернувшись к жизни, он обхватил онемевшими руками голову маньяка и притянул к себе, стараясь взять ее в удушающий захват. Но сил у него почти не осталось. Сыромятников нагнул голову еще ниже к лицу Алехина, чтобы высвободиться, и тогда тот сомкнул челюсти на кончике носа маньяка. Кровь из раны хлынула Алехину в лицо. Несмотря на боль, психопат не издал ни звука. Он разорвал-таки захват Сергея, схватил его за горло и стал душить.
Алехин чувствовал, как силы оставляют его. Глаза уже стали закатываться, когда кто-то вскочил на спину Сыромятникову (тот инстинктивно обернулся) и врезал ему по башке черной от сажи и жира сковородкой. Маньяк ослабил хватку на горле Сергея и затряс головой, словно вылезшая из воды собака. Правой рукой Алехин нащупал валявшийся на полу какой-то металлический предмет. Он инстинктивно зажал его в кулаке, левой обхватил Сыромятникова за шею и засадил ему железку в глаз. Удар был нанесен с такой силой, что ложка почти на всю длину вошла в мгновенно заполнившуюся кровью глазную впадину. Маньяк рухнул на Алехина ничком и отключился.
Через его плечо Сергей увидел, наконец, своего спасителя.
На спине Сыромятникова на коленях сидела женщина. Ее зеленые глаза светились, темно-красные в полумраке, наэлектризованные схваткой волосы стояли дыбом. Продолжая упираться в спину поверженного маньяка руками, женщина подняла голову и сквозь дыру в ленте, обмотанной вокруг ее лица, протяжно закричала. Это не было похоже на звук человеческого голоса. Она взвыла — сипло и утробно, как дикая кошка…
Когда женщина перекатилась со спины Офтальмолога на пол, задыхающемуся Алехину удалось, наконец, столкнуть с себя безжизненную тушу. Проснувшийся в нем мент сразу понял, что маньяк, судя по всему, убит. «Но факт смерти еще предстоит установить», — добавил в нем опер.
Не поднимаясь, он повернул голову и посмотрел на незнакомку. Она лежала рядом на спине, раскинув руки с бордовыми полосами вокруг запястий. Дышала тяжело, громко и прерывисто.
Алехин не мог пошевельнуться. Его лицо было в крови маньяка. Женщина приподнялась, облокотившись на левую руку. Тряхнула головой — совсем как Сыромятников после удара сковородкой. Быстрыми движениями размотала и оторвала ленту от своего лица и гадливо отшвырнула от себя ошметки. Алехин, тяжело дыша, вытер рукавом лицо. Они встретились взглядами.
— Сережа, как ты нашел меня? — осипшим низким голосом спросила незнакомка, наклонившись к нему. — Отвези меня домой, — говорила она по-русски, но с явным акцентом. Американским.
Произнеся это, она снова откинулась на спину и закрыла глаза.
Алехин попытался встать, но, опершись на руки, обнаружил, что совершенно их не ощущает. Сидя на полу и не спуская глаз со спины Сыромятникова, он начал массировать свои холодные, как лед, кисти. Через минуту по рукам побежало тепло. Сергей осторожно повернул лежащее тело и вынул из кобуры маньяка ПМ. Негнущимися пальцами с трудом передернул затвор. Бульдог больше не хотел испытывать судьбу.
Он упер ствол за ухо лежащего (на какое-то мгновение ему показалось, что по телу маньяка пробежала дрожь) и нажал на спуск. Пробившая череп деформированная пуля в облачке горячего пара, вращаясь, врезалась по касательной в пол, вырвала длинную щепу и застряла там.
Тело с пробитой выстрелом головой начало на полу замысловатый брейк-данс. Алехин вновь поднял пистолет.
— Oh my Go-o-o-o-d! — закричала оглушенная первым выстрелом Джейн, закрыв уши руками. — What the fuck are you doing?! He is fucking dead, is he?[64]
Словно очнувшись, Сергей опустил ствол и посмотрел на лежащего перед ним Офтальмолога. Из-под покойника потекла струйка мочи. Все было кончено.
На столике под иконами Алехин нашел свой паспорт, белкинский пропуск, кошелек, пистолет и документы своей спасительницы: толстый потертый синий американский паспорт, аккредитации России, Украины и ДНР, кошелек и конверт с несколькими сотнями долларов и тысячами рублей. Заначку Алехина в широком брючном ремне маньяк так и не обнаружил. Три телефона, один его и два ее, отыскались на подоконнике в хлебной корзинке, где лежало еще с десяток телефонов в разноцветных детских чехольчиках с сердечками, цветочками, мишками и Микки Маусом. Быстро раскрыв синий паспорт, он увидел фото и прочитал два главных слова: Jane Ashley.
«Никогда о такой не слышал, — подумал Алехин. — Откуда она меня знает?»
По аккредитационным карточкам на металлических цепочках он понял: журналистка.
Джейн нашла свой рюкзачок целым и невредимым в сенях. Все ее вещи — блокноты с записями, любительская камера, зарядные устройства, пакет с лекарствами — казались нетронутыми.
«Патриот» стоял напротив колонки, там, где Алехин и оставил его. Когда он медленно подъехал к дому, она уже сидела на крыльце, обхватив плечи руками, качая головой и дрожа всем телом.
Он вел машину молча. Пока ехали по прямой от Тореза до Донецка, она говорила с кем-то по телефону по-английски — как он понял, со своей редакцией. Сказала, что все в порядке, чтобы не беспокоились.
— No, no, I am fine, I am OK, — говорила она на удивление спокойным и бодрым голосом. — Lost connection for a while. A few technical problems, nothing I can’t handle. No danger at all. If you can take wires for breaking news I’d rather go on with my plan. I am onto something really big. Will write later in more detail. Take care, Eddie. Love you too[65].
Сергей был совершенно уверен, что никогда раньше не встречался с этой женщиной, чем-то… неуловимо похожей на Лену. Он даже не мог понять чем. Затмение какое-то. И глаза, и черты лица, и волосы — были другими. И голос другой.
«Русская американка, похоже, — лихорадочно складывал в голове кубики Алехин. — Обыкновенному американцу выучить так хорошо русский невозможно. Откуда она знает мое имя? Мы встречались? В Америке? В России? Где-то еще? Где?.. Когда?.. О’кей, проснемся — разберемся».
Когда Джейн закончила говорить по телефону, Сергей попытался дозвониться Белкину, чтобы сообщить, где найти труп маньяка, но оба номера были отключены. Липе он звонить не стал.
Через полчаса они уже были у отеля.
— Сережа, проводи меня до номера, плиз, — попросила Джейн, когда швейцар отворил дверь машины. — Мне страшно. Я боюсь.
Она все еще мелко дрожала, несмотря на удушливую вечернюю жару.
Сергей припарковал машину. Она ждала на ступенях. В лифте она обняла его и прижалась к нему всем телом. Он чувствовал, как ее бьет дрожь.
— Где твои камеры? — проговорила она ему почти на ухо. — Как ты вообще сюда попал? Я думала, ты в Киеве.
— Я был в Ростове, — машинально ответил Сергей. Он понятия не имел, о каких камерах шла речь. Ясно было одно: Джейн знает его. Давно и, кажется, даже близко.
«Неужели от удара настолько отшибло память? — промелькнуло в голове. — Остальное все вроде помню… Как я мог ее забыть?»
Лифт остановился на пятом этаже. Джейн достала из кошелька карточку. Открыла дверь, вошла внутрь, потом выглянула в коридор, где в нерешительности стоял Сергей.
— Ты не зайдешь? — спросила она. — Нам надо обо всем поговорить, но сначала мне срочно нужно в душ, или я умру прямо здесь. Here and now![66]
Он в первый раз увидел ее улыбку. Теперь она еще больше напоминала Лену. Сергей закрыл глаза, тряхнул головой, чтобы проснуться, если это сон, вновь широко распахнул их. Никакой Лены перед ним не было.
Дверь была открыта. Он вошел в номер. Джейн бросилась ему на шею, ища губами его губы. Нашла. Они целовались долго, не переводя дух.
— Мой мальчик, my soldier, my Seryozhen’ka![67] — зашептала она, наконец, оторвавшись от его губ, но продолжая быстро-быстро целовать его лицо. — Я поверить не могу! Все словно во сне! Теперь все будет по-другому, милый мой, милый мой…
И тут же поняла, что на нем действительно военная форма. Почему?
Сергей молчал. Джейн включила свет в ванной, вошла туда, не закрыв за собой дверь, сорвала с себя всю одежду. Носки стянула, не нагибаясь, а наступив на каждый. Вошла в прозрачную душевую кабинку и включила горячий душ на полную мощность. Через несколько секунд тысячи капель, стекающих по стенам кабинки, скрыли ее стройное мускулистое тело, словно в тумане. В изгибающемся под струями таком красивом, желанном силуэте Сергей снова увидел Лену.
Он сел на тумбочку в прихожей, не отрывая от нее взгляда. Потом резко встал, вошел в ванную, сбросил с себя одежду еще быстрее, чем это сделала Джейн, и открыл дверь кабинки…
Оттуда минут через десять он перенес Джейн в постель.
Проходя мимо их номера с подносом на колесиках, горничная лет пятидесяти, если не больше, в белом фартуке, чепчике и в короткой юбке-шотландке — фирменной униформе отеля, — на миг остановилась, услышав громкие звуки из-за двери.
Бутылка «Просекко» в ведерке со льдом, два высоких фужера и стеклянные вазочки с греческим салатом и «Оливье» на подносе позвякивали в такт ударам спинки кровати о стену. Горничная посмотрела на часы, укоризненно покачала головой и двинулась дальше в конец коридора.
Через час они лежали голые на огромной двуспальной кровати номера «люкс», глядя в потолок и касаясь друг друга лишь плечами. Простыня, словно выброшенный непонятно кем из них белый флаг, валялась на полу. Никто долго не мог вымолвить ни слова. Наконец, Джейн молча протянула руку к столику, пультом включила кондиционер.
Всего за пару часов они совершили путешествие из настоящего ада в настоящий рай. Джейн никогда в жизни не было так хорошо, как сейчас. Все было словно в первый раз. Ничего подобного она раньше никогда не испытывала. «Раньше я никогда и не принимала участия в убийстве», — подумала она. Но этот факт на удивление мало волновал ее сейчас. Представился бы ей случай, она сама сделала бы это, не задумываясь ни на секунду.
Сергей присел возле мини-бара на корточки, выбирая напитки. Своим загорелым, рельефным телом он в этой позе напомнил ей древнегреческого метателя диска с античных черепков в музеях.
— D’you care for something? — неожиданно спросил он по-английски, повернувшись к ней и обнажив калифорнийскую улыбку на загорелом лице. — Whisky? Coke?[68]
Джейн внимательно рассматривала Сергея. Шок от пережитого за последние двое суток не то чтобы прошел, но она вдруг стала понимать: что-то тут не так. Он… Он очень изменился. Она никогда не видела Прохорова раздетым. В одежде он не выглядел атлетом. Последний раз они виделись полгода назад. Мельком. Да и голос сейчас был какой-то странный, будто незнакомый, особенно теперь, когда Сергей вдруг заговорил по-английски. Это был он… и не он. Она почти не услышала акцента. Да, и еще кое-что… Улыбка. Глаза. Все не его. И самое важное. Да, этот шрам на щеке — белесый, давний. Откуда? Джейн не помнила у Прохорова никакого шрама. Память журналиста такого класса, как она, привычно цепляется за каждую деталь. И она никак не могла этого пропустить.
Джейн взяла из рук Сергея ледяную бутылочку, одним глотком выпила ее всю, запрокинув голову. Встала, подошла к журнальному столику, достала из рюкзака конвертик и, повернувшись к Сергею, сказала:
— Сережа, у меня два вопроса.
— Как я оказался там, и кто я такой? — в ответ спросил Сергей, поднося к губам бутылочку «Джека Дэниэлса».
— Почти угадал, — ответила Джейн. — Откуда у тебя этот шрам над губой? И… кто с тобой на этом фото?
Прикрывая грудь рукой, в которой был конверт, другой она достала из него фотографию и протянула Сергею.
Алехин сел на постель, держа фотографию перед собой. Голова закружилась. Он выронил бутылку. По спине волной прокатился леденящий холод, по груди и рукам побежали мурашки, но не от кондиционера. Глаза заволокло влажной туманной пеленой. Он не мог оторваться от фотографии, на которой увидел себя вместе с Леной и дочками.
— Откуда это у вас? — наконец вымолвил он совсем другим голосом. — Кто вы?
Джейн отступила на шаг, внимательно разглядывая Сергея. Не отводя взгляда, подняла с кресла гостиничный белый махровый халатик, одним движением набросила его на себя и, запахнувшись, спросила:
— And who the fuck are you, my friend?[69]
Глава двадцать вторая ПОГОНЯ
Донецк. Август
Они проговорили весь оставшийся день, вечер и всю ночь. До рассвета. Больше не было ни объятий, ни поцелуев. Когда стало светать, Джейн взяла свои вещи, зашла в ванную, переоделась и вернулась в новых джинсах и свежей блузке. Алехин сдал все свои вещи в срочную стирку в прачечной отеля. Джейн отдала ему свой халат.
Завтрак они заказали в номер. Она — овсянку, грейпфрутовый фреш, кофе с молоком и фруктовую тарелку. Он — яйцо «Бенедикт» и черный чай с лимоном. Завтракали молча, не глядя друг на друга, не в силах поверить тому, что с ними произошло. За вечер и ночь они словно прожили жизни друг друга. Говорили то по-русски, то по-английски.
Конечно, они поделились друг с другом далеко не всем. Она ничего не узнала ни о его связи с Книжником и бандитами, ни о счетах в швейцарских банках. Джейн чувствовала пробелы в его рассказе, но сама ни о чем не спрашивала. Она, в свою очередь, не распространялась о своей жизни в Техасе, и он не расспрашивал ее об этом.
Они поговорили про маньяка. Сергей рассказал, как раньше был копом и ловил Офтальмолога, но упустил.
— Оф-таль-мо-лог! — Джейн передернуло от ужаса, когда Сергей рассказал ей все детали. — Oh my God! It is a fucking «Silence of the Lambs»! But you didn’t come to Donbass to pursue the fucker, did you?
— No, I ran into him by chance.
— By the same chance you saved my life.
— I thought you saved my life, didn’t you?
— Calls for a drink, — она даже не улыбнулась. — Cheers[70].
Они выпили по бокалу. Алехин хотел было предложить ей выпить на брудершафт, чтобы как-то снять напряженность, но, посмотрев Джейн в глаза, раздумал.
Джейн рассказала Сергею, что Офтальмолог не вызывал у нее никаких подозрений. Она была готова ко всему на войне, но не к такому ужасу.
— Well, the thing is that the crazy motherfucker was not only after boys and girls[71], — начал Алехин на английском, но тут же перескочил на русский. — Он еще не брезговал рыжими девушками.
— Не брезговал? What does it mean?
— He loved redheads.
— I see now. It is not for nothing after all that I thought it was a curse when I realized I had freckles all over my face and red hair.
— You don’t have freckles any more[72], — Алехин взглянул ей в глаза.
Джейн смутилась, поднесла к губам бокал, сделала маленький глоток и рассказала Сергею, как убедительно маньяк играл роль честного офицера, обещая ей живых свидетелей, что видели, как русские стреляли по «Боингу» из «Бука».
— Ah, those Russians, — произнес Алехин с каменным лицом. — Are you sure?
— No doubt about that[73].
Джейн поведала ему детали своих многочисленных интервью. Показала фото «Бука 1–2». Сергей молча разглядывал фотографии, пил виски и изредка покачивал головой.
Потом они вновь вернулись к тому, с чего начали. И Джейн узнала многое о его семье. Она не совсем поняла, почему они из Лондона летели в Бангкок, но спрашивать не стала — какая, в конце концов, разница, коль уж случилось так, как случилось. Чтобы не разрыдаться и снова не броситься к нему на шею, ей пришлось попросить его налить ей еще виски.
Алехин уже не казался ей близнецом Прохорова. Это был совсем другой человек. И близкий, и… такой далекий. Ее обуревали противоречивые желания: она то хотела вновь протянуть руку и коснуться его лица, волос, то встать, вежливо поблагодарить его и попросить уйти. Но… они еще не выговорились до конца.
К часу ночи все четыре бутылочки виски из мини-бара были пусты, и Сергей заказал еще одну, большую, по телефону. К утру и от нее осталось меньше половины.
Джейн рассказала ему о сумасшедшей сельской старухе, которая подарила ей фотографию — Алехина и его семьи. Рассказала она о ее так и не начавшемся толком романе с Прохоровым. До Алехина, наконец, дошло, какая вышла «комедия положений». Он вспомнил тот момент на яхте, когда увидел своего двойника на экране. Значит, его тоже зовут Сергеем. Фамилию журналиста он запомнил, а имя нет. Тезка, значит…
— Life is stranger than fiction[74], — пробормотала Джейн.
— You bet, — кивнул Алехин. — When I meet him in person, I will try to compel him to join me in a DNA test. Who knows? Maybe we are twins after all.
— Well, he does not have a scar[75], — она в первый раз засмеялась.
— Я тоже не со шрамом родился.
— He’s forty four. And how old are you, Sergei?
— Forty two[76].
Итак, выходило, что они оба, каждый по-своему, расследовали одно и то же преступление и искали ответ на один и тот же вопрос: кто сбил «Боинг»?
Джейн пыталась объяснить Сергею, что происходит на Донбассе, рассказать про аннексию Крыма, про роль так называемых «добровольцев», «вежливых зеленых человечков», про роль президента Пухова, который «пришел к власти, организовав взрывы жилых домов в Москве и других городах и начав войну в Чечне», но… Она очень быстро поняла, почувствовала, что ему глубоко плевать на все эти дела и что романтическая история Майдана, как и все остальное, что произошло и происходило потом, ему… Как он сам честно и равнодушно сказал, «глубоко фиолетово».
— Что значит «фиолетово»? — спросила Джейн. — Я не понимаю…
— Это значит, что кто-то убил мою семью, — глухо сказал он. — Я просто хочу узнать правду и разобраться с теми, кто это сделал.
— Как — разобраться? Что ты имеешь в виду?..
— Вывести в расход.
— Что это? — Джейн понимала далеко не все идиоматические обороты по-русски.
— Well… Let’s say, take care of them.
— Oh, I see. Разобраться. Clear something out. You mean somebody.
— Exactly.
— Ok. What if this somebody is Russian defense minister or the president himself?
— Well, they are humans like you or me, aren’t they? A bullet in the head can take them out like any other motherfucker.
— Well it is something I can’t help you with[77], — Джейн внимательно посмотрела на Сергея.
В нем не было никакой злобы или ярости. Алехин казался ей спокойным и сосредоточенным.
— I want to see the bastards in the dock in the Hague, — продолжила она. — And I think I will find out soon how to get them there.
— What do you mean?
— I may land a witness, a real one. Down the chain.
— Are you sure you know what you are talking about? — Сергей вновь поднял голову. — Well, I have been here a couple of days but all I got so far are just rumors and speculations. I don’t even have an iota of fucking circumstantial evidence. And frankly I don’t have a clue how to get it[78].
— Посмотри на это, — Джейн протянула ему свой лэптоп, нажав на нем пару клавиш.
На разгорающемся экране Алехин увидел открытое письмо в ее электронной почте:
«Джейн, я знаю, что ты интересуешься этим. У меня есть свидетель. Большой человек, который получил приказ и выполнил его. Он хочет встретиться с тобой. Ему нужна защита. Он готов все рассказать. Твоя Алла.
P. S. Я дома. Ты знаешь, как меня найти. Ни слова по телефону. Только здесь. Жду тебя в Курске, если тебя это все еще интересует. Просто напиши ДА или НЕТ. И когда ждать».
— Кто такая Алла, и о чем это? — спросил Алехин, уже начиная догадываться, о чем.
— Алла — моя добрая подруга. Она корреспондент «Нашей газеты» в Курске. For your information Kursk is the place where a Russian anti-aircraft brigade is stationed[79]. Мой главный редактор сообщил, что, по его непроверенной информации из источника в спецслужбах, комплекс «Бук 1–2», ракета из которого сбила «Боинг», прибыл из Курска. Я не верю в такие совпадения.
— Are you sure you can trust this Ostrovskaya or whatever her name is?
— Absolutely.
— Well, you absolutely trusted Ophthalmologist.
— Well, she is not an Ophthalmologist[80].
Оба невесело усмехнулись.
— Well, I don’t really know how to thank you enough[81], — Джейн встала и начала прощаться.
Алехин понимал, что, если они сейчас расстанутся, он больше никогда не увидит ее, и… Если свидетель — в Курске, нужно ехать в Курск, пока тот еще жив. В таких делах жизнь свидетеля не бывает долгой.
— Can I go with you? — помолчав, спросил он.
— Where? — Джейн все поняла. Она пыталась говорить спокойно, но… бабочки, машущие крылышками у нее в груди, сбивали ее с мысли.
— To Kursk. You will be safer with me. Do you mind?
— Do I mind? — Джейн улыбнулась. — Under different circumstances I would. But I can’t leave you alone. You’ll be safer with me, officer[82].
Вещи Алехина оставались в машине. Машина была с российскими номерами, что сильно облегчало дело. Главное сейчас — как можно быстрее доехать до границы и пересечь ее. Когда Алехин с Захаровым и Рыбниковым въезжали на Донбасс, граница не то что не была на замке, она вообще не охранялась, но Сергей понимал, что ситуация может измениться в любой момент.
У Джейн была российская аккредитация и виза в американском паспорте, у Алехина — российский заграничный паспорт и пропуск, выписанный самим Белкиным. Но Сергей не знал, что Белкина уже почти сутки нет в живых. Армию ополченцев возглавил российский полковник-десантник Снегирев, его люди численностью до батальона уже разместились во дворце Каметова.
Узнав о смерти Белкина и не дозвонившись Алехину, заплаканная Липа приехала на автобусе во дворец за личными вещами. Ее даже не пустили на порог.
И самое главное, чего еще не знал Алехин, это что по распоряжению Снегирева с раннего утра все белкинские приказы и пропуска были отменены. Другое дело, что новость могла еще не дойти до всех блокпостов. Так что шанс вырваться из города у них еще оставался.
Джейн написала Островской, что она выехала и в течение двух дней рассчитывает быть в Курске. И спросила, могут ли Алла и ее свидетель ждать так долго.
«Можем, — ответила Алла. — У нас нет другого выхода. Один он не доедет до Москвы, не говоря уже о том, чтобы попасть в твое посольство».
Взяли с собой из отеля провизии и воды.
— На неделю мокрой голодовки, — пошутил Алехин.
Джейн не поняла юмора. Он не стал объяснять — не до того сейчас было.
Открыв багажник «Патриота», Сергей увидел ПКМ с пристегнутым увесистым коробом на сто патронов. Белкинцы забыли вынести при разгрузке. Короб был полностью снаряжен. Сначала Алехин хотел было отнести это добро на ресепшен, но раздумал. «До границы полтора часа, если без остановок, — подумал он. — В пути может пригодиться. Кто знает…»
Расплатились за гостиницу, подъехали к заправке. Заправились непонятно каким бензином. Кроме марки Super, никакого другого все равно не было. Но «Патриот» не «Лексус» и не «БМВ» — может ехать на чем угодно, не подведет. Он и не подвел. Утробно порычав, машина поартачилась для порядка минутку-другую, завелась и тронулась с места.
Алехин сидел за рулем. Он был в стираной военной форме без знаков различия. Лицо загорелое. Волосы короткие, серые. Если присмотреться — с сединой. Виски выбриты. Голова почти квадратная с этой стрижкой, как у настоящего американского GI. Глаза голубые, усталые, солнечные морщинки по уголкам глаз… Джейн украдкой взглянула на него. Опять почувствовала это странное ощущение, к которому никак не могла привыкнуть. Она давно все контролировала сама в своей жизни, а теперь… Словно наваждение какое-то. Ее спутник повернулся, поймал ее взгляд, улыбнулся краешком губ. Она опять с удивлением поняла, что смутилась под его взглядом, будто он застал ее за чем-то тайным. В замешательстве стала поправлять волосы. Неудобно было сразу отвернуться и уставиться в окно.
«What the fuck is going on here? — мысленно укорила она себя. — Wake up, silly school girl! Keep looking out the fucking window at the fucking war»[83].
За окном по широкому проспекту грохотали русские танки. На тротуаре стояло с десяток женщин с детьми, которые терли глаза от выхлопных газов и размахивали флажками-триколорами и садовыми цветами.
У разбитой витрины ювелирного магазина стоял охранник в черном комбинезоне, какие носят танкисты. В руках был автомат, на голове — марлевая повязки, под глазом — синяк, такой же черный, как костюм, во рту — сигарета, докуренная до самого фильтра. Перед ним две женщины в синих халатах и домашних тапочках на босу ногу сметали с тротуара битое стекло. Когда танки прошли дальше в центр города и рев моторов колонны стих, далеко за окраиной Донецка стало слышно канонаду. Словно оркестр тяжелых ударных и бас-гитары. Heavy metal[84].
— Howitzers, — хладнокровно сказала Джейн. — One hundred fifty two millimeters. And now Grad missiles. Now howitzers again[85].
Алехин в качестве прикомандированного мента провел в свое время три месяца на войне в Чечне. Давно это было. Стрелял. Из всего, включая ПКМ. В него тоже стреляли. Убивал. Его тоже пытались убить. Думал, что забылось. Лучше всего помнил только непролазную грязь — что зимой, что летом. Во время войны вообще все время стоит какой-то бесконечный ноябрь. Отвык. Хотя убивать так и не разучился. Но это совсем другое. И здесь вдруг не ноябрь, а лето. Жаркое и душное, как и война эта — другая. И эта другая война почему-то летом. Как по телевизору в сорок первом.
В отличие от Алехина, Джейн, побывавшая на десятке настоящих войн, держала пистолет только у себя под подушкой. На всякий случай. Она ведь родом из Техаса и стрелять умела. Но так до конца и не была уверена, сможет ли выстрелить, если что. Однако в цвете, запахе, музыке войны разбиралась лучше него. Там, где гремели разрывы, шла настоящая битва. Без дураков. И она приближалась. Как гроза.
* * *
Человек с опущенной головой брел по улице Ленина, озираясь по сторонам. Словно враг уже в городе, и смертельная опасность подстерегает за каждым углом. Его было трудно узнать. Он сбрил пышные есаульские усы с бакенбардами. Вместе с усами сбросил лет десять. Стал похож на круглолицего подростка, если бы не прятался за широкими, в пол-лица, солнцезащитными очками. Выцветшая, серая офицерская камуфляжная кепка почти касалась козырьком переносицы. Желтые американские армейские бутсы на легких и пружинящих подошвах покрывал толстый слой пыли — от тупых мысков до щиколоток. На правом ботинке шнурки развязались и волочились по плевкам, окуркам, подсолнечной шелухе, рано опадающей от жары листве и прочему мусору, который сухой ветерок гонял от одной переполненной зловонной помойки к другой. Он не замечал этого. Шел, не глядя под ноги. Взгляд за темными стеклами очков был устремлен в себя. На нем была кожаная куртка с потрескавшимися на сгибах рукавами и широкие камуфляжные штаны. Если бы он сменил головной убор на такую же кожаную, видавшую виды фуражку, то спереди, выше пояса напоминал бы чекиста из советских фильмов про гражданскую войну. Однако на широкой спине куртки в середине цветного круга, изображавшего то ли мишень в тире, то ли доску для дартса, маячил серебряный истребитель времен Второй мировой войны, оскалившийся кровожадной акульей пастью. Над верхней окаемкой круга выпуклая полукруглая, раскрашенная в цвета радуги надпись гласила SKY SHARKS[86]. Так что сзади он выглядел, скорее, как пилот, недавно ступивший с трапа своего бомбардировщика на землю после успешно выполненного боевого задания по бомбардировке Хиросимы. Ниже пояса этот образ разрушали мятые, подвернутые снизу камуфляжные брюки. В руке у человека был тяжелый ранец, так туго набитый чем-то, что его неудобно было нести за плечами. На боку болталась огромная черная кожаная кобура.
Звали человека Миша Грымов. Он не был ни чекистом двадцатых, ни американским пилотом Второй мировой. До вчерашнего дня он любил щеголять в высоких сапогах из рыжей блестящей кожи, в черной каракулевой бурке с полутораметровым размахом в плечах, в залихватски изогнутой фуражке с золотым двуглавым орлом и алым околышем. В армии ополченцев и добровольцев он был известен как есаул Гром, командир Третьего верхового батальона Войска Донского, полувоенной структуры, сформированной в Ростове из любителей щеголять в казацкой форме эпохи Николая II. Батальон Грома был брошен в пекло разгорающейся войны одним из первых — создавать Новороссию на пыльных просторах восставшего Донбасса.
— Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Донбассе шахтерам отдать… — Грымов любил цитировать классику. Он был романтиком русского мира, шальных денег и кидалова — неотъемлемого элемента любой российской предпринимательской деятельности.
Сорокадвухлетний Грымов начинал свою карьеру как банальный жулик и аферист еще в Ебурге, откуда был родом, а заканчивал — как военный преступник на Донбассе. В двадцать лет он возглавил Свердловское отделение «МММ», самой известной финансовой пирамиды на постсоветском пространстве. Когда разъяренные обманутые вкладчики, не имевшие возможности добраться до спрятавшегося в Москве Сергея Мавроди, искали Грымова, чтобы совершить над ним скорый и беспощадный суд уральского Линча, тот не стал дожидаться и сбежал в Таганрог. Куда вскорости пригнал армаду «Фольксвагенов», «Опелей», «БМВ» и «Ауди», которые намеревался сбыть по доступным ценам. Цены, по задумке Грымова, должны были настолько устраивать любого клиента, что он вряд ли отправится в Германию, чтобы изучить родословную престижных авто, которые на самом деле были самыми настоящими «утопленниками». По сошествии вод после знаменитого наводнения в округе Лейпцига, когда и Рейн и Мозель, словно сговорившись, вышли из берегов, утонувшие автомобили, обнаруженные на улицах Лейпцига и окрестностей, были немедленно сданы их законопослушными владельцами на металлолом. Как Чичиков, приобретавший мертвые души, так и предприимчивый Грымов на деньги, вырученные от пирамидальной торговли воздухом в Ебурге, скупил за гроши несколько сотен этих немецких железных «утопленников» и решил завалить высушенным, подкрашенным и отполированным хламом бездонный, наивный и доверчивый южнорусский рынок, чтобы стать первым парнем на деревне, то бишь на степных просторах Приазовья. Он был настолько увлечен своей аферой, что дополнительно заручился еще и коротким кредитом под безумные проценты у ростовских «хороших парней».
Но тут в грымовскую судьбу вновь вмешалось Провидение. На сей раз в виде другого природного катаклизма — бури со смерчем и градом с куриное яйцо. Град обрушился на Таганрог как раз в тот момент, когда привезенные Грымовым автомобили, стоявшие под открытым небом на футбольном поле заброшенного спорткомплекса общества «Олимпийские резервы», ожидали начала продаж. Град так хорошо поработал по полю бывшего спорткомплекса, что немецким утопленникам уже ничего не оставалось, кроме как отправиться теперь уже на российский металлолом. А будущему есаулу Грому Грымову пришлось вновь пуститься в бега, поскольку выплатить долг бандитам ему было нечем. Так он и путешествовал по огромной стране, перемещаясь с севера на юг и с запада на восток, от одной аферы к другой. Не успевая начаться за здравие, все его делишки кончались за упокой.
И вот, уже переселившись в Ростов, Грымов решил, наконец, покончить с надувательством и обманом и начать зарабатывать на жизнь честным продюсированием концертов заезжих звезд эстрады. Одновременно он стал организовывать фестивали казачьих песен и плясок и так удачно вписался в ряды этих ряженых, что вскоре был удостоен звания казачьего есаула.
Продюсерский талант отрастившего казацкие усы и пушкинские бакенбарды Грымова раскрылся всеми гранями. Бизнес его распухал, как на дрожжах. Звезды эстрады, отечественные и импортные, такие как Калерия, Прикоров, Заноза и даже десятый состав «Дип перпл», а также обязательные Челентано с «Рики и повери», во время своих регулярных чесов по бескрайним просторам жадной до талантов России-матушки не брезговали Ростовом и от грымовского хлебосольного гостеприимства не отказывались.
И все вроде устаканилось в жизни бывшего афериста Грымова. Он женился, развелся и снова женился, раздал долги, купил пятикомнатную квартиру в престижном районе города. Казалось, жизнь удалась, но… Тут его и подвел под монастырь не какой-нибудь «Ласковый май», а сам великий Элтон Джон, концерт которого он взялся организовать на главном стадионе Ростова, куда за безумные деньги были проданы тысячи билетов — в основном чиновничье-криминальной элите города и области. Скупой и меркантильный Грымов страховкой мероприятия, как всегда, не озаботился.
Собственно говоря, в разразившейся в жизни Грымова очередной катастрофе виновата была не столько английская суперзвезда, сколько президент России Вадим Вадимович Пухов, который за месяц до назначенного концерта аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе. Элтон Джон в знак протеста отказался от поездки. Неприятности случаются в любом бизнесе, и к ним нужно быть готовым. Но Грымов вновь оказался не готов. Свою долю от вырученных за несостоявшийся концерт средств — несколько миллионов рублей — он успел истратить на покупку дома в самом престижном районе города.
Расстроенные зрители потребовали деньги назад. Чтобы расплатиться, можно было продать дом. Но, как назло, в короткий срок Грымову сделать это не удалось — в связи с тем, что из-за изменившейся международной обстановки цены на недвижимость в Ростовской области моментально обвалились.
Посему он не смог придумать лучшего плана, как возглавить один из батальонов Войска Донского, отправляющихся на Донбасс воевать за русский мир, чтобы избежать гнева кредиторов, а заодно и половить рыбку в мутной воде. Кому война, а кому мать родна. Грымов нутром чувствовал, что «гражданская война» потому и называется гражданской, что, кроме всего прочего, открывает интересные возможности для граждан. Вроде него.
Министр обороны новопровозглашенного образования Белкин обещал каждому казаку, участвующему в «освободительной войне», по пятьдесят тысяч рублей в месяц. А уж есаул да еще и командир батальона должен был получать в пять раз больше. Грымов не боялся пасть в бою, поскольку был уверен, что воевать по-настоящему его казачкам просто не придется — не с кем там было воевать.
Однако, оказавшись в Донецке, он быстро избавился от своих наивных заблуждений. Воевать там оказалось очень даже есть с кем, и с каждым днем эта война приобретала все более суровый характер. О том, что донбасский поход окажется приятной прогулкой, пришлось забыть. Но о деньгах — нет.
И тут Грымов совершил злодеяние, к которому шел всю свою несознательную жизнь.
Его батальон второй месяц находился на передовой, не получая жалования, когда от Белкина есаулу привезли мешок с деньгами, чтобы Гром наконец-то после ротации (выхода с передовой) расплатился со своими казачками.
В последний день перед ротацией, во время вялотекущей перестрелки с украинскими войсками, российская артиллерия неожиданно накрыла своих. Удар пришелся именно по тем окопам, в которых находились казаки батальона Грымова. Около ста семидесяти человек были убиты на месте, десятки — ранены. Ни среди тех, ни среди других самого Грымова не оказалось. В момент артналета он отчего-то находился не со своими подчиненными, а в Донецке, на складе амуниции и боеприпасов. Белкин лично возглавил расследование и довольно быстро выяснил, что ложные координаты целей артиллеристам дал сам есаул Грымов.
Когда белкинские чекисты явились в казацкий штаб арестовывать Грымова, оказалось, что есаул исчез. Он сховался у одной бабы в Донецке — залег на дно. Возмущенные казаки всех батальонов, а не только те, кто выжил из грымовского, бросили играть в войнушку и принялись день и ночь искать есаула-дезертира по всему Донбассу.
В утро описываемых событий бывший сожитель бабы, укрывшей Грымова, громадный, как Кинг-Конг, шахтер из Горловки, вернулся к ней и выкинул есаула, как драного кота, на улицу. По этой самой улице Гром теперь и шел, объятый тяжелыми думами о том, «куда жить дальше» или где найти транспорт, чтобы безопасно добраться хотя бы до российской границы. Сердце Грома согревала лишь мысль о казачьих смертных миллионах в его ранце.
Запарившись, Грымов остановился у ларька с напитками и купил бутылочку холодного «Байкала». Он поставил ранец на тротуар, снял кепку и очки и стал вытирать платком пот со лба, когда рядом остановился огромный неказистый джип, и водитель резко открыл свою дверь. Грымов бросил ополовиненную бутылку под ноги, подхватил ранец и собирался уже пуститься наутек, как сзади его дружелюбно окликнули:
— Мишка, старик, ты, что ли? Сколько зим, сколько лет!..
Голос показался Грымову знакомым. Он нерешительно повернулся и увидел Сережку Алехина, стоящего возле открытой двери «УАЗа Патриот».
Одноклассники с самого первого дня в школе, они не виделись больше двадцати пяти лет, но легко узнали друг друга, несмотря на военную форму. Они никогда не были закадычными друзьями: Грымов — племянник директора и мальчик-паинька, Алехин — хулиган и сорванец. Но сошлись и даже поддерживали довольно тесные отношения на почве коллекционирования почтовых марок — оба были заядлыми филателистами. Обменивались марками, вместе ездили на книжную толкучку в центре города, где один проход был отдан филателистам. Потом, в пубертатный период, когда их страсть к почтовым маркам уступила место иным «страстям», они уже так тесно не общались. А в девятом классе, когда директриса Роза Исааковна уехала в Израиль, семья Грымова переселилась в другой район, и его след мало-помалу затерялся. Сергей слышал краем уха, что Грымов стал крутым бизнесменом и греб деньги лопатой, а Грымов знал, что Сергей стал легавым и уехал в Москву.
«Ничего себе!» — облегченно выдохнул про себя Грымов. И мгновенно подумал, что даже если Алехин и осведомлен о его здешнем залете, то по старой дружбе вряд ли его сдаст.
К счастью для Грымова и к несчастью для Алехина с Джейн, Сергей ничего об этом не знал. Он был ошарашен встречей и предложил подвезти однокашника, если тому по дороге. Оказалось, еще как по дороге.
«Один ствол хорошо, а два лучше, — подумал Алехин. — Особенно на войне».
Они обнялись, похлопали друг друга по спинам, и Алехин пригласил Мишку в машину.
— А это моя подруга Женя, — сказал Алехин. — Она журналистка из «Нашей газеты».
Грымов закивал, что-то бормоча о том, как ему приятно познакомиться. Джейн же от такого представления совсем не была в восторге. Как многие американцы, она страдала аллергией на вранье. И считала, что всегда лучше сказать правду, особенно когда лгать не обязательно, но… В конце концов решила, что Алехину виднее. Она не доверяла незнакомцам, но когда Сергей объяснил ей, что это его школьный друг и все в порядке — мол, втроем веселее и надежнее, — она согласилась и успокоилась.
В машине оба старых приятеля продолжили врать. И наврали друг другу, что называется, с три короба. О том, что оба были теперь успешными бизнесменами и приехали на Донбасс по зову сердца. Причем рассказ Грымова звучал более правдоподобно, так как он подкрепил его демонстрацией своей аляповатой корочки казачьего офицера. У Алехина была похожая, выданная Белкиным, но она была на имя Жданова, а вдаваться в такие подробности Сергей не хотел.
Джейн к их трепу не прислушивалась. Она сосредоточенно проверяла свою почту, пока они еще были в городе и у нее работал мобильный Интернет.
— Белкина убили вчера, — вдруг сказала она по-русски. — Взорвали машину, а потом снайпер добил.
Ни Алехин, ни Грымов сначала не могли понять, как реагировать на эту неожиданную новость. Грымов понимал, что, жив Белкин или мертв, казаки не перестанут его, Грымова, искать хоть на краю света. Алехин же сразу осознал, что теперь его личный белкинский пропуск, как, впрочем, и пропуск на машину могут оказаться филькиной грамотой, и на блокпостах машину могут тормознуть.
Не доезжая около пятисот метров до последнего городского блокпоста, Сергей остановил машину за сгоревшей бензоколонкой — той самой, на которой четыре дня назад застрелил трех чеченцев, обидевшихся на эмоциональный выплеск писателя Захарова. Заглушив мотор, он по-русски предложил Джейн выйти, сказав Грымову, что проводит ее до ближайших кустов, в туалет, потому что следующего подходящего места до границы может не оказаться, учитывая военные действия.
Грымов остался сидеть на заднем сиденье.
— Plan «A» may not be working any more, — сказал Сергей, когда они обошли пепелище бензоколонки. — Belkin is dead and if the Russians are serious about this war the pass signed by Belkin which is displayed in our front window may no longer be valid.
— What do you suggest?
— I suggest removing it.
— And?
— You drive the car to make us look less suspicious. You have all the proper media credentials which allow you to freely move around the place. I will swap seats with my friend since he is an official officer of their army. In case they don’t like my Russian passport you can always say that I am your translator and he is your official guard.
— Sounds fair enough[87], — сказала Джейн, и они вернулись к машине.
Грымов отказался садиться на переднее сиденье. Сказал, что у него там все время кружится голова. Но добавил, что, если будут проблемы, он выйдет из машины и все разрулит.
Проблем не возникало до самого Тореза. Завидев женщину за рулем, машину ни разу не остановили, но, уже переехав железнодорожные пути со сломанным и валяющимся в стороне шлагбаумом, они увидели, что дорогу перегородил казачий разъезд. Казаки были верхом на лошадях, в папахах и с шашками на поясе.
Делать было нечего, пришлось остановиться. Не сходя с лошади, бородатый казак в огромной черной папахе, налезавшей ему на глаза, и с двумя «Георгиевскими» крестами, болтавшимися у него на груди на черно-оранжевых ленточках, нагнулся и постучал рукояткой нагайки в водительское стекло. Джейн сбила его с толку своей белозубой улыбкой и иностранным паспортом, в котором все было на «басурманском» языке и даже фотография в паспорте — и та с улыбкой. Казак смутился, отъехал в сторону, словно собираясь дать знак своим пропустить машину, но вдруг передумал и подъехал теперь уже к задней двери со стороны водителя.
Грымов на заднем сиденье сделал вид, что вообще не замечает казаков. Он сидел, не шевелясь, положив руку на кобуру и опустив голову, словно дремлет.
Казак постучал в его окно. Грымов стекло не опустил, но медленно вытащил пистолет.
— Мишка, что ты делаешь? — не понимая, что происходит, спросил Алехин. — Открой окно, покажи свою ксиву и поедем дальше.
Казак постучал уже сильнее. Другой казак подъехал к алехинской двери и стал снимать автомат, висевший у него за спиной дулом вниз. Лошади двух других, словно почуяв неладное, стали переминаться с ноги на ногу, гарцуя перед машиной. Их всадники тоже потянулись за автоматами.
Казак у грымовской двери вытащил из кобуры ТТ и настойчиво постучал стволом по стеклу.
— What the fuck is going on? — негромко спросила Джейн, не поворачиваясь и не выключая мотора. — Why don’t you roll down the fucking window for fuck’s sake?[88]
Грымов по интонации уловил смысл, даже не врубившись, что девушка говорила по-английски.
— Это бандиты, — тихо сказал он. — Это не казаки. Я своих знаю.
Не расслышав, что бормочет этот странный русский, Джейн нажала на кнопку заднего пассажирского окна у себя на двери, и стекло пошло вниз. В окне появилось лицо казака — и тут же перекосилось, когда… он опознал в пассажире есаула Грома.
Казак ничего не успел — ни сказать, ни сделать. Мишка выстрелил ему в лицо.
Шапка отлетела в сторону, как подбитая ворона. Голова казака раскололась, как спелый арбуз. Прямо из развороченной выстрелом физиономии забил фонтан крови. Верховой дернулся, свалился на бок и повис на стременах.
«Миша тоже стреляет пулями hollow point? — успел удивиться Алехин, когда секундой позже выпустил, одну за другой, три пули из своего пээма во всадника за окном с его стороны. — Интересно, откуда у него?»
Даже мысли, особенно если они посторонние, отнимают драгоценное время. Казак успел увернуться, и, по крайней мере, две пули попали в шею лошади. Та раздула ноздри, заржав, встала на дыбы и рухнула, увлекая всадника за собой.
Джейн что есть силы вдавила педаль газа в пол. «Патриот» сорвался с места. Один казак успел отпрыгнуть на коне. Лошадь другого, что стояла чуть дальше, от удара тяжелого джипа перелетела через капот, вдавив в него всадника, а потом вместе с ним съехала набок и рухнула на обочину, пока «Патриот» быстро набирал скорость.
Последний всадник успел снять автомат и дал длинную очередь по уходящей машине. Стекло багажника разлетелось вдребезги. Один срикошетивший стеклянный осколок воткнулся Алехину в лоб, и вновь прямо над бровью. Он выдернул его. Кровь залила глаза.
На неровной с глубокими воронками и колдобинами дороге машину подбрасывало, как на ралли Париж — Дакар. Джейн понимала, что ехать быстрее — смертельно опасно. И старалась не прибавлять скорость, а лучше следить за дорогой, чтобы не вылететь в кювет.
Уцелевший казак остался далеко позади. Он палил по «Патриоту» до тех пор, пока тот не скрылся за поворотом. Опустошив рожок, казак спешился, положил автомат на дорогу и достал телефон. Две раненые лошади лежали рядом, придавив всадников, и в смертельной агонии били по воздуху ногами. Третья рванула с места и галопом понесла мертвого казака с развороченной головой через капустное поле к водокачке. Свесившийся набок труп раскрытыми кистями стучал по неспелым сине-зеленым кочанам, которые вылетали из-под копыт его обезумевшего коня, как срубленные головы.
Придавленные ранеными лошадьми верховые не подавали признаков жизни. Автоматная стрельба и протяжное лошадиное ржание распугало ворон, десятки которых снялись с огромного тополя на обочине и с резким тревожным карканьем полетели прочь.
Алехин вытер лицо и повернулся к Мишке. Тот был мертв: одна пуля вошла ему в лоб, другая — под левую ключицу, когда он развернулся, чтобы открыть ответный огонь.
Возле Успенки шлагбаум блокпоста был закрыт. Джейн сходу, не снижая скорости, снесла его. Через минуту Алехин, оглянувшись, увидел пару разворачивающихся у блокпоста зеленых «уазиков», пускающихся в погоню.
Джейн не произнесла ни слова. Она вела машину, как робот. Джипы быстро нагоняли их. На одном из них тент был снят, и стоявший в кузове солдат устанавливал на крыше кабины пулемет. Алехин вспомнил о ПКМе в багажнике. Подскакивая и ударяясь об потолок головой на каждом ухабе, он быстро опустил спинки задних сидений, отодвинул труп Грымова подальше к двери и уже как следует вытер лицо тряпкой, которая попалась ему в багажнике и пахла бензином. Кровь из пореза на лбу больше не текла.
«То ли бензин так подействовал, то ли вся вытекла», — успел подумать Алехин, раскрывая сошки ПКМа и взводя затвор.
Он выбил прикладом остающиеся в раме куски стекла и, выставив сошки наружу за раму, чтобы приклад не бил в плечо при стрельбе, прицелился в ближний джип. Оба «уазика» были уже метрах в семидесяти от «Патриота». Их пулеметчику стрелять на такой дороге и скорости тоже было неудобно, но он делал свою работу профессионально. Пули прошили салон «Патриота», переднее стекло сразу разлетелось вдребезги.
Не оглядываясь на Джейн, Сергей начал длинными очередями стрелять по приближающимся машинам. Патроны в коробе кончались, а он так и не сумел ни в кого попасть, Алехин обернулся к Джейн.
Увиденное им не то что удивило, а ввергло его в ступор: «Она просто рехнулась», — пронеслось в мозгу. Одной рукой Джейн держалась за руль, а другой, не глядя, снимала происходящее у нее за спиной своим айфоном.
В этот момент, словно почувствовав его взгляд, она обернулась к нему, не прекращая съемку. Пару секунд они смотрели друг другу в глаза, прежде чем Сергей крикнул, пытаясь переорать рев мотора и свист ветра и пуль:
— Fucking running out of fucking ammo! Can you fucking speed up the fucking thing, woman?!![89]
«Господи! — успела подумать она по-русски, прежде чем вновь повернуться к дороге. — Как это все красиво!»
Алехин отвернулся и снова стал стрелять. Последней очередью он то ли попал в «уазик», на котором был установлен пулемет, то ли его водитель на очередной колдобине не справился с управлением, только машину преследователей занесло, и она, перевернувшись несколько раз, скрылась в глубоком кювете в облаке пыли.
Второй джип тут же сбросил скорость и отстал.
У самой границы беглецы осторожно обогнали длинную бронеколонну, которая, неспешно гремя, двигалась в сторону России. Десантники на броне БМП и БТРов, не обращая внимания на выбитые стекла «Патриота» приветливо махали руками рыжей девушке за рулем. Они были в хорошем настроении. Война осталась за спиной.
Границу Джейн и Алехин узнали по обгоревшим будкам и черным от сажи остовам пропускников — ее никто не охранял, как и в первый раз. Сразу по пересечении пограничной черты Алехин выкинул в разбитое окно пулемет и кучу еще теплых стреляных гильз, которые сгреб руками. Джейн остановила машину. Они оба спустились на землю. Не произнеся ни слова, Джейн бросилась Сергею на шею и несколько долгих минут стояла, всем телом прижавшись к нему, не в силах отпустить.
Глава двадцать третья БАРВИХА
Ростовская область. Август
Ваня Краснов сидел на завалинке фельдшерского пункта в селе с необъяснимым названием Репяховатый. Жара стояла страшная. Тяжелые капли, одна за другой, скатывались у него с кривого, поблескивающего влагой носа на небритый подбородок, который Ваня все время вытирал кулаком, выплюнув очередную порцию подсолнуховой шелухи. В селе мастеровитей него семечки никто не лузгал — талант от бога. Он бросал их в рот одну за другой, штук пять или шесть, и только потом приступал к замысловатым выкрутасам зубами и языком. Очищенные семечки пролетали дальше в пищевод, а шелуха аккуратно складировалась в надутой пузырем правой щеке, словно в мешочке у хомяка. По завершении обработки каждой новой порции Краснов смачно выплевывал влажное месиво себе под ноги. На вытоптанной земле под скамейкой уже образовалась горка шелухи, похожая на среднего размера лесной муравейник.
Краснов работал здесь последние десять лет, с тех пор как вернулся из армии, где тоже служил фельдшером, окончив до призыва медучилище и не поступив в ростовский медицинский. Работа не пыльная, на полставки, три раза в неделю, чтобы в каком-то чиновничьем кабинете ленивый и осмотрительный столоначальник с осознанием своей неизмеримой полезности ставил очередную галочку в отчет об охвате населения медицинской помощью. В остальные дни Ваня подрабатывал извозом, когда его винтажная тачка была на ходу. Возил сельских жителей за умеренную плату в Куйбышево или даже в Ростов на своем древнем «Москвиче-407» времен «Книги о вкусной и здоровой пище». И то и другое было единственным наследством, оставшимся от дедушки и передаваемом из поколения в поколение. Дедушка был председателем колхоза, честным и принципиальным коммунистом-ленинцем. Ничего толком не нажил, кроме «Москвича». За долгие годы в третьем поколении Красновых предмет роскоши превратился в музейный экспонат.
Местные жители уважали Ваньку за умелые руки и предпочитали его тихоходный тарантас современным такси, управляемым, как правило, какими-то бешеными цыганами или обкуренными «чебуреками». Все свободное время Ваня возился с автомобилем, который не мог прожить без ремонта и дня. Сине-белый, крашеный-перекрашенный, как забор детсадовского палисадника, «Москвич» стоял рядом, глядя на дорогу грустными фарами-глазами.
Ваня еще вчера понял, что движок накрывается и нужен «капитальный» или замена. Надо было ехать в город, искать у гаражников какой-нибудь хлам, прилаживать его пару месяцев, чтобы продлить агонию еще на месяца два-три до следующей капиталки.
«Честно говоря, задолбала уже эта железяка хý…ва, — подумал Ваня, украдкой взглянув на своего пятидесятилетнего «конька-горбунка». — Правильно мамка говорит. У меня из-за тебя, “москвиченыш”, ни семьи, ни детей…»
Ваня вытащил из кармана халата очередную пригоршню семечек. Он любил сухие, остроносые, серые с белыми прожилками, а не подгоревшие жареные — черненькие и маленькие.
На нем был белый халат, замызганный то ли кровью, то ли марганцовкой, накинутый на голое тело. Костлявая грудь с влажными серыми волосками вылезала из прорези незастегнутого халата, словно Ваня — прямиком из бани и балдеет на солнышке.
Его невеселые мысли мигом улетучились в облаке пыли, когда что-то огромное и рычащее из железа и битого стекла остановилось перед ним на полном ходу, и оттуда выскочил военный с загорелым лицом и кровоподтеком на лбу над правой бровью.
Ваня травмы видел за километр. Мог оказать любую помощь — остановить кровь, измерить давление, вправить вывих, продезинфицировать и перевязать любую рану, сделать любой сложности укол (было бы что и куда колоть), вытащить гвоздь из пятки и даже принять роды, если кому приспичило (что пару раз уже случалось).
Роды принимать в этот раз не пришлось.
— Паренек, слышь, помоги! — крикнул военный, рывком открывая багажник с выбитым стеклом.
Ваня охотно помог. Они перенесли тело в смотровую (другого помещения в пункте и не было). Положили спиной на стол. Нехорошие мысли зародились у Вани, как только он взялся за ноги пациента. Голова пострадавшего свешивалась назад. Посреди груди на зеленой армейской майке расплылось широкое темное пятно. Пока военный вытирал руки о штаны и доставал из нагрудного кармана какие-то бумаги, Ваня натренированными пальцами попробовал прощупать пульс. Которого, как он и предполагал, в наличии не оказалось. Разглядел он теперь и аккуратное пулевое отверстие во лбу.
— Так он, того… преставился уже, — поставил диагноз фельдшер. — Ранения, того… несовместимые.
— Так точно, — подтвердил военный. — Убит при исполнении.
— Ну а я-то чем могу помочь? — развел руками Ваня. — У меня не то что морга, а и морозильника нет. Только холодильник «Саратов». С лекарствами внутри. Они ему уже не помогут.
— Вызывай полицию. И «скорую» из города. Пусть забирают. Вот его документы.
Алехин положил на тумбочку у двери паспорт и другие документы Грымова, которые он нашел в карманах его куртки.
— Не могу я его принять. Не местный он. Вы его привезли — вы и везите в город.
— Не пойдет. Скажешь, сам приехал.
— Ага, приехал. Сам, бля. С дыркой во лбу.
— Тогда скажешь участковому, мол, так и так, тело обнаружил на дороге. Сейчас принесу тебе всю сопроводиловку — все, что полагается.
Алехин вышел на улицу. Быстрым шагом дошел до машины, открыл рюкзак Грымова, вытащил оттуда три пачки, поднялся на крыльцо к Ване, стоявшему в дверях, и протянул ему деньги.
«Триста штук, по сто в каждой, — тут же прикинул Ваня. Взяв бабки, он побежал в смотровую и быстро спрятал их в тумбочку.
Алехин тем временем принес из машины еще две пачки. У Вани защемило под ложечкой.
— У тебя лимузин на ходу? — спросил Алехин.
— Чего? — не сразу понял вопроса ошалевший от привалившего богатства фельдшер, который в мыслях уже сидел в новой «Ниве» фиолетового цвета. — Ах, «Москвич»? Да, конечно, на ходу. До Киева довезет.
— До Киева — в следующий раз, — Алехин протянул фельдшеру деньги и, словно прочитав его мысли, добавил: — Кстати, не обязательно покупать «Ниву». Можно отремонтировать «Патриот». Лучше и надежней лошадки не придумать. Проверено.
Фельдшер, не веря своим глазам, уставился на огромный джип, о котором и мечтать не мог.
— Жестянку сделать, — продолжал Сергей. — Подрихтовать чуток, вставить стекла — и катайся на здоровье. Картошку — мешками вози.
С этими словами Алехин протянул фельдшеру руку. Ваня принялся благодарно жать ее.
— Давайте, я вам ранку обработаю, — от избытка чувств предложил он, поглядев на лоб Алехина. — Перекисью. Я мигом.
Ваня принес из пункта ватку и пузырек с перекисью, протер Алехин рану и достал из кармана ключи от «Москвича».
— А вы откуда едете? — вдруг спросил он.
Алехин молча показал большим пальцем правой руки себе за спину.
— Понятно, — кивнул Ваня. Он понял, что с вопросами лучше завязать, но напоследок не удержался: — А теперь куда?
Алехин молча ткнул указательным пальцем той же руки вперед.
— Вас понял, — улыбался и продолжал кивать Ваня. — Ровной дороги.
— Да, вот еще что, — сказал Алехин. — Ты ничего не видел и не слышал. Так ведь?
Он посмотрел на Краснова взглядом, от которого тому стало не по себе. Фельдшер почувствовал себя бутылочкой перекиси на верхней полке холодильника «Саратов».
— Конечно! — Ваня уже заметил красивую рыжую девушку, которая успела выйти из автомобиля и внимательно рассматривала свое лицо в разбитом боковом зеркале. — Не вопрос!..
Алехин и Краснов обменялись ключами.
Сергей еще раз зашел в смотровую. Постоял над телом Грымова.
«Интересно, — подумал он. — Вот лежи я сейчас на твоем месте, я… Может, уже встретился бы с ними? Или…»
Помолчал еще несколько секунд, тихо сказал:
— Короче, прости, Миша, — и вышел на улицу.
Ваня тактично ждал снаружи.
«Москвич» завелся с пол-оборота. Беглецы перенесли туда вещи и уехали.
Краснов помахал им вслед. Мысленно извинился перед дедушкой и отцом, перекрестился. Потом, словно от удара током, подскочил, бросился в смотровую, рывком открыл верхний ящик тумбочки — и облегченно выдохнул. Деньги на месте.
Он еще раз перекрестился, взял с тумбочки телефон и начал набирать номер. Но после двух цифр остановился и положил телефон обратно на тумбочку. Вышел, обошел здание, скрылся в сарае и через пару минут вернулся. В руках у него было две лопаты — штыковая и совковая.
С большой дороги вновь раздавался грохот танков…
Ростов-на-Дону. Август
— Завтра в час дня машина будет у отеля, — сказал Гена Филимонов, по кличке Гитлер, когда закончил разговор с каким-то Гогой по телефону. — «Шкода Октавия». Семилетка. Состояние отличное, Сергей Михайлович. Все тип-топ. Номера будут не курские, а воронежские. Соседняя область. Они там как родные. В глаза не бросаются. Курск — Воронеж — хрен догонишь. Номера реальные — не туфта. Люди проверенные. Давно с ними работаю.
Гитлер суетился. Больше чем нужно. Алехин обратил внимание, как часто тот облизывает языком сухие губы. Как у него дрожали руки, когда деньги принимал и укладывал их при нем в платяной шкаф. Алехин даже на кухню вышел, чтобы его не смущать.
— Хорошо. Договорились, — сказал Сергей. — Давай прощаться. Спасибо тебе за военный билет. Может, еще пригодится где.
Филимонов, как обещал, сделал военный билет. От настоящего не отличишь. И даже карточку как-то омолодил. Профи.
«Но что-то этот профи уж непривычно дерганый какой-то, — пронеслось у Алехина в голове. — Да и глаза его, когда мне дверь открыл. Словно привидение увидел… Похоже, не ждал».
Он обнял Гитлера крепче, чем нужно, когда прощались. И ему показалось, что он услышал, как у того бьется сердце.
— Звоните, если что, — скороговоркой пробормотал Гитлер, пока стоял в дверях, ожидая, когда за Алехиным закроются двери лифта.
Сергей ничего не сказал Гене про Джейн. Лишняя информация. Чем меньше тот будет знать, тем лучше.
Они так и не доехали до города на фельдшерском «Москвиче» — мотор накрылся. Таксист привез их в отель «Эрмитаж». Четыре звезды. На улице Ульянова. Сняли не один номер, а два, оба на имя Джейн. Она осталась в своем. Ей нужно было связаться с редакцией, с Островской, да и прийти в себя после боевика с погоней.
Они попрощались до утра. Той ночи в Донецке словно и не было. Словно вообще ничего не было.
«Ну и ладно, — подумал Алехин, когда перед ним захлопнулась дверь ее номера. — Будет, как будет».
«Нет, что-то не так с Гитлером… — его мысли вновь вернулись к Филимонову, пока лифт подъезжал к первому этажу. — Ведь и я почему-то не стал ему звонить, договариваться, а нагрянул домой среди ночи. А он не ожидал. Как-то он очень сильно не ожидал, если мне не привиделось».
Алехин вышел из лифта, подошел к двери подъезда, громко хлопнул ею, вышел на улицу, сориентировался, что окна Гитлера выходят на другую сторону, и на цыпочках, через ступеньку, побежал обратно на четвертый этаж.
Гитлер открыл дверь на первый же звонок. Как будто стоял за ней и ждал. Зачем он открыл дверь? Как так получилось? Гитлер сам не мог понять. В руке у него был телефон, а в глазах — ужас. Не говоря ни слова, Алехин выдернул у него телефон, захлопнул за собой дверь и, одной рукой придерживая Гитлера за ворот халата, другой набрал последний высветившийся номер.
— Да, Гитлер, — взял трубку вызываемый абонент. — Что еще?
Голос Книжника Алехин узнал бы из тысячи голосов с первого слова.
— Гитлер капут, — сказал он после короткой паузы. — Как вы, Евгений Тимофеич?
— Твоими молитвами, Сережа, — без паузы ответил Книжник, не меняя тона. — С приездом. Как жив-здоров? Не простудился в океане?
«Значит, я был прав, — подумал Алехин. — Они меня еще тогда вычислили».
— Ну, ты надолго на побывку? — продолжил Книжник. — Как там русский мир? Держится?
Алехин посмотрел на Гитлера. Тот был белее потолка. Было ясно, что Гена заложил его еще в прошлый раз, и Алехин чудом остался жив, раньше времени уехав из Ростова в компании с Рыбниковым и Захаровым.
Какое-то время Книжник с Алехиным молчали, прислушиваясь к дыханию друг друга. Книжник прервал паузу первым.
— Сережа, ты решай там не больно, ладно. Он — душа подневольная, — было слышно, как Книжник делает глоток. — Хотя делай, как знаешь. Крысятничать — западлó.
— Хорошо, только с одним условием, — ответил Алехин. — Евгений Тимофеич, не ищите меня больше. Я тут один проект доделаю и сам вас найду. У нас ведь остаются еще общие темы?
— Остаются, Сережа, остаются, — Книжник сделал еще один глоток. — Буду ждать.
Они одновременно отключили связь.
В следующую секунду Гитлер уже валялся на полу в кухне, притянув ноги к подбородку и скуля. «Менты по яйцам промахнуться не имеют права», — любил говаривать Слуцкий.
— Гена, ты меня очень огорчил, — Алехин вытащил из-за пояса ПМ и взвел затвор. — Ты ж меня крестным своим называл. Тебя бы на куски порезали, крыса, на колбасу, если бы я не нарушил одну из главных заповедей — не класть столько народу из-за одного куска такого говна, как ты. Как же ты мог, сученок?
— Он бы меня убил, Сергей Михайлович, — скороговоркой заверещал Гитлер, даже не пытаясь подняться с пола. — У него везде свои люди. Они следят за мной. Они и вас тогда сами выследили. Я не при делах. Честно говорю… Как на духу, Сергей Михайлович. Вы ж знаете, как я к вам отношусь…
— Теперь точно знаю, как относишься, — Алехин подошел к Гитлеру. — Я думал, что хуже. На колени, ублюдок.
— Не надо, Сергей Михайлович! — уже рыдал в голос Гитлер. — Не берите грех на душу, прошу вас! Умоля-ю-у-у-у-у!
Одной рукой Алехин приподнял и поставил почти невесомого Гитлера на колени, другой поднес ему к виску пистолет.
Гитлер уже не скулил и не рыдал, а только трясся мелкой дробью. На полу из-под его халата растекалась лужа.
Алехин нажал на спуск. Сухой щелчок расколол тишину.
Гитлер без чувств повалился на пол.
Сергей открыл стоящую на столе бутылку теплого «Боржоми» и вылил весь газированный фонтан на голову Филимонова. Тот пришел в себя. Приподнялся на руках и, пятясь, стал отползать, пока не уперся спиной в плиту. Алехин присел на корточки перед ним. Достал из кармана патрон и протянул Гитлеру. Тот схватил его, крепко зажал в кулаке и поднес руку к груди. Слышно было, как у него мелкой дробью стучат зубы.
Алехин встал и пошел к двери.
— А деньги, Сергей Михайлович? — снова заскулил ему вслед Гитлер. — Вы ж теперь машину брать не будете?.. Давайте я прям сейчас вам их верну.
— Засунь их себе в жопу, Гитлер, — не оборачиваясь, сказал Алехин и вышел за дверь.
Курск. Август
Подполковник Горовой говорил сухо, словно выступал у себя в штабе на разборе учебных стрельб. На собеседников он старался не смотреть.
— Я потом два раза проверял время, эшелон, координаты уничтожения цели. По карте сверялся. По нашей секретной километровке. Потом по диспетчерской, в открытом доступе. На чатах профессиональных, в дискуссиях летчиков, диспетчеров. Дата, время, высота — все сходится. Ошибки быть не может. Они не тот борт сбили.
— То есть вы — военный хотели сбить?
Горовой уловил смену личных местоимений и впервые за весь разговор посмотрел Алехину прямо в глаза. Взгляд ему не понравился.
«Журналист прав, — подумал подполковник, которому Островская представила обоих как американских журналистов. — На все сто процентов. Не они, а мы».
— Нет, не военный, — Горовой решил, что они и без него знают уже достаточно, так что лучше говорить всю правду, как она есть. — Военные транспортники выше пяти-шести тысяч не летают.
— Вы знали и сознательно сбивали пассажирский? — спросила Джейн, опередив Алехина.
— Мне было сказано, что под видом пассажирского будет чартер с американским оружием.
— Вы поверили?
— Это приказ был. Не обсуждается.
— А расчет знал, что цель гражданская?
— Им было сказано, что цель военная, но большая. Их задача была по координатам работать, чтобы меньше вопросов было. Они и не спрашивали, Крючков докладывал.
— Крючков? — переспросила Джейн.
— Да, командир дивизиона. У них уже на местности мог возникнуть вопрос, потому что от военного транспортника отметка на индикаторе меньше. Но они если и хотели связаться по закрытой радиосвязи, то им это не удалось, и они сами приняли решение. А борт был гражданский. Аэрофлотовский. Москва — Ларнака. Оба рейса — лондонский и этот — шли одновременно на разных эшелонах. Но под одним азимутом над Первомайским. Вот такое совпадение. Расчет реально к работе на незнакомой местности оказался не готов и ошибся. Конечно, фактор подстилающей поверхности, иными словами, рельефа, инфраструктуры на рельефе, имеет вторичное значение. Я думаю… Я почти не сомневаюсь, что у пацанов забарахлил прибор показания высоты, вот они и ошиблись. Иначе не объяснить. В бригаде они лучшие стрелки.
— А что такое азимут? — спросила Джейн.
— Направление, — Горовой обеими руками почесал себе голову, словно ему предстояло объяснить второклассникам теорию относительности. — Вот вы циркуль себе представляете?
— Что? — не поняла Джейн.
— A drawing compass, — по-английски вставил Алехин, водя указательный палец из стороны в сторону, изображая вращательные движения.
— Oh, I see, — закивала головой Джейн. — Thank you, Seryozha. Yes. Цир-куль. Циркуль. Got you now[90].
— Так вот, — продолжил Горовой, изображая циркуль пальцами на лакированной поверхности стола. — Игла на сошке циркуля — это мы, то есть индикатор локатора или радара. Вторая сошка циркуля, которая с карандашом, ну, та, что круги рисует, это азимут. То есть направление. Значит, радиус круга — направление, а дужка, прорисованная на верхней точке, — это метка. Отметка цели.
Все внимательно, как зачарованные, смотрели на руку Горового, будто оттуда сейчас вылетит самолет. Джейн понимающие кивала, закусив губу, как отличница-зубрила.
— В нашем случае циркуль начинает рисовать, только если радар засекает какой-нибудь предмет в воздухе, — Горовой продолжал чертить пальцами по столу. — И тогда циркуль дужкой фиксирует цель. Чем больше объект, тем длиннее и округлее дужка, она же метка. Метки от пассажирских самолетов всегда больше, чем от военных транспортников.
Все слушали и молчали.
— Кроме того, для четкой, уверенной работы расчета необходимо привыкнуть к местности, — Горовой перестал чертить круги и поднял голову. — А мои ребята попутали, ездили полдня из одного Первомайского в другой. Место под Первомайском было выбрано для стартовой позиции, но населенных пунктов с таким названием только в одной Донецкой области оказалось пять или шесть. Таким образом, они потеряли драгоценное время для адаптации расчета на местности вокруг стартовой позиции.
— Но раз сбили, значит, не опоздали к пуску? — задала резонный вопрос Алла.
— Не опоздали, но не успели полностью выставиться на местности, — ответил Горовой. — То есть привыкнуть к реперным точкам рельефа или местным помехам. Ну, там, лес, деревья, линии электропередачи, трубы котельной, высокие здания, холмы… Это поначалу тоже сбивает с толку. Дужка или метка от пассажирского больше, чем от транспортника военного, как я уже сказал. На индикаторе радара они засекли две цели. Если бы одна цель была военной, а вторая — гражданской, разницу было бы сразу видно. И они бы пускали ракету по военной цели. Но обе цели были гражданскими. Лондонский рейс вылетел с часовым опозданием. Поэтому оба рейса сходились в этой конкретной точке. Совпадение. Случай. Диспетчеры к этому были готовы. Они развели борта. Все правильно и вовремя сделали. «Аэрофлот» как летел, так и остался на десять двести. А лондонский опустили эшелоном ниже. На девять пятьсот. Но ребята об этом не знали. Да если бы и знали… У них эшелон все равно был заложен, как десять двести. Но они, по ходу, ошиблись эшелоном. Не знаю точно, в чем причина. Но я уже сказал, что, скорее всего, барахлил прибор показания высоты. И пуск был произведен по нижней цели.
— Вы с экипажем говорили? — спросила Джейн.
— С членами расчета?
— Ну, да, расчета. Простите.
— Пока они мыкались в поисках пункта выдвижения, с ними говорил командир дивизиона. Он мне докладывал.
— А потом?
— Когда?
— После. После пуска.
— Нет. Они сигнал условный через спутник послали, что цель поражена, но радиосвязи не было. А потом они все погибли. Их машина взорвалась еще на подъезде к Ростовской области. На обратном пути. Типа учения. Это официально. И весь спрос. Из России они, получается, не выезжали. Самоподорвались на полигоне.
— Кто еще погиб? — продолжала Джейн.
— Ка Дэ. Командир дивизиона. Чей расчет был. Умер в госпитале. Скоропостижно скончался. От отравления, сказали. Еще — начальник ПВО. Со своим заместителем и двумя штабными. Вертолет разбился. Никто не выжил.
— Это тот, который вам приказ отдавал? — спросила Джейн, глядя себе в блокнотик. — Троеруков?
— Да, только он — Троекуров. Генерал-лейтенант…
— А зачем вам надо было сбивать рейс Москва — Ларнака? — спросил Алехин — опять на «вы».
Джейн бросила на него укоризненный взгляд.
«Не надо его сейчас колоть этими местоимениями, — подумала она. — Ему и так тяжело. Мне Сергей так все интервью угробит».
Тут она поняла, о чем только что подумала, и вновь взглянула на Алехина, испугавшись, что тот услышит ее мысли. Она уже начинала жалеть, что притащила его с собой. Но как она могла отказать?
«Бесчувственная идиотка! — мысленно закричала она сама себе. — Его жена, дети… Каково ему это слушать?»
— Я не могу ответить на этот вопрос, — замялся подполковник. — Знаю только одно: именно этот рейс и был целью. Я должен был проверить заранее, что там будет лететь. Я доверился Троекурову. Проверять не стал.
— Все очень просто, — вмешалась Джейн. — Просто и очень цинично. Москва сконцентрировала на границе с Восточной Украиной сто тысяч войск, танки, орудия… Им нужен был претекст.
— Что? — не понял подполковник.
— Повод, — перевел Алехин.
— Правильно, повод. Спасибо, Сергей, — поблагодарила его Джейн и продолжила: — То есть они сами сбивают свой самолет. В нем летит около двухсот человек. В основном русские holiday-makers[91]. Я проверяла. В этот же день Кремль объявляет это актом агрессии, неслыханным злодеянием. Парламент за пять минут голосует за использование troops[92] за границей. И все — дальше поход на Киев.
— Но они же и так ввели войска, — заметил Сергей. — Мы оба видели. Танки, орудия, техника, личный состав на грузовиках.
— Да, но не в таком масштабе, как замышляли, — парировала Джейн. — Теперь у них совсем другая операция — тактическая. Чтобы остановить украинское наступление на Донбассе. Это — совсем другое дело. Они же не идут на Киев или даже Мариопуль.
— Мариуполь, — машинально поправил Сергей.
— Да, спасибо, Мари… Марипуполь. To cut it short[93]. Пухов по сей день не признает присутствия российских войск в Украине. Он больше не собирается наступать во весь франт. Sorry, фронт.
— Вы правы, Джейн, — сказал Горовой. — У нас отменили все отпуска. Все бригады были или передислоцированы, или готовились к отправке. Офицеры ночевали в казармах.
— Значит, приказ отдавал именно Пухов? — спросила Джейн.
Все посмотрели на Горового.
— Да, — ответил подполковник. — Никто больше не мог отдать такой приказ. Министр обороны по закону не может отдать приказ о боевых действиях за пределами страны. Он может только исполнять. А отдает только Верховный. Другого варианта просто нет и быть не может.
— То есть вы знали, что приказ отдал президент? — вступила в разговор Алла Островская.
— Знал.
Все замолчали.
Островская вышла в бар сделать кому — чай, кому — кофе.
Она спрятала Горового в мотеле «Дуга», расположенном в сосновом бору в двадцати километрах от города. Мотель принадлежал ее мужу. Стоял на реконструкции. В нем был один работающий номер. В помещении бара можно было разогреть еду, сварить кофе. У рабочих был трехнедельный отпуск, связанный, по словам мужа, с недопоставкой отделочных материалов. Место было если не совсем заброшенное, то на отшибе. Ни одна душа не должна сюда заехать, сказала Алла. По ее сведениям, Горового уже вовсю искали, даже по телевизору показали его портрет. Сказали, что похищен неизвестными преступниками ради выкупа. В общем, «Дуга» была единственным местом, где беглый подполковник хотя бы некоторое время мог чувствовать себя в относительной безопасности.
Джейн и Алехин добрались до Курска без проблем. Рано утром на шумном ростовском авторынке Алехин купил неприметную серую «Тойоту Короллу» с ростовскими номерами. В пути не было происшествий, кроме одной остановки гаишником за превышение скорости. Алехин дал гаишнику денег, даже не показав документы, и они через минуту проследовали дальше. В условленном месте встретились с Аллой и затем оказались в мотеле. Первый день за неделю в них никто не стрелял. И никаких погонь за ними больше никто не устраивал.
Самым страшным местом в интервью для Алехина был тот момент, когда Горовой включил запись своего разговора с генералом Троекуровым. Джейн внимательно слушала. Подполковник время от времени сокрушенно качал головой. Алехин вдруг понял, что слушает разговор, в котором решается судьба его семьи. Генерал и подполковник вынесли приговор Лене и дочерям. А потом пили коньяк и травили анекдоты. Про дуэль Пушкина и ворошиловских стрелков. Перед Алехиным сидел не свидетель, не офицер и даже не человек, а палач. Один из.
До конца встречи Алехин больше не проронил ни слова. По его отсутствующему виду можно было подумать, что он вообще потерял интерес к разговору.
В конце концов, более чем четырехчасовое интервью подошло к концу и было принято общее решение, что Алла едет домой и будет оттуда следить за новостями. Джейн на поезде отправляется в Москву и решает с посольством вопрос о предоставлении Горовому убежища, для чего консул должен приехать сюда вместе с ней на машине посла, забрать Горового, и, пользуясь правом экстерриториальности посольской машины, беспрепятственно довезти его до Москвы.
— Кадиллак с американским флагом на капоте в России никто не остановит, — поставила точку Джейн.
У нее в сумочке была флэшка с записью разговора Горового с генералом, и теперь ничто не могло остановить ее, как и ничто больше не могло спасти международного террориста Пухова от разоблачения. Алехину отводилась роль охранника. Он должен был оставаться с Горовым и охранять его до приезда Джейн.
Джейн не поставила их в известность, что ее босс, главный редактор «Нью-Йоркера» Дэвид Саймак, уже договорился с Госдепартаментом о деталях секретной операции по вывозу ключевого свидетеля из Курска и из России.
А вот Горовой никого не поставил в известность, что с телефона, оставленного ему Аллой на чрезвычайный случай, рано утром, когда он был в мотеле в одиночестве, рискнул позвонить жене в Ниду, на Куршскую косу, и минут пять проговорить с ней и с дочкой.
Фатальная ошибка с его стороны. ФСБ уже сбилась с ног в поисках подполковника. Его любовницу Лиду допрашивали несколько часов. Ничего конкретного добиться от нее не смогли. Поставили ее телефон на прослушку, прикрепили николай-николаичей к ее дому и дачке — все мимо. Горовой как в воду канул. Пришлось срочно связываться с недремлющей литовской агентурой. Те вышли на жену Горового. Обнаружили ее в Ниде на косе. Наружка неотрывно следила за тем, как подполковничиха прогуливалась с дочкой через сосновый лес от залива до морского пляжа и назад к вонючему заливу с зацветшей водой. Выяснить номер ее нидского стационарного телефона и литовского мобильника оказалось для профессионалов делом плевым. И сразу клюнуло! Не успели на прослушку поставить, как — бах! — прозвучал звонок. И не откуда-нибудь, а из Курска. Пробили номер. Зарегистрирован на некоего Ираклия Островского, мутного курского предпринимателя с еще более мутным прошлым, не говоря уже о настоящем. Однако не бизнес предпринимателя привлек внимание оперативников, а его супруга Алла, самая оппозиционная журналистка в области. На ее машине уже около года по старым делам стоял маячок, о котором все давно забыли. И тут вспомнили. Пробили маршруты передвижений журналистки за последнюю неделю — бинго! Мотель «Дуга», принадлежащий тому самому Островскому. Паззл сложился. Дальнейшее было делом техники. И специально обученных людей.
Алехин и Горовой прощались с Аллой и Джейн, а группа захвата из семи человек на двух машинах уже выехала из Курска. Когда Алла за рулем и Джейн рядом с ней в крайнем возбуждении говорили о том, какое значение может иметь публикация доставшихся им материалов, подкрепленных теперь показаниями ключевого свидетеля, они не обратили внимания на два черных «Лэндкрузера» с тонированными стеклами, промчавшихся мимо них по встречной.
Оставшись в номере вдвоем, Алехин и Горовой между тем молча допивали чай. Пауза затянулась. Горового это заметно нервировало.
— А вы из какой газеты, Сергей? — обратился он к Алехину, просто чтобы поддержать разговор. — Джейн говорила, но я, простите, запамятовал.
— Я вообще не из какой газеты, — ответил Сергей. — Джейн пошутила.
— Вы с радио?
— Я мент.
— Вы шутите сейчас?
— Я не шучу, товарищ подполковник. Я, правда, мент, но — бывший. Не бойтесь.
— Вас наняли для моей охраны? — Горовому очень не понравилось резкая смена в тоне собеседника. Было в ней что-то настораживающее. Этот мент-журналист за весь вечер сказал не больше десятка слов, но… Сейчас тон у него был совсем другой.
— Да, — ответил Алехин. — Но не волнуйтесь. Все идет по плану. Я хотел спросить о другом.
Горовой еще больше напрягся. Алехин встал с дивана и подошел к окну. Раздвинул шторы. За окном быстро темнело.
— Вот что бы ты сделал, подполковник, если бы у тебя убили жену и дочь? — спросил он, не поворачивая головы.
— Не понял? — неожиданный переход на «ты» и сам вопрос застал Горового врасплох.
— Очень просто, — Алехин вернулся и сел на диван. — Кто-то, к примеру, убил твою семью. И ты знаешь кто. И как его найти. Вот что бы ты сделал?
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
По тону Горового было ясно, что тот на самом деле не понимает.
— Не о чем, а о ком. Я говорю о тебе и о себе.
— Какого хера?! — сорвался Горовой, повысив свой командный голос почти до крика. — Сергей! Может, ты мне объяснишь тогда, что все это значит?
— Объясняю. Моя семья летела в этом самолете. Жена и две дочери.
Из рюкзака, в котором, кроме пачек денег, пакетов с бельем и туалетными принадлежностями, находились два пистолета ПМ с четырьмя снаряженными магазинами, Алехин достал фотокарточку, которую ему передала Джейн, и положил на столик перед Горовым.
— Это я с ними. Они летели. В этом самолете. Который ты сбил. Ты, подполковник, — глухо сказал он.
— Я ничего не сбивал, — еще глуше произнес Горовой, глядя на фотографию с четырьмя счастливыми лицами.
— Твой приказ.
— Это была ошибка. Они сбили не тот самолет.
— Если бы вы не ошиблись, то сбили бы… с другими семьями. И тогда бы тебя нашел чей-то другой муж… И отец.
— Мне был отдан приказ. Я не знал, что речь идет о гражданском самолете.
— А военные самолеты в других странах можно сбивать?
— Там идет гражданская война.
— Я только что оттуда. Нет там никакой гражданской войны. Впрочем… это не имеет значения. Когда ты узнал про высоту, то мог бы сообразить, что это — гражданский борт.
— Ты же слышал на пленке. Генерал сказал, что это будет военный самолет.
— Но ты же потом, когда петух в жопу клюнул, проверил. И сам узнал про рейс Москва — Ларнака. Что тебе мешало раньше пробить?
— Мне и в голову такое прийти не могло. Я давно знаю… знал генерала. Он сказал, приказ спущен с самого верху. Ну, ты же слышал на записи.
— Даже мысли самому проверить не было? Ну, до того?
— Была, — голос подполковника сделался еще глуше. — Я… я… я знал… что… надо проверить… Все время думал об этом.
— Почему не проверил?
— Честно?
— А до сих пор все не честно говорилось?
— Честно, — Горовой больше не смотрел на Алехина. Ему трудно давались слова.
— Ну так почему не проверил, если честно? — Алехин не отступал.
— Я… я… испугался.
— Чего?
— Боялся, что если там будет то, что я думаю, то…
— Что думал?
— Что рейс гражданский, не чартерный.
— Значит, догадывался?
— Я же не идиот.
— Тогда почему не проверил? Люди бы остались живы. Лена моя. Таня. Верочка. Там много людей было, подполковник.
— Я знаю. Просто если бы я все узнал, то что?
— Ничего. Отказался бы.
— Меня бы тогда убили.
— Они тебя и сейчас убьют.
Горовой встал, достал с полки бутылку коньяка, оттуда же — две рюмки. Поставил на столик. Налил себе и Алехину.
— Не чокаясь? — спросил Алехин.
Горовой ничего не ответил. Выпил до дна, налил себе еще.
Алехин только пригубил свою. Оба молчали.
— Они убили бы меня и все равно сбили бы этот самолет. Или другой, — наконец прервал молчание Горовой. — Я не мог им помешать. Ни живой, ни мертвый.
— Но ты бы в этом не участвовал.
— Я испугался.
— И поэтому отдал приказ убить мою семью?
— Я не… — Горовой поперхнулся коньяком. — Я не отдавал такого приказа…
Подполковник выпил одну за одной еще две рюмки. Он пьянел на глазах.
— Ты их убил, Горовой, — холодно сказал Алехин. — Лично ты. Мою жену и детей. И еще три сотни других пассажиров — там тоже были женщины, дети. Им пох…й на вашу с Пуховым войну. Они отдыхать летели. К морю. Там могла и твоя жена быть. С дочерью. И еще — ведь это ты убил своего заместителя. И расчет свой. Сколько их там было? Трое? Четверо? Но они-то хоть заслужили! И заместитель твой, и эти из расчета — они такие же убийцы, как и ты. Вы все — убийцы. Ты понимаешь это, подполковник?
Горовой молчал. Он сидел, опустив голову, и вертел в пальцах пустую рюмку.
— У меня не было выхода…
— Выход есть всегда.
Сергей встал, сделал пару шагов и, войдя в ванную комнату, закрыл за собой дверь. Включил воду в умывальнике и, облокотившись на раковину обеими руками, стал смотреть в зеркале себе в глаза.
Раздался выстрел.
Алехин открыл дверь. Горовой полулежал, откинувшись на подушки дивана. В виске у него зияла кровавая дыра. В руке был один из алехинских пистолетов. Бутылка была пуста. Горовой допил остатки. Из горлышка — перед тем как застрелиться.
Алехин собрал свои вещи и оружие, выключил свет и выглянул в окно. Увидев силуэты людей, бегущих к входу в мотель, быстрым шагом с пистолетом в руке прошел в дальний конец коридора, спустился по запасной лестнице на первый этаж, свернул в первый попавшийся, пахнущий краской номер без двери и мебели, открыл окно, осторожно спрыгнул на землю и скрылся в лесу.
На следующий день газеты и телеканалы Курской области сообщили, что в заброшенном мотеле найден труп командира Энской воинской части подполковника Горового, ранее похищенного неизвестными. На теле обнаружены следы жестоких пыток.
Москва. Август
— Это ты его убил! Ты! — Джейн остервенело стучала своими маленькими кулачками по Алехинской груди. — Какая же я идиотка, что доверилась тебе! Теперь не будет никакого суда над Пуховым!
— Его бы и так не было, — спокойно ответил Сергей. — И я не убивал Горового.
— Я не хочу тебя больше видеть, — сказала она. — Никогда!
Он достал из кармана куртки фотографию жены с дочерями, положил ее на столик и вышел, не попрощавшись.
Джейн не пыталась его остановить. У нее все кипело внутри. Если бы у нее под подушкой сейчас был тот пистолет, она бы… Она схватила со стола бутылку минеральной воды и с размаху швырнула ее в стену.
Барвиха. Октябрь
Книжник сидел на диване с закрытыми глазами и отрешенно гладил Рыжика, как всегда устроившегося у него на коленях и урчащего, как моторчик. Казалось, что от его урчания покачивается весь огромный дом. За прошедшие месяцы котенок вымахал в размерах и превратился в огромного рыжего хулигана, впрочем, не чуждого сентиментальности. Евгений сравнивал Рыжика с самим собой в молодости, и сравнение это грело его, как урчание Рыжика.
— Ты мой лечебный котяра, — Книжник потрепал его по загривку, как щенка. — Скорая помощь!
На столике под рукой запиликала красная кнопка интеркома.
— К вам человек, Евгений Тимофеевич. Один. Без машины. Пешком.
— Кто такой?
— По документам Юрий Петрович Жданов. Говорит, вы его знаете.
— Я сам его встречу. Сейчас спущусь.
Когда Книжник в спортивном костюме и тапках на босу ногу сам открыл дверь дома, на дорожке из розового армянского туфа, ведущей от проходной, спиной к нему стоял человек в джинсах и сером дождевике. Посетитель разглядывал розарий возле фонтана с золотыми и красными карпами кои.
— Сережа! — радушно воскликнул Книжник, будто давно томился в ожидании встречи. — А мы тут тебя заждались, дорогой. Проходи, гостем будешь.
…Они проговорили несколько часов. Обо всем. На основе одного этого разговора можно было написать роман, покруче «Крестного отца».
За разговором они выпили бутылку «Роберта Бернса», не закусывая. Самым ключевым моментом в программе долгожданного «саммита» стал просмотр любительского видео, которое Алехин принес с собой на флэшке.
— Я не убивал Сашу, — сказал Сергей, когда запись кончилась, а Книжник молча закрыл лицо руками. — Я не знаю, почему они начали стрелять. До сих пор этого не понимаю.
— А вот я теперь понимаю, — ответил старик, опустив высохшие руки с выпуклыми костяшками пальцев на колени. — Долго верить не хотел.
Выпили еще. Помолчали.
— Почему ты сразу мне не сказал, Сережа? Зачем убежал? Не сбежал бы, глядишь, Лена и девочки были бы живы.
— Я каждый день корю себя за это, Евгений Тимофеич.
— Ты не ответил. Почему убежал?
— Из-за бабок. Я знал, что там их много. Но даже не представлял, сколько, пока не открыл контейнер.
— Ну и как, сы́нку, помогли тебе твои ляхи? Счастья через край привалило, Сережа? Девать некуда? Пришел со мной поделиться?
— Нет, не помогли, Евгений Тимофеич.
— Вот и я про это. Не в деньгах счастье.
— А в чем?
— В том, чего ни у меня, ни у тебя больше нет и никогда не будет, Сережа.
Голос старика задрожал. Глаза повлажнели. Он снял очки. Вытер глаза платком. Высморкался в него.
Алехин положил себе на колени сумку от лэптопа, с которой пришел. Компьютера в ней не было. Но была тонкая папка, которую он достал, открыл и положил перед Книжником.
— Что это? — Книжник снова надел очки. Взял верхнюю страницу в руки и сразу выпустил ее. Снял очки. Отвернулся. Высморкался еще раз.
— Это ваши деньги, Евгений Тимофеич. Номерные счета в четырех странах. Шифры, коды, пароли. Там, конечно, не столько, сколько было — пришлось немножко потратиться. Но все-таки прилично осталось.
— Ты зачем вернулся, Сережа? — спросил Книжник, положив очки на бумаги с колонками цифр, разлетевшиеся по столику. — Чего тебе надо?
— Мне нужна ваша помощь, Евгений Тимофеич. Одному мне не справиться.
Глава двадцать четвертая SWAP[94]
Москва. 19 декабря
Большая ежегодная пресс-конференция президента Пухова начиналась ровно в полдень. Задолго до события стало известно, что местом ее проведения вновь, как и в предыдущие четыре года, будет конференц-зал Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.
В это утро Прохорову как-то особенно не вставалось. Он словно нутром чувствовал, что надо во что бы то ни стало проспать и никуда не ехать. В ЦМТ необходимо было оказаться не позже девяти утра, чтобы вместе с сотнями других журналистов пройти проверку службы безопасности, которая была почище шмона перед рейсом «Аэрофлота» Москва — Нью-Йорк. Но перед этим нужно было доехать с дачи до дома и там переодеться в парадный костюм. Костюм, кстати, можно было захватить с собой на дачу. Но он забыл. Документы, аккредитацию, камеры, зарядки — все взял, а штаны с галстуком забыл. Теперь, чтобы миновать пробки и оказаться дома хотя бы в полвосьмого, следует выехать с дачи не позже половины шестого. Значит, надо ставить будильник на пять. Он так и сделал. В обоих телефонах.
Вставать в пять утра зимой, в декабре… Ужас. Да и какое там утро, когда кругом непролазная ночь? Как тут встанешь, да еще с похмелья… Не стоило ехать на дачу. Но так хотелось покататься на лыжах после очередной командировки на войну. Немножко встряхнуться и прийти в себя.
А накануне все складывалось так удачно: небольшой морозец, солнышко… У Сергея Прохорова, директора московского бюро «Лос-Анджелес геральд», рядом с дачей была своя накатанная лыжня — в лесу, который начинался прямо через дом, за канавой с мостиком. Пробежал по ней пять километров. Даже не пробежал, а пролетел. Лыжи сами его несли — не остановить. Успевай только палками отталкиваться на поворотах и некрутых подъемах и спусках. В поле за лесом, на открытом месте, ветерок обжигал лицо, а в лесу — тишь да благодать. Пока катался, Сухроб, работник-таджик, топил сауну. К возвращению было натоплено аж до девяноста градусов. Топили только дубовыми дровами. Для аромата. Да и в самой сауне по стенам висели дубовые, березовые и можжевеловые веники. На полках под полатями стояли плетеные корзиночки с сухими травяными смесями из душицы, тимьяна, шалфея, медуницы и аира болотного. Не только сауна — весь дом наполнился ароматом трав. Даже пушистый черный кот по имени Эл Би (Лорд Байрон) валялся в кресле, раскинув лапы, не ныл и не просил есть. Просто лениво наслаждался разливающимся по всему дому душистым теплом.
Вернувшись с лыжной прогулки, краснолицый и разгоряченный Прохоров, не раздеваясь, выпил бокал своего любимого ледяного «Кир Рояля». Потом еще один. Когда, наконец, снял лыжную форму и ботинки, бутылка была пуста. Сухроб вскипятил воду, заварил чай и ушел к себе во флигель курить свою травку и вспоминать жену и детей в горном ауле на Памире, где он не был уже больше года.
Последнее время Прохоров, если не в командировках, почти постоянно жил на даче рядом с городком Истра под Москвой и в столицу наведывался урывками. Только по работе. Со своей второй женой Сергей развелся четыре года назад и с тех пор жил один. Если не считать двух таджиков — «челяди», как он их про себя называл. Готовить ему приходила Нина, дородная, румяная вдовица лет сорока из соседней деревни, которая иногда оставалась ночевать. Детей у Сергея было двое, оба от первого брака, но они с их мамой жили в Германии. В сорок четыре года эстету и сибариту Прохорову больше не хотелось обзаводиться семьей, выслушивать указания, нотации, упреки в том, что он плохой и неверный муж, невнимательный и безразличный отец, эгоист, лентяй и бабник.
Прохоров был душой компаний. Когда хотел, умел быть обаятельным, по-актерски рассказывал анекдоты, играл на гитаре, сносно пел романсы, подражая Валерию Агафонову. Его любили. Мужики — за то, что он был щедрым, веселым, компанейским. Девушки и женщины — понятно за что. Последним его увлечением был краткий роман с Джейн Эшли, который так ничем и не завершился. Они были слишком разными. Но для нее до недавнего времени он так и оставался единственным мужчиной, в котором она видела именно мужчину, а не только коллегу-журналиста. Он же был рад, что вовремя расстался с этой эмансипированной сукой и истеричкой. Коллеги по профессии ему откровенно завидовали. В их среде почти все знали, что его, непонятно за что, ценит и привечает сам президент Пухов. Ни для кого из них не было секретом, что Пухов всегда выделял Прохорова среди других и, как правило, разрешал ему задавать нелицеприятные вопросы.
Прохоров был универсальным профессионалом. Он умел делать все: снимать фотографии, писать статьи на двух языках (английским он владел так же свободно, как и родным русским), брать интервью.
Начинал он работать в своей газете двадцать лет назад как переводчик. Потом стал репортером, фотографом и пишущим корреспондентом. Последние два года был директором бюро. Но ввиду повальных сокращений, вызванных газетным кризисом, его корпункт вот-вот должны были закрыть, как уже закрыли газетные представительства во многих странах. Если бы не разгоревшаяся на пустом месте российско-украинская война, газета ликвидировала бы московское бюро уже в этом году. Но нет худа без добра. Тысячи людей гибли, теряли кров, работу, родных, семью. И кто-то должен был рассказывать миру об этих трагедиях и получать за это деньги.
Последняя командировка выдалась особенно кровавой. Сергей оказался под Мариуполем, где украинские десантники и добровольцы отчаянно и самоотверженно сдерживали прорыв российских войск. И выстояли, несмотря на огромное превосходство врага в живой силе и технике. Сергей провел в окопах четыре дня и четыре ночи, чудом остался жив и снял такие «сумасшедшие карточки», что многие из них его газета даже не могла опубликовать.
— Снимки потрясающие, но слишком графические, — дипломатично сказал старший фоторедактор. — К сожалению, мы не можем допустить, чтобы дети, случайно открывшие газету, увидели разлетающиеся на всю первую полосу мозги или вываленные по всему развороту кровавые внутренности. А так съемка, конечно, запредельная. World Press Photo, как минимум.
Прохоров не страдал запоями, но после таких командировок, а они случались все чаще и чаще, не находил другого способа вновь адаптироваться к мирной жизни, кроме как выпить рюмку-другую.
Так было и в этот раз. Еще до первого захода в сауну утолив жажду семьюстами пятьюдесятью миллилитрами «Кир Рояля», а затем попарившись минут десять, Сергей перешел к более крепким напиткам и сделал перерыв, лишь когда позвонил Витя Клопиков, заместитель пресс-секретаря президента и напомнил ему об их договоренности.
Клопикова и Прохорова давно связывали не только деловые, но и дружеские отношения, которые они не особо афишировали. Именно Клопиков устроил ему то самое, трехлетней давности, эксклюзивное интервью с Пуховым, которое стало признанным шедевром профессии и было растаскано на цитаты. Называлось оно удивительно для интервью — Kremlin Hard Talk[95], и состояло только из самых неприятных вопросов, таких, как кто взорвал дома в Москве, Буйнакске и Волгодонске, кто убил Политковскую, кто отравил Литвиненко и так далее. Все были в шоке. Никто и догадаться не мог, что на самом деле идея такого интервью родилась в кабинетах администрации президента. Там было принято решение ответить, наконец, на все эти проклятые вопросы и закрыть тему. В качестве незаангажированного интервьюера выбрали Прохорова. Вопросы и ответы были отрепетированы до мельчайших деталей. Готовый материал редактировался Кремлем два или три раза. В редакции «Лос-Анджелес геральд» ни на минуту не могли допустить, что это была постановка, иначе Прохоров мгновенно и с позором был бы изгнан с работы. Редакторы посчитали интервью огромной журналистской удачей Сергея и стали ценить его еще больше, добавив двадцать четыре тысячи долларов к его годовому заработку.
Сергей не удивился бы, если бы узнал, что в ФСБ он проходит под какой-нибудь кличкой — типа завербованного агента, которого те используют в своих интересах. Сам же он считал, что, наоборот, это он использует их. В общем, в результате все были довольны.
Однажды Прохорову даже повезло попасть на экзотическую рыбалку Вадима Вадимовича. Дело было в горном Алтае, куда он добирался вместе с президентом в одном самолете и вертолете и пил с ним чай за одним столом. Чаепитие проходило в непринужденной обстановке. В ответ на еврейский анекдот от президента Сергею позволили рассказать еврейский анекдот от себя. Охрана громко смеялась. На рыбалке президенту, что называется, повезло. С первого заброса он поймал огромную щуку. Прохорова, правда, по секрету предупредили, что клев начнется мгновенно. Так и случилось. Он был готов и снял замечательные кадры, на которых Вадим Вадимович вытаскивает из темных прохладных вод здоровенную живую рыбину и затем гордо позирует с ней и с голым торсом.
Официальный вес рыбы в теленовостях объявили в двадцать два килограмма. В этом смысле президент и его пресс-служба ничем не отличались от обычных рыболовов-любителей. Прохоров сам был заядлым рыбаком.
— Знаешь, я как-то поймал щуку на двенадцать кило, — шепотом сообщил он присутствующему на рыбалке Клопикову. — Всем сказал, что пятнадцать, а на весах вообще оказалось девять. Но она все равно была раза в полтора больше, чем президентская, — и, заметив укоризненный взгляд помощника, прибавил: — Не вру, честное пионерское.
— Ну наша ж золотая рыбка, — отшутился тот.
Ежегодные пресс-конференции Пухова, по сложившейся за годы его правления традиции, проводились в конце декабря. Абсолютное большинство вопросов было подготовлено заранее, а ответы отрепетированы. Единственными «белыми пятнами» оставались вопросы западных, в первую очередь американских, журналистов, игнорировать которые не представлялось возможным. Договориться же с ними, как с их российскими коллегами, по поводу вопросов было практически невозможно.
В этом смысле Прохоров с его многолетней негласной историей плодотворного сотрудничества с администрацией вполне ее устраивал. Тем более что его собственные убеждения, не говоря уже о принципах, с каждым годом становились все более расплывчатыми.
Раз в полгода Клопиков водил Прохорова пообедать в какой-нибудь тихий ресторанчик, где вместе с бараньими ребрышками скармливал ему заготовленные «сливы». Так было и на этот раз. Два дня назад заместитель главы пресс-службы президента за чашечкой кофе в кафе «Пушкин» договорился с Прохоровым о времени, условном знаке и теме вопроса. Вопрос был, что называется, «трудным» и с подвохом, но в том-то и вся фишка, чтобы утомленный многочасовым общением с прессой президент проявил себя во всей красе и, несмотря на естественную усталость, в самом конце с блеском отразил очередные злобные нападки западных «партнеров».
Во время вчерашнего вечернего телефонного разговора с Клопиковым Прохорову пришлось очень напрячься, изображая из себя трезвого, но он нашел в себе силы внятно, как ему казалось, подтвердить, что уговор дороже денег, что он помнит и все сделает, как надо.
Но то было вчера.
В пять утра сегодня Сергей не помнил не только, какой вопрос он должен задать президенту, но и сколько вчера выпил.
— Пьянству — бой, — хрипло пробормотал журналист, натягивая спортивные кальсоны LL Bean, и тут же вспомнил заезженную добавку президента за рыбацким ужином: — А б…дству — герл.
Это было хорошим знаком. Память начинала просыпаться, неуверенно хватаясь в похмельном тумане за скользкие и нестойкие обломки прошедшего дня. Если ты не в состоянии вспомнить главного, то припомни любую незначительную деталь, и паззл сложится сам собой — был уверен Прохоров и очень надеялся, что по мере приближения к Международному торговому центру и особенно после двойного эспрессо в буфете ЦМТ, он обретет total recall.
Этой надежде не суждено было сбыться. Когда в темное морозное декабрьское утро гаишник остановил машину Прохорова прямо на выезде из поселка, чего никогда в жизни раньше не случалось, и предложил ему перейти для освидетельствования в свой сине-белый «Форд» с мигалкой, Сергей достал кремлевскую аккредитацию, на обратной стороне которой под пластиком была цветная фотография его в компании президента и золотой щуки. В России подобная охранная грамота могла служить пропуском куда угодно и защитить владельца от многих бед. Но только не сегодня. Устроившись на переднем пассажирском сиденье и протянув майору-гаишнику, сидевшему за рулем, свою индульгенцию, Прохоров получил удар чем-то тяжелым сзади по голове и в последнюю секунду перед потерей сознания вспомнил все, что забыл. Но это уже не имело значения.
Накануне в Кремле состоялось экстренное секретное совещание, в котором участвовали министр внутренних дел Автюхов, директор ФСБ Смычков, начальник ФСО Гагулия, начальник личной охраны президента дважды Герой России Тихонов, его заместитель Герой России Рыжиков, два начальника отделов из администрации президента — Ульянов и Каплан, и главное действующее лицо ожидающей трагической развязки драмы — старший сантехник Центра международной торговли Кошевой. О нем всем остальным заблаговременно было доложено, что он в состоянии алкогольного опьянения застрелил свою супругу из пистолета ПМ, который перед тем обнаружил в непромокаемой пластиковой упаковке в бачке мужского туалета общего пользования в ЦМТ, треснутую крышку которого и должен был заменить. Кошевой уже протрезвел, поседел и весь проникся атмосферой крайней озабоченности, царившей на растерянно-сосредоточенных лицах присутствующих. Сантехник в который раз рассказал, как и при каких обстоятельствах нашел злосчастный пистолет.
После нескольких наводящих вопросов звездный час Кошевого истек, и его отправили в отдельную камеру в Лефортовском следственном изоляторе. Ненадолго — до завершения расследования. Автюхов велел закрыть уголовное дело по бытовой мокрухе на «этого мудака, по глупости спасшего жизнь Президенту Российской Федерации» (жена сама застрелилась при неосторожном обращении с оружием) и влепить что-нибудь условно — за несвоевременную сдачу найденного ствола органам правопорядка.
В результате последовавшего затем короткого обсуждения была высказана мысль, что если речь идет о попытке убийства первого лица, то, очевидно, план подготовлен настоящими профессионалами, и даже если воображению злоумышленников в этом способствовало разделяемое самим президентом пристрастие к фильму «Крестный отец», в наличии у злодеев обязательно должен быть план Б, чего и следует теперь более всего опасаться. Поэтому пресс-конференцию необходимо срочно перенести или совсем отменить. Объявить президенту об этом должен был начальник охраны Тихонов, который в сопровождении своего заместителя незамедлительно и отправился в его резиденцию в Ново-Огареве. Все остальные тоже решили немногим позже последовать за ними, чтобы ожидать реакции в приемной Папы. Так между собой они называли Вадима Вадимовича для краткости.
— Если я вас правильно понял, Александр Сергеевич, сантехник застрелил свою жену из пистолета, да? — спокойно и, как показалось Тихонову, вкрадчиво переспросил Вадим Вадимович, выслушав его местами путаный пятиминутный доклад.
— Так точно, — тихо ответил понурый генерал-майор. — Из пистолета Макарова, найденного в бачке.
— Так, так, так… — Пухов побарабанил пальцами, как деревяшками, по покрытой лаком, инкрустированной орлами и коронами поверхности стола. — Значит, вы хотите сказать, что из-за того, что какой-то сраный сантехник застрелил свою сраную супругу из сраного пистолета, найденного в сраном сортире, самый влиятельный политик современности должен трусливо отменить свою пресс-конференцию? Правильно я вас понимаю?
— Вадим Вадимович, это коллегиальное решение, — опустив глаза, твердо ответил Тихонов.
— Ах, так это уже решение? — повысив голос на октаву, произнес президент тоном государственного обвинителя на Нюрнбергском процессе. — И в придачу коллегиальное! Без меня меня женили — так это называется, да?
— Это не совсем так, товарищ президент, — не поднимая взгляда, произнес начальник охраны. — Вернее, совсем не так.
— А как?! — воскликнул Пухов, выкатившись вместе со стулом вбок от стола и закинув ногу на ногу. — Вы хотите сказать, что не можете обеспечить мою безопасность? А за что вам государство деньги платит, позвольте спросить?
— Мы предлагаем не отменить событие, а перенести его в другое место.
— Ага, так, значит, это уже не решение, а предложение. Верно?
— Так точно.
— И куда и на когда перенести?
— На неделю, Вадим Вадимович. Перенести в Кремль. Да, на неделю — раньше подготовиться мы не успеем.
— Вы знаете, что будет через неделю, Тихонов?
— Двадцать пятое декабря, господин президент.
— Это не просто двадцать пятое декабря, Тихонов! It is fucking Christmas[96] во всем цивилизованном мире!
— Так точно, господин президент! Крисмас. Нам известно.
— И как вы себе представляете иностранных журналистов на этой пресс-конференции? В одной руке микрофон, в другой — жареная индейка? И кто в западном мире будет это смотреть и читать?
Тихонов промолчал.
— Вот именно, Тихонов, — продолжил президент, начиная успокаиваться. — Да и вы же нашли пистолет. Нет?
— Так точно. Обнаружили при помощи спецмероприятий, товарищ президент.
— Значит, опасность миновала и вам нечего беспокоиться?
— Те, кто готовил это покушение, могут иметь в своих планах запасной вариант — на случай, если первый не сработает. Только по этой причине мы…
— Так вот и ищите этот запасной вариант! — вновь повысил голос президент. — Почему я должен облегчать вам вашу работу? Это ваша забота — охранять президента, а моя работа — им быть. И если я по соображениям безопасности буду отменять заранее анонсированные политически важные мероприятия с моим участием, то я облегчу вашу работу за счет невыполнения своих обязанностей. Вы этого хотите? Тогда, может, вы назначите меня вашим заместителем?
Президент перевел взгляд на полковника Рыжикова, молча стоявшего у двери.
Тихонов понимал раздражение шефа. Совсем недавно, в ноябре, Папа вынужден был двенадцать дней не появляться на публике из-за ежегодного фейс-лифта — секретнейшей спецоперации, о которой не был осведомлен даже премьер-министр Чикин. Западные и либеральные медиа затеяли бесстыдную спекуляцию, открыто высказывая подозрения, что российский президент или серьезно болен, или вообще скончался. Слухи были такими упорными, что Пухову пришлось вернуться на работу с незалеченными ранками-швами на шее под затылком. Это было очень неудобно и не комфортно. Отмена пресс-конференции вызвала бы новый скандал и новые спекуляции со стороны заклятых друзей и недругов-партнеров. Но рисковать жизнью президента Тихонов позволить себе не мог. Он решил идти до конца.
— Вы что, не понимаете значимость момента? — между тем продолжал президент. — Идет гражданская война на Украине, развязанная нашими западными партнерами. Любое нетвердое слово, любая заминка, перенос любого события будут истолкованы, по крайней мере, как проявление слабости и демонстрация нерешительности. Тихонов, вы это понимаете?
— Понимаю, господин президент, — генерал впервые поднял голову и встретился глазами с Пуховым. — Как начальник вашей охраны, по внутреннему, утвержденному вами, регламенту я имею право отменять мероприятия с вашим участием.
— И?
— Пользуясь этим правом, по соображениям безопасности я отменяю завтрашнюю пресс-конференцию.
Не говоря ни слова, президент встал, подошел к генералу, попытался заглянуть ему в глаза. Получилось неудобно. Генерал был на голову выше. Пухов понял, что смотрит на того снизу вверх. От чего завелся еще сильнее. Чтобы успокоиться, он отошел к окну, поднял с подоконника маленькую пластиковую леечку и принялся сосредоточенно поливать круглый, как шар, серый и колючий кактус в горшочке. Настолько сосредоточенно, что очень скоро вода стала ручейком стекать на пол. Этот звук привел президента в себя. Он схватил горшочек с кактусом и с ожесточением запустил его в противоположную стену. Тихонов и Рыжиков молчали. Стояли не шелохнувшись.
Президент развернулся, подошел к столу, сел, достал из папки чистый лист бумаги и вытащил ручку «Паркер» из малахитовой подставки.
— Хорошо, я подчиняюсь вашему приказу, — отчетливо сказал он, казалось, безо всяких эмоций. — Но ровно на пять секунд. Пока подписываю указ о вашей отставке, товарищ генерал-майор. Вы свободны. А вас, Рыжиков, попрошу остаться.
Москва. 19 декабря
Алехин стоял в очереди на подходе к первой рамке. Журналисты всё прибывали и прибывали. Хвост очереди за Сергеем тянулся на километр, если не больше. До пресс-конференции оставалось два часа. К нему уже подходили человека четыре, здоровались, спрашивали что-то. Какой-то молодой симпатичный парень, сильно заикаясь, пытался расспрашивать его о машине — починил Сергей свою тачку или нет. Алехин уклончиво ответил, что все в порядке.
— Я рад, — заулыбался парень. — М-м-м-м-много содрали?
— Да нет, по-божески, — ответил Сергей.
— А страховка? П-п-п-п-п-п-покрыла что-нибудь?
— Ну… как всегда.
— П-п-п-п-п-понятно. Не в настроении, смотрю. Д-д-д-д-д-да?
— Да, не выспался.
— Я тоже. Вчера, кстати, статью твою о М-м-м-м-м-магнитском читал. Как ты все успеваешь?
— Ну… Я, вообще-то, давно ее написал. А вышла только вчера.
— Я так и п-п-п-п-п-п-понял. Остро, остро. Как тебя, Сережа, вообще сюда п-п-п-п-п-пускают?
— Сам не понимаю, Паша.
Оба рассмеялись. Павел Мотыгин, корреспондент «Нашей газеты» (Сергей вовремя прочитал у него на аккредитационном бэйджике, болтающемся на шее на ярко-желтом шнуре), достал пачку сигарет.
— Ладно, увидимся в б-б-б-б-б-буфете, — сказал тот и отошел покурить. — Ты ведь не куришь?
— Нет.
— Ну и п-п-п-п-п-п-п-п-правильно.
* * *
Сергей так долго и тщательно готовился к сегодняшнему дню, словно собирался защитить докторскую диссертацию на тему «Наследие журналиста Прохорова». Благо, время позволяло. Он прочитал все статьи Прохорова за последние пару лет, просмотрел сотни его фотографий, изучил, как мог, его биографию по Википедии, Фейсбуку и различным интервью. Недавнюю статью с новыми деталями о Сергее Магнитском, адвокате, вскрывшем миллиардное хищение государственных средств и убитом в тюрьме пять лет назад, Алехин прочитал раза три. На сайте Кремля он нашел видео трансляции последних двух пресс-конференций Пухова и оба вопроса, которые Прохоров в присутствии сотен журналистов задал президенту.
Чего Сергей не знал, так это того, что месяц назад во время очередного приезда в Москву Прохоров уснул за рулем на скоростной трассе Москва — Рига и чудом остался жив, разбив в клочья весь левый бок своего RAV-4 о высокий отбойник-разделитель. Машину так хорошо отремонтировали, что Алехин ничего необычного не заметил, пока ехал в Москву, получив эту «Тойоту» вместе с документами и фотокамерами из рук бандитов в шесть часов утра в Истре. Те же злодеи отвезли Прохорова в коттедж-отстойник рядом со Звенигородом, где должны были продержать до следующего утра. Книжник поклялся, что ни один волос с его головы не упадет.
После возвращения в Москву и встречи с Евгением Тимофеевичем Алехин жил неделю у того в поместье на Рублевке, а затем перебрался в съемную однокомнатную квартиру на улице Марины Расковой. С Джейн больше не встречался. Она даже не оставила ему номера телефона. Он видел ее два или три раза мельком в телевизоре и несколько раз во сне. Найти ее он не пытался.
Из дому, если и выходил, то ненадолго. Разве что в магазин или в кафе «Шоколадница» по соседству, на Ленинградском проспекте, где иногда завтракал или обедал. На завтрак заказывал яичницу с беконом, чай черный или капучино, на обед — салат «Оливье», двойную порцию блинчиков с мясом и сметаной и фирменный чай «Крэнберри» на клюкве.
За все время выезжал за пределы района три раза. Первый раз — месяц назад, на закладку ствола в ЦМТ, вместе с двумя людьми Книжника. Все трое были облачены в синие спецовки с надписью «ЦМТ Сервис» на спинах. Вошли через служебный вход. Книжник все согласовал — никаких рамок, никаких вопросов. Мужской и женский туалеты в левом крыле возле бара на первом этаже закрыли и спокойно сделали закладку во вторую кабинку из двенадцати — напротив стены с рядом писсуаров справа и умывальников слева. На все про все ушло полчаса с приезда до отъезда. Операцию провели в восемь утра. Народу в Центре почти не было. Все офисы, кафе и рестораны открывались в девять-десять.
Второй раз Алехин выезжал туда же второго декабря вместе с Книжником осмотреть конференц-зал. С бэйджиками на груди заговорщики играли роли делегатов панельной дискуссии по правам человека. В перерыве, когда настоящие делегаты и организаторы отправились в буфет, Алехин и Книжник досконально осмотрели зал. Сергей пришел в ужас. План рушился на глазах. Полторы тысячи мест. Раздолье для снайперов и охраны. Впрочем, как и головная боль. На пресс-конференции зал будет полон. Сотни людей. Просто пронести в зал ствол — само по себе дела не решает. Да, от центра первого ряда до стола на сцене — два метра. Не больше. Для ПМ расстояние убойное вполне. Второй ряд тоже условно можно считать рабочим вариантом. Не более того. Но тоже только центровые места. Пятьдесят на пятьдесят. Если не меньше.
Можно, конечно, попробовать работать со всех кресел первого ряда с левой стороны, начиная от края сцены. Во время прохода объекта из левой кулисы к столу, как было на последних двух мероприятиях. Но, во-первых, там, в шаговой доступности, через одного будет сидеть и стоять охрана, во-вторых, объект может выйти из другой кулисы for a change[97]. Да и сам проход — это всего четырнадцать-пятнадцать шагов. То есть шесть — восемь секунд. И идет он боком к тебе, что сужает сектор обстрела. Движение усложняет работу. Где он — момент выстрела? Доля секунды. И все… То есть, по всему выходит, ничего.
О’кей. Ладно. Не сложилось. Не представилось случая. Объективно. Итак, объект доходит до стола и садится или сразу встает к трибуне. И что дальше? Потом? Все места уже заняты. Даже если бы были свободные, никто не даст тебе и шагу ступить по залу, особенно рядом со сценой. Даже просто встать в первых двух рядах не дадут. Только если разрешат задать вопрос.
Есть, правда, еще один вариант. И, похоже, последний. На шарап. Когда в конце, после всего, он поднимается и идет на выход. Два года назад он уходил в кулису. Год назад сходил со сцены вниз по ступенькам и через левый выход. Оба раза все журналисты в первых рядах бросались к нему, окружали вперемешку с охраной. Оба раза самый хаотичный, самый мутный момент. С одной стороны — шанс. С другой — не факт, что окажешься в первом кольце окружения. Не факт, что так будет и в этот раз. Хотя оба последних раза он неизменно останавливался и отвечал на пару вопросов, например про освобождение олигарха Сосновского. Всю пресс-конференцию молчал, а тут, бац, и выдал главную новость. Значит, готовился. И охранники толпу не разгоняли, хоть и активно контролировали. Все равно рассчитывать на гол на последней минуте как-то…
Нет, нет, нет. Все варианты, кроме одного, в лучшем случае, очень, очень на тоненького. Если будет хоть какой-то шанс, то только один. Упустить его нельзя. Короче, нужно занимать место напротив сцены. Как минимум во втором ряду. Других вариантов нет. О них нужно забыть.
«Ах да, есть еще один, — улыбнулся сам себе Алехин, — всегда и в любом ряду можно успешно застрелиться из принесенного тобой же «пээма». На глазах у всех. Его ты этим точно не убьешь, но праздник, да, испортишь.
Значит, надо «покупать» билеты в первый ряд. Но как? Как? Как попасть в первый ряд на шоу, где все билеты проданы? Это главный вопрос. По какой системе рассаживают гостей? Кто?
Тут Алехин вдруг осознал, что думает совсем не как опер Бульдог, а как профессиональный бандит, как наемный убийца, и к месту вспомнил, как их в свое время даже учили, как вживаться в образ преступника, учили думать, как злодей.
«Для оборотня в погонах — это, оказывается, раз плюнуть», — снова улыбнулся Алехин.
Книжник не улыбался. Он словно слышал сквозь невидимые наушники каждое слово из внутреннего монолога Сережи. Ходил по залу молча, почесывая щетину на подбородке.
— Сережа, давай не будем затевать здесь еще одну панельную дискуссию, а поедем-ка ко мне, кино посмотрим, — сказал, наконец, Книжник, и они, проверив наличие ствола в бачке, отправились в Барвиху.
Идея заложить ПМ в бачок принадлежала Книжнику, вору начитанному и с воображением. Он не скрывал, что убийство продажного копа Майклом Корлеоне было одним из его самых любимых эпизодов в «самом лучшем романе всех времен и народов». Сергей, воспринявший идею с самого начала без особого энтузиазма, после осмотра зала окончательно убедился, что из этой затеи ничего путного не выйдет. Шансов занять середину первого ряда — один из тысячи. Не ночевать же в первом ряду, чтобы забить место, пошутил он.
Книжник ответил цитатой от своего любимого писателя:
— Все первый ряд занять хотят, И всех почет влечет. Но кто б хотел в тугой петле Взойти на эшафот, Чтоб из-под локтя палача Взглянуть на небосвод?— Сами написали, Евгений Тимофеич? — спросил еще более удрученный Алехин.
— Нет. Это Оскар Уайльд. «Баллада Редингской тюрьмы». Перевод Нины Воронель. Этот перевод лучше, чем переводы Бальмонта и Брюсова, вместе взятые. Честно, по-английски не читаю, но не удивлюсь, если перевод будет даже лучше оригинала.
— Это вы к чему, Евгений Тимофеич?
— А к тому дорогой мой, что главный герой этого произведения бабу свою убил и сел в тюрьму, где его повесили.
— О’кей, я услышал. Как это нам поможет?
— А так, что он бабу свою когда угодно мог убить и в любой позе. И ему это легче легкого было. Но следы он толком не замел и загремел.
— Его казнили?
— Да, в самом конце. Самая длинная поэма, что я в своей жизни читал. Даже «Песнь о Гайавате», по-моему, короче.
— Мы так и будем весь вечер литературу обсуждать?
— Нет, Сережа. Мы еще раз посмотрим любимый фильм. В двух сериях.
— Мы ж уже два раз смотрели, нет?
— Давай еще разок. Бог любит троицу.
— О’кей, как скажете, Евгений Тимофеич.
И далее до полночного часа они смотрели кино. С сайта Kremlin.ru.
Просмотрели в третий раз обе предыдущие ежегодные пресс-конференции Пухова в ЦМТ. Книжник за Алехина сделал домашнюю работу. Им не пришлось пересматривать каждое представление от начала до конца. Книжник перегонял запись по заранее отмеченным им местам, возвращаясь вновь и вновь к ключевым сценам. Уложились вместе с обсуждением в пять часов.
— Итак, подведем главный итог дня, Сережа, — Книжник щедро разлил виски в бокалы. — Укладку нужно производить только из первого ряда. А еще точнее, из его середины. Там всего шесть убойных мест. От этого бизнес-класса до стола на сцене, за которым сидит объект и его пресс-секретарь, полтора, максимум два метра. Ближайшие охранники — на сцене, в семи метрах. В зале — еще дальше, к тому же им придется вставать с кресел. А это потеря секунды, а то и двух. Низкого старта нет ни у кого, кроме твоей пули.
— Все верно. Вы прям мои мысли читаете. Есть один глупый вопрос, если разрешите. Как я попадаю в первый ряд?
— А у меня еще более глупый вопрос, Сережа. Или даже два. Во-первых, как ты, мусор, за три года нюх растерял? Но это вопрос скорее риторический. А главный вот этот будет. Внимание. Где оба раза сидел твой брат-близнец?
— В первом ряду. Но это же не значит, что и в этот раз так будет?
— А ты остальных персонажей рассмотрел? Ну рядом с ним? Баба эта с губами и сиськами? Долбанутый старпер с бородкой и плакатом «Интерсакс»? Зачем ему вообще плакат в первом ряду? Потом педик этот слева? Что тебе о них известно?
— Ну, понял. Не дурак. Они там оба раза засветились.
— Правильно! Более того! На тех же местах!
— И?
— Что «и»? Ты будешь сам решать задачку без неизвестных, или тебе, как троечнику, нужно в ответы и решения заглянуть?
— Евгений Тимофеич …
— Что? Я уже сто лет Евгений Тимофеич. Думай, Сережа, думай! Или мои шестьдесят четыре «лимона» тебе мозги совсем расплавили?
— Ну зачем вы так? Я ж вернул.
— Шестьдесят четыре?
— Нет. Но я ж объяснял…
— Объяснял. Да. Конвертация долларов в доллары. Ладно, проехали. Короче, ты заметил, чем еще наш клиент отличился?
— Прохоров?
— Нет, б…дь, Пушкин!
— Он задавал вопросы. Оба раза. По одному в конце каждой пресс-конференции. Но я эти кусочки уже наизусть выучил. В ю-тубе смотрел.
— Текст — это разводка для лохов, Сережа. Главное у нас, Сережа, как в театре, — время, место и действие! Ладно. Вижу, что устал. Шесть уроков да еще с физкультурой — это до хера. Но потерпи еще немножко. Как, ты думаешь, ему удавалось каждый раз задавать вопрос и каждый раз при этом с одного и того же места в первом ряду?
— Не знаю.
— А я знаю, — Книжник стал сухим пальцем отчаянно тыкать в изображение, застывшее на паузе на экране монитора. — Это, Сережа, его место. Он у них свой человек. Оно за ним зарезервировано. Как и у всех остальных. Как у армянки вот этой с увесистым бордюром, так и у волосатика пархатого, и у других из кордебалета, включая Прохорова твоего. Который, бац, и оба раза случайно на одном и том же месте. Таких случайностей не бывает, товарищ мент.
— А если бывают?
— Тогда спросишь сам у него, когда будешь аппаратуру и документы получать. По описи.
— А если он не скажет?
— Ты же мент, Алехин! И кличка у тебя Бульдог. Ты лучше меня знаешь, как с людьми разговаривать.
— Боюсь, будет мало времени для допроса с пристрастием.
— Посмотрим. В любом случае, когда зайдешь в зал, иди к сцене, будь на виду. Они сами тебя посадят. Ты ж не памятник.
Оба засмеялись, и Книжник снова разлил виски по бокалам.
Они еще до самого утра обсуждали в деталях предстоящую операцию. У Книжника был припасен план зала, добытый из Интернета. Они чертили схемы. Репетировали все, вплоть до выброса руки с пистолетом. Алехин нагибается к сумке за камерой, выпрямляется уже с оружием в руках. На бумаге все выходило, как в кино.
В восемь утра, когда темень за окном стала сереть, Алехин начал собираться.
— Как красиво вы стихи читаете, Евгений Тимофеич, — уже в дверях сказал он. — Вам бы на сцене выступать. Такой талант пропадает.
— Я тоже об этом думал, Сережа, — без улыбки ответил Книжник. — Я ведь полжизни не жил, а сидел. А как откинулся совсем, то жизнь словно в зоне осталась, а талант голым на свободу вышел. И кому он теперь нужен. Разве что тебе. Что ж… Бери. Мне не жалко.
— Где ж вы были, Евгений Тимофеич, когда я в школьном театре играл?
— На балалайке?
— Нет, Шекспира. Как-то мне не очень пошлó.
— Каждому свое, Сережа. Каждому свое.
Третий раз Алехин выезжал туда неделю назад один — последний раз проверить закладку. В тот день уже всех посетителей и сотрудников с пристрастием шмонали фэсэошники. Большой зал был окончательно закрыт, и туда больше никого не пускали. Закладка была в порядке. Прозрачная пленка с двумя черными точками на крышке туалетного бачка оставалась нетронутой.
С Евгением Тимофеевичем последний раз они встретились с неделю назад, когда Книжник, сам за рулем, на старой «Шкоде», без охраны, заехал к нему на улицу Марины Расковой. Книжник отговаривал его. Предлагал забыть о мести, рассказал, что умирает, что его вот-вот загребут, и сказал, что списал с его счетов сорок пять миллионов «на мелкие расходы», а «десятку с маленьким лих…ем» оставил ему, если Сережа вдруг передумает и решит еще немного пожить.
— Я не передумаю, Евгений Тимофеич, — ответил Алехин. — Уже поздно.
— Лучше поздно, чем никому, — философски заметил Книжник.
— В том-то и дело. Больше некому.
— Да я не об этом.
— Я понял, Евгений Тимофеич, — улыбнулся Алехин.
— И я понимаю, Сережа. Ну, убьешь ты его, что маловероятно… Но что тебе-то с этого, если тебя самого убьют? Ты даже удовольствия получить не успеешь.
— Дело не в удовольствии. Я просто должен это сделать.
— Кому? Кому должен?
— Никому. Просто должен.
— Ну хорошо. Как хочешь. Тебе решать. Хотя я бы на твоем месте…
Книжник не закончил фразу — он не знал, что бы сделал на месте Алехина. Встал. Они обнялись. И больше не сказали друг другу ни слова.
* * *
Операция с самого начала пошла наперекосяк. Прохорова чересчур сильно ударили в момент похищения, и он никак не приходил в себя, а когда очнулся, то начал нести какую-то нечленораздельную чушь, не понимая вопросов. Момента истины не случилось. Времени на дальнейшие оперативные мероприятия не оставалось. Сергей забрал ключи от машины, документы, аккредитации, сумку с камерами, даже толком их не проверив, и направился в Москву. Люди Книжника повезли потрясенного Прохорова на тихую дачу под Звенигородом, где должны были сторожить его до утра, как договорились и что бы ни произошло.
* * *
И вот в очереди к рамке перед Алехиным остался один человек. Французский фотограф, который тоже с ним поздоровался, но в разговор вступать не стал. Когда тот прошел рамку, а сумка с камерами прокатилась сквозь сканнер, его попросили снять крышки с объективов и включить обе камеры. Сергей понял вдруг, что упустил при подготовке самое главное. Он не проверил, как включается камера. Все про нее знал — вес, скорострельность, какое разрешение в пикселях, какие процессоры и сколько их, какая светочувствительность и так далее. Запомнил, что весит она больше килограмма, а вместе с объективом 70–200 миллиметров — все два с половиной. Он даже помнил, что у камеры сорок пять точек автофокусировки. Все знал, а самую чепуху не выяснил.
«Вот так всегда, — грустно усмехнулся Алехин. — Кал сдал, мочу сдал, а на математике засыпался. Нужна помощь зала».
Глава двадцать пятая ТАБАКЕРКА
Москва. 18–19 декабря
ФСБ и ФСО работали в Международном торговом центре всю ночь. Проверили все веб-камеры и мониторы. Десятки агентов посекундно просматривали архивные записи. Ничего подозрительного не обнаружили. В те же часы техники развешивали повсюду десятки новых камер. Наружная охрана была выставлена аж в три часа утра. Три кольца омоновцев и курсантов училища Внутренних войск оцепили комплекс зданий Центра. Все запаркованные ближе трехсот метров автомобили были в срочном порядке вывезены эвакуаторами. Шесть пеленгаторов выставлены для перехвата сообщений и разговоров по мобильной связи по ключевым словам. Они должны были засечь и зафиксировать то, что не подавят две венгерские глушилки, которые могли отключить любую связь на территории площадью с десяток городских кварталов.
Более ста мест в зале, вмещавшем полторы тысячи кресел, были заняты плечистыми эфэсбэшниками, фэсэошниками и альфовцами в нелепо сидящих на них, топорщащихся темных костюмах с завязанными в магазине галстуками. Из-под воротов рубашек к боксерским ушам этих «журналистов» тянулись витые пластиковые спиральки проводов. На общем фоне они смотрелись как черные овцы в огромной отаре и моментально бросались в глаза. Чтобы вместить все это воинство в штатском, потребовалось бы лишить аккредитации около семидесяти региональных журналистов. Но во избежание лишнего шума (все-таки такое статусное мероприятие бывает раз в году) с попавшими в серый список провели беседу и без обид договорились, что выделят им места в соседнем, малом конференц-зале, где специально для них устроят прямую трансляцию.
В дополнение к штатному пункту охраны с мониторами в малом кинозале на втором этаже была оборудована оперативная комната с еще тридцатью двумя мониторами. На балконах и в воздуховодах над потолком были устроены гнезда для двадцати четырех снайперов. Весь большой зал был поделен на секторы обстрела. Мертвой зоной была обозначена сцена со столом для модератора и трибуной для спикера и восемь мест в первом ряду зала непосредственно перед сценой — для особо проверенных гостей. Вся эта зона носила оперативное наименование «Красный зеро», открывать огонь по или внутри которой было запрещено при любых обстоятельствах.
Остальные места в первом ряду предназначались для охраны. Весь штатный персонал ЦМТ из здания был удален еще накануне. Прибывающим телевизионным группам любая съемка снаружи и внутри здания до полудня — времени начала пресс-конференции — была запрещена. Никаких стэндапов перед конференцией ни внутри, ни снаружи не предусматривалось. Мини-бусы с антеннами спутниковой связи на крышах и логотипами CNN, BBC, RT и других телекомпаний простаивали без дела до особого распоряжения за пределами первого кольца оцепления.
Все канализационные, коммуникационные и любые другие металлические люки на прилегающей к ЦМТ территории были наглухо заварены. Каждому участковому было придано по шесть курсантов милицейских школ — ночь напролет и все утро они глотали пыль, проверяя подвалы, и с остервенелым матом выплевывали голубиные перья, когда заколачивали вентиляционные окна чердаков.
Неслыханный циркуляр получили в Оперативно-поисковом управлении ФСБ: всему личному составу, всем топтунам, установщикам и прочим николай-николаичам, не задействованным непосредственно на главном объекте, было предписано рассредоточиться за периметром официальных охранных мероприятий и начать наружное наблюдение в свободном режиме, то есть наблюдать не за конкретным объектом, а вообще за всем, что может показаться подозрительным, то есть за всем, что движется. И хотя было принято решение небо над Москвой не закрывать, в аэропортах под разными предлогами были отменены рейсы нескольких небольших авиакомпаний. На объектах ПВО в состояние повышенной готовности были приведены новейшие зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».
Предусмотрели все.
* * *
Пока заканчивалась проверка француза, Алехин пропустил вперед еще одного фотографа с двумя камерами на шее, громко сказав, что ему нужно срочно позвонить, а то внутри могут не разрешить. Отмазка была довольно хилая, потому что сигнала все равно ни у кого не было, и Сергей выглядел глупо, набирая на мертвом телефоне какой-то номер от балды, одновременно краем глаза наблюдая, как шмонают француза и фотографа, которого пропустил. Усилия оказались напрасными. Когда француз, после того как его фотосумка прошла через сканнер, вытаскивал оттуда обе камеры, включал их и передавал охраннику, он, к несчастью для Алехина, повернулся к нему спиной.
К этому моменту Сергей сам сообразил, что у того, кого он только что пропустил за французом, камеры был Nikon, а не Canon. И, конечно, включались и выключались по-другому.
Сергей понял, что пропускать больше никого не может, и, чтобы не вызывать подозрений, торопливо достал обе камеры из сумки. На одной был объектив 70–200 миллиметров, а на другой — 16–35. Сергей и в этом теперь разбирался, но очень условно, ясно понимал одно: на первой камере объектив длинный, на второй — толстый и короткий. Он ведь не собирался ничего снимать во время конференции и не был готов к тому, что камеры попросят включить. Дрожащими руками он вертел камеру с коротким объективом, разглядывая все мало-мальски видимые надписи, когда оказался перед охраной и услышал вежливое:
— Включите, пожалуйста, камеру.
Сердце заглавными буквами выстукивало в висках сообщение: «Провал!» — когда взгляд все-таки выхватил ON/OFF, и Сергей негнущимися пальцами дернул рычажок туда-сюда, а камера щелкнула и засветилась верхним дисплеем.
— Крышку снимите, пожалуйста, — попросил проверяющий.
— Простите? — переспросил Алехин, который еще продолжал находиться в эйфории от того, что ему удалось включить камеру.
— Крышку, — повторил охранник и через паузу добавил: — С объектива.
— Да, да, конечно, — спохватился Сергей и попытался отвернуть пластмассовую крышку.
Но крышка, как назло, не снималась.
Он пытался открутить ее, словно с банки маринованных огурцов, но понял, что у фототехники принцип другой и на тоненькой пластиковой крышке должны быть защелки, которые Сергей теперь тщетно пытался обнаружить. Он уже готов был просто силой отодрать крышку от объектива, когда охранник с терпеливой улыбкой посмотрел ему прямо в глаза. В этот момент телеоператор, стоявший сразу за Алехиным, со звоном уронил свой штатив, и, пока внимание всех окружающих мгновенно переместилось за спину Сергея, тот нащупал-таки защелки и сдернул невесомую крышку рывком, словно штангист, побивающий мировой рекорд.
Охранник осторожно взял камеру у него из рук, посмотрел в видоискатель и вернул ему камеру.
«Как они только таскают такую тяжесть целыми днями? — не к месту прозвучал в голове Алехина праздный обывательский вопрос. — «Макаров» и то полегче будет».
Со второй камерой, казалось, проблем теперь не ожидалось. Сергей вполне профессионально снял крышку с объектива, но… камера не включалась. Сдвигая рычажок, Сергей понял, что он уже стоял в положении ON. Прохоров, наслаждаясь лыжами, баней и «Кир Роялем», оставил камеру включенной, а с похмелья не проверил зарядку.
— У вас, похоже, батарейка разрядилась, — терпеливо сказал охранник. — Запасная есть?
Алехин полез в сумку, но там был такой бардак из проводов, флэшек, зарядок и прочего, что с ходу батарейку он найти не смог.
— Сейчас я от этой вставлю, — Алехин перевернул первую камеру, пытаясь открыть дверцу батарейки, когда стоявший за спиной оператор нетерпеливо бросил ему:
— От той не подойдет. Это ж «один дэ», а эта у вас «пятерка». Вот, Сергей Владиленович, возьмите. Я таскаю про запас для своей, вдруг ею придется видео снимать. У вас ведь mark III, по-моему?
— По-моему, тоже, — ответил Алехин и, пока Алексей Кузнецов (как гласила надпись на его бэйдже) открывал его камеру и менял батарейку, лихорадочно соображал, как к этому благодетелю обращаться. Тот назвал его на «вы» — значит, у Алехина есть право ответить Кузнецову как младшему. — Спасибо, Алеша. Спасибо, дорогой.
— Прохор, ты опять датый, что ли, с вечера? — добродушно крикнул стоявший в очереди человека за три сзади дважды Пулитцеровский лауреат Александр Клубничко из «Эй Пи». — Народ тут ваще замерзает из-за тебя!
Алехин не мог рассмотреть бэйджик Клубничко, которого никогда в жизни не видел и который был лучшим другом Прохорова, и просто приветливо помахал тому рукой.
— Сейчас, сейчас, — добродушно ответил за него охранник. — Сергей Владиленович не проснется никак. Да, товарищ журналист?
— Да, да, — поспешно и с натянутой улыбкой забормотал Алехин. — Трудный вечер выдался вчера… A hard day’s night[98]…
— I understand[99], — засмеялся охранник, жестом приглашая любимого журналиста президентской администрации пройти сквозь рамку.
«Твою мать! — думал Алехин, пока ходил взад-вперед через металлодетектор, вытаскивая из карманов один за другим все металлические предметы — телефон, ключи, монеты, и снимая ремень и часы. — Тебя же здесь каждая собака знает! А ты — ее! Имей это в виду, Алехин!»
С паспортом и аккредитацией проблем, слава богу, не было. Что ж, теперь можно и прямиком в сортир.
В туалете все было, как прежде, если не считать шести новых миниатюрных камер, которые снимали заветную кабинку, словно в пип-шоу для особо озабоченных. Но Алехин об этом не подозревал. Как не знал он и о том, что для подстраховки внутри главного зала сразу за дверьми установили еще одну рамку и сканер.
* * *
Пока в штабе операции наверху с десяток глаз следили за всем происходящим на мониторах, за бетонной дверью подвального бомбоубежища на торсе президента Пухова, который при помощи педагога по сценической речи и актера МХАТА имени Чехова Аристарха Злотникова в ритме фокстрота проговаривал туда-обратно скороговорку «Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали», два капитана из его личной охраны закрепляли тонкий и легкий, как нижнее белье биатлонистов, отечественный бронежилет из мягкой американской многослойной брони. Жилет назывался Hybrid armor и состоял из трех компонентов: баллистического нейлона, арамидной ткани Dynima и сверхмолекуляного полиэтилена. Похожий жилет, только менее накрученный, когда-то много лет назад спас подполковника Алехина от пули полковника Слуцкого.
Президент скрепя сердце согласился на невидимый под белой рубашкой бронежилет — единственное условие, выдвинутое новым начальником охраны, свежеиспеченным генерал-майором Рыжиковым. Иначе пришлось бы уволить и его.
* * *
Войдя в широкий холл с высоченными потолками, Алехин дождался оператора, который выручил его на рамке, и вернул тому батарейку. Потом хорошенько порылся в сумке, нашел подходящую и вставил в камеру. Оставив по просьбе охраны сумку в гардеробной вместе с курткой и повесив обе камеры на шею, Алехин огляделся и медленным шагом направился в сторону туалета. Он шел, пытаясь включить в себе нюх опера и почувствовать засаду, если она есть. Исключить этого было нельзя. Книжник не единственный фанат «Крестного отца», и какой-нибудь гэбэшный или ментовский генерал мог вполне разделять пристрастия «вора в законе» и его образное мышление. Конечно, вряд ли генерал читал Пьюзо. Но вот кино с Аль Пачино точно мог смотреть. Хоть он и не вор, а генерал.
Активно кучкующиеся недалеко от туалета альфовцы Наконечный и Станкевич с фотокамерами и журналистскими бэйджиками на груди в компании заливающихся смехом во весь голос спецагентов ФСБ, обладательниц черных поясов по тхэквондо и карате Немировской и Прокофьевой с блокнотиками и чашечками с кофе в руках не включили у Алехина сигнала тревоги. Пройдя мимо них, он уступил дорогу седому, пожилому и толстому журналисту и вошел в туалет вслед за ним.
На секунду Алехину показалось, что толстяк намеревается воспользоваться его кабинкой. Это могло отнять слишком много времени, которое в туалете было нечем занять. Разве что помыть над умывальником голову и просушить волосы под сушкой для рук. Но толстяк почему-то передумал и выбрал кабинку слева. Алехин вошел в свою кабинку, повесил обе камеры на крюк на двери за спиной, повернулся и, пока расстегивал и спускал джинсы, увидел, что пленки с двумя точками на крае крышки не было. Ее и след простыл.
Бывший мент моментально сообразил, что ему сейчас просто необходимо пописать, чтобы не вызвать подозрений, если «явка» провалена и за ним наблюдают на мониторах. Если, конечно, пленка не слетела сама собой за неделю, но…
Открывать бачок в любом случае нельзя.
«Разве что есть неистребимое желание сходу получить родаминчика в морду, не говоря уже о том, как дальше будут принимать», — подумал Алехин, который сам за свою ментовскую карьеру не раз нашпиговывал родамином «котлету».
Алехину казалось, что он простоял в кабинке целую вечность, прежде чем у него, слава богу, получилось. В этот момент кто-то нетерпеливо дернул ручку двери, чертыхнулся и пошел дальше вдоль ряда. В соседней кабинке спустили воду, и Алехину на миг представилось, как его самого смывает потоком в ржавую канализационную трубу. И это было бы лучшим исходом сейчас, поскольку сделай он одно неверное движение — и окажется не в конференц-зале ЦМТ, а в лучшем случае — в одиночке Лефортовской тюрьмы. Это в лучшем случае.
— Это Прохоров, любимец президента, — сказал Стасик Светлов, первый помощник Клопикова, который вместе с руководителями операции, сидя в кабинете на втором этаже ЦМТ, неотрывно наблюдал за каждым посетителем туалета номер четыре и особенно кабинки номер два на первом этаже. — Этот на сто процентов не ваш клиент. Просто поссать зашел.
Алехин долго мыл руки и лицо, словно отодвигая момент ареста. Потом посмотрел на часы и собирался уже выйти на негнущихся ногах из туалета, когда понял, что забыл камеры в кабинке. Он почти прыжком достиг ее двери и дернул ручку на себя со всей силы. Ручка чуть не оторвалась, но выдержала. Задвижка, защелкнутая изнутри, тоже. Алехин едва не поседел, пока ждал, когда из кабинки покажется Клубничко со своими камерами на шее и с его парой в руке. Пока Алехин умывался, тот оказался в кабинке.
— Прохор, ты совсем офонарел! — добродушно воскликнул Клубника (так его звали все друзья-коллеги), удовлетворенный тем, что ему не придется искать товарища в многолюдном холле, таскаясь с забытыми им камерами. — Десять тысяч баксов в сортире оставил! Что с тобой сегодня? Хорошо, что я подвернулся. А если бы мне не приспичило?
Они вышли в холл.
— Саша, дорогой, спасибо! — Алехин прочитал имя на карточке. — Что бы я без тебя делал!
— Слушай, а откуда у тебя этот шрам? — вдруг спросил Саша. — Бандитская пуля? Серьезно, на войне что ли?
— Да нет, на рыбалке. Блесной зацепил.
— Ну и блесенки у тебя! На крокодила, что ли?
— Нет, на щучку.
Алехин изучил страничку Прохорова в Фейсбуке, на которой тот регулярно выставлял свои фотки с рыбацкими трофеями. Он пытался запомнить каких-то френдов журналиста, но понял, что затея эта бессмысленная. Их там было пять тысяч, и Клубнику, несмотря на все его регалии, он вряд ли мог бы узнать при личной встрече.
Клубника кофе пить отказался, сказав, что надо постараться вовремя занять хорошее место для съемки.
— Тебя-то твой Клопиков уже, поди, определил в царскую ложу, — завистливо буркнул он и усмехнулся сквозь пышные усы.
С этими словами Саша отправился в зал занимать место, а Алехин — в буфет, чтобы прийти в себя и определиться, как жить дальше.
Ему казалось, что если бы не Клубничко, то он своим растерянным видом давно уже выдал бы всем, кому положено, чей на самом деле этот ПМ, который они нашли в бачке. Конечно, нашли — только отмороженный мудак мог рассчитывать на то, что пленка слетела сама.
По пути в буфет, неподалеку от туалета, он вновь прошел мимо группы из двух парочек «журналистов» и «журналисток», продолжающих весело щебетать. Алехин готов был убить себя на месте, удивляясь, как он их сразу не срисовал. «Совсем, твою мать, нюх потерял, миллионер хренов на букву “эм”!» — мысленно укорил себя Сергей и прошел в буфет.
«Все ясно, — паззл сложился у него в голове. — Ствол сгорел. Это в корне меняет дело».
Пока он приходил в себя, стоя за высоким круглым столиком с чашечкой американо без молока в руке, к нему, улыбаясь, подошла высокая красивая брюнетка в ярко-красном платье, с такого же цвета губами, с грудью Памелы Андерсон и огромным плакатом под мышкой.
— Сереженька наш совсем зазнался, — сочным контральто заговорила, словно запела арию, незнакомка. — Шагает себе мимо — ноль внимания.
— Привет, — улыбнулся Алехин. — Тебе кофе взять или чего?
— А в щечку? — девушка подставила ему румяную от густой краски щеку. — Танечка бедненькая тут совсем извелась в одиночестве. А он все на войне да на войне. Не звонит. Не пишет. «Ах, война, что ты сделала, подлая…» Признавайся, у тебя на Донбассе своих пять Танечек уже завелось?
— Танюша, прости, совсем завертелся, — ответил Алехин, мысленно удивляясь популярности своего «альтер эго» и отметив про себя сочный и призывный южнорусский говор Танечки. — Только вернулся. Собирался сегодня позвонить.
— А у тебя будет свободное время после прессухи?
— Не уверен. Хотя…
— Ты мог бы у меня и статью написать, и карточки от меня передать. У меня, сам знаешь, какой вай-фай чумовой. И ехать пять минут. Я, правда, мешать не буду.
— Хорошо, — Алехин вдруг подумал, что умирать ему все равно не придется, раз пистолет пропал, а деваха была очень даже ничего. — А что у тебя за плакат?
— А ты что, свой не взял?
— Нет.
— Ну да, конечно. Зачем тебе, когда и так дадут.
— Кто?
— Ну я, к примеру.
Таня густо рассмеялась на весь буфет и подняла плакат над головой. На нем жирным синим фломастером огромными буквами было написано: «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА».
— Красиво, — буркнул Алехин.
— Думаешь, обратит внимание?
— Конечно, обратит, — Сергей, наконец, понял, о чем речь. — На бюст точно.
— Ладно, пошла занимать место для бюста, — рассмеялась Танечка, чмокнула его в щечку, оставив на ней «кровавый» след, и направилась в зал. По дороге она обернулась и послала Алехину воздушный поцелуй: — Созвóнимся после прессухи!
— Созвони́мся! — крикнул ей вслед Сергей.
В зал уже стояла огромная очередь. У большинства в руках были плакаты, как у Танечки.
«В принципе, можно уходить, раз пистолет “утонул”, — подумал Алехин и тут же поправил себя: — Если пойду сейчас, меня точно возьмут в дверях. Надо идти в зал вместе со всеми, изображать журналиста».
И он встал в новую очередь.
* * *
— Евгений Тимофеевич, бригада электриков выезжает, — человек, звонивший по нулевому номеру, говорил сквозь платок, скороговоркой, путаясь в словах, которые нужно было спрессовать в максимально короткое, но исчерпывающее устное послание. — У них весь инструмент с собой. Если на месте не разберутся, увезут и там починят. Вы ни о чем не беспокойтесь. Главное, будьте дома через три, три с половиной часа. Есть вопросы, перезвоните. Знаете кому.
В трубке послышались гудки. Односторонний разговор длился четырнадцать секунд. Засечь и локализовать звонящего не успеют.
Книжник ждал этого звонка уже давно. Сигналы поступали каждый день. Чекисты перебили и перебрали всю братву в Москве и области. И вот добрались до него. Звонок был пожарным сигналом.
«Бригада электриков» — группа захвата. «Инструмент с собой» — вооружены автоматическим стрелковым оружием. «Если не разберутся на месте» — если не пристрелят при задержании. «Увезут и там починят» — в СИЗО и под пресс. «Главное, не беспокойтесь» — боевая тревога, бегите с глаз долой. «Будьте дома через три, три с половиной часа» — если через три часа еще будете дома, вам конец. «Есть вопросы, перезвоните» — никуда не звоните. «Знаете кому» — забудьте и подотрите все номера.
Так работает уголовный Твиттер. Без сбоев. Коротко и ясно.
Книжник налил себе бокал «Роберта Бернса», устроился поудобнее в кресле и включил телевизор.
Пресс-конференция уже началась. Президент рассказывал о том, что, «несмотря на недружественные акты наших партнеров», экономика растет как на дрожжах. Минут через десять Вор взглянул на часы, взял трубку, вызвал к себе управляющего Маркова, встал, открыл сейф и выгреб оттуда пару десятков пачек банкнот.
— Сергеич, вот тебе зарплата и премия, — Женя кинул пачку в руки потрясенного Маркова. — Вот ребятам, — Книжник указал на пирамиду из пачек серо-зеленых банкнот на столе и вручил Маркову список на листке А4. — Здесь все расписано, кому сколько. Скажи, получка и премия всей охране и обслуге. Не забудь тех, у кого сегодня выходной. Помнишь, у Бизона жена рожает? Ему двойной бонус, если мальчика Женей назовут. Предупреди, чтобы сразу все не меняли. Курс, как по ящику говорят, волатильный. Знаешь, что это такое?
— Нет, не слышал, — Марков замялся. — Евгений Тимофеевич, не конец же ж месяца… Почему? И… — он никогда не видел столько денег.
— По кочану, Сергеич. По кочану. Чтобы через полчаса никого здесь не было. Инструмент, зарядку, шурупы, гвозди-шмозди приберите начисто. Без моего звонка на работе никто не появляется. Ни завтра, ни после. Ни вообще. Уяснил?
— Уяснил. А вы как же?
— Обо мне не беспокойся. Позови Надю. Сам дождись ее внизу, отвезешь домой.
Невестка с внучкой прохлаждались второй месяц на Лазурном берегу. Именно прохлаждались. Погода была плохая. Ветер, дождь. Море серое, холодное. Проводили время в бассейне с подогревом, в школе и за шоппингом. Нужно им позвонить, не забыть. Пришло время доступно объяснить, что там, у них, — любая погода всегда лучше, чем в Москве.
Надя уехала с Рыжиком и Марковым к себе на Каширку через час. Рыдала в голос, пока собиралась. Сначала Рыжика полчаса искали. Еле нашли. Он в чулане в коробку спрятался. Не хотел хозяина оставлять. Но торчащий хвост его выдал. Потом Надя чуть чемодан с деньгами не забыла. Марков возвращался за ним.
* * *
Алехин вздрогнул, что называется, задним числом, когда увидел сканер и рамку уже и в самом зале.
«Помер Максим, да и х…й-то с ним, — подумал он про пистолет. — Задание провалено. Надо продержаться до конца этой мутоты и сваливать». Сергея уже тошнило от рябящих в зале плакатов и восторженных лиц. «КВН какой-то», — подумал он, отправляя камеры в сканер.
Почти все места в зале были заняты. Вперед идти не было смысла.
«Постою, поподпираю стенку», — подумал Сергей.
Алехин больше не волновался. Все было кончено. Он зря понадеялся на себя. Зря не доверился Джейн. Она была права — он зацикленный на личной мести идиот.
— Сергей Владиленович, а мы вас потеряли! — обнял его за плечи молодой человек в сером костюме и бордовом галстуке. — Пойдемте побыстрее на ваше почетное место. Вадим Вадимыч уже спрашивал о вас.
Клопиков повел Алехина по центральному проходу к первым рядам. По бокам многие привставали, кричали ему приветствия и успевали завистливо пошутить по поводу того, как Кремль облизывает либеральных журналистов. Сергей чувствовал себя, как чемпион мира по боксу, которого ведут на ринг в Madison Square Garden.
«Без перчаток и трусов», — добавил он про себя и мысленно грустно усмехнулся.
Ровно в двенадцать, минута в минуту, из левой кулисы, как и в предыдущие разы, появился президент Пухов. Он шел по сцене к столу, не замечая рукоплещущего зала, словно обычный человек, который идет себе по улице на автобусную остановку или в соседний киоск за сигаретами. Несколько охранников заранее выстроились в проходе между сценой и залом.
«Так, б…дь, закрыли телами сектор обстрела, как будто и впрямь боятся, что какой-то мудак в него будет здесь стрелять, — подумал Алехин. — А чем, на х…й, стрелять, если и водяного пистолетика нема?..»
Бывший офицер-подводник, Пухов шел по сцене, характерно отмахиваясь правой рукой, а левую держал прижатой к бедру, словно всю жизнь только и делал, что с кортиком ходил. При этом он слегка прихрамывал на левую ногу. Президент поздоровался за руку с пресс-секретарем так, будто видит того сегодня в первый раз, сел за стол, обвел взглядом зал и потер руки, словно с мороза в тепло попал. И тут глаза Алехина и Пухова встретились. Пухов еле заметно улыбнулся, поджал губы и кивнул ему головой, как старому знакомому.
* * *
Президент говорил второй час. Книжник, как ни старался, не мог отыскать в толпе Алехина, когда камера показывала зал. Почти все журналисты уже стоя размахивали плакатами с названиями своих городов, поселков, газет, телеканалов и радиостанций. Их лица светились возбужденным ожиданием и предвкушением «минуты славы».
— Пидарасы, — сплюнул Книжник, запахнулся потесней в махровый халат и налил себе еще бокал.
И тут он, наконец, увидел Алехина. Опера несколько секунд показывали крупным планом. На нем были коричневый замшевый пиджак, голубая рубашка с расстегнутым воротом и синие потертые джинсы. На коленях у Сергея лежала черная фотокамера. На экране Книжник не мог разглядеть другую камеру, побольше и подлиннее, на полу в ногах у Сергея. Да это было и неважно. Главное, он понял, что Алехин устроился в середине первого ряда прямо напротив президента. Симонов теперь не сомневался, что все идет даже лучше, чем по разработанному ими плану.
— Молодец, мусор! — Книжник одним глотком осушил полбокала. — Отсюда даже ты не промахнешься. Лучше не придумаешь. Прямо тир Культуры и отдыха. Ставлю на тебя — десять к одному.
* * *
Разгневанная и разочарованная, Джейн еще три месяца назад вместе с другими материалами опубликовала в «Нью-Йоркере» распечатку телефонного разговора Горового с генералом. Но какую-то распечатку и непонятный аудиофайл с фотографиями, не привязанными по месту и времени, без живого свидетеля к делу не пришьешь. Сенсации не получилось. Все и так знали, кто сбил самолет. Редакторы были настроены пессимистично, хоть и опубликовали материал в четыре с половиной тысячи слов, который начинался на первой странице и кончался в середине журнала. Текст был обильно иллюстрирован разворотами с пусковой установкой и комплексом «Бук» в разных ракурсах.
Кремль отверг все обвинения, назвал запись фальшивкой ЦРУ и навечно лишил Джейн аккредитации, аннулировав ее пятилетнюю визу. Главный редактор сказал, что статья заслуживает «Пулитцера», но подать ее на премию он не сможет. Кремль пообещал нанять лучших адвокатов и уничтожить журнал в суде, если они не смогут доказать подлинность аудиозаписи.
Горовой был ключевым свидетелем, который теоретически мог привести президента Пухова на скамью подсудимых в Гааге. Но он погиб, как и все остальные, так или иначе замешанные в этом деле. Супруга Горового, которая могла и готова была засвидетельствовать, что голос на пленке действительно принадлежал ее мужу, погибла вместе с дочерью в автомобильной аварии, когда бетономешалка на скользкой дороге перевернулась на бок и раздавила в лепешку машину американского посольства, в которой они вместе с консулом ехали в аэропорт Вильнюса, на рейс в Лондон. Джип сопровождения с морскими пехотинцами США не пострадал.
Джейн налила себе бокал виски и включила телевизор в своей маленькой квартирке в Ист-Виллидж в Нью-Йорке.
— Fucking son of a bitch! — вдруг воскликнула она, выронив бокал на ковер, когда узнала Алехина в первом ряду на пресс-конференции Пухова. — Jesus Christ![100]
Она моментально позвонила в редакцию, попросила связать ее с Дэвидом Саймаком, главным редактором, и, перейдя почти на крик, заклинала его не пропустить ни одного слова из пуховской пресс-конференции и готовиться к срочной публикации внеочередного номера. Она потом все объяснит, если он сам не поймет. Положив трубку и не выключая телевизора, она принялась писать статью. В этот раз «Пулитцер» будет у нее, даже если этот долбанутый русский псих заплатит за него собственной жизнью. А другого варианта и быть не могло. Иначе он не был бы там. В первом ряду. Напротив человека, который убил его семью.
— The fucking scar! — Джейн лихорадочно собирала в одно целое мысли, танцующие сумасшедшую джигу у нее в голове. — I can’t be fucking wrong! It’s fucking him? For fuck’s sake![101]
«The world’s Number One criminal is dead!»[102] — отбарабанила она первую, самую главную фразу. В американской журналистике огромное значение отводится ведущему абзацу, который по-английски называется коротко — the lead. Чтобы понять, насколько оно важнее даже заголовка, достаточно знания того, что на факультетах журналистики в американских университетах этому искусству отводится, как правило, целый курс по отдельному предмету — «Как начинать статью». Такого убойного lead в ее карьере еще не было. Тут же следом пришла и последняя — the kicker[103] — «The gunned down Boeing buried the man who gave the order»[104].
Осталось заполнить промежуток между ними и дождаться срыва трансляции. А этого не может не произойти. После чего сохранить текст, озаглавить файл и нажать кнопку SEND[105].
* * *
Шел третий час пресс-конференции. Российский президент был в ударе. Несмотря на холодный, отстраненно-безучастный взгляд белесых глаз, у него на все находился остроумный и хлесткий ответ.
Прохоров-Алехин был единственным журналистом, которому разрешалось сидеть с камерой в первом ряду. Он поднял камеру с маленьким объективом, включил ее (теперь он умел делать это профессионально) и, изображая съемку, разглядывал в видоискатель бегающие рыбьи глазки человека, убившего его семью, не вдумываясь в смысл того, что вещал Пухов. За два часа объект успел переместиться от трибуны за стол. Алехин сидел прямо напротив него.
— Fucking bastard, — вымолвила Джейн, не отводя взгляда от экрана. — Go on. Do your fucking thing![106]
У нее больше не было сомнений, что перед ней Алехин. О том, куда делся Прохоров и что с ним случилось, она предпочитала не думать. Ее сейчас волновало только то, что происходит и должно произойти в этом зале.
— Меня тут спросили, возможен ли в России дворцовый переворот, — едва заметно улыбаясь, говорил президент. — Отвечаю. Насчет дворцовых переворотов — успокойтесь: у нас нет дворцов, поэтому и дворцовых переворотов быть не может. — Слова Пухова, как и должно было произойти, вызвали одобрительный смех в зале. — У нас есть официальная резиденция Кремль, она хорошо защищена, и это тоже фактор нашей государственной стабильности. Но стабильность основана не на этом: не может быть никакой более прочной базы, чем поддержка российского народа. Я думаю, что вы не будете со мной спорить и не станете отрицать, что по основным направлениям нашей внешней, да и внутренней политики такая поддержка есть. Почему так происходит? Потому что люди душой и сердцем чувствуют, что мы, и я в частности, действуем в интересах подавляющего большинства граждан Российской Федерации.
Пухов ответил, наконец, и про самолет, сбитый украинскими «террористами» на Донбассе.
— Главный вопрос: почему украинские власти не запретили полеты гражданской авиации над территорией, где бушует гражданская война? — заявил Пухов, вопрошающе воздев открытую ладонь правой руки. — У вас есть ответ на этот вопрос?
Десятки голосов в зале воскликнули «нет!».
— Вот и у меня тоже, — удовлетворенно резюмировал президент.
Пухов подробно ответил еще на пару вопросов о войне в Восточной Украине, где киевская хунта ведет «карательную операцию» против своего народа и где «российских войск не было, нет и быть не может», и об отечественной минеральной воде, которую магазины не хотят продавать, и о крестьянах, которых нужно уважать за то, что они вырастили сто четыре миллиона тонн чего-то зернового. И о пытках, легализованных в США после 11 сентября 2001 года. И о том, что им был «инициирован проект по созданию в нижнем кластере в Имеретинской долине постоянно действующего центра по подготовке школьников по основным зимним видам спорта».
Журналисты готовы были бесконечно задавать вопросы, в том числе и о «нижнем кластере», а Дэвид Саймак уже поглядывал на часы и разочарованно зевал. И только Джейн Эшли, давно переставшая слушать Пухова, самозабвенно продолжала строчить статью о событии, которое еще не случилось, но которое не могло не произойти. Единственное, чего она пока не знала, это как… Но не сомневалась, что у Алехина есть свой план мести, иначе его бы там не было.
Человек без плана, Алехин, давно опустил камеру на колени и старался больше не смотреть на Пухова прямым взглядом, чтобы не совершить бессмысленное и непоправимое. Между тем от нечего делать, «ради спортивного интереса», он давно срисовал всю диспозицию. Объект находится перед ним на расстоянии двух вытянутых рук или одного прыжка. Ближайший охранник на сцене — двенадцать метров. В зале в первом ряду — четыре сидящих охранника. До ближайшего из них дистанция в семь метров.
«Если, конечно, эта брюнетка справа не охрана», — подумал он, краем глаза вновь уловив колыхания высокой груди соседки, ароматной, как парфюмерный отдел шереметьевского Duty Free.
В этот момент Пухов покончил с очередным ответом, и грудь соседки заколыхалась еще сильнее в такт аплодисментам, поддержанным сотнями других журналистов, присутствующих в зале. Ее бэйджик от колыханий в какой-то момент перелетел с правой груди на левую, и Сергей ухватил на нем два слова — крупными буквами Russia Now, и имя Маргарита. Фамилии он не разобрал.
«Так, — заключил Алехин. — Грудастая Маргарита отпадает. Значит, ближайшему в моем ряду охраннику понадобится три секунды, чтобы добраться до меня, учитывая, что он потратит секунду на оценку ситуации и отрыв задницы от стула».
Если бы Алехин был Брюсом Ли или Чаком Норрисом и мог завалить Пухова одним ударом, охрана не успела бы ему помешать. Но он не был ни Брюсом, ни Чаком. Он был Сергеем Алехиным по кличке Бульдог, который по паспорту Юрия Жданова вернулся с войны в Москву, чтобы под именем Сергея Прохорова убить президента Вадима Пухова. Голыми руками.
«Тебе самому не смешно, motherfucker?» — мысленно обратился к себе Алехин.
* * *
Внизу громко распахнулись незапертые ворота. Книжник услышал, как по мраморной изогнутой лестнице затопали тяжелые бутсы спецназовцев.
— Вот блин, на самом интересном месте! — чертыхнулся Евгений Тимофеевич Симонов, выключил звук и, как был в халате, прошел по коридору третьего этажа в ванную и закрыл дверь на засов. — Ну, ничего, там узнаю. Из первых рук. Удачи, Сережа…
Книжник сбросил халат и посмотрел на отражение своего худого изможденного жизнью и болезнями тела в зеркале. В дверь постучали один раз, второй. Потом третий — более решительно. Прикладом автомата.
— Симонов, откройте дверь! — раздался громкий командный голос из коридорных глубин. — Вы арестованы. Мы можем здесь, на месте, оформить вам явку с повинной. Я гарантирую!
— Подождите минуточку, — бодро крикнул Евгений Тимофеевич. — Я сейчас. Зубы почищу.
Он действительно почистил зубы. Запил водой из-под крана дневную дозу — пригоршню лекарств. Достал из ящика под зеркалом пистолет ТТ со взведенным затвором. Еще раз взглянул на себя в зеркало. Синий Христос и синие ангелы в ожидании замерли у него на груди. Голубые звезды на плечах Вора вдруг заискрились и засияли, как золотые эполеты.
Книжник сунул ствол в рот и, ощутив бодрящий, как мята, кисловатый привкус стали, плавно нажал на спусковой крючок.
* * *
— Вы знаете, мы уже больше трех часов с вами работаем, — сказал довольный своим выступлением, но усталый Пухов и посмотрел на Алехина. — Нам нужно постепенно заканчивать. Давайте последних три вопроса.
Про «Боинг» больше никто так и не спросил.
Джейн Эшли кусала ногти перед телевизором.
Ее шеф разочарованно зевал с айфоном в руке.
Евгений Симонов лежал на спине в ванной комнате. Лужа темной крови растекалась по мраморному полу у него из-под головы.
Алехин встал, повесил одну камеру на шею и медленно поднял с пола другую.
— Сергей Владиленович, вы уже уходите? — вдруг спросил Пухов, стоило тому отвернуться и сделать первый шаг в сторону центрального прохода. — Не задав ни одного вопроса? Я вас не узнаю.
Говоря эти слова, Пухов успокаивающим жестом приказал напрягшимся для прыжка охранникам оставаться на своих местах. Мол, все хорошо, все идет по плану, и мы сами тут разберемся… В оперативной комнате заместитель Клопикова вновь уверил генералов, что все в порядке и беспокоиться не о чем — Прохоров просто чудик такой, но Пухов его за это и любит.
— Так и не придумали, Сергей Владиленович, за три часа, какой вопрос задать? — с улыбкой продолжил Пухов.
— Отчего же? — Алехин медленно развернулся и в первый раз за вечер уловил во взгляде президента что-то человеческое, нечто вроде начинающегося волнения. — Хочу.
В зале повисла тишина, свистящая моторами камер, как гюрза перед броском.
У Джейн из прикушенной губы на подбородок сочилась кровь. Глаза стали мокрыми от слез.
— За что ты убил моих детей? — впечатывая каждое слово в передовицы утренних газет, спросил Алехин. — И мою жену?
Тишина стала абсолютной, словно не было больше ни стрекота, ни щелчков видео- и фотокамер. И в этой космической тишине Алехин, как в замедленной съемке, взмахнул тяжелой камерой с телескопическим объективом, как пращой, — и, сделав полоборота, успел выпустить ремешок из разжавшихся пальцев.
Длинный объектив впечатался президенту Пухову Вадиму Вадимычу в висок, а корпус камеры — в переносицу, сломав носовую перегородку, как сухую ветку…
Снайперы не имели права стрелять по красному сектору. Ни при каких обстоятельствах. К Алехину и на сцену со всех ног бежали сотрудники безопасности, выпрыгнувшие отовсюду, как черти из табакерки — возможно, той самой, которой когда-то размозжили башку одному российскому императору…
Эпилог 20 ДЕКАБРЯ
Москва
Голова раскалывалась. От удара по затылку похмелье затянулось еще на сутки. Неизвестные держали Прохорова в каком-то холодном загородном доме. Временами вдалеке было слышно поезд.
Не били, не угрожали. Лишь один раз в самом начале, когда он только пришел в себя, сказали, что пристрелят, если рыпнется. Прохоров не рыпался. Днем его угостили теплыми щами и стаканом водки. Утром сводили в холодный сортир на улице, потом угостили еще рюмкой водки с холодным вáреным-переваренным яйцом с бледным, почти серым желтком, вприкуску с толстым желтушным соленым огурцом. После этого «завтрака туриста» ему связали руки за спиной, замотали голову колючим шерстяным шарфом, от которого нестерпимо воняло нафталином и карболкой, запихнули в машину и везли куда-то полчаса или около того.
Развязали руки, сняли шарф, выпихнули пинком на серую заснеженную и успевшую обледенеть обочину и укатили на «Форде Сиеста» с вогнутым ржавым бампером и белорусскими номерами.
Прохоров проверил карманы. Ключи, кошелек на месте. Деньги в кошельке, похоже, тоже не тронуты. Портмоне с документами — паспортом, аккредитацией, правами, техпаспортом и прочими бумагами, как и машина вместе с ключами — исчезли. И камеры ёк!
Хорошо, хоть ключи от дома и связку дачных нащупал в кармане. Есть куда податься. Вспомнил про Пухова, Клопикова, пресс-конференцию. Теперь его точно на хер с работы выгонят. Просрал главное событие года. Никакие прошлые заслуги не спасут. Хоть под машину бросайся. Надо срочно звонить. Сначала на работу. Что сказать? Что соврать? Кто поверит, что его похитили? Но врать никому не пришлось — телефона все равно под рукой не было.
Неужели все из-за машины? На хер кому нужен его двухлетний RAV-4 после крутой жестянки. Камеры, те подороже его тачки будут. Только кто их купит? Зато часы — на руке. Таиландский «Ролекс» за десять долларов оставили. Семь утра. Сумрак. Холод. Лед. Как назло, ни одной машины. Уже поток должен быть! Что происходит? Это ж Минка, если он ничего не путает.
За поворотом что-то рычит. Словно трактор. Шум нарастает. Целая бригада тракторов? Б…дь! Танки! Один, второй! Бронетранспортеры!
Он отпрыгнул подальше за обочину. Этим не проголосуешь… Что делать? Что, б…дь, вообще здесь происходит?
Взлохмаченный, небритый Прохоров с разбитой головой в расстегнутой куртке застыл, прислонившись спиной к высоченному железному забору, глядя на проходящие перед ним один за другим танки и бронемашины. Рев моторов боевой техники оглушал и душил серыми клубами выхлопных газов. Рычащей колонне не была конца. Она шла и шла на Москву. Нью-Йорк
В Америке утро еще не началось, как Джейн настигла настоящая, крупнокалиберная слава, к которой она стремилась всю жизнь. В девять утра ей позвонила сама Опра Уинфри. Не ассистентка и не продюсер, а сама Опра! Бобу Дилану и Полу Маккартни звонили продюсеры, а ей сама и лично пригласила ее в ближайший эфир. Кроме того, легендарная ведущая предлагала ей, в прямом смысле, любые деньги за видео, в котором они с Алехиным уходят от погони на Донбассе и кусочек которого был размещен на сайте «Нью-Йоркера». Копию фотографии Алехина с Леной и дочерями с обложки ее журнала за несколько первых часов раскупили все мировые СМИ, включая даже некоторые российские. С шести утра Джейн уже сидела в офисе главного редактора, не осмеливаясь выйти на улицу, где ее ждали десятки камер и сотни журналистов. Несколько минут назад ей позвонил один из руководителей «Коламбиа пикчерс» и с ходу предложил многомиллионный контракт на фильм, основанный на ее статье и, если согласится, по ее сценарию.
— Джейн, — обратился к ней Дэйвид Саймак, ее босс, главред «Нью-Йоркера», наливая ей очередную чашечку эспрессо. — Скажи только мне. Ты знала, что будет, с самого начала? Мне важно это знать.
— Зачем? — с усилием ответила Джейн.
— Просто для того, чтобы знать, можем мы продолжать работать дальше вместе или нет. Поверь, мне безумно жаль, но если ты знала, то нам придется расстаться. Я понимаю твои эмоции, однако в сухом остатке то, что произошло, как ни крути, убийство, преступление…
Дэйвид был истовым приверженцем политкорректности во всех смыслах.
Не сказав ни слова, Джейн выскочила из офиса и побежала в свою комнату в дальний конец этажа, мимо удивленных сотрудников, проведших бессонную ночь на работе.
Заперев дверь и не в силах больше сдерживаться, Джейн упала ничком на диван и зарыдала в подушку. Через несколько минут немного успокоилась, достала айфон и включила видео той самой погони в их последний день на войне.
И вот она снова в этой машине. Ведет ее одной рукой на предельной скорости по рытвинам, воронкам и ухабам проселочной дороги, другой рукой, не оглядываясь, снимает айфоном все, что происходит позади нее в салоне. Алехин стоит на одном колене к ней спиной, выставив сошки пулемета в разбитое заднее окно, и, подпрыгивая всем телом на колдобинах и от отдачи, строчит по нагоняющей их погоне. Вот он разворачивается и кричит ей во весь голос, стараясь перекричать рев мотора и звуки непрекращающейся автоматной и пулеметной стрельбы, оглушающие их сквозь разбитые стекла изрешеченного пулями «Патриота»: «Fucking running out of fucking ammo! Can you fucking speed up the fucking thing, woman?!»[107]
Она остановила запись, прокрутила назад и проиграла снова. И снова, и снова. Его искаженное азартом боя, прекрасное в ярости, обветренное, загорелое лицо с ввалившимися под двухнедельной щетиной щеками, с покрасневшим, словно налитым кровью шрамом над губой, с сузившимися в щелочки-бойницы голубыми глазами, вдруг стало таким, таким близким, таким родным…
А Сергей снова и снова кричал ей в лицо: «Can you fucking speed up the fucking thing, woman???!!!!»
В российских новостях сказали: «Покушавшийся погиб на месте. Мотивы покушения устанавливаются».
Джейн выключила видео, бросила айфон на диван, вновь уткнулась лицом в подушку и зарыдала так, как никогда еще не рыдала в своей жизни. С фотографии на ее столе ей счастливо улыбались мужчина, женщина и две девочки.
Москва
Судмедэксперт Ледорубов с ассистентом Борисовым спустились в холодный подвальный морг Центральной клинической больницы. В небольшом сумрачном зале на железной кровати без матраса, прямо на пружинах на спине лежал труп.
— Отлично! — воскликнул Ледорубов, потирая руки и согревая их дыханием. — Уже привезли. Готовьте к вскрытию. Я буду в анатомичке через сорок минут — нужно еще бумаги за вчера заполнить.
— Хорошо, — ответил Борисов. — Иду за санитарами. Там и каталку возьму.
Патологоанатомы ушли готовиться. В комнате кроме нескольких пустых кроватей, двух столов и одного трупа больше ничего не было. Тело только привезли. На нем еще была одежда. Кроме ботинок и носков. На большом пальце правой ноги на бумажной веревочке висела пластиковая табличка. На ней вечным маркером красного цвета было написано: «Сергей Прохоров, 44».
Тяжелая дверь осталась неплотно прикрытой. Больничная крыса царапала цинковую обивку, пытаясь пробраться сквозь узенькую щель между дверью и косяком, и нетерпеливо попискивала.
В сырой и холодной тишине раздался глубокий вздох. Потом глухой стон. Палец с табличкой шелохнулся. Крыса вздрогнула и рванула прочь по длинному темному коридору…
КОНЕЦ
МОСКВА — ЛОС-АНДЖЕЛЕС — КИЕВ — НЬЮ-ЙОРК
2017 год
Примечания
К главе первой:
…как мисс Призм… — Персонаж комедии Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным».
МОПИ — Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской.
…Человек человеку lupus est… — Латинская поговорка из комедии «Ослы» (Asinaria) древнеримского комедиографа Плавта: Homo homini lupus est — Человек человеку волк.
К главе второй:
…подковой вмерз в санный след… — Цитата из баллады Александра Галича «Облака»
…примкнул к отрицаловке… — Статусное звено в лагерной жизни блатных.
Зк, зека или зэк — Заключенный, лишенный свободы по приговору суда человек.
Начальники и «кумовья» — Сотрудники ИТК, которые непосредственно работают с заключенными (жаргон блатной и лагерный).
…должен был откинуться… — Освободиться по окончании срока из мест лишения свободы (уголовный жаргон).
…свой катушечный «Грюндиг»… — Магнитофон производства ФРГ.
…кем-то вроде консильери… — От итал. consigliere — советник мафиозного клана, человек, которому его глава — дон доверяет различные посреднические функции, в том числе и урегулирование спорных и конфликтных ситуаций с конкурентами в криминальном мире и властями.
…остаток жизни в русском Алькатрасе… — Американская тюрьма строгого режима, в которой свой первый и последний срок провел легендарный гангстер Альфонсо Габриэль Капоне, известный, как Аль Капоне, скоропостижно скончавшийся после отсидки.
К главе третьей:
…вдоль главного канала марины… — Бухта, пристань для яхт.
…точку размером с дайм… — Десятицентовая монета в США.
К главе четвертой:
…колледж имени Картье-Брессона… — Анри Картье-Брессон (1908–2004) — легендарный французский фотограф.
К главе пятой:
…«Бог их прости, от пятидесяти на сто»… — А. С. Пушкин. Эпиграф к «Пиковой даме».
ДНР — Аббревиатура от: Донецкая Народная Республика — квазигосударственное образование, созданное весной 2014 г. на части Донецкой области Украины, попавшей под контроль вооруженных групп пророссийских сепаратистов.
…очередного дебильного фак-апа… — От англ. fuck up — грубое обозначении чрезвычайной накладки (в значении форс-мажор).
ГЛОНАСС — Российская спутниковая система навигации, разработка которой началась еще в СССР по заказу Министерства обороны.
Hollow point bullet — Экспансивная или разворачивающаяся пуля, она же пуля «дум-дум», конструкция которой предусматривает существенное увеличение диаметра при попадании в мягкие ткани с целью повышения поражающей способности. Не путать с разрывными пулями.
…потом у Опры Уинфри… — Шоу Опры Уинфри, одно из самых популярных телешоу в США.
К главе шестой:
…задекларирована в IRS… — Федеральной налоговой службе США.
Смышленые конторские… — Сотрудники ФСБ (жарг.).
…колхозная МТС… — Машинно-тракторная станция.
К главе седьмой:
У вас МТС? — Оператор мобильной связи.
К главе восьмой:
Генделик — Забегаловка, в основном торгующая дешевым алкоголем (разг.).
«Укропы» — Презрительное прозвище для военнослужащих Вооруженных сил Украины, принятое среди пророссийских сепаратистов на Донбассе.
К главе девятой:
В «Юропкаре»… — От англ. Europecar — сервис аренды автомобилей в странах Евросоюза.
К главе десятой:
Но это была не ее чашка чая. — Идиома, означающая отсутствие интереса к какому-либо занятию или деловому предложению (от англ. It’s not my cup of tea — Это не мое).
По ним из «мухи» несподручно шмалять. — РПГ-18, реактивная противотанковая граната (армейский жаргон).
…отозвалась вступительными аккордами Money… — Хит Pink Floyd.
К главе одинадцатой:
…висело красное полотнище, перекрещенное синими полосами с белой окантовкой, похожее на флаг мятежной Конфедерации времен Гражданской войны в США. — Флаг так называемой Новороссии — территории, на которой находятся восемь южных и юго-восточных областей Украины и которую Россия безуспешно пыталась аннексировать вслед за Крымом весной 2014-го.
К главе двенадцатой:
Коци — Обувь (уголовный жаргон).
…был одновременно и наркоманом и драг-дилером. — Торговец наркотиками.
РУВД — Аббревиатура от: Районное управление внутренних дел.
…двигает пацанам фуфло… — Обманывает подельников (блатной жаргон).
…сам барыжит синтетику… — Продает синтетический наркотик (блатной жаргон).
ОБНОН — Отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
…воспитанный в духе «Рожденной революцией»… — Название советского телевизионного сериала про историю создания милиции, пользовавшегося большой популярностью в СССР в 1970–1980-х гг.
…прошли по категории «подснежники». — Не поддающиеся внешнему опознанию трупы без документов, обнаруженные весной после схода снежного покрова (милицейский жаргон).
Это вам не при Яныке. — Прозвище Виктора Януковича (р. 1950) — украинского политического деятеля, занимавшего в 2010–2014 гг. пост президента Украины. Был отстранен от власти в 2014 г. в результате революции и бежал в Россию.
К главе тринадцатой:
…как подсолнухи в фильме Довженко… — Имеется в виду фильм «Щорс» (1939) советского режиссера Александра Довженко (1894–1956).
«Бук М 1–2» — Зенитно-ракетные комплексы «Бук 1» до 1994–1995 гг. стояли как на вооружении российских ПВО, так и украинских. Впоследствии Россия модернизировала комплекс, и в российских ПВО с 1995 г. на вооружении стоит «Бук 1–2».
Сначала ответишь за «Звезду» и «Ленинград», за Михаила Михайловича и Анну Андреевну. — Имеется в виду постановление «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», с появлением которого в августе 1946 г. в СССР началась кампания травли неугодных режиму литераторов — поэтессы Анны Ахматовой (1889–1966) и беллетриста Михаила Зощенко (1894–1958). Главным инициатором этой кампании считается один из ближайших приспешников советского диктатора Иосифа Сталина — Андрей Жданов (1896–1948).
К главе четырнадцатой:
…на Мытной… — Улица в Москве, на которой находится Главное управление МВД России.
…стали лучшими бойцами, или хитменами… — От англ. Hitmen — громилы уголовного мира (американский уголовный жаргон).
…знаете про Тринадцатую, так называемую красную, колонию в Нижнем Тагиле. — Колония, где отбывают сроки за преступления сотрудники силовых ведомств Российской Федерации.
…в госпитале на Ленина… — Улица в Курске.
«Вербы» — Российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей.
Машина командного пункта — Передвижной командный пункт боевого управления.
СОЦ — Станция обнаружения и целеуказания «Купол».
СОУ — Самоходная огневая установка.
ПЗУ — Машина перевозки, хранения и запуска четырех ракет ЗУР.
…набрал в поиске pogoda.ru, выбрал intellicast… — Международное бюро прогноза погоды.
К главе пятнадцатой:
…беспредельничают банды правосеков… — Бойцы украинской полувоенной националистической организации «Правый сектор», запрещенной в России.
…вокруг террикона в Счастье… — Город в Донецкой области.
…писатель продекламировал… — Строки из стихотворения «Валерик» (1840) Михаила Лермонтова (1814–1841).
И только в августе четырнадцатого Николай Александрович… — Имеются в виду Первая мировая война, начавшаяся в августе 1914 г., и Николай II (1868–1918) — российский император (1894–1917), последний монарх из династии Романовых.
«Штабс-капитан Рыбников» — Рассказ (1907) Александра Куприна (1870–1938) про разоблачение японского шпиона времен Русско-японской войны 1904–1905 гг.
Если бы в семнадцатом году Корнилов… — Лавр Корнилов (1870–1918) — генерал от инфантерии, участник Гражданской войны в России 1918–1923 гг. на стороне белых, первый главнокомандующий Добровольческой армией (1917–1918).
«Интернационал распорядился, чтобы еврейская революция началась в России. И начнется… Ибо нет у нас для нее надежного отпора ни в управлении, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в казармы, стойла; зальют мир кровью… Евреи сгубят Россию и станут во главе анархии. Жид и его Кагал — это заговор против русских» — Цитаты из произведений, черновиков и писем Федора Достоевского (1821–1881).
…добротное военное кино в лучших традициях Ридли Скотта и Стивена Спилберга… — Имеются в виду «Падение черного ястреба (2001, реж. Ридли Скотт) и «Спасти рядового Раяана» (1998, реж. Стивен Спилберг).
К главе семнадцатой:
Гарриет Бичер Стоу — Американская писательница, автор романа «Хижина дяди Тома».
…экзотичнее знаменитого киевского ботсада… — Киевский ботанический сад.
…вооруженных, однако, не пиками и арбалетами, а винторезами… — Бесшумная снайперская винтовка подразделений специального назначения Российской Федерации.
…сверкающие свежей краской бронемашины «Тигр»… — Многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости, состоящий на вооружении российской армии.
Бессмертный Иоганн Себастьян… — Подразумевается немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах.
…«рубает в маринаде салаку». — Строки из баллады А. Галича «О том, как Клим Петрович Коломийцев восстал против помощи развивающимся странам».
…как Михаил Барышников или Александр Годунов… — Солисты Большого театра, оставшиеся во время гастролей на Западе и ставшие невозвращенцами.
…вызубривший от корки до корки Lehrbuch der Bogenführung auf der Violine… — «Техника правой руки скрипача» — пособие Ф. Кухлера.
…и сверчками из роты охраны. — Сверхсрочниками (советский армейский жаргон).
…что «Егерский марш» изначально был маршем прусской армии, сочиненным немецким композитором Генрихом Гоманом в 1813 году. — Оригинальное название этого музыкального произведения — Marsch der Freiwilligen Jäger aus den Befreiungskriegen («Марш вольных егерей Шестой коалиции»).
Все солдаты и офицеры в костюмах ОЗК… — Общевойсковой защитный комплект. Применяется для защиты личного состава от химической атаки и в условиях радиоактивного заражения местности.
Во время ночной перестрелки с «витязями»… — Бойцы отряда спецназначения «Витязь» Министерства внутренних дел России.
…новый дом в Петрово-Дальнем… — Один из самых престижных районов в Московской области.
…стену Пер-Лашез… — Мемориальное парижское кладбище, у стены которого в 1871 г. версальские солдаты расстреливали взятых в плен парижских коммунаров.
…детально разработанная «Барбаросса»… — Имеется в виду план нападения Германии на СССР в 1941 г., принятый под этим кодовым обозначением.
…произошло уже в Спартаке… — Жилой район возле Донецкого аэропорта.
К главе восемнадцатой:
Камоки — Камуфляжи (армейский жаргон).
АТО — Антитеррористическая операция.
…войны за рынок с аргентинскими «мраморными баронами»… — Прозвище производителей высококачественной мраморной говядины из Аргентины, попытавшихся в 1960–1970-е гг. монополизировать латиноамериканский мясной рынок, бросив вызов поставщикам мяса из США.
…все погибли при Геттисберге… — Самое кровопролитное сражение Гражданской войны в США 1861–1865 гг., состоявшееся возле города Геттисберг, штат Пенсильвания, 1–3 июля 1863 г. и закончившееся разгромом армии южан (конфедератов).
…происходят они от Тараса Бульбы в исполнении Юла Бриннера… — Имеется в виду американо-югославский фильм «Тарас Бульба» (1962) режиссера Джея Ли Томпсона (1914–2002), в котором главную роль сыграл американский актер русского происхождения Юл Бриннер (1920–1985).
…приезжая из их родного Аргайла… — Небольшой городок в Северном Техасе возле Далласа.
АКСУ — десантный вариант автомата Калашникова с укороченным стволом и складным металлическим прикладом.
ПБ — пистолет Макарова бесшумный с глушителем.
СВД — снайперская винтовка Драгунова.
ПКМ — пулемет Калашникова модернизированный.
РДГ-2Б — ручная дымовая граната.
«Лимонка» — противопехотная граната Ф-1 (армейский жаргон).
…по рации всем передал: «Земля»… — Сойти с брони (оперативный военный жаргон).
— Ще не вмерла України ні слава, ні воля, — воспользовавшись замешательством американца, запел Паша, приложив руку к сердцу, сначала неуверенно, а потом все громче и громче: — Ще нам, браття українці, усміхнеться доля… — Первые строки национального гимна Украины.
К главе девятнадцатой:
Он приказал мехводу… — механику-водителю.
…ПКТ. К нему две тыщи патронов. Пулемет НСВТ башенный. К нему триста патронов. Ну, еще автоматы АКМС и СПШ… — Пулемет Калашникова танковый. Пулемет танковый, башенный разработки Никитина, Соловьева, Волкова. Основное предназначение — работа по воздушным целям. Второе название «Утес». Автомат Калашникова модернизированный со складывающимся прикладом. Сигнальный пистолет Шпагина.
Восемьдесят косарей наличными… — Тысяч (блатной жаргон).
К главе двадцатой:
Джетлаг — От англ. Jet-lag — слом часов; особое психосоматическое состояние, нарушение внутреннего биологического ритма у человека, быстро переместившегося через несколько часовых поясов.
Как в феврале на Майдане. — 21 февраля 2014 г., в последние дни Революции Достоинства, в центре Киева неустановленные снайперы расстреляли около ста человек, большей частью из числа участников акций протеста. Расследование, предпринятое новым правительством Украины после победы революции, до настоящего времени не дало исчерпывающего ответа на вопрос о том, откуда взялись и куда потом исчезли эти снайперы.
К главе двадцать первой:
Соколиный Глаз — прозвище героя, отличавшегося меткой стрельбой, из серии романов Фенимора Купера.
К главе двадцать второй:
…как у настоящего американского GI. — Американская аббревиатура от: Galvanized Iron — оцинкованное железо. Жаргонное наименование военнослужащих армии США.
…Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Донбассе шахтерам отдать… — Перифраз строк из стихотворения «Гренада» (1926) советского поэта Михаила Светлова (1903–1964).
…спрятавшегося в Москве Сергея Мавроди… — Российский криминальный аферист, основатель финансовой пирамиды «МММ» (1994).
…«куда жить дальше»… — Цитата из романа «Котлован» (1930) советского писателя Андрея Платонова (1899–1951).
К главе двадцать третьей:
…прикрепили николай-николаичей… — Агенты российской полиции и спецслужб, занимающиеся наружным наблюдением (жаргон).
К главе двадцать четвертой:
…будет конференц-зал Центра международной торговли на Краснопресненской набережной. — Еще его называют Хаммеровским центром. Построен в 1980 году. Идея создания принадлежит Торгово-промышленной палате СССР и американскому бизнесмену Арманду Хаммеру.
World Press Photo — Престижная мировая фотопремия.
…скармливал ему заготовленные «сливы». — Компромат или сенсационные секретные сведения (жаргон).
…он обретет total recall. — Полное возвращение памяти (англ.). Подразумевается оригинальное название американского фантастического фильма 1990 г. с Арнольдом Шварценеггером и Шэрон Стоун в главных ролях, в российском прокате переименованного во «Вспомнить все».
…убийство продажного копа Майклом Корлеоне было одним из его самых любимых эпизодов в «самом лучшем романе всех времен и народов». — В романе Марио Пьюзо «Крестный отец» (1969) один из главных персонажей, Майкл Корлеоне, убивает полицейского в ресторане из пистолета, заранее заложенного для этой цели в бачок унитаза в туалетной комнате.
К главе двадцать пятой:
Никаких стэндапов… — От англ. stand up — прямая трансляция, репортаж с места события.
Это ж «один дэ», а эта у вас «пятерка». — Имеются в виду фотокамеры Сanon 1D и Canon 5D.
…из «Эй Пи». — AP — информационное агентство Associated Press.
…словно в пип-шоу для особо озабоченных. — От англ. peep-show — порновидео в режиме подглядывания или живое представление для вуайеристов.
…получить родаминчика в морду… — Несмываемая краска. Используется при проведении полицейских операций и в работе спецслужб; при попадании на тело или на одежду человека позволяет с абсолютной точностью зафиксировать его нахождение в конкретное время в конкретном месте, лишая возможности отрицать сам этот факт.
…как дальше будут принимать. — Задерживать (блатной жаргон).
…не раз нашпиговывал родамином «котлету». — Предмет, используемый в полицейской практике для провокации и для задержания подозреваемого: пачка меченых купюр, пакет с наркотиками, бумажник с документами и т. п.
«Ах, война, что ты сделала, подлая…» — Строка из песни Булата Окуджавы.
…звонивший по нулевому номеру… — Только для своих (жаргон).
Madison Square Garden — Спортивный комплекс в Нью-Йорке, место проведения международных спортивных соревнований, в том числе поединков боксеров.
Прямо тир Культуры и отдыха. — Имеется в виду популярный в 1950-е гг. тир, находившийся в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
…в Имеретинской долине… — Пригород Сочи.
К эпилогу:
…после крутой жестянки. — Ремонт корпуса машины.
Это ж Минка… — Минское шоссе.
Об авторе
СЕРГЕЙ ЛОЙКО — корреспондент и фотограф Los Angeles Times, специализирующийся на вооруженных конфликтах и войнах. Освещал вооруженные конфликты, революции и войны в Нагорном Карабахе, Румынии, Таджикистане, Чечне, Грузии, Афганистане, Ираке. В 2003 году в России вышла его документальная книга «Шок и трепет: Война в Ираке».
Украинскую Революцию Достоинства и последующую войну Сергей освещал практически без перерыва с первого дня — с 30 ноября 2013 года по февраль 2015-го. В 2015 году за работу на войне в Украине Сергей Лойко был удостоен одной из высших наград в американской журналистике — Overseas Press Club Bob Considine award «За храбрость, достоверность, оригинальность, глубину и выразительность описанного». В этом же году Сергей удостоился престижной Los Angeles Times editorial award «За лучшие репортажи 2014 года».
Сергей был единственным иностранным корреспондентом, который побывал в Донецком аэропорту в октябре 2014-го и провел там четыре полных дня с «киборгами». На основе своих впечатлений и репортажей в 2015 году он написал книгу «Аэропорт», которая стала национальным и мировым бестселлером.
Примечания
1
«Ах, пустяки. Это такая белиберда» (англ.).
(обратно)2
— Мам, что там, за этой занавеской, как ты думаешь? (англ.)
(обратно)3
«Девочки вырастают быстро, и вскоре вы все вместе станете похожи на чеховских трех сестер» (англ.).
(обратно)4
Без сучка и задоринки (англ.)
(обратно)5
Агентство, предоставляющее проституток на дом (англ.).
(обратно)6
— Мне нужна привлекательная русскоговорящая девушка. — Двуязычная обойдется на шестьдесят пять долларов дороже (англ.).
(обратно)7
— Всего шестьдесят пять? Не семьдесят пять?
— Нет, сэр. Только шестьдесят пять. Для вас, сэр.
— О’кей, тогда идите на хер.
— Сэр! Сэр! Вы меня неверно поняли. Для вас…
— О’кей. Пишите адрес… (англ.)
(обратно)8
— Иметь секс с нашими девушками нельзя, сэр. Мы зарегистрированный легальный бизнес, нам проблемы не нужны (англ.).
(обратно)9
Популярный на юге и западе США легкий коктейль на текиле «Замороженная Маргарита».
(обратно)10
Легендарный хит Фрэнка Синатры.
(обратно)11
— Прошу прощения, уважаемый. Вы случайно не Эндрю?
— Нет. А что?
- Ой, простите… У меня назначено здесь свидание с незнакомым парнем по имени Эндрю, но он, похоже, запаздывает.
— О’кей, нет проблем. Почему бы вам тогда ему не позвонить?
— Я звонила. Его телефон не отвечает. Но спасибо большое. Прошу прощения, что обозналась. Хорошего дня.
— И вам того же (англ.).
(обратно)12
Водка «Столичная» со льдом (англ.).
(обратно)13
«Это что еще за хреновина?» (англ.)
(обратно)14
Здесь: «Черт!» (англ.)
(обратно)15
Людей в черном (англ.). Подразумеваются персонажи одноименного фильма.
(обратно)16
- Утопить козла? О’кей, Арчи. Как скажешь (англ.).
(обратно)17
— О’кей, заводи этот гребаный мотор! Выводим эту гребаную посудину из залива! (англ.)
(обратно)18
«Армянская сила» (англ.
(обратно)19
— Будьте так любезны (нем.).
(обратно)20
— Пожалуйста, окажите нам эту любезность (англ.).
(обратно)21
— Давай поговорим. Нам нет нужды убивать друг друга (англ.).
(обратно)22
Убедись (англ.).
(обратно)23
- Стой, плохой мальчик! Назад! Назад! Плохой мальчик, плохо-о-о-о-й! (англ.)
(обратно)24
- Ага, сейчас! (англ)
(обратно)25
- Вы В порядке, сэр? Могу я вам чем-то помочь, сэр? (англ.)
(обратно)26
— Благодарю вас, со мной все хорошо. Все просто замечательно, офицер. Спасибо вам большое (англ.).
(обратно)27
- О’кей, будьте внимательны за рулем, сэр. Приятного дня! (англ.)
(обратно)28
От англ, airways- авиалинии.
(обратно)29
- Что желаете на ланч, сэр? Говядину, курицу или форель? (англ.)
(обратно)30
Язык тела (англ.). Здесь: общение без слов.
(обратно)31
- Удачи вам, дети мои (идиш).
(обратно)32
Сука (англ.)
(обратно)33
Прерванный половой акт (лат.)
(обратно)34
Гребаная сука (англ.).
(обратно)35
Все свое ношу с собой (лат.)
(обратно)36
Я не сомневаюсь в тебе, Джейн. Не спеши и не высовывайся особо. Хотя, зная тебя, в это верится с трудом. И все же. Будь поосторожнее и не рискуй (англ.).
(обратно)37
— Что за чертовщина?! (англ.)
(обратно)38
«Смолит одну от одной» (англ.).
(обратно)39
Кока-кола (англ.)
(обратно)40
Программное обеспечение (англ.)
(обратно)41
Ублюдок (англ.).
(обратно)42
Гребаные яйца (англ.).
(обратно)43
Морепродуктов (англ.).
(обратно)44
Моя вина (лат.)
(обратно)45
Ускоренные курсы (англ.)
(обратно)46
Самоубийственное задание (англ.)
(обратно)47
— Я должен спасти Васю. Если бы я мог, то полетел бы один. Я не могу подвергать жизни своих подчиненных такой опасности.
— Ну, мы с Мачеком и Алексом добровольцы. Технически мы не твои подчиненные. Мы добровольцы на этой войне. Так, парни? (англ.)
(обратно)48
— Я могу управлять вертолетом сам. У меня есть лицензия пилота, и я управлял гребаной машинкой в Ираке (англ.)
(обратно)49
— Минута до посадки (англ.).
(обратно)50
— У нас на стоянку есть двадцать минут, если на все про все у нас три часа! (англ.)
(обратно)51
— Здесь все, ребята. Поехали! (англ.)
(обратно)52
— Андрей, я не чувствую ног. У меня спина сломана.
— Не волнуйся, Степан. Ты просто плохо упал. Мы доставим тебя в госпиталь. Все будет в порядке. Генерал, Саша погиб (англ.).
(обратно)53
How much? — Сколько? (англ.)
(обратно)54
Such much — Столько (ломаный англ.)
(обратно)55
— Эй, парни, мне нужна помощь. Заткнитесь и помогите-ка мне (англ.).
(обратно)56
— Быстрее, ублюдки. Быстрее, вашу мать! (англ.)
(обратно)57
— Гребаная херня! Заткнитесь! (англ.)
(обратно)58
— Андрей, Андрей! Это украинцы! Украинцы!., (англ.)
(обратно)59
— Украинцы? Чертовы украинцы, это вы? (англ.)
(обратно)60
— Да, да! (англ.)
(обратно)61
- Смотрите за генералом. Я скоро вернусь. О’кей? (англ.)
(обратно)62
— Получите, гады (англ.)
(обратно)63
Ladies first — пропустим дам вперед (англ.).
(обратно)64
— О Боже! Что ты делаешь, твою мать?! Он гребаный труп, или нет? (англ.)
(обратно)65
- Нет, нет, я в порядке. Со мной все о’кей. Связи некоторое время не было. Технические проблемы. Ничего такого, с чем бы не могла справиться. Никакой опасности. Если вы не против сегодня воспользоваться материалами новостных агентств, я бы продолжила свое расследование. У меня здесь кое-что очень важное образуется. Напишу позднее обо всем в деталях. Счастливо, Эдди. И я тебя люблю (англ.)
(обратно)66
Здесь и сейчас! (англ.)
(обратно)67
…мой солдат, мой Сереженька! (англ.)
(обратно)68
— Хочешь чего-нибудь? Виски? Кока-колу? (англ.)
(обратно)69
— A кто вы, друг мой, вашу мать? (англ.)
(обратно)70
— Боже мой! Это б…дское «Молчание ягнят»! Но ты же приехал на Донбасс не для того, чтобы достать здесь этого ублюдка?
— Нет, я случайно наткнулся на него.
— Эта случайность спасла мне жизнь.
— А я думал, это ты спасла мне жизнь, разве нет?
— За это можно выпить. Твое здоровье (англ.).
(обратно)71
— Ну, дело в том, что этот гребаный психопат убивал не только мальчиков и девочек (англ.).
(обратно)72
— Что это значит?
— Он любил рыжеволосых.
— Ясно. Не зря я подумала, что это проклятие — иметь все лицо в веснушках и рыжие волосы в придачу.
— У тебя больше нет веснушек (англ.).
(обратно)73
— Ох уж эти русские. Ты уверена в этом?
— Никаких сомнений (англ.).
(обратно)74
— Жизнь бывает страннее любого вымысла (англ.).
(обратно)75
— А ты как думала. Когда я встречусь с ним лично, попробую уговорить его согласиться на тест ДНК. Быть может, мы с ним, в самом деле, братья-близнецы. Ведь бывает же такое?
— Только у него нет шрама (англ.).
(обратно)76
— Ему сорок четыре. А сколько лет тебе, Сергей?
— Сорок два (англ.).
(обратно)77
— Ну… Скажем так, позаботиться о них.
— А, ясно. Выяснить что-нибудь. Или разобраться с кем-нибудь.
— Именно.
— О’кей. Но что, если этот кто-нибудь — министр обороны России или сам президент?
— Ну, они, вообще-то, точно такие же люди, как мы с тобой. И пуля, попавшая такому в голову, может точно так же покончить с ним, как и с любым другим ублюдком.
— В этом деле я ничем тебе помочь не могу (англ.)
(обратно)78
- Я хочу увидеть этих ублюдков на скамье подсудимых в Гааге. И мне кажется, они туда довольно скоро попадут.
— Что ты имеешь в виду?
— Я могу предоставить им свидетеля. Настоящего. Одного из этой цепочки, с самого верха.
— Ты уверена, что знаешь, о чем говоришь? Я пробыл здесь несколько дней, но все, что я раскопал до сих пор, — одни только слухи и измышления. У меня нет ни одного даже гребаного косвенного доказательства. И, честно говоря, я не знаю, как мне его раздобыть (англ.).
(обратно)79
— К твоему сведению, Курск — это место, где дислоцирована российская бригада войск ПВО (англ.).
(обратно)80
— Ты уверена, что этой Островской, или как ее там, можно доверять?
— Абсолютно.
— Ну, ты и Офтальмологу доверилась полностью.
— Ну, она не похожа на Офтальмолога (англ.).
(обратно)81
— Ну, я, в самом деле, не знаю, как тебя отблагодарить (англ.).
(обратно)82
— Могу я поехать с тобой?
— Куда?
— в Курск. Со мной тебе будет спокойнее. Не возражаешь?
— Не возражаю ли я? При других обстоятельствах я бы возражала. Но я не могу бросить тебя одного здесь. Со мной вам будет безопаснее, офицер (англ.)
(обратно)83
«Что за херня здесь с тобой творится? Очнись, глупая школьница! Не поворачивайся. Смотри в окно на гребаную войну» (англ.).
(обратно)84
Тяжелый металл (англ.). Имеется в виду направление в рок-музыке.
(обратно)85
— Гаубицы. Сто пятьдесят два миллиметра. А теперь «Град». И снова гаубицы (англ.)
(обратно)86
«Небесные акулы» (англ.).
(обратно)87
— План А может не сработать. Белкин убит, и, если русские серьезно влезли в эту войну, подписанный им пропуск на нашем ветровом стекле может оказаться недействительным.
— Что ты предлагаешь?
— Я предлагаю убрать его.
— И что?
— Чтобы мы выглядели не так подозрительно, за руль сядешь ты. У тебя есть все необходимые журналистские аккредитации, которые позволяют тебе передвигаться по этой территории. Я поменяюсь местами со своим другом, поскольку он является офицером своей армии. Если им чем-то не понравится мой российский паспорт, ты всегда сможешь сказать, что я твой переводчик, а он — телохранитель.
— Звучит достаточно разумно (англ.)
(обратно)88
— Что за херня здесь происходит? Почему бы тебе не открыть это гребаное окно? (англ.)
(обратно)89
— Гребаные патроны кончаются! Ты можешь, твою мать, ехать быстрее, женщина?!! (англ.)
(обратно)90
— А, я поняла. Спасибо, Сережа. Я поняла теперь (англ.).
(обратно)91
Отпускники, курортники (англ.).
(обратно)92
Вооруженных сил (англ.).
(обратно)93
Короче говоря (англ.).
(обратно)94
Подмена (англ.).
(обратно)95
«Разговор начистоту в Кремле» (англ.).
(обратно)96
Это гребанное Рождество (англ.).
(обратно)97
Для разнообразия (англ.).
(обратно)98
Вечер трудного дня (англ.). Имеется в виду песня английской рок-группы The Beatles «A Hard Day’s Night».
(обратно)99
— Понимаю (англ.)
(обратно)100
— Гребаный сукин сын! Господи Иисусе! (англ.)
(обратно)101
— Гребаный шрам! Я не могу ошибаться! Это он, мать его! (англ.)
(обратно)102
«Мировой преступник Номер Один — мертв!» (англ.)
(обратно)103
Ударник (англ.). Здесь: заключительное предложение в статье.
(обратно)104
«“Боинг”, сбитый по его приказу, похоронил его!» (англ.)
(обратно)105
Отправить (англ.).
(обратно)106
— Ну давай же, твою мать! Делай уже, зачем пришел! (англ.)
(обратно)107
«Гребаные патроны кончаются! Ты можешь, твою мать, ехать быстрее, женщина?!» (англ.
(обратно)









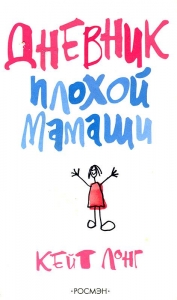

Комментарии к книге «Рейс», Сергей Леонидович Лойко
Всего 0 комментариев