Анатолий Приставкин. Солдат и мальчик
Солдат и мальчик
– 1 -
Васька возвращался из школы. День был теплый, пасмурный, приятный. Зеленая острая травка вылезла через прошлогоднюю листву. Почки на деревьях разбухли, стали мясистые. Васька, наклонив сук, обгладывал эти почки, а потом сорвал ветку и всю ее обгрыз вместе с корой, облизал белый прутик. Кора была горьковато-терпкой, пахла весной.
Навстречу попался Витька, Васькин одноклассник, который сегодня не был на уроках. Впрочем, он и вчера не был, и позавчера. Может, он вообще забросил школу.
Витька бежал по тропинке и делал Ваське издалека какие-то знаки. Васька решил, что Витька будет его снова просить прийти домой, чтобы Витькина мать поверила, что сын ее ходит исправно в школу. За такое вранье в прошлый раз Витька дал две картофелины. Васька сразу их съел в сыром виде. Схрупал, как кролик морковку, и попросил еще. «Жирный будешь! – сказал Витька. – Потом придешь, получишь».
Теперь Васька сообразил, что предполагается пожива, и, бросив горькую веточку, спросил:
– Ты чего? Снова пропустил?
– Тише! – прошипел Витька. – Из школы, Сморчок?
– Ага. А ты почему не был?
– По кочану, – ответил Витька и оглянулся. – Сморчок, дело есть.
– Какое дело? – спросил Васька.
– Тише ты! Иди сюда. Скорей, тебе говорят! Васька приблизился к забору, с интересом глядя на Витьку. Тот шептал:
– Стой тут, смотри! Если какой шухер, свистнешь! Понял?
– Не… – сказал Васька. – А ты чего будешь делать?
– Что надо! Потом узнаешь. Так, понял? В четыре глаза смотреть!
– Чур, моя доля, – уже шепотом сказал Васька. Витька оглянулся, кивнул. Нырнул в узкую дырку и скрылся.
Ваську в детдоме и на улице звали Сморчком. Откуда пришло такое прозвище, он и сам не знал. Но откликался, когда его звали. А почему бы не откликаться! У всех были какие-нибудь клички: Жаба, Король, Дыра, Обгрызок… Ну а он Сморчок. Повариха однажды сказала ему, что сморчок – гриб такой весенний, после зимы вылезает на теплых полянах, серый и кривой. И хоть виду в нем никакого нет, да и вкус не настоящий, все-таки он гриб, а не поганка. Его едят, а нынче-то, в войну, чего не едят… А он, сморчок, хоть уродец, прет из земли этой весной кучей, как детдомовская шпана на поляне…
Так ли объясняла повариха, а может, и нет, Васька не запоминал. Запомнил другое, что она разрешила ему собрать картофельные очистки и поскребыш из мусорного ведра. И пока она рассказывала ему сказки о грибах, Васька живо, будто фокусник, слепил из очисток комок, сунул в духовку и через пару минут ел его обжигаясь, слезы текли из глаз. Знал, что у дверей дежурят шакалы. В детдоме шакалами зовут тех, кто вечно торчит у дверей кухни, просит, ноет, ждет кусочка. Увидят съедобное, изо рта вырвут. Васька это помнил и, пока не выгнала повариха (он дежурил по дровам и подлизывался, получил очистки), быстро, быстро, стоя в дверях, сжевал все и проглотил. Потом уже вышел наружу. Теперь проси не проси, а если проглотил – твое.
Васька попробовал вспомнить вкус поджаристых очисток, но во рту и на губах еще оставался горький запах коры. Вот если бы Витька тяпнул что-нибудь съестное, буханку хлеба, например… Он везучий, тут и Ваське перепадет кусок, отломок от угла, да с кислым мякишем, да с коркой…
Бывало же время, это еще из глупой довоенной Васькиной жизни, из далекого, значит, времени, из детства, – сейчас он числил себя иным, – когда он не догадывался, не знал, что нужно наедаться про запас. Тогда не только картофельные очистки, а гуща, капуста и крупа водилась в супе, и даже корки хлеба оставались на столах. Вот бы знать, Васька вмиг сообразил, как все это добро применить, подсушить, скопить, заханырить на черный сегодняшний день! Но ведь мал был, неумен, неопытен, одним словом – дурачок! Об этом времени мало что помнилось, но осталось счастливое и щемящее чувство, как во сне. Но при удобном случае кто-то из ребят обычно произносил: «Ну, как до войны». И тогда понималось, что оно было, было, хоть и давно, и хоть не так, как представлялось теперь. Потому что, перехлестывая через собственную фантазию, один из помнящих все в той сказочной, довоенной жизни однажды утверждал и божился несуществующей родней, что на какой-то праздник, на Новый год, что ли, детдомовцам принесли от шефов мешок баранок и еще горсть конфет в золотых бумажках, и никто не шарапил, не тырил в заначку, а высыпали на стол, и можно было брать без счета, – вот случались какие непостижимые, почти легендарные случаи!
Он будто очнулся, вспомнив, что поставлен на шухере отрабатывать свой кусок. Быстро, словно носом вынюхивал, посмотрел по сторонам. Пусто. Редкий сосняк, за которым далеко видно. Васька подошел к дыре и осторожно заглянул за забор. Сразу увидел нескольких ребят, все постарше его и Витьки. Наклонившись, что-то они шуровали у забора, и только Витька прыгал, мельтешил около них, временами оглядываясь в сторону лаза. Васька догадался вдруг, что Витька сам был оставлен сторожить, быть на шухере, но передоверил свое дело ему, то есть Ваське, чтобы самому не остаться внакладе. Витька – цепкий, зубастый, он-то свое возьмет. Он из горла вырвет, если что…
У Васьки зоркий глаз, но, как ни щурился, как ни напрягался, не мог разобрать за спинами, что они делают. Вот один из компании разогнулся, и Васька узнал толстомордого Купца – так его звали. Еще бы Ваське не помнить Купца, который издевался над детдомовскими:
встречал их по пути в школу и начинал медленно клещами-пальцами щипать кожу… Через одежду выворачивал кожу так, что она потом вспухала и болела, не могла зажить. А Купец требовал, чтобы стоял под его щипками прямо и не смел чтобы голосом. А в горле крик застревал, когда он медленно крутил кожу, и слезы брызгали на полметра, и, несмотря на запрещение, вырывалось:
«А-а-а!» Купец блаженно прищуривал поросячьи глазки, но всевидящие, цепляющие, как крючки, проходящих, и делал новый щипок, где-нибудь в чувствительном месте, под ребром, при этом смотрел в твои глаза, наслаждаясь и удивляясь твоей нечеловеческой боли…
Как же Ваське не узнать Купца, он даже вздрогнул, увидев толстое лицо с цепучими глазками. Даже шею вытянул Васька, но Купец сейчас не смотрел по сторонам. Он держал в руках мешок и быстро туда что-то клал. Долговязый незнакомый парень поднял с земли длинный предмет, и еще один парень, тоже незнакомый, которыйбыл к Ваське спиной, помогал ему возиться с этим предметом, а Витька прыгал вокруг, суетился, мешал. Вдруг оглянулся, увидел торчащую Васькину голову и показал кулак. Мол, смотри. Сморчок, не сюда, а смотри на дорогу. Васька мигом отпрянул от дыры, зыркнул быстрым глазом во все стороны, сунулся в лаз, но смотреть уже было нечего.
Купец с мешком в руках – Васька увидел, что это зеленый вещмешок, – бежит от забора в сторону парка, за сосны. Толстый Купец, но легко бежит, прыгает через пеньки, а за ним долговязый с другим парнем. Этот оглянулся, налетел на дерево, ударившись ногой, присел, скорчился от боли. Его не ждали, и, хромая, он поскакал дальше, вслед за дружками. Все моментально, как в кино.
Теперь Васька увидел у забора на земле лежащего человека в зеленом. Еще не сообразил, солдат убитый ли, а может, пьяный, как налетел Витька, крикнул «бежим», и они рванулись вдвоем, дальше и дальше в лес, прочь от пагубного места. Долго бежали, пока вдруг поняли, что вне опасности. Витька опустился на пенек, а Васька лег на землю, и рот у него был открыт. Он задохнулся, не мог произнести ни слова. Только грудь часто ходила, глаза вылезли от натуги. Не было сил шевельнуть рукой или ногой.
Витька снимал ботинок, он с разбегу влетел в какую-то лужу и одним глазом весело следил за Васькой, думал про себя: «Эх, Сморчок, не бегун ты, нет, не бегун… Задохнулся так, что плашмя лег и слюну пустил. А если бы догоняли? Нет, Сморчок, с тобой накроют на мокром деле. А ты кусаться по-настоящему не умеешь и бегать не умеешь, не жилец ты на белом свете. Подохнешь однажды, когда будут гнать. И не своруешь – подохнешь, прутиками не наешься. Куда ни кинь, все не жилец… А ведь тоже тявкает, тоже чего-то хочет. Чего он хочет еще?» – Чего ты хочешь? – сказал Витька. Он сидел на пне, руки в боки. Хозяин, настоящий хозяин, не чета всякой вшивоте.
– Что… взял? – спросил Васька и стал подползать к Витькиному пню. Подползал и смотрел на него снизу, два собачьих просящих глаза.
– Взял-то? – произнес Витька и сплюнул. Вот Сморчок, с ним не о чем и поговорить. Лишь бы хапнуть что-нибудь. За чужой счет. Сам он ничего не умеет. Пни его ногой, не обидится… Будет ждать, пока ему кусок не бросишь. За кусок он землю будет есть, шнурки проглотит, не подавится.
– Он что, он пьяный был? – спросил Васька и сел, держась руками за землю. У него еще кружилась голова, поташнивало.
– Кто? Солдат-то? – произнес Витька и поболтал снятым ботинком, выливая воду. Несколько капель попало на Ваську, но он и не заметил. Витька сухой травой вытирал ботинок изнутри, говорил: – Спал, как убитый!
– А может, он убитый?
– Да нет, храпел…
Витька положил ботинок рядом с собой, полез за пазуху. Вынул оттуда черную квадратную коробку – электрический фонарик! Васька шею напряг, чтобы разглядеть чудо-фонарик. Витька будто равнодушно осмотрел его, дыхнул на стекло, протер рукавом, и оно заблестело; двинул двумя рычажками, и сразу красное стекло выползло, а потом шторка с щелью. Нажал на кнопку, и засветилось, полоснуло Ваську по глазам ярким светом.
Витька как бы невзначай направлял на Ваську свет, но сам будто и не видел Ваську, а был занят чудо-фонариком.
А Васька ловил Витькин взгляд и тихо, совсем тихонечко, по-мышиному пискнул:
– Дай… мне…
Витька не услышал, стал включать и выключать свет.
– Дай, Вить…
Васька не заметил, что его собственная рука протянулась к черной игрушке, а Витька – хлоп, больно ударил по руке.
– Не лапай, будешь косолапый! – крикнул Витька и спрятал фонарик под рубаху. Надел ботинок, собрался уходить.
– А мне? – спросил Васька.
– Тебе? – удивился Витька и посмотрел на Ваську нахально-невинными глазами. – Чего тебе, Сморчок?
– Я же стоял? – пробормотал быстро Васька и старался поймать Витькин взгляд. Все было в глазах у Васьки – и просьба, и подобострастие, и жалость к себе, и молчаливый страх. Страха было больше всего.
– Мог бы и не стоять, – сказал Витька и сплюнул.
– Но ведь я стоял… Я стоял… Стоял!.. – заныл Васька. В голосе у него появились слезы. Вот Сморчок, и дела от него никакого нет, а если начнет просить, не отстанет.
Витька даже замахнулся на него, но не ударил. Не до конца разозлился. Если бы разозлился настолько, что ударил, то еще бы тогда разозлился и смог бы побить Ваську. А сейчас только заорал на него:
– Отстанешь или нет! Вот, держи!
На ладони у него лежал круглый компас. Васька за' молчал и даже съежился, когда Витька протянул ему этот блестящий, как часики, компас. Не поверил, что от' даст, и правда: только протянул руку, как Витька зажал компас в кулаке и сунул ему кулак под нос:
– Во тебе! Понял! Во, а не компас!
И вдруг швырнул прямо в лицо Ваське компас, так что тот ударился в глаз и упал ему прямо в руки. Васька сжал компас в двух руках, не в силах поверить, что он его…
Витька смотрел, не скрывая своей враждебности. Никогда бы не отдал он такой драгоценной вещицы, если бы не острая мысль о том, что Васька может проболтаться. Дело-то было нешуточное, тут фонарик, да компас, да еще что-то, чего не видал Васька, – пустячки. А главное… Пусть возьмет этот компас и молчит. Как-никак, а с компасом он соучастник. Компас ему замком на язык.
– Жаль, – сказал Витька искренне. – Мы бы и без тебя очистили солдата. Одурел он или выпил… Как мертвый… Хотели шинель из-под него вынуть, да побоялись… Проснется…
– Еще что взяли? – спросил Васька, а сам отвернулся, спрятал компас куда-то внутрь себя. Попробуй-ка разыщи теперь.
– Тебе все и рассказать? – спросил Витька, словно опять озлясь.
– Может, хлеба там…
– Вот Сморчок! – сквозь зубы крикнул Витька и встал. – Тебе мало. Мало, да? А хочешь, компас заберу?
– Нет, – быстро произнес Васька и сделал шаг назад.
– Тогда чеши отсюда… Косолапь… Подальше. Да смотри, если пикнешь!
– Не пикну, – тихо отвечал Васька.
Он обождал, пока приятель скроется за деревьями, с оглядкой извлек компас, стал смотреть. Пощелкал стопором, нашел север и юг, покрутил, пытаясь обмануть стрелку, но ничего у него не вышло. Наигравшись, спрятал Васька компас снова и рысцой двинулся к детдому. Он и без часов, минута в минуту, мог сказать, когда у них обед.
– 2 -
Воспитательница Анна Михайловна построила ребят на поверку. Быстро пересчитала. Выходило, что нет шестерых. Ну, Сычева, или Кольку Сыча, никто никогда и не спрашивал. И он никого не спрашивал, хотел – приходил, а не хотел – не приходил. Да и попробовали бы его спросить. Он тут никого не боялся. Это его боялись, в том числе боялись и воспитательницы.
Его не трогали, лишь бы не тронул сам. Все – и воспитанники и воспитатели – были только рады, что нет сегодня Сыча.
Не оказалось двух братьев Кузьминых, или, как их звали, Кузьменыши. Они уехали к родне. Куда пропали еще трое – никто не знал. Может, кто знал, да помалкивал. То ли гуляли, то ли сбежали, сели на проходящий санитарный поезд да подались на фронт. Многие так делали. Или на крыше товарняка поехали искать край по-сытнее нашенского. На восток, на юго-восток. Там, говорят, из-за корочки хлеба не давятся, там даже мясо настоящее жрут. Потому что в тех местах война не проходила.
Но возможно и так, что сидят все трое в каталажке за незаконные действия на рынке с честными советскими гражданами, сидят и ноют, скулят через замочную скважину: «Дяденька милиционер, отпусти… Отпусти, мы детдомовские…» А что с них возьмешь, у них ничего и никого нет. Подержат да отпустят, припугнув для острастки. А наш беспризорный брат – пуганый. Чем больше пужают, тем больше не боится.
Васька вспомнил, как однажды они козу сперли. Попробовали доить, а она такая дура – не доится. Держали ее под домом в подвале, пока она не заблеяла от голода на весь поселок.
– Вывернуть карманы, – сказала Анна Михайловна и пошла по ряду. Все вывернули, и Васька вывернул, размышляя над тем, что вот Анна Михайловна, воспитательница, – не дура, не чета той козе. А простой истины не понимает. Кто же станет прятать ценные вещи в дурацких карманах? И без них в одежде столько тайных мест, что на спор мешок картошки вынес бы со склада, если бы тебя пустили на тот склад… А уж для всяких там мелочей вроде ножичка, денег или корки хлеба – тысяча самых загашных мест, попробуй-ка их сыщи! Можно в ботинок под стельку положить, сунуть в манжетину штанов, в трусы между ног или сбоку под мышкой… А то за подкладкой, а то и в кармане у самой воспитательницы, пока она проверяет.
Рядом с Васькой стоял Грачев Сашка, Грач, заложив что-то за щеку, громко сосал и чмокал. Вот тоже вариант – положить в рот и молчать, покуда шарят. Анна Михайловна проверила у Васьки карманы, посмотрела у Грачева, пошла дальше.
– У тебя чего? – спросил Васька. Грач высунул изо рта кусочек жмыха и тут же убрал обратно.
– Подумаешь, – сказал Васька и вынул свой компас. – Смотри! Только руками не лапай!
– Часы? – спросил Грач. У него получилось: «Чаши».
– Дура, компас это. Стороны света показывает.
– Дай посмотреть! – У него вышло: «Вайошошеть».
– А ты жмых!
– Посмотреть?
– Пощупать… – сказал Васька. – Языком… Я только лизну…
– Ладно, – подумав, согласился Грач. – Лизни. – И предупредил: – Зубами не грызи, он тоненький.
Незаметно обменялись, Грач уткнулся в компас, стал искать север и юг. А Васька только засунул в рот жмых, впился зубами. Авось отколется краешек. Напрасные усилия, жмых был как каменный. Повезло Грачу: неделю можно сосать. Интересно, где он свой жмышок прячет на ночь? Небось так и держит во рту. Полезешь, полруки отхватит. А что, если компас попробовать прятать в рот? Не залезет разве? Рот как резина, его и растянуть можно. Но ведь компас не жмых, он от слюней испортиться может…
Васька снова изо всех сил надавил на жмых зубами. Чтобы протянуть время, затеял с Грачом отвлекающий разговор.
– Нашел юг? – получилось: «Нафолюг».
– Что? – спросил Грач.
– Нафолюг?
Грач ничего не понял, но сообразил, куда гнет Васька. Пора возвращать жмых, а то ничего не останется, будь он трижды каменный. Получив свой жмых, Грач внимательно осмотрел его со всех сторон, произнес с обидой:
– Ну и зубы у тебя! Вон сколько выскреб!
– Он не скребется, – сказал Васька.
– Что я, не вижу!
– Ты думаешь, компас не портится, когда его без умения крутят?
– Подумаешь, север, юг… Ну и что? Васька сказал Грачу, как по секрету:
– А то, что на юге этого жмыха завались. Говорят, около станции валяется в кучах, на него никто и не смотрит.
– На жмых? – произнес Грач так удивленно, что чуть не подавился своим жмышком. Вот бы был номер, если бы Грач проглотил его! Он бы заплакал от жалости.
Ваське стало так смешно, он сказал:
– Что жмых, они им коров кормят.
– Врешь?
– Еще свиней, – добавил Васька с превосходством. – А я тебе не скотина, чтобы его жевать… Не свинья какая-нибудь.
Васькин компас был отомщен. Но тут Грач опомнился, крикнул:
– Ах ты Сморчок! Ты все от зависти придумал!
– Что за шум? – спросила, повернувшись, Анна Михайловна.
Она закончила обыск и теперь стояла, глядя на строй. Глаза у нее были синие, этот цвет шел откуда-то из глубины ее, он не согревал. Временами даже казалось, что она никого кругом не видит, а взгляд ее сосредоточен на чем-то, что за пределами окружающего.
Вот и сейчас она молча смотрела, но ничего не видела. Опомнившись, произнесла быстро, чтобы ребята приготовились к обеду, помыли руки.
Все ждали этих слов и с криками «ура» ринулись прямо к столовой. Анна Михайловна предусмотрительно перекрыла вход, встав в дверях, и крикнула, что пускать будет с чистыми руками, когда накроют. Ее не слушались, толпились у дверей, заглядывали в щелку.
Васька смог всунуть один глаз между остальной ребятней и сразу углядел, что в столовой дежурит Боня (полное имя было Бонифаций), а на Васькино обеденное место положена тощая пайка.
Ребята кричали из-за двери:
– Боня, мне горбушку! Мне горбушку!
Каждый кричал, и каждый хотел горбушку. А где возьмешь столько горбушек? Васька не стал кричать из-за двери. Он шмыгнул во двор и залез со стороны окна. Он наперед всех сообразил, что в столовой уже открыли окна: на дворе весна. Карабкаясь, пробормотал: «Наши войска захватили высоту „Н“…»Васька лег животом на подоконник, сразу оценив, что раздача еще не кончилась и можно отсюда, как маршал с высоты, обозреть окрестности и влиять на ход боя. Противником в сражении был Боня, а добычей в победе – крупная горбушка. Стоило начинать сражение.
Васька сказал негромко:
– Боня! Боня! Я тебе что покажу…
Бонифаций раскладывал пайки, а на Ваську не среагировал. Лишь глаз скосил в его сторону. В это время он считал: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три…»"Ну, подожди, – подумал Васька. – Буду дежурить, ты у меня запляшешь. Ты у меня танец живота будешь на пороге исполнять".
Васька, как на экране, представил картину, поменяв сейчас себя и Боню местами. Боня канючит с подоконника, а Васька положил ему тоненькую, как стеклышко, пайку, добавок перенес другому. Но от вымышленной картины легче не стало. Воспользовавшись, что Анну Михайловну атаковали от входа, Васька под шумок крикнул:
– Бонифаций! Положи мне горбушку!
Как и предполагал Васька, тот лишь отмахнулся:
– Иди, Сморчок! Не засть мне свет. Нет у меня для всех горбушек.
– Мне не для всех, мне для меня.
– Где я возьму? – спросил Боня.
– Поищи, – настаивал Васька. Он понял, что разведка кончилась, пора бросать в бой главные силы. Почти независимо произнес: – А у меня тут компас, между прочим…
– Какой компас? – спросил вроде бы без любопытства Боня, но приблизился, стараясь разглядеть, что там держит Васька в своей руке.
– Настоящий военный компас, – отчеканил Васька энергично. – В темноте светится!
– Покажи?
– Потом, – предложил Васька, – Хоть целый час играй.
Тут Анна Михайловна, гнущаяся под голодным напором, как деревце под бурей, закричала, повернув голову:
– Быстрее, быстрее, а то я запускаю!
– Сейчас, – ответил ей Боня и так ловко перетасовалпайки, что на Васькино место легла поджаристая горбушка, на которой еще был крошечный добавок.
«Вот это куш!» – выдохнул про себя Васька, увидев горбушку с добавком. Бросился бежать вокруг дома, на крыльцо, да в коридор и с первыми ворвавшимися стремглав на свое законное место, чтобы, не дай бог, на ходу не сменили, не подсунули худую пайку. Успел Васька по спинам, напролом через кого-то к своей родной горбушке, рукой прижал ее к столу. Тут она! А сердце колотилось от бега, а рука держала, ласково корочку гладила, как птенца все равно. Пальцы раздвинул, посмотрел, восхитился: мать честная! Поджаристая корочка, серый упругий мякиш, от одного запаха голова кружится. А тут и добавок, кстати. Невелик, но можно в рот взять, пососать, насладиться и запахом и вкусом. А еще горбушка целая, ее с разных концов по маленькому кусочку откусывать – конца не будет.
Кругом стучали ложками, требовали бурды. Васька вдруг подумал, что день у него сегодня невероятно везучий, компас принес удачу.
Анна Михайловна стояла посреди столовой и кричала, вовсе при этом не нервничая:
– Прекратите стук! Сейчас же прекратите стук! Но ее заглушало: «Бур-да! Бур-да! Бур-да!» И первый слог, как нарастающая лавина, как горный гул, чтобы окончиться, утвердиться падающим и гремящим:
– …Да! Да! Да!
И Васька, схватив ложку у соседа, стал бить, стал барабанить, изображая марш победы. Он сегодня выиграл свой бой. Васька стучал изо всех сил, и очень здорово у него выходило.
– 3 -
Принесли свекольную бурду, на второе пюре из гороха. Желтенькое, как дрисня. Шлепнули ложку, оно расползлось до краев. Со стороны посмотришь – много. А тут таракану – по щиколотку. Но Васька знал, как из ничего, из одной видимости, создать обжорную порцию. Накроши хлебца, перемешай, и вот уже половина тарелки навалено. Да еще как будто ешь с мясом, корка в дрисне мясной вид имеет. И почти сыто, почти довольно.
Впрочем, когда языком до блеска вылижешь тарелку и крошечки, не больше маковых зерен, по столу соберешь в рот, знаешь, все равно чувствуешь, что мог бысъесть еще столько, а потом еще столько же. В общем-то Васька был уверен, что есть можно без конца. Поставили бы тут кастрюлю, Васька бы и ее съел.
Был у Васьки счастливый один случай, когда сперли они котел щей с кухни, ели без ложек, через край, а гущу ловили руками. Съел тогда Васька порций пятнадцать, а то и двадцать. Раздулся, как пузырь, дышать нечем было, а все ел. Не мог никак наесться. Хлебал, хлебал и почувствовал, что до горла залит, и уже что он берет, все обратно вытекает. А тут еще затошнило его, скрутило так, что лежал, умирал Васька. Все вылезло из него – и гуща, и жижа, и еще что-то, чего он, кажется, и не ел.
Выворачивало Ваську до пота, до сотрясения кишок, и все-таки успевал он поглядеть с жалостью на то, что приходилось отдавать, а почти было твоим. И сам Васька не знал, отчего больше лились у него слезы: от боли или от жалости.
Сейчас Васька вспомнил, стало приятно. Как же, чуть от обжорства не умер! Не у всех бывают такие хорошие воспоминания в войну.
Нельзя сказать, что Васька совсем не думал о будущем, хотя мысли о настоящем – как выжить – подобно многим заслоняли эту прекрасную перспективу.
Но выходило Васькино будущее уж очень одинаково и только так: стоит посреди леса детдом ихний, а посреди детдома стол во всю ширину и длину. А на столе огромных размеров мешок с баранками, а второй мешок с конфетами. И никто не шарапит, не тащит по карманам и за пазуху. Чинно все сидят, даже шакалы последние и те берут баранки по одной, а их заедают конфетами: суют в рот, жуют, а золотые бумажки через зубы выплевывают. Это чтобы не терять времени на разворачивание и облизыванье фантиков. С баранками – с теми проще!
И Васька, вот чудо, не хапает, чинно тянет руку к мешку, хоть зудит его легонько заначить горсть-другую в рукаве на черный день. Только о каком таком черном дне разговор может идти, если в будущем все дни только светлые будут!
Чай из железной миски пьет Васька, наклонясь, однако, так, чтобы мешок тот чудотворный из виду не терять. Будущее будущим, а все-таки! А рядом с миской пайка Васькина лежит, он ее ладошкой ласкает. А размером та пайка ровно с буханку, даже добавок на ней такой, что с ходу не съешь. Это и есть самое светлое Васькино будущее, которое называется «послевойны» и в которое Васька, если честно, не очень-то верит. А кто поверит, скажи про мешок с баранками да пайку таких размеров…
И одной мечты нет у Васьки, чтобы дорасти до высоты, до положения Кольки Сыча, который и там, в будущем, найдет свое генеральское место в торце стола, зыркая оттуда в сторону шакалов и малышни, не слишком ли стараются они, поедая добро из мешка.
Васька подумал: отчего ему так приятно сегодня, даже размечтался вишь, – сразу мысль о компасе. Тоже не думал не гадал, а ведь случилось же! И как бы вновь обрадовался. Решил тут же, что надо сходить в лес, поиграть со стрелкой под деревьями. Правда, оставался за Васькой должок Боне, да кто ж не знает, что долги не отдаются по своей воле. Как говорится: кому должен, всем прощаю. Боня придет и напомнит, не постесняется. В детдоме стыдливые не живут.
Васька соскакивал с крыльца, когда услышал, как Анна Михайловна звала на подготовку уроков. Усмехнулся Васька такой наивности. Если бы до обеда пригрозили Ваське голодом, он, может, сделал вид, что готовит уроки. Но сейчас, сейчас… Все понимали это и разбежались, разбрелись по укромным уголкам, как горох, рассыпа' лись по щелям, собери-ка их. Одни торопились испечь приобретенную картофелину, другие выменять корочку хлеба на что-то, что похуже, но побольше, а иные побрели поискать молодую крапивку по канавам, листики у нее сладкие и пахнут свежим огурцом. Некоторые залезли на чердак или в подвал, чтобы поспать. Во сне время до ужина летит быстрей.
Васька услыхал, что воспитательница упомянула Первое мая и шефов. При слове «шефы» он приостановился, навострил уши. Но тут же спиной почувствовал, что Анна Михайловна смотрит на него, ускорил шаги. И точно, вслед донеслось:
– Мальчик! Мальчик!
Она не видела лица, а беспомощное «мальчик» выдало ее до конца. Мало ли тут мальчиков! Васька, не оборачиваясь, завернул за угол и направился по тропинке в сосняк. Он раздумывал, отчего упомянули шефов… Их шефами назывался колхоз, который время от времени привозил на телеге всякие овощи, картошку. Иногда, а если точнее сказать, это было дважды, ребят возили в колхоз и кормили от пуза. Да… От такого бы праздника Васька не отказался.
Но сейчас приятную мысль о шефах перебивала другая, тоже приятная, но более близкая: она звала подальше в лес, на волю. Правду кто-то сказал, что как ни корми детдомовца, он все в лес смотрит!
По сухой тропинке, которую, как змеи, перевивали толстые корни деревьев, Васька углубился в сосняк. Хотел было остановиться, вдруг увидел человека, сидящего на земле. Васька прошел мимо и оглянулся. Человек сказал негромко:
– Эй, пацан!
Васька удивился:
– Меня?
Разглядел, что у сидящего шинель внакидку, а сапоги снял, они стоят в стороне, как сами по себе на параде:
пятки вместе, носки врозь. Тут же портянки валяются.
– Тебя, тебя, – сказал солдат. – Поди сюда! Васька сделал шаг и остановился. Солдатиков Васька нагляделся достаточно. Недаром их на стадионе гоняют со строевыми песнями. Как проходишь, всюду новобранцы под деревьями сидят, рубают кашу из котелка. Иногда позовут, предложат ложку. Но Васька, если честно говорить, не любил одалживаться у солдат. Он считал, что для войны мужчина должен быть сытым, не в пример детдомовцу. Ваське проще: он достанет, добудет что-нибудь. Если не достанет, украдет. Сейчас все крадут, кто больше, кто меньше. А Ваське меньше других надо.
Но солдат ничего Ваське не предлагал. Он и смотрел на Ваську без всякого интереса. Безразлично смотрел, будто и не на него, а на лес и на сосны. Лицо у солдата было серое, стертое. Усталое, а может, больное. Тут Васька понял, что солдат из госпиталя, наверное, пошел гулять, да заблудился. Рана заболела…
– Ну? Подойди! – сказал солдат, не повышая голоса. – Ты что, местный? Тут и живешь?
– А где мне еще жить? – спросил Васька. – Вон, в детдоме живу.
Солдат оглянулся, чтобы посмотреть, в каком детдоме живет Васька, но ничего не увидел и не мог увидеть, потому что были они в лесу. Он поднял голову, вздохнул. Не глядя на Ваську, сказал ровно:
– Понимаешь, украли… Оружие вот… Да, да… Оружие украли.
– Какое… оружие? – повторил Васька и вдруг обмер, осекся. А живот у него заныл. Он и сам не понял, чего испугался. Но живот заныл, а ноги стали как чужие.
Солдат не видел Васькиных превращений, потому что не видел и самого Ваську. Глаза, обращенные в глубину леса, ничего не выражали.
Как-то равнодушно произнес; – Какое? Обыкновенное. Винтовку, значит.. Пока спал, ее украли. Да все украли, вещмешок, вещи. Документы из кармана .. И оружие тоже.. – Это слово «оружие» он произнес отдельно и хотя так же ровно, но с невыносимой тоской. Солдат не Ваське говорил, а себе будто говорил. Замолчал, глядя на ноги свои белые, белее портянок. Васька сейчас мог уйти, солдат не заметил бы этого. А он стоял перед солдатом как дурной, как оглушенный все равно. Никак не мог сдвинуться с места. И заговорил он помимо своей воли, не соображая, что и зачем говорит:
– Откуда мне знать, кто украл .. Ничего я не слышал вовсе. Если бы я знал, конечно, я бы сказал, но я ничего, ей-богу…
Выходило нескладно, неловко… Ой-ой-ой как все глупо выходило. Васька, не терявшийся ни при каких условиях, мямлил и мялся и выдавал себя с головой. Если бы солдат хоть раз взглянул на Ваську, если бы прислушался к его голосу да просто бы пораскинул мозгами, он понял бы все сразу.
Солдат не разобрался и не почувствовал ничего. Он поднял пустые глаза на мальчика и увидел рваные, подвязанные веревочками галоши вместо ботинок, штанишки неведомого цвета, залатанные на коленях, но опять с дырками, странный пиджачок без пуговиц, короткий, с короткими рукавами. Узкое лицо мышонка с каким-то странным, почти звериным испугом и глаза… Непонятные были у мальчика глаза: детские и недетские одновременно.
Тут солдат впервые подумал, что он напугал мальчишку. Видом своим или вопросом, действительно странным вопросом, если послушать со стороны. Ишь вытаращился весь, дикий, того и гляди шмыгнет в кусты.
Солдат попытался улыбнуться и сам понял, что неудачно у него это вышло.
– Ты не бойся, я ведь вообще спрашиваю Я всех спрашиваю. Хожу тут и спрашиваю. Всех спрашиваю, понимаешь?
И солдат вдруг бестолково и быстро заговорил, что он не тронет того, кто взял оружие и взял документы. И ничего не сделает он этому человеку, пусть только вернет… Винтовку вернет. Солдат подвинул к себе сапоги и добавил, что он сапоги еще отдаст… Часы отдаст…
– Не знаю я! – громко, с отчаянием воскликнул Васька. – Чего вы ко мне пристали! – И повторил бессмысленно просящим голосом: – Я ничего не видел! Может, кто-нибудь другой знает, а я не знаю, дяденька…
Так произносил Васька и понимал, что чепуху произносит. Он был явно не в ладах с собой, с языком своим. Сам себя разоблачал и еще больше пугался от мысли, что солдат решит его обыскать. Компас лежал у Васьки в загашнике, под рубашкой с левой стороны. И Васька – вот дурак – тут же рукой пощупал это место. Как вскочит сейчас солдат, хвать Ваську за бок! Это ведь не Анна Михайловна, солдат знает, что где прячут. Найдет компас, и конец тут Ваське. Лишь брызги полетят по стволам. А кто будет спрашивать о Ваське: куда и зачем пропал Сморчок? Дня два подождут на линейке и вычеркнут из списков. Мало ли вычеркивали других? Всех не перечтешь, не разыщешь, да и некому этим заниматься. Вот и получится: был Васька – и нет Васьки. Как будто он и не должен быть.
– А кто может знать? – спросил солдат и чему-то удивился. Он и не Ваську спросил, а себя спросил. А удивился тому, что еще спрашивает, что еще что-то хочет узнать, когда и узнавать нечего. Никто не скажет. Как в лесу все равно.
– Я вообще сказал… Подумал, что, может, кто знает… – проворачивал с трудом, как жилы через мясорубку, Васькин язык, в то время как сам Васька прощался с собой. Он не мог знать, что солдат тоже прощается с собой. Или уже простился? Он еще смотрел на Ваську, но безнадежность, бессмысленность появились в его глазах.
Так бывает, когда все равно.
Однажды Васька видел такого человека. Он шел по платформе к стоящей электричке. Васька, оказавшийся у него на пути, увидел, какой безумный, устремленный в пустоту взгляд был у человека. Электричка тронулась. Васька оглянулся, чтобы посмотреть, как тот будет садиться на ходу, а он почему-то не садился, а все шел и шел рядом с вагоном, а потом побежал. И вдруг сразу повалился под колесо. Хрустнуло, лопнуло, брызнуло, и у Васьки круги пошли перед глазами. Кто-то, наверное, закричал, а Васька онемело стоял, глядя на пустые без поезда рельсы, где лежали две половины человека, и ноги были странно вывернуты, изуродованы и залиты кровью…
Так Васька с тех пор и носил в памяти лицо и вытаращенный, безумный, глядящий в неведомое взгляд этого человека. Вдруг от солдата повеяло на Ваську холодом, ужасным гибельным чувством, похожим на давнюю смерть.
– Я пойду, – сказал он обреченно. Будто попросил солдата отпустить его. Тот не услышал. – Я пойду, дяденька…
Какой-то всхлип у Васьки получился, а не голос.
– Иди, иди, – сказал машинально тот и сочувственно посмотрел вдруг на Ваську. Глаза у солдата подобрели, какая-то легкость появилась в них. Он поднялся сразу, без рук, подошел сам к Ваське. Почти весело подошел, так что Ваське стало страшно. – Иди, чего ты, – промолвил доверчиво солдат и провел рукой по Васькиным запаршивевшим волосам. От такого прикосновения по спине ток прошел. Что-то в груди у Васьки задрожало и оборвалось. Как перед ударом в затылок. А по коже все лихорадка, дрожь волнами переливалась.
Слишком ласково разговаривал солдат, чтобы это было по правде. Так обращались к Ваське, когда хотели бить. А били Ваську за воровство, как тесто взбивали кулаками, сильно и неторопливо, через кости, через их хруст, до нутра Васькиного добирались, и тогда наступала мертвая темнота, идущая как спасение.
За кошелек так били, а за украденный в школе глобус не били И Васька с поразительной ясностью понял, еще когда за волосы волокли, еще в эту минуту светлую, что за свое бьют сильней. За общественное сильней судят. Но Васька был неподсуден, это он быстро понял и считал своей удачей. Он старался лазать туда, где были вывески.
Васька стоял под рукой солдата, обреченно стоял, может, он уже умер или все в нем умерло в ожидании, когда шибанут его по темечку и отобьют мгновенно память. Посыплется все и опадет. Васька и не боялся темноты, но боялся ожидания удара, а потом боялся бреда. Когда ожил, но ничего не понимаешь вокруг, а только лежишь и плачешь, а почему лежишь и почему плачешь, не в силах уразуметь. За голову держишься, а она чужая головка, не своя… А ты руками обхватил ее, чужую. И хоть глаза открыты и ты видишь, что люди вокруг, а ты у них под ногами валяешься, корчишься и все плачешь, плачешь. Не так плачешь, чтобы разжалобить, а для себя плачешь, о своей жизни… Один раз с Васькой было такое. Пьяный мужик, у которого он распорол мешок с картошкой на рынке, бил его по голове.
Солдат все гладил Ваську, а потом легонько толкнул:
– Ну, иди, иди!
Васька тихо пошел прочь, костылял, будто не на ногах, а на палках. Не веря, что уходит, подвигался как во сне, дальше и дальше от несчастья своего. Медленно просвет выходил, и Васька спиной знал, что медленно, но уже рождалась в Васькиных шагах надежда. И вдруг солдат крикнул вдогонку. Васька аж присел и в штаны брызнул с испугу. Он ничего и не понял, что ему кричит солдат.
Но и солдат удивился своему крику. Откуда взялось, что он почувствовал в Ваське спасительную ниточку. Нет, не надежду что-то найти. А надежду надеяться и ждать. Может, Васькины слова о том, что кто-то знает, ничего и не значили, они точно ничего не значили. Но они были произнесены и сейчас дошли до сознания солдата. Он ухватился за них, потому что не было ничего другого. Он за Ваську поэтому ухватился, ведь их Васька произнес. Солдату вдруг показалось, что если Васька вернется, то он может ждать его. А ждать означало для него жить.
Вот и закричал солдат неожиданно:
– Ты… Подожди! Ты придешь? Ты в детдоме будешь?
Васька странно вывернул шею, не повернув туловища, и осклабился, голос потерял:
– Я спрошу… Если узнаю…
– Ты приходи! – крикнул солдат. – Я буду тебя ждать!
Сколько прозвучало в его голосе вдруг надежды! А вместе с надеждой и страха и тоски.
Тут и рванул Васька. Может, не он сам, а ноги его побежали, которых он не чувствовал. Эти ноги получили приказ бежать давно, а теперь понесли, да так неловко, вихляя и заплетаясь, что Васька с размаху ударился о торчащий сук и покарябал веко, побил переносицу. Но все равно продолжал бежать, пока не увидел свой детдом.
Силы оставили Ваську, он сел на землю и заплакал. С обидой заплакал, как будто его в самом деле избили. И даже затылок, даже волосы болели у Васьки от чужого прикосновения.
В глазах зарябило, то ли от боли, то ли от пережитого страха. Где-то долбила, прорезалась тоненькая мысль, что скорей надо Ваське спрятаться, исчезнуть, зарыться в подвальчик и пережить все наваждение, как вражескую бомбежку. Ведь надо же так вляпаться! Шел бы Васька по другой тропинке, их вон сколько, тысячи в лесу, и все бы сложилось хорошо в его жизни. Зачем надо было вообще идти в лес? Зачем он оглянулся на солдата? Мало ли солдат в лесу, чтобы на каждого оглядываться, около каждого стоять, разговаривать?
Но все произошло, и не в воле Васьки, как бы он сильно ни хотел, изменить этот день и эту встречу. Страшную вдвойне оттого, что солдат не бил его, рукой по волосам провел.
Болят Васькины волосы, до нутра прошибло прикосновение. Вот что ужасно. Когда бьют – привычно. Когда словами и руками ласкают – больней стократ. Васька даже охнул, вспомнил, почувствовал чужую руку. Страшная рука, которая гладит.
Волосы носили больное, дикое, неиспытанное ощущение чужой руки, и этого Васька не мог изменить. Было… Ужасно это было. Лучше бы память Ваське отшибло, чем так, рукой его. Последнее злодейство – детдомовца гладить. Но от солдата можно сбежать, можно закопаться, а от себя? От своих лапаных волос куда уйдешь?
В панике зарыскал Васька, себя стал бояться. Сидел сам себе чужой и понимал, что все несчастья в жизни от его непостоянства. То он крадет, то стесняется, то врет – не покраснеет, а то и соврать не способен. Назвался по глупости детдомовским. Придет солдат и спросит: «Где тут детдом?» Да каждая собака этот детдом знает. Потому что он как осиное гнездо. Не клади за километр, что плохо лежит. Ворюги, известное дело. Васька Сморчок – ворюга, он все и украл…
Да был бы кто-нибудь, а то солдат, в котором и хитрости нет, одно простодушие. На простодушии и попался Васька-дурак. Не пытали, не трогали, еще и сапоги с часами предложили.
Как Васька в милиции защищается, любо-дорого самому вспомнить. Закатится слезами, норовит через мундир старшину до нутра пронять. Жалостью его да тонкой нотой, а если надо, и небольшой истерикой с причитанием. «Дя-де-нька, отпусти, не виноват я, сиротой расту, брошенный на всю мою жизнь!» Вздохнет старшина, может, сынишку вспомнит, выпустит, а то еще червонец сунет неловко. Мол, бери да не воруй больше, а то плохо кончится. А ты ему: «Спасибо, дяденька, не буду воровать, я учиться пойду. Выучусь, пойду милиционером работать!» Тут он расчувствуется, скажет: «Ишь, шпингалет, соображает… Была бы семья, что-нибудь из него путное вышло. А все война, война…».
Посидел Васька, подумал и решил, что перво-наперво нужно ему от компаса избавиться. С компасом он жулик, а без компаса вполне честный человек. Зашел Васька в сарай, где кирпич пирамидкой лежал, оглянулся несколько раз, не следит ли кто. Вынул из серединки кирпичину, а за ней пустота оказалась: старая Васькина заначка. Ловким движением сунул туда компас, завернутый в лопух, и кирпичом заложил. Для гарантии помочился на это место, чтобы не лезли.
Из сарая Васька вышел не спеша, сильно сплюнул. Все было в этом плевке: чувство облегчения, отсутствие вины и вообще конец этой истории.
– 4 -
От Саратова, где формировалась часть, тащились до Москвы трое суток. Но уже сейчас, на подъезде, Андрею Долгушину, как другим солдатам, было ясно, что в столице они не задержатся. По Московской окружной дороге перебросят на северную, а может, и наоборот, на южную ветку, сейчас от севера до юга затяжные бои. Но солдаты, и не имея информации, склонялись к тому, что путь их ляжет в направлении Курска. «Солдатское радио», никем не уточненное и не подтвержденное, все-таки упорно указывало на юг… Так они предполагали, покуривая самокрутки из едкой махры и разглядывая длинное Подмосковье, деревья, а то и целые рощицы, стоящие в воде, темные деревеньки вдоль дороги, где не было видно ни людей, ни скотины.
Но солдат предполагает, а командование располагает. Так сказал боец Воробьев, взводный балагур и философ. До войны работал он прорабом на строительстве в городе Бежицы. Хватка у него была, наверное, профессиональная, что касалось достать, выпросить, организовать. Такие люди не пропадают нигде, да и другим с ними легче жить. Случись какое затруднение с жратвой, посылали Воробьева, а на подхват ему Гандзюка.
Коротышка Гандзюк, брюхо шире плеч, правый фланг замыкает, но насчет кормежки первей нет его. Еще разводящего, как именуют половник, не успели окунуть в варево, а он уже с котелком на изготовке…
– Гандзюк, – кричат ему, – будешь торопиться – обожжешься!
– Ничего, – отвечает, гипнотизируя глазами кухню. – У человека сто метров кишок, и все для того, чтобы, съев горячего, не ошпарить задницу.
Эшелон между тем замедлил ход и тащился едва-едва, а потом и вовсе встал. Дернулся раз, другой и замер навсегда. Поглядели – кругом другие эшелоны, где-то репродуктор говорит, наверное, станция.
Сказали: «Боец Воробьев, сходи на разведку. Отчего с утра не несут? Или повара проспали? Натрескались, поди, на ночь, теперь переваривают до Москвы или как? А солдатиков-то потрясло дорогой, им дровишки только подбрасывай!» – Проси хоть кипятку, если нет покруче! Да узнай, сколько стоять?
– Я так думаю, – скоро говорил Гандзюк, вскидываясь идти вслед за Воробьевым. – На парад нас везут в Москву. А уж там от пуза кормят, это я точно знаю!
– Ты, Гандзюк, учти следующее, – обернулся к нему Воробьев. – На параде ногу вскидывать надо. Чем выше ногу, тем больше мяса – такой закон. За каждый сантиметр сто грамм набавляют. За пять – банка тушенки ..
Посмеялись, и Андрей улыбнулся, вспомнились недавние учения во дворе старых, как говорят, еще екатерининских времен серых казарм, от вокзала по левую руку. Сержант Потапенко, немолодой уже, лет тридцати, крупный мужчина, глаза навыкате, голос трубный: «Ногу! Ногу! – кричал свирепо. – Горох, а не шаг! Носок тяни, печатай ступней!» Весь световой день на плацу. С подъема, как труба под высокими сводами прогремит, и до серых сумерек топали. Сдваивали ряды, ходили кругом и с винтовкой наперевес. Гандзюк как для парада старался, драл ногу выше головы, при рапорте ел глазами начальство.
…Боевая винтовка образца тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, созданная замечательным тульским оружейником Сергеем Ивановичем Мосиным, состоит на вооружении всех родов войск Красной Армии. Поражает противника на ближнем и дальнем расстоянии. На дальнем расстоянии прицельным одиночным и групповым огнем, на ближнем – штыком и прикладом. Состоит из следующих основных частей…
Все уже наизусть знали – и винтовку, и гранату, как рыть окоп в полный рост, как скрываться от танка, когда он прет на тебя. О танках говорили особенно много, учили бросать связку гранат из укрытия, вплотную метать бутылки с зажигательной смесью.
Бывшие в боях красноармейцы, раненые или контуженные, рассказывали о встрече с танком, учили, сердясь, когда у новобранцев не выходило, показывали, как оно будет по-настоящему.
– Вишь, поползли из-за бугра, на тебя горой прут… Гремят, лязгают, стреляют, лежишь, думаешь – хана! Надвинулось чудовище с крестом, а ты лежишь… Лежишь. А потом на него: «Ах ты, сука, в мать, в Гитлера и в того, кто его породил, – уррра! Бей фашистскую гадюку! Так ему! Эдак! Ура! Вперед! За Родину!» – и ожесточенно, с серым лицом, исказившим черты, с глазами, в которых отчаяние и слепое ненавистное чувство вскидывались, готовые к броску… И тут только вспоминали, что на ученье, не в бою, растерянно оглядывались, со вздохом махнув рукой, приказывали повторить встречу с танком, молвив при этом: – Ты тут, а он где-то уже есть, вот и представь, что вы встретились. А встретитесь вы обязательно.
С тех пор как стали их водить на полигон, поняли, что время подошло, скоро отправят на фронт. Андрей, как и другие бойцы, ждал, мысленно торопил события. Фронт, какой бы поначалу страшный ни был, означал новый этап в жизни солдата. Попасть на передовую означало обрести до конца свое место в сегодняшних реальных событиях. А цель была единая, святая: бить, сколько хватит сил и жизни, ненавистного чужеземца, проклятого фашистского захватчика, уничтожать его до тех пор, пока он топчет родную землю! Это не были слова, таких бы слов не произнес Андрей сроду, это было самочувствие его. Оно определяло надолго его судьбу.
В это время, как потом утверждали в мемуарах, наблюдалось на фронтах затишье, самое длительное за всю войну. Но обе стороны лихорадочно готовились к летней кампании, которая началась пятого июля величайшей Курской битвой.
События нашей повести развернулись, возможно и случайно, именно в это время. И хоть бойцы понимали, что временное затишье на фронтах не может не кончиться ожесточенными сражениями, к которым их готовят, они – ни один из них – не могли бы сказать, куда протянется их дорога. Двадцать пятого апреля сорок третьего года их подняли по тревоге в четыре часа утра.
Выстроили на плацу в холодный рассветный час, зачитали приказ и повели к станции.
С Волги, вдоль проспекта Ленина дул пронзительный ветер, подгонял их в спину. Но они и так шли ходко, молча, не глядя по сторонам. Единый шаркающий звук сапог нарушал тишину пустынной улицы. Старший сержант Потапенко шагал не как на учениях, сбоку, а впереди строя, никаких команд он не подавал.
С этого мгновения вообще все было по-другому – и мысли, и внешнее проявление чувств. Долгое ожидание в Андрее Долгушине, как и других, теперь сменилось чувством напряженного нетерпения, а может быть, и некоторого страха. Не перед фронтом страха и не перед врагом. К мысли о встрече с жестоким врагом их приучили, и они сами жаждали такой встречи. Но каждый еще знал, что наступит первый бой и каждый станет тем, кто он есть на самом деле. А кто он есть? Он, Андрей Долгушин?
Воробьев с Гандзюком успели вернуться, они сообщили главную новость: эшелон встал на неопределенное время, возможно, будут добавлять новобранцев. Их в каких-то Петушках формируют. Пока доставят, распределят, время… Одним словом, велели ждать.
– Ждать можно, если на сытый желудок, – резюмировали бойцы.
– Сейчас накормят, по-настоящему, – суетился Гандзюк. – У них тут, хлопцы, стационарная кухня, я бы ее по запаху, по одному бы дыму нашел. Но дальше эшелона не пускают.
– А как зовется станция? Где остановились?
– В маленьком городе «Н», как поется в песенке, – отвечал Воробьев будто по секрету. Он добавил: – А на вокзале написано: «Люберцы».
– Тю! Это же Москва, – протянул кто-то. – Здесь, говорят, электрички ходят.
– Электричек не видели, – сказал Воробьев, – а девушки ходили, своими глазами наблюдал.
Андрей не слышал разговора, но при слове «Люберцы» вздрогнул. Он понимал, что эшелон не минет родного его городка, надеялся тайно, что может выйти минутная остановка.
Теперь они стояли, а он от растерянности не знал, что надо сделать. Сунулся к двери, но ничего не увидел. С обеих сторон эшелоны, грязно-кирпичного цвета вагоны, теплушки, едкий дым из многих труб.
Вскоре соседний эшелон ушел, и взору открылась знакомая с детства картина: широкое поле, темное, кочковатое, в самом конце его паутина радиомачт и старое люберецкое кладбище, припавшее к полотну дороги. Городок и станция были с другой стороны.
Две девчушки в ватниках, сапогах и зимних ушанках выскочили из-под вагона, спрямляя путь по шпалам. Сначала их приняли за парней-подростков, да и немудрено ошибиться. Но Воробьев первый понял, что к чему, и, вываливаясь в дверную щель по пояс, крикнул:
– Эй, красавицы! Что за странная деревня – хлеба не на что купить!
Та, что была пониже, круглолицая, чернявая, оглянулась и охоткой произнесла:
– Город, дяденька! А вас откуда везут? – Отсюда не видать, – отвечал Воробьев, оскаливаясь. – Построили нас, говорят, надо помочь люберецким, а то они без нас не управятся с делами…
– Ваши дела не тут! – – выкрикнула девушка, а другая, что покрупнее и, возможно, постарше, потянула ее за руку. Мол, нашла время беседы разводить. Но младшая еще добавила: – Вы бы там помогли! – И указала рукой в пространство, предполагая, конечно, фронт.
– Для того и едем! – орал Воробьев вслед. – Вы-то где живете?
Девушка повернулась и махнула рукой:
– Мы, дяденька, из поселка Некрасовка… Поля фильтрации, слыхали?
– Как же! Как же! – перевешиваясь, едва не выпадая, кричал Воробьев. – Значит, приглашаете?
– Мы не жадные, приходите. У нас танцы в клубе…
– Придем! – завопил вдогонку Воробьев, улыбаясь и показывая зубы.
Старшая снова дернула за руку, и девчонки побежали, перепрыгивая через рельсы, лет им было не более шестнадцати. Вот, хоть и война, а у них свои небось девичьи дела и свое молодое счастье в отпущенный короткий срок. Андрей, как и остальные, смотрел на них и неожиданно для себя подумал о том, что мог бы, не случись войны, оказаться в некрасовском клубе, желтом и длинном, встретить эту круглолицую, а может быть, и познакомиться с ней. А сейчас выходило по-иному. Где-то, как чужие, оставались его Люберцы, с одноэтажным домиком, в котором он жил, с улицами, прудом, городским садом, кинотеатром, школой, все свое, родное, а он проскакивал мимо, уезжая неведомо куда, А если он не вернется?
Сожаления не было, он, настроенный к предстоящему и скорому фронту, не готовился и не думал, что сможет увидеть свой город, дом. Но странное чувство недоумения, жалости, растерянности оставалось. Именно потому они и были, что эшелон волей случая не проскочил мимо, а стоял здесь. Небось стоял час, сколько еще простоит?
Дело же, видимо, затягивалось, наступил вечер и ночь, а потом утро. Никаких команд дано не было. Дважды кормили их щами и пшенной кашей, уже некоторые успели сбегать на станцию, посмотреть и купить семечек. Но никто ничего не знал. Пожалуй, один Гандзюк, неутомимый как радио, продолжал утверждать, что привезли их на парад. Андрей не пошел на станцию, чтоб понапрасну не расстраиваться. Решил для себя, что лучше для него ничего не увидеть, а так и проехать, промахнуть мимо – как не родное. Легче будет оно, спокойнее потом. Решить-то он решил, а сердце тихо прибаливало, щемило.
К обеду следующего дня велели взводу построиться у вагона. Старший сержант Потапенко подал команду:
«Смирно! Равнение на середину!» – и доложил лейтенанту Сергееву о наличном составе.
Лейтенант Сергеев ехал в командирском вагоне. Он был молод, едва ли старше своих красноармейцев, и по молодости улыбчив и добродушен. Он велел стоять вольно. Прошелся вдоль строя и сказал:
– Вот, товарищи, мы прибыли в столицу нашей родины. Находимся мы в пригороде Москвы, но, как вы успели заметить, здесь ходят электрички. Наверное, многие не видели города, хотели бы побывать на Красной площади около Мавзолея Ленина…
– Так точно! Интересно посмотреть! – подал голос Гандзюк, но Потапенко строго взглянул на него и произнес:
– Разговорчики в строю!
– Да ладно, – отмахнулся лейтенант Сергеев и добавил: – В ожидании дальнейших действий и приказов нам разрешено съездить в Москву. Разумеется, в организованном порядке. Какие будут вопросы?
И Потапенко спросил вслед за ним:
– Какие будут вопросы? – но именно с такой интонацией: вопросов быть не могло. Андрей Долгушин подал голос:
– Есть вопрос, товарищ лейтенант. А кто не захочет ехать?
– Как так? – сказал, поворачиваясь, Потапенко. И лейтенант удивился:
– Почему? Вы уже здесь были?
– Я здесь родился, – ответил Долгушин.
– Вот и прекрасно! Вам повезло побывать в своем городе. Я бы вот тоже, перед фронтом мечтал, но… Не судьба, как говорят.
– Мой город – Люберцы, – произнес Долгушин почти виновато. Старший сержант прямо-таки ел его глазами. – Я жил здесь, совсем недалеко.
– Понятно, – произнес лейтенант. – Потом подойдете ко мне. Разойдись!
– Разойдись! – крикнул следом Потапенко и почти без паузы приказал красноармейцу Долгушину подойти к нему.
Но Андрея умело прикрыл Воробьев, который, четко откозыряв, как любил Потапенко, спросил:
– Разрешите обратиться, товарищ старший сержант?
– Ну, давай, давай, – сказал тот. – Чего там сочинил?
– У меня тут родственник, товарищ старший сержант. Проживает в поселке Некрасовка в системе люберецких полей орошения. Орошает, так сказать. Разрешите по этому вопросу обратиться к командиру взвода?
– Не разрешаю, – ответил Потапенко. – Съездим в Москву, там видно будет.
– Слушаюсь – ехать в Москву, – произнес Воробьев.
– Красноармейцу Долгушину тоже передайте мой совет ехать на экскурсию, а не заниматься фантазией.
– Так точно! – подтвердил Воробьев. – Совет начальника – закон для подчиненных!
– Вот и идите, – сказал старший сержант.
– Слушаюсь! – отвечал Воробьев. Все-то выходило у него ловко, быстро. Смотрел в глаза, заученно произносил привычные слова, и только в лице где-то, в губах, во взгляде, таилась вовсе неприметная ухмылка, к которой придраться было никак невозможно.
– 5 -
Стоял теплый день. Около насыпи в луже купались воробьи. В поле за кладбищем сжигали прошлогоднюю траву, и запах дыма доносило до станции. В этот апрельский полдень он казался мирным, почти родным.
Долгушин оглянулся на вагон, откуда смотрели ему вслед друзья, а Воробьев кричал:
– Помни солдатскую геометрию: всякая кривая короче прямой, проходящей мимо начальства!
– Стой! – крикнул маленький Гандзюк и, пошарив по карманам, извлек пачку папирос, наверное, самую большую свою драгоценность. Поглядел на нее и швырнул Андрею. – Держи! Пригодится! – И почти вслед: – В штабе когда будешь, закуришь, вот когда пакет передашь. Мол, мы тоже не лыком шиты, а «Беломор» потягиваем!
– Ладно! – отмахнулся Андрей, но папиросы спрятал и при этом еще раз пощупал, на месте ли и хорошо ли схоронен на груди пакет для штаба. Никогда не держал он ценных бумаг в конверте, жестко шелестящем под рукой. Сдать по форме, расписаться и получить отметку о сдаче. При этом помня, что при оружии и, значит, такая штука, как сопровождение пакета, не мелочь, а факт значительный. Может, от него зависит путь и направление всего эшелона?
С вещмешком и винтовкой Андрей стоял посреди путей, и сердце его громко колотилось. Он постарался улыбнуться, но махнул рукой и пошел, будто вообще ходил первый раз, до того неуклюжи, робки были его шаги.
Вот и деревянная платформа, и деревянный мост, а за мостом рыночная площадь с одноэтажной, тоже деревянной кассой пригородного сообщения и еще. всякими торговыми точками. Все это Андрей фиксировал мимолетно, как во сне, а в голове его, как апрельский ветер, проносились легкие мысли: «Мой город! Ведь мой город, который я помню весь до последней дырки в заборе и в то же время отвык и забыл. Потому что казался он недосягаемым, и вдруг я здесь…»Вроде бы Андрей Долгушин сам по себе, со своей скаткой и со своим оружием, со старшим сержантом Потапенко, со своим поездом, со своим фронтом… А город лежал за пределами этого, даже за пределами войны. Был он, как в мирное время, в золотом солнце, веселый и праздничный, как из нестареющей сказки детства. И не нашлось бы фантазии представить его другим.
Теперь это был другой город, как бы двойник того, который Андрей знал. Он повторял внешними чертами свой довоенный облик, но категорически отличался от самого себя, в чем именно, сразу понять Андрей не смог. Он оглядывался, схватывая внешние перемены, внезапно озадачиваясь и теряясь.
Исчезли деревянные заборы, ограждения, даже скромный штакетник вдоль тротуара, ромбовидный, крашенный всегда зеленым. Пропади деревца, их спилили да дрова.. Зато вся полезная земля была перекопана под картошку. Грядки были повсюду – посреди города, вдоль насыпи железной дороги, в бывших садиках и скверах.
Невероятно разросся рынок: черная кровь города. Он занял прилегающие улицы, даже ту пристанционную площадь, где сейчас стоял Андрей. Оттого, может быть, несколько раз глянули на него искоса: чем он тут барышничает? Потом подкатились прямо: «Что есть, солдат? Хлеб, тушенка? Сапоги? Нательное белье? Сукно шинельное? Махорка?»Андрей повернулся и пошел в сторону, противоположную рынку, срезая наискось площадь и выходя на просторную Смирновскую улицу, которую он помнил и любил из-за магазина «Три поросенка». Тогда, в довоенное время, украсили витрины, непривычно большие, стеклянные. тремя поросятами, держащими на подносах вкусную снедь. А маленькие ребятишки, тот же Андрей, всегда останавливаясь, глядели на поросят и, показывая пальцем, кричали: «Три поросенка! Три поросенка!» Так магазин и прозвали, люди говорили: «Вы где покупали колбасу? В „Трех поросенках“?»Стеклянных витрин не оказалось, все глухо забито досками. Но сам магазин работал, и Андрея с удивлением услышал, как пожилая женщина произнесла: «В „Трех поросенках“ крупу отоваривают». А тут же, за перекрестком, штаб, куда, собственно, Андрей и направлялся Пробыл он тут недолго. Сдал пакет и заторопился домой.
Со Смирновской Андрей повернул налево, мимо пожарной команды и большой каменной школы, выстроенной почти перед войной, он прошел к кинотеатру, возвышавшемуся в глубине двора и круглым фа&адом напоминавшему некую крепость.
Это был его, Андреев, кинотеатр, тут были просмотрены все прекрасные фильмы детства, эти фильмы, спроси про них, он помнил наизусть. За кинотеатром простирался также его, Андреев, городской парк, почему-то называемый «глазовским». И прудик мелкий за садом, а дальше одноэтажные панковские домики, и с левой стороны – двенадцатый по счету – родной дом Андрея.
Ему стало вдруг душно от волнения. Он сел на камень, расстегнул воротничок, сдавивший шею. Винтовку он поставил рядом, прислонив к камню, но так, чтобы чувствовать ногой. Но все равно не мог успокоиться, сердце колотилось как шальное.
Тетка Поля бы сказала: «Весенние штучки». Когда по весне начинается сердцебиение, когда кружится голова, тетка любила повторять: «Весенние штучки». После смерти матери Андрей воспитывался у тетки, отца он не помнил знал только, что был его отец летчиком и разбился на самолете в тридцать втором году. В доме у них висела фотография, где был снят отец, молодой еще парень, в кожаной куртке, в шлеме с поднятыми летными очками.
Как из-под земли вынырнул патруль. Андрей вскочил, подхватив рукой винтовку, другой в это время пытался застегнуть пуговицу на гимнастерке. Из-за этого промедлил с приветствием. Лейтенант с солдатом быстро подошли и потребовали документы. Лейтенант тщательно и, как показалось Андрею, подозрительно изучал бумажку, в то время как солдат, рыжеволосый, конопатый, с веселой острой мордочкой, спросил негромко:
– Табачком не отоваришь?
Андрей молча вытащил пачку «Беломора», так щедро отданную Гандзюком.
Рыжий уважительно, двумя пальцами, взял папироску, достал самодельную зажигалку в виде снарядика и с первого же движения зажег пламя. Андрей закуривать не стал, он и не курил в общем. Папиросы нужны были на случай встречи с кем-нибудь из дружков, так, для шика.
Между тем лейтенант, сухонький, неопределенного возраста, похожий скорей на бухгалтера, чем на военного, так и эдак вертел документ, глядя то на него, то на Андрея. Вдруг спросил:
– Из эшелона, значит?
– Пряма из эшелона? Вот здорово-то! – следом повторил рыжий и сильно задохнулся дымом.
Почему здорово, Андрей не понял, но кивнул.
– Кто посылал? – спросил лейтенант, и Андрею показалось, что он может сейчас забрать документы и все на этом кончится.
– Комбат, – отвечал Андрей.
Действительно, с лейтенантом Сергеевым сходили в командирский вагон и лейтенант просил у комбата за Андрея Долгушина, объясняя, что солдат из этого города и рядом его дом, в то время как они простоят неизвестно сколько. Комбат был человек в летах, с редкой сединой. Он постоянно откашливался, закрываясь ладонью. Говорили, что он поморозил легкие в белофинскую кампанию. Спросил хрипловато:
– А город ты знаешь?
Как же Андрею не знать своего города! Здесь родился, бегал по улицам, ходил в кино и на пруд, здесь пошел учиться. Не в ту красивую большую каменную школу, что была, кстати, рядом с домом, а почему-то в другую, двухэтажную, деревянную, на другом конце города. Не просто знал, город был как неписаная биография Андрея, каждый кирпичик, камешек еще хранил его следы. Но об этом ли разговор! Спрошено ведь так, почти попутно.
Андрей и лейтенант Сергеев ждали. Не было в них никакой уверенности, даже малой надежды на успех в разговоре. Но все спокойнее на душе, если было спрошено, получен отказ и надеяться не на что.
Но комбат Егоренко не торопился отказывать. Спросил про город и задумался. Старый кадровый военный, переживший в тридцатые годы много тревог и переездов с семьей, с малыми детьми порой от границы до границы, через весь Союз, порой и мимо родных уральских мест (он был родом из Миасса), он не мог не понимать, что чувствует молодой солдат, проезжая на фронт мимо дома. Может быть, последний раз проезжая. А солдат, хоть не скажет ничего, затаит в себе дальнюю неисполненную мечту и через всю войну будет тащить, как ненужный груз, как моральную обузу, как недобрый знак судьбы. Но кто сказал, что неисполнимо? Вот посыльного нужно в здешний штаб по поводу ускорения формирования. Часть-то неполная, и в Саратове было решено, что дополнят его новобранцы, которых в течение нескольких суток доставят из Петушков к эшелону. Доставить-то доставят, но вот они тут, а новобранцы прибудут только послезавтра, да их надо принять, разделить поротно, повзводно, поставить на довольствие. Обмундировать, вооружить. Это еще сутки.
Вроде бы все это не имело прямого отношения к Андрею, к его просьбе. Но и имело. Комбат Егоренко знал, что имело. А через несколько дней, когда тронется эшелон дальше, прямым ходом на фронт, поймет это и солдат, который сейчас перед ним. Если и не скажет, то подумает уж обязательно: вот, несколько дней рядышком с домом, а часа не хватило, чтобы навестить. Было, было так однажды с майором, тогда он не был еще майором, а они проезжали Миасс и застряли на вторых путях. Не пара километров, как тут, но тоже рядом, и мать-старуха еще жива была. А он стоял на шпалах, курил, глядел вдаль, но не рискнул попроситься. Теперь поздно жалеть. Но мать он так и не увидел больше. И много раз вспоминал это, как стоял в нерешительности на шпалах, курил и все не мог пойти попроситься. Сейчас-то решился бы. Как этот солдат…
Майор Егоренко коротко посмотрел на него. Он уже знал, что скажет.
– Штаб известно где?
– Так точно, товарищ майор, – не сразу среагировал Андрей, уж очень обнадеживающе это прозвучало. И лейтенант Сергеев понял так и повеселел.
– Доставишь срочный пакет, – сказал майор обычным тоном, хотя по смыслу ни больше ни меньше повествовал он о вещах почти фантастических, таких, как встреча с родным домом. – Отнесешь пакет и можешь задержаться. – Он прикинул еще: – До следующего дня. До восемнадцати ноль-ноль. Достаточно?
– Конечно, товарищ майор!
– Все. Можете быть свободны.
И, глядя вслед солдату, не без легкой зависти подумал опять о своем доме, к которому вела такая дальняя теперь дорога.
Въедливый бухгалтер-лейтенант из патруля, как окрестил его про себя Андрей, документы не торопился возвращать, а все выспрашивал, чего-то добивался. Спросил, где пакет, когда снес и сделал ли отметку.
– Так точно, сдал, на обратной стороне отмечено, – отвечал Андрей, глядя на короткую щеточку усов, ужасно невоенную, на лице лейтенанта. – При оружии, как положено.
Тут и рыжий солдат кивнул одобрительно. Мол, так положено. И, обращаясь почему-то к нему, может, как более понимающему, Андрей добавил, что ему после пакета разрешено было зайти домой и пробыть там до следующего дня. До восемнадцати ноль-ноль. Это почти сутки. Сегодня полдня, да ночь, да завтра время… Это же столько, если подумать!
– Где будете проводить время, красноармеец… красноармеец Долгушин? – спросил вдруг лейтенант.
– Дома, – отвечал Андрей. – Я здесь недалеко живу. – И указал рукой в сторону Панков. Лейтенант посмотрел в указанном направлении, будто хотел проверить, там или не там находится дом Андрея Вернул документ, добавил с угрозой:
– Запомните – не пить, по улицам не болтаться. Оружие… никому не доверять, держать при себе.
– Слушаюсь, – сказал Андрей.
– Отставание от части рассматривается как дезертирство.
– Так точно, – кивал Андрей.
Лейтенант еще раз осмотрел Андрея с ног до головы, будто искал, к чему бы еще прицепиться. Но козырнул и отошел. Рыжий солдатик попросил на дорожку папиросочку. Андрей протянул ему пачку:
– Возьми.
– Я, знаешь… бросил…
Тот удивился, но пачку взял. И косолапя побежал за своим командиром. Андрей посмотрел вслед. Только когда они скрылись, облегченно подумал: «Пронесло». Он повернулся, сделал несколько шагов в сторону дома, все ускоряя их, и вдруг побежал. Испугался, что кто-то сможет еще помешать ему дойти эти несколько шагов до дому.
– 6 -
Когда Андрей проходил по городу, ему казалось, что он обязательно встретит кого-нибудь из знакомых, из приятелей. Городок-то маленький, как можно не встретить.
Но попадались незнакомые, чужие лица. Отрешенность, вот что было в них. Прошла мимо старушка, озабоченная отовариванием. Она держала в руках продуктовые карточки, что-то про себя подсчитывала Инвалид на костылях вел на веревке козу. Два парня много моложе Андрея, в ватниках и сапогах, прошагали, оставив за собой запах машинного горелого масла. Проскочил солдат, попалось несколько женщин с лопатами, тоже в сапогах и телогрейках. Впервые Андрей подумал– «Война пошуровала здесь» Кто в тылу, или на трудработах, или на фронте, как он сам .. Остались вовсе непригодные для фронта старики, инвалиды, подростки. Но и они воевали здесь по-своему, отрабатывали смены на заводе Ухтомского, ковали общую победу над врагом.
Если прикинуть, война шла целую вечность И хоть каждый, от самого маленького человечка, знал, что победа будет за нами, но не мог не осознавать, что и до победы оставалась такая же вечность. Никому не известно, кто сможет все перенести и выжить. Не знал этого и Андрей, вдруг необычным образом посреди войны, посреди двух вечностей, вставший перед своим родным домом.
Дом показался немного чужим, при всех своих родных подробностях. Он как-то оголился, исчезли заборчик и кусты акации, прикрывавшие дряхлый фасад. Не было перилец у входа, видать, и они пошли на дрова. Эти перильца Андрей хорошо помнил: буровато-желтые, вылизанные дождем, отглаженные многими руками, они были крепкими, как слоновая кость. Андрей на них съезжал на животе.
Дверь в сенцы показалась ниже, хоть она была та самая дверь, а не другая, с железной щеколдой и пустой дыркой от бывшего когда-то, еще до Андреевой памяти, внутреннего замка. Он с силой толкнул эту дверь, и щеколда отозвалась стуком, а дверь из-за своей косости проскребла по полу, как по сердцу Андрея. Старый родной звук, он забыл о нем.
Теперь он встал перед другой дверью, обитой грубой мешковиной, с ленточками клеенки крест-накрест. С ходу дернул он за ручку, ему показалось, что закрыто изнутри. Тогда Андрей снял с себя винтовку и вещмешок, сложил у стенки на полу, рядом с ведрами воды. Поправил шинель, пилотку и после этого постучал. Сперва тихонько, а потом кулаком забарабанил изо всех сил. Никто не открывал ему.
Ударив напоследок ладонью с какой-то отчаянностью, он повернулся и вышел на крыльцо. Постоял в растерянности и сел, не находя в себе никаких мыслей. Он мог предполагать и думать разное, когда он торопился сюда, но одно он не представлял и не держал в голове: что дом будет закрытым.
Он сидел и думал, что жалко, он не увидел тетку Полю. Сколько Андрей помнил себя, тетка не имела своей семьи, а всегда жила у них, занимая маленькую комнатку возле кухни.
Когда умерла мать Андрея, тетка поплакалась соседям на неустроенную свою жизнь и отвела его на другой конец Люберец в ремесленное училище. И хоть пришли они с опозданием, осенью, но Андрея приняли, и он покинул свой дом без сожаления… К тетке он был равнодушен. Кормили их не жирно, а тетка работала невдалеке на заводской фабрике-кухне, но Андрей ни разу не воспользовался случаем, чтобы зайти и бесплатно пообедать. Это было давно, очень давно, до войны. Все изменилось с тех пор. Изменился и сам Андрей, повзрослел, стал мягче. Война хоть и была жестокая, но учила людей доброте. Андрей знал, что ему очень хотелось посидеть с теткой за чашкой чая, расспросить об отце и особенно о матери, которую он начал забывать.
Именно сейчас, на пороге дома, со всей очевидностью он понял так ясно, яснее некуда: что жила тетка и только поэтому уже было хорошо. Родная кровь, другой не сыскать на целом свете.
Пустой дом не казался своим домом, он был как реликвия, как фотография прошлого. Вроде музея детства.
Андрей поднялся, заглянул в окошко. В полумраке помещения трудно что-нибудь разобрать. Стекла были грязные, а между рамами лежала пожелтевшая вата, наверное, она лежала с довоенной поры.
Андрей вдруг вздрогнул: прямо у его лица за стеклом пробежала большая мышь. Хоть он не мог чувствовать, но показалось, что в нос шибануло тошнотворным мышиным запахом.
За его спиной кашлянули. Он обернулся, так, машинально, на дорожке стояла старая женщина в валенках и шубе, придерживая воротник рукой.
– Вы кого-то ищете? – спросила она простуженным голосом, срывающимся на шепот. Андрей, не поворачиваясь, сказал:
– Нет, не ищу. Я домой пришел.
Это прозвучало странно. Но он сказал именно так:
«Я домой пришел».
Женщина продолжала смотреть на него, не двигаясь и не мигая. Андрею стало не по себе от ее неподвижного, неживого взгляда. Заметила ли она что-то в его лице или просто пришла в себя, но ровно произнесла:
– Значит, вы Андрей? Как же я вас не узнала? Но вы выросли… Ну, конечно, вы были мальчиком, а стали мужчиной.
Женщина не удивлялась, она просто вспоминала вслух. Ей, наверное, было безразлично, что он-то ее не помнил. Впрочем, она сказала:
– Вы меня забыли, и немудрено. Столько лет… И столько лет войны. Но я вас помню и маму вашу помню. Меня зовут Марина Алексеевна. Дети меня называли тетя Маня.
Теперь, когда она произнесла это, в памяти Андрея прорезался образ женщины, молодой, быстрой, смешливой, которая приходила к матери, что-то колдовала с ней на швейной машинке. Иногда мать разрешала Андрею вертеть ручку.
Андрей вспомнил, что у этой женщины была девочка Оля, крохотное существо с кружевным воротничком и голубым бантом. Однажды Олю привели в гости, и все шутили, называя их женихом с невестой. Андрей тогда изо всех сил невзлюбил девочку.
Вот что он сейчас вспомнил, удивляясь своей памяти. Никогда он об этом не думал и не догадывался, что это возможно. Война как ударом ножа поделила воспоминания на те, что были существенны для дальнейшей жизни, которые помогали жить, и на те, что ничего уже не значили, как бы ни казались прежде велики.
Женщина все понимала, как Андрей. Она произнесла; – Да, война, война. Многое переменилось. Но ведь ваши здесь не живут, вы не знали? Пелагея Сергеевна эвакуировалась на Урал… Или за Урал, я уж точно не помню. Она уехала вместе с заводом.
– Уехала, – сказал Андрей и замолчал. О чем же теперь говорить, если эта тетя Маня одним махом отняла отдаленную надежду на встречу с теткой в родном доме.
Без интонаций, без интереса он спросил, кто же сейчас живет в их доме. Ведь кто-то живет?
– Конечно, – отозвалась женщина. – У вас поселили начальника гаража, он сам из Литвы. Но вещи ваши стоят, хоть, правда, я давно не была… Но, думаю, что вещи целы, они вам принадлежат.
Андрей стоял молча, и тетя Маня повторила:
– Я говорю, что сейчас многих вселяют в чужие дома, а потом возвращать будут. Вы-то, простите, надолго?
– Не знаю, – произнес Андрей. Сейчас он действительно ничего уже не знал. Он добавил: – Да нет, ненадолго. Проездом.
Тетя Маня кивнула, хоть ничего, наверное, не поняла.
– Можете зайти ко мне, я через два дома живу. Оленьку мою помните?
– Да, – сказал Андрей.
– На фронте. Как все. А у меня снимают площадь военные, муж с женой. Заходите, Андрюша.
Последнее: «Заходите, Андрюша» – она произнесла будто жалея его. Повернулась и тихо пошла, с хрустом приминая старую траву своими валенками. Андрей остался стоять. Полез в карман за папиросами, но вспомнил, что отдал их рыжему солдату, и пожалел. Не мешало бы сейчас закурить.
Он прислонился к стене дома. Чужого теперь дома. Бездумно глядел перед собой, чувствуя только пустоту и холод. Медленно дошел он до крыльца, чужого крыльца, взошел по чужим ступенькам и вошел в чужие сенцы. Взял мешок и оружие и, так держа их в обеих руках, пошел прочь по обочине Рязанского шоссе. Шел, все ускоряя шаг, будто боялся, что его могут окликнуть и спросить, а кто он такой и что он делал в этом доме.
– 7 -
Андрей возвращался в часть. Теперь он не только понимал, а болезненно чувствовал, что его родной город изменился. Не просто изменился, он стал похожим на все другие города, как похож на солдата солдат. Военный быт, недавняя близость фронта, ощущение пережитой опасности – все это наложило на облик города свой суровый отпечаток. Но изменились и люди, их лица, их походка. Не было просто гуляющих, торопились на смену, со смены, в магазин или по служебным делам.
Многие встречные тащили в руках или под мышкой дровину, доску или прямо в авоське кусок торфа.
Счастье, что кончилась очередная военная зима и можно вздохнуть свободнее. Но еще холодны апрельские ночи, и нужно подтапливать печку, готовить пищу, да и оставалась забота о будущей зиме. Она хоть и была за горами и до нее еще требовалось дожить, но по возможности сейчас надо было запасаться, собирать по крохам будущее тепло. Холод съедал все живое в человеке, сковывал его душу. Огонь же приносил облегчение, надежду. А как без надежды возможно жить и приближать победу над проклятым врагом?
Андрей подходил к станции, посмотрел на часы. У него были ручные часы, толстые и большие, марки Кировского завода. Ему вручили их как драгоценную награду при выпуске из ремесленного училища. Он был лучший ученик.
Это произошло незадолго до начала войны.
Андрей понял, что не использовал и трех часов из отпущенных ему двадцати четырех. Он уже мог видеть свой эшелон, солдат, сидящих перед вагонами. Живо представил лейтенанта Сергеева, сочувственные лица дружков и старшего сержанта Потапенко, который будет рад его возвращению больше остальных, готовый принять Андрея в свои железные объятия. Но не сержантской хватки боялся Андрей Долгушин. Боялся он расспросов, которые неминуемо будут, а еще больше не хотел сочувствия.
В нерешительности стоял он посреди полотна железной дороги. Неизвестно, сколько бы он колебался, но вдруг засвистела электричка, и он отпрянул назад. С визгом, грохоча колесами, пронеслись мимо Андрея вагоны, подняв кругом пыль. Он не испугался этого неожиданного, невесть откуда взявшегося поезда, а испугался другого: что едва-едва не вернулся обратно. Война есть война, от нее ничего не ждешь приятного. Завтра их отправят дальше. И будет он казнить себя за эти неиспользованные двадцать часов гражданской жизни на родине, которые подарила ему судьба. Что скажут другие – ладно, сам себе будешь говорить: «Вот, Андрей, дурище, был у себя, и ничего не узнал, и ничего не смог увидеть».
Андрей сел на камень и стал переобуваться, уже понимая, как он будет действовать дальше. Он снял сапоги, перемотал портянки, хотел шинель завернуть в скатку, но передумал. Время клонилось к вечеру. Забросил за спину мешок, винтовку повесил так, чтобы было удобно. Теперь он направился в сторону поселка Калинина.
Снова миновал рынок, без любопытства заглянул, чем тут люди промышляют. Какие-то тряпки, консервы, часы, зажигалки. Вынырнул из толпы почти перед баней, которую хорошо помнил. Сюда он ходил с матерью еще маленьким, в женское отделение, а мать таскала с собой тазик с бельем.
От бани Андрей свернул налево и мимо родильного дома (как говорили, тут он родился), мимо банка на углу, пересек центральный Октябрьский проспект и обогнул здание горсовета, высокое, приметное в городе здание с колоннами и красным флагом наверху. Андрей никогда не бывал внутри, но гордился, что в их городе такой красивый горсовет. А за горсоветом уже видать училище, белый многоэтажный Дом, сложенный из силикатного кирпича.
Здесь, в ремесленном, в родной ремеслухе, освоил он профессию токаря. Здесь жил целых два года. Практиковались они на заводе Ухтомского, в баню и в кино их водили строем по центральной улице. И когда они проходили в своих шинелях и форменных фуражках с блестящими буквами «РУ», ребятишки вслед кричали: «Рубли! Рубли!» Что ж, на втором году они зарабатывали первые трудовые свои рубли. Гордились и на это подпитывались, добавляя свой пай к небогатой столовской пище.
Теперь Андрей стоял перед дверью с плакатом наверху: «Мы куем победу над врагом!» Он вдруг решил не заходить, испугавшись, что и тут все переменилось, придется снова переживать знакомое чувство отчуждения и пустоты.
Медленно прошел вдоль окон, опытным ухом уловив ребячьи голоса. У того вон углового окна стояла его койка. Первое время после выпуска, когда жил в заводском общежитии, он часто приходил сюда, никак не мог отвыкнуть от своего училища.
Андрей вздохнул и пошел по направлению к поселку Калинина, где пробыл недолго. Через час он сидел в домике тети Мани, в теплой уютной комнате, с железной печуркой в углу. От этой печурки под потолок тянулась длинная труба.
Тетя Маня обрывком бумаги ловко разожгла в печке огонь, и в трубе загудело, заиграли блики на полу, а печка и нижняя часть трубы стали быстро накаляться. Тетя Маня поставила на горячее железо огромный зеленый эмалированный чайник и ушла в прихожую за картошкой. Андрей смотрел на чайник, на люстру со стеклянными трубочками, свисающими как сосульки, на толстый комод с зеркалом и двумя вазочками по краям, и вспоминал, что это все он когда-то видел или знал. Это были вещи из его довоенных воспоминаний, из почти забытой жизни. Как приятно их встретить! Пожалуй, только железная печка была точной приметой военного времени.
Тетя Маня вернулась с картошкой, объясняя на ходу, что прошлой осенью она накопала целых три мешка, но сейчас все кончилось и осталось немного на посадку. Но тут по радио говорили, что сажать, оказывается, можно не целыми клубнями, а срезами или глазками, остальное же употреблять в пищу.
– Ко времени объяснили, – произнесла тетя Маня с улыбкой. – Я уж на жареную воду перешла.
– На что? – спросил Андрей.
– Жареную воду, я так чай называю.
Тетя Маня сидела перед печкой, но все равно мерзла и куталась в черный большой платок. Было видно, как она худа.
Тут Андрей вспомнил про свой запас, полез в мешок и поставил на стол тушенку, хлеб и сахар. Все, что у него было. Но тетя Маня сразу замахала руками, требуя, чтобы он забрал обратно и немедленно, иначе она рассердится. Она и вправду сердилась, а Андрей уже не знал, как удобнее теперь забрать, потому что и забирать тоже было неудобно.
– Останется, я возьму, – произнес он стесненно. Тетя Маня пристыдила его:
– Нельзя, молодой человек, ходить в гости со своими продуктами. Я понимаю, сейчас война, многие так поступают. Но в нашем доме этого не водится. Как бы скудно мы ни жили, но мы ставим на стол то, что у нас есть. А эти штуки… чтобы с глаз долой.
– Ладно, – сказал Андрей. – Потом заберу. Тетя Маня смягчила тон и стала спрашивать, что он носит в своем мешке, есть ли у него книги?
– Одна книга, – отвечал Андрей.
– Какая?
– Ну… в общем-то она детская…
– Как называется?
Андрей, смущаясь, сказал, что называется она «Волшебные сказки». Тетя Маня охнула от неожиданности и засмеялась.
– Вот как выходит – красноармеец, война… А с собой носит детскую сказку.
– Да, – улыбаясь, кивнул Андрей и почему-то добавил: – У нас ее все бойцы во взводе читают.
– Кто же не любит сказок! – произнесла тетя Маня. – Чем хуже человеку, тем больше он любит сказку. Да в вас еще и детства много. Ну и еще что в мешке? Какие-нибудь носки, белье?
– Портянки, – сказал Андрей.
– А фотографии? Ведь фотографии-то должны быть?
– Нет их у меня, откуда…
Тетя Маня посмотрела на Андрея задумчиво, полезла в комод, в нижний ящик, извлекла старый альбом в голубом плюше. Листы в альбоме были серовато-глянцевые, с овальными щелями в три ряда: для карточек разных размеров. Тетя Маня открыла первую страницу и показала своих родителей и портрет бабки. А потом и себя, молодую, такую непохожую на сегодняшнюю тетю Маню, что Андрей без подсказки не догадался бы. Далее шли фотографии родных и знакомых и дочки Ольги.
Ольгу бы он тоже не узнал. Он помнил ее маленькой, с бантом, помнил, как ей кричали: «О-ля! На музыку-у!» Здесь, на фотографии, стояла девушка с белой косой, в руках цветы. Она откинула голову, не в силах сдержать свой смех.
Андрей задержался и почему-то долго смотрел на нее, и тетя Маня смотрела.
– Это в день рождения… Сколько же ей тут? Пятнадцать? Ну да, перед войной, пятнадцать лет. Прибегает она, веселая, хохочет, что-то ее развеселило. У меня в это время сосед был Петр Николаевич, он фотограф-любитель, жил напротив нас. Он говорит: «Станьте-ка, Оленька, я вас такой увековечу». Любил он ее сильно, а своей семьи у него не было. Ну, он свой «Кодак» развернул гармошкой и снял ее. А потом приносит карточки и рассказывает, что, пока снимок делал, все смотрел и улыбался…
– А сейчас? – спросил Андрей. – Сейчас она где?
– Как где? – тоже спросила тетя Маня. – Как все, на фронте. Она у меня, Андрюша, фронтовая артистка.
– Поет? Играет? – спросил Андрей и снова посмотрел на фотографию. Действительно, веселая фотография.
– Оленька играет на аккордеоне, – ответила тетя Маня и провела ладонью по фотографии. – Ей бойцы трофейный аккордеон подарили, «Хоннер» называется. Он легкий, ей удобно играть. А то ведь концертов много, а руки женские, попробуйте весь день продержать инструмент…
– Я помню, как ее учили музыке, – сказал Андрей. Тетя Маня взяла нож и ткнула острием в картошку, не сварилась ли. Отставила чайник и подложила в печурку несколько палок.
– Их там на бомбовозе катают, – сказала, разгибаясь. – Прямо на крыле самолета выступают. Где тяжелые бои, туда их и везут. Вот последнее письмо она с Кавказа написала. Городов она не называет, пишет, что кругом горы и горы. Нетрудно догадаться.
– Нас, наверное, на юг повезут, – вставил Андрей.
– Ох, война везде одна, – молвила тетя Маня. – Тут в Москве мы тоже пережили. Вот наш Петр Николаевич, фотограф-то, он ушел как с ополченцами и погиб, и могила неизвестно где… А он винтовку-то не держал в руках никогда, он садовод-мичуринец, у него вишни и яблоки были хороши. А сейчас дом забит, сад пропал и хозяина нет. Вот какая война, Андрюшенька.
– 8 -
Картошка поспела, а квартирантов все не было. Тетя Маня взглядывала на часы и произносила: «Да они сейчас будут, подойдут». Когда перестали ждать и решили садиться ужинать, в сенцах затопали и в дверях появился мужчина в военной форме капитана. Андрей встал, поприветствовал. Прихрамывая, капитан подошел к Андрею вплотную, рассматривая его, а тетя Маня сказала:
– Олег Иваныч, знакомьтесь, наш сосед Андрюша, проездом на фронт… Мужчина подал руку:
– Да садитесь, чего вы…
В это время на пороге встала женщина, и тетя Маня также представила ее:
– Это наша Муся… Уж мы заждались, хотели без вас ужинать. Муся не подошла к Андрею, а кивнула издалека и стала раздеваться.
– Муська! – крикнул Олег Иванович, тяжело садясь на стул. – Помоги Марине Алексеевне! Достань продукты, и вообще…
– Сейчас, – отвечала она глухо. В минуту у всех на глазах привела себя в порядок, подобрала волосы и кинулась по делам.
Женщины суетились, ставили на стол тарелки, а Олег Иванович отдыхал, откинувшись на стуле и поглядывая на Андрея. Лицо у него было широкое, асимметричное, небольшие рыжие усы.
– Так вот, Андрей, – произнес он, будто знал его давно и продолжал прерванный накануне разговор. – Боец, солдат у нас самый первый гость. Значит, на фронт?
– На фронт, – отвечал Андрей.
– Вишь как, я уже отвоевался. Интендантом служу. Ногу оставил под Великими Луками, с тех пор по тылам и служу, и Муська со мной служит.
Андрей кивал, не зная как отвечать и вообще как вести себя с капитаном. Он вроде и был старше по чину, но вел себя по-домашнему, как штатский человек, – Небось и пороха не нюхал, – спросил Олег Иванович.
– Пока нет, товарищ капитан.
– Брось ты… Капитан… Мы тут дома. – Он крикнул жене: – Рюмки, рюмки не забудь!
Тетя Маня принесла картошку, а Муся подала американскую колбасу в овальной консервной банке и хлеб.
Теперь Андрей увидел близко белые ее руки, худые плечи, худую, тонкую, как у девочки, шею и бледноватое лицо. С удивлением рассматривал он женщину, она почувствовала его взгляд, быстро посмотрела и отвернулась. Олег Иванович принес из другой комнаты бутылку водки и громко поставил посреди стола.
– Встреча да провожание, одна бутылка на два таких события – не так много.
Он стал разливать водку по рюмкам. Это были даже не рюмки, а высокие тонкостенные бокалы, видать, довоенной поры. Но остановился, прислушиваясь, и вдруг крикнул:
– Тише! Последние известия передают.
Черная тарелка-репродуктор, которую Андрей поперву и не заметил на стене, зашуршала, затрещала, и сквозь этот треск пробился, как издалека, знакомый голос диктора: «От Советского информбюро…». Олег Иванович так и замер с бутылкой, выжидающе глядя на радио. И тетя Маня подошла, встала под самый круг, чтобы лучше слышать. И быстрая Муся остановилась, тихо, на цыпочках приблизилась и встала за спиной у тети Мани. Все, что было живого в доме, даже огонь в печурке, казалось, стихло, насторожилось и тревожно ждало.
«В течение последних суток, – говорил ровно диктор, – по всему фронту шли бои местного значения. В результате боев было истреблено и захвачено…» – Упорные, – произнесла тетя Маня, не поднимая головы.
– Местного значения, – вслед за ней сказал Олег Иванович. – Значит, все спокойно. Спокойно, Марина Алексеевна.
– Конечно, спокойно, – добавила Муся.
– О господи, как может быть там совсем спокойно? На фронте-то? – спросила тетя Маня.
– Ну, не совсем, а относительно…
– И почему же так много «истреблено» и «захвачено», если спокойно?
Олег Иванович воскликнул:
– Но ведь хорошо, Марина Алексеевна! Значит, они сдаются, значит, потеряли веру в свою победу. А мы, наоборот, верим, как никогда. Вот за это и выпьем… – Не вставая, Олег Иванович сказал: – За победу! – и выпил. Потом снова себе налил, поднялся, чокнулся с Андреем, глядя на него. Все встали, и Андрей увидел общее к себе внимание, глаза, устремленные на него, как будто грядущая победа сейчас только от него и зависела.
Тетя Маня пригубила и тут же вытерла губы. Муся выпила легко, как воду, и с любопытством уставилась на Андрея, ей было интересно, как он станет пить. А он чувствовал ее испытующий взгляд, медлил, смущаясь. Потом разом опрокинул в себя горячую жидкость, задохнулся, не смог дышать. Быстро схватил картофелину, но и она оказалась горячей, он поперхнулся.
Муся громко засмеялась, заблестели белые ровные зубы, а тетя Маня весело стукнула Андрея по спине, сказала с укоризной:
– Ишь, ядовитая, не пошла!
– Пойдет! Потечет, как по маслу, – добродушно успокоил капитан Олег Иванович и снова налил себе и Андрею. Подумал и немного добавил Мусе.
Андрей опомниться не успел, как опять выпили, и оно решительно сейчас пошло. Только в животе изнутри толкнуло, зажгло и теплом понеслось по жилам. Он удивленно посмотрел на рюмку и вокруг себя. Разговор зашел обычный, как и должен быть, о войне, о Гитлере-душегубце, который живет небось в бункере под землей, закопался поглубже и дрожит, знает, что ждет его за все людские муки. Вспоминали, кто где воюет, кто погиб, а кто пишет с фронта письма и какие в них слова.
Тетя Маня так и не одолела первой рюмки, но еще сильней побледнела, почти пожелтела, по лицу пошли красные пятна. Она принесла письма от Оли и стала читать их вслух. Девушка писала, что сейчас у них затишье и давно такого затишья не было. Они отдыхают, готовятся, скоро будут новые и, наверное, ужасно сильные бои. «Мамочка, не волнуйся, у меня все хорошо. Все хорошо». Эти слова она повторяла несколько раз. А может быть, так прочитала тетя Маня.
Капитан Олег Иванович поднял тост за героических воинов Красной Армии, за Олю, комсомолку, которую он не видел, но представляет как замечательную и отважную девушку, за Андрея, хорошего бойца… Снова все встали, потому что говорилось очень серьезно, почти торжественно. А тетя Маня вдруг запела хрипловато: «Выпьем за Родину нашу привольную, выпьем за доблестный труд!»Ей захлопали, а она махом выпила то, что оставалось в рюмке, и заплакала почему-то. Так плачут от хорошей радости, что у нее в доме такие собрались славные люди, героические воины, как сказал капитан, и она надеется дожить до великого дня победы, когда и на нашей улице будет, как предсказано, праздник. Вот тогда и помереть не грешно, а сейчас главный приказ – это выжить и победить.
– После победы тем более жить надо, – негромко произнес Андрей.
Тетя Маня благодарно посмотрела на него, слезы ее быстро прошли. Она придвинула стул к Андрею и стала рассказывать, как она работает учительницей и они ходили холодной осенью в позапрошлом году рыть противотанковые рвы… Ох, Андрюша, что наша работа, – мы уставали так, что падали от усталости, но еще больше мы страшились, что не остановим врага…
Неожиданно, но какая приятная была эта неожиданность, зашипел за спиной патефон и заиграла музыка, разбитной веселый мотивчик, знакомый с давних пор. Тетя Маня закрыла глаза и стала подпевать. А Муся схватила руку сидящего Андрея и, смеясь, потащила его на середину комнаты.
Андрей встал, оглянувшись, никто не обращал на них внимания. Тетя Маня сидела, покачиваясь и прикрыв ладонью глаза, а капитан рылся в пластинках, что-то искал.
Андрей как можно осторожнее, стараясь не приближаться, взял Мусины руки, сделал несколько шагов, сразу замечая, как быстро пошли кружиться вокруг стены. Все понеслось: тихо сидящая тетя Маня и капитан Олег Иванович, накручивающий патефон как шарманку и пристукивающий в такт деревянной ногой: «Саша, ты помнишь наши встречи, в приморском парке на берегу…». Издалека, как из небытия, приходили к Андрею знакомые слова, их тайное тайных, повествующее о чем-то смутном, необъяснимо волшебном, которого не было в жизни Андрея, как не успело быть настоящих танцев, настоящих девушек и моря с приморским парком на берегу. Но рядом была Муся, тонкая, гибкая, странная женщина с худыми плечами и детской шеей. Он не мог не чувствовать ее, как сильней и сильней кружилась, заставляя крепче держать ее плечи. В какой-то момент она приникла к нему вся, и было это ужасно, как землетрясение, как удар от воздушной волны. Одно мгновение, но он почувствовал и запомнил все: твердую грудь, горячий живот и будто прилипающие колени… И хоть он тут же отстранился, напрягаясь и желая соблюсти пространство между ними, но Муся увлекала его по комнате, заставляя быть ближе и ближе. Он увидел вдруг ее глаза, широко открытые, огромные, отчаянные, и, отпустив руки, споткнулся… Встал посреди комнаты, пытаясь что-то сообразить, прийти в себя и опомниться. Не удержался, вцепился в спинку стула.
Услышал, как капитан Олег Иванович орал издалека:
– Муська, дьявол! Что ты делаешь с парнем! Гляди, – мозги закружила!
Тут Андрей попытался сесть, но не вышло, как он думал, на стул, а почему-то мимо стула, и, падая, он слышал, удивленный, как задумчиво, тепло обращалась к нему женщина с пластинки: «Саша, ты помнишь легкий вечер, каштан в цвету…» Захотелось подпевать, но к горлу подступила сильная тошнота. Он поднялся и пошел к двери, вывалился на крыльцо. Долго, бессмысленно смотрел на темное небо, желая что-то вспомнить. Но все продолжало кружиться, и ласковая женщина с пластинки орала ему на уши, и было ему плохо.
– 9 -
Ему снилось короткое, отрывочное, но спокойное. Ни разу во сне он не понервничал, не напрягся. Но запомнил он только последнее, что привиделось перед самым пробуждением. Ехали в эшелоне, он был со своим взводом, но и с тетей Маней, с капитаном Олегом Ивановичем и с Мусей… Сидели на краю вагона, свесив ноги, их приятно обдувало ветерком. А день был сверкающий, небо да солнце да какие-то поля, Андрей не видел, что росло на этих быстро мелькающих полях, но оттого что глядеть на них было приятно, а все казались великодушно настроенными, Андрей знал достоверно, что едут не на фронт. Да никакого фронта и нет.
Тут мягко тронули Андрея за плечо, и он сгоряча решил, что боец Воробьев опустил сзади руку в знак молчаливой солдатской дружбы. Но уже в следующее мгновение ясно ощутил, что это не была рука Воробьева, легкая, непривычная, перебивающая весь его складный сон.
Андрей напрягся, желая вспомнить нечто прояснившее бы картину. Все было так, как было: состав, край вагона и земля, идущая кругом перед глазами, но почему-то была и эта рука, касающаяся его шеи, подбородка и щеки.
Он проснулся мгновенно. Увидел чужие обои передглазами и сразу – эту руку, белую, узкую, с длинными пальцами. Он следил за ней глазами, не шевелясь, будто опасаясь ее спугнуть, как прекрасную бабочку, настороженно и внимательно, но уже явно волнуясь, сам не зная отчего. Это не было мужское, а скорее детское чувствосчастливого пробуждения и радостного предчувствия необычного, не похожего ни на что утра. С таким ощущением и с таким же выражением лица он повернулся, увидел Мусю, сидящую у его постели. Как она смотрела на него!
– Что? – спросил он, голос его прозвучал хрипло. Сейчас только он вспомнил вчерашний вечер и танец: немыслимое кружение предметов. У него вдруг снова поплыло перед глазами, и он закрыл их, представив, как он стоял, мучаясь, пытаясь стошнить на землю… Как раздался по крыльцу деревянный стук капитана Олега Ивановича, вышла и тетя Маня. Взяли под руки, отвели к постели и стали снимать гимнастерку, сапоги… А он уже повалился в мягкое, беспамятно спал.
Ему сейчас не хотелось смотреть на Мусю; он вылеживал с закрытыми глазами, притворяясь спящим. Было за вчерашнее стыдно.
– Проснуулся, – произнесла Муся шепотом и врастяжку. Она произнесла так, как будто знала его всю жизнь, и всю жизнь, каждое утро, встречала его пробуждение, и радовалась, и немного, совсем немного, упрекала его в долгом сне. Она протянула руку и снова прикоснулась к его щеке, а он вдруг отстранился, чего-то испугавшись.
Она не могла не заметить этого движения, но не убрала руки, ласково обволакивая словами:
– Проснулся, милый, как хорошо ты спал. Тихо спал, как ангел все равно.
Теперь Андрей вспомнил и остальное: пластинку, танец и прикосновение этой женщины, ее грудь, живот. Стало ему больно и горячо. Все тело вдруг заломило, Андрей даже глаза закрыл, переживая это никогда не испытанное сильное мужское чувство. Оно было мучительным и сладким и стыдным одновременно. И Муся это видела, видела. Но бесстыдно смотрела и руками, от которых теперь бросало в дрожь, перебирала по его телу, соскальзывая на грудь и на живот, каждым своим движением принося новую, все так же неиспытанную блаженную муку. Текли ее слова, будто ничего не значащие, но было в них то же, что и в руках. Никогда не слышанные, оттого неправдопободные, эти слова возбуждали его еще больше рук. Они были стыдней, потому что произносились, глядя прямо на него, откровенно, ласково, жадно.
– Милый, – произнесла она шепотом и нараспев. – Милый, молодой мой… Такой молодой, хороший мой мальчик…
Так, не отпуская руки, она прилегла рядом, на то одеяло, под которым лежал Андрей. Он повернулся, скидывая одеяло, словно связывавшие его путы, сбрасывая его на пол. Судорожно и неумело он обхватил ее руками, сжимая изо всех сил, сотрясаясь и всхлипывая. Плохо понимая, что с ним происходит, он обнимал, мучил ее сильными руками и больше ничего не умел сделать. А она вовсе не старалась помочь ему, только целовала его куда попадется, в грудь, в плечо. Еще эти странные, будто рабские, поцелуи доводили его до безумия.
Она поняла и сжалилась, и стало хорошо. Он ничего не слышал, ничего уже не знал. Лежал как оглохший, будто не понимая, что произошло.
Некоторое время они лежали вместе. Он молчал, пришибленно и недоуменно. Она о чем-то думала, глядя на него. Умиротворенная и чужая, совершенно чужая, встала легко и уже сверху посмотрела на него с любопытством. Она не пыталась сейчас касаться его руками, зная, наверное, что будет ему не просто неприятно, а ужасно будет и противно.
– Ми-илый… Какой ты милый! – произнесла, неожиданно наклонилась, поцеловала его в губы. Он вздрогнул.
То, что он видел стоящую перед собой обнаженную женщину так близко, так подробно, поразило Андрея не меньше, чем то, что между ними произошло. Значит, возможно так, что они только соприкоснулись, но уже нет ничего, что бы их разделяло, нет никаких условностей, а все уже открыто и все доверено друг другу? Женщина стоит перед ним, какую невозможно было представить раньше, и он, стыдясь своего взгляда, смотрит на ее остренькие груди, на чуть припухший узкий живот и белую, какую-то особенно нежную кожу с пупырышками от холода на ее коленях. Колени были на уровне его глаз.
Он отвернулся и вдруг почувствовал, неожиданно для себя, что он снова желает эту женщину, вот сейчас, сию минуту, так же сильно, нет, еще сильнее, чем в первый раз.
А она, уже озабоченная, занятая собой, надевала странные, никогда не виданные им одежды и лифчик, попросила, поворачиваясь к нему спиной и приседая: «Вот здесь застегни. Да нет, не так. Ладно, я сама».
Побежала что-то греть, собирала быстро на стол. Он лежал, прослеживая каждое ее движение, и то надежда, то радость и почти восхищение попеременно возникали и гасли в нем. Он уже знал, что она к нему подойдет, обязательно подойдет, и караулил эту минуту. Она будто услыхала его, оглянулась, все бросив, подошла:
– Милый… Милый, уже пора. Вставай, дружочек. Вставай, милый.
Он приподнялся, взяв ее за плечи, пригибая к себе. Но выходило как-то неудобно, потому что она наклонялась, но не хотела присесть или прилечь, а стояла наклонившись и пережидая его поцелуи. Потом легко освободилась от его рук, произнесла со вздохом:
– Все, милый, мне надо идти. Вставай, мы вместе позавтракаем.
Через десять минут они сидели друг против друга, пили чай. Андрей будто следил исподтишка за ней и думал, думал. Странные мысли были у него. Стесненно произнес:
– А где… где сейчас товарищ капитан?
– Он выходит раньше меня, – сказала Муся, – Марина Алексеевна в школе преподает, разве ты не знал?
Андрей помотал головой и взялся двумя руками за горячий стакан, все наблюдая за Мусей, как она спокойно, с видимым удовольствием завтракает, иногда поглядывая на часы. «Вот так, – подумалось ему, – все так и будет. Словно ничего не произошло. А чем дальше, тем проще. Сейчас она придет на работу, станет разговаривать с другими людьми, потом встретится с капитаном… Как это возможно?»Он чуть ли не вслух, а может быть, вслух – он не уследил за собой – повторил несколько раз: «Как это возможно? Жить дальше, делая вид, что ничего не произошло?» Муся вдруг отложила хлеб и, подперев ладонью щеку, глядя прямо в глаза Андрею, спросила:
– Я у тебя первая?
Он поперхнулся, закашлялся. Но и без того было видно, что он покраснел, совсем еще мальчишка.
– Переживаешь? – Она протянула руку, но Андрей отстранился, и вышло, что она погладила рукав. – Не надо, милый, не переживай. Я не виновата перед Олегом. Он был контужен в белофинскую, так что он и не мужчина вовсе.
Это она сказала ровно, но глядела на Андрея, и было в ее взгляде то, чего не было в словах и даже в интонации, – страшная пустота и горечь. След давней трагедии, как дно высохшего родника.
Он неожиданно спросил:
– У тебя еще было?
– Как? – Она посмотрела на него широко открытыми глазами. – Как было?
– Другие… – он произнес, как подавился, едва-едва.
– Мужчины? Кроме мужа? Ты это хотел спросить? Андрей кивнул. Ему было жалко ее. Она помолчала, кивнула. Потом вдруг зажмурилась, но еще прикрыла ладонью глаза.
– Как же я? Ведь живая. Может, я плохая, да уж точно, не хорошая. Тут книгу Ванды Василевской все читали, про немцев… А там русская девушка с фашистом жила. Ее тоже Муся… А я чуть не расплакалась. Все думала, неужели мое имя такое, что я нехорошая. Ведь муж и война. А я не умею себя держать. Совсем я не умею себя держать. Вот, думаю, молодость, и все. Кончится война, а я старуха. Но что делать? Что делать?
У Андрея горло перехватило от жалости. Ноздри задергались, он почувствовал, как защемило в уголках глаз. Сам не понимая как вышло, он руку протянул и провел по волосам, ощутив, какие мягкие, ласковые у нее пряди. Никогда он не трогал женских волос. Наклоняясь к ней, стал целовать ее лицо и прикрывавшие его ладони, ощущал на губах теплые и странно соленые слезы. А она плакала и плакала. Наверное, его, Андрея, и не было в этих слезах. Плакала она о себе и для себя. Но вдруг перестала, взглянула на часы и засуетилась, начала одеваться.
– Ох, опаздываю. Сейчас строго. За двадцать минут судят.
Он смотрел на нее и снова поражался таким переходам в ее действиях, как и в ее чувствах. Старая мысль повторилась, что она придет на работу, будет жить среди других людей, рядом с мужем, и все станет так, как было до Андрея. А он… Он будто бы и не ее уже, ничей вообще. Она там, а он где-то в другом месте. Черт, как это возможно? Неужели это возможно? А если возможно, то почему? Почему?
Она подошла к зеркалу и стала .краситься, пудриться, он отвернулся. Не хотелось смотреть, как она портит себя. Но вот она легко подошла к нему и уже не поцеловала, а только прислонилась к нему щекой.
– Ты сегодня будешь? Или – все?
– Не знаю, – отвечал он. Он вправду не знал, не думал об этом. Но даже если бы он имел возможность к ним снова прийти, как бы он смог прийти и встретиться с капитаном? Как с ним разговаривать станет, как посмотрит в глаза?
Но Андрей вдруг понял, что сейчас нельзя сказать правду, а нужно соврать. Может, впервые в жизни соврать, даже если она поймет, что это – вранье. Он не имел права лишать эту теперь уже близкую женщину надежды. Так странно ему было думать и называть ее про себя близкой женщиной. Он знал точно, что не забудет ее целую свою жизнь, как бы она, эта жизнь, ни сложилась. Да и вообще, с сегодняшнего дня все для него не могло быть, как прежде. Это их различало и разделяло. Она могла жить, как жила, а он уже не мог.
– Если не дождешься Марины Алексеевны, прикрой дверь на замок, он в сенях, – торопливо произнесла Муся, но уже шла к двери, и все в ее походке, в ее движениях было чужим. – Ключ положишь под половичок у входа. Ну, – она остановилась и мгновение, не больше, смотрела на него. – До свидания, милый.
– До свидания, – сказал он.
– 10 -
Андрей прошел город как по воздуху, ничто не коснулось его. Он и не глядел по сторонам, сосредоточившись на себе, на только что пережитом. За короткое время, меньше суток, он испытал приливы и отливы, находки и потери, все это не могло не потрясти его душу.
Он думал: «Отчего так устроено, что человек, встретив другого человека, не может его любить и встречаться. Ведь это так естественно – делать и поступать По своим чувствам, а не так, как велят условности». Он всю жизнь свою, короткую, но вовсе не легкую, учился жить по правде, этому его учили дома, в ремесленном училище, в армии… Но ведь если поступать по правде, то не капитан Олег Иванович, а он, Андрей, оказывался мужем той женщины. Значит, легче всего было бы сказать ей: «Давай поженимся, если ты меня любишь, если я тебе нравлюсь».
Тут Андрей остановился, будто налетел на невидимую стенку. Сейчас только он осознал, что никто не говорил ему о любви и никто не говорил, что он нравится. Не было этого. А что же тогда было? Любовь без любви? Вот уж неправда. Он любил, он знал это. Но, может, то, что ему стало понятным как любовь, как супружеское чувство, для нее вовсе не было таковым? А только как случайная встреча, как необходимая короткая связь, за которой не следует ничего?
Странные были мысли, что-то они разрушали внутри Андрея, низводили его с небес на землю. Словно бы он нес сверкающее, как зеркало, а какая-то машина с хрустом наехала и давила, превращая нечто большое и прекрасное в грязное стекло…
Но хоть был он солдат, но еще молод, чтобы до конца поверить самому себе.
Андрей постарался отмежеваться от оскорбительных, невозможных для него понятий, а думать иначе и лучше. Кто он, в конце концов? Проезжий солдат, который сегодня сядет в свой эшелон и уедет на фронт. Что он может предложить любимой женщине кроме своего чувства и долготерпеливого ожидания с фронта, треугольников с короткими сводками о себе да надежду на неопределенное будущее? В общем-то немного. Если еще учесть, что она старше его. Ее годы идут, уж это точно, а рядом тыловые мужчины, и офицерские пайки, и семья, какой бы она ни была.
Что значит их любовь в сопоставлении с тем, что преподносит им жизнь? Не это ли могла, но не сказала Муся в своей отчаянной реплике о молодости? Не сказала, но была права. Права, что думала так, а не иначе, и права, что не сказала, оберегая Андрея? Вот к чему он пришел в своих мыслях, затушевав ту очевидность, которая ему так ясно представилась вначале.
Он смог почти убедить себя, но боль его не прошла. Он принял лекарства, но душа еще не излечилась, для этого надо было время.
Ему необходимо было двигаться, идти куда-то, чтобы в ходьбе, в каких-то сверхусилиях, заглушить самого себя.
Об эшелоне он не вспоминал. Эшелон был вчера и будет сегодня. В подпамяти солдата четко отмерялось отпущенное ему время, и он чувствовал, что его хватает. Другое дело, что между двумя эшелонами, вчерашним и сегодняшним, произошло столько иного, разного, несоразмеримого со всей его еще маловоенной жизнью, что, казалось Андрею, он сам, как и вчерашний его эшелон, в который он вернется, все, все будет иным. Миновал он крошечный поселок и углубился в лесок, который показался ему коротким, но между тем все тянулся, полого спускаясь вниз и переходя в плоское болотце.
Отчего-то раздражаясь против себя и против этого леска и этого болотца, Андрей тем не менее продолжал идти, желая сделать себе больней и этим заглушить внутреннюю боль, которая исподволь жгла и сжигала его, а могла испепелить и вовсе. Настолько очевидным становилось теперь и для него все, что произошло с Мусей.
С каким-то непонятным ожесточением ступал он в густую осоку, проваливаясь в черный торф, и уже видел, что вода вот-вот будет заливать за голенища, но мысли при этом были отрешенно холодные, как про кого-то другого, дурацкий лес, дурацкое болото. Но так и надо. Промокни. Дурак такой…
Только когда правая нога вдруг погрузилась в темную пузырчатую жижу и не нашла дна, он с очевидной ясностью подумал: «Вот. Залез, называется, дурак такой. А все из-за своего характера».
Он попытался с ходу вытянуть ногу, но увяз еще больше, проклиная эту глупую лужу, которая взялась неведомо откуда в этом глупом лесу. Но даже сейчас, в неприятную минуту, он был подсознательно рад неожиданному приключению, потому что оно помогло снять ноющую занозу.
С недоумением оглянулся, пытаясь сообразить, как ухитрился он забраться сюда. Теперь он и болотце вспомнил, как же! Оно еще в недавнее время было старым, заброшенным карьером, где брали песок для посудной фабрики в незапамятные времена, а потом забросили, и ребятишки, не имея поблизости хорошей реки, в том числе и Андрей, любили сюда ходить купаться. Говорили, что глубина тут пятьдесят, а может, и все сто метров. А рядышком, вон он, дачный поселок, за соснами, и домики, и остатки заборов.
Он цеплялся судорожно за траву, лез, полз, пораня об осоку руки, желая скорей избавиться от гнилой трясины. Едва не захлебнулся, хватив тинной воды… Выбрался, шагнул сквозь сосны к поселку и вдруг не захотел больше никуда идти. Он бросил на землю шинель, положил рядом винтовку, вещмешок и лег, закрыв глаза.
Заснул он мгновенно, будто умер, и спал, ничего не чувствуя. Было вначале какое-то ощущение потери, невозможной и неисправимой, но потом и оно отошло, исчезло бесследно. Остался только холод, несильный, тупой, пониже лопатки в спине.
Холод этот шел от земли, от ее нутра, которого не тронули первые лучи солнца. Земля закостенела, застыла за долгую военную зиму, и много, очень много настоящего тепла надо было ей, чтобы вся эта глыба льда начала оттаивать, и задышала, и ожила.
Андрей проснулся, почувствовав через шинель этот глубинный холод и странную пустоту вокруг себя. Протянул руку, не открывая глаз, желая тронуть деревянный приклад винтовки, нащупал он только траву. Словно кольнуло его иглой в самую середину сердца. Он подскочил, не помня себя, озираясь со страхом вокруг, веря еще, что ему померещилось с испугу, со сна, а винтовка тут, положена с другого бока.
Но не было ничего с другого бока, не было в ногах, не было около головы…
Еще не сознавая ужаса совершившегося, шарил он руками под шинелью, под забором, раздвигал сухой бурьян. Полез в карманы – не было ни документов, ни денег.
Он поднялся, оглядываясь недоуменно, никак не желая понимать, что не стало оружия и вещей. «Боже мой, боже мой», – повторял он про себя, все на что-то надеясь, ему лучше было бы думать, что он спит. Да и состояние, как во сне, невесомо-отчужденное, словно это не он и творилось вокруг не с ним, а с другим человеком. Вот сейчас все переменится, перевернется, как в сказочной, любимой им книге, и настанет легкое пробуждение.
Андрей провел рукой по лицу. Вдруг он отчетливо понял, что произошло. Не про кражу, не про потерю всего, что с ним было. Нет! Он так очевидно смог представить себя без своих бумаг, без вещей, но главное – без оружия. Кто же он теперь, в таком виде? Голый, выставленный посреди улицы, в чужом городе, в чужой толпе?
Клик раненого зверя пронесся по лесу, так ему показалось. На самом деле он лишь застонал, охватив голову руками и покачиваясь из стороны в сторону. Яростная сумасшедшая сила подкинула его с места и швырнула в лес. Он закружил, ничего не видя, не понимая, будто слепой. Но он и был как слепой: великан-циклоп с выколотым во сне глазом, В отчаянии налетел и сильно ударился о корявый ствол сосны, но даже не почувствовал боли. Руками ухватился за ее кору, отламывая рыхлые, податливые куски и отбрасывая их в сторону…
…Крошат землю снаряды, взбивая фонтаны земли. Плотное облако гари, пыли, мелких камушков оседает на окоп, на солдатскую каску. Тело твое вжато в узкую земляную щель, голова в тело, а сверху, как убежище, как панацея от всех бед, эта самая каска, с которой горькая сажа и пыль сыплются на лицо, забивая рот и глаза.
В исподне-черной, развороченной снарядами утробе неба (а черт его знает, небо это или что-то другое!) вспыхивает сигнальная ракета. Багряное пятно в дымной завесе. Ничего не освещая, как бы сама по себе, она висит и не гаснет, требуя, призывая тебя к атаке.
Медленно, не спуская слезящихся глаз, запорошенных глаз с этого пятна, руками оперся на край окопа, чувствуя, как острая колючка впивается в ладонь, но даже ее принимая как благо, ибо она лишь колючка, напоминающая тебе о малой боли, а значит, о том, что ты еще живой. Правая нога на бруствер, на колено, а ты уже на виду, открытый для всех пуль, и бомб, и снарядов, которые нацелены теперь только на тебя. Винтовка приросла к руке, хоть ты и не чувствуешь до поры ее прекрасной спасительной тяжести.
С головой, одновременно пригнутой, но вывернутой чуть в сторону, чтобы из-под каски видеть солдат по отделению, по взводу, а еще и то, что впереди, хотя впереди ничего и нет, темная завеса да бурое пятно ракеты – остаточный след на сетчатке глаза, – на полуватных согнутых ногах твой первый шаг от окопа, как первый шаг в жизни… Чтобы только не упасть. Но за ним второй шаг по инерции и третий, лишь он настоящий, осознанный – вперед. А из гортани, а может быть, из печени или из всех твоих внутренностей сразу, от внутренностей и от костей изошел странный клик, одинокий, сливающийся, хоть этого ты слышать не можешь, с другими такими же одинокими голосами: «У-у-у! А-а-а!»Звук утробный, пришедший от нашего рождения. Не случайно ли он прорывается так первично в этот последний смертный час?
И весь твой яростный, охвативший тебя порыв до бесчувствия, до отрешенности, до счастливого осознания собственного бессмертия нацелен туда, вперед, в неизвестность, к единственной желаемой цели в жизни. Ибо без нее, ее достижения никакой больше жизни и нет.
Не будет у Андрея Долгушина первой и главной в его жизни атаки. Захлебнулась она до того, как началась. Один он в лесу, никому не нужный, даже этим деревьям с теплой корой, у которых свой, единственный, но такой естественный путь в жизни. Вот что он сейчас понял.
Он не смог стоять, опустился на землю. Холод, пришедший к нему во время сна, распространился по всему телу, сковал его насмерть. Он не мог двинуться, даже произнести слово, так страшно ему стало.
Сидел, бессмысленно глядя в землю, ни о чем он не думал. Проходили минуты, а может, часы, он этого не понимал. Все, что он мог бы сделать: бежать, кричать или даже заплакать, – ушло в эту бессмысленную неподвижность. Он как умер. Еще мгновения отделяли его от пробуждения, но он уже не был тем человеком, который, проснувшись, провел рукой по голой траве, там, где должно лежать оружие.
Все в нем омертвело с тех давних пор, и сам он успел прожить вечность и состариться.
Где-то по тропинке проходили люди, слышались голоса – ничто не касалось его. Люди жили совсем в другом мире, а там, где жил сейчас он, была мертвая пустыня. Голоса почему-то мешали ему, и не были нужны в той жизни, которую теперь он вел. И он встал, пошел, пока не почувствовал, что ноги плохо его слушаются. Тогда он сел, снял сапоги. Поставил их рядком, как ставил в казарме перед отбоем. Хотел навертеть на голенища портянки, но не смог, бросил их рядом.
Он смотрел на сапоги, и простая мысль, первая, реальная, пришла в голову, что сапоги так снимают перед концом. Он даже вздрогнул, когда понял, о чем он думает, посмотрел вокруг. Он сидел в лесу, а по тропе мимо него бежал мальчик.
Андрей смотрел на него так же, как на все остальное. Но странно, что мальчик оглянулся, они встретились глазами. Вот тогда Андрей, не желая ничего и ни о чем не думая, произнес:
– Эй, пацан!
Все вышло помимо Андрея. Он уже забыл про мальчика, если бы тот пошел дальше, Андрей о нем и не вспомнил бы. Но мальчик стоял и ждал. Чего это онждал?
– Тебя, тебя. Пойди сюда, – сказал Андрей, опять сам себе удивляясь. Никаких мыслей и никаких слов в нем не было. Единственная четкая мысль о сапогах никак не могла быть связана с мальчиком. Вот это он знал. Они оба молчали, и оба не были нужны друг другу. Андрей все пытался зацепиться мыслью за сапоги и продолжить, а оно будто не имело продолжения, а заканчивалось на слове «конец». Несколько раз повторил Андрей про себя, отыскивая тот первоначальный смысл, который его озарил. Поднял глаза и удивился, что мальчик еще здесь, что он стоит перед ним.
Где-то отдаленно, как чужой, прозвучал собственный голос:
– Ну? Подойди! Ты что, местный? Тут и живешь?
– А где мне еще жить? – спросил мальчик. – Вон, в детдоме живу.
Андрей поморщился при слове «живу». Мальчик вот живет, а что делает он, Андрей? А он уже не живет? А что же он тогда делает?
Андрей оглянулся, вздохнул. Это был его первый вздох, но он не касался Андрея, а тем более мальчика. Вздох остался от тех невероятно дальних времен, когда Андрей тоже жил. Ходил по городу, гостил, любил, спал… И все было потому, что при нем как часть его самого существовало его оружие. Это оружие хоть и носилось снаружи, но было как ядро в Андреевой жизни – изыми, и останется одна оболочка. Без оружия и без документов его отдадут в трибунал и будут судить по законам военного времени. Но разве об этом речь?
Андрея лишили всего, что он имел: имени и фамилии, так как пропали документы; лишили вещей, которых не может не иметь любой человек, если он надеется жить; взяли оружие, которое ему доверили для борьбы с врагом. Кто же он остался после этого? Мертвое тело, которое еще могло произносить слова, но уже ни для кого ничего не значило? И для самого Андрея не значило – вот что главное.
– Понимаешь, все украли… Оружие вот… Да, да.., Оружие украли.
Он и дальше что-то говорил, хотя мог и не говорить. Слова сейчас, а особенно его слова, ничего не значили. Зачем он говорит? Зачем этот мальчик и что мальчику от него надо?
Андрей впервые рассмотрел его: штанишки, и куртку, и галоши на ногах, подвязанные веревочкой. Но удивили глаза, испуганные, будто у зверька. Чем это я его напугал? Или они сейчас все в войну испуганные? Или я такой, что он не мог не испугаться? Ужасный небось вид, но что с того, какая разница, как ему, Андрею, выглядеть? Мальчика напугал, вот что скверно.
Постаравшись улыбнуться (что такое улыбка… у неживого?), он сказал просто:
– Ты не бойсь, я ведь вообще спрашиваю. Я всех спрашиваю. Хожу тут и спрашиваю. Всех спрашиваю, понимаешь?
Кого это он спрашивал? Никого он не спрашивал. И мальчика он тоже не спрашивал. Понимал, что спрашивать – значит обнадеживаться. А надежды у него быть не может. Но почему-то продолжал говорить и сапоги в руки взял, обещая и сапоги отдать, и часы, и что угодно, если бы нашлось оружие.
Тут и мальчик закричал, что он ничего не знает, и Андрей опал, обессилел. Бессмысленная вспышка, никчемное бормотание, несвязные движения, и эти сапоги… Зачем, зачем это? Прорвалось, как ответное чувство на испуг мальчика, как само спасительное движение его, Андреева, тела, но не души.
Надо было с этим кончать. Документы лежат где-то изорванные, да оружие по частям разложили, а то и в уборную бросили. Кончился Андрей, и пора бы это зафиксировать.
Но сейчас еще нужно что-то сделать… Ах, да, мальчик! Надо сказать мальчику, который встал на пути, на последнем пути, сам того не ведая, у Андрея.
Андрей поднялся, какая-то легкость появилась в нем. – Иди, чего ты, – сказал ему Андрей и понял, что он прощается с мальчиком, как бы прощался с самим собой. «Я не буду, но он будет жить. Кончится война, и вырастет этот человек. Возможно, он не вспомнит солдата. Да уж точно не вспомнит. Не за что помнить. Что ж от того?» Андрей сейчас отдал бы последнее, чтобы вырос пацан в человека. И чтобы никто не смог обидеть его.
А ведь обижали! Андрей это почувствовал, когда прикоснулся к волосам мальчика. Тот дрожал под рукой, как дрожит пойманная птица – каждым перышком, каждой ворсинкой. Ах ты воробей, серая птица!
Андрей уже не думал о себе. О себе он знал все. Неожиданный прилив нежности, испытанный к мальчику, был благодарностью за эту странную встречу. Он гладил, гладил… Потом легонько толкнул его в спину:
– Ну, иди, иди.
Глядя мальчику вслед, вдруг понял, что это он сам от себя уходит. Мальчик – последнее, что связывало с другими людьми, со всем божьим миром. И не для того, чтобы обрести надежду, а от чувства потери всего, что было, закричал он:
– Ты приходи! Я буду тебя ждать!
Голос выдал то, в чем не мог Андрей себе сознаться:
очень хотелось жить. А между тем он точно знал, глядя на убегающего за деревья мальчика, что не вернется он.
– 11 -
Запрятав компас, Васька вышел из сарая. Он мог теперь не думать об этой неприятной истории, ее как бы и не существовало. Прошел испуг, и Васька понял, что сдрейфил он зря. Что может сделать ему солдат? Да ничего не может. Руки коротки, как говорят. Ну, укажут ему детдом, еще добавят несколько нелестных слов, мол, шпана такая, не клади, что плохо лежит. Мол, их и запомнить и отличить друг от друга невозможно, все тощие, на одну одежду, на одно лицо. Ну, скажут, ну, придет, ну, узнает даже Ваську, а дальше что?
А дальше ничего. Видел? Не видел. Ну и отзынь на три лаптя!
Тут к Ваське подбежал Грач, шмякая жмыхом во рту:
– Сморчок, на хор!
Васька скорчил рожу, схватился за живот:
– У меня резь пошла… Такая резь, ох как болит. – Заныл, даже сам поверил, что болит. И вправду заболело. Грач добавил, все слюнявя во рту жмышок:
– Сказали, что отметят по списку. Кто не будет петь, ужина не получит!
Васька разогнулся, живот прошел. Вздохнул: надо идти. Не дадут ужина, и вечер сразу пустой станет. Будешь мысленно обсасывать несъеденное, изведешься, не уснешь. Уж лучше петь, чем не есть. Хотя петь Васька не любил. Снова Лохматая будет кричать да еще поставит впереди хора. Лохматой они звали музыкантшу.
Васька все медлил, спросил вдруг:
– Слушай, Грач, тебя кто-нибудь по голове гладил?
– Как это? – не понял Грач.
– Ну, вот так, – показал Васька. – Кто-нибудь? А?
Грач задумался. Глупо спросил:
– А зачем?
– Ну не знаю! – вспылил Васька. – Гладил или нет?
– Не помню, – сказал Грач. – Бить били, а гладить…
– Да бить-то сколько угодно! – засмеялся напряженно Васька.
– Не помню, – повторил Грач.
– Я тоже не помню, – произнес Васька. – Ну пошли… Васька вслед за Грачом протиснулся в директорский кабинет, где находилось пианино. Пианино стояло здесь потому, что в другом месте от него бы ничего не осталось. Вот и занимались в кабинете, хоть был он маловат для этого.
Васька притерся к стенке, встал за спинами ребят постарше и притих. Но Лохматая при помощи Анны Михайловны быстро построила всех в три ряда, а самых маленьких, в том числе Ваську, вытащила вперед. Как ни сопротивлялся Васька, как ни ловчил, а попал прямо на глаза Лохматой. Теперь она изведет своими нотами. И пальцы у нее тоже щипучие, не зазря стучит на инструменте. Выволакивала Ваську из глубины, оставила на руке синяк.
Васька торчал впереди, вперившись в Лохматую, глядя, как она взмахивает седыми волосами, бьет по клавишам и кричит: «Начали!»
На рейде большом легла тишина, И море окутал туман, Споемте, друзья, пусть нам подпоет Седой боевой капитан…– Стой! Стой! – кричит Лохматая и см-отрит на Ваську. – Ну чего ты кричишь? Вот, слышишь: «лег-ла-ти-ши-на»… Плавно, спокойно. Понял?
– Ти-ши-на, – проблеял, подражая Лохматой, Васька, и все загоготали. Голос у Лохматой был блеющий, а Васька только повторил его.
– Тише! – сказала Лохматая и снова ударила по клавишам:
На рейде большом легла тишина…Васька перестал петь совсем, он только открывал рот. Или он кричит, или открывает беззвучно рот. Средне петь он не умеет, считает, что в этом нет смысла. Лохматая старательно стучит по клавишам, головой изображает музыку, но иногда поворачивает к ним смуглое усатое лицо, и тогда Васька старательно, не моргая, смотрит ей в глаза. Васька изображает, как он краснеет, от натуги, и он действительно краснеет, Лохматая кивает ему: «Вот, теперь правильно». Васька старается изо всех сил, он физиономией изображает песню, закатывает глаза, вздыхает, играет грусть и волнение. Лохматая, которая дальше Васьки не видит никого, не нарадуется, какой музыкальный, какой чуткий попался мальчик.
Потом Лохматая вытащила вперед солистку Верку Агапову – Агапиху, – и та запищала, поднимая глупые глаза:
Под сосною, под зеленою Спать положите вы ме-е-еня…Васька эту песню откровенно не любил. Потому что ее выла Агапиха и потому что непонятной она была. Как это – под сосною класть человека? Зачем его там класть? И потом, для чего столько выть? Пойди да ляжь, никто тебе слова не скажет. Вот мучает, вот нудит, хуже зубной боли. А положили, так ведь снова недовольна:
Ты сосенушка, ты зеленая, Не шуми-и ты на-до мно-ой…Вдруг вспомнилось про солдата, который сидит под сосной. Сидит и ждет Ваську. А может, не ждет. Так уж он и поверил, что Васька бегает по поселкам, ищет ему жуликов. Все знают, что Ваське верить нельзя, обязательно соврет. Натреплет с три короба, неделю не разберешься, что было на самом деле.
Дурак, что ли, солдат? Но почему же он тогда кричал, что будет ждать? Странно так кричал, будто просил или умолял Ваську, обращался как маленький к большому.
Васька посмотрел на Агапиху, которая пищала свое «Лю-ли, люли», и ему стало невмоготу. Он вдруг запрыгал, затрусил на месте, перебирая ногами и изображая на лице крайнее нетерпение. «Ой, лю-ли, лю-у-ли», – орала Агапиха, скашивая на Ваську недоуменный глаз. «Ой, лю-ли, лю-ули…» И сорвалась, хмыкнула напоследок.
Лохматая повернулась, остановив музыку, спросила:
– Ты что, мальчик?
– Мне надо! – простонал Васька и запрыгал еще сильнее, изображая, как ему надо.
– Что тебе надо? – недоуменно повторила Лохматая. Весь хор вразнобой заорал ей:
– Это Сморчок! Он в штаны намочит!
– Что? Что? – старалась вникнуть Лохматая. Она поморщилась, долго же до нее доходило…
Тут Боня, который считался старостой хора, крикнул:
– Он у нас среди дня мочится, если ему не напомнишь. У него пузырь не держит.
– Это правда! Правда! – завопил хор. А Боня добавил:
– Ночью он тоже… Он сперва заплачет во сне. Потому что не может терпеть, а проснуться тоже не может. А пузырь у него не держит… Вон он заплачет, а потом слышно – зажурчит…
– Ах, зачем такие подробности, – сказала Лохматая. – Замолчите все. А ты иди, иди, мальчик.
Васька еще секунду потрусил на месте, как бегун на старте, а потом ринулся к двери, выскочил в коридор, на улицу. Остановился, глубоко вздыхая. «Хоть у тебя на голове и лохмы, а ты дура», – решил весело.
Васька стал прикидывать, что можно сделать, чтобы остаток дня прошел полезно. Сбегать ли на станцию, на добычу, или сперва зайти к Витьке и предупредить о солдате. Мол, рыщет тут, будь настороже. Но Витька смеяться начнет. Скажет: «Матрос – в штаны натрес!» А может, и вправду солдата нет? Подождал, подождал да уехал? Вот бы подкрасться, посмотреть издалека.
Васька дважды обошел дом, а это означало, что он сильно колебался. Остановился под окном кабинета, послушал, как завопил дружный хор, и решился: пойду, посмотрю. Оставаться возле дома было небезопасно. Кто-нибудь увидит Ваську, погонит обратно петь. А это еще хуже, чем врать солдату. Открывает щука рот, а не слышно, что поет.
– Ой люли! Люли! – заорал Васька изо всех сил, стараясь показать, как ему противны эти «люли», которых он представлял в виде шишек, висящих на сосне. Висят «люли», свесившись вниз, а между ними, закатывая фальшиво глаза, ходит Агапиха, жеманно нюхает, говорит манерно: «Ой, люли, люли»… Дать бы ей по шее, чтобы не тянула кота за хвост. Васька часто во время хора показывал Агапихе фигу в кармане. Хоть она и не видит, а приятно.
Однажды Васька набрался нахальства и спросил:
– Я могу сам по себе петь?
– Это как? – удивилась она. – Ты хочешь солировать?
– Ага, – сказал Васька, – солировать.
Лохматая очень удивилась. Но ее интеллигентность взяла верх. Васька на это и рассчитывал, он знал, что интеллигентность ее погубит.
– А что ты хочешь петь?
Васька только и ждал такого вопроса. Он напружинился и заорал что есть мочи:
Одна нога была другой короче, Другая деревянная была, И часто по ночам ее ворочал; Ах, зачем же меня мама родила!– Это что же такое? – возопила громко Лохматая, и даже усики у нее зашевелились. – Ведь это же хулиганская песня! Мальчик, ты понимаешь, что ты спел?
Васька все понимал, а вот Лохматая не понимала. Если бы она послушала, какие песни они закатывали по вечерам, когда воспитатели уходили домой! У нее бы затмение вышло от их песен. Вот что подумал Васька, снисходительно глядя на Лохматую. Но сказал он ей так, что лично он не думает, что это была хулиганская песня. В ней и слова-то ни одного особенного нет. Но если ей хочется что-нибудь почувствительнее, он может спеть ей «Халяву»… «Женился, помню, я на той неделе в пятницу…» Лохматая взвилась со стула, и брызги полетели у нее изо рта. Она что-то кричала, что именно – Васька не разобрал. Она выскочила за дверь, схватив свои ноты, а Васька с тех пор навсегда охладел к пению.
За мыслями Васька не заметил, как ноги сами привели его в лес. Потянуло, что ли, на старое место. Солдата он увидел издалека. Хотел остановиться, но вдруг понял, что и солдат его заметил, он даже привстал навстречу Ваське, смотрел на него не отрываясь.
Васька шел к солдату и раздумывал, как бы соврать получше. Оба смотрели друг на друга. Васька с любопытством, даже весело, он теперь ничего не боялся. А солдат смотрел выжидательно, он глазами на расстоянии пытал Ваську, но в то же время будто и боялся новости, и не хотел ее. Для него важнее слов было Васькино возвращение.
– Я спрашивал, – начал Васька, еще не дойдя до солдата. – Никто ничего не знает.
– Да, да, – кивнул солдат. И продолжал так же смотреть на Ваську.
– Я бегал, бегал, – произнес Васька. – Туда, сюда…
– Я понимаю, – сказал солдат.
– Одному говорю: «Стырил? Отдай! Тебе бочата в награду предлагают за твою честность». А он говорит:
«Нет, я такими делами не занимаюсь».
– Правильно, – ответил солдат. Он что-то сообразил и уже не смотрел на Ваську. Может, он догадался, что Васька врет? Вряд ли, Васька старался врать как можно честнее. – Ладно. Спасибо, – произнес солдат. – Я понял сразу, что ты хороший человек.
Он сказал, будто отрезал Ваську от себя. Повернулся и пошел по тропинке, не оборачиваясь, никуда не глядя. А Васька продолжал стоять, никак не беря в толк, почему солдат уходит, почему он назвал Ваську хорошим, хотя Васька ничего пока хорошего не сделал.
Споткнувшись на бегу о корень, он догнал солдата, спросил сзади:
– А ты куда идешь?
Тот вовсе не удивился, что Васька еще здесь, ровно произнес:
– Не знаю. Ничего не знаю.
– Тебя арестуют? – спросил Васька.
– Наверное, арестуют.
– А ты не ходи, – посоветовал Васька. – Они все равно не знают, где тебя искать.
Солдат запнулся при таких словах. Он даже посмотрел на Ваську, будто не поверил, что тому могла прийти в голову подобная мысль. Отчего-то спросил:
– Тебя как зовут?
– Васька Сморчок, – сказал Васька. – А тебя?
– Андреем, – ответил солдат и добавил: – Звали. Ты добрый, Василий. Я сразу почувствовал, что ты меня жалеешь.
– Зачем тебя жалеть? – пожал плечами Васька. – Мы же взрослые люди. Я бы тоже так поступил. Я несколько раз прятался, когда меня искали. У нас в сарае такая заначка есть… Мы травы наложили, чтобы мягче ждать было.
– От кого тебе прятаться, Василий? – спросил солдат.
– От кого? Думаешь, не от кого? От всех, кто против меня.
– Есть такие?
– Всякие есть, – отмахнулся Васька. – Я тебе так скажу: у каждого серьезного человека должна быть своя заначка.
– А если ее нет? – Солдат опять посмотрел на Ваську, с любопытством посмотрел.
– Как же без заначки? А жить как?
– Как? – спросил солдат.
– Не проживешь, в том-то и дело. Вот есть у меня вещь. Ну… Рогатка к примеру. (Васька сказал «рогатка», а думал он про компас.) А еще картофелина. А еще заточенный гвоздь вместо ножа. Где все это держать? Дома? Так дома-то нет! Есть, правда, постель, которую на дню несколько раз перетряхивают, что-нибудь ищут. Воспитатели трясут и свои, которые жулики… А заначка – это и есть дом. А кто я буду без заначки? Никто!
Солдат остановился, о чем-то раздумывая. Светлые брови его сошлись. Был он сейчас как мальчишка, Васька подумал, что слабак солдат в сравнении с любым детдомовцем. Потому его и обокрали. А уж сам Васька куда опытнее солдата. Ведь приходится объяснять элементарное, что и в объяснении не нуждается. И выходит:
Васька должен учить солдата жить.
– Ты чей, Василий, будешь? Родители твои где? – спросил солдат.
– Не знаю, – произнес Васька равнодушно. – Я всю жизнь сам по себе. Мне никто не нужен.
– Ишь какой самостоятельный! – воскликнул солдат, он даже улыбнулся.
Васька не воспринял чужой иронии, а отвечал достойно, что сейчас все должны быть самостоятельными, потому что время трудное, идет война.
– А разве ты, дядя Андрей, не самостоятельный? – спросил Васька и с сомнением посмотрел на солдата.
– Я? – удивился солдат – не вопросу, а тому, что мальчик этим вопросом ставил их как бы на один уровень. Он присел на какой-то пенек и со вздохом сказал: – Ну… Если мы с тобой такие… Давай подумаем, как дальше нам жить.
– Давай, – поддержал Васька и сел рядом на траву. – Ты куда должен идти?
– В эшелон, я тут, Василий, проездом.
– На фронт?
– На фронт, Василий. А если я сегодня не приду, то будут меня считать дезертиром.
– Но ведь ты не дезертир?
– Конечно, нет. Я, Василий, фашистов бить хочу. Только чем я буду бить? Мое оружие пропало… Если бы сыскать…
– Тогда что? – спросил Васька и внимательно занялся галошей. Развязал, а потом завязал узелок на веревке.
– Тогда бы я стал снова солдатом. Без оружия солдат – пустой звук. Он пользы народу не принесет.
– А ты попроси, они тебе другую винтовку дадут. Или трофейный автомат поищи. Я в кино смотрел, там после боя много всяких автоматов валяется…
Солдат посмотрел странно на Ваську, ничего не ответил, В лесу начинались сумерки. Не было темно, но дальние деревья начинали сливаться.
Солдат встал, протянул Ваське руку:
– Прощай, Василий! Славный ты человек. Но и ты ничего не можешь. Здесь никто ничего не может. Дальше – я сам.
Солдат повернулся и пошел. Быстро шагал, так что, пока Васька переваривал его слова, он уже скрылся за деревьями.
– Подожди! – крикнул Васька, чего-то испугавшись. Он побежал за солдатом, не зная еще, что он может предложить, чем помочь. Васька понял сейчас одно, что без него солдат пропадет. – Подожди же! – повторил он, задыхаясь, нагоняя и стараясь попасть с солдатом в ногу. – Я хочу тебе сказать… Может, еще не поздно…
– Что? – спросил солдат, не останавливаясь. Ему, наверное, очень не хотелось, обретя уверенность и ясность цели, заново передумывать и снова, в который раз, обнадеживаться.
– Я тут… Я знал одного человека, – тяжело дыша, с перерывами говорил Васька. – Я могу у него спросить…
– О чем спросить? – говорил солдат на ходу.
– Об оружии, конечно.
– Вот как! – солдат остановился и посмотрел на Ваську. Пристально. Прямо в глаза.
Васька потупился, сделал вид, что его заинтересовала веточка на земле. Наклонился, поднял, помахал в руке. Но солдат продолжал смотреть, и при этом он странно молчал.
– Я давно его знаю, – произнес Васька, как будто он был виноватый и пытался объясниться. – Он недалеко живет, может, он чего подскажет…
Солдат покачал головой, о чем-то раздумывая. Но все время взглядом он возвращался к Васькиным глазам. Что-то в них искал и не находил.
– Значит, ты думаешь…
– Да, он все знает! – воскликнул Васька простосердечно. Ему стало легче от собственных слов.
Солдат взял Ваську за плечо и тихо спросил, словно боялся спугнуть Васькины слова:
– Все… знает?
– Конечно, – сказал Васька уверенно. – Он должен знать!
– Должен?
На солдата стало жалко смотреть. Вся его уверенность пропала. Он съежился, испугался чего-то. Стал суетным, торопливым, и заговорил он теперь по-другому, будто унижался перед Васькой:
– Пойдем к нему, а? Пойдем, Василий! Где он живет?
От такой перемены Васька вдруг почувствовал себя неуютно. Что-то пропало у него к солдату, а может, это у солдата пропало к Ваське, он точно не мог разобрать. Исчезло равенство, которое так задело Ваську за живое. Снова солдат стал чужим, осталась к нему голая жалость.
Васька посмотрел на солдата снисходительно, он знал, что скажет ему. Он так и сказал:
– Сейчас нельзя. Его дома нет. Может, он там вообще не живет.
– Когда же можно? Василий, когда? Когда?
– Ну, утром, – произнес Васька неуверенно.
– Утром?
– Ага. Он такой… Как филин! Днем спит, а ночью выходит на добычу.
– Ну, да… Ну, да, – сказал солдат, как будто он что-то понимал.
– Если он только вообще не переехал, – еще раз подчеркнул Васька.
– А если переехал, можно по адресу найти? Васька засмеялся. Взрослый человек, кажется, а ничего не понимает…
– Адрес я могу и сейчас сказать… Таганка! Окошко в клеточку: ты меня видишь, я тебя нет!
Ваське надоел детский разговор. Что в самом деле, нанялся он, что ли, учить этого солдата. Сам погорел, сам и выкручивайся. А то, что он к Ваське по-доброму, это еще хуже. Васька – звереныш, ему нельзя привыкать к чужим рукам, он за ласковую руку и укусить может.
– Пойдем, – сказал Васька солдату, – отведу в заначку.
Они пошли по стемневшему как-то в одночасье лесу, и Васька шел впереди, а солдат сзади. Всю дорогу они молчали, лишь один раз солдат спросил:
– Тебе сколько лет, Василий?
– Все мои, – ответил тот, о чем-то раздумывая. Но решил снизойти, ответил: – Ну, одиннадцать. А что?
– Мало вырос, – сказал солдат, действительно понимая, что Васька хил, как городской воробей по весне. Ему и неинтересно, видать, каков он со стороны. Живет и все знает, и никаких у него сомнений ни в чем нет. Вырос как ветка под бурей…
– Солей нет, – ответил Васька на вопрос солдата. – У меня и зубов мало, потому что они не растут, потому что солей нет.
Тут пришли они к сараю, Васька показал, куда надо лезть. Солдат просунулся в узкую щель между поленницами дров, обвалив несколько чурбаков на себя. Вздыхая, произнес:
– Как волчья нора… А ведь первых два часа живу без увольнительной.
– Здесь никто не найдет, – убежденно сказал Васька. – Хошь до конца войны живи. Я бы тебя прокормил, не думай.
– Спасибо, Василий. Значит, до утра.
– Ага. Спи, не бойсь.
«До утра», – повторил солдат, понимая тот единственный смысл, что может он жить еще до утра.
– 12 -
Васька поужинал без всякого интереса. Съел он, правда, все, вылизал, как положено, тарелку, подобрал крошки. Но чужую тарелку долизывать отказался и вел себя, в обычном понимании, странно: конечно, это если бы кто мог бы замечать такие незначительные подробности. Но замечать их было некому.
По коридорам Васька в темноте не носился, в спальню к девочкам под кровать не полез, чтобы завыть оттуда, и к единственной печке, облепленной пацанвой в два слоя, как пирог мухами, не стал притираться. Прибился к своему топчану, вполз на соломенный холодный матрац и свернулся в комочек, чтобы скорей согреться.
Сверху одеяльца, кургузого, серого от грязи, накрылся Васька курточкой своей. Все так делали: поверх одеяла накидывали то, что было из верхней одежды. Нужно экономно дышать под себя, вовнутрь созданного пространства, чтобы накопить тепло.
От жесткого в буграх матраца пахло мочой, но Ваське даже нравился этот запах Нравился потому, что был он свой. Едва перестал Васька дрожать от холода, стал думать. Вот о чем он думал: выдавать Витьку он не может. Это он решил еще там, в лесу.
С тех давних пор, как стал Васька помнить себя, он впитал этот закон вместе с затирухой, с баландой, тухлой капустой, которой их кормили. Кстати, и запах тухлой капусты Ваське нравился, как и запах мочи. Это были запахи его детства.
Не продавать своих – вот что Васька запомнил первым в своей жизни. Но, возможно, не первым, а вторым, потому что первым было не это. Постоянный звериный голод – вот что было первым. И как следствие – любыми путями достать пищу. Любой ценой, любым доступным способом: выклянчить, выпросить, обмануть, разжалобить, украсть, отнять, обменять…
А далее – второе: не выдавать соучастника. Воровал ли ты, или только стоял на шухере, или видел со стороны, а может, и не видел, а только слышал – это все равно. Молчи как убитый. Как бы тебя ни наказывали, ни терзали, ни допрашивали, ни потрафляли, даже прикармливали, хотя этого в Васькиной жизни и не бывало, но могло, наверно, быть, – молчи.
Не в силах снести – уйди из детдома, прибейся к другому и начни жизнь сначала. Но продать ближнего – еще никому не прощалось. Васька, выросший, воспитанный на железных законах беспризорщины, знал это не хуже, а лучше других.
В спальне стоял крик. Швырялись подушками, ходили по головам, дрались. Кто-то дважды наступил на Васькину голову, он промолчал. Надо было высовываться, открывать одеяло, остудить то, что надышал. Но все равно толку мало: кто бы обратил внимание на то, что там орет Сморчок. Эка невидаль, Сморчок голос подал! Тихо! Заткни хлебало, а то щами воняет! Врезать ему по первое число! Москву изобразить! «Велосипед» организовать! «Салазки» загнуть! Темную ему! Цыц, паскуденок, не то соплей перешибу.
Лучше молчи, сожмись, дрожи про себя, чтобы не заметили, не съели, пока ты малек. Кто не знает, что детдом – прибежище для всех заплутавших, и кто сюда не залетит, чтобы спасти шкуру, когда тебя ищет где-нибудь в Ярославле милиция, когда «малина» разгромлена, а новой пока нет… Иной на зиму придет отсидеться, а иной и на одну ночь.
Всякие тут были и есть, и знает Васька, ох знает, что правит в детдоме сила, а вовсе не директор с воспитателями. И пока ты не набрал живого вещества, не вызверел, не охамел и не стал пугалом для других мальков – заткнись, ходи неприметный в мелкоте. Скажут: тащи пайку – тащи, не медли. Скажут: будь рабом, ползай, оближи палец на ноге, выпей мочу на лету из струй… Все сделай, чтобы выжить. Скажут избить – бей, скажут украсть – кради! Все нужно пройти, чтобы потом творить с другими то, что творили с тобой.
Это и есть главный тут закон. Сперва едят тебя, а потом ты ешь других. Васька умел пока только откусываться.
Можно, конечно, прослыть чудиком, то есть придурком, что по временам и делал Васька. К придуркам были снисходительнее, ими развлекались, но о них и помнили, а это было опасно. Лучше, когда не выделяешься, а ползаешь неприметным безымянным муравьем. Наступят так наступят, но могут и не наступить.
Васька лежал, но все он слышал, чувствовал, что сегодня его обошли. Кому-то устраивали «балалайку» и «велосипед»… Надели на руки и ноги бумажные колпачки, пока человек спал, подожгли бумагу. Спит бедолага, снится ему лишняя пайка хлеба, а тут ноги начинает припекать, он дрыг, дрыг ими. И руками заиграл. А потом уже от боли крутит изо всех сил на велосипеде, дрынькает на невидимой балалайке! А все собрались вокруг, смотрят, жмутся от удовольствия, хохочут, гыхают, блеют, надрываются. Жалеющих здесь нет, это не поощряется Жалеющий может попасть в ту же компанию музыкантов.
Уже пламя на ногах и на руках, велосипедист-балалаечник жмет изо всех сил, плачет, еще не проснулся. А главное – впереди. Кто-то наготове около лица дежурит, следит, когда проснется соревнователь. Только он открыл глаза и рот, чтобы вдохнуть для крика воздуха, ему в рот горящую бумажку. Вот когда, знает Васька, сама жуть начинается: в глазах огненные шарики побегут, и внутренность как ошпаренная, и дыхания нет, и ноги и руки горят… А ты ничего от страха, от боли не чувствуешь, не понимаешь! Ах, знает, знает Васька, что такое велосипед с балалайкой, и никому не желает его!
Но коли он существует и его делают, то лучше кому-нибудь, чем Ваське. Сжался Сморчок, слушает, как развиваются снаружи события. Вот загорелось, зверем завыл пострадавший, вскочил с постели, ничего не видит, не соображает, бросился к окну, вышиб стекло и сиганул на землю. И тут первый раз вдохнул, закричал на всю ночь, как зверь все равно, страшно стало.
Примолкли сразу, тишина. Вошла дежурная с лампой, увидела разбитое окно, спросила:
– Что случилось? Кто разбил окно?
Но отвечать-то некому, спят все, а иные похрапывают.
– Я спрашиваю, что случилось? – кричит дежурная. – Если не ответите сейчас, за директором пошлю. Директора не боятся, но к чему ночью директор.
– Ничего особенного, – подают из угла голос. Смирный такой голос, невинный, почти детский. – Этот, как его… Грачев, Грач, со сна перепутал, что ли, в уборную в окно выскочил.
– Паразиты! – кричит дежурная. – А бумаги кто жег? Паразиты несчастные, – повторяет дежурная, смотрит, высовывая лампу в разбитое окно. Потом идет на улицу, а в спальне начинается смешок, мелкое хихиканье. Недосмеялись, недорадовались, теперь время наступило. Когда возвращается дежурная с плачущим Грачом, снова затаиваются. Слушают, чтобы не пропустить новость.
Дежурная укладывает Грача, накрывает его и говорит:
– Бесстыжие рожи, измываться над человеком. Изверги, а не люди. Над маленьким-то изгиляться…
– Кому он нужен? – насмешливо спрашивает Колька Сыч. – Вы его спросите, кто его трогал? Грач, кто тебя трогал, а?
Голос у Кольки нахальный, самоуверенный. Он-то знает, что сможет ответить Грач. И тот тихо бормочет:
– Ни-ни-кто меня… не трогал…
– Слыхали? Никто не трогал! А кто тронет, тому я в ухо съезжу. Я ему гляделки испорчу. Я ему мошонку повыдергиваю. Слышал, Грач? Ты мне скажи, не стесняйся.
Ваське становится не по себе от голоса Сыча. Зверь, а не человек. Но у него здесь шайка. Он никого не боится, а все боятся его.
Хочет Сыч – живет при детдоме, не хочет – не живет. Исчезает на месяц-другой, и становится легче. Правда, вылезает на первый план другой какой, но Сыч быстро его к ногтю, когда вернется. Только объявиться успеет, посмотрит вокруг, как царь зверей, и все уже видит, все понимает. Кто новенький, тот валяй скорей на поклон. Испытает, карманы вывернет, в зубы даст на всякий случай. А незваному лидеру отходную сделает. При всей спальне догола разденет и покажет на окошко: иди не возвращайся! У нас не богадельня, чтобы нищих терпеть!
Таков Сыч, не терпит рядом сильных. А Витька хоть не детдомовский, но живет рядом и с Колькой Сычом связан. Васька это знает. И сейчас подумал только, как он чуть не вляпался из-за солдата. Пожалел его, а себя не пожалел. Спит солдат в заначке и видит во сне, как Васька ему помогает. А у Васьки только и мыслей, чтобы завтра вывернуться, соврать поскладнее.
Солдат пришел да ушел, а Ваське тут жить. Если приклеют ему доносчика, ни в жизнь не отмыться. Душу из Васьки вытрясут да рассеют по Подмосковью. Хочешь – беги, а не хочешь – так пропадешь. Сыч съест, да не он сам, а помощникам доставит удовольствие мучить и истязать Ваську.
Вот до чего довела жалость, жестокая это штука! Бьет рикошетом по жалеющему. Насмерть бьет. С тем Васька и заснул, ощущая, как он сам спит и как спят остальные. Всхлипывает во сне Грач, а ветер задувает в разбитое окно. А там, в сарае, спит солдат, и Васька во сне помнит про солдата. Путается перед ним, ловчит, желая выйти сухим из воды. Просыпается от испуга, когда наступает утро.
Васька вошел в сарай, шепотом позвал солдата. Ему никто не ответил. Сунул в лаз голову, увидел только примятое сено, а на нем двух воробьев.
Васька удивился, вздохнул. Стало легче, что солдат пропал. Может, он еще найдется, а вдруг да нет. Поднявшись на ноги и оглядывая сарай, в белых зайчиках от солнца в щелях, подумал Васька не о солдате, а о воробьях, что возились на соломе. Небось гнездо собирают, нужно их проследить. Будут тогда у Васьки летом яйца. Серенькие, невзрачные яички у воробьев, не чета сорочьим, но ведь тоже доход, а не расход. Несколько штук со скорлупой проглотишь – чувствительно.
Насчет гнезд у Васьки глаз остер. Однажды нашел куриное гнездо, а в нем двадцать шесть яиц, чуть в обморок не упал. Целое лето кормился, брал по два яйца в день, а курица еще приносила. Но кто-то выследил, зацапал, пожрал.
Васька хоть и огорчился, но понимал, что все по закону. Иметь свои заначки, чтобы никто не нашел, но отыскивать чужие – на это профессиональный нюх должен быть у детдомовца.
Он вышел из сарая и тут увидел солдата, сидящего на солнышке, за стеной.
Сразу Васька поник, проканючил:
– Здравствуйте, дяденька.
– Привет, – сказал тот. – Что, плохо спал?
– Ничего. А вы не замерзли?
– Так у меня шинель, – ответил солдат. – Знаешь поговорку, когда солдата спрашивают: тебе зимой не холодно в шинели, а он отвечает: она у меня суконная. А летом не жарко? Так она же без подкладки…
Васька с уважением посмотрел на шинель, на солдата.
То ли от утра, то ли от Васькиного свежего впечатления солдат не показался таким старым, как вчера. Глаза у него ожили, лицо потеплело. На Ваську смотрит выжидательно, но доверчиво. Хоть ничего не говорит, но Васька шкурой чувствует, что солдат воспрял духом, потому что хочет верить Ваське. А Васька весь извелся, чтобы ему наврать.
От такого противоречия, не испытываемого прежде, Ваське сделалось больно и тоскливо.
Он пробормотал:
– Вы, дяденька, подождите, я сейчас…
– Я тебе, кажется, говорил, что меня Андреем зовут, – произнес бодро солдат. – Так и зови. Ты надолго?
– Нет, только отпрошусь.
– Иди просись, я здесь посижу.
Пошел Васька к директору детдома, едва волоча ноги. Понимал, что навовсе запутался, не может соврать солдату. Выпалить бы с ходу, спрятав глаза: мол, простите, дяденька, я вчера подумал, что мы куда-то пойдем, а сегодня я понял, что мы никуда не пойдем. Сказать так – и гора с плеч. Живи себе Васька, благодушествуй, никаких больше в жизни проблем нет. Солдат сам по себе, а Васька сам по себе. А теперь… Чем дальше, тем хуже. Чувствует Васька, что хуже, инстинкт ему подсказывает. Шепчет ему инстинкт: пропадешь, мол, ты, Васька, влезешь в историю, будет тебе ой как худо… Раем покажется вся прежняя жизнь!
Не заметил Васька, как дошел до дома директора. Дом большой, с садом, с деревянным высоким крыльцом. На крыльце, прислонившись к пирамидальным столбикам, ребята ждут, когда выйдет директор Виктор Викторович после своего завтрака. Завтрак ему носят из детдомовской кухни, и для собаки носят есть. Однажды и Васька таскал щи для собаки, успел рукой гущу несколько раз со дна гребануть. Но это дело засекли. Теперь повариха от кухни до поворота проглядывает, а тут жена директора встречает.
Васька прислонился к ступеньке, стал слушать, кто о чем говорит. Давно усвоил Васька привычку внимать чужому слову, ловить, запоминать, докапываться до смысла. Одно дело – сам промышляешь, а другое – другие. За пустым словословием что-нибудь промелькнет, не удержится. Иной раз ухватить сказанное – как заработать пайку хлеба, даже больше.
Васька сидел, как дремал все равно, а уши у него торчком стояли. Все намотал на свою память. Про Москву, где мороженое появилось, сласть какое вкусное; про рынок в Малаховке, где народу больше, а значит, и поживы. А в Люберцах кино «Багдадский вор» идет, и уже повторяют: «Вор у вора дубинку украл!» Интересно бы посмотреть, как у них там воруют. Лишний раз поучиться не грех. Вроде как обмен опытом.
Хлопнула дверь, и встал на пороге директор, высокий, худощавый человек в белой рубахе. Все разом вдруг завопили, негромко, но очень проникновенно, страдательно, в унисон:
– Отпустите, Виктор Викторович… К родным, Виктор Викторович… Давно звали, Виктор Викторович…
И Васька заныл, создавая страдательное выражение лица. Посмотришь – сразу видно, что невозможно ему не попасть к родне, которая его зовет не дозовется.
Знает Виктор Викторович, ой, наверное, догадывается, что нет у ребят никакой родни. Но играет с воспитанниками в одну игру. Кивает, делает вид, что верит им. А все потому, что экономия на бурде выходит, значит, двойная детдому польза: те, что уйдут, промышляют, а те, что послабей и промышлять не могут, бурды поболе хлебнут. И здесь политика. Никуда в наше время без политики. Ложку не опустишь без нее в затируху.
Виктор Викторович дал каждому по листку бумаги, заготовленной заранее, и все побежали, полетели, как на крыльях, к кухне, получить свои хлебные пайки. Иначе стали бы они отпрашиваться да врать про несуществующую родню. Ушли бы, да и дело с концом.
Васька доскакал быстрее всех до кухни, сунул листок в раздаточную. Всего две каракули на листке: «Разрешаю отпустить». Но каждая каракуля двести граммов хлеба весит. Отполосовали Паське ножом кус, бросили на весы, крошек сверху добавили и протянули в окошко. Пока Васька хлеб ломал, крошки начали сыпаться, Васька их на лету ловил. Не заметил, как половину куса съел. Само проглотилось, проскользнуло. Это ведь долго ждать, когда накормят, а есть не бывает долго. Но самое обидное, когда вот так машинально съешь. Никакого самочувствия, ни зубы не подержали, ни язык не поблаженничал, не помял, не послюнявил, ни желудок, ни пищевод не обласкали…
Васька вспомнил вдруг про солдата. Разломил оставшийся кусок пополам, а крошки снова съел, не виноват же он, что столько крошек остается. Вернулся повеселевший, сказал, протягивая хлеб:
– Меня отпустили.
Солдат полулежал, подложив руки под голову и глядя в небо. Он спросил, не двинувшись:
– Куда тебя отпустили?
– Домой.
– У тебя есть дом?
– Конечно, нет, – сказал Васька. И так как солдат хлеба не видел и не брал, положил ему пайку на живот. Поскорей положил, боялся, что потом пожалеет. Свою он тут же съел.
– У нас новый директор, он не знает, у кого есть дом, а у кого нет.
– Тебе-то зачем врать? – спросил солдат.
– Как зачем? – удивился Васька. – Хлеб сразу дадут.
– А потом весь день голодный?
– Потом? – Васька прикинул. – Главное сейчас, а потом видно будет.
Солдат покачал головой, уясняя для себя эту звериную логику. Спросил, подымаясь и придерживая хлеб рукой:
– Ты ведь не наелся, да?
Васька сделал вид, что вспоминает, наелся он или нет. Сказал с сожалением:
– Меня, дядя Андрей, накормить трудно. Я обжора. Я что угодно могу съесть. Я однажды двадцать порций щей съел. Раздулся – во, как пузырь, а толку мало.
Андрей посмотрел на Ваську, и снова пришло на память сравнение с весенним воробьем. Комочек жизни, а в чем она там держится, никак не поймешь.
– Вот, – солдат протянул Ваське хлеб. – Пока ты ходил, я закусил кое-чем. Ты уж сам доедай.
– Спасибо, – сказал Васька. Взял свой хлеб и моментально проглотил, глядя с благодарностью на солдата.
Вот ведь странно, ел свой собственный хлеб, а чувство было такое, что подарили со стороны.
Как менялось при этом Васькино настроение. Только недавно он боялся и переживал. А сейчас и утро, и хороший солдат, и пайка в животе приятно тяжелит. Все кажется простым и доступным. Васька зажмурился, от пищи и тепла его совсем разморило.
Он представлял, что хорошо бы на дороге найти продукговые карточки. Штук пять сразу. Три бы Васька на рынке продал, а остальные себе оставил. Каждый бы день отоваривался, и житуха бы наступила! Развеселые дни! Ребята утверждают, что карточки часто теряют и кто-то их должен находить… Нужно только внимательно под ноги заглядывать. Они цветные, розовенькие, зелененькие, их издали видно. Но нет, сколько Васька ни смотрел, не находил он карточек. Паспорт находил. Кошелек пустой находил. Однажды рубль нашел мокрый. Пока рассматривал, кто-то пальцем по нему ударил, и рубль расползся пополам.
Тут сквозь Васькины грезы голос солдата проник, что пора бы, мол, и двигаться, а то утро пройдет, никого они не застанут.
– Куда двигаться? – спросил невинно Васька.
– Забыл, что ли? – удивился солдат. – К этому, кто знает… Ну, сам же вчера говорил!
– Ах, к этому… – сказал Васька – Так его дома нет.
– А ты откуда знаешь?
– Знаю. Его трудно найти.
– Но мы с тобой его найдем, – сказал решительно солдат. – Найдем, Василий. Если только ты не испугался.
– Кто? Я? Я испугался? – вяло запротестовал Васька.
– Да нет, – раздумчиво произнес солдат, глядя прямо на Ваську. – Я как раз подумал, что ты человек смелый. Смелый и серьезный, правда?
– Конечно, – более уверенно повторил Васька. – Я смелый, в общем – И друг ты настоящий?
– И друг, – подтвердил Васька. Потом опомнился – А может, потом сходим? Но солдат был тверд.
– Нет, Василий, потом мне поздно будет. Четырнадцать часов просрочил. Ведь жизнь моя зависит… Зависит вот от этого, пойдем мы сейчас или нет.
– Вся жизнь, – вздохнул Васька, он думал про себя.
– Может, тебе трудно понять, – говорил солдат.
– Про жизнь я понимаю, дядя Андрей, – воскликнул Васька с болью. – Они ведь расправятся… Хотел добавить: «Со мной», но не добавил. Солдат думал про свое. Он подтвердил:
– Да, судить будут, это точно.
– Да какой суд! – вскричал Васька. – Они знаете как .. Страшно.
– Не страшней, Василий, когда себя теряешь, – сказал солдат. – Вот ведь вчера-то я решил, что и не человек я уже…
– Я все понимаю, дядя Андрей, – произнес Васька. Как было трудно ему произносить! – Пойдем, – сказал он, но сам сидел на месте. – Пойдем к этому человеку!
Пойдем!
Словно себя уговаривал, а не солдата. А сам продолжал сидеть. Поднялся, вздыхая. И солдат встал.
Отряхнувшись от мусора, они двинулись по тропинке, ведущей к станции. Васька шел первым. Он был направляющим, как сказал солдат. А направлялся Васька прямо к Витькиному дому.
– 13 -
Они открыли калитку и вступили в узкий дворик, в углу под досками еще лежал снег. На веревке, растянутой поперек, сушилось белье. Откуда-то подкатилась под ноги черная лохматая собачонка и сильно залаяла, пятясь и виляя хвостом.
– Бармалей! Бармалей! – крикнул Васька, присев на корточки. Собака сразу им поверила, стала лизать мальчику руки.
– Это Бармалей, собака такая, – сказал Васька. – Она огурцы соленые ест.
– Мы что, пришли? – спросил солдат.
Васька кивнул, с сожалением оставил собаку. Прошмыгнул под белье, постучал в окошко. Посмотрел, делая скобочкой руки, и снова постучал.
В дверях показалась молодая женщина, невысокая, в косынке.
– Теть Нюр, Витька дома?
– Зачем он тебе? – спросила женщина.
– Дело есть.
– Если дело… Заходите. Скоро он придет. Тетя Нюра разговаривала с Васькой, а смотрела она на солдата. Ей было интересно узнать, что солдата сюда привело. Пожалуй, только из-за своего любопытства она предложила войти в дом.
Комната была чистенькая, но Васька сразу приметил, что вместо занавесок на окнах широкие бинты. И на комоде бинты. Марля да бинты были кругом, как будто они могли скрыть голую бедность. А они еще больше ее выдавали.
Тетя Нюра посадила Ваську на диван, а солдату дала стул. Сама села на табуретку напротив, спросила напрямик:
– Что-то натворил мой сынок? Васька пожал плечами, посмотрел на солдата. Тот помолчал, произнес, разводя руками:
– Не знаю, как лучше объяснить. Может, и вы поможете. У меня тут винтовку, вещмешок украли, еще документы. Я в эшелон не могу вернуться.
– Вот как, – протянула тетя Нюра. – Пьяный был? Раз оружие-то стянули?
– Нет, не пьяный, – сказал солдат.
– Нешто трезвый оружие теряет? Арестуют теперь?
– Не знаю… Наверное.
– Не наверное, а точно. Это трибунал, милый мой, – сказала тетя Нюра.
Васька слушал открыв рот. Быстро спросил:
– Что такое трибунал?
– Военный такой суд, – ответила тетя Нюра, глядя на солдата. – Видела я, как одного судили. Солдатик помоложе тебя был… Сколько тебе?
– Девятнадцать, – сказал он.
– Вон что? Я думала, старше. – Она встала, посмотрела в окошко, потом опять на солдата. – А Витька тут при чем?
– Ваш сын там… В общем, был при этом.
– Как то есть был? – спросила тетя Нюра. – Воровал, что ли?
– Я не знаю, – сказал солдат и посмотрел на Ваську. Но тот молчал. – Может, он ничего и не взял, но… Он знает, кто украл оружие.
– А вам откуда известно? – спросила опять тетя Нюра.
Солдат не ответил. Все трое теперь молчали. Тетя Нюра вздохнула, произнесла:
– Не знаю, что вам и сказать. Витька, конечно, от рук отбился. Мужика в доме нет. Я день и ночь в госпитале, санитаркой служу. Тут не уследишь, ясное дело.
– Да, – сказал солдат.
– Я среди раненых кручусь, у самой мужик на фронте. А к нам все как из мясорубки, куски тела, а не люди идут… А я уж грешным-то делом и подумаю иногда: хоть бы с одной ногой или с одной рукой пришел. Все-таки мужик, если он в дому. От него и запах в горнице другой… А Витьке я уши надеру, как он вернется.
– Не надо драть, – попросил солдат. – Может, он невиноват ни в чем.
– Как же не виноват? А кто ружье стащил?
– Я думаю, что это не Витька. – Солдат посмотрел на Ваську, с упреком посмотрел.
А Васька, озираясь по сторонам, скучно пробормотал:
– Там и другие были…
– Постарше Витьки? – спросила тетя Нюра Ваську.
– Угу.
– Шайка, что ли?
– Не знаю.
– Ну, я узнаю. Я все узнаю.
Она ушла и почти сразу вернулась с тарелкой в руках. В тарелке лежала белая лепешка, разрезанная по радиусу на узкие дольки.
– Попробуйте, – предложила тетя Нюра. – А я сейчас чаю поставлю. Да пробуйте, не бойтесь, это из казеинового клея. Тут, на авиационном складе, достаем. Отмачиваем да в тарелках на холоде оставляем. Он как сыр на вкус.
Тетя Нюра засмеялась, добавила:
– Голь на выдумки хитра. Я Витьке утром говорю:
сходи на рынок, продай по червонцу за кусочек, а на деньги картошки купи. У нас картошки нет. Праздник ведь на носу, Первое мая. А в доме пусто, с какой стороны ни поглядишь.
Тут слышно стало, как залаял Бармалей. Солдат и Васька одновременно привстали. Но это был не Витька. Какая-то женщина постучала в окно, тетя Нюра вышла к ней. Но в дом не повела, а стала негромко переговариваться в прихожей. Было слышно, как тетя Нюра несколько раз сказала: «Поможем, поможем… Дай срок». А женщина ей отвечала: «Да сроку-то мало осталось. Куда же мне рожать!» А тетя Нюра опять ей негромко:
«Сульфидин пропал. Будет, и все сделаем. Забеги завтра…» – Будем ждать? – спросил солдат Ваську.
– Не знаю.
Оба взяли по кусочку казеинового сыра. Васька проглотил, не заметил вкуса, взял и опять проглотил. Решил взять последний раз и пожалел, что такие маленькие кусочки. Небось Витька каждый день по тарелке сыра жрет.
Васька не завидовал семейным, каждому, как говорят, свое. Но семейным живется в войну сытнее, это Васька знал. Тут во дворе опять гавкнул Бармалей, послышался голос Витьки. Тетя Нюра о чем-то спрашивала, он отвечал. Голоса стали громче, и тетя Нюра закричала, и Витька закричал. Вместе они появились в комнате. Витька, не поздоровавшись, прошел к комоду и положил деньги. Быстро и враждебно посмотрел на Ваську, солдата он как будто не видел. Тетя Нюра стояла в дверях, руки в боки, не сводила глаз с сына.
– Ну? – спросила громко. – Скажешь?
– Чего вы ко мне пристали! – завопил Витька. Он был вообще истерик. Васька это знал. – Ничего не видел! Ничего не брал!
– Брал, – сказала тетя Нюра. Она положила на стол перед солдатиком фонарик. – Ваш?
Солдат взял фонарик в руки, осторожно повертел его. Произнес почти пораженно:
– Мой.
– В кармане нашла, – говорила тетя Нюра. И вдруг закричала на сына, шагнув к нему: – Так что! Тебя на людях выдрать?
Даже Ваське стало страшно от ее крика. Никто так на Ваську не кричал. Уж бог с ней, с семейной сытостью, ни за какие бы казеиновые сыры не продал Васька своей свободы.
Витька задрожал, заплакал, забормотал сквозь слезы, что он ничего не брал, кроме фонарика. Все остальное забрали Купец и Длинный, а он не брал…
– Документы кто взял? – спросил солдат негромко.
– Не брал… Не я… – как-то пронзительно неприятно завопил Витька. – Вот Васька тоже видел, он компас получил!
– Ладно, ладно, – произнес солдат, поморщившись, На Ваську он и не взглянул. – Ты можешь показать, где живут эти… двое?
Витька взвыл еще пуще.
– Можешь или не можешь? – спросила тетя Нюра. – Прекрати вой и говори нормально! Ну! – Она крикнула «ну», и. Васька снова вздрогнул, а Витька сразу замолчал. Следя за руками матери, членораздельно произнес:
– Купец у магазина живет, зеленый дом, а другого я не знаю.
– Зеленый дом? – повторил солдат и встал. – Как его зовут, твоего Купца?
– Сенькой, – отвечал Витька, не глядя на солдата.
– Ладно, – сказал солдат. – Если не врешь…
Он не оглядываясь вышел во двор, в калитку. Васька побежал за ним. На ходу успел оглянуться и увидел, что Витька выскочил вслед и показывает ему кулак.
Некоторое время солдат шел впереди, в его движениях появилась уверенность. Васька решил, что не оборачивается и не заговаривает солдат из-за компаса. Но тот будто услышал мысли Васьки, приостановился, поджидая его.
– Вот что, Василий, – сказал солдат. – Теперь гляди в оба, нет ли патруля. Знаешь, какой бывает патруль?
– Знаю, – ответил Васька. – Тебя могут схватить?
– Могут. Я теперь, Василий, как дезертир все равно. Никогда бы не смог представить, что буду скрываться.
– А когда винтовку найдешь, не будешь скрываться?
– Не буду. Только бы найти!
– 14 -
Некоторое время они шагали молча и вышли на окраинную улицу дачного типа. На дороге копались в песке куры. Кое-где жгли весенний мусор: старую ботву, листья, хворост, и горьковатый серый дым витал над огородами.
– Я не за оружие борюсь, Василий, – снова начал солдат. Было видно, что он не перестает думать об этом. – И не за документы. Я за себя борюсь. Потому что я уронил себя. Кто же должен меня подымать, как не я сам… Ты понял?
Васька кивнул, спросил:
– Дядя Андрей, хотите, что-то покажу? Васька полез в потаенное место, достал кусок стальной ножовки, заточенной на конце.
– Вот!
Солдат повертел обломок, присвистнул, глядя строго на Ваську.
– Выбрось ты эту штуковину, Василий, – посоветовал он. – Опасная игрушка. Лучше я сам закину… Васька вцепился в руку солдата, крикнул:
– Нет! Нет! Отдай!
– Зачем она тебе? – спросил тот. Подержал на ладони и протянул Ваське. Васька засунул обломок в штаны.
– Нужно. Вы же сами сказали, что без оружия мужчина не солдат.
– Я, Василий, про фронт говорил.
– А я про тыл, – отрезал Васька сердито.
Но долго злиться он не умел. Через несколько шагов спросил:
– Дядя Андрей, а вы «Катюшу» видели?
– Нет, не видел.
– Говорят, их никто не видел, потому что их возят под брезентом. У них там мина лежит под машиной, как только фашисты окружат и захотят узнать про «Катюшу», наши кнопку нажмут и взорвут ее.
– Смотри-ка, – произнес солдат. – Какие у тебя сведения.
– На заводе их делают в разных местах, и никто не знает, что это «Катюша». Дядя Андрей, сказать вам один секрет?
– Ну?
– «Катюши» делают на нашем Ухтомском заводе.
– Ты-то откуда знаешь? – спросил солдат, усмехнувшись.
– Так все знают…
Они остановились около магазина. Здесь была длинная очередь: женщины, старухи, дети.
– Что выбросили? – спросил Васька. Одна женщина ответила:
– Пока ничего. Говорят, мясные талоны будут селедкой отоваривать. С утра ждем, а ничего нет.
– Будет, – уверенно сказал Васька. – Это же ОРС, а ОРС знаете как расшифровывается? Обеспечь раньше себя, обеспечь родственников своих, обеспечь родственников сослуживцев, а остальное рабочим и служащим.
В очереди засмеялись, завздыхали, стали вспоминать всякие случаи, но Васька не дослушал, побежал вслед за солдатом. Тот уже стучался в дом, который был зеленого цвета.
Долго им не открывали, хотя и Васька и солдат видели, что в окне мелькают какие-то лица.
– Открывай! – крикнул им Васька. – Чего тянете? Испугались?
– Почему испугались? – спросил солдат.
– Они думают, что вы монтер, – сказал Васька.
– Ну и что?
– А у них электроплитки: штрафуют. Тетя Нюра однажды увидела монтера и спрятала плитку в комод. А монтер проверил счетчик, а потом и говорит: «Чего это у вас, гражданка, из комода дым идет?» Открыли, а там белье горит…
Загремел засов, защелкали замки, щеколды, дверь отворилась. На пороге встала крупная женщина, широкое простоватое лицо, волосы комьями свисали вниз. Тетка Акулина, Акулиха – так ее звали.
Глядя от порога сверху вниз, она громко произнесла:
– Чего ломитесь? Невмоготу? Принесли что-нибудь?
– Здравствуйте, – сказал солдат. – Нам Сеня нужен.
– Какой такой Сеня? – спросила Акулиха, прищуриваясь.
– Ну, Сеня… – Солдат пожал плечами и оглянулся на Ваську.
– Сенька Купец, – подсказал Васька. – А вы его мать? Вы на него похожи.
– Это он на меня похож, – отрезала Акулиха. – Чего надо-то?
– Поговорить, – сказал солдат.
– Ну, говорите. Я слушаю.
– Мы бы хотели с ним… лично…
– С ним? Нет уж, сперва лично со мной. Акулиха сделала шаг вперед и прикрыла за собой дверь. Васька смотрел из-за спины солдата. Подобных стервозных баб он встречал на рынке, такой попадешься, убьет на месте.
Васька дернул солдата за рукав, но тот не услышал, а может, не захотел слушать. Он стал рассказывать женщине про кражу вещей и оружия, про свое положение.
– Ну и что? – спросила Акулиха. – Вы на что намекаете, гражданин?
– Я не намекаю, – сказал солдат. – Ваш Сеня там был.
– У вас есть доказательства?
– Его видели, – солдат оглянулся на Ваську, и Акулиха посмотрела на Ваську и закричала:
– Кто же мог его видеть? Этот сопляк, что ли? Я его тоже знаю! Ну, подожди! Сенька придет, он тебе устроит желтую жизнь! Он тебе разобъяснит, как доносить на него!
– Не кричите, – громко оборвал солдат. – Вы не имеете права на мальчика кричать, а тем более запугивать.
Акулиха сплюнула и вытерла плевок ногой. Спокойно произнесла:
– Я так на ваши слова, поняли? Потеряли оружие, теперь ищете виновных? Не выйдет у вас ничего. А если станете приставать, то мы вас в милицию сведем да проверим, какой вы солдат без оружия и куда вы его пропили… А теперь угрожаете мирному населению…
Солдат смотрел на нее широко открыв глаза. Потом, будто опомнившись, махнул рукой, пробормотал:
– Вот дура.
Он повернулся, пошел не спеша от дома, в то время как в спину ему раздавался громкий крик Акулихи:
– Сам дурак! От дурака слышу! Все потерял, какой же ты не дурак! Вчерашний день ищешь! А я вот крикну участкового, может, и не солдат, и не дурак, а диверсант переодетый!
Васька сплюнул на дорожку, чтобы хоть чем-нибудь досадить противной тетке, и пошел вслед за солдатом. Нагнал его у магазина и сказал:
– Не бойтесь, дядя Андрей, она не позовет милицию! Тьфу, противная баба! Акулиха зубастая!
– Ладно тебе… баба. Где ты научился выражаться?
– А как ее назвать, если она орет как баба? – спросил Васька. – Курица не птица, а баба не человек! Солдат молчал.
– Ясное дело, – продолжал Васька. – Купца дома нет. Что будем делать, дядя Андрей? Тот пожал плечами:
– Посидим подождем?
– А сколько ждать? Он ведь может вообще не прийти?
Солдат посмотрел на Ваську.
– Ты вот что, Василий… Иди-ка домой. В детдоме могут забеспокоиться, что ты надолго пропал. А я сам здесь покараулю.
Васька усиленно замотал головой:
– Не-е, обо мне никто не будет беспокоиться. Я сам о себе всегда беспокоюсь. Потом, меня отпустили.
– У тебя родные какие есть? – спросил солдат, присаживаясь на обочину дороги. Васька продолжал стоять.
– У меня никогда никого не было. Я из детприемника сюда поступил.
Солдат не знал, что такое детприемник, но догадался: туда относят маленьких детишек. А вот кто относит и почему относит? Их бы расстреливать, этих сучек, которые отказываются от своих детей. Живет Васька и не понимает, что можно жить иначе, что существует родительская ласка, забота, материнское тепло. А где-то тут рядом мать живет, не знает, а может, и знать не хочет, что в этой беспризорной толпе ее оборванный сын бегает… Маленький звереныш, но и человек.
Солдат отчего-то закашлялся, отвернулся. А Васька увидел, как из калитки, где они только что были, вышла девочка в красненьком пальто, в беретике, сзади две косички и большие банты. Васька сорвался с места, на ходу крикнул:
– Оксана! Оксана!
Девочка оглянулась, посмотрела внимательно на Ваську, очень удивилась, – Здравствуй, Вася. Что ты здесь стоишь?
– У меня дела, – сказал Васька, подходя к девочке.
– А почему тебя не было на уроке? Смотри, тебя могут исключить.
Васька оглянулся, не слышал ли солдат всего сказанного. К счастью, не слышал. Васька законно считал, что не следует солдату знать о всяких временных Васькиных неудачах, в том числе со школой. Понизив голос, Васька спросил:
– Ты что, Оксан, здесь живешь?
– Меня зовут не Оксана, – поправила девочка. – Меня зовут Ксана. Ну, Ксения, понимаешь?
– Какая разница, – возразил Васька. – Меня вот хоть чугуном назови, только в печку не ставь.
Девочка засмеялась, и Васька засмеялся. Они стояли посреди улицы и смотрели друг на друга. Васька приметил эту девочку, когда она пришла в класс. Но сам бы он к ней не подошел. Во-первых, она одевалась как барышня, а детдомовские – кто во что горазд… Во-вторых, они вообще не дружили с домашними. У тех всех своя жизнь, родня, хозяйство, дом… Их кто-то встречает, кто-то провожает, кладет в газетку хлеб, картошку, а то и конфету… Все у них не как у людей, и Васька этой жизни не понимал, не хотел понимать.
Вот даже отношение к еде. Васька навсегда запомнил, как одна девочка, не Оксана, держала в руке хлеб, намазанный повидлом, и вдруг взяла да бросила в окно. Васька чуть сам не упал вслед за хлебом. Он бы тут же сбегал, нашел его, но был урок. И это был мучительный для Васьки урок, потому что он не слушал, а думал о хлебе, намазанном повидлом…
Васька нахохлился, совсем по-другому, и хмуро спросил:
– Эта, которая пасть на всю улицу раззявила… Твоя мать?
Девочка перестала улыбаться. Тоже холодно спросила:
– Кто раззявил? Я ничего не слышала.
– Ну, с вашего дома! Акула которая!
– А-а, – произнесла Ксана. – Тетя Акулина, наша хозяйка.
– Какая хозяйка?
– Мы у нее снимаем площадь, – объяснила Ксана.– – Мы ведь беженцы, из Белоруссии, а там сейчас немцы.
– Вот как, – сказал Васька и посочувствовал Ксане, У него и тон и обращение сразу переменились. – Я думал, что ты как другие… А ты что, с матерью приехала?
Ксана кивнула, простив Ваське всякие грубости, предложила:
– Ты приходи, если захочешь. У меня мама портниха, она тебе одежду зашьет.
– Зачем мне зашивать? – нахмурясь спросил Васька. – Я и сам шить умею. Ты лучше скажи; где сейчас Сенька?
Ксана посмотрела прямо в Васькино лицо, строго спросила:
– Ты с ним водишься?
– Да нет, не вожусь. Он мне, понимаешь, нужен… Для одного дела. Но это секрет.
Ксана сделала к Ваське шаг и оказалась так близко, что он услышал странный тонкий запах, исходивший от нее, увидел крупные веснушки на переносице, открытые серые глаза.
– Знаешь, он ведь жулик, у него, говорят, шайка. А Акулина ихняя спекулирует на рынке. Мы их боимся. Мы бы давно от них перешли, но мы задолжали им денег за квартиру. А теперь мы боимся… Мама говорит: «Вдруг прирежут».
– Ты не бойся, – тоже негромко сказал Васька. – Если что, я их быстро к ногтю!
– Ты?
– А что? Я ведь не один!
Васька оглянулся на солдата и сейчас только заметил, что он делает ему призывные знаки. Васька заторопился. Быстро спросил:
– Значит, Акула – спекулянтка?
– Она продает всякое белье, которое ей приносят. А Сенька вместе с ней весь день торчит на барахолке. Я видела, как он уходил с каким-то свертком…
– Ладно. Спасибо, – сказал Васька. – Встретимся в школе.
– Ты лучше с ним не связывайся, он убить может, – предупредила Ксана, глядя на Ваську. Произнесла так, – будто она давно знала Ваську, а теперь переживала за его жизнь.
Ваське стало приятно, что за него могут так переживать. Впервые в жизни делал Васька настоящее дело, и впервые за него переживали.
С какой-то лихостью, которая не могла не поразить Ксану, он произнес:
– Знаешь, как говорят… Двум смертям не бывать, а одной не миновать! До встречи!
Повернувшись и чувствуя ее очарованный взгляд, Васька героем шел по улице, к ожидавшему его солдату.
– 15 -
Время клонилось к обеду. Солнце ласкало землю, над огородами стояло волнистое марево.
Солдат задумчиво задрал голову, поскреб в светлых волосах. Произнес с сомнением:
– Опасно на рынок-то. Патруль там…
– Мы спрячемся, – сказал Васька. – Там в толпе как в лесу.
– Так-то оно так, да не совсем.
– Тогда я один пойду! – воскликнул Васька.
– Один? – спросил солдат и посмотрел на Ваську. Он подумал: «Нет, Василий, один ты пропадешь. Если раньше не пропадал, так и дела такого у тебя не было, чтобы бороться с целой шайкой. Нам теперь, Василий, надо быть вместе. Вместе мы много сильней. Вот и я бы без тебя сгинул бы, наверное. Я без тебя ноль. А ты хоть и единица, но в одиночку тоже невесть какая. Вот и выходит, что только мы вдвоем и можем жить».
Так солдат размышлял. Вслух он произнес:
– Пойдем, пожалуй.
Они миновали окраинные улицы, мимо текстильной фабрики, мимо керосиновой лавки выскочили прямо к рынку. Трудно было сказать, где кончался и где начинался этот рынок. Толпа заполняла бывшее узкое пространство люберецкого рынка, а также площадь перед станцией и прилегающие улицы, вплоть до бани.
Солдат смотрел вокруг с любопытством, но и с некоторой растерянностью, в то время как Васька был тут как рыба в воде. Он довел солдата до тихого, насколько это было возможно в толпе, закутка, между стеной дома и пивной, сказал:
– Стой здесь, дальше я сам пойду. Один я быстрей найду Купца.
Васька ввинтился в толпу как вьюнок все равно. Быстро, ловко скользил между группами и одиночками, у иных под руками ухитрялся пролазить и одновременно успевал что-то углядеть, пощупать, даже понюхать. Но двигался он вперед.
Какое богатство был военный рынок. Вся человеческая бедность, вынесенная напоказ, создавала странную иллюзию обилия. Все тут возможно встретить: зажигалки, одеколон, бритвы, плоскогубцы, книги, гвозди, пуговицы, штаны, абажур, глиняную копилку-кошку с узкой щелью на загривке.
Кто-то кому-то пояснял, что означает номер вверху консервной банки (не рыбная, какая же она рыбная, мясная эта банка, чудак!), кто-то жег спичкой нитку на шерстяном отрезе и совал в нос покупателю, доказывая, что шерсть есть шерсть, а не что-нибудь иное. «Слышь, завоняло? То-то же!» И Васька сунул нос, вынырнув из-под руки, и точно, воняло, как паленым от собаки.
– Отрез из собачьей шерсти! – сказал он мимоходом, но его тотчас шуганули.
Старикашка кричал громко: «Мастика для бритвы! Мастика для бритвы! Мастика для бритвы! Женщины любят бритых да молодых!» Васька посмотрел на старика и крикнул на ходу:
– Сам-то чего небритый? Старик тут же среагировал:
– Сам бы брился, да других надо уважать! Покупайте, молодой человек!
– Не отросло еще, – сказал Васька. Старик подмигнул, восклицая:
– Вострая бритва везде сгодится!
Но Васька уже его не слышал, он уставился на чьи-то руки, державшие часы. Спорили двое, и хозяин часов говорил: «Да хошь, я их об землю сейчас? Хошь? Ты вот скажи, что хошь, и я их об землю!» – Зачем их об землю? – спросил покупатель.
– Как зачем? Ты говоришь, мол, часы негодные или плохие? А я говорю, что лучше этих часов сейчас на рынке нет и не было. Вот шмякну об землю, и посмотрим.
Какие они…
– Я не говорю, что они плохие!
– Ага, значит, думаешь! А ты не думай, это тебе не штамповка какая-нибудь, сам у фрица с руки снял!
Васька постоял, подождал немного, а вдруг тот, что с часами, действительно возьмет да шмякнет. Но он продолжал хвалиться, и Васька разочарованно отошел, размышляя над тем, что купля-продажа это не столько сама вещь, сколько разговор вокруг нее, и красноречие здесь, а попросту язык, и есть самая большая ценность. Уговоришь – значит, продашь. Голод заставит быть разговорчивым.
Васька уперся глазами в двух сидящих у ящика людей. Один из них играл в «петельку», другой – в «три карты». Ну, «петельку» Васька знал. Там, куда ни суй палец, пусто будет. И все это знали. Поэтому игра шла по дешевке, по рублю. А вот карты… Тут, как говорят, ловкость рук и никакого мошенства…
Васька, затаив дыхание, смотрел, как пьяный дядька раскладывал у всех на виду карты, приговаривая для любопытных, собравшихся вокруг: «Игра простая, и карта такая, вот тебе туз, а вот король… Попадешь на туза, не возьмешь ни фига, а попадешь на короля, сто рублей с меня!.. Кладу на виду!»Васька точно угадал, где лег король, и все вокруг видели, как и Васька, что король лег с левого края. Но стоило кому-нибудь показать на карту, как дядька кричал: «Червонец сперва на стол!» Вот тут, как догадался Васька, и есть самый главный фокус в игре. Червонец-то не близко, за ним лезть надо. Кто теперь близко прячет? Только человек руку отпустил от карты да двумя руками за бумажником полез, ан карта там уже другая. Отпусти руку – и все тут, нет короля, как не было. Положил человек червонец, переворачивает: не та! А все кругом хохочут! Не первый такой ты дурачок… Не первый и не последний!
Дядька кое-как сует смятый червонец, а там в кармане у него другие торчат… Эх, словно зачесалась у Васьки рука, пальцы зазудило. Но близко локоток, да не укусишь. Знает Васька по опыту, что вокруг картежника вьются свои, разжигают страсти, заинтересовывают толпу, сами для виду играют. Ловят простачков в свои сети. Уж дядька недосмотрит, так эти углядят, прибьют.
Поднял Васька глаза, а рядом Купец стоит. Тоже в карты уставился. Норовит не заплатя угадать.
– Эй, – сказал Васька, – чего продаешь? Это что, машинка для стрижки волос?
Купец только рыжими глазами повел на Ваську, буркнул недовольно:
– Не лапай, не купишь.
– А мне она и не нужна, – сказал Васька. – Тут один бывший парикмахер искал… Мол, машинка ему нужна…
Купец перестал шарить глазами по картам, обратился к Ваське, недоверие на лице. Не доверяет, а отпустить Ваську боится.
– Кто такой? – спрашивает. – Покажи! Васька посмотрел в лицо Купца, конопатый, глаза, как у лягушки, широко расставлены, а в них плохо скрытая жадность. И губы толстые, шлеп-шлеп… В детдоме бы его сразу нарекли «губатым».
– Пошли, – сказал Васька и полез снова в толпу. Издалека увидел солдата, ткнул Купца в его сторону:
– Он!
– Солдат, что ли?
– Ага. Интересовался твоей машинкой! Только подошел Купец к солдату, как Васька его сзади обхватил и закричал солдату:
– Это он, он! Это Купец тот! Держи! Купец не успел и среагировать, как солдат взял его под руку, интересно так взял, что и не вырвешься и даже не пошевелишься: больно будет.
– Чего тебе? Чего хватаешь? – заныл Купец сразу. И голос стал хлипкий, противный.
Солдат посмотрел на него и, задвигая поглубже в простенок, спросил негромко:
– Слушай, Сенька, у меня к тебе такой вопрос. Ты у меня винтовку брал? И вещмешок? И документы?
Купец даже ныть перестал, глаза вывернулись наизнанку. Пытался что-то сообразить и только губами безмолвно шлепал. Васька стоял на выходе из простенка и знал, что если Купец рванется и ему удастся освободиться, то Васька ляжет ему под ноги. А солдат поднадавил на руку, так слегка надавил, но Сенька застонал от боли.
– Брал или нет?
– Нет, – сказал Сенька.
– А если вспомнить?
– Нет, не брал я.
– А если еще вспомнить?
– Клянусь, не брал!
Солдат оглянулся вокруг. Проходили мимо люди, некоторые обращали внимание. Понял солдат, что ничего из Сеньки таким путем не вытянешь. Да и времени нет с ним возиться. Не в лесу, на рынке. Тут у Купца знакомых блатяг видимо-невидимо. Один углядит, и все пропало.
Солдат опять оглянулся, велел Ваське остаться тут, а сам повел Купца в сторону. Сперва держал, как прежде, за руку, а потом и держать перестал. Уговаривал, внушал, а Купец все мотал головой.
Васька смотрел издалека, но уяснил уже, что ничего не скажет Купец. Его не напугаешь, он стоеросовый! Весь в свою маму Акулу. От коровы теленок, а от свиньи поросенок! Васька увидел, что солдат снял часы, посмотрел время, что-то прикидывая, и показывает Купцу. Тот зашлепал губами, впился в них, глаз не сводит. А солдат ему прямо в руки. На, мол, смотри. Схватил тот, к уху прижал, а лобик у него узкий, как у обезьяны…
Васька смотрит на Купца, а Купец то на часы, то на солдата. Пытается что-то сообразить. А что соображать, видно и так, что Сенька Купец продажный. Он за деньги мать родную продаст и себя в придачу.
Увидел Васька, как Купец торопливо засунул часы в нагрудный карман, извлек огрызок карандаша и тут же на пачке «Беломора» стал что-то писать, карандаш он слюнявил во рту. А Васька с яростью, так что горло перехватило, подумал: жаба! Сказать, крикнуть не мог: боялся испортить дело.
Солдат принял написанное, прочел, сунул в карман. Уже громко произнес:
– Ну, смотри, Купец! Если тут насочинял!
– Во, клянусь, – забормотал тот, бледнея и отодвигаясь на всякий случай в толпу. Может, он испугался, что часы заберут обратно. – Что я, враг себе, что ли. Договор дороже денег…
– Для тебя-то? – без улыбки спросил солдат. Брезгливо отвернулся, показывая, что разговор кончен и ему противно стоять рядом.
– Жаба, – сказал Васька, вложив всю свою ненависть. – Ты, Купец, жаба!
Тот зыркнул на Ваську, но никак не среагировал, а сразу влез в толпу и пропал. Ясное дело, дал ходу подальше. А солдат продолжал стоять как раньше, словно забыв, где он находится.
– Дядя Андрей, – позвал Васька. Тот обернулся, незрячим оком окинул рынок, Ваську. Медленно дошел до стены, сел на завалинку.
– Подожди, Василий… Сейчас, что-то устал.
Дышал он тяжело, будто долго работал. Щеки опали, и глаза ушли. Посмотрел сбоку Васька, как жизнь измочалила человека. Его накормить надо, вот что. Без жратвы и без сил он долго не протянет.
– Посиди, я сейчас, – сказал Васька и полез в толпу.
Где ужом, а где ласточкой пролез, проскользнул, пронырнул Васька – напрямки к картежному барыге. У того по-прежнему червонцы смятой горстью из кармана торчат. А он, видать, поддал еще, шумит, карты местами перекладывает.
Васька пристально посмотрел на него издалека, точно измерял глазами или внушал что-то. Притерся сбоку, вперился в карты, а руки сделали остальное. За угол двумя пальцами, как ножницами, потянул бумажку на себя. Тише дуновения ветра было это движение. В лице оживленное внимание к картам, в теле немота и напряженность в каждой отдельной мышце, в ногах – пружинистый, готовый к прыжку рывок. А руки сами по себе, работают, знают, как делать дела. Тончайшая, ювелирная работа, если по достоинству оценить. Указательный и средний по миллиметру тянут, а другие пальцы на подхвате, в малый комок сворачивают, в рукав продвигают. Уж готово, да не совсем, паузу требуется выдержать. Постоял Васька, на небо поглядел, все-то чувствуя вокруг, – и крабом в щель, в толпу. Вот теперь – все.
Вынул червонец, оглядел с двух сторон, разгладил, потом свернул вчетверо. Положил в левую ладонь и свободно, как гуляя, к барыге-картежнику подошел. Стоял, сжав червонец в руке, караулил.
– Игра простая, карта золотая! Вот тебе туз, вот тебе король!
Васька смотрел не моргнув, ел глазами карты, засек намертво, что король лег с правой стороны. Шмякнул на него рукой, к месту прижал: «Тут!»Барыга захохотал, и все кругом оскалились.
– Деньги на бочку! – произнес, будто отрыгнул сивухой, показывая желтые, прокуренные зубы.
Васька правой вцепился в карту, а левой протянул червонец – вот, мол, держи.
Тут барыга улыбку стер, в упор взглянул на Ваську, потягивая носом. Нагло прошипел:
– Проиграешь, цуцик! Не советую!
– А мне, дядя, денег не жалко, – овечкой смотрит Васька, глаза доверчивые, как у дурачка. Барыга и тот усомнился: идиотик, что ли, он, влез на мою голову. Если идиотик, недоношенный, отцеплю.
Чувствует Васька, как сзади поднадавили, кто-то свой старается, гнет Ваську, мешает ему. Хотел оглянуться, а тут карта сама собой, как живая, поползла из-под пальца. Васька второй рукой вцепился. Вот-вот упустит короля.
– Мал еще! – как закричит барыга. – В школу ходить надо, а не на рынке играть!
Знает, куда бить. Но не на таковского напал. Васька за себя постоять может. Вперился в зенки барыги, руками карту держит, а ртом работает, кричит как можно сильнее, чтобы скандалом толпу привлечь.
– Ты, дяденька, на сына кричи, а я сам свои гроши зарабатываю. Ты по росту не смотри, мой червонец ничуть не хуже, чем твой. Ты прямо, дяденька, скажи, почему я не могу играть!
– Пусть играет, – сказали в толпе. – Что тебе, чужих денег жалко?
Откуда-то инвалид появился с пустым правым рукавом. Посмотрел на карты, на Ваську, спросил басом:
– Чего ты? Дай мальчику сыграть. Не все равно: он или я? Ну, считай, что моя карта.
– Сам и плати! – сказал зло барыга.
– Заплачу, – произнес спокойно инвалид. – Держи, мальчик, свою карту, поскольку у нас три руки на двоих. Сейчас мы его потрясем немного…
В толпе засмеялись. Васька чувствовал: теперь все на их стороне. Инвалид положил свой червонец, а Васькин забрал.
– Переворачивай, мальчуган! Посмотрим, какое наше счастье!
– Переворачивай! – крикнули нетерпеливые. Но странно, и барыга повеселел, по-свойски крикнул инвалиду:
– Не боишься? Хочешь, я сумму удвою? А утрою? А? – и захохотал принужденно. Васька почувствовал, как играет барыга, но не мог смекнуть, к чему это. Пугает ли, ва-банк пошел? Давит инвалиду на психику. Расчет-то верный, у фронтового человека равновесия не может быть. Разве что выдержка, и то до поры. Вот барыга и жмет на эту самую выдержку, вывести из себя пытается.
– На тыщу, – орет, – играем! Как?
Толпа замерла. И Васька замер. Вот до чего дошло, на его карту ставят целую тыщу. Глаза сошлись на инвалиде, и Васька смотрит, но жалобно смотрит, испугался. За свои бы, наверное, нет, но деньги-то чужие, а карта Васькина!
Пошевелил инвалид губами, состояние свое прикидывал.
Вдруг махнул единственной рукой:
– Валяй на тыщу!Ахнули все. Круг придвинулся, задние на цыпочки встали А барыга руку сверху Васькиной положил, чтобы, значит, не торопился.
– Не боишься? – зубы оскалил радостно.
– А чего тут бояться, – смеется тоже инвалид. – Сотня, тыща… это не жизнь… А жизнь – не игра.
– У кого не игра, а у кого – игра, – с вызовом бросил барыга.
У Васьки пальцы онемели держать карту. Уж сам не знает, что он держит, может, под рукой и карты никакой нет. Чего вдруг барыга развеселился, разошелся? Как правоту чувствует?
– Хватит, переворачивай, – кричат в толпе.
– Переворачивай, – говорит инвалид.
– Ладно, – сказал барыга, – не буду на тыщу. Не хочу грабить героя-бойца, а червонец – возьму, чтобы не лез на рожон, в лобовую атаку.
Снял он свою руку, и Васька со страхом перевернул. Все подтянулись, чтобы посмотреть: король! «Вот, нагленок, короля держал, а если бы вправду на тыщу! Хватай деньги и тикай, пока не отняли!»Инвалид хлопнул дружелюбно Ваську по спине: мол, бери, твои – и отошел. Видать, торопился. Стали все расходиться. А барыга считал червонцы медленно, поглядывая по сторонам, положил сто рублей Ваське в ладонь, но руку не отпустил:
– У нас так, милый, не водится, играй еще! Васька и сам сообразил: не отпустит. Ткнул пальцем заведомо другую карту, отдал червонец и тут же смотался. На Васькино счастье, кто-то подвернулся играть.
Тут же купил Васька полбуханки хлеба, пять вареных картофелин и огромный, бурого цвета соленый огурец. Прижимая все к груди, пролез к стене, где недавно оставил солдата, и не нашел его. Быстро посмотрел во все стороны и тут только увидел в спину, что уходит в сторону вокзала дядя Андрей, а рядом с ним еще два военных с красными повязками на рукавах.
Хотел Васька побежать следом, да ноги отнялись. Сел он на ту самую завалинку, где недавно солдат сидел, хлеб положил, картошку, огурец. Посмотрел на свою провизию, слезы потекли из глаз. Из-за них, из-за картошки да хлеба, потерял он дядю Андрея. Оставил одного, хоть обещал беречь. А теперь его забрали, навсегда увели. Остался Васька один – на всю его жизнь.
– 16 -
Андрей не заметил, как подошли к нему двое.
– Почему не приветствуете, товарищ красноармеец? Андрей вскочил, отдал честь.
– Документы, – сказал один.
В глазах у Андрея, оттого ли, что встал, или от общей усталости и от голода, все померкло, покрылось серой пеленой. Он провел рукой по глазам, встряхнул головой, но увидел солдат как издалека.
Многажды за эти сутки он представлял, как его возьмут, как поведут… Было это страшно От одной мысли холодело в животе. А теперь вот они стояли, как представлялось, и только не было страшно. Он пережил раньше свой страх, оставалась одна пустота.
Андрей вздрогнул, посмотрел на лицо солдата. Вспомнил, что давным-давно, в непонятные времена, рыжий красавец ефрейтор просил у него закурить. А тот улыбался во весь рот, конопатины на носу светились.
Андрей натянуто улыбнулся.
– Свой, – сказал рыжий ефрейтор длинному напарнику. – Я у него проверял. Как дышится в родном городе? – спросил он Андрея.
– Да ничего, – ответил Андрей каменно.
– Девки небось заездили?
Они прошли несколько шагов вперед, и рыжий что-то спрашивал, Андрей отвечал. Был он как во сне. Не верилось, что могло так гладко пройти. Сейчас поговорят, пошутят, а потом дружелюбно предложат: «Айда-ка, парень, с нами. Что мы, не видим, что ты без оружия и без документов. Пойдем, пойдем…»Сам Андрей вдруг предложил:
– Пойдем? – Он решил, что так станет легче. Он честно все расскажет, не будет носить свою тяжесть. Что бы там ни случилось, но хуже, чем сейчас, не будет.
– Иди, иди, – воскликнул рыжий. – У тебя время – золото! – Протянул руку, бросил мимоходно, незначаще: – Не забывайся, хоть в родном городе… Всему свой срок!
Андрея мгновенно мысль сквозная прострелила: «Вот что! Запомнил рыжий про суточную увольнительную. Выручил, потому что решил, что прогулял он лишнее. Тоже грех, но не столь велик, каков был на самом деле».
Андрей как выдохнул:
– Спасибо, друг!
– Не за что, – сказал рыжий, козырнув. Подмигивая желтым проницательным глазом, пропел весело: – «Вспомню я пехоту, и родную роту, и тебя за то, что дал мне закурить…» Разошлись, чуть полегчало. Сейчас только подумал солдат про Ваську, стал проталкиваться к старому месту. За чужой толпой увидел: ссутулившись, сидит мальчик на завалинке, как потерянный, глаза руками трет.
Сел солдат рядом, взял за плечо:
– Ну что, Василий? – а тот дернулся, обернулся, замер счастливо. Сердце чуть не выпрыгнуло у Васьки.
– Дядя… Дядя Андрей! А я-то подумал…
– Ага, – сказал солдат. – Я тоже, Василий, так подумал. Пойдем-ка скорей отсюдова. Хватит нам испытывать судьбу.
– А у меня глядите! Хлеб с картошкой! Солдат ничего не сказал, забрал продукты в широкие горсти и торопливо, локтем вперед, пошел через толпу, Васька за ним. Выбрались с рынка, и только за домами, когда пошли заборы да огороды, солдат чуть уменьшил шаг. На какой-то полянке вывалили хлеб наземь, картошку, огурец, и оба сели.
Жевали, глядя друг на друга, словно впервые увидели.
– А ты, Василий, жук! Ох, жук!
– Почему, дядя Андрей?
– Гм… Еще спрашиваешь почему?
– Ага, я непонятливый с детства.
– Сейчас поймешь. Где взял еду?
– Нашел, – сказал Васька и поглядел солдату в глаза.
– Валялось? – спросил добродушно солдат с набитым ртом. У него вышло так: «Ва-я-ось?» – А что, не бывает, что ли? Карточки теряют… А однажды я слышал, будто корову целиком потеряли.
– Дойную? – спросил солдат серьезно.
– Не знаю. Да ну вас, чего пристали. Говорю, нашел!
– Увидел, нашел – насилу ушел! – сказал солдат, как в шутку, но лицо у него оставалось строгим. – Давай-ка на первый случай договоримся, Василий, с тобой вот о чем…
– О чем? – спросил Васька, перестав жевать.
– В общем-то мелочь, но… Давай так: с сегодняшнего дня не красть. Ладно?
Васька с готовностью кивнул. Про себя он подумал:
«Ишь ты! Не красть! Разве так бывает? А я не хуже других, только и всего!»Хоть Васька наклонился, спрятав глаза, солдат услыхал Васькины мысли. Впрямую изрек:
– Я, дружок, не шучу. Пойми, настоящие люди этим не занимаются.
– А как жить? – Тот вытянул резко остренькое лицо к солдату.
– Так и жить. Не врать и не красть. Настоящие люди уважают других людей.
– Сейчас война, – убежденно рассудил Васька. – А красть можно и у жуликов, они нынче во – разъелись!
– Какая же разница, если все равно кража? Тут враг против нас, весь мировой фашизм навалился. А мы… Что же, мы должны как звери – только бы выгадать да уцелеть? Так разве надо?
– Нет, – помотал головой Васька.
– Представляешь, какими бы мы были, если бы каждый человек стоял только за себя?
Васька представил, как он сейчас живет без дяди Андрея, и вышло это плохо.
– Украли у меня вещи, оружие… – размышлял вслух солдат. – А мне гадов бить надо. А я тут, в тылу, как последняя сявка скрываюсь, вместо того чтобы за нас с тобой грудью стоять. Отчего так, Василий? Оттого, что мелкие хищники, тыловые сучки, не думают о нашей общей победе. Каждый суслик вырыл свою нору и туда тащит, как будто нет у нас общего врага. А он придет и по отдельности передушит. Если по отдельности…
– Дядя Андрей, – влез Васька робко. – Дядя Андрей… Я хотел тогда сказать, что я ведь тоже там был.
– Где ты был, Василий? – рассеянно спросил солдат.
– Там! – Васька мотнул головой и закашлялся. Изо рта полетели крошки. Ваське стало жаль крошек, он зажал рот ладонью, пересилил кашель. Сжевал, посмотрел на солдата. Тот ковырял травинкой в зубах и молчал. -Вы не думайте, – тревожно произнес Васька, – я к вам и не подходил вовсе, хотя они компас…
Солдат отвернулся лицом к деревьям, покрутил головой, встал. Не спеша отряхивался, собираясь уходить.
Васька понял, что солдат сейчас уйдет, бросив его. Он уже сообразил все про Ваську, что Васька – мелкий хищник, гад, который не хочет бороться вместе со всеми за победу над врагом.
Васька подскочил с земли, забежал спереди солдата, отчаянно захлебываясь, замельтешил торопливо, глотая слова вместе со слезами. Он говорил, что хочет вместе со всеми, а не сам по себе, как жил он до сих пор. Он, Васька, и в мыслях не держал, что он кому-то нужен. А если бы он оказался нужен, то Васька весь тут, готов бороться за победу… А потому он никогда в жизни не возьмет чужого, ему и не надо ничего, лишь бы считали настоящим человеком.
Были слова такие или не совсем такие, а может, лишь сплошное бормотание сквозь Васькину истерику. Но солдат разобрался. Стоял, упершись глазами в мальчика, изучал. Как проверял все равно.
– Ладно, Василий. Я твое слово запомню.
Ночью Андрею приснилось, что его ищут. Все знают про него, мальчишки из-за сосен следят, пальцем указывают. А бойцы разбились цепью, прочесывают вокруг лес. Хочется крикнуть: мол, с вами я, не ушел. А голоса-то нет! Все украли: оружие, документы и голос… Пойти бы в штаб, доложить по форме: мол, боец Долгушин прибыл. Дайте снова оружие, оправдаю, товарищи, кровью. Сказали бы ему: иди добудь винтовку у врага. Мы верим, что ты, Андрей, честный человек, хоть и споткнулся. Мы куем победу над врагом, и надо доказать, что ты да Васька – со всеми вместе, а не отдельно.
Как же случилось, что лежит он в сарае, скрывается как последняя шкура? А цепи сходятся тесней, и видно, как шагают Воробьев и Гандзюк, а старший сержант Потапенко сурово поджал губы. Лейтенант Сергеев хлещет по сапогам прутиком, как бы гуляет меж деревьев, и вдруг этим прутиком тычет в сторону сарая: тут проверьте!
Роют уже поленья, швыряя их в сторону со стеклянным стуком. Пропал Андрей! А голоса нет, и сил нет, чтобы подняться и стоя, а не лежа встретить своих… Не по-собачьи, сжавшись в узелок.
Застонал Андрей от своего позора и проснулся. Сразу сообразил, что стонал он вслух. За поленницей кто-то ворошит дрова. На улице светло. Солнце в каждой щели, сечет сумрак лучами. И воробьи наверху чвикают, ссорятся, пищат, крошки и всякий мусор сыплется Андрею на лицо.
Он скривил губу, пытается сдуть с себя, со щеки эти крошки. Услышал, как встали на солнышке по ту сторону стены ребятишки, судачат о своем. Через доски их видно по контуру щелей.
Андрей прислушался: говорили о своих делах. О том, что какого-то Грача вызвали к директору за разбитое окно. Директор, мол, сказал, что сам разбил, сам и вставляй. Почему все должны мерзнуть? Не вставишь, мол, и не приходи. А где он, Грач, найдет новое стекло, легче ему из детдома уйти. А Сморчок, тоже чудеса, стал пропадать неведомо где. Раньше кусочничал, под ногами вертелся, норовил в рабство за кусман продаться. А теперь… Прибежит, глазами повращает и спать. Может, спер по-крупному да подъедает потихоньку, надо последить…
Тут крикнули со стороны: «Завтрак готов!» И ребята посыпались от стены, вмиг не стало никого. Андрей стал думать о Ваське, но сон вспомнил, настроение его погасло. Повернулся резко, аж воробьи перепугались, вспорхнули. Так решил: сегодня последний день у него. Найдется али не найдется оружие, надо выходить. Хватит по-звериному жить и усугублять свое положение. Дальше фронта не угонят, ближе тыла не пошлют.
Принял решение и стал выбираться из лаза на волю.
– 17 -
Теплым вечером возвращался Васька в детдом. Шел и оглядывался. Небо и земля, крыши домов, голые скелеты деревьев – все обрело необыкновенный сиреневый оттенок. Будто плеснули химических чернил. И запах был цветной, густой, вечерний.
Странное чувство испытывал Васька. Он впервые увидел в жизни настоящую весну. Вдруг спала с глаз пелена, и узрел он мир в прозрачных сумерках, в удивительном закатном свете. Так пронзительно, так ярко все увидалось. Зима казалась теперь одним непрерывным серым днем, без запаха и цвета. Но она кончилась, с ледяным голодом, промозглыми холодами, и наступила перемена в Васькиной теперешней жизни.
У дома на пустыре ловили майских жуков.
Ребята приседали, чтобы лучше видеть на фоне светлого неба. Когда издали появлялись тяжелые, замедленно и неровно летящие жуки, все бросались им навстречу, швыряли галоши и шапки, размахивали ветками, пучками прошлогодней травы. Ползали по земле, отыскивая их на ощупь, старались разглядеть, поднося к глазам, какого цвета шейка. У самочек шейка была красная, у самца синяя. Самцы попадались реже.
Так продолжалось до темноты. Впрочем, никакой темноты еще и не было, но сгустилось настолько, что жуков, еще летящих, гудящих над головой, никто не различал. Но и от одного их близкого дребезжащего гуда в этих серых, синих, сиреневых сумерках у Васьки приятно кружилась голова.
Детдомовцы, собравшись, пересчитывали добычу, хвалясь друг перед другом и поднося спичечные коробки к уху, было слышно, как в них царапается и шуршит. Васька вертелся между всеми, слушал, смотрел и никак не завидовал чужой удаче. Была бы охота, он завтра наберет их хоть корзину с молодых березок. Спящие жуки, только потряси ствол, сами посыпятся, как желуди, наземь. Но разве интересно собирать спящих жуков. Другое дело – ловить вот так, с воем, с криком, отчаянным азартом, когда колотится сердце от захватывающей этой охоты. Но еще пуще, это впервые сегодня понял Васька, была сама причастность его ко всем, объединявшая их общность ловли и азарта.
А тут еще кто-то крикнул:
– Скорей! Радио известия передает!
И всем скопом, с топотом и сопеньем, ринулись на крыльцо и в кабинет директора, где висел репродуктор с порванной тарелкой.
В давние времена кто-то из воспитателей принес его в детдом, прицепил на гвоздь, так он и висел, сквозь вырванный черный клок была видна стена.
Все могли разрушить детдомовцы: топчан сломать, на котором спали, миску сплющить, из которой ели, ножку у стола отвернуть… Но репродуктор этот, висящий, как говорят, на честном слове, который можно было сто раз унести, раздраконить, разобрать по частям, никто никогда не тронул… Да и попробовал бы тронуть! Он приносил ребятам главное: вести с фронта. А кому они были важней, как не детям, чьи отцы шли через войну к тому дню, когда вернутся и заберут их домой.
И каждый понимал это. И каждый лез под самую тарелку, чтобы лучше знать, слышать, что происходит на переднем крае, А Васька, который в обычное время слушал как бы издали, потому что не ждал никого и никогда, а ждал победу, которая в его жизни могла вдруг все изменить, нынче Васька протиснулся ближе всех. С появлением в его жизни дяди Андрея фронт и новости, идущие оттуда, стали его интересовать. Не сегодня завтра дядя Андрей поедет туда, и очень нужно Ваське знать, как там сейчас, очень ли опасно будет для его дяди Андрея.
Диктор сообщил от последнего Совинформбюро, что на фронтах шли бои местного значения. Голос в репродукторе дребезжал, а временами даже звенел от резонанса. Но тихо было в комнате, как не бывает никогда при большом скопище детей.
И тут вновь, и опять же впервые, почувствовал Васька, что все они, и он и другие ребята, от самой малой пацанвы до великовозрастных, объединены чем-то большим, чем просто их жизнь в детдоме…
А потом кончилось, распалось, и всяк оказался сам по себе. Расползлись пацаны, как выпущенные на волю жуки: каждый в свою щель. А Васька побрел в спальню.
В комнате, в дальнем углу, сидел Толька Рябушкин со своим отцом – старшиной, он служил неподалеку в части. Каждый вечер старшина приходил с зеленым вещмешком, одним движением развязывал петлю и доставал котелок с кашей. Отгородив сына от назойливых ребячьих глаз, садился и молча смотрел, как Толька поглощает свою кашу.
Никогда ничем не интересовался этот озабоченный и скучный человек. Перед скорой отправкой на фронт жил в нем один непроходящий страх, вызванный неминуемым расставанием с сыном.
Никого из Толькиных дружков не помнил он в лицо, да, кажется, их побаивался. Может, он себе и детдом представлял как скопище одинаково больших и прожорливых ртов, которые норовили что-нибудь урвать из содержимого котелка, предназначенного сыну, лишь ему одному.
Возможно, старшина сам недоедал из-за своей так проявляемой любви и некоторой доли вины за то, что он уедет на фронт, а сын останется тут голодать.
И он пихал, пихал в Тольку свою кашу.
Упрашивал, умолял съесть и утешался, и вздыхал свободно, когда котелок освобождался, а Толька наполнялся до краев.
Вот и сейчас сын уже давился, прикрытый отцом как каменной стеной. Он канючил сквозь набитый рот:
– Паа, я не хочу… Я не могу… Я потом…
– Что ты! Что ты! – пробормотал старшина испуганно, суетливо. – Ты ешь сейчас. Отдохни и поешь. А потом я снова принесу.
Толька Рябушкин пыхтел, откидывался навзничь, стараясь вдохнуть воздух. Даже привставал, чтобы больше умялось.
Ребята занимались в спальне своими делами, готовили постели, но слышали они все, и каждый звук со стороны Тольки, каждый скребок ложкой по металлу раздражал их, вызывал голодную слюну.
Старшина не выдержал длинной волынки, выскочил в туалет.
Толька и его котелок, стоящий на коленях, открылись как царский трон все равно.
Не спеша обвел он спальню царским оком и голосом повелителя – куда теперь пропал его писк – стал выкликать дружков. Но первыми позвал Боню и Сыча. Так покупалась желанная свобода, независимость и дружба Толькина.
Каждому вываливал он ложку каши в протянутые ладоши. Счастливцы отбегали, трусили через спальню, поедая кашу на ходу, облизывая пальцы.
Сыч не пошел сам, ему принесли в ложке.
Васька залез с головой под одеяло, скрючился, один витой бугорок от него.
– Сморчок! – крикнули ему. Прозвучало неожиданно, как труба архангела. Все было в этом призыве: жалость к Сморчку, высокомерие, снисхождение и что-то неуловимо унизительное, чего никто из других ребят не замечал, да и Васька бы не расслышал в иное время. Но сегодня его слух и зрение были особенными.
– Сморчок! Долизывать! Живо!
Все удивились, как повезло Сморчку. И он сам удивился, Уж так всегда бывает: везет, когда не ждешь.
Васька даже одеяло открыл, упустив драгоценное тепло.
Но вдруг подумалось, что брошенный с лету кусок не радует его, как обрадовал бы, скажем, вчера. Но ведь и сам Васька не такой, как вчера. Он сегодня жил по-другому, а с ним был дядя Андрей, который стоил тыщу таких старшин, с тыщей их котелков с кашей. Толька нетерпеливо прикрикнул:
– Ну? Сморчок? Не веришь своим ушам? Тебе, тебе!
– А вдруг он не хочет? – хихикнули.
Спальня с готовностью заржала. Где это видано, чтобы Сморчок отказался от куска! Мочу пил за ложку каши. Клянчил, шакалил, в рот смотрел. А тут задарма, по одной Толькиной милости, весь поджарок долизывать на дне. Да скорей гром небесный грянет, чем Сморчок не побежит за котелком. Тут еще уследить надо, чтобы железо не проскреб наскрозь!
За смешками да шуточками не уловили сразу Васькин жалкий голос. Как он вскрикнул растерянно:
– Не хочу.
Сам удивился, как смог такое произнести. Что же тут говорить про остальных! Смех пропал, как ветром сдунуло.
Кто-то пискнул по инерции, стало тихо.
– Что? – спросил Толька, вытягивая шею.
– Не хочу.
Ко всему здесь привыкли. К издевательствам, к унижению, к голодным просьбам о помощи, к рвачеству, воровству и хищничеству. Но такого не было, да и быть не могло.
Недоуменное молчание затягивалось, копилось, становилось угрожающим. А потом будто разверзлось небо и пала на Васькину голову гроза. Обвалом грохнула, канонадой, рассыпалась синими молниями.
Кто ревел, кто визжал, а кто блеял.
Иные закатились от истерики.
Но самые скорые жлобы, шакалы, ублюдки, сявки и прочая мелочь подлетели к незабвенному котелку, просили, молили,вопили о каше:
– Толик! Толик! Толик!
– Мне! Мне! Мне!
– Дай! Дай! Дай!
И он растерялся, поднял котелок над головой, чтобы не вырвали, выбирал достойнейшего, тут и старшина вернулся. Вмиг рассыпались все по койкам. Озабоченный, погруженный в свои невеселые мысли, он заглянул в котелок, и все будто с ним заглянули, стал опускать его в мешок. Ребячьи сердца оборвались, когда он завязывал странной петлей, когда закидывал на спину и уходил.
Вся неудовлетворенная страсть, ребячий недосыт, недобор, пережитое в конце унижение обратились теперь на Ваську.
– У-у, Сморчок! – крикнули угрожающе. – Обожрался, что ли?
– Может, карточки спер, поделись!
– Может, бухарик накалымил?
– Надыбил мешок картошки?
– Солонину высветил?
– Тушенку изобрел?
– Может… хрусты?
– …Стибрил? Стащил? Украл? Слямзил? Стянул? Спер? Сваландал? Обчистил? Обобрал? Наколол? Сверзил? Скукурил? Стырил?
Швырнули подушкой, ботинком.
Наступили ногой на голову.
Пхнули топчан, он покачнулся, но не упал.
Неизвестно, чем бы все кончилось, скорей всего «темной» – избиением, узаконенным детдомовскими обычаями.
Голос Бонн прозвучал вразрез с общим настроением.
– А чего, – рассудил насмешливо Бонифаций. – Виноват он, что ли, если запор, к примеру, вышел. Али понос какой… У меня тоже бывает.
Охотно засмеялись.
Кто-то запел:
– Сморчок-чок-чок! Пошел на толчок-чок-чок! Залез в говничок-чок-чок! Нашел пятачок-чок-чок! Облизал и молчок-чок-чок!
Уже на «чок» подпевала вся спальня. Зло ушло в шутку, в крик.
Васька понял: пронесло.
Не то чтобы он сильно переживал. Но сердце заныло, сжалось. Кожа покрылась сыпью от нервного ожидания. Холод камнем засел в животе. Засосало, закрутило в утробе от черного, от беспросветного одиночества.
А ведь только недавно вместе ловили они жуков! Как дружно, как счастливо в общем единении у них выходило. С тем же азартом, с той же безжалостностью обернулись теперь против одного, сообща гнали, как майского жука неопытного в первый день его вылета!
«Держись, Василий, – будто голос солдата рядом. – Начать жизнь по-новому ой как не просто. Будь человеком, мальчик, держись».
Проснулся Васька раньше других, специально себя на такое время завел. Выскочил в коридор и наткнулся. на воспитательницу Анну Михайловну. Не смог увернуться, поймала за плечо, стала назначать дежурным. В другое бы время Васька с радосгью, кто ж не хочет быть дежурным, пайки тасовать.
Анна Михайловна достала карандашик, бумажку, спросила:
– Как фамилия?
– Тпрутпрункевич, – сказал Васька.
– Пру… Как? – удивилась воспитательница, гляди на Ваську холодными синими глазами.
Тут Боня с делами всунулся, мол, хор нужно организовать, выступление в госпитале. Анна Михайловна Васькино плечо выпустила, он и был таков.
На завтрак съел порцию жиденькой каши, вылизал тарелку – Смотри, – сказал Грач за столом и начал быстро-быстро отрыгиваться. Непонятно, как ему удавалось.
– А он воздуха наглотался, гад! – крикнул Толька.
– Как это?
– Просто… Ходит и глотает целый день. А потом из него прет наружу Называется привет от самого нутра!
– А может, так сытней? – спросил Васька с надеждой.
Мимо Анны Михайловны выскочил на высокое деревянное крыльцо, зажмурился Солнце било прямо в глаза, лучилось из-за сосен, полосами ложилось на землю. Васька лег на перила и животом почувствовал, что они горячие. Съехал вниз, как по воздуху проскакал до сарая, сунул мордочку в лаз. Солдата там не оказалось.
Васька соображал недолго, смекнул, что дядя Андрей, как вчера, встал пораньше, нежится на солнышке за стеной. Но и там никого не было. Остановился в недоумении Не мог же в самом деле солдат дядя Андрей взять и уйти?
Шагом обошел Васька вокруг детдома, глянул за кустами на пустыре, зачем-то сунулся в кухню, снова посмотрел в сарае. Радость его таяла.
Потерянный стоял Васька, чувствуя, как неуютно стало вдруг жить. Появился солдат в Васькиной жизни, и смысл появился в самом Ваське, во всяких его делах.
А так кому он нужен? Разве что самому себе?
Но подобным образом мог жить Васька раньше, до дяди Андрея. Теперь он так жить не мог.
Разве зазря он человеком себя почувствовал, чтобы назад возвращаться? Эх, дядя, дядя! Зачем же ты Ваську возродил, дал понять радость жизни не для себя, для других, из первобытности вывел? Жил бы Васька как гад, болотный, ползал да пресмыкался и считал бы, что это и есть настоящая жизнь… А теперь…
Последний раз, без всякой, впрочем, надежды, оглянулся Васька, двинулся в сторону школы. Не потому, что вспомнил об уроках, ему было безразлично куда идти.
– А-а! Сморчок! Вот так встреча!
Две фигуры посреди тропинки.
Вытаращился Васька, глядит оторопело. Никак не сообразит, отчего встали поперек пути напыжившийся Витька, а с ним долговязый хмырь.
Ноги расставили, как фашисты в карауле, прищурились в упор на Ваську. Долговязый сплевывает через губу, во рту фикса блестит. Блатяга, у них фикса высший шик.
Вот когда Васька сообразил, что никакая это не встреча, караулили его. Хоть бы один Витька, а то блатягу захватил на голову выше себя. Где-то Васьха его видел? Но где? Вспомнился день кражи и долговязый, ударившийся ногой об дерево… Конечно, он.
– Что скажешь? – шепелявит Витька.
Вдвоем он сильный. Подражает блатяге, сплевывает через губу. Его слюна повисает на воротнике. Не торопясь он вытирает его рукавом, цедит сквозь зубы:
– Прро-дажна-я тварь!
– Я не тварь! – вскидывается Васька, отступая назад.
Он уже понимает, что удрать не удастся. Нужно так встать, чтобы не зашли со спины. Еще шаг, и он уперся в дерево. Напружинился, хочет угадать, кто первый из этих двух ударит.
У блатяги руки в карманах, держится позади. Стоит свободно, не суетится, понимает, что Васька у них в руках. Витьке дает инициативу, пусть, мол, натешится, отведет душу. А я успею…
Витька лезет, надрывается, хочет доказать, что он сам шишка на ровном месте. Запугал блатягой жертву, голыми руками норовит взять. Отпора не ожидает.
Сообразил это Васька, молниеносно сунул головой противнику в нос. Тот лишь охнул, стал ловить воздух руками, падая, потащил Ваську за собой.
Оба покатились по сухой траве. Пыхтят, руками, ногами шуруют. То один сверху, то другой.
Витька пересилил. Уперся коленкой в грудь лежащего, замолотил кулаками по голове.
Васька шею втянул, закрыл лицо руками.
Голова как чужая, как тот старшинский котелок звенит, но уже не больно. Странным образом в короткий миг припомнилось вчерашнее и Толькин котелок с поскребышами. С целой спальней выстоял Васька, неужто с одним не выдержит…
Поел бы вчерашней каши, не зафордыбачился, может, сил хватило скинуть с себя врага. Витька на домашних харчах созрел, на сырах, пусть они и казеиновые, из ворованного клея в авиации. А у Васьки всей мощи что от бурды и затирухи. Ее хоть бак съешь, никакой прибыли, кроме лишней мочи, не будет.
Бил, бил Витька, запыхался, решил передых сделать. А из носа разбитого красная юшка течет, Ваське на лицо капает. Как сквозь красный туман видит он над собой противника, блатягу в стороне. Тот прислонился к дереву, одобрительно кивает: «Бей его, добивай, чтобы не жил. Без таких лучше. Да не кулаками, чего кулаки марать! Ты деревяшку возьми, деревяшкой скорей будет!»Нагнулся блатяга, шарит палку под ногами. Отчаяние Ваську взяло. Убивают ведь, и никто не может защитить, спасти его. И дяди Андрея нет рядом. Знал бы он, какой бой досталось вести Ваське, не ушел бы тогда. Неужти конец приходит?
Не напрасно, видать, Васька зверенышем рос, сам себе главный друг и главный защитник. Извернулся змеей, от отчаяния будто силы утроились, дотянулся головой до Внтькиных штанов и хватил его зубами в самый живот.
Вззыл тот нечеловеческим голосом, вся утроба в нем возопила. Волчий клик пронесся по лесу, сам Васька на пугался. С испугу он и свалил врага. Сел на него, в шею вцепился.
Шкурой почувствовал новую опасность – блатяга крадется сзади, готовит палкой удар. Прыгнул Васька в сторону, выхватил стальной обломок, зажал за спинойв руке.
Знал твердо: как подойдет тот поближе, сунет ему острием в лицо, как фашисту… Потому что он и есть для Васьки главный фашист.
Блатяга углядел – блеснуло. Отпрянул, кричит:
– Эй, брось! Ты чего, финкой, да!
Васька отвечать не намерен. Как волчонок поджался, вот-вот прыгнет на врага от отчаяния. Бормочет сам не зная что:
– Воткну! Воткну! Воткну!
С тем и попер на блатягу, мало соображая, как в психическую атаку. Растерялся долговязый, отступил на несколько шагов, глядя со страхом на взбесившегося Ваську, и вдруг побежал.
Витька за ним, пригнувшись, облапив свой живот. Может, Васька до кишок ему прокусил, вкус чужого мяса на зубах.
Остался он один посреди леса с железкой в руках. Озирался, не сознавая своей победы. Швырнул железку и сам бросился бежать, опомнился возле школы.
Ноги и руки дрожали, и весь Васька трясся от страха, который теперь до него дошел. Обессиленно лег на скамеечку, заныл, заскулил как звереныш. Жаловался самому себе на боль и еще неизвестно на что, растирая по лицу чужую и свою кровь.
Приговаривал:
– Били Ваську… Били Ваську больно… Ой, как больно били Ваську! Жалко! Били Ваську! По го-ло-ве!
– 18 -
На серой папиросной пачке было накорябано несколько слов. «Поселок Калинина, дом пятнадцать, Шурик».
Солдат шел по адресу, Ваську с собой не взял. Не хотел мучить. Пусть отдышится пацан, в школу сходит. Хоть было бы вместе не в пример занятней, веселей. Все-то Васька знает, ловок, живуч, оборотист. Перемешано в нем худое с добрым, блатное с благородным, а взрослое с детским… Дитя войны! Но кончится же она, проклятущая. Вырастет Васька, выпрямится, как согнутое под снегом деревце…
Солдат выскочил на окраину улицы. Тут и поселок Калинина, пятнадцатый номер на двухэтажном оштукатуренном доме.
Девочка скакала по асфальту, стриженная наголо, в косыночке. На малокровном лице одни большие грустные глаза.
Остановилась, выслушав солдата, с поджатой ногой, показала рукой на дверь. Первый этаж налево.
Андрей постучался, никто ему не ответил.
Понимал он, конечно, что Сенька Купец, несмотря на уговор, предупредит дружка и тот успеет запрятать оружие. А может, и сам скроется куда-нибудь.
Он и не рассчитывал на скорую удачу. Хотелось встретиться с неведомым Шуриком, потолковать по-мужски. Не деревянный же он, что-то поймет. Ну а не поймет, тогда… Андрей заранее не придумывал, что тогда. Действовал, как учили в армии, по обстановке.
Постоял перед запертой дверью, дощатой, крашенной в бордовый цвет. Вышел наружу, присел на врытую у стены скамеечку.
Светило в лицо солнце. Пищали воробьи под крышей. Белье полоскалось под ветром на веревке. Не белье, а какая-то рвань.
Девочка, тонконогий птенец, прыгала перед глазами, играла сама с собой. Швыряла со звоном баночку от ваксы, обскакивала квадратики.
Обернувшись, спросила:
– Вам Шурик зачем? Вы родственник, да?
– Нет, не родственник, – ответил солдат, щурясь от прямого солнца.
– Он уехал… Вечером уехал, взял удочки, еще что-то. Завтра ведь праздник.
– Удочки? – переспросил солдат. – Какие удочки? Девочка посмотрела себе под ноги, вспомнила, наморщив лоб.
– Такие, ну… длинные, завернутые в мешок.
– Так, так, – заинтересовался солдат. – И куда он? Куда направился?
– Может быть, на речку? – предположила девочка. – А вы его бабушку знаете? Она на заводе в вохре работает, охранницей. Она ушла на сутки, а завтра она придет.
– Только завтра?
– Ага. Она вам все объяснит. Она добрая такая. Меня сахаром вареным угощала. И книжки приносит читать.
– Что же ты одна-то играешь? – спросил солдат. Он подумал вдруг о Ваське.
– А с кем мне играть?
– Ну… С подружками.
– Я ведь болею, – произнесла девочка серьезно. – У меня от голода болезнь. Мы с мамой приехали из Ленинграда. Я все болею и болею и в школу не хожу.
– А из школы к тебе приходят?
– Кто же придет? – удивилась девочка. – Они меня не знают. А я лежала, а сегодня вышла. Только я забыла, как играть. Я чего-то все забываю.
– А мама твоя где?
– На работе. Она у меня ударница, только поздно приходит…
– Небось плохо все одной?
– Я привыкла, – ответила девочка и вздохнула. Вздох ее был как у взрослой. Казалось, что она по-женски мотнет головой и произнесет привычное: мол, сейчас война, всем тяжело.
Но девочка спросила:
– А вы чего один?
– Как? – удивился солдат.
– Вы же военный… А военные ходят помногу.
– Ах, да! Я, в общем, не один. У меня друг настоящий есть.
– Фронтовой друг?
– Да нет… Тыловой.
– Все равно хорошо, – решила девочка. – Я тоже пойду на фронт, когда вырасту.
– Когда ты вырастешь, фронта не будет, – убежденно сказал солдат и встал. – А вот без друзей в любое время нельзя жить. И в войну нельзя. – Он помедлил, глядя на девочку, но говорил он будто не ей, а себе. – В войну особенно нельзя. Счастливо, подружка.
Протянул ей руку, девочка подала свою, тонкую, невесомую. Ниточка, а не рука. Никогда не ощущал солдат такой странной детской руки. Сейчас только дошел до него страшный смысл слов о голодной болезни.
– Приходите завтра, – предложила девочка, впервые улыбнувшись, – Завтра ведь праздник и у военных тоже? А я вам куклу покажу, Катьку, она тоже перенесла блокаду… Даже не пискнула ни разу. Придете?
– Приду, – очень серьезно пообещал солдат.
Уходя, оглянулся. Она по-женски, приложив руку к глазам, смотрела вслед.
Андрей направился в сторону железной дороги, решившись на что-то, чего сам до конца не осознал. Около путей осмотрелся, бегом пересек их. Полем вышел к станции. Издали увидел товарняк на том месте, где был их эшелон.
Показалось жизненно важным узнать сейчас, немедленно, тот ли самый эшелон или другой, будто могла измениться от этого судьба Андрея.
Знал он, что ждут его комендатура, короткий суд и все, что положено в таких случаях. Если поймают, и того короче. Не в эшелон лежал его путь.
Знал, но потянуло взглянуть на поезд, на свой вагон, где еще двое суток назад жил он иной, праведной жизнью. Числился примерным бойцом, дружил с остроязыким Воробьевым, стоял на довольствии, и все было понятно в его пути на фронт.
«Вы же военный… А военные ходят помногу», – определила девочка, царапнув, того не зная, по самому больному.
Отчего так бывает, когда случится в нашей жизни чрезвычайное, ставящее нас на самый край, начинаем мы ценить обыкновенное, чем мы жили и чего не замечали?
Андрей разглядел теперь, что эшелон этот свой. Свой, если мог он еще так его называть. Пригнувшись, пересек он старое люберецкое кладбище, с гнившими деревянными крестами и старыми мраморами, поверженными в беспорядке наземь.
Лег и пополз по-пластунски. Ползать во всякие времена и при всяких условиях научил его старший сержант Потапенко.
Андрей прикоснулся лицом к сухой траве, почувствовал горький щемящий запах, напомнивший о чем-то неподвижно вечном. Подумалось, как просто было бы лечь здесь и заснуть навсегда.
Еще обломок камня попал на глаза, со странными стихами. «Прохожий, ты спешишь, но ляжешь так, как я, сядь и посиди на камне у меня. Сорви былиночку, подумай о судьбе, я дома, ты в гостях, подумай о себе…» Последнее, хоть миновал камень, больно, как гвоздь, воткнулось в память. Подумай о себе… Господи, сколько он передумал!
Острый глаз Андрея уже различал вагоны, солдат тут и там. Кто-то завтракал, сидя на насыпи, иные, раздевшись до пояса, загорали.
– Как в доме отдыха", – подумалось с горечью.
Тут увидел он, – пальцы дрогнули и смяли сухую веточку, – из вагона, его вагона, прыгнул рядовой Гандзюк, начал споласкивать над рельсами котелок с водой. Рядом встал старший сержант Потапенко, что-то внушал солдату. Но говорил он, кажется, лениво, медленно, скорей по привычке, и все тыкал рукой в сторону кладбища. Может, какое поручение давал.
Рядовой Гандзюк ушел, а Потапенко вдруг повернулся, – Андрей сжался, сердце его холонуло, – стал смотреть как раз туда, где он лежал. Суеверно подумалось:
«Видит! Он всегда и все видел, все замечал!» Но конечно же ничего видеть Потапенко не мог. Он стоял задумавшись, и мысли его были невеселые. О бойце Долгушине, посланном в штаб и пропавшем безвестно два дня назад, о срочном приказе эшелону завтра ночью направиться на юг, в район Курска. Не из-за этого ли томили несколько суток на маленькой станции, что решалась их судьба?
Не мог знать Андрей, о чем думал Потапенко, но и сам Потапенко еще не в силах был заглянуть на месяц-другой вперед, в тот горячий день пятого июля, когда начнется великая из битв войны, на Курско-Белгородском направлении, и будет это главным испытанием для него самого и его солдат.
Андрей глубоко вздохнул, трава под ним зашуршала.
Он завидовал всем, кто был в эшелоне. Чужим солдатам, маленькому Гандзюку, Потапенко, всем на свете.
Пришел бы сразу, пусть без оружия, без документов, стало бы проще все в его жизни. Пригибаясь, уходил он от поезда, и больнее и отчетливее возникало в нем чувство одиночества.
Как стало не хватать ему Васьки, который бы посмотрел доверчивыми глазами и сказал какие-нибудь слова! Васька живое существо, и Андрей живое существо. Они нашли друг друга по несчастью. Беда свела их, но она может и развести навсегда.
Вспомнилось, Васька сказал: «Ладно, дядя Андрей, я вас до конца войны прокормлю».
Солдат спустился по дороге к Некрасовке, но в поселок не пошел, а обогнул его лесом. Пересек железную дорогу, оказался в Панках.
На дороге встретил девочку с портфелем.
Она оглянулась, окликнула:
– Эй, подождите! Подождите меня! Андрей остановился, вспомнил, что видел, кажется, эту девочку вместе с Васькой. Одноклассница, что ли, его.
– Здравствуйте, Вася искал вас, – произнесла девочка, глядя на солдата снизу вверх. У нее были голубые глаза, две косички торчали из-под пушистого беретика.
– Где он? – спросил солдат.
– Его выгнали из школы… Он там сидит.
– Выгнали? Почему выгнали? Девочка не ответила. Молча пошла впереди, указала рукой:
– Он там.
– Где?
– Под платформой. Это его любимое место.
– Какое еще любимое, – произнес солдат с сомнением, заглядывая в узкую щель, куда можно было залезть лишь на четвереньках.
Так он и сделал.
Васька валялся на земле и смотрел вверх, на белые широкие щели между досок. Услышав шорох и шаги, поднял голову, но никаких чувств при виде солдата и Ксаны не проявил.
Место и впрямь было тут у Васьки родное. Вроде бы около людей, но кровное, свое. Здесь можно было лежать или сидеть, глядя на шатучие вверху доски, слушая чужой разговор, объяснения, секреты.
Многого наслушался тут Васька, коротая время.
Все, кого он видел или слышал, начинались с ног, и по ногам Васька легко узнавал их хозяев. Хромовые скрипучие сапоги, желтенькие ботинки, звонкие туфельки с каблучками. А то стоптанные брезентовые тапочки, подошвы от протекторов, галоши, скрывающие бесподметность в башмаках… Какие веселые выслушивал он дроби, когда танцевали тут! Но танцевали редко.
Соответственно хозяевам летели сюда оброненные вещички. Дорогие «бычки» от папирос и самокрутки, огрызки, бумажные фантики, монеты, даже рубли. Один раз упал кошелек, в котором почему-то оказались кусочек мыла и две булавки.
В двух шагах с железным грохотом и с вихрем пыли проносились электрички, громоподобные колеса высекали кучу искр, это было красиво. Паровозы ухали и гудели, наполняя все пространство теплом и паром. Тяжело оглушали длинные составы, Ваське было видно, как гнутся, прогибаясь, стальные рельсы. Иногда он начинал тревожиться, выдержат ли, не сломаются. Но рельсы всегда выдерживали. Здесь же, под платформой, жили всякие брошенные и никому не нужные твари: кошки, собаки, крысы, птицы. У каждой твари была своя жизнь и свои заботы, как у всех в войну, и друг друга они не трогали. Так же, как никто не нарушал Васькиного спокойствия, а оно временами было ему просто необходимо.
Как сейчас, например.
Посудите, что бы делал Васька, не будь такого удивительного изобретения, как пригородная платформа. Где бы протекала без уединения, затаенного тихого места, личная его жизнь?
Где бы мечтал он о всяких крошечных своих радостях? Где бы горевал о потерях? Где скрывался от детдомовских хищников, блатяг, хамов, милиционеров, воспитателей, учителей, пьяниц, свирепых домохозяек, бандюг и прочих, могущих его обидеть, извести, уничтожить?
Где мог он съесть без торопливости добытый кусман, не беспокоясь, что кто-то налетит, отнимет, вырвет из рук, изо рта?
Где прочел бы украденную в чужом окне книжку? Да в конце концов где пересидит он дождь, снег, а летом сонный зной?
Только здесь, под деревянной, гулкой, качающейся платформой, был Васька словно у себя дома. Платформа была длинной, может, кто еще вроде Васьки имел тут убежище, это его не волновало. Тут хватило бы места для личной жизни всех подмосковных отщепенцев: безымянных, брошенных, выгнанных, бродячих и ничьих детей.
А сколько по Рязанке, а сколько по другим дорогам таких чудо-платформ!
– Ты чего? – спросил солдат, приноравливаясь рядом с Васькой и тоже с любопытством заглядывая вверх.
Васька повел плечом, говорить ему не хотелось. На солдата он не смотрел. Ксана сидела тут же, на корточках, подобрав полы своего вишневого пальто, слушала их странный разговор.
– А синяки… Подрался?
– Да так, – сказал Васька. Солдат сказал строже:
– Ладно, вставай. Нечего валяться в грязи. Пойдем…
– Куда? – вяло спросил Васька. Но, кажется, ему нравилось, что так с ним заговорили.
Он повернулся, и солдат отметил про себя, что драка была нелегкая. Уж не по поводу ли их совместных дел?
– В школу пойдем.
Это решилось само собой, Солдат в следующую минуту сам понял, что иначе он сказать не мог. Кто сейчас поможет Ваське, если не он, единственно заинтересованный в мальчике человек.
Впрочем, единственный ли?
Вот и Ксана подала голос:
– Нужно идти, как же иначе, Вася?
Тот хмуро посмотрел на девочку, на солдата. Нехотя приподнялся, отряхиваясь от прилипшей грязи, полез наружу.
– Кто у вас там главный-то? – спросил солдат.
– Завуч Клавдия Петровна, – дорогой говорила Ксана – Понимаете, Вася пришел и сел сзади. Я сразу увидела, что ему плохо. Он сидел, сидел и никому не мешал, пока не увидела Клавдия Петровна. Она как закричит:
«Что это такое? Посмотри на себя, где ты дрался?» А Вася взял и вышел, ничего не объясняя. И под платформу полез…
Школа была двухэтажная, деревянная. Они прошли прохладным коридором, поднялись на второй этаж. Ксана указала на дверь учительской: «Она сейчас здесь».
– Ждите.
Солдат помедлил, постучался.
Никогда бы не смог он так прийти, чтобы защитить себя. Учительская с детства внушала ему страх.
Несколько женщин и старичок сидели вокруг письменного стола и пили чай. На солдата посмотрели с любопытством.
– Мне бы Клавдию Петровну, – произнес он от дверей.
– Слушаю вас, товарищ… боец.
Одна из женщин поднялась, не выпуская из рук стакан Немолодая, грузноватая, она сделала навстречу солдат несколько шагов, и он увидел, что у нее отечное лицо и толстые ноги – признак больного сердца.
– Здравствуйте, – сказал он, совершенно робея. – Я пришел по поводу мальчика, которого выгнали…
– Садитесь, пожалуйста, – предложила завуч и сама села. – Какого мальчика?
– Да Василия…
Он вдруг подумал, что не знает Васькиной фамилии.
– Ах, Василия, – сказала завуч, оглядывая солдата – А вы кто, родственник?
Он подумал и кивнул. Оглянулся на учительниц, скользнул взглядом по стенам, где висели, как во всякой учительской, расписания уроков, диаграммы успеваемости и крупно написанная инструкция по эвакуации детей во время воздушной тревоги.
На стене висел плакат; «Двойка – шаг к измене Родине!» В углу, под портретами вождей, на столике лежала винтовка.
– Что же вы так поздно хватились? – спросила завуч вежливо. – Дубровский совсем забросил школу.
– Кто? – спросил солдат.
– Вася Дубровский… Я понимаю, что условия жизни у детдомовцев хуже, чем у остальных, но мальчик не посещает уроков, перестал заниматься. А теперь еще драки, как видите. Куда это заведет?
– Трудное дело, – согласился солдат, снова посмотрел в угол на винтовку и вздохнул. – Но вы уж не гоните, куда он пойдет?.. Без школы ему еще хуже.
– Вы-то как, вернулись или временно, так сказать?
– Временно, – сказал Андрей. – Уеду, Василий у меня совсем один останется.
– Если бы не уезжали, – произнесла заведующая. – Нам в школе военрук требуется.
Она указала на винтовку, с которой солдат и так не спускал глаз. Может, заметила его внимание к оружию.
– У нас женщины в основном. Мужчина качественно бы изменил коллектив.
Старичок и учительницы хоть и делали вид, что пьют чай, но исподволь смотрели на солдата и прислушивались к разговору. Две из них, помоложе, отчего-то смутились, когда солдат оглянулся.
– Винтовка… боевая? – спросил он.
– А что мы в ней понимаем, – отвечала завуч. – Дети учатся военному делу, разбирать, собирать… И маршировать тоже.
Солдат встал, подошел к столику. Потрогал ложу, приподнял, ощущая, как забилось от привычной тяжести сердце. Щелкнул затвором, пробормотав: «Стебель, гребень, рукоятка…» Ложа… Магазин… Все настоящее. Заглянул в канал ствола: грязновато. Старший сержант Потапенко всыпал бы за такое.
– Настоящая винтовка, – повторил дважды Андрей и вдруг заметил в боковой части ствола дырочку, рассверленную для того, чтобы из винтовки не стреляли. Упавшим голосом произнес: – Настоящая… Учебная винтовка… – сразу потеряв к ней интерес.
Завуч теперь говорила, что Дубровский, судя по всему, скрытный мальчик, никогда не упоминал он о родственнике на фронте. Это, безусловно, меняет дело. К семьям фронтовиков отношение вдвойне внимательное.
– Хорошо, что вы зашли, – добавила завуч и протянула руку. Она впервые, кажется, улыбнулась. – Возвращайтесь с победой.
Старичок и сидевшие за столом женщины тоже поднялись. А две молодые учительницы смутились, покраснели, когда солдат стал с ними прощаться.
Так все стояли, провожая, пока он не вышел.
– 19 -
Ребята ждали на лестничной площадке.
– Как? – спросила по-взрослому Ксана. Она вообще чувствовала себя с солдатом на равных. Васька ничего спрашивать не стал.
Солдат посмотрел на мальчика и впервые подумал, отчего такая неожиданная фамилия у него: Дубровский… Может, сидел в детприемнике изобретательный человек? Может, он Пушкина в это время читал?
И потом… Долгушин… Дубровский – чем-то сходни между собой. Начинаются на одну букву.
– В порядке, – сказал солдат, все рассматривая Ваську. – Тебе бы, парень, в лазарет сходить да подлечиться…
– Пусть к нам зайдет, – предложила Ксана. – Мама йодом замажет.
– Йодом? – закричал Васька.
– Да. Именно йодом, – твердо произнесла девочка. – Зато не будет заражения.
– У меня и так не будет, – отмахнулся Васька. – Я гильзу медную приложу. Я от всего умею лечиться. Если заноза в ноге, ее надо выковырить и разжевать, быстрей пройдет. Если кровь, глиной замазать…
– Фу, Вася, как противно, – сказала Ксана.
– Лекарства всегда противные, – рассудил он просто. – А знаешь, как навозом можно лечиться?
По лестнице поднималась женщина в темном платке, похожая на тетю Маню. Когда ступила она на верхнюю площадку, ребята одновременно с ней поздоровались.
Она узнала солдата, всхлипнула:
– Андрюшенька! – Заплакала, прислонясь к его плечу. – Оля… Оля моя…
– Тетя Маня…
– Вы отомстите, убейте их. Я всю жизнь учила детей человечности… Даже кошку… Даже кошку не трогать…
– Тетя Маня, – позвал солдат, она не слышала.
– До чего они довели меня? Я хочу, я требую, чтобы вы их убивали, как насекомых! Никто, ни я, ни другие женщины не могут этого сделать. Мы все отдали, а вы отдали не все. У вас есть возможность и оружие. Так убейте, прошу вас!
Андрей оглянулся, знаком показал ребятам, чтобы не глазели, а шли на улицу. Молча стоял, понимая, что ничем не может утешить бедную женщину. Не бывает такого утешения, когда родители переживают своих детей.
Тетя Маня перестала плакать, вытерла платком лицо.
– А ты ведь изменился, Андрюша, – произнесла в нос. – У тебя-то ничего не случилось?
– Да нет, что вы…
– Мы уж думали-гадали, в каких ты там боях… На каком фронте?
– А я все не на фронте, – отвечал он, не поднимая глаз.
Эти слова о фронте были как раскаленное железо. Тетя Маня смотрела на него как на защитника, бойца, который должен быть там, где до этого была Оля. А он увяз в своих поисках, в адресах, в делах, которые не имели прямого отношения к ее святым слезам.
Стыдно стало, как от пощечины.
– Зашел бы, Андрюша, – попросила она. – Мы-то с Мусей вдвоем кукуем. Олег Иванович за продуктом в деревню уехал.
– Зайду, тетя Маня, – пообещал он, потупясь. Ее больной взгляд, в котором мерещилось ему уже недоверие, сомнение и осуждение его, был сейчас невыносимым.
– Мы все вдвоем и вдвоем… Поплачемся друг дружке на тяжелую бабью долю, вроде легче станет. Но ведь еще детишки меня ждут. Надо идти, нельзя своему горю поддаваться. У всех сейчас одно горе, война проклятая. У всех, Андрюша.
Она двинулась медленно по коридору, а ему подумалось, что надо что-то еще ей сказать. Но слов никаких не было.
– Я приду, тетя Маня! – голос прозвучал униженно и глухо. Этого нельзя было не заметить.
Она оглянулась, посмотрела на него страдающим, идущим из глубины, затемненным своим взглядом.
С чувством физической боли, отвращения к себе выходил он на улицу. Не замечая ребят, сел на скамейку.
Судорожно вздохнул, рассеянно взглянул вокруг.
Припекало солнце. На деревцах, воткнутых перед школой, завязывалась мелкая зелень.
Неожиданно подумалось, что пора, выпавшая на эти несчастные дни, была самая редкая, светлая. Невозможно этого не видеть. И он видел, но никак не ощущал. Чувства его, придавленные обстоятельствами, были как слепые.
Однажды прочел он в книге о Робин Гуде стихи:
Двенадцать месяцев в году, Двенадцать, так и знай! Но веселее всех в году Веселый месяц май!Не стихи даже, а народная английская баллада, он вспоминал ее каждой весной. И каждую весну звучала она по-новому.
Но случилось, как раз перед войной, померзли за зиму все подмосковные сады. Стаял снег, прилетели птицы, а на деревья было невозможно смотреть. Чернели пустые, голые, как кресты на погосте.
Май в таких садах, и синее, сквозь сухие ветки, небо, первая трава под кронами казались кощунством. Правда, к середине лета оттаяли редкие сучки, дали блеклую, тут же увядшую зелень. Но и все.
Садом, голым по весне, была сейчас душа Андрея.
.Могло ее оживить лишь тепло, исходящее от Васьки. Оно и оживляло, и поддерживало худые желтые ростки. Но удар следовал за ударом, и после каждого казалось, что невозможно подняться, обрести себя.
Все, что происходило кругом, происходило и с Андреем. Ложилось, накапливалось в нем, терзая изболевшуюся совесть. Тяжкой виной добавилась сюда и Олина смерть. Ребята стояли в отдалении, Васька показывал Ксане на большую яму, объясняя, что в сорок первом году упала тут целая тонная бомба. Фрицев от Москвы зенитками отогнали, они побросали бомбы куда попало. А эта бомба не взорвалась. Но все равно в школе и в домах выскочили стекла. Яму сразу окружили заборчиком и несколько дней откапывали; все говорили, что она замедленного действия. Васька потому и запомнил, что им не разрешали ходить в школу. А потом сказали, что в бомбе оказались опилки и записка: «Чем можем, тем поможем!» Это немецкие рабочие писали…
Андрей слушал Ваську, медленно приходя в себя.
Спросил, привставая:
– Василий, а ты про Робин Гуда слышал? Был такой меткий стрелок из лука.
– Это, наверное, до войны? – сказал Васька. – Я до войны плохо помню…
Солдат и Ксана одновременно улыбнулись, поглядев друг на друга. Они как бы и вправду были на равных в сравнении с маленьким Васькой. И он это видел и великодушно позволял опекать себя, зная, что это не унизительно и он всегда может удрать, если такая опека надоест.
Мимо проскочили детдомовские ребята, крикнули на ходу: «Сморчок! Тебя искали! Сыч тебя искал!» «Да ладно», – сказал Васька. Но почувствовал себя неприятно. «Психует Сыч-то!» – добавили ребята и убежали, крича на ходу, что сегодня они выступают в госпитале…
Ксана заторопилась домой и повторила свое приглашение.
– Мама наварила суп из селедки. Пойдем!
– Слышала? У нас выступление в госпитале, – отвечал Васька.
Вообще-то он не любил ходить по домам, не считая тех особых случаев, когда он посещал без приглашения, но и без хозяев.
Он законно считал, что детдомовец в домашней обстановке пропадет. Привыкнет, размягчится, потеряет способность выживать, тут и конец ему. Да и вообще домашние были другим миром, и соприкосновение с ним не приносило радости. Будут жалеть, подкармливать, числить про себя несчастненьким, сиротой…
Все это Васька понимал и отказался.
– В госпитале нельзя пропускать, там же раненые.
– И ты у нас раненый, – сказала Ксана. – Да еще голодный. Никто не выступает на голодный желудок. Пойдем, пойдем!
Она распоряжалась как взрослая, будто понимала, что солдат и Васька послушают ее.
– Давай сходим, – предложил солдат.
Васька подумал, что с солдатом его жалеть не станут, и согласился.
Дорогой Ксана рассказала, что мама ее работает на дому, шьет одежду для бойцов. Когда бежали от немцев, успели захватить одну швейную машинку «Зингер»… Вот на ней мама и шьет.
Солдат слушал, кивал, а Васька почему-то злился.
«Мама да мама, подумаешь, мамина дочка…». Подошли к знакомому дому возле магазина. Миновали парадную дверь с высоким крыльцом, где недавно орала Сенькина мать, Акулиха, и ткнулись с обратной стороны в низенькую пристройку.
– Пригибайтесь! Пригибайтесь! – попросила Ксана, с шумом распахивая дверь. Она закричала с порога: – Мама! Я с гостями! Они будут есть суп с селедкой!
«Опять мама, – подумал Васька. – Надоело. Не люблю мам».
Молодая красивая женщина поднялась им навстречу, всплеснула руками:
– Ой, как хорошо. Проходите, пожалуйста. Поздоровалась с Васькой за руку, потом с солдатом, называя себя Верой Ивановной. Голос был у нее звонкий и мелодичный. На груди колыхалась желтая лента сантиметра.
«И ничего особенного, – решил Васька. – Дядя Андрей все равно лучше».
– Мама, – повелительно говорила Ксана, точно она, а не мама была здесь главная хозяйка, – я тебе рассказывала про Васю, помнишь? Его нужно подлечить, а его одежду тоже… Он сегодня выступает на концерте.
– Ну, подумаешь, – пробурчал Васька.
– Все сделаем, – мягко, мелодично, таково было свойство ее голоса, повторяла Вера Ивановна, осматривая бегло Ваську, обходя вокруг него. На солдата она почти не взглянула.
– Пусть разденется, – попросила она. – А насчет лечения, Ася, ты уж сама… Ты у нас в школе курсы сестер кончила.
– Раздевайся, – приказала Ксана. – Тебе помочь?
– Вот еще, – нахохлился Васька. – Я и сам шить умею. Только у меня иголки нет.
– А у нас есть. Снимай, снимай, я за йодом к подруге сбегаю.
Солдат кивнул: раздевайся, мол, если просят.
Вася, сопя недовольно, снял одежду и сел на кровать, закрывшись одеялом. Вера Ивановна осматривала штаны и рубашку, поднимая их на уровень глаз и вздыхая. Спросила, как же он, Вася, собирался выступать с такими дырками?
Отвечать не хотелось, но и оскорбительного вроде ничего в вопросе не было.
– Меня поставят в середину хора, кроме головы, ничего не видно, – сказал он.
– Так ты поешь? – воскликнула Вера Ивановна. – А наша Асенька музыкой до войны занималась. Сейчас-то она все забыла.
Женщина застрочила на машинке, быстро вращая ручку. Васька перестал дрыгаться, уставился на Веру Ивановну, удивляясь, как ловко у нее получается. Он умел зашивать при помощи иголки, даже гвоздя, но такой работы он не видел. Вообще-то, если бы спереть такую машинку, он бы тоже научился. Хорошая игрушка, надо запомнить.
– А вы, Андрей… Вы кем доводитесь мальчику? – Вера Ивановна спросила, откусывая нитку и взглядывая на солдата так исподлобья. – Я сразу увидела, что вы похожи.
– Мы? – повторил мальчик. – Мы? Похожи? Он подскочил на постели, расплылся от радости. Счастливыми глазами посмотрел на солдата. И тот, взглянувна Ваську, подтвердил:
– Ясное дело… Не чужие.
Ксана притащила йод, улыбающийся Васька не успел и пикнуть, испятнала его лицо, руки, шею, даже волосы. Васька пытался заорать, но Ксана сказала:
– Все! Все! Еще здесь, и все. И здесь… И здесь… Стерпел Васька, а о Вере Ивановне подумал, что вовсе она не плохая, если заметила их сходство.
Вера Ивановна кончила шить, бросила одежду на кровать со словами:
– Держи, крепче новой! Солдату она сказала:
– Мне надо с вами потолковать. Ася, посмотри за супом…
– Что ж, – согласился он.
– Пойдемте во двор. Только осторожнее, не стукнитесь головой!
Они встали у крылечка, Вера Ивановна в упор посмотрела на солдата. И он теперь увидел, что у нее большие темные глаза, в сумерках которых затаилась усталая грусть, а в волосах много седины.
– Кажется, я догадываюсь, по Аськиным рассказам, – начала она смущенно. – Догадываюсь, что у вас неприячности. Но разговор не о вас, о мальчике. Если есть возможность, купите ему одежду. Эта кончилась.. И потом… У него вши. Понимаете, целые гнезда вшей. Я пыталась их давить, смотрю, еще, еще… В каждой складке… Я могу постирать все, но лучше бы сжечь. Вши могут быть и тифозные…
Андрей расстроенно молчал.
Женщина по-своему расценила его молчание, добавила, оправдываясь:
– Не подумайте, что мы уж такие… привереды. Мы, правда, до войны хорошо сперва жили. Муж был кадровый военный, крупный командир. Мы ничего о нем не знаем. А я не работала, но я умела хорошо шить, это нас и кормит. Сейчас мы в долгах… Всем трудно, я понимаю. Но когда в нужде дети, ужасно. К этому привыкнуть нельзя.
– А что нужно? – спросил солдат.
– Да что покрепче, – отвечала Вера Ивановна. – Вот, вроде вашей шинельной… Только потоньше. Чтобы игла взяла.
Андрей машинально потрогал на себе шинель.
– Если это… продать?
– А сами как будете?
– Сам-то обойдусь, – увереннее сказал он. – Цыган шубу давно продал! А я вроде цыгана… Нет, серьезно. Вот только я торговать не умею.
Вера Ивановна оценивающе оглядела шинель, но исподволь смотрела на солдата.
– Сейчас идут все на рынок, – произнесла она.
– Мне туда нельзя.
– А может… им?
Она не назвала Акулиху, но кивнула в сторону дома.
– Спекулянтам?
– Связываться с ними гадко, – сказала со вздохом Вера Ивановна. – Отвратительное порождение войны. Но что делать-то? Мы с вами сами ничего не можем… Знаете, слышала недавно анекдот, что решили с блатом покончигь. Похоронить его, и все. Положили в гроб, крышкой накрыли, да гвоздей не оказалось. Где взять гвоздей? Советуют: по блату можно достать. Выпустили блат, а он и был таков…
Вера Ивановна предложила:
– Давайте вашу шинель.
Ушла и долго не возвращалась. Солдат обошел трижды вокруг дома, начал беспокоиться, когда увидел ее, бегущую вприпрыжку. Издалека показала в кулаке деньги, крикнула весело:
– Ну, баба стерва! Акула зубатая! Нюхом почувствовала, что дело поживой пахнет. Уперлась, уж я слезу перед ней пустила. Мол, мужнина память, единственная…
Засмеялась облегченно.
Андрей смотрел на нее, на губы, нервные, подвижные, на смуглое точеное лицо, на глаза, глубокие, сумеречные, и впервые почувствовал, что хотел бы ее сильно поцеловать.
Но, прежде чем он сам понял свое желание, она угадала и пригасила себя. Сделалась вежливо ровной.
Солдат принял деньги, с укором произнес:
– Коли взялись, помогали бы и дальше, – но укорял ее не за это, оба понимали. – Я ведь уезжаю…
– На передовую? – спросила она тихо.
– Да.
– Когда? Сегодня? Завтра? Впрочем, что я спрашиваю. Этого никто не знает. Мы так и жили всегда в неизвестности, когда куда мужа пошлют… Аська моя на перепутье родилась. В общем… – Она помедлила, глядя на него наклонив голову и как бы снизу, такой она была еще красивее, как девочка неопытная на свидании. – Если не уедете, милости прошу, как у нас говорят. Милости прошу к нашему шалашу.
Она рывком взяла деньги, спрятала, отвернувшись, в лифчик. Потом открыто, с вызовом, посмотрела ему в глаза.
Вернулись в комнату, стали есть обещанный суп с селедкой.
Вдобавок к нему Вера Ивановна принесла кислой бражки. Налила всем – солдату, Ксане немного, а Ваське дала целый стакан.
– Это как квас… Не страшно.
Васька выпил, стал веселым. Подумалось: Хоть она и мама, а ничего, приятная женщина".
Развязался у Васьки язык от бражки. Стал он рассказывать, как в детдоме пайки делят. Откусят, положат на весы. Многовато. Еще откусят. Останется крошечка какая-то. Развесчик чихнет, она и улетит.
Изобразил Васька в лицах, все рассмеялись. Ксана так и заливалась, солдат восхищенно качал головой: «Ну и Васька, артист!» Он совсем разошелся, спел «Халяву».
Женился, помню, я на той неделе в пятницу, Она из всех девчат фартовая была, Я полюбил ее. Халяву косолапую, Но для меня она фартовая была…Возвышенно пел, проникновенно Васька, думал, что это грустная песня. Но все опять начали смеяться. Только Ксанина мама с мягкой улыбкой произнесла:
– Вася, скажи, а ты сказки любишь?
– Конечно, – отвечал он.
– Вот мы с Аськой по вечерам сказки рассказываем… Про Ивана Царевича, про Василису… – Я про мужика знаю, – сказал Васька.
– Ну, расскажи.
– Про мужика? – спросил Васька. – Жил мужик и ловил рыбу. Приходит однажды на речку, смотрит – журавель попался в сети. Ногой зацепился, а выбраться не может. Пожалел мужик и освободил журавля. А журавль и говорит ему человеческим языком: «Пойдем ко мне домой, я тебе подарок хороший дам». Пришли они к журавлиной избе, и вынес ему журавль скатерть-самобранку…
– Вот такую сказку я люблю, – кивнула Вера Ивановна.
– Захотелось по дороге старику есть, он и говорит:
«Напои-накорми, скатерочка!» Только сказал – и на скатерти все появилось: картошка, капуста, чего еще… Суп из селедки тоже появился. Даже свиная тушенка в банках. И целый бухарик хлеба!..
– Сюда бы эту скатерочку, – воскликнула Ксана.
Васька продолжал:
– Зашел мужик к богатею переночевать, а тот ночью и заменил скатерть. Ему мужик-то проговорился. Приходит домой и говорит старухе: мол, не надо, старуха, теперь в очередь в магазине стоять и в колхозе работать. Все у нас будет. Развернул скатерть, а она и не действует. Обманул, видно, журавль, подумал мужик и вернулся к нему. Так и так, плохую ты скатерть дал, не включается она…
– Как наш утюг, – засмеялась Ксана. А солдат и Вера Ивановна улыбнулись: «Рассказывай, рассказывай, Вася».
– Дал тогда журавль мужику волшебную книгу, – продолжал Васька. – Откроешь ее, а там что ни страница, то продуктовые карточки, да литеры всякие, да ордера на мануфактуру. Вырывай, а они не кончаются. Пришел мужик опять к богатею, попросился переночевать, а тот ночью снова переменил. Вернулся утром мужик домой, а в книге, глядь, обыкновенные страницы…
– А что за книга-то была? – спросила вдруг Вера Ивановна.
– Толстая и без картинок, – нашелся Васька. – В третий раз журавль дал мужику зеркальце волшебное. Посмотришь в него, и все тебе на свете видно. В каком магазине что выбросили, а где под прилавком держат продукты, а где по мясным талонам отоваривают…
– Мама, а у нас мясные тоже не отоварены, – напомнила Ксана.
– Так у нас же нет волшебного зеркала, – засмеялась Вера Ивановна.
– Мда, – протянул солдат. – Мне бы тоже оно пригодилось… Как ты думаешь, Василий?
– Конечно, – сказал Васька. – Но его богатей тоже украл. Тогда журавль подарил ему сапоги-скороходы. Если, к примеру, будет мужик от милиции удирать, наденет он эти сапоги – и раз…
– Он что, жулик? – спросил солдат.
– Зачем? На всякий случай! А то контролеры в электричке пойдут… Или бандиты пристанут, или пьяницы, – сказал Васька. – Они не рвутся, не промокают. Нет, сапоги удобные были, только их богатей спер у него. Пошел он снова к журавлю и говорит: мол, плохие у тебя подарки, без проку они мне. А журавль и спрашивает:
«Не заходил ли ты ночевать к богатею?» «Заходил», – отвечает мужик. «Все тогда понятно! Вот тебе последний подарок, – и приносит сумку, – скажи: „Сорок из сумы!“ И все у тебя будет в порядке», – Щедрый был журавль, – сказала Вера Ивановна, вздохнув.
– Вы дальше послушайте, – попросил Васька. – Пришел он к богатею и просится переночевать. "Куда бы, говорит, сумку положить. Она у меня не простая, всякие просьбы исполняет. Надо только сказать: «Сорок из сумы!» Лег мужик, а сам не спит, ждет, что дальше будет. Хозяин-богатей подождал да и говорит; «Сорок из сумы!» Выскочили тут из сумки сорок автоматчиков, навели на богатея автоматы и говорят: «Отдавай подарки!» Он все и отдал. А мужик пришел домой и отнес в комиссионку.
– Вот чудак! – Ксана всплеснула руками. – Зачем же в комиссионку-то?
– А чтобы деньги были, – резонно отвечал Васька.
– 20 -
Оксане в госпиталь идти не разрешили.
Вера Ивановна сказала, что девочке надо готовить уроки. Поздно, нечего шляться неведомо где.
Васька клялся, божился, что проводит до дому, Вера Ивановна качала головой:
– Незачем ей идти в ваш госпиталь. Она видела отступление, с нее достаточно. А вы приходите.
Солдат и мальчик задворками вышли к высокой железной ограде, отыскали лаз и очутились на территории огромного лесопарка, где размещались белые корпуса госпиталя. До войны здесь был санаторий НКВД.
Васька все тут знал. По одной из дорожек направился в глубь парка и остановился перед громадной ямой, сплошь заваленной бинтами.
Мальчик уперся глазами и эти окровавленные бинты, шепотом сказал:
– Видите?
Лазил в санаторий Васька часто. Его территория примыкала одной стороной к колхозному полю, здесь оно не охранялось. Детдомовцы нашли лазы, проторили тропы, пробили отверстия и, как саранча, объедали край, что шел вдоль забора. Здесь росла морковь.
Но это бывало осенью, а осень – золотая пора, как пишут в книгах для чтения. Золотая, в Васькином понимании, оттого, что ходишь с тяжело набитым брюхом, будто в нем и впрямь золото. А в нем кроме моркови и клюква, и турнепс, и свекла, и горох, и капуста, и картошка… Все тогда идет в корм, поглощается в печеном или сыром виде.
Как рыбьи мальки, нагуливают детдомовцы по осени вес в страхе перед долгой и голодной зимой. Теперь до осени требовалось еще дожить.
Васька умел и весной выкапывать из грядок чужую посаженную картошку, но прибыль тут не велика. Выгоднее, знал, дождаться урожая. К тому же, по совету академиков, стали сажать не целые клубни, а лишь глазки, срезы с клубня. Пожрали бы сами академики свои глазки, узнали бы, как чувствительно ударило их открытие по Васькиному желудку.
Но сколь торопливо ни пересекал бы Васька госпитальский парк, всегда останавливался он перед огромной ямой с бинтами.
Глазами, расширенными от напряжения, втыкался он в белые марлевые горы, испачканные кровью и йодом. По спине тек леденящий холод. Становилось трудно дышать.
Вот и сейчас мальчик завороженно стоял перед ямой, пытаясь цепким детским умом постигнуть то, что скрыто за этими кровавыми грудами: раны, крики, стоны, боль, страдание, смерть.
Замер столбиком, как суслик в степи, Васька, не в силах двинуться дальше. Хоть знает, его ждут. Глаза испуганно округлились.
Около главного корпуса мельтешили детдомовцы.
Увидели издалека Ваську, подняли крик:
– Сморчок! Тебя искали! Тебя искали!
– Кто? – спросил Васька.
– Воробьи на помойке… И один знакомый кабыздох спрашивал!
Захохотали, обычная покупка. Но увидели сзади солдата, приутихли. Что за солдат? Почему со Сморчком?
Андрей не заметил общего внимания, сел на ступеньках, задумался. Его, как и Ваську, а может и сильнее, потому что видел первый раз, поразили бинты.
Они были как сама война, ее кровавый след, жестоко напомнивший о боях, идущих недалеко.
Одно дело читать сводки, слушать сообщение Совинформбюро о больших потерях. Впрочем, о потерях говорили чужих, не своих. А тут груды, горы, завалы, залежи человеческих страданий, своих собственных, не чужих.
Не надо газет, лишь увидеть эти снежные вершины марли, растущие с каждым днем. А ведь они время от времени сжигались, чтобы уступить место другим горам, и несть им числа…
Страшный знак войны.
Здесь понятнее становились привычные по печати понятия «тяжелых», «ожесточенных», «кровопролитных», «затяжных» боев.
Васька, Васька, зачем ты сюда меня привел? Чтобы напомнить о моем долге, о моей боли?
Закрыл на мгновение глаза и молнией, как безмолвный взрыв, над головой полыхнула ракета, до нутра прожигая всепроникающим светом. И серые спины солдат, дружков своих, странно согнутые, большие и малые, крутые и не очень, а у Гандзюка и вовсе горбиком… У-у-у! А-а-а! А его утробный крик почти вслед, чтобы знали, что он рядом, там, бежит, заплетаясь, сбросив мешающую шинельку, чтобы догнать, догнать…
Вскинулся солдат, почти бегом направился прочь, но вспомнил про Ваську. Оглянулся, и Васька, словно почувствовал, встал поперек дорожки с молящими глазами:
– Дядя Андрей, не уходи! Я сейчас…
– Василий, прости. Мы потом встретимся. Васька побледнел даже от мысли, что он останется без дяди Андрея.
– Ну, немножечко, – пропищал еле слышно. От волнения голоса не стало.
Солдат растерялся от Васькиной беспомощности. Вот ведь беда, нельзя его бросать, забьется под платформу и пропадет из глаз, не разыщешь. И ждать нет сил, изощренный слух Андреев все слышит тиканье часов, которые отсчитывают, будто на взрывном механизме некой мины, последние минуты и секунды. На рынке, как отдавал часы Купцу, время глазами сфотографировал и старался думать, что оно и осталось там. А часы на этой самой минуте третий круг дают, красную черту миновали уже, и если не последовало взрыва, то потому лишь, что рассеянный минер попался, цифру иную, возможно, поставил.
– Ну, немножечко, – молил Васька потерянно. – Только песню спою. Дядя Андрей! Для раненых песню спою. Ладно?
С тех, теперь уже давних пор, как встретились они с Васькой, весь путь Андрея, хотел он этого или нет, был обозначен мальчиком. Сперва впрямую, по его приятелям и дружкам, а потом, по сути, только с Васькой, и более того, к Ваське, а не к винтовке, если не было Васьки. Это сейчас Андрей подумал так, что потерять Ваську было бы для него, может, пострашней, чем потерять винтовку. Винтовка – это только его, Андреева, жизнь, его честь и долг. А Васькина жизнь – это и его, Андреев, долг, и долг всех остальных, кто отвечает за Ваську. За него и за его будущее. За всех этих ребятишек.
Так и получилось, что должен был Андрей отступиться на короткий срок, чтобы спел Васька свою песню раненым солдатам.
– Ладно, пой, – произнес он без улыбки. – Без песен тоже не проживешь.
Появилась Лохматая, в старомодном довоенном костюме, с кокетливой косыночкой на шее. Прихлопывая в ладоши, закричала:
– Дети! Дети! Идем в зал. Предупреждаю, слушаться меня. Если будут какие-то крики, стоны, не пугаться…
И еще. Никаких подарков и угощений! У раненых брать неприлично. Боня, Боня, проследи, чтобы никто не отстал!
Боня пересчитал всех, на солдата посмотрел изучающе.
– Он с нами, Бонифаций! – предупредил Васька. – Ты скажи, что он с нами.
– Ладно, – кивнул Боня. Наверное, ему, как и остальным, было странно, что Сморчок привел солдата, да еще вроде бы его опекал.
Двинулись цепочкой по мраморным ступеням внутрь корпуса.
Просторным белым коридором, где стояли железные койки, мимо костылявших навстречу раненых, мимо пробегающих сестер и нянечек, мимо перевязанного по макушку, без лица, человека, мимо лекарств на столике, мимо палат, где лежали и сидели люди, мимо кого-то неподвижного, положенного на тележку и прикрытого простыней…
С оглядкой и перешептыванием прошли ребята в зал.
Пришлось пробираться узкими проходами, загроможденными колясками, сидячими, полулежащими бойцами, костылями, выставленными культями ног. Но, завидев ребят, раненые оборачивались и пропускали, а когда первые достигли сцены, стали им хлопать. Детей здесь любили.
Андрей сел сбоку, на свободный стул.
Подумалось, что тут, среди буровато-серых халатов, нижних рубашек и гимнастерок, он не особенно заметен. Поди угадай, свой он или чужой, если и выздоравливающим выдают форму, используя их на подсобных работах.
Разве только навострившийся старшина смог бы угадать в Андрее новобранца по некоторым внешним признакам, а пуще по глазам.
Есть в переживших недавно смертельную опасность, в их взглядах нечто такое, чего не было пока у Андрея. Но кто здесь стал бы его высматривать и определять, Люди смотрели на сцену, ждали концерта.
Вышел длинный мальчик, простодушно-веселый Боня, узкое выразительное лицо с тонкими нервными губами. Он поздравил советских бойцов с наступающим весенним праздником Первое мая, пожелал скорого выздоровления и новых сил для борьбы с фашистскими захватчиками. Объявил песню про артиллеристов.
– Наша! – выкрикнули в зале.
Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, Идем мы в смертный бой за честь родной страны…Пружинистая звонкость детских голосов, прямые ударные куплеты, сложенные из таких слов, как сердце, любовь, родина, бой, честь, воздействовали на зал непосредственно и сильно.
Возможно, когда-нибудь, в другое время, в другом, недосягаемом пока послевоенном мире, станет эта песня воспоминанием о военных годах. И не прозвучит она так, и не заполнит могущественно своего слушателя. Что ж!
Сейчас именно она была главной песней для этих людей. Потому что, если произносилось слово «родина», – было это как крик души, а если звучало «смерть», то все сидящие знали ее, видели, как говорят, в глаза, вблизи и на ощупь.
Артиллеристы! Сталин дал приказ. Артиллеристы! Зовет отчизна нас! Из многих тысяч батарей, За слезы наших матерей, За нашу Родину: Огонь! Огонь!Припев ребята исполняли особенно вдохновенно.
В детских голосах, пронзительно чутких, звучал истинный призыв к бою. Андрей с особенно обостренным чувством воспринял его лично по отношению к себе. А слово «огонь!» дети выкрикивали, эффект был необыкновенный.
Зал аплодировал, кричал, называя какие-то желаемые и близкие песни. Однорукий солдатик рядом с Андреем хлопал единственной правой рукой по коленке.
Андрей посмотрел на соседа, подумал не без гордости, что вот на сцене среди детишек поет Васька, близкий ему человек. Взглядом отыскал острую мордочку, испятнанную йодом, во втором ряду. Вспомнилось, как тот сказал: «Меня поставят в середину хора», Андрей помахал рукой, но Васька смотрел перед собой и ничего не видел. К выступлению в госпитале он относился очень серьезно.
Боня читал стихи:
Донер Ветер по-немецки значит буря грозовая, Если худо, Донер Ветер – немцы в страхе говорят… На Кавказе Донер Ветер, Донер Ветер – Лозовая, Донер Ветер! С Дона ветер дует, дует их назад! Русский ветер выдул снова немцев к черту из Ростова…Однорукий наклонился к Андрею, спросил, с какого он фронта. Резко пахнуло эфиром. Лицо у него было неестественно белого цвета, но в веснушках. Он стал говорить, что воевал на Кавказе, ранили под Малгобеком, а лежал в Астрахани, потом направили сюда.
– А это… как? – спросил Андрей, показывая на пустой рукав.
В общем-то понимал, что спрашивать о подобном не принято, да еще так, на ходу. Не мог не спросить. А раненый с готовностью, как не раз, видно, и не два, стал описывать свою короткую военную историю. Выходило, что прикрывали они отход, а потом кончились патроны, а фрицы все лезли, и тогда они пошли в рукопашную. Упал товарищ, он нагнулся и больше ничего не помнил.
Русский ветер завывает, немцев к гибели несет!Боня кончил стихи. Последние слова вызвали бурную овацию. Однорукий тоже застучал ладонью по коленке.
– А винтовка? – спросил Андрей. – Винтовка у тебя была?
Однорукий коротко взглянул на него.
– Как же без винтовки! Я же говорю, патроны только кончились.
– А дальше?
– А что дальше?
– Дальше-то как?
– Как-как… Вперед пошли. С отчаяния, что ли. Никакого приказа, понимаешь, не было. Взводный как заорет, в Гитлера, его мать, и так далее, и с наганом вперед… А мы за ним. Ура!.. Шли, орали, а потом товарищ мой упал… Вот и все.
– А винтовка? – повторил Андрей. – Где винтовка? Однорукий пожал плечами, удивляясь такому навязчивому вопросу.
– Не до винтовки, браток, меня едва вытащили. Эх, была бы рука цела, а винтовка бы к ней нашлась!
Наклоняясь к однорукому, – тот смотрел на сцену, где дети танцевали матросский танец «Яблочко», – Андрей, будто оправдываясь, пояснил:
– А я, понимаешь, не воевал… На фронт еду. Однорукий кивнул машинально. Повернулся, с любопытством уставился на Андрея. Но смотрел не так, как раньше, не было в его взгляде отношения равного с равным.
Возможно, Андрею, чувствительному ко всяким мелочам, только показалось это. Но уж точно, было в глазах однорукого пытливое любопытство. Необстрелянный, не нюхавший, не зревший этого ада в глаза… Каков ты будешь там? И каков будешь после него?
А произнес он:
– Ну, ну! Валяй! Войны на всех хватит! Андрею стало тяжело сидеть в зале. Показалось, что душит его острый больничный запах. Не мог бы сознаться даже себе, что дело тут не в обстановке, а в случайном разговоре, который он сам же завел.
Нет, даже не в нем, а в соседе одноруком, в его, как ни странно, нынешнем, коротком благополучии, благодушии, что ли, которые позволяли ему быть разговорчивым, даже добрым. Ибо ничего не сказал Андрею дурного по поводу стыдного откровения новобранца. А мог бы, имел, как говорят, право. Андрей встал, выбрался в коридор. Слышалась песня, знакомая по кинофильму:
Стою я рано у окошка, Туман печалит мне глаза, Играй, играй моя гармошка, Катись, катись, моя слеза…Андрей стоял прислонясь к косяку и прикрыв ладонью глаза.
Эти детские беззащитные голоса… Знали бы сами ребята, как их больно слушать! И этот разговор с одноруким лег новым бременем, новой виной на его душу. Копится счет, и нечем на него пока ответить.
По коридору, шаркая, прошла невысокая женщина, встала около Андрея.
– К нам? – спросила улыбаясь.
Андрей посмотрел, не сразу вспомнил маленький домик, в котором побывал он в первый день своих бесконечных поисков, и Витькину маму.
Поздоровался, объяснил, что пришел сюда с детдомовцами.
– А как ваше ружье? – спросила женщина. В белом стираном халате, в косыночке выглядела она здесь более домашней, чем у себя дома. Андрей вспомнил, что зовут ее Нюрой.
– Неизвестно, – ответил он.
– А я здесь кручусь, – произнесла Нюра. – И ночую. Зимой много поступило солдатиков, да тяжелых таких, не дай бог…
– Видел, – сказал Андрей.
– Где видели? В зале? Там починенные, они жить будут. А те, которые у меня, на концерт не ходят, а как мясо лежат. Паленые, где что – не разберешь. Видать, сильно стреляли на передовой, что столько накалечили, а?
Уходя, добавила:
– И что говорить, мы жалуемся на бабью нашу долю… А мужицкая, если посмотреть, нисколько не лучше. Кромсают по-всякому, и бьют, и бьют… Кто же хлеб сажать после войны будет?
Нюра махнула рукой, пошла, Андрей сказал ей вслед; – До свидания.
Она обернулась, ответила:
– Нет уж, не надо скорого свидания. И никакого не надо! К нам лучше не попадайте!
– 21 -
Детдомовцы высыпали во двор.
Тут и раненые поджидали, робко тянули в сторону, чтобы выспросить о родне, искали земляков. Совали печенье, хлеб, сахар, ребята с оглядкой брали.
К вечеру белые корпуса госпиталя будто поголубели. В густых еловых зарослях накапливались сумерки. Сильней запахло молодой зеленью.
Солдат разыскал Ваську, взял за плечо:
– Мне, понимаешь, нужно кой-куда сходить… Ненадолго.
– Я пойду с тобой, – сказал сразу мальчик,
– Но у меня дела, Василий.
– Все равно, – упрямо повторил он. – Я провожу. Ладно?
Боня подошел к ним, поглядывая на солдата, спросил:
– Сморчок! На ужин идешь?
– Нет, – сказал Васька. – У нас тут дела.
– Тебе оставить?
– Спасибо, Бонифаций, – поблагодарил Васька. – Ты пайку забери себе, а баланду отдай Грачу, его за стекло наказали…
Боня раздумывал. Сразу видно, что он добрый малый, не обрадовался лишней пайке.
– Ладно. Ты, Сморчок, не зарывайся, – предупредил. – Исключат, смотри!
– Я не боюсь, – отвечал Васька и посмотрел на солдата.
С солдатом он действительно не боялся.
– Кстати, – сказал Боня, – тебя Сыч спрашивал!
– Я знаю, – отвечал Васька. И опять почувствовал, как защемило у него внутри.
– А это кто? – спросил Боня про солдата.
– Дядя Андрей, – неопределенно сказал Васька. – С фронта ко мне приехал.
– Родственник?
Слово «родственник» было в детдоме как пароль в какую-то другую жизнь. Не сразу, но хоть когда-нибудь.
– А ты как думал? – соврал Васька. Тут уж не соврать он никак не мог.
Боня вздохнул, посмотрел на солдата.
– Повезло тебе. А у меня никого нет.
– И у меня тоже не было! – простодушно воскликнул Васька. – А он, значит, взял и приехал!
– Я сразу заметил, что вы похожи, – сказал Боня.
– Правда?
– Прямо копия.
– Вообще-то родственники всегда похожи, – философски заметил Васька. И тоже посмотрел издалека на солдата. А вдруг и в самом деле они похожи. Вот ведь фантастика! Второй раз говорят!
Лохматая закричала ребятам, и строй двинулся к центральным воротам по широкой асфальтированной дороге, А Васька и солдат направились коротким путем к своему лазу.
Васька шел и орал песню:
Горит в зубах у нас большая папироса, Идем мы в школу единицу получать, Пылают дневники, залитые чернилом, И просим мы учителя поставить пять! Ученики, директор дал приказ, Поймать завхоза и выбить правый глаз! За наши двойки и колы, За все тетрадки, что сожгли, По канцелярии – чернилками – пали!Настроение у Васьки было наилучшее. Концерт удался, а дядя Андрей взял его с собой. Но главное – детдомовцы увидели его с солдатом.
Пусть знают, Васька не какой-нибудь доходяга, заморыш или безродный, которого можно прижать к ногтю. Васька полноценный человек, потому что он не один. Оттого-то лишний раз Васька продемонстрировала перед всеми и перед Боней свой уход с солдатом, свое небрежение пайком. Так может поступать занятый и| уважающий себя человек.
Будет теперь разговоров в спальне!
А выгнать Ваську не могут, куда его выгонишь… Ему, как нищему, терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет. Детдомов в Подмосковье напихано видимо-невидимо. Государство подрост оберегает, как лесник саженцы в погорелом лесу.
Беспризорный знак – лучший пропуск в роно, знавал Васька и это учреждение. Засуетятся, приветят, на место сопроводят. Да не только по служебной обязанности, а по естественному состраданию к детям.
Что греха таить, бездомные знали свое преимущество и умели пользоваться им. Васька тоже пользовался.
Шли солдат и Васька по тропе, навстречу попадались перевязанные солдатики. Кто гулял, кто первые желтенькие цветы нюхал. Один раненый медицинскую сестренку в кустах обнимал. А еще один лег под деревом и тянул через соломинку березовый сок. Поднял задумчивые голубые глаза на Ваську с солдатом и продолжил свое бесхитростное занятие.
А небось месяц-другой назад притирался к земле не так, под навесным огнем. Землю носом пахал, молил несуществующего бога пронести смерть мимо. Пронесло, да не совсем. Теперь-то он барин, лежит, наслаждается. Тянет прохладный, пахнущий древесным нутром сладковатый сок, и ничего ему больше не надо в жизни. Блаженное состояние – пить сок в тишине госпитальского парка, после оглушительных боев…
Оглянулся Андрей, позавидовал, что ли.
И Васька оглянулся, углядел под лежащим разостланную шинельку.
– А кленовый сок слаще, – сказал он. – Шинель-то, дядя Андрей, где забыл?
Солдат спокойно отвечал, что шинель свою продал.
– Как продал? – изумился Васька, остановившись на тропинке.
– Продал, Василий. Деньги нужны.
– Вот еще, – протянул тот. – Деньги и так можно достать. А шинель – форма, как без нее жить.
– Что шинель… Вон руки-ноги люди теряли, а живут. Потому что душа в них живая осталась.
– Души нет, – сказал Васька. – Это поповские выдумки.
– А что же есть?
– Внутренности!
– И все?
– Ну, кишки еще. А знаешь, дядя Андрей, как нужно кричать, когда тебя лупят?
– Как?
Васька преобразился, будто втрое уменьшился, застонал, заныл, заблеял тоненько:
– Дяденька, не бейте, я семимесячный… Не бейте, я малокровный…
Выпрямился Васька, стал на себя похож. Гордо посмотрел на солдата.
А у того язык онемел, прошибло всего. Глотнул слюну, спросил странным голосом:
– Кто же это… Кто тебя такому научил? Васька засмеялся глуповато.
– Когда бьют, сам придумаешь.
– Тебя били? Часто?
– Не считал, – отмахнулся Васька. Засвистел на весь лес. Разговор становился ему неинтересен.
– Послушай, Василий, – позвал солдат. – А про какие такие деньги ты говорил? И как их можно достать? Они стояли перед лазом и смотрели друг на друга.
– По-всякому, – пробормотал Васька и сунул голову в дырку. Ему не хотелось объясняться подробнее.
– А все-таки? Ну, говори, говори.
– Чего говорить, – пронудил Васька. – Ну, я у спекулянтки сопру… Справедливо или нет?
– Конечно, нет, – сказал солдат. – Сегодня спекулянт, а завтра честный человек попадется.
– Барыг всегда видно, – упрямо твердил Васька. – Я в глаза посмотрю, в радужку… По радужке кого хошь узнаю. Они знаете где червонцы хранят? Никогда не угадаете! В валенках!
– Почему в валенках? – засмеялся солдат, удивляясь Васькиной фантазии. – Что ты придумываешь?
– Знаю, раз говорю, – обиделся тот. – Во-первых, в валенках жулики не ищут. А во-вторых, случись пожар в доме. Все сгорит, а валенок в валенок засунутые не сгорят… Дядя Андрей, а ты видел фильм «Два бойца»?
– Видел.
– Помнишь, они там на трамвае по городу едут? И один, который артист Андреев, говорит другому: «Кому война, а кому мать родна!» Это он про кого говорит? Про снабженцев, да?
– Про сволочь, – сказал солдат.
– А мы в детдоме говорим так: «Смерть немецким оккупантам и люберецким спекулянтам!»
Они остановились, пришли.
Солдат показал на одноэтажный домик около шоссе, темный, не освещенный изнутри.
– Смотри, Василий. Мой дом.
Васька посмотрел. Недоверчиво хмыкнул:
– Твой, а не живешь. В сарае валяешься…
– Другие живут.
– Кто другие?
– Не знаю, Василий.
Васька опять посмотрел. Сперва на дом, потом на солдата. Проверял как будто.
– Самый, самый твой настоящий?
– Настоящий… Я тут с мамой жил. А сейчас… Даже боюсь зайти.
– Вот еще! – воскликнул Васька поражение. – Чего бояться? У меня вон койка своя, пусть попробуют занять! Любого прогоню!
– Ишь какой боевой, – усмехнулся солдат.
– Был бы у меня свой дом! – сказал Васька задумчиво.
– Ну и что?
– Так… поставил бы себе топчан, тумбочку, тарелку бы собственную имел. И никому бы не разрешил ее облизывать.
– Кто же станет облизывать в твоем доме-то?
– Найдутся… шакалы, детдомовские. Они везде пролезут. – Васька прикинул. – Я бы, пожалуй, еще замок повесил. А сам через окно ходил.
– Вот те раз! – захохотал солдат. – Какой же это дом? Это не дом, а черт знает что! Берлога!
– Какой хочу, – нахмурился Васька.
– Ладно, ладно, – согласился солдат. – А теперь я вон туда, видишь домик? А ты в обратную сторону. Завтра встретимся. Иди, иди…
Проследил, пока Васька скроется, поднялся на крыльцо. Постучался, а сам раздумывал над Васькиными фантазиями о своем доме.
Дверь открыла Муся.
Не удивилась, произнесла: «Пришел?» Обыденно, чуть по-бабьи.
Андрей разглядел, что она в халатике, в валенках на босу ногу. Поверх халата – ватник. Но и такой показалась она по-домашнему уютной.
Он будто чувствовал тепло, исходящее от нее, женское, одурманивающее. Притаил дыхание, испугавшись чего-то.
Много всякого разного прошло с их встречи. Были моменты, когда он вовсе не вспоминал эту женщину, она жила в нем, как забытый сон. Сейчас увидел и опьянел, одурел от ее близости. От одной возможности быть рядом с нею.
В комнате стоял полумрак. Горела коптилка.
Тетя Маня поднялась навстречу, в темном, на плечах плед.
– Андрюша пришел! А мы ждали… И Муся ждала. Та, не глядя, кивнула, стала собирать на столе карты.
– Гадаешь? – спросил Андрей.
– Сейчас все гадают…
Муся исподтишка посмотрела на гостя, не смогла скрыть жалобного восклицания:
– Ой, что с вами? С тобой? Так изменился… Андрей повернулся к ней, молча глядел. Что он мог ответить?
– Изменился, потому что время прошло.
Тетя Маня пришла на выручку, подхватив слова о времени. Мол, недавно сидели здесь, разговаривали об Оленьке, а теперь…
Вынула платок, засморкалась. Суетливыми и будто постаревшими руками достала бумажку, никак не могла развернуть.
Андрей у нее взял, развернул, прочел. В углу был номер воинской части, а в центре обращение, вовсе не казенное, а какое бывает в письмах близким: «Дорогая Мария Алексеевна!»Далее сообщалось, что фронтовой товарищ Оля, член артистической бригады, пала смертью храбрых и похоронена в станице Яблоневской, Ставропольского края…
– Это где? – спросил Андрей.
– Не знаю сама, – отвечала тетя Маня. – Хочу, Андрюшенька, съездить.
– Кто же вас пустит? Там недалеко бои!
Муся вмешалась в разговор:
– И я говорю: подождите, Мария Алексеевна. Оле вы уже ничем не поможете. Пусть пройдет время. Голос у нее дрогнул, она махнула рукой и ушла на кухню.
– Ребенок еще была, – тихо говорила тетя Маня. – Девочка еще, а они убили. Лучше бы меня, я пожила, не хочу больше. Неужто озверели, что всех поубивают?
– Они фашисты, – жестко произнес Андрей, наклоняясь, вглядываясь в желтый огонек коптилки. – Несколько дней назад я ехал на фронт и знал, что буду воевать, но не знал – как. А сейчас, поверите… – Он поднял повлажневшие глаза, в них отсвечивало желтое пламя. – Вот тут накопилось. Нагляделся на беженцев, на раненых, на женщин… И на детишек. Вот детишки, страдающие от войны, это пострашнее всего.
Андрей будто что-то пытался разглядеть в мерцающем огоньке.
– У меня есть святое право карать за это. Бить их…
– Андрюша, а где ваши вещи? – спросила тетя Маня. – Где ваше оружие… Шинель? Ведь вы тогда были при снаряжении, правда?
– Правда.
– Как сейчас помню, ваша винтовка стояла в том углу. А я обходила ее стороной, боялась, что она упадет и выстрелит.
– Будет у меня все, – ответил он. – Завтра Первое мая, я начинаю жить по-новому… Тетя Маня, вы помните стихи из Робина Гуда? Там, в самом начале?
– Как же, как же, – произнесла она. – «Двенадцать месяцев в году, двенадцать, так и знай…» – «…Но веселее всех в году веселый месяц май!..» – А дальше? – спросила тетя Маня. – Есть же слова дальше. Вы их знаете?
– Нет.
Тетя Маня прочитала:
«Из лесу вышел Робин Гуд, деревнею идет и видит: старая вдова рыдает у ворот. Что слышно нового, вдова, – сказал ей Робин Гуд. – Трех сыновей моих на казнь сегодня поведут…»
Пришла Муся с шипящей сковородкой, ловко поставила посреди стола на черепицу.
– Угощайтесь, – произнесла довольно. – Если гость не привереда, я могу оказать, как это называется.
– По-моему, вкусно, – сказал Андрей.
Муся засмеялась.
– Тошнотики – слышал? Старая картошка да очистки проворачиваются, да еще что-нибудь, что есть не станешь. И не так уж плохо, да? Есть частушка даже:
Тошнотики, тошнотики, военные блины…Муся обратилась к тете Мане; – Вам тоже нужно есть. Андрей, ну скажи ей, война еще не кончилась. Мы должны беречь силы для победы.
– Поешьте, – попросил он и тронул плечо. Тетя Маня наклонилась, прижалась щекой к его руке, неслышно заплакала. Встала, пошла в свою комнату.
На пороге оглянулась, произнесла в нос:
– Простите… Вы ужинайте, а я отдохну.
– 22 -
Андрей и Муся молча доскребали сковородку.
Заведомо знали они, что останутся вдвоем и будут говорить. Но о чем?
В то странное утро их неожиданного сближения вовсе ничего сказано не было. И прекрасно, что не было лишних слов. Но это могло быть однажды и не годилось для продолжения, о котором тогда они не загадывали.
Сейчас оказались необходимыми какие-то слова, объяснения, причем с обеих сторон. Оба это понимали и не были готовы начать такой разговор.
Муся унесла сковородку, поставила чай.
Андрей машинально тасовал карты.
Так сидели они друг против друга, чего-то ожидая.
Муся протянула руку и погладила, провела по его щеке. Он молча взял ее руку в свои и стал целовать ладонь и каждый отдельно палец, а потом все косточки и ямки, по которым его когда-то учили считать длинные и недлинные месяцы.
– Милый, что случилось? – спросила она неслышно. Он понял вопрос по движению губ.
– Ничего не случилось.
– Но я же знаю, чувствую, милый.
– Все у меня нормально, – сказал он.
– Где твои вещи? Почему задержался?
– Я уезжаю завтра.
Муся поверх коптилки смотрела в его лицо, чужое, повзрослевшее за несколько дней. Все обострилось в нем, облеклось в жесткие законченные черты.
Исчез простодушный мальчик, открытый, не умевший прятать своих чувств. На его месте сидел мужчина, прикрытый, как броней, бедою непостижимой и всем, что она в нем натворила.
Тут же поняла она и другое.
Своей жалостью, словами и руками, растопив в нем лед отчужденности, вызвав ответные чувства, сделала она невозможной совсем встречную откровенность. Скорей откроется он случайному человеку.
Андрей, прижав ладони к вискам, глядел через коптилку на нее, на бледное лицо в голубых бликах, в ореоле светлых разбросанных волос. Он тоже думал о том, что не в силах открыться этой женщине.
Невозможно переваливать беды, хватит у нее своих собственных, скрытых и явных, которые он знал. Он способен был сейчас в одиночку тащить бремя своих невзгод, не травмируя больше никого из ближних, ни тетю Маню, ни Ваську, ни эту в мгновение ставшую родной женщину.
Почти весело он произнес:
– О чем ты спрашиваешь, если перед тобою карты. Они ведь все знают?
Муся со вздохом сказала:
– Не смейся. Все женщины в тылу гадают.
– И верят?
– Да, представь себе. Когда трудно, человеку нужно во что-то верить.
– Ладно, поверю, гадай. Только учти, у меня все хорошо.
– Раз хорошо, то и выйдет хорошо, – произнесла она, тасуя и разбрасывая карты. – Ты у нас крестовый король?
– Может, король, а может, валет… Без топорика своего.
Подперев кулачком щеку, рассматривала Муся пеструю мозаику на столе. Провела ладонью по картинкам, не поднимая глаз.
А когда взглянула на Андрея, были в ее взгляде такая боль, такое отчаяние, что он, державший на языке очередную шутку, растерялся и сник.
Во взгляде, но не в голосе ее. Голос прозвучал ровно.
– Карты говорят, дружочек, что пережил ты большой удар и не скоро оправишься. Виновник твоих злоключений темный король, вы должны с ним встретиться…
– Скорей бы, – вырвалось у Андрея.
– Что? – спросила Муся. – Вот, у вас скорое свидание при большой дороге. Есть у тебя и близкий друг, он имеет отношение к твоим бедам. Но он верный друг, ты его не бросай… Видишь, он выходит все время рядом с тобой. Нет, нет, не женщина. Это молодой бубновый король. Женщины тут есть, но не они сейчас главное в твоей жизни…
– Черт! – произнес Андрей, отчего-то пугаясь и вставая. Он с силой сдвинул карты, и несколько из них полетело на пол. – Ты что? Это? Серьезно?
– Ох, Андрей, – протянула Муся. И опять он увидел взгляд, наполненный дикой тоской, не имеющей выхода, как бывает у раненых животных.
Она стала собирать оброненные карты и, разгибаясь, оказалась перед ним.
– Так почему же не главное, – произнес он. – Именно главное, я ведь тебя люблю.
Сильно обнял ее, так что хрустнуло, промычал едва понятно, зарываясь в ее мягкие волосы:
– Не думай, у меня никого не будет… Если ты захочешь ждать… Потому что… Люблю! Люблю!
Она тихо, будто не дыша вовсе, прильнула к нему. Молча затаилась, как бы прислушиваясь к его нутру.
Он руками провел, перебирая ее волосы, ее хрупкое плечо под теплым ватником, узкую податливую спину… Вмиг подхватил ее, подкосив рукой под колено, и так, держа на весу, стал целовать бездумно и бестолково, попадая губами в подбородок, в шею, в живот, ощущая через распахнувшийся халат женскую угарную духоту, от которой он еще больше распалялся и терял над собой власть.
С одной ноги ее соскочил валенок, обнажив белую коленку. Он стал целовать эту коленку. Пронес через комнату Мусю, положил на кровать. Медленно, бережно, как спящего ребенка.
Но она тотчас же приподнялась и села. Стала торопливо поправлять волосы, запахнула халат. Будто опомнилась от обморока, от гипноза.
– Нельзя, милый… Сейчас нельзя!
– Можно! Можно! – бормотал он, наклоняясь, желая силой склонить и ее. Он не вдумывался в смысл ее и своих слов, почитая их необязательным сопровождением главного. Главное же была любовь.
Она поцеловала его в губы, коротко и легко. Со вздохом сказала:
– Да как же, в доме покойник… Несчастье в доме. А мы как безумные… Нет, нет!
Медленно приходил он в себя.
Понимал, как не понимать, что так оно и есть, несчастье, смерть и скорбящая за стеной женщина. Но было еще и другое: последний день встречи перед фронтом. Он должен был, он хотел любить и хотел, чтобы его любили.
Насколько сильным было его желание, настолько оказалось большим горе перед невозможностью это желание осуществить.
Все, все она чувствовала.
– Ах, господи, – прошептала в отчаянии, торопливо целуя его замершее, неподвижное лицо. – Не серчай, милый! Ну кто виноват, что так вышло… Мы ведь люди живые, а не скоты какие-то… Мы не можем делать плохо, правда же? Пожалуйста, не серчай!
– Да ничего я, – произнес он отрывисто, не сумев скрыть в голосе разочарования.
Сел на постель рядом с ней, уставившись окаменевшим взглядом прямо перед собой, в темную стену, за которой за тонкой перегородкой одиноко страдала тетя Маня, вслушиваясь в свое горе.
Но не могла она не слышать всего, что происходило в комнате, их шепота и поцелуев. Вот какие странности этого мира: война, похоронки, несчастье, а люди продолжают есть, любить, целоваться…
Ничто кругом не изменилось от того, что самые молодые, самые лучшие и прекрасные безвременно уходят из жизни. Никто не рвет на себе волосы, не стенает, не исходит на улице от горя. Все отдано женщинам и матерям, в одинокой ночи.
– Пойду, – сказал Андрей.
Муся ничего не говорила, но и не удерживала его.
– Пойду, – повторил он и теперь встал.
Она продолжала молча и как бы бездумно сидеть. Слышала ли она его?
Он обернулся, чтобы сказать прощальные слова. Вдруг почувствовал, что ужасно было бы ему оставаться, но еще ужасней уйти, оставив эту женщину на пустой постели, в пустой комнате.
Так, стоя на расстоянии, вглядываясь в ее фигуру, опавшую, горестно оцепенелую, сказал он то, что не думал, не помышлял говорить:
– Давай поженимся! Я вернусь, честное слово.
Я выживу, выстою для тебя, для нас с тобой… У нас будут дети. Я всегда, всегда стану тебя любить…
Произнесено было неловко, грубовато. Но так отчаянно, так неумолимо, что она одним движением, как по воздуху, стала рядом с ним, прикрыв губами его слова.
Странно засмеялась, склоняясь к его груди, пока он не понял, что не смеется она, плачет.
О чем она плакала?
О себе, наверное, о бабьей доле, о судьбе, которая могла стать иной, будь она хоть чуточку хуже, легкомысленней, что ли. Воистину люди говорят, что судьба – это характер.
Не желая врать или притворяться в такой откровенный час, единственный в ее жизни, заговорила она, смахивая ладонями бегущие слезы. Заговорила о том, что она бы тоже любила его, самого лучшего, ненаглядного ей человека, лучшего из всех, кого она знала.
– Но ведь я женщина, русская баба, – доносился до него торопливый грудной голос. – А ты, Андрюшенька, родной мой, не понял, что русская баба не бросает мужа калеченого да несчастного посреди ужасной страшной войны… Мы жалеть умеем, Андрюшенька, а наша жалость, она и есть наша любовь. Знаю, знаю, ты думал, переспала, вот уже и моя. Но я и была твоя и вспоминать буду тыщу раз посреди ночи, до самого края жизни не забуду ничего. И не так, как мужик вспоминает, а изводиться по твоим ласкам буду, подушку омывать слезами – так вспоминать… Но его не брошу. Он меня, Андрюшенька, тоже жалеет по-своему, как родитель старший все равно. Он обо мне печется, любит меня. А баба, ох, что баба… Она за ласковую душу отдаст все, и терпеть калеченого будет, и любить будет. Да, тем сильней, может, ты не понял, Андрюшенька, чем больше он несчастный…
Андрей будто застыл, похолодел весь от неожиданного горя.
Она знала, что может в нем сейчас твориться. Льнула к нему, целовала, плакала и убивала своими словами.
– Я у тебя только первая женщина. Это вовсе не то, что первая жена. У тебя, милый, родной мой, все будет. Жена твоя, Андрюшенька, счастливица будущая, может, только в школу ходит… Не отчаивайся… Я буду тебя помнить, всегда, всегда.
– 23 -
Андрей шагнул на улицу, наткнулся на Ваську, сидящего на ступеньке.
– Ты? Василий? – спросил пораженно. – Что тут делаешь?
– Ни-ни…чего, – ответил тот, съежившись, обхватив плечи руками.
– С тех пор?
– С каких… Ну, ты же сказал, что ненадолго. Я решил подождать.
– Вот шальная голова. А если бы надолго? На всю ночь?
Васька подул на руки.
– Сколько б терпения хватило.
– А постучаться ты не мог?
– Да ну, – отмахнулся Васька, – А кто здесь живет?
Андрей посмотрел на мальчика, на дом с темными окнами.
– Как тебе объяснить. Одна, в общем, хорошая женщина.
– Любишь ее? – спросил Васька.
– Что?
– Что, что… Не хочешь, не говори. Сам не маленький, догадаюсь.
– Ох, Василий, – только выдохнул солдат. – Не только ты, а я маленький в сравнении с ней.
– Ага. Значит, не любит, – заключил Васька. – Да ну их! Все они одинаковые!
– Смотри, а у тебя, брат, опыт.
– А чего я, слепой, что ли! Они в лесу около детдома на траве с солдатами лежат… Да и в песне не зря поют: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь…» – И так бывает. По-разному бывает, Василий.
– Конечно, по-разному, – сказал Васька. – Ведь говорят же: до лейтенанта жена получает только удовольствие… До полковника – удовольствие и продовольствие. А после полковника только продовольствие…
– Пойдем, Василий, побыстрей. Вправду похолодало, – предложил солдат. – А женщин ругать нельзя. На них, сам видишь, весь тыл держится.
– Вижу. Только жениться бы я все равно не стал. Противно это.
– Что тебе противно-то?
– Да все. Целоваться противно. Я, конечно, сам не целовался, но видел. Лично мне не понравилось. А ты целовался, дядя Андрей?
– В общем… Да.
– Тогда скажи, когда взрослые целуются, им не стыдно в глаза друг дружке смотреть?
Андрей усмехнулся, прибавил шагу. Васька рысцой поспевал за ним.
– Когда люди любят друг друга, ничего стыдного не может быть. Понял?
– А как узнать? – спросил Васька. – Мы в детдоме много об этом спорим, ребята говорят, что любви не бывает. А вот учительница рассказала историю… Знаешь, жил дворянин один, а в него влюбилась девушка. Она ему даже письмо написала в стихах… Ну, такое письмо, ахнешь! А он ей, значит, говорит… Ты молода еще, поживи с мое, тогда поймешь, почем фунт изюма… И стал ухаживать за ее сестрой. А сестра эта была прости господи, такая, ну… С одним, значит, с другим, да еще жениху голову морочила. А жених был приятель этого дворянина. Он возьми да вызови дворянина на дуэль. Это раньше так было – из-за баб вызывали на дуэль. А дворянин его и кокнул. И уехал на фронт добровольцем… А потом приезжает с фронта, а девушка его уже замуж вышла, да не за лейтенанта, а за генерала, что ли… Он ей по аттестату и деньги, и продукты, она и пошла за него. А дворянин увидел и влюбился. Генерал на передовой, понимаешь, немчуру бьет, а этот к ней каждый день домой ходит. Еще письмо написал, они раньше так делали… Вроде и встречаются, и письма еще пишут. И он, значит, в стихах как ей катанет на целую тетрадь. Написал, что он зазря не оценил ее, что был груб, а теперь, мол, любит. А она ему при встрече и говорит. Я, говорит, тебя любила и сейчас люблю. Но генерал меня обеспечивает, и я ему изменить не могу. С тем и прощай, дорогой! А в это время генерал в командировку приехал. Как увидел он их вдвоем, достал гранату, как ахнет!
– Не бреши, Василий, – сказал солдат. – Не было гранаты.
– Ну, не было, – сознался Васька. – А ты откуда знаешь?
– Слышал.
Шагалось по холодку легко.
Ночь не казалась уже темной. Дачная улица была пустынной, молчаливые ряды домов с потухшими стеклами.
Чтобы сократить дорогу, свернули они в редкий сосняк, на тропинку. Откуда-то сбоку вынырнули две фигуры, пошли наперерез. Один остался сзади, а другой приблизился вплотную, попросил прикурить.
Васька сообразил моментально: урки, раздевать начнут.
Покрылся липким потом, а руки и ноги ослабели от страха. И голос пропал. Но испугался не за себя, за солдата, который, ничего не подозревая, полез в карман за спичками.
– Дядя Андрей… – прошептал Васька, но кончить не успел.
Человек выкинул вперед нож, держа на уровне пояса, снизу вверх, хрипло приказал:
– Часы, деньги – быстро! Будешь кричать – прикончу! Живей! Живей!
Солдат стоял будто в растерянности, медленно доставая руку из кармана. Дальше Васька не успел увидеть, что произошло. Солдат ударил ногой по руке, и нож улетел в темноту. Потом он захватил локоть бандита, так что хрустнуло, и тот грузно шмякнулся на землю. Да попал на пень ребром, заорал от боли.
Зато второй навалился солдату со спины, опрокинул на себя.
– Помогите! – закричал Васька, но голос, срывающийся, слабый, прозвучал как во сне. И ноги подгибались, и не было сил бежать.
Он почти достиг дороги, упал, ударившись о какой-то булыжник. Тут только сообразил, что бросил дядю Андрея одного с бандитами. Пока Васька будет звать на помощь, они ведь убьют его.
Заплакал Васька, потерев ушибленную коленку, нащупал злосчастный булыжник, поднял его. Прижимая к груди, поплелся обратно.
Острым детским зрением разглядел в серой мгле, как хрипят, катаясь по земле, двое, а в стороне сидит третий и пытается встать и не может. Здорово, видать, хрястнуло его об пень.
Васька увидел, что бандюга подмял под себя солдата, навалился грудью, стал душить. Всхлипывая, подошел к ним, положил камень у своих ног и вытер рукавом слезы, чтобы не мешали видеть. Поднял камень и с размаху опустил его на голову бандита.
Тот мгновенно раскис, размяк, отвалился набок, издав гортанный звук.
Солдат встал на ноги, покачиваясь сделал несколько шагов, увидел Ваську. Протянул ему руку, произнес только: «Бежим!»Они с треском летели сквозь темный лес, спотыкаясь на колдобинах, на ямах, процарапываясь через кусты. Потом замедлили бег, пошли шагом, а на подходе к детдому остановились. Сели на землю и слова не могли сказать, задохнулись. Смотрели друг на друга и тяжело дышали.
Тут стало видно, что наступил рассвет. Верхушки деревьев все ясней очерчивались на фоне светлеющего неба. Звезды стерлись, повеяло сыростью.
– Останемся здесь, – предложил солдат.
– А если найдут? – шепотом спросил Васька.
– Кто? Эти? Да нет!
– Все равно страшно, – сознался он.
Собрали сухую хвою, подожгли. Поднялось пламя. Стало жарко. А ночь будто потемнела. И небо и деревья – все сгустилось вокруг.
Васька молчал, жался к огню.
– Ты что? Заболел? – спросил солдат, приглядываясь. А у самого темный синяк разрастался под глазом и кровяная царапина поперек щеки.
Васька шмыгнул носом, стал крутить тлеющий прутик. Спросил неуверенно:
– Дядя Андрей… А я этого… не убил?
– Кого? Бандюгу-то? – сказал тот. – Да что ты, оглушил малость. Переживаешь?
– Не знаю, – вздохнул Васька. – Я когда шмякнул его по голове, сам думаю: вот и он встанет сейчас, кулачищем двинет, и брызнут мои глаза в разные стороны…
– Уж так ты это и успел подумать?
– Успел, после… Все равно я боялся его.
– Но ударил?
– А как же, – ответил негромко Васька. – А если бы тебя стукнули или ножичком пырнули? Им это что высморкаться.
– Да-а, – протянул солдат. Засмеялся, глядя на Ваську. – Я и не понял, зачем они подошли.
– Как же не понять? – удивился Васька. – Если двое в темноте подходят и прикурить просят, значит, грабить начнут. У женщин они сумочки берут, часики какие, брошки, кольца… А у мужчин часы и бумажник. Иногда раздеваться велят, если там каракуль какой. Говорят, одну артистку прямо около своего дома раздели, в Москве.
– А у меня-то что брать? – спросил солдат. – Я каракуля не ношу.
– Это они в темноте обмишурились. Они бы отпустили, наверное, если бы ты объяснил.
– Я солдат, Василий. У меня объяснения простые. Мне бояться да отступать положение не велит. Да и тебе тоже…
Васька ничего не сказал, пошел хворосту подсобирать. Хорошо, что не видно, как покраснел. Ведь он побежал сперва. Видел дядя Андрей или не видел, что Васька побежал?
Вернулся, подложил в костер палок, спросил:
– Как вы его… об пень-то!
– А-а… Это самооборона, – пояснил солдат. – Мы в ремеслухе тренировались. Тут и силы много не требуется, одна механика.
– Нет, правда? – Васька даже привстал. – Вот бы научиться! У нас хмырь есть один, он всех бьет. Он старше, с ним никто не может справиться.
– А ты пробовал?
– Я? – хихикнул Васька. – Да обо мне и речи нет. Он самых здоровых гнет к земле. Если что ему нужно, отдай подобру, а то еще поиздевается… Вон как Грачу «велосипед» с «балалайкой»…
Солдат подкинул сухого лапника, костер загудел, поднялся высоко, осветив кругом кусты и деревья.
– Главное, Василий, это не сила и даже не техника, – сказал солдат. – Урки боятся смелых. Если бы ты первый ударил этого… своего…
– Кольку Сыча, – подсказал Васька, понизив голос, и оглянулся.
– Да-да. Если бы ты первым напал на него, я уверен, что он бы испугался.
– Нет, – произнес Васька. – Я его никогда не ударю.
– Боишься?
– Боюсь. Его все боятся.
– А Боня что ж?
– Бонифаций? Он сильный, только он не дерется. Понимает, что с Сычом лучше не связываться. Один у нас не отдал Сычу пальто. Так Сыч его раздел ночью, вытолкал в окно голенького и не велел появляться. Убрался, даже воспитатели не узнали.
– А что же воспитатели у вас делают?
– Живут, – сказал Васька. – Они сами ничего не умеют. То воспитатели новые, то ребята – попробуй узнай всех. Как на вокзале…
– Тяжело…
– Я и не говорю, что им лучше. Мы тут к одной в комнату залезли, так у нее ни денег, ни хлеба не оказалось. Одно крошечное зеркальце. Разве это жизнь?
– А зеркальце взяли?
– Взяли, – сказал, вздохнув, Васька.
– 24 -
Утром, во время завтрака, вошел в столовую директор Виктор Викторович, в темном отглаженном костюме, желтых туфлях и галстуке.
Он громко поздравил весь коллектив детского дома с праздником трудящихся Первое мая.
Ребята доедали овсянку. Кто-то царапал ложкой по тарелке, кто-то чавкал, а один, уже вылизавший кашу, хихикнул и надел тарелку себе на голову.
Директор посмотрел на придурка, переждал глупый смех и добавил, что, возможно, с утра придет машина из колхоза, тогда все поедут в гости к шефам. Так что никуда не разбегаться.
Вот теперь поднялся шум. В колхоз ездить любили.
Забарабанили по столу, завыли, затрещали, заорали невообразимое. Ревели, мычали, визжали на разные голоса, некоторые свистели. Директор собирался сказать что-то еще, но лишь махнул рукой и ушел к себе.
Общее возбуждение достигло вершины, когда принесли большую и блестящую, наподобие бидона, жестяную банку с американским клеймом и каждому выдали по полной ложке белой размазни, именуемой сгущенным молоком.
В тарелку, в ложку, в бумагу, в спичечную коробку, в лопушок, в ладошку – каждый подставлял что мог.
У Васьки была горбушка, приберегал для солдата. Провертел в мякише дырку, подставил, и ему налили диковинного молока. Васька не отходя языком лизнул – понравилось. Еще лизнул – еще вкусней показалось. Таяло во рту, нектаром расползалось по небу, по губам.
Голова пошла у Васьки кругом от такой сладкой жизни.
Стоял посреди коридора, лизал и наслаждался, зажмурившись. Представлялось ему, что, когда он подрастет, заработает деньгу, в первую очередь купит на рынке пайку хлеба и банку американского молока. Ложкой черпать будет и есть, подставляя снизу корочку, чтобы драгоценная сладость не капала мимо.
Неужто наступит такое золотое время для Васьки?
Кто-то, пробегая, саданул Ваську под локоть, хлеб с молоком отлетел на пол. Обмерев, бросился Васька к пайке. Но кусок упал удачно, ничто не пролилось, лишь осталось на полу бледное пятнышко. Васька лег на живот и пятнышко вылизал.
Прикрыв хлеб двумя руками, Васька пошел на улицу.
За сараем, привалясь к стене, спал солдат дядя Андрей, свесив набок голову.
Мальчик присел на корточки, подробно рассмотрел его лицо. Сейчас особенно стало видно, какое оно старое, изможденное, морщины, синяк под глазом и царапина на щеке.
Васька смотрел, и жалость разъедала его сердце, защипало в глазах.
Представилось: вдруг дядя Андрей умрет?
Уж очень вымученным, бледным он был, и тяжким, прерывистым было его дыхание.
Испугался Васька, ужас его объял. Помрет ведь, а может, уже помирает. Что будет он делать один?
Решил поскорей разбудить солдата. Известно ведь, когда человек не спит, он умереть не может. Потому что он станет думать, что умирать нельзя…
Осторожно положил хлеб на траву, стал теребить солдата.
– Дядя Андрей! А дядя Андрей! Проснись, не надо спать! Проснись, скорей!
Солдат лишь головой повел, досадуя. Попытался открыть глаза, белками поворочал и снова закрыл.
Не знал Васька, что привиделось солдату необыкновенное. Эшелон приснился свой, прямо как в натуре, и винтовка своя, которую он и не терял вовсе, а по забывчивости оставил в козлах, в вагоне. Чистил боевое оружие солдат, обглаживал ладонью вороненую сталь, поблескивающую маслом.
Увидел Васька, что солдат не может проснуться, еще больше перепугался. Затормошил его, чуть не плача, стал на ухо кричать.
Хотел солдат и Ваське счастливую весть объявить про винтовку. Что нашлась, родимая, что стояла – ждала в козлах. Да жаль от эшелона отрываться, от занятия своего приятного.
– Сейчас, Василий… Почищу…
Пробормотал и проснулся.
Увидел близко от себя испуганное лицо мальчика.
Спросил хрипло:
– Что? Что случилось?
Васька сел на землю перед солдатом, облегченно вымолвил:
– Фу, напугался!.. Думал, что ты помер!
– Я помер? – спросил солдат, озираясь, проводя рукой по лицу. Ах, как ему приснилась собственная винтовочка, будто наяву видел ее. Кончики пальцев до сих пор ощущают гладкий тяжелый металл. Подремать бы чуть, может, вернулось бы благостное это состояние…
Но Васька все тут, протягивает кусок хлеба с белой размазней.
Вяло принял солдат хлеб, спросил:
– Что, лярд?
– Попробуй!
Васька уставился в рот солдату. Радостно смотрел, как дядя Андрей откусывает хлеб с молоком. Но солдат перестал жевать, поморщился.
– Это что же такое? Не лярд?
Лицо у мальчика побледнело от обиды.
– Подумаешь, лярд! – выкрикнул вздорно. – Он и не масло никакое, его американцы из угля делают…
– Ну да, ну да, – согласился виновато солдат. – А это что?
– Молоко особое, сгущенным называется… Как пирожное все равно!
– А ты хоть ел пирожное?
– Не помню, – сказал Васька. – Вообще-то Боня рассказывал, какое оно… Вроде как снег сахарный… Возьмешь, а оно тает.
– Так это мороженое!
– А мы ходили картошку перебирать. Тоже мороженая, сладкая ужасно. Я ее штук сто съел.
За разговором Васька умял возвращенную пайку, облизал пальцы, а руки вытер об волосы. И зло пропало.
Вспомнил об утренней новости, предложил:
– Едем с нами в колхоз? Там весело, накормят от пуза.
– Нет, – сказал солдат. – Ты поезжай. А я к старухе схожу.
– А потом?
– Видно будет. Васька попросил:
– Меня подожди. Я к обеду вернусь. Съезжу только и вернусь. Ладно?
– Езжай давай!
Детдомовцы караулили машину у дороги.
Углядели издалека, бросились как ошалелые навстречу, облепили со всех сторон. Карабкались, сыпались с грохотом в деревянный кузов.
Зеленый «студебеккер» с откидными решетчатыми лавочками по бортам был ребятам хорошо знаком. Ездили на прополку, на окучивание, на сбор колосков. Каждый детдомовец мечтал стать шофером, чтобы гонять по пыльным проселкам такой зеленый «студебеккер».
Виктор Викторович дождался, пока все угомонятся, сел в кабину, и машина полетела.
– Даешь колхоз! – закричал Грач, размахивая над головой шапкой. Кто-то дразнился:
– Небось люди замки покупают, говорят, Грач едет, держись, деревня, чтобы не растащили!
– А ты, Обжирай, молчи! Кто в прошлый раз стырил в конюшне кнут?
Повсюду шли свои разговоры.
– …Боцман и говорит: «Я, говорит, тут все мели знаю! Вот – первая!» – …Старуха просит: сходи, сынок, принеси из погреба капустки. А я руку в бочку и за пазуху. А капуста течет по штанам, по ноге…
– …Он пистолет как наставит: «Ноги на стол, я – Котовский!» – …И не «студебеккер», а «студебаккер», там в кабине написано…
– …Ильинский тогда и говорит: «В нашем городе не может быть талантов!» – …Председатель так объявил. Мол, кончите семь классов, беру в колхоз. Мешок муки, трудодни там, картошка…
– …В прошлый раз в амбар на экскурсию привезли, пока рассказывали, Сморчок дырку пальцем провертел и муки нажрался, вся рожа белая!
– …А Швейк кричит: «Гитлер капут!» И в пропасть его…
Боня втиснулся боком между остальными, поближе к Ваське. Придерживаясь рукой за шаткий борт, спросил:
– Этот солдат… Он какой родственник? Дальний? Близкий?
– Родственники – это когда близко. А что? Васька не сразу сообразил, куда гнет Бонифаций.
Решил про себя: не открываться. Вообще наводить тень на плетень.
– Да так, – сказал Боня. – Вроде непонятно. Солдат, а ночует, говорят, в сарае у нас… Он что, с фронта приехал?
– В том-то и дело, что приехал, а тут несчастье, – по секрету передал Васька.
– Какое несчастье?
– Какое… Любил он, понимаешь, одну девушку. Она ему все письма на фронт в стихах писала. Ну а он пошел в разведку и целый штаб фашистов захватил. Гранату наставил, как закричит: «Сдавайся!» Они все и сдались. Ему орден за это. А он просит… Товарищ командир, мол, дайте несколько дней, мне надо к девушке съездить. Ну, ему дают. Приезжает он и что же видит…
– Что? – спросил Боня.
– А вот что! Живет она с лейтенантом, на полном, значит, обеспечении. А солдату и говорит: «Я тебя не люблю больше. Уезжай туда, откуда приехал. Мне и без тебя хорошо».
– Вот сука! – сказал Боня.
– Конечно, сука, – повторил за ним Васька. – И солдат ей так сказал: ты, говорит, тыловая сука… Тебе, говорит, не человек нужен, а звездочки на погонах! Это про тебя песню поют: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь» и так далее. Так вот, получай за все, и достает он гранату.
– У него есть граната? – спросил Боня.
– Есть… Хотел он в них кинуть, а потом раздумал. Выходит из дома и говорит мне: «Пусть живут. А я на фронт уеду. Мне эта граната для врагов пригодится. Давай, говорит, Василий, с тобой не жениться никогда. Все они, говорит, бабы, одинаковы. Целоваться с ними противно». А я в ответ: женщин ругать нельзя, на них весь тыл держится… А он сказал: «Ты, Васька, прав, конечно. Но любви на свете нет».
– А я-то смотрю, невеселый он, – произнес Боня. – Значит, так и ушел с гранатой?
– Так и ушел, – подтвердил Васька. – В сарае стал жить.
– Может, помочь надо? – Машина качнулась, Боня стукнулся губами о Васькино ухо. – Ты скажи…
– Ладно.
Боня повернулся к остальным ребятам, привставая на ветру:
– Песню поем?
Все завопили, каждый предлагал свое.
Боня, взмахивая рукой, запел громко:
Эх, граната, моя граната, Ведь мы с тобой не про-па-дем!Грянул хор, машина дрогнула:
Мы с тобой, моя граната, В бой за Родину пойдем! В бой за Родину пойдем!С песней, как десантники на боевом задании, въехали они в деревню, где на избах полоскались под ветром красные флаги.
– 25 -
Детдомовцы сыпались из машины наземь, как картошка из ведра. Падали, раскатывались в разные стороны. Свободу почувствовали, возможность проявить свои неограниченные силы.
Лезли в огороды и сараи, в конюшню, маслозавод, сельпо, скотный двор. Разбежались, как тараканы при свете, каждый нашел свою щель и был таков. Около сельсовета, где встала машина, жалкой кучкой торчали девочки, выбрав среди грязи посуше островок.
К Виктору Викторовичу подошел председатель колхоза, рыжий, бойкий дядька в овчинном полушубке и ушанке, на ногах сапоги, широко поздоровался. Был он, видать, под хмельком, говорил громко, махая руками.
– В клуб артиста пригласили… Пусть огольцы концерт посмотрят. Потом мы их по избам распихаем харчеваться. А где ж они?
Виктор Викторович развел руками:
– Разбежались. Теперь не соберешь.
– Как так не соберешь! – вздорно сказал председатель. – Сейчас молока велю привезти, вмиг будут тут.
Называя Виктора Викторовича на «ты», председатель взял его под руку, потащил в гости.
Вскоре подъехала телега с бидоном.
Рябая широкоскулая молочница стала разливать молоко по банкам, откуда-то налетели ребята, вывалянные в сене, жующие горох или жмых. Захлебываясь, обливая одежду, тянули банки, просили: «Дайте мне! Дайте мне!» – Да всем же хватит, – произнесла молочница. – Небось фляга-то вон какая.
– Авось да небось, – передразнил Васька и подставил чью-то шапку. – Ты лей давай! Мы неограниченные!
Кто-то пил из ладоней, не дожидаясь посуды, боясь, что его обделят. Кто-то по Васькиному примеру тянул шапку, а еще придумали галошу, сняв с ноги.
– Ох, мамочки! – восклицала молочница. – Да что вы такие заморенные?
– Мы не голодные, – поправил Боня снисходительно. Он возвышался над остальными, молоко с его подбородка капало на Васькины волосы. – Пьем, мамаша, про запас.
Женщина всплеснула руками:
– Да какой же может быть запас? Вы не резиновые, поди?
Боня спросил строго:
– Грач, сколько ты можешь выпить?
Тот не торопился отрываться от миски, из которой он с другими ребятами тянул молоко с разных концов. Допил, поднял голову вверх, отвечал белым ртом:
– Пока неизвестно. Как назад попрет, так, значит, хватит.
Постепенно желающие отпадали. Детдомовцы, налившись жидкостью, словно разбухнув, садились на землю там, где стояли. Пытались пить и сидя, но уже не лезло, и они зло сплевывали белую слюну, глядя снизу на тех, в кого вливалось больше.
Про Боню с завистью говорили:
– Он вон какой длинный! В него сколько ни лей, все зайдет!
Некоторые, подогадливее, бежали рысцой за сельсовет опростаться. Возвращались бодрые и активные.
Но и тут исчерпалось. Грач уже икал, отрыгивая, как малое дитя. Толька Кулак сидел обхватив живот и ловя воздух ртом: подперло у него под сердце. Какая-то девочка плакала: она не смогла выпить больше стакана.
Васька распластался, как рыба на песке. В глазах побелело.
Услышал, как молочница спросила с оглядкой:
– Кому еще надо?
Бидон, как назло, все не кончался. Кто мог допустить такое, чтобы его увезли?
С паузами Васька пробормотал снизу, почти из-под телеги:
– Надо… Еще… Ты не увози… Мы его постепенно… На большее воздуха не хватило – пошло молоко. Причем изо рта и из носа одновременно. Тетка, вздохнув, произнесла в утешенье:
– Дадут, дадут вам еще. Гуляйте!
Бидон увезли, а детдомовцы остались.
Впрочем, затишье продолжалось недолго. Умялось, утряслось, проскочило: вода дырочку найдет!
Сперва медленно, потом живей, как котята, стали кататься по земле, бороться. Играли в расшибаловку, в салочки, в ножички, в чехарду.
Вернулся «студебеккер», привез артиста.
Ребята увидели, ринулись в клуб занимать места. По пути чуть не сшибли собственного директора, он ходил с наволочкой по домам, закупал продукты для семьи.
В дверях клуба стоял рыжий председатель, по одному пропускал детдомовцев, придерживая остальных.
Покрикивал лихо:
– Давай, огольцы! Сыпь в партер! Сейчас концерт изобразим! Смех и юмор! Чтобы росли веселыми, огольцы-молодцы!
Детдомовцы и прежде знали рыжего председателя. С ним связывались колхозные подарки, картошка и овощи или неожиданные праздники, такой, как сегодня.
Ребята с удовольствием смотрели ему в лицо, дружески улыбались, кивали как старому знакомому. Никто не представлял только, что такое партер.
Самые просвещенные утверждали, что вино так называется, другие говорили, что это фамилия артиста.
Деревенских задарма не пускали, требовали червонец денег, если не было червонца, брали яйцами, маслом или салом.
Кто-то приволок соленый огурец, но с огурцом прогнали.
Клуб размещался в большой избе с деревянными лавками.
Детдомовцы заняли переднюю лавку, а некоторые сели прямо на сцене. Потом уже набилось народу столько, что стояли в дверях и в окнах. Стало душно, воняло сивухой.
Вышел на сцену председатель, – здесь он показался ребятам, смотрящим снизу вверх, еще больше, – стал говорить о празднике и о задачах на посевную как первостепенной помощи фронту.
– У нас в гостях подшефный детский дом номер тридцать три, – энергично произнес он, – воспитанники помогали нам активно бороться с сорняками, собирали на поле колоски… Спасибо!
Все захлопали, а некоторые детдомовцы захлопали сами себе.
Васька сидел сбоку сцены, ему было видно, как за короткой кулисой, в закутке, готовился к выступлению приезжий артист. Он накрасил себе карандашом щеки, губы, глаза, и Ваське стало заранее так смешно, что он прыснул в воротник.
Артист между тем из бутылочки взял в рот жидкости, шумно пополоскал и выплюнул прямо на сцену. Золотые зубы его вмиг побелели. Васька перестал хихикать и озадачился. Вот так штуковина! Красить щеки куда ни шло, но красить зубы… Нет, не надо было артисту скрывать их от публики. Любой пацан мечтает иметь столько блестящих зубов. Если уж необходимо красить, полоскал бы зубы на зрителях… Какой бы был успех!
Председатель кончил свою маленькую речь и предоставил слово артисту.
Тот выскочил на сцену, энергичный и приветливый. Кланялся, изгибаясь и кокетничая глазами, ему аплодировали. А Ваське стало заранее смешно.
Артист изображал на сцене пьяницу, который где-то потерял бумажник, но ищет его под фонарем. Его спрашивают: «Отчего ты здесь ищешь, ты же потерял в другом месте?» Пьяница отвечает; «А здесь светло!»Васька закатился от смеха. Так долго заливисто он смеялся, что в зале стали смеяться на самого Ваську.
Артист тоже приметил Ваську, указывая на него пальцем, произнес; – У меня дома такой же шкет растет! Приходит с улицы, а у него дырки на штанах!
Все засмеялись, а Васька прикрыл заплатки ладонями.
– …Ну, починили мы ему штаны, на другой день снова дырявый. Мать и говорит: «Сошью-ка я ему штаны из чертовой кожи! Он в жизнь не сносит». Сшила, глядим, вечером снова дырки… Я спрашиваю: «Ты что, нарочно их рвешь?» – «Да нет, папа, – говорит. – Мы просто с Мишкой новую игру придумали». – «Какую игру?» – «Да я сажусь верхом на точило, а Мишка крутит!»Артист мелко, профессиональным голосом заблеял и посмотрел на Ваську, как он станет реагировать. Но Васька почему-то не захотел смеяться. И никто из детдомовских не засмеялся.
Накрашенные брови у артиста поползли вверх, он недоуменно пробежал глазами по лицам ребят, поднатужился, заулыбался, как будто ему весело. Но Васька вдруг понял, что ему совсем не весело да и не интересно все это говорить и делать.
Васька не захотел слушать артиста, а решил уйти домой.
«Пускай, – подумал с неожиданной мстительностью. – Пускай залатано, зато у меня есть солдат дядя Андрей».
Васька отвернулся от сцены и стал смотреть в зал, на людей, которые смеялись и грызли семечки. Некоторые переговаривались между собой. Самые веселые, хватившие с утра самогона, пытались запеть. Их шумно одергивали.
Артист в конце изобразил зрителя в кино, который заснул во время сеанса, и все кончилось.
Прямо у выхода рыжий председатель распределял ребят по домам колхозников, тыкал пальцем в грудь и говорил: «К Кузьминым… К вдове Люшкиной… А этого к Прохоровым…»Васька шмыгнул в сторону, хоть знал, что будут сейчас сытно угощать детдомовских в избах. Картошки с мясом дадут, вина домашнего, семечек насыпят полные карманы. Поедут с песнями обратно, а директор повезет две наволочки крупы и творога и еще чего-нибудь.
Ваську ждет дядя Андрей, свой человек, а ему сегодня вовсе не до праздника.
Вышел Васька по наезженной колее, на окраину деревни, рысцой пустился в направлении Люберец. Только молоко забулькало внутри.
– 26 -
Как в прошлый раз, Андрей боковыми улицами миновал город, с оглядкой пересек шоссе около белокаменной поликлиники. Знакомой девочки, галчонка с тонкими ногами, во дворе не увидел, только след ее – белые квадратики, начертанные на асфальте.
Андрей стукнул раз и два в деревянную крашеную дверь.
– Входите, открыто, – раздался низкий женский голос.
Прихожая квартиры была завалена мебелью и тряпьем. Керосинки, корыто, велосипед… Пожилая женщина, волосы желтовато-седые на макушке косичками, встала перед Андреем с щеткой на длинной палке, вопросительно ждала.
– Здравствуйте, – сказал он. – Вы бабушка Шурика?
– Допустим, – произнесла женщина, глядя ему в лицо.
– Можно его видеть?
– Шурика нет дома. А вы кто будете? Знакомый?
– Да, мы встречались… однажды, но у меня к нему дело.
– Вот как! Ну, входите в комнату, раз дело.
Женщина отложила щетку и первой пошла по коридору. В комнате было так же сумрачно, северная сторона. Лишь за окном освещенная солнцем стена противоположного дома да зеленая ветка тополя у стекла.
Не сводя глаз с этой качающейся ветки в острых частых листиках, даже на вид липких, с молодой желтизной, Андрей сел на стул.
– Докладывайте, – предложила женщина, садясь напротив. Спокойно и доброжелательно выжидала, рассматривая его.
– Я был вчера, но не застал вас… А тут девочка около дома…
– Мариночка?
– Ее зовут Мариной?
– Ну да, прозрачная, как свечечка… Тяжелое дело.
– Почему тяжелое? – спросил Андрей.
– В больнице она.
– Как? Я вчера с ней разговаривал…
– Да, да, – сказала женщина. – Ее вчера и увезли. Хроническая дистрофия, еще там… Считают, что она не выживет. Так что у вас за дело?
Андрей молчал.
Раздумывал о девочке, о старухе и неведомо еще о чем. Поразительно все менялось в этом военном мире.
Стабильным было одно: страдание взрослых и особенно детей, которые вроде и не чувствовали, что они страдают.
Сейчас и решил Андрей, что невозможно рассказывать женщине свою ужасную историю.
Он повторил то, что уже сказал. Ему необходимо встретиться с Шуриком лично. Дело не столь серьезное, но срочное. Поэтому побеспокоил их в праздник.
– Пришла с работы и занимаюсь уборкой… Вот какой у нас праздник, – усмехнулась женщина. – Простите, я чая не предложила.
Она вдруг спросила:
– Шурик… натворил что-нибудь?
Андрей растерялся от столь прямого вопроса.
– Почему… так решили?
Женщина грустно посмотрела ему в глаза. Разумно объяснила:
– Как почему… Вот вы военный, а какое может быть у вас с ним личное дело? Он с бойцами до сих пор не водился. Да и в приятели по разным причинам не годится. Странно ведь.
– Мало ли странностей в войну, – едва ль не принужденно Андрей улыбнулся, хотя терпение его лопалось. Настырная попалась старуха. – Не водился, а теперь стал водиться, разве плохо?
– Не знаю! Не могу вам однозначно ответить на такой вопрос! – произнесла хозяйка вставая.
Она разволновалась. Прошла по комнате, поправила кружевную накидку на кровати, ладонью разгладила складки.
– Я, молодой человек, старая большевичка, как говорят, еще с подпольным стажем. С товарищем Воровским работала, всякого пережила. Так вот у меня интуиция. Шурик в последнее время ведет себя странно. Незнакомые ребята, подростки, теперь вы… Где-то пропадает, чем-то занимается. Все помимо меня. Теперь положа руку на сердце скажите, права я или не права, что беспокоюсь и хочу разобраться, что происходит в моем доме?
– Правы, – кивнул Андрей, подтверждаясь в своей мысли ничего не открывать. Разволнуется, сляжет с сердцем. Кому от этого польза? – Правы, но ваше беспокойство ко мне никакого отношения не имеет.
Он напрягался, чтобы говорить спокойнее. Глаз у бабки вострый, что и говорить. Истинная подпольщица. Он опять повторил, что вопрос этот личный, объяснить его трудно.
– Ну да, ну да, – кивала женщина, поджав губы и что-то соображая про себя. Она рассматривала свои руки, сложенные на переднике. Задала странный вопрос; – Вы на фронт… его не повезете?
– Как?
– На фронт, на войну то есть, – членораздельно подчеркнула женщина. – Не собираетесь с собой увезти?
– Простите. Как увезти? Зачем увезти? Андрей озадаченно уставился на хозяйку, пытаясь сообразить, шутит ли она, или говорит серьезно. Но если серьезно, то вовсе уж непонятно. Может, это ее «пунктик» на старости лет?
Та мгновенно оценила реакцию и все поняла. Опустилась устало на табурет, начала рассказывать издалека про своего сына, человека научного, который работал до войны по флотации руд, то есть по их обогащению. Строил заводы, ездил по стране, но своей семьи так и не сложил. А тут, в году тридцать седьмом, привезли испанских детей. Мальчика десяти лет они усыновили. Звали мальчика Арманд, но они именовали Шуриком. Мальчик способный, кончает девятый класс…
– Простите, – перебил Андрей. – А сын жив?
– Жив, жив, – сказала женщина. – На Урале, бронь у него. Он взял бы Шурика, да условия не те. Вот мы с ним тут и воюем, что называется. Я-то в военизированной охране на заводе Ухтомского служу, мне уследить за парнем невозможно. А он горячий, понимаете, эмоциональный, может наделать глупостей каких… Поэтому и спросила, вы уж извиняйте глупую старуху…
– Что вы! – сказал Андрей. – Мне об одной приятельнице узнать надо.
– Шурик с ней знаком?
– Да, да… Немного.
– Он ведь уехал в Косино. Вы знаете, где Косино? Женщина стала объяснять, что недалеко от озера, оно зовется Белое, есть торфоразработки, бараки торфушек, три длинных таких дома. В одном из них живет приятель Шурика, испанец Арана. Года на два старше их сына, да там, если спросить, все знают.
– Спасибо вам, – Андрей заторопился, встал. – Возможно, съезжу.
Он знал, что поедет немедленно, сейчас. Но произнес именно так: «Возможно, съезжу», не хотел больше волновать старуху. Своим появлением он уже внес немалую смуту в ее беспокойную жизнь.
Уходя, Андрей посмотрел на окно: зеленая ветка качалась на ветру.
Женщина провожала его в коридор и все рассказывала какие-то подробности о Шурике, говорила о том, как испанцы часто встречаются, как поют прекрасно свои песни; «Колумбиану» не слыхали? А теперь приятель Шурика Арана решил жениться на русской девушке, а ухаживали они, между прочим, вдвоем…
– Не ссорились? – спросил настороженно Андрей, В полумраке прихожей он что-то зацепил, и за шумом хозяйка вряд ли смогла разобрать странность вопроса.
– Как не ссорились, – произнесла обыденно. – Друзья ведь, они и должны ссориться. Оба вспыхучие, фы-рр! Как сера! Но драться, нет, не дрались, не слыхала такого… Наоборот, Шурик тут подарок все искал, удочки раздобыл какие-то. Мне не показал, увязал, повез. По-своему назвал их как-то. Арма, что ли, я точно не запомнила. Говорю ему, передай поздравления своему Аране и невесту поцелуй. А удочки твои ни к чему им, лучше бы мешок картошки свез, проку-то больше… А он молчком да молчком. С тем и укатил.
– Торопился? – спросил Андрей.
– Уж как торопился… Бегом да бегом. Будто гнали его.
– И он гнал, и его гнали, и меня… тоже… время гонит, – поправился на ходу Андрей.
Попрощался, вышел на улицу.
На весь поселок играла маршевая музыка, гуляли люди, громко смеялись. Флаги на довоенных длинных древках были как лоскутки совсем: экономили материю.
Андрей стоял озираясь, наткнулся взглядом на белые квадратики, оставленные девочкой. Стало больно. Ах, Мариночка, Мариночка, свечечка моя на ветру! Снаряд тяжелый не тронул, блокада не взяла, бомба на Ладоге миновала…
«Я болею, – говорила она. – У меня от голода болезнь». А потом она пригласила: «Приходите завтра. Завтра ведь праздник и у военных тоже? А я вам куклу покажу, Катьку…»Надо бы зайти, но сердце не выдержит, разорвется, когда он увидит куклу Катьку, которая тоже перенесла блокаду, даже не пискнула ни разу, и убитые глаза родителей.
Махнул рукой с досады, пошел прямо по улице, по ее середине. Ах, Мариночка, дай добраться до фронта, свернем мы фашистам шею, сотрем с лица земли как проказу окаянную.
Андрей вспомнил, как показывали в кино горящие дома Испании, большой пароход, а на нем дети. Медленно, осторожно выходят они на берег, а навстречу бегут русские женщины. Хватают, принимают на руки, целуют… А в зале плакали. Боже мой, чужая беда, а своя уже стояла на пороге. Вот и оказалось, что нет чужой беды, а есть одна общая и с ней нужно сообща бороться.
Не так ли произошло с ним, Андреем? Принял свою беду за главную. На том стоял и едва не сломался. Но увидел вокруг чужое страдание, чужую боль, чужие смерти и понял, что не о своем ему печься, а о чужом, оно и есть главная его беда.
Она-то и даст силы, чтобы выжить, испить кровавую чашу войны до дна. Не для личной мести искал он свое оружие, не для защиты абстрактной родины-матери, а конкретно для помощи каждому, кого он встретил и принял, чью боль ощутил как свою.
Испанский беженец мальчик Арманд-Шурик стоял в этой цепи пострадавших, и одно это лишало Андрея возможности видеть в нем врага, хотя бы личного. Такой поворот усложнял, но и упрощал их будущие отношения.
– 27 -
На поляне за детдомом стояла Ксана и, задрав голову, следила за птицами. В своем кокетливом беретике, вишневом пальто издали она казалась старше своих одиннадцати лет.
Андрей углядел ее на подходе, крикнул:
– Привет, подружка! Василия не видала?
– Здравствуйте, – произнесла Ксана, медленно, вовсе не удивившись появлению солдата. – Васи, по-моему, здесь нет.
– А ты искала?
– Нет, не искала. Я просто гуляю, – ответила девочка.
– Василий в колхоз уехал, к шефам… Но должен вернуться.
Ксана кивнула и посмотрела наверх. И Андрей посмотрел наверх. Там под крышей второго этажа шла обыкновенная птичья толкотня, воробьи хлопотали около своих гнезд.
– Видите, – сказала Ксана, – как они устраиваются? А ребята заберутся, все яйца покрадут.
– Зачем им яйца?
– Едят, – объяснила Ксана. – Вася тоже по карнизу лазит, когда-нибудь сорвется.
– Он цепкий парень! – заметил Андрей. – Ты с ним дружишь?
Девочка качнула головой.
– Не знаю. До сих пор мы встречались в классе. Он мне казался… В общем, хулиганом… Однажды я видела, как он целого птенца съел.
– Ну какой он хулиган! – воскликнул солдат. – Переголодал небось… Ты его строго не суди.
– Я теперь понимаю. Он хороший человек. Андрей взглянул на Ксану и подумал, что не случайно сказала она так про Василия, не зря гуляет около детдома.
– Василий верный человек, – -подтвердил он. – Ты уж его не бросай, когда я уеду.
– На фронт? – спросила Ксана, глядя на солдата снизу вверх.
– Да – Скоро?
– Очень скоро. Все, подружка, кончились мои каникулы.
– Я забыла передать, – сказала девочка. – Вас приглашала моя мама на праздник.
– Скажи ей спасибо, – отвечал солдат и еще раз внимательно посмотрел на Ксану. Красивая девчонка, что и говорить. Но уже все понимает о себе. На месте Василия влюбился бы в нее без памяти – Вот что, – попросил солдат. – Дождись Василия, передай: я пошел в Косино. Запомнишь? Косино, а там торфяные бараки… Вечером, может быть, вернусь.
– Не беспокойтесь, – отвечала Ксана. – Я передам. Он в Косино вам нужен?
– Не знаю. Пусть сам решит.
– Я так и скажу, – произнесла девочка, задумчиво посмотрев на солдата. – Вам также счастливо.
– Спасибо.
– Мы с мамой вас любим.
Андрей уже поворачивался, чтобы идти. Вскинулся, хотел что-то ответить, но увидел лишь в спину, как уходила она, держа руки в кармашках, величаво-спокойная, как маленькая женщина.
Круто повернулся и строевым быстрым шагом двинулся в сторону Косино.
Рассчитывал он добраться туда часа через два, но долгие обходы, кружение по окраинным улицам удлинили путь.
Только от Ухтомской перестал он думать о возможных патрулях и пошел напрямик, через дачные травяные улицы, сады и переулки.
Выскочил на бывшее картофельное поле, в конце которого уже виднелись темные пирамиды торфа и низенькие полоски бараков. Поле граничило с болотом, и пришлось идти вдоль него по мягкой подзолисто-серой земле, все время видя эти бараки, но нисколько не приближаясь к ним.
Прямо посреди топи возвышались странного вида машины, от которых в разные стороны тянулись настилы из досок, валялись брошенные тачки.
Справа открылось озеро, большое, продолговатое, с темными лодками рыбаков и белой церковью на противоположной стороне.
Андрей срезал путь через сосновый редкий лесок, в обход болота, и ступил на тряскую, постоянно влажную тропинку, ведущую к баракам.
Тут было шумно и празднично. Ходили люди, бегали дети, заглядывая в растворенные окна, из которых доносились пестрые голоса и звуки гармошки.
Сушилось белье на проводах, а сквозь него, не пригибаясь, пьяный гонял с оглушительным треском на мотоцикле, сзади сидела женщина.
Им кричали из окон:
– Перед употреблением взбалтывает!
Парень зацепился за угол, и оба, он и его спутница, полетели наземь. Но, видать, нисколько не ушиблись и, гогоча, тут же поднялись, стали отряхиваться. Мотоцикл продолжал крутиться и трещать лежа, взбивая вокруг пыль.
Две старухи, как матрешки на чайниках, сидели нарядные на скамейке, грызли семечки. Андрея засекли издалека и не спускали с него глаз, все-то было им интересно. И то, что солдат пришел, и к кому направляется, какая такая девка подцепила на крючок зелененького мальчика…
– Где тут испанец живет? – спросил их Андрей.
– Энто что за испанец? – спросила одна бабка другую.
– Хамилья, верно, Спанец… Можат, Петька наш?
– Нет, нет, – сказал Андрей. – Он из Испании, молодой парень.
– Молодой… Откуда, гришь?
– Из Испании, из-за границы…
– Он чево,солдат?
– Нет.
– Может, Алеха? Он как цыган, приехамши был…
– Так разве он не наш? – спросила старуха.
– Не наш, не наш, – повторила другая. – Перед войной приехал, а откудова, не знаю.
– А свадьба у кого сегодня? – спросил Андрей. Обе старухи разом заулыбались, перебивая друг друга, подтвердили, что точно, Алеха женится на Ягоровой племяшке Лидке, которая в университете учится, а теперь Алехе призыв пришел, он, значит, свадьбу захотел сыграть перед отправкой на войну…
– Но испанца Арана зовут? – усомнился Андрей.
– Он, он и есть! – гоношились старухи, вокруг них собирались любопытные. – Мы его Алехой, значит… Он с Лидкой-то как спутался, Ягор недовольный был. У Лидки живот выше носа, как же тут справить, если люди видять усе… Порешили добром свадьбу сделать, пусть солдатка, не брошенная же…
– Где они? – перебил Андрей говорливых старух.
Ребятишки взялись показать: третья дверь по коридору в соседнем бараке.
Старухи проводили его возгласами и пустились обсуждать между собой, кому будет родственником этот солдат: по Ягоровой, значит, или по Алехиной родне.
В коридоре, у входа в барак, стоял огромный титан и деревянная бочка для питьевой воды.
Дверей в коридор выходило много, разномастных, обитых клеенкой или фанерой, и просто деревянных, с досочками крест-накрест.
– Сюда! Сюда! – кричали ребятишки, показывая на одну из них, и уже тянули на себя, норовя вместе с солдатом заглянуть на чужую свадьбу.
Андрей постоял перед дверью, будто помолился про себя. Вздохнул и постучал. Никто не ответил ему. Он потянул ручку и оказался в комнате, где все было сдвинуто в сторону, а посередке стояли несколько столов с неубранной посудой и бутылками. Молодые женщины, девчата кружились вокруг тех столов, что-то приносили, уносили, спорили и на Андрея поперву не обратили внимания.
– К вам можно? – спросил он громко. И сразу затихло, три пары любопытных глаз уставились на него.
Откуда-то выкатилась коротышка в белой кофточке, нос курнос, а два голубых глаза навыкате.
– Здравствуй, дяденька! – потянулась к нему, на носочки встала.
– Здравствуй, тетенька, – ответил он и засмеялся. И все вокруг засмеялись, так интересно у них вышло.
– Вам жениха аль невесту? Вы кто будете?
– Я сам по себе, тетенька, – сказал Андрей бодро. – А где молодые-то?
– Вот чудодей! – прыснула кнопка и повернулась вокруг на каблучках. – Свадьба небось второй день, где они могут быть… Алеха с невестой на лодке поехали кататься, а мы тут грязь вывозим.
– Долго они?
– Сколько нужно молодым!
– Да с ими же их приятель Шурка поехал! – сказала другая женщина.
– Втроем, значит? – переспросил Андрей.
– Втроем, втроем… Они и всю жисть втроем. Кнопка затопала каблучками, заголосила:
Ты куда меня повел, такую молодую, - На ту сторону реки, давай не разговаривай!Припевая, потянула Андрея за стол, совала стакан с подкрашенной самогонкой. Он сопротивлялся, отнекивался, сказал, что не пьет.
– Вот счастливая у кого жена…
– Нет у меня жены…
– Какое совпадение – всплеснула кнопка руками. – А у меня мужа нет! Не отпущу! Торфушки, несите икону, мужской холостой пол обнаружился. Его как, силой венчать али уговаривать будем?
Женщины смотрели на солдата и посмеивались. Андрей пробормотал, что лучше он подождет на улице, потому что душно. Слышал, как кнопка крикнулав догонку:
– Торфушки, зовите милицию, жа-них испе-ченныйсбежал!
Старухи на лавочке продолжали обсуждать появление солдата и только при нем замолчали, он торопливо шмыгнул скорей мимо.
По знакомой тропе вышел в лес, подступающий к берегу, и сел на желтый песок, замусоренный углем от костров, бумагами и щепками.
Снял сапоги, скинул гимнастерку, оставшись в серой полотняной рубахе. Портянки расстелил по земле, а гимнастерку с сапогами положил под голову. Удобно улегся и стал смотреть на озеро.
Несколько лодок чернели на воде. Андрей, прищурившись, нацеливался на них, спокойно и обстоятельно, как снайпер, выбирающий цель. Со стороны могло бы показаться, что полеживал он себе беспечно, лениво или бездумно.
Не так оно было на самом деле.
А было чувство уверенности, что он достиг того, что хотел, и необходимо лишь время, которое у него есть. Вот и лежал, не спуская полузакрытых глаз с парящих по белой поверхности лодок, со всего озера, которое на исходе дня переливалось и мерцало, струилось и текло, как расплавленное серебро.
«И все. Все теперь, – подытожил он неторопливо и четко: – Они тут, и я тут. Вместе нам предстоит решить одну задачку, как обрести человеку свое лицо, свое имя, звание. Стать гражданином, имеющим документы, солдатом с оружием, единственного в глазах окружающих положения, когда человек зовется человеком, а солдат солдатом».
Как отнесутся те двое к поставленной такой задачке, станут ли они сопротивляться, отговариваться, вилять, отнекиваться, лгать, а может быть, и каяться, не это волновало его.
Он прошел к ним свой нелегкий путь, начав его с нуля и как бы обретая себя по крохам. Спасибо тем, кто принимал его за человека не по документам, а за солдата не по оружию. Они-то и помогли поверить в себя и возродиться.
Таким он предстал перед этими двумя, и оно было главным в его теперешнем положении. Оно диктовало ему милосердное снисходительное отношение к предполагаемым некогда врагам.
И все-таки не знал пока сам, как он поведет себя, когда встретится с ними. Это беспокоило его больше, чем то, как поведут себя они.
Физической расправы он не желал, но всяко могло случиться. Черт возьми, он живой человек, и любая драка могла дать выход накопившимся чувствам. Не к правосудию же обращаться, в конце концов!
Андрей не сводил глаз с воды, лежал раскованно и отрешенно, как бывает в жизни перед главным событием.
Вспомнилось из школьной жизни, как прочитала учительница по литературе Вера Андреевна им стихотворение про бурю. «Смело, братья, ветром полный парус мой направлю я, полетит по скользким волнам быстрокрылая ладья…» Вера Андреевна принесла на следующий день патефон и сказала, что в музыке эти же слова звучат еще сильней, еще эмоциональнее. Она достала пластинку, накрутила пружину и поставила иглу. Откуда-то из шороха и шипенья прорезался странный голос, а потом к нему присоединился второй. Они пели: «Облака плывут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней!» «Помужествуем! – горячо воскликнула Вера Андреевна. – Вы слышите, как звучит это слово: „по-му-жест-ву-ем“!» Она размахивала руками, странно и смешно напевая. Будто опомнилась перед многими устремленными на нее взглядами, – где же увидишь такое! – и смущенно добавила, что запись хоть и хриплая, но прекрасная, надо только уметь слушать. «Я вам повторю это место, слушайте! Хорошенько слушайте!»Ребята слезли со своих мест, окружили патефон. И опять из длинного шипенья возникли два мятущихся голоса, и один из них сильно и низко произносил: «Будет бу-ря! Мы поспорим и помужествуем с ней!» А потом плавно, как текучая вода после всяких гроз, пролились медленные слова: «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна, не чернеют неба своды, не проходит тишина…»Сколько раз мысленно Андрей потом проигрывал про себя эту песню, она так и слышалась ему из-под памяти, сквозь шорох и шипенье, и возрождала в нем силы, звала к борьбе.
– 28 -
Все-таки он задремал, сам не заметил как! Сказалась и прошлая бессонная ночь. Когда открыл глаза, было темно, от озера несло холодной сыростью. Песок под ним показался ему неуютным, мертвенно-холодным, как с другой планеты.
Андрей быстро вскочил, намотал портянки, прыгая на одной и на другой ноге, торопливо натянул отсыревшую гимнастерку. Пристально посмотрел на озеро. Оно светилось матово-бело и будто даже стало больше, но лодок нигде не было.
Не отводя глаз от озера, Андрей отряхнул с себя песок, поправил ремень, застегнул ворот.
Несколько секунд стоял, ни о чем, собственно, не раздумывая, глядя в молочно-холодную пустоту перед собой. Почувствовал озноб, ходко двинулся в сторону бараков, горевших редкой цепочкой огней.
Тропу теперь не разбирал, это было невозможно. Несколько раз оскользнулся, увязая по щиколотку в податливых болотных мхах. Вылезал на дрожащую, но спасительную твердь, чувствуя, как она пружинит и плывет под ногами. Около бараков он остановился, почистил щепочкой сапоги.
Компании гуляющих, в основном женщин, стояли кучками во дворе, танцевали, пели частушки. Выли частушки про любовь и про войну.
Андрей попытался миновать гуляющих стороной, но остроглазые девчонки приметили солдата, стали на его пути. Вроде бы шутя, но слишком старательно, желая показать себя и понравиться, закружились перед его глазами.
Одна из них – он сразу узнал кнопку – приблизилась, заорала ему в лицо:
Лейтенант, лейтенант, приходи на бугорок, Приноси буханку хлеба и картошки котелок!Тут другая, покрупней, в сапогах на босу ногу, в коротеньком платьице, вразрез подруге завела свое:
Лейтенант, лейтенант, мягкие сапожки, Постой, не уходи, у меня белы ножки!Кнопка затопала ногами, выставив руки перед собой, очень ловко все у нее выходило:
Я любила лейтенанта, я любила старшину - Лейтенанта за погоны, старшину за ветчину!Женщины засмеялись, крикнули Андрею:
– Давай отвечай, а то до утра не отпустим! Лейтенантская серия продолжалась бы долго, но в защиту солдатика выступил гармонист-подросток и такое отмочил натуральное, что девчонки завизжали, напустились на охальника.
Кнопка спела ему, взбивая пыль ногами и кружась:
Ты меня не полюбишь, так я тебя полюблю, Ты меня не повалишь, а я тебя повалю!Андрей под шумок протолкнулся к двери. Но кнопка углядела, догнала, дернула за полу гимнастерки:
– Эй, лейтенант, лейтенант! Андрей огрызнулся с досадой:
– Ну какой я тебе лейтенант?
– А мне одинаково, – сказала кнопка смирно. – Что солдат, что генерал. Был бы мальчик хороший…
– Ну а дальше что?
– Кого ищешь-то? Жениха, что ль?
– Шурика ищу… Знаешь?
– А, Шурика… Так бы и сказал, он в комнате сидит, кукует по уходящему дружку. А может, и по невесте!
Андрей шагнул в коридор, отстранив кнопку, но она скользнула наперерез и снова встала перед ним.
– Эй, лейтенант! Лейтенант! Ты меня не забывай! Я хорошая!
– Ладно, не забуду. Вот же вязкая ты какая!
– Какая? – переспросила она.
– Прилипчатая…
Она толкнула его в грудь двумя руками, крикнула на весь коридор:
– Я бы не только к тебе, деревянному, я бы к пню старому прилипла… Тоже, лейтенант нашелся!
Андрей торопливо, по памяти, нащупал ручку и очутился в комнате, наполненной, как баня, гулкими, неведомо откуда исходящими голосами, выкриками, пением.
И тут в основном были бабы, но постарше, тянули мотаню: «Ах, мотаня, ты мотаня, ты мотаня модная, ешь картошку понемножку и не будь голодная…» Другие отвечали протяжно: «Капустка моя мелкорубленая, отойдите от меня, я напудренная!» Никем не привеченный, стоял Андрей за чужими спинами, разглядывая застолье. Вздрогнул, весь напрягся, как пружинка стальная: на переломе двух столов, на углу, сидел чернявый молодой парень, тот, кого он искал.
Никогда не видел его Андрей, но узнал сразу. Узнал бы где хочешь, столько передумал о нем, столько представлял, вынашивал его образ.
Не сводя немигающих глаз, стал подбираться к нему через спины, табуретки, бутылки на полу. Лез, цепляя за чужие ноги, но не видел никого, кроме этого, родней родного теперь ему человека.
Втиснулся, подвинув, отжав кого-то, уселся рядом. Повернулся к парню, стал его рассматривать. Подробно оглядел, не торопясь, обстоятельно и детально, как собственное лицо в зеркале.
Отметил про себя, что красив оказался испанец, задумчив, курчав, как поэт Жуковский на гравюре в хрестоматии. Детский профиль, крошечный кадычок на тонкой смуглой шее. Одет скромно – рубашка да штаны. Все подштопано, без дырок, видать, бабкина рука.
Ах, Шурик, Шурик, дорогой Арманд! Прости, но должен тебя потревожить. Не я, не я, это голос судьбы зовет.
Слышь? Нет, не чуток, брат, своим горем занят. Свое, известно, громче чужого. А ведь я тут, под боком, кричу, молю о помощи! А? Что?
– Что? – спросил Андрей вслух. – Ты что-то хотел сказать?
Парень поднял голову, мельком взглянул на соседа. Ничего он не хотел сказать, не до того ему было. Андрей укоряюще покачал головой, но не обиделся.
Вот что значит небрежение к ближнему. А ведь я со всей душой. Я даже выпить предложу тебе…
– Выпьем? – сказал Андрей.
Налил в стаканы подкрашенную вонючую свекольную самогонку, один стакан придвинул соседу.
Тот машинально принял, поднес к губам. Андрей приостановил его свободной рукой, чокнулся:
– Будем знакомы! Меня зовут Андрей! Парень кивнул и выпил. Закусывать он не стал. Андрею и это не понравилось. Европеец, но пьет по-русски, залпом. Дурачок, не закусывает только. Разговор начинается лишь, надолго ль его хватит.
– Я говорю, зовут Андреем. Ты понял? Андрей Долгушин, друзья называли Долгуша. Только вот какая у меня беда… Слышь? Друзья мои уехали все эшелоном, значит, на фронт, а я остался. Как дезертир, слышь?
– Что? – пробормотал парень, будто просыпаясь. С удивлением вытаращился на соседа, рассказывающего ему странные байки. – Что?
– Такая вот хреновина, – Андрей посмотрел в зеленые глаза парня. Удачный цвет, брюнет с зелеными глазами. И чего там кнопка расточается, тратит молодую энергию по пустякам. Импортная красота пропадает…
Но, кажется, ему чужая невеста милей… Мда, ситуация, прям как в кино. на чужом пиру похмелье. Вот и гости орут: «Горько!», позабыв, что молодых тут нет, сбежали, хотят побыть последнюю ночь вдвоем. Им и в самом деле горько. Сейчас я, браток, добавлю и тебе горечи.
– Никому не пожелал бы такого, слышь? Как дезертир, говорю,.. Без оружия!
Андрей снова заглянул в чужие глаза, в которых появилось нечто осмысленное, но как далекое воспоминание неведомо о чем. Андрей этим удовлетворился.
Он выпил, закусил квашеной капустой и картофельными котлетами. Родные тошнотики, к месту и частушку вспомнил; «Тошнотики, тошнотики, военные блины, как поешь тошнотики…» Андрей усмехнулся, поторопил своего приятеля, нежно положив руку на плечо.
– Пей, пей, а то у меня еще тост!
Парень нехотя повиновался.
Андрей размашисто наполнил стаканы, свой поднял на уровень глаз, рассматривая на просвет, глядя на соседа. Нет, вовсе не злодейским сквозь красную самогонку виделось его лицо.
А может, он это и не он вовсе?
– Теперь выпьем вот за что… Тебя звать-то как? Ты вроде и не представился?
– Шуриком, – вяло ответил парень.
– Ага, Шурик! Выпьем-ка с тобой, Шурик, за боевое оружие бойца, слышь? Ну хотя бы за винтовку-трехлинейку, образца тысяча восемьсот девяносто первого года, дробь тридцатого, данную солдату для поражения живой силы противника, огнем, штыком и прикладом… Скажу: пуще жены молодой твоего приятеля хранить ее надо!
Андрей стукнулся стаканом о стакан, но смотрел не отрываясь в лицо Шурика.
– Не сохранил я… Украли!
Что-то быстрое, как тень молнии, пронеслось по лицу парня, странно исказив его. Оно будто остановилось, помертвело. Подпрыгнула темная бровь, оттенив еще больше общую неподвижность, и сам он весь передернулся. Хотел подняться, но Андрей крепко держал руку на плече.
Упрекнул слегка, по-приятельски:
– Я же не кончил… Эдак ты… Я что говорю: украли мое оружие, да вместе с вещами, с документами, и подвели меня тем самым под штрафную. А что такое штрафная – смерть! Да что смерть, позор-то хуже, хуже! Или как?
Шурик сидел как оглохший, схватившись руками за голову.
– Я спрашиваю, хуже или как? – громче повторил Андрей, кто-то на них оглянулся.
Шурик поднял голову, трудно было его узнать. Это было совсем другое лицо, скошенное неприятно набок, деформированное как от удара.
– Я скажу… Скажу… – торопливо захлебываясь, повторял он.
– Ну, конечно, скажешь, – утешил его Андрей. Спокойно поднял стакан. – Выпьем, Шурик, вместе за то, чтобы мне выжить в этой истории, а? Чтобы снести сперва весь позор, всю тяжесть вины перед друзьями-солдатами, которые там за меня расхлебывают кровавую кашу… А ведь рядом с ними бить проклятущего немецкого пса я должен. Должен, а я здесь с тобой сижу. Вот в чем мой позор! Чтобы пережить его и остаться бы целым да живым! Ну? Иль ты не хочешь, чтобы так оно и было?
– Хочу! – простонал Шурик, схватил стакан, начал жадно пить. Его вдруг затошнило. Он скорчился, наклонясь и отрыгивая, стал пробираться к двери. Андрей поддержал его.
Вывалились в темный коридор.
Рвота была долгой и мучительной. Вывернуло все, но спазмы, новые и новые, никак не оставляли его.
Часто дыша, вытирая рукавом рот, он стал рассказывать, как просился на фронт, не взяли. Хотел мстить фашистам за убитых в Испании родителей, за все, что сам пережил. Попросил каких-то ребят, чтобы достали оружие. Пообещал золотой крест, что носил от рождения на груди… Единственная память от родителей.. Ребята нашли, показали, пьяный спал солдат.
– Нет, – сказал морщась Андрей, эта сумасшедшая исповедь была мучительна для него, как и вся обстановка, и ядовитый запах блевотины. – Не пьяный… солдат был.
– Да разве я смотрел! – крикнул Шурик. – Мне сказали, не бойся, винтовка учебная… Получит три дня губы!
– Ну, дальше?
– Я сильно боялся, схватил, побежал… Но вещей не брал, ничего не брал, кроме винтовки.
– Дальше? Дальше что? – натужно спросил Андрей.
– Я все продумал, решил вместе с Араной сесть в эшелон и доехать до фронта. Таких, как я, много, есть и моложе меня. Но я с оружием! Значит, меня не прогонят. Так я хотел сделать… Мой отец так сделал! Взял винтовку и ушел в бригаду. У нас все так делали! У кого оружие, тот и солдат!
– Где винтовка? – закричал Андрей, потому что он не мог уже слушать и ждать. Все в нем кончилось – терпение, жалость, доброта, даже мужество. – Где она? Где? Где?
Голос в пустом коридоре прозвучал отчаянно.
Шурик шепотом ответил:
– Нет.
Стало тихо…
Оба молчали, прислонясь к стене, не видя друг друга.
Как мертвая зыбь на море, их раскачивала одна стихия, увлекая на дно. Слышали они друг друга, способны ли были вместе искать пути спасения?
– Помоги, – подал Андрей голос, каким унизительным, просительным он был. – Помоги мне, Шурик…
– Нет ее, нет! – гортанно резко произнес тот и стукнул кулаками об стену. – Арана как увидел, схватил ее, бегом на озеро. Ты, говорит, себя погубишь и меня погубишь! Это трибунал!
– Куда? – устало спросил Андрей.
– В озеро. Сейчас, недавно.
– С лодки?
– Да, с лодки.
– Глубоко?
– Не знаю.
– На середине, что ли?
– Нет, нет, ближе…
– Лодка там есть?
– Лодка есть. Но их запирают на ночь.
– Ничего. До утра я не могу ждать. Не доживу. Кстати, как по-испански «оружие» будет?
– Арма, – ответил Шурик.
– Я так и думал.
– Слушай, – сказал Шурик. – Хочешь, я пойду, мы вместе пойдем и все как есть расскажем. Пусть меня судят! Я виноват, я и отвечу!
– Дурак, – произнес Андрей и пошел к выходу. Сзади, слышно по шаркающим шагам, плелся Шурик. – Бабку бы пожалел. Она тебя любит.
– Я знаю. Она мне больше родной.
– А что ты делаешь? Меня губил, себя теперь губишь, ее… Камарадо ты, камарадо.
– 29 -
Неподалеку от общежития стояли Васька с Ксаной, обсуждали, где искать солдата.
Ксана увидела первая, спокойно сказала:
– Смотри, он?
Васька наскочил на солдата, чуть не стукнулся!
– А я тут! Дядя Андрей!
– Устал? – спросил Андрей.
– Да нет…
– Не сердись, я не дождался. Сейчас пойдем ловить мою боевую… – Голос у него был раздумчиво напряженный.
– И я? – спросила вежливо Ксана.
– Ну и ты. Если не боишься утонуть. Девочка независимо повела плечами. Мол, почему я должна бояться.
– Я не познакомил вас, – сказал солдат и оглянулся. Шурик стоял позади. Даже в полутьме двора было видно, как побелело и осунулось его лицо. Вот тебе и камарадо! А ведь его рвало от испуга. – Это Шурик, а это мои друзья.
– Он самый!!! Я его узнал, – произнес Васька глухо.
– Вот и хорошо, и я узнал. Значит, можно идти.
– Я думаю… Предупредить Арана? – спросил Шурик.
– Не надо! Зачем же портить человеку свадьбу?
– Ладно, – произнес Шурик и первым пошел в темноту, каким-то образом угадывая тропинку.
За ним шагал Андрей, потом Ксана, а Васька завершал шествие. Несколько раз он поскользнулся, и Ксана остановилась, чтобы поддержать.
– Да сам, – буркнул он, отстраняясь от ее рук.
– Вот чудак, – сказала она негромко.
Где-то на половине тропы Шурик неожиданно остановился, присел, коснулся руками земли:
– Какая, а?
Андрей нагнулся, приложил ладони, сразу различил влажное тепло, идущее изнутри.
– Что это?
– Вулкан! – воскликнул Васька – Земля… Торф горит, – сказал Шурик, – Мы по огню идем.
– По огню? – переспросила Ксана.
– Да, по огню.
– А ты испугалась? – усмехнулся Васька.
– Почему испугалась? После эвакуации я не люблю огня. Дальше шли молча. Но всем казалось, а может, так оно и было, что через обувь чувствуют они горячий исход огня, полыхающего под ногами.
Васька все нагибался, щупал землю руками, говорил, ни к кому не обращаясь:
– Во, жжется!
Выбрались к озеру, стало светлей.
Запахло тиной, сыростью. Белая негаснущая полоса на западе, над насыпью железной дороги, отражалась в воде.
Шли теперь вдоль берега по песку. Был он неглубокий с проплешинами твердой, вытоптанной земли, но подвигались медленно.
Показалось фанерное зданьице довоенной лодочной станции Все услышали, как дробит зыбь о дно лодок, едва угадываемых на воде.
Андрей, не произнося ни слова, прошел по деревянному настилу, его шаги глухо раздавались в тишине Нащупал цепь, рванул на себя, зазвенело, загрохотало. Казалось, что этот звон слышен по всему берегу.
– Сюда, сюда, живо! – прошептал он. Велел Ваське и Ксане лезть в лодку, которую придерживал за борт.
– Чем грести? – спросил Шурик – Досками… Садись, не тяни Андрей залез сам, покачнув лодку.
– Куда плыть? – спросил он.
– Туда…
– На огонек?
– Да, да. На огонек.
– Хотите, я весла достану, – громко сказал Васька, на него шикнули. Он продолжал шепотом: – Там замок не замок, а висюлька ржавая. Я одним гвоздем его .
– Сиди, – приказал солдат.
В две руки, он и Шурик медленно погребли досками, взятыми со дна лодки, и почти сразу пропал из виду берег.
Здесь дул ветерок. Стало прохладнее.
Ксана опустила руку в воду, прошептала:
– Она и не холодная совсем.
– Не холодная? – удивился Васька и тоже сунул руку за борт.
Андрей приглушенно сказал:
– Сейчас мы выясним, какая она… Горячая или холодная. Приехали?
– Чуть левей, – попросил Шурик. – Здесь.
Андрей стал раздеваться, все на него смотрели. Ксана отвернулась, брала ладошкой воду, пробовала языком.
Гимнастерку, штаны, сапоги солдат увязал одним узлом, сунул Ваське под спину.
Встал на корме:
– Сидите тихо. Ныряю.
– Ни пуха ни пера!
– К черту! К водяному!
Лодка дрогнула и стала поворачиваться вокруг себя, когда он оттолкнулся. Раздался плеск.
Все смотрели на то место, где пропал солдат. Но вынырнул он с другой стороны лодки. Отфыркиваясь, подплыл, уцепился за борт двумя руками.
– Как? – спросил Васька. – Что-нибудь есть?
Солдат ничего не отвечал. Оттолкнулся и исчез в воде. Выскочил вдали от лодки, медленно подплыл и стал отдыхать. Никак не мог отдышаться.
– Глубоко? – опять спросил Васька.
– Не… Не очень, – с отдышкой произнес солдат.
– Холодно, да?
– Чуть привык. А вначале… Кипяток прямо. Ладно, я еще попробую.
Он ушел под воду, а все стали ждать. Появился под самым бортом, подтянулся и лег на край животом. Шумно перевалился в лодку. С него стекала вода.
– Замерзли? – сказала Ксана. Развязала узел и протянула солдату гимнастерку. Он накрыл только спину. Сидел тяжело дыша и глядя на воду.
– Ничего? – произнес тихо Шурик. Андрей посмотрел на него.
– А ты не спутал? Место?
– Не должен. – Шурик неуверенно добавил: – Может, я поищу?
Ему не препятствовали.
Он разделся, потер ладонями бедра, плечи, грудь. Постоял, прикидывая, как ему прыгать. Но все не решался, пробовал ногой воду. Потом сразу как свалился неловко за борт. Тут же выскочил обратно, полез в лодку.
– Черт… Какая она! Дышать нельзя… Сдавило. Не могу.
Васька посмотрел на Шурика, предложил:
– Я попробую?
– Сиди! – крикнул на него солдат.
Он постоял, глядя во все стороны, прицелился, нырнул.
Не было долго, всем показалось, что прошли минуты. Даже Ксана, не теряющая равновесия духа, подала голос:
– Что это он… Не задохнулся там? Андрей вынырнул одновременно с ее словами. Ухватился за борт.
Отрывочно и хрипло произнес:
– Тут она… Нащупал тряпку, но сил… не хватило. Отдохну.
Но отдыхал совсем недолго. Боялся, что отнесет в сторону лодку.
Васька подскочил, тоже стал раздеваться. Скинул быстро все и без паузы шлепнулся животом в воду. Не из-за того шлепнулся, что плохо плавал, просто с лодки неудобно нырять. Так он объяснит Ксане.
Почувствовал Васька резкий обжигающий холод. Такой сильный, что стало больно в груди и онемели губы. Нащупал дно, не очень далекое, провел по нему руками. А уже не было сил не дышать.
Оттолкнулся, чувствуя спазмы в горле, выскочил из воды, чуть не захлебнулся. Здесь, на поверхности, показалось ему гораздо теплей.
Дядя Андрей висел около борта. Васька прицепился рядом. Сердце колотилось, как у воробья. Часто-часто дышал он.
– Тебе кто разрешил? – хрипло спросил солдат. Васька не отвечал, не мог.
– Давай в лодку! В лодку!
Васька крепко держался за борт, молчал.
– Отвезу на берег… Ты понял?
– Дядя Андрей, я последний разок, да?
Не дожидаясь разрешения, Васька нырнул. И теперь было холодно, особенно в глубине. Грудь сдавило будто льдом. Васька перебирает дно руками, ухватывает какую-то ракушку или камень. Оттолкнувшись, долго, долго идет вверх. А может, и не вверх вовсе, кто знает… Задохнулся, открыл рот, а тут ночной воздух… Ух!
Лодка качается на воде совсем рядом.
– Все! Кончен сезон! – говорит громко солдат.
Подталкивает мальчика в лодку, залезает сам, накреняя ее сильно.
Васька дрожит всем телом и никак не попадет в рукав. Нижняя челюсть стучит, и коленки трясутся. Васька держит их руками.
Солдат, не одеваясь, гребет к берегу. Когда становятся отчетливо видны камыши, он прыгает, тянет лодку руками. Тянет до тех пор, пока дно лодки не ложится с шуршанием на песок.
– Бегом! – кричит он Ваське. – Бегом! За мной, давай! Быстрей!
Они скачут по песку и пропадают в темноте. Добегают до болота, и солдат валится в густую жижу.
– Падай! Падай!
Васька бухается в грязь и чувствует, как ласковое тепло обнимает, окутывает его, пропекая до самой до требухи. Только спина заледенела, и Васька закидывается навзничь, потом опять на грудь. И солдат дядя Андрей перекатывается, бормочет утробно: «Ox! Ox! Ox!»Возвращаются они шагом, грязные, но довольные.
Солдат говорит:
– Теперь, Василий, домой. Понял?
– Вы останетесь, а я, значит, домой? Да? – занудил, захныкал Васька.
Не мог представить, что начнут его прогонять.
– Ты как думаешь, Ксану ждут дома?
– Пусть она думает, я чего…
– Ты – мужчина! Или не мужчина?
– Половинка, – огрызнулся Васька и сел одеваться. Долго волынил, ожидая, что солдат что-то скажет. Буркнул негромко; – До станции… И вернусь. Дядя Андрей вспылил:
– Ты что? А как она в электричке поедет?
– Спасибо, – произнесла Ксана. – Но я сама дойду. Честное слово.
– Тебя не спрашивают, – сказал солдат. – Василий человек самостоятельный, он сделает как надо. Доведет до дома и вообще… Так я говорю?
Васька подавленно кивнул.
Медленно поплелся вдоль берега, Ксана пошла следом.
Андрей начал одеваться, но вспомнил, закричал вслед:
– Я утром… Утром приду!
– А что случилось с родителями-то? – спросил неожиданно Шурика. – Они что, оба, отец и мать, воевали?
– У нас все за революцию воевали, – громко и резко сказал Шурик. – Мне рассказали, что их фалангисты взяли в плен и…
– Понятно, – произнес Андрей.
– Десять лет мне было. Я прибежал в батальон, он на краю города отстреливался. Я говорю, что я тоже буду с ними, потому что хочу мстить. А они накормили меня, потом говорят… Говорят, как же ты будешь мстить, у тебя и оружия нет. Так не годится. Ты расти уж скорей, нам хорошие солдаты нужны. Но я же вырос…
Андрей взглянул на поникшего Шурика, недобро усмехнулся.
– Арма, значит. Искать буду, пока не найду эту ар-му. А вообще, как ни называй, все без нее плохо…
– 30 -
В детдом Васька вернулся в первом часу.
Влез неслышно в окошко, разделся, скорей под одеяло. Долго не мог согреться. Мелкая дрожь ходила по всему телу. Трясся, как заяц под кустом. Потом придышался, уснул.
Привиделся Ваське сон.
Будто гулял он по лесу и заблудился. Кружил, кружил, да все около болота, от которого пар с дымом валит. Понял Васька, что гиблое место, оставаться тут нельзя. Сгорит он от подземного пожара. А кругом обугленные деревья да завалы, нет никуда путей.
Вдруг тропочка нашлась в синей траве. Пустился Васька бегом. По острой осоке, по колючему шиповнику, по гнилым змеиным мхам. Падает, спотыкается, руками за кусты хватает.
А тропинка все шире, все светлей делается. Видит Васька – впереди на поляне избенка черная стоит. Тропа прямо к крыльцу поворачивает.
Поднялся Васька по косым шатучим ступенькам, в дверь стукнул. А перед ним старуха стоит в черной одежде, в платке, на самые глаза спущенном. Рукой зазывает Ваську, показывает, чтоб заходил.
Через неосвещенные сенцы шагнул Васька в избу и насмерть перепугался. Стоят посередь просторной светелки три дубовых стола. А на каждом столе гроб большой возвышается.
Отпрянул Васька назад, а дверь будто кто подпер с обратной стороны. Все в нем остановилось от леденящего ужаса. Сердце замерло, не колотится, и дыхания нет. Увидел, как начали сползать с гробов крышки. Погребным холодом ударило в ноги, приморозило к месту.
Открылись гробы, стало видно, что в первом гробу пшеничное зерно насыпано до краев. А во втором гробу кровь алая, густая, полнехонько стоит. А в третьем гробу цветы ярко-огненные, невиданной красоты.
– Что это? – спрашивает Васька шепотом, обмирая от страха.
Тут и старуха рядом, с платком, опущенным на глаза. Указывает загнутым пальцем на первый гроб, поясняет, что такой была наша жизнь перед войной. Всего-то полно и обильно, как хлебушко до краев.
А второй-то гроб – война всечеловеческая, что сейчас идет. Столько кровушки от нее пролилось и еще прольется, что никто сосчитать не сможет. Всю землю пропитает ею, все реки-моря зальет.
– А здесь? – говорит Васька, указывая на третий гроб.
– Такая будет жизнь после войны. На живой крови, на наших бедах вырастут невиданные цветы. Как цветы, прекрасной станет жизнь. И ты, Васька, будешь в ней самый главный человек.
– А скоро? – спросил он. – Скоро такая жизнь придет?
В это время кто-то больно сел на ноги Ваське. Поджался он, а просыпаться не хочет. Ему бы ещенемного у старухи про будущую жизнь выяснить.
Но тут сильней придавило Ваську, мочи нет. Повернулся он, выглянул наружу.
В серых утренних сумерках увидел: сидит лыбится на Васькином теле Колька Сыч. Ждет, когда запищит Васька.
Приподнялся он на постели, ничего понять со сна не может.
– Что? Что? – спрашивает испуганно.
Откуда-то Купец объявился, с другой стороны притиснулся к Ваське. Тыкает в него пальцем:
– Он! Он самый! Я его где хошь узнаю.
– Та-эк, – растягивается рот у Сыча, самогонкой пышет. – Легавым заделался, кроха…
Он оттопыривает Васькино ухо, кричит в него:
– Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Так вот, плохо доносить, плохо сексотить, ябедничать…
– Продавать! – влезает Купец.
– Продавать – очень плохо. За это на-ка-зы-ва-ют! Ваську начинает знобить. Окно в спальню, как лезли, оставили распахнутым. Оттуда веет белым холодом. Снег выпал за окном.
– Кто указал Витьку? Кто Купца заложил? Кто испанца выдал? Кто? Кто? – наговаривает Сыч в ухо, дергая при каждом слове.
– Он! Он продал всех, – гундосит с другой стороны Купец.
Пальцами-клещами захватывает под ребром у Васьки кожицу и медленно выкручивает ее до синей крови.
Знает Васька, как больно, когда выкручивают кожу до синей крови. Но уже и этого не чувствует, потому что все у него отнялось, одна душа болит. За то, что солдата не дождался, что захватили в неурочный лихой час, когда нет у него силы противостоять врагам.
Плывет перед глазами комната, кружится все, сливаясь и мельтеша. Плохо сейчас Ваське. Ох, плохо.
– Стой! – говорит Сыч, останавливая экзекуцию. Видать, что-то новое придумал. – Стой! Чего тут в спальне с ним мараться? Скажи?
– Валяй на снег! – подхватывает Купец. – Мы из него такую снежную бабу сваляем! А? Идея пришлась Сычу по вкусу.
– Это красиво, – задумчиво произносит он, деловито предлагает Ваське: – Идем, что ли? Поиграемся, крошка, детство вспомним… Ах, счастливая пора, когда мы не умели продавать своих, а лепили снегурочек из снега. Туда, туда, в окошечко, – показывает он.
– Полезай! – грозит Купец, руку заламывает. – А то понесем!
Оглянулся затравленно Васька. Шевелятся под одеялами ребята, давно не спят. Слушают. Каждый про себя затаился. Как Васька затаивался раньше.
Ни один не встанет, не скажет в защиту словечка, половину, четверть его. А скажет, получит то же самое. Ведь придумали потеху – сделать снеговика из живого человека… И сделают. Как некогда одного выгнали на холод…
Только не из меня. Я молчал. Я не слышал. Мне дела нет, что они там вытворяют. Меня не коснулось, мне и хорошо.
Наверное, так думает каждый.
Обложенный, как волчонок в загоне звероловами, поджался Васька, выставленный голым напоказ. Один – за себя и за солдата дядю Андрея. Как тот сказал Ваське:
«Урки боятся смелых…»Нет, нет, никакой Васька не смелый. Поднялся с топчана, чтобы идти к окну. Трясется в лихорадке. От испуга или от болезни, кто его поймет.
А Сыч ему пинок под зад, поворачивайся живей. А Купец с другой стороны ногой норовит.
Вдохнул Васька побольше воздуха. Закрыл и открыл глаза. Представил ясно, как божий день, что стоит рядом с ним солдат дядя Андрей со своей винтовкой в руках и говорит серьезные слова:
«Если ты настоящий человек, Василий, а твое дело правое, умей же за себя и за свое право постоять перед врагом. Бей его, не бойся!»
Сунул Васька кулаком прямо в подбородок Сычу, тот и сел от неожиданности. Невелик был удар, а посадил противника. А Васька вторым кулаком в нос ему, даже кулак отбил. От собственного удара самого Ваську отнесло в сторону, как былинку.
Сидит Сыч, не может встать, задохнулся от боли и ненависти.
И Купец вытаращился… Атамана, их главного урку, которого милиция с прилегающим к ней населением побаивается, худосочный Сморчок кулаками мутузит.
Такое придумать и представить невозможно!
Взревел Колька Сыч, приходя в себя и подымаясь.
– У-ббб-ю! На месте! Верно, что убил бы он Ваську.
Но невесть откуда взялся Боня, непостижимым образом стал перед Сычом, загородил дорогу. Длинный, худой, как будто нескладный, а не обойдешь его с ходу.
– Пусти, – говорит Сыч. – А то за компанию… Раскрашу.
Боня смотрит спокойно.
– Чего шумишь? Чего разоряешься, спать мешаешь?
А кто уж тут спит. Все приоткрылись, смотрят, чья возьмет. Уже не о Сморчке речь, дело престижем пахнет. Даст послабку Сыч, и пойдет сыпаться его молчаливая рабская империя. Кто станет тогда бояться, за корку служить?
– Та-эк, – произносит Колька Сыч и медленно лезет рукой в карман. – Остренького на закуску захотелось? А, Бонифаций?
– Если достанешь ножик, – предупреждает Боня, голос у него твердый, – измолотим всей спальней. По частям себя не соберешь.
Боня стоит перед Сычом и нисколько его не боится. Смотрит сверху вниз, презрительно губы кривит. А детдомовцы вокруг сбились, кто с чем. С подушками, с поленьями… Грач горшок от цветов прихватил.
И Купец, что рядышком стоял, уже из-за окна выглядывает, следит, чем дело кончится.
– Убирайся отсюда и никогда не приходи! Не пустим! – говорит Боня прямо в лицо.
Оглянулся Сыч, глазки забегали. Нутром почувствовал опасность. У каждого против него накопилось столько, хоть отбавляй. Навалятся кучей, живого места не оставят. Ни один лазарет не склеит тогда Кольку Сыча. А он еще себе нужен…
Он себя любит, бережет от любых потрясений военных, а паче тыловых. Чужими руками привык брать, страх наводить на своих ближних, пугая их друг другом.
Не углядел, прошляпил придурков и шакалов. Первое упущеньице. Сморчка в зародыше придавить надо было. Второе. Боню не пристращал как следует – третье. Он бы молчал, ходил бы паинькой. А нет, погнал бы от детдома к детдому, по всему пригороду, научил свободу любить.
А сейчас время отступить, укротиться, уйти неслышно. Позорно, но за позор он заплатит. Единолично и единовременно, как говорят.
– Ну, ладно, ладно, – отступает Сыч, крутя головой, чтоб ненароком не стукнули. – Не прощаюсь!
Прыгает на подоконник, на улицу. Попадает прямо на голову Купцу. Тот завопил от неожиданности больше, чем от боли.
Сыч ему со зла шурнул кулаком:
– Не стой на пути, трус паршивый! Детдомовцы высунулись в окошко, захохотали. Грачев крикнул ему:
– Правильно, Сыч, бей своих, чтоб чужие боялись!
– Ах, это ты, Грач! – оскалился Сыч. – Я и не знал, что ты умеешь пищать!
– Ну и что, что пищим, – отвечал Грачев. – Зато по-своему, а не по-твоему.
– Пой, птичка, пой, пока не попала кошке в лапы! – только и нашел слов Сыч. Видно было, как он бесился. А тут еще Кузьменыши подали голос. Прямо хором закричали:
– Ты, Сыч, нам не угрожай. Мы тебя нисколько не боимся.
А Толик добавил:
– Васька – человек, а ты зверь, Сыч! Зверь!
– Змея без жала, – сказал Боня и засмеялся. И все засмеялись.
Когда врага бьют, это еще не поражение. Его могут и при битье уважать. Но когда над ним смеются… Вот где крах.
Понял это Сыч, отпихнул скулящего Купца, показал в окно кулак.
– Смейтесь! Не пришлось бы только плакать кровавыми слезами!
– Первый и умоешься! – кричат.
– А ты, Боня, жидовская харя, смотри! Наизнанку вывернем!
– Сам смотри, – кричит Боня, усмехаясь. – Второй раз не выпустим. Руки-ноги перетасуем, а в милиции скажем, что так и было.
– Ха-ха-ха! – заревела спальня.
На втором этаже окна распахнулись. Девочки выглядывают, тоже смеются, показывают на Сыча пальцем.
А тут Грач горшок бросил, как бомба разорвался он у ног Сыча. Отпрянул тот, да поскользнулся на снегу.
Заорал детдом, засвистел, заулюлюкал.
Побежал Сыч, прихрамывая, за сосны, проклиная Купца и шепча угрозы.
– Увидим! Увидим!
А что можно увидеть после того, что все видели? Лето перекантуется Сыч по пригороду, а осенью рванет на Кавказ в поисках сытой и легкой жизни.
– 31 -
На рассвете пошел снег. Он падал отвесно, возникая из серой мглы, и таял, ложась на черную воду.
Все скрылось от глаз за его густой завесой. А потом он поредел, открылись доселе невидимые берега, проявленные как на негативе. Белые деревья, белые дома и белые лодки около белого причала. Все это вокруг темной воды.
Снег Андрею не показался холодным. Странное было ощущение, но после жгуче-ледяной воды хлопья, падавшие на голое тело, казались почти теплыми, липли, приятно щекотали кожу.
Андрей задрал вверх голову, стал ловить снег ртом. Но тяжелые крупные хлопья сразу же забили глаза, и нос, и рот. Он провел по лицу ладонью, как умылся.
Посмотрел на своего спутника; – Как там по-испански дом?
– Каса, – отвечал Шурик.
– Тоже ничего. Но дом лучше. Поехали-ка домой!
– Значит, все? – спросил Шурик, вовсе не обрадовавшись.
Ночные поиски не прошли для него бесследно. Похудел, осунулся, стали заметней глаза. Он будто и сам стал другим. От вчерашнего запуганного и отчаявшегося мальчика не осталось и следа. Появились сдержанность, решимость, даже злость.
Он заставил себя вторично прыгнуть в воду, а потом нырять столько, сколько нырял и сам Андрей. Видно было, что давались эти ныряния не легко.
– Все, – подтвердил Андрей.
Они погребли к берегу и, только выйдя на него, почувствовали перемену вокруг и свою собственную усталость.
Уезжали летом, а вернулись зимой. Уезжали с надеждой, пусть самой крошечной. Вернулись безнадежные.
Солдат накрепко привязал к причалу лодку, посмотрел на озеро. Мысленно попрощался с ним, как и с его глубокой тайной, которую оставлял на дне.
Достал из лодки тряпочку, в нее была обернута винтовка. Единственное, что они нашли. Так он и пошел с этой тряпочкой в руках, нес ее до самого барака.
А тут посмотрел и выбросил. К чему она теперь?
Ввалились в комнату такие неподвижно усталые, застывшие, что не хватало сил присесть.
А их будто ждали. Заохали, забегали женщины, и среди них кнопка, принесли и заставили выпить по стакану самогонки. Потом нагрели таз воды, раздели и вымыли.
Кнопка, то ли усталая от долгой свадьбы, то ли от первого утреннего света, не показалась теперь Андрею молоденькой девчонкой, а женщиной с синячками и морщинками на утомленном лице.
О вчерашнем разговоре она и не вспомнила. Притащила Андрею мужскую рубашку и кальсоны, повела его тихим коридором в свою комнату. На кровати, на диване, на полу спали гости.
Проворно бросила на пол тряпки, велела ложиться, а сверху навалила всего, что было под рукой, и чем-то тяжелым накрыла ноги.
Андрей, едва согрелся, утонул в беспамятном и бездонном сне.
Очнулся, как после обморока, сразу. В комнате ходили и разговаривали люди. Было все то же утро. По расчетам Андрея прошло часа три, не больше. Но чувствовал себя он бодро.
Нашел в головах одежду, сложенную и сухую, и сапоги. Стал одеваться торопливо, но никто не обращал на него внимания. Бегала с посудой кнопка и на ходу улыбнулась ему, видать, так и не ложилась. И другие женщины суетились, занимались сборами жениха.
Теперь Андрей увидел его. Простой парень, русоволосый крепыш, ровня самому Андрею. Ни на шаг не отходил он от своей беременной, это было заметно, жены. А она почти девочка, худенькая, остроносая, с испуганными серыми глазами.
Велели присесть за стол. Посошок на дорожку. Разлили самогонку, стали чокаться и пить. Бабы завели, затянули:
Последний нонешний денечек Гуляю с вами я, друзья, А завтра рано, чуть светочек, Заплачет вся моя родня, Заплачут куры, порося-та…– Пора! Пора! – завопил кто-то в дверях.
Новобранец поднялся, беспокойно оглядываясь.
Бабы заорали, заревели в голос. Обнимали парня, как и его жену, будто и она уезжала.
Андрей смотрел и думал, что провожали испанца русские бабы по-русски, с русскими песнями и русским плачем. Да и воевать он будет за Россию, как некогда воевали русские за Испанию.
Помогли ему надеть вещевой мешок, поправили лямочки. Торопливо совали недопитую бутылку в карман. Суетились, колготились, и все от общего состояния беды.
А потом улеглось, затихло. Все сели присмиренные, только двери поскрипывали, кто-то входил и выходил. Новобранец с мешком приспособился боком на стуле, обводя провожающих тревожно-сосредоточенным взглядом.
С шумом двинулись на улицу. А тут снова начались суматоха, визг и плач. Девочка-жена вдруг охнула и закричала обморочно:
– Не уходи! Как же я! Как же ребенок будет! Не надо! Не пущу-у! – И захлебнулась враз. Ее подхватили, отпаивали, утешали.
Теперь новобранец подошел к каждому и с каждым попрощался. Тут стояли не просто гости, а жители из других бараков. И с ними он попрощался, каждому пожал руку.
Дошла очередь до Андрея.
Вряд ли знал испанец, кто таков этот солдат и по какому здесь случаю. Шурик был в толпе, но ничего и никому он не сказал.
Подал испанец Андрею крепкую руку, произнес то, что произносил каждому:
– Прощай, браток! И дальше уже:
– Прощай, браток! Прощай, браток! Прощай!
Андрей подумал вдруг, что прощался он с парнем, как моряки перед смертельной атакой. В один бой им идти, но дорога, но судьба через войну у каждого своя собственная.
Заиграла яростно и пронзительно гармошка: «Прощайте, прощайте, пишите почаще, но только не знаю куда…» Кучкой, уже без жены, с одними провожающими, двинулся испанец в поселок Косино на призывной пункт.
Андрей собрался на станцию.
Шурику сказал:
– Ну, до свидания, что ли…
– Куда? – спросил Шурик.
– Туда же.
– Может, все-таки мне с тобой пойти?
– Хватит, – произнес по-доброму солдат. – Береги и не огорчай бабку. Как там по-вашенскому победа?
– Виктория, – сказал Шурик.
– Вот так-то!
Тропкой, а потом дорогой вышел солдат к железнодорожным путям и направился вдоль полотна к станции. Шагал, оставляя рыжие от липкой глины следы.
Навстречу шел поезд, и солдат отступил к краю, отвернув лицо. Только когда миновали первые вагоны, он увидел и вдруг сообразил, что это его эшелон, углядел и узнал вагон свой, даже показалось, что расслышал пронзительный голос Гандзюка.
От снежной метели, поднятой движением, заслезились глаза. Но он смотрел и смотрел на мелькающие вблизи колеса, на теплушки, на двери, на окна…
Отгрохотало, с вихрем и ветерком, и унеслось в неведомое. А он остался, как брошенный, на путях.
Нагнулся к белому рельсу, приложил ладони, он еще был теплый, еще пульсировал, как живой. Но все тише и тише был стучок.
– Чего сидишь? – спросила железнодорожница, в шинели, толсто укутанная баба.
– Ушел, – сказал Андрей. – Кто ушел-то?
– Поезд ушел.
– Так другой будет. Только ты его не тут ждешь. Встал солдат, пошел за женщиной следом. Вдвоем, казалось ему, легче идти. С Шуриком было бы легче, и с Васькой своим тоже… С Васькой было бы совсем легко.
– Вот морока-то какая насыпалась, – произнесла женщина, оглядываясь на солдата. – Говорят, что примета нехорошая.
– Примета? – спросил солдат.
– Ну да… Снег на зеленые листья… Ударит по молодняку.
По шпалам вдоль рельсов, которые увели его эшелон, направлялся Андрей прямо на станцию Люберцы. Он знал, что там должна быть военная комендатура. Шагал он теперь открыто, не хоронясь: незачем было хорониться, даже наоборот, вдруг захотелось, чтобы выскочил невесть откуда в серых сумерках знакомый патруль с дотошным лейтенантом-бухгалтером во главе и с рыжим разбитным солдатиком, славным, в общем, парнем. Теперь бы Андрей смог по совести поговорить, открыться бы им, что пережил-передумал и к чему теперь пришел. А путь свой прямой линией, вот как эти рельсы, проложил он к фронту и никаких препятствий для этого не видел. К фронту, где будет он иметь свое солдатское оружие, свою ненависть к оголтелому врагу и свое бесстрашие, ибо он пережил страх.
Но как бывает в таких случаях, никто не попадался на пути Андрея в этот ранний час, ни патруль, ни даже военные. Беспрепятственно дошел он до громоздкого бетонного моста через железную дорогу, потом до станционного моста и, легко перешагивая через блестящие, добела отшлифованные рельсы, поднялся на каменную платформу. Здесь уже толпился народ, едущий на работу в Москву.
Пересекая платформу по одной, зримой только ему, Андрею, черте, ведущей к цели, он не глядел по сторонам. Случайно кинул взгляд в сторону, где несколько дней назад стоял его эшелон. Там сейчас остановился санитарный поезд – зеленые пассажирские вагоны с красными крестами на бортах. Около вагонов, где обычно стоят медсестры да несколько выздоравливающих бойцов, сейчас суетились люди, выводили, выносили кого-то, а здесь, где был Андрей, все стояли, подойдя к самому краю, и настороженно смотрели. Андрей тоже заинтересовался, подошел, посмотрел.
Он увидел, как из узких вагонных дверей с вертикальными неудобными ступенями какие-то женщины в белых халатах, военные в бушлатах и сапогах и просто люди в темных ватниках выносили детей и ставили, сажали, а то и клали тут же у рельсов на землю.
– Блокадные… Ленинградские… Из Вологды привезли .. – было произнесено в толпе, рядом с Андреем.
Никто никак не среагировал на эти слова. Все знали, что такое блокада и что такое Ленинград. Но было в детях что-то такое, что люди, и не слышавшие последних слов, останавливались и замирали, не в силах оторвать глаз. А за ними подходили все новые и так стояли, выстроившись на краю платформы и забыв про свой поезд.
Люди видели на войне все. Их ничем ни удивить, ни поразить было нельзя. Но вот они смотрели, а кто бы посмотрел на них: столько боли, скорби, мучительной жалости, потрясения, страдания, но и горькой радости было в их глазах. Ибо, хоть это были дети войны, жалкие обгарки на черном пепелище, но это были живые ;дети, спасенные и вынесенные из гибельного пламени, а это означало возрождение и надежду на будущее, без чего не могло быть дальше жизни и у этих, также разных на платформе людей.
У них. И у Андрея.
Дети были тоже разные. Но что-то их всех объединяло. Не только необычный цвет лица, сливавшийся с выпавшим снегом, не только глаза, в которых застыл, будто заморозился, навсегдашний ужас блокады, не только странные неразомкнутые рты.
Было в них еще одно, общее – и в облике, и в тех же лицах, и в губах, и в глазах, и еще в чем-то, что рассмотреть можно было лишь не поодиночке, а только когда они все вместе, и что выражалось в том, как вели они себя по отношению друг к другу и к взрослым, как стояли, как брались за руки, выстраивались в колонну, – и можно выразить так: дети войны. Страшное сочетание двух противоестественных, невозможных рядом слов. Дети здесь своим присутствием выражали самую низкую, самую адскую, разрушительную сущность войны: она била в зародыше, в зачатке по всем другим детям, которые не были рождены, по всем поколениям, которых еще не было.
Но вот эти, которые стояли теперь колонной, взявшись по двое, готовые отправиться в неведомый путь, ведь выжили же! Выжили! Дай-то бог! Они были посланцы оттуда, из будущего, несущие людям, стоящим на другой стороне платформы, на этой, еще военной, стороне жизни, надежду на будущее, несмотря ни на что. Им, а значит, Андрею.
Странной колеблющейся тонкой струйкой вслед за худенькой темной женщиной, тоже похожей на подростка, потекли блокадные вдоль рельсов все дальше и дальше в сторону города. И в каждом крошечном человечке, закутанном в тряпье, была, несмотря на робкость первых шагов, слабое покачиванье, – отчего живая струйка то растягивалась, то сжималась, и пульсировала, и рвалась, чтобы снова слиться, – неразрывная связь с ближними, друг с другом, с кем они сейчас шли, сцепив синие пальцы так, что никто бы не смог их разомкнуть, но и с людьми на платформе, и с этой беззвучной станцией, и с этой новой обетованной землей, которая их взрастит.
Семя, брошенное в жесткую почву, взойдешь ли, станешь ли шумящим колосом?
Стоя перед усталым лейтенантом с короткой щеточкой своих бухгалтерских усов, с испытующим, недоверчивым, колким взглядом в казенной комнате – комендатуре, Андрей не много мог объяснить. Словам тут не верят. Но сам пришел, с тяжким нечеловеческим чувством вины и покаяния.
Говорил, щурясь от желтого света не потухающей днем и ночью двухсотсвечовки на шнуре без абажура, а сам видел только эту нестираемую картину: качаемый ветром ручеек крошечных человеческих жизней, текущий вдоль рельсов в будущее. В будущее, которое Андрей будет защищать всегда. Даже когда, вот как они, не сможет стоять. Сидя, будет, лежа, как угодно. Потому что если выжили они, то Андрей выживет благодаря им, взяв от них пример мужества и отдав во имя их даже жизнь. Во имя их, во имя Васьки.
Нарушая строгую томящую паузу, пока старательный лейтенант, облизывая кончиком языка свои усы, составлял рапорт и писал бумаги, макая часто в высохшие чернила ручку, – а тут еще громкий сержант, кричащий по телефону, да двое патрульных, балагурящих в уголке, да какой-то штатский, клянчащий талон на билет, тоже отстал от своих, – Андрей, как псих, как контуженный какой, из тех, что поют в электричке, прорвался вдруг.
Порывисто и хрипло запросил, сам не узнал своего голоса:
– Одно у меня, товарищ лейтенант! Все знаю! Штрафнуха! Но прошу! Прошу вас, под охраной… Или так… Мальчонка у меня, братишка меньшой, малой! Васька! В детдомовских тут! Минуточку бы! Крошечку только! Глазком, словцом одним! – И на выдохе, совсем уж отчаянно: – Он же умрет, если не увидит! Он ведь ждет меня! Ну как бы… Ну как ждал бы вас ваш сын!
Лейтенант оторвался от бумаги, но не посмотрел на Андрея, а посмотрел почему-то в окошко, отсюда, из желтого света, в синий наружный утренний свет. Не знал Андрей, что потому так трудно и медленно писалось лейтенанту, что и перед ним неотвязно стояло то же самое. Как встречал санитарный поезд из Вологды – его ждали двое суток по радиограмме, – как шел от вагона к вагону, принимая на руки неощутимо, невесомо воздушных детишек, будто не их, а раненых птиц, и не мог при этом смотреть им в глаза, в которых, казалось, только и оставалось что-то весомое и живое. А когда, протягивая руки, все-таки натыкался на встречный взгляд, прямой и немигающий, какого-то белого, зимнего цвета, то опускал глаза и чувствовал, как запирало в груди дыхание и все тело коченело.
Да еще рассказ – невнятный, на ходу, в спешке – этой маленькой черненькой женщины о том, как собирала по домам и по улицам одичавших детей, которые и фамилий-то своих не помнили, она давала им свою фамилию, как тонули на грузовичке, когда бомбили их на Ладоге, перебираясь по неверному льду, а бойцы вытащили, спасли; как от Жихаревки до Вологды из-за жестоких поносов устелили они дорогу детскими могилами, а потом, в больницах, чуть не дыханием выхаживали остальных, уцелевших…
Теперь посмотрел лейтенант на Андрея, медленно, особенно как-то посмотрел. И, потерев кулаком глаза, отмаргиваясь, оттого что жгла усталое зрение яркая лампа, спросил кургузо:
– Где он .. твой, живет?
Было для Андрея в этом вопросе многое. Последняя встреча, Васькины верующие глаза, которые невозможно обмануть.
– 32 -
В эту ночь Васька заболел. Температура поднялась выше сорока. Лежал он весь в поту, с красным лицом и тяжело дышал. Завтракать утром не захотел, только пить и пить. Пришла Ксана, села рядом.
– Смотри, Вася, мама прислала тебе рубашку и штаны. А еще книжку сказок.
Васька кивнул, говорить ему было трудно.
– Хочешь, я тебе почитаю? Он опять кивнул.
– Вот хорошая сказка, – сказала Ксана. – Про Ивана, крестьянского сына, и чудо-юдо… Жили старик со старухой, а у них было три сына, а младший сынок – Иванушка Жили они, не ленились, без устали трудились, пашню пахали да хлеб засевали – Обильно, – прошептал Васька. – Хлебушко до краев – Что? – спросила Ксана. – Так вот, разнеслась в том царстве-государстве весть собирается чудо-юдо поганое на землю напасть, всех людей истребить, все городa-села огнем спалить Затужили старик со старухой, загоревали. Старшие сыновья утешают их– «Не горюйте, батюшка и матушка, поедем мы на реку Смородину, на калиновый мост. Будем биться насмерть» – «Я тоже пойду, – говорит Иванушка – Не хочу дома сидеть». Ксана прервалась и вдруг сказала задумчиво:
– Мама говорит, что плохо, когда на листья снег упадет. Будто примета, что молодых солдат много погибнет – Почему? – подал голос Васька.
– Ну, суеверие такое. Мы-то с тобой знаем, что это неправда – Конечно! – произнес он и закашлялся. К обеду появилась женщина-врач, попросила Ваську приподняться. Выслушала трубочкой спину, грудь, в рот заглянула, Боне, который находился в спальне, она сказала – Двустороннее воспаление.. Нужно отправлять в больницу – Сделаем, – отвечал Боня и стал смотреть, как врач выписывает бумажки.
Васька дождался, когда врач ушла, попросил Боню:
– Не увозите меня.
– Как же, – возразил тот. – Тебе лечиться надо.
– Не увозите, – сказал Васька и заплакал. Ксана отозвала Боню в сторону и прошептала ему – Он боится, что не увидит солдата .
– А когда он придет?
– Обещал утром – Ксана добавила. – Последний раз – До вечера подождем, – решил Боня – Пойду директору скажу.
Постучались, вошли трое военных.
Васька захотел подняться, никак через слезы не мог он разобрать, кто же из них дядя Андрей.
Но двое остались у двери, а третий приблизился к постели.
Произнес родным голосом:
– Что же ты, Василий? Все-таки заболел?
Васька отвалился на подушку, захотел улыбнуться.
– Нет… Я скоро встану.
– Да уж полежи теперь, – сказал солдат. – Куда тебе торопиться?
– А ты?
– Видишь, уезжаю.
– На фронт?
– На фронт, Василий.
– На реку Смородину, на калиновый мост… – произнес Васька.
– Да, вроде того. Там река Сейм протекает.
– А когда вернешься?
– Теперь скоро, Василий. Фашистов добьем. Ты учись и жди.
– Я буду ждать сильно-сильно, – сказал Васька и закрыл глаза.
С закрытыми глазами добавил:
– Вот только снег выпал… И зачем он выпал! Зачем?
– Погода такая, – ответил солдат. – Но все равно весна… Помнишь, из Робин Гуда я стихи читал? «Двенадцать месяцев в году, двенадцать, так и знай, но веселее всех в году веселый месяц май!» – Веселый, – сказал Васька. И закрыл лицо руками.
– Вашу винтовку нашли? – спросила Ксана.
– Винтовку? Да, да, конечно. Поэтому и еду, – отвечал дядя Андрей, оглянувшись на военных. Они уже делали ему знаки, что пора идти.
Были они при полной форме, в ремнях и даже с пистолетами. У солдата дяди Андрея не было ни кобуры, ни даже ремней или погон.
Только Васька этого разобрать не мог. А Ксана хоть и видела, но ничего не сказала.
– Будь счастлив, Василий, – солдат наклонился, поцеловал мальчика в лоб. Долго смотрел на его лицо, словно пытаясь запомнить. Хорошо смотрел, как на своего, на родного человека.
Протянул руку Ксане:
– До свидания, подружка! Не забывай!
– Я никогда не забуду.
– Вот и спасибо. Я вас с мамой тоже буду помнить, – Хотите, провожу? – спросила девочка.
– Нет. Будь около Василия. Не бросай его. Тут один из военных сделал шаг вперед и строго произнес.
– Боец Долгушин, свидание закончено. Андрей оглянулся, встал.
Быстро направился к двери, но с полдороги вернулся, торопливо заговорил, наклоняясь к Ваське:
– Жди, мой мальчик. Вернусь, будем вместе… Всю жизнь вместе! Прощай! Солдат дядя Андрей и двое военных ушли, а Васька остался ждать.
РАДИОСТАНЦИЯ «ТАМАРА»
Маленькая любовная история С летчиком Горяевым, о ком пойдет рассказ, я познакомился в клубике, который в ту пору никак и не назывался, а лишь «Клуб», и все. Иногда прибавляли: «Клуб НИИ».
Это потом его стали называть «Полет». Но опять же на словах, потому что вывески никакой на нем не сделали. В этот клуб, который «Клуб», меня привела на репетицию драмкружка наша лаборантка Муся, мы вместе работали. Вдруг решила она, что мне надо для общего развития там заниматься и она непременно меня сведет, когда у нее, конечно, будет время. А времени у Муси, как всегда, не было. Ей по-настоящему и работать-то некогда: то ребенок заболел, то сама занемогла, а потом ее на целую неделю в соседскую лабораторию сплавили, чертежные кальки готовить. А ребеночек у Муси, все знают, от летчика-испытателя Кошкина, одного из самых знаменитых в нашем «ящике». У него даже кличка между своими – Цезарь, что и означает высший класс, ибо летает как король. И когда его МиГ везут на стартовую площадку, аэродромная братия смотрит вслед, чтобы насладиться необычным зрелищем, как он от взлетной полосы пойдет круто, свечой, вверх, а старички, из опытных, не преминут заметить, что Цезарь и есть, так лихо больше никто не летает!
Но это он в воздухе такой, а в жизни встретишь и не подумаешь, что Цезарь, – голубоглазый, красавчик, прям из кино, а в Москве у него настоящая жена и ребенок, Муся же своего воспитывает в одиночку («мать-однаночка!») и не ропщет, и гадостей никаких про своего Кошкина не говорит, а наоборот, прямо-таки счастлива, когда произносят его фамилию.
Вся жизнь Кошкина это и есть ее жизнь, и вовсе не имеет значения, что живет он с семьей и в другом месте. И ребеночек у Муси, названный Андреем по отцу, тоже беленький и голубоглазый, все в один голос утверждают – точь-в-точь отец – Кошкин. А если охота доставить Мусе удовольствие, только скажи: «Андрюшка-то вылитый папаша!» – она расцветет, разрумянится, позовет на чай, даже конфетами-карамелью угостит, хоть у самой не жирно. А ютится она с ребенком в комнатке общежития, и все хозяйство у нее – железная коечка казенная с пружинами, правда, аккуратно заправленная, с покрывальцем уже не казенным, да столик, да вешалка за марлевой занавесочкой, заменяющая гардероб. Зато душа нараспашку, и ничего ей ни для кого не жалко.
Говорят, что раньше-то, до Кошкина, мужики часто пользовались бессловесной и жалостливой Муськой, они, гады, таких сговорчивых и беззлобливых, не умеющих жаловаться на жизнь, очень даже обожают, еще и выпить за их счет норовят. Но тут случился Кошкин, и эта беззаветная подчас и безответная влюбленность Муси стала для нее спасательным кругом от напористых нахалов: она их в упор не замечает. А если кто и ворвется, с улыбкой выставит за дверь, даже обидным не покажется. «Иди, дружочек, – молвит, улыбаясь во весь рот. – Иди, иди и не приходи больше, я не по этой части». И живет себе, никакого такого одиночества не испытывает, песни поет ребенку да еще в драмкружке на подхвате, очень она театр любит. А случись, после каких-нибудь дел завернет к ней Кошкин на машине «Победа» – вот и праздник души, пусть нечастый, несколько раз в году. А так как машина Кошкина известная, их всего-то на аэродроме три штуки, у самых-самых, то все в нашей лаборатории, проходя мимо общежития к автобусу, завидя у Муськиного подъезда «Победу», понимают: «У нашей Муськи сегодня Кошкин гостюет». После его гостевания она еще краше становится, свечение от нее счастливое исходит. Вот в такой-то момент она и расположилась ко мне, вспомнила о своем обещании: «Сегодня идем в клуб, я предупредила». У меня даже сердце екнуло, потому что не представлял, как это я смогу перешагнуть порог святилища, в которое нас пускают лишь по билетам. Там на высокой, с красным бархатным занавесом сцене выступают наши знаменитости, прославленные на весь поселок артисты.
– «Сцена у фонтана» Александра Сергеевича Пушкина, роли исполняют: Марина Мнишек – Зоя Волочаева, Самозванец – Юрий Горяев! – объявят, и в зале оживление, аплодисменты.
Но были и другие встречи с Горяевым, когда я встречал его на продуваемой дорожке, где-нибудь у края аэродрома, я даже как-то ухитрялся разделять для себя эти два разновеликих облика: один – любимец публики, выходящий на сцену в каких-то немыслимых казацких шароварах, красных сафьяновых сапожках и отороченной мехом бархатной красной шапочке (так нам представлялся легендарный царевич Димитрий!), чернобровый, с прямым римским носом, с волевым подбородком и той особенной статью, которая отличает царственных особ, а другой – зачуханный аэродромный технарь (в ту пору до полетов вообще, а тем более испытательных, было ему далеко, как до народного, скажем, артиста), в кожаном потертом шлемофоне, с тестером в руке, от которого болтаются по ветру провода. Он приборист из шестого комплекса, расположенного в левом крыле ангара, на ставке шестьсот шестьдесят рублей, и торопится к одному из стынущих на морозе самолетов, выстроившихся в линеечку у лесной опушки, за взлетной полосой. И переть ему против колючего, как проволока, ветерка, протыкающего насквозь, этак километра три, и все для того, чтобы прозвонить какую-нибудь бортовую цепь, которая, по словам механика, почему-то замыкает.
Горяев пронесется мимо, а я стою остолбенелый, сознавая историчность момента, и ни одна живая душа не догадывается, что сам царевич Димитрий на летном поле, по дороге к дальним полкам на опушке леса, чтобы решительным жестом двинуть их ради гордой полячки Зои Волочаевой на стоглавую столицу…
Пристроив на часок малыша у соседей, Муся привела меня таки в клуб. Помню, чем ближе мы подходили, тем больше я притормаживал, и она, почувствовав нерешительность, легонько подтолкнула меня в спину, как подталкивают в самолетный лючок неопытных парашютистов, медлящих перед распахнутым небом. Я вдруг оказался один на один с пустым залом, так мне сначала показалось. Не сразу, вмиг оробев, смог различить я в самом дальнем конце, у занавеса, группу людей, услышать нестройные голоса, не имевшие, слава богу, ко мне никакого отношения.
Нас здесь никто не замечал. Муся решительно ухватила мою руку и повела, потащила мимо рядов; приблизившись, стал я узнавать своих кумиров, и прежде всех, конечно, Горяева. Он стоял высоко на сцене, а внизу перед ним – крупная женщина с белыми, выкрашенными волосами, известная артистка из Москвы, снимавшаяся в фильме «Без вины виноватые». Мы потом специально ходили на этот фильм: молодой кудреватый Дружников вдохновенно произносит свой монолог о равнодушных матерях на прощальном банкете, а среди гостей и наша артистка. Она не произносит ни словечка, а лишь обмахивается веером, внимая Дружникову, но все равно это здорово, что она снималась в кино, что она, такая знаменитая, руководит нашим драмкружком, который мы для важности называем драмколлективом.
Никем не замеченные, мы встали позади всех, Горяев и остальные были увлечены чьим-то рассказом про лягушку, которую спрашивают, отчего, мол, ты, лягушка, зеленая такая, а она отвечает, что, мол, от болезни, а вообще-то я белая и пушистая!
И это почему-то вызывает громкий смех. Но знаменитая артистка сказала, обращаясь к Горяеву:
– Ладно, ладно. Пошутили, и хватит. У нас сегодня прогон, а через неделю, напоминаю, концерт, посвященный выборам.
– Концерт? Какой концерт? – встрепенулись все; хоть и не сразу, но смешки оборвались.
– Ну вот, договорились, называется. Концерт в подшефной школе, и такое мероприятие срывать нельзя.
– Это вы скажите Волочаевой, – пожаловался со сцены Горяев. – Чтобы она не опаздывала!
– А что, Волочаевой нет? – удивилась артистка и оглянулась, скользнув быстрым взглядом и по мне. Мусю она тоже не заметила, ей нужна была лишь великая и вечно опаздывающая звезда Волочаева.
– У нее зачеты, – подсказал кто-то.
– У нее вечно причины! А у других что же, зачетов нет?
– Ладно вам, – произнесла снисходительно артистка. – Юрочка, начинайте, пожалуйста, – это она уже Горяеву. – Я вам отсюда подброшу реплики.
– И это называется прогоном? – проворчал Горяев, но шагнул в глубину сцены, повернулся и сразу стал не самим собой, хотя никакой на нем цветной шелковой рубахи не было, и шаровар, и сапог тоже, а лишь тенниска да брюки. Он произнес первые слова, глядя в угол зала за нашими головами, и я обмер, впервые так близко увидев своего божка.
– «Тень Грозного меня усыновила. Димитрием из гроба нарекла…»
Но знаменитая артистка недовольно прервала, нахмурившись:
– Юрочка, что с вами? Вы будто не на свидание с Мариной, а на работу пришли!
– Ох, не напоминайте о работе! – простонал в ответ Горяев. – Не представляете, «парадники» одолели!
– Ну соберитесь, соберитесь, пожалуйста.
Артистка не спрашивает, что такое «парадники», вряд ли они ее интересуют. А для нас это наша жизнь. «Парадниками» именуются сверхтяжелые самолеты, которые не так давно перегнали из Казани на наш аэродром, созданы они по подобию американских «летающих крепостей» Б-29, одиннадцать или двенадцать машин. По замыслу начальства за очень короткий срок их надо довести до ума, чтобы могли пролететь над Красной площадью во время парада, демонстрируя всему миру в очередной раз нашу могучую военно-воздушную технику. Всего-то разок и пролететь, а мороки на год. А вот когда торжества пройдут, организаторы получат свои цацки на грудь, станет очевидным, что работу с этими машинами нужно начинать заново. И опять нагонять время. По рапортам-то они как бы существуют.
Но знаменитую артистку «парадники» не волнуют.
– У нас хоть не парад, – произносит она категорично, – но у нас – свидание! Как там, Юрочка, у Пушкина… «Как ждет любовник молодой минуты…»
– «Минуты верного свиданья!» – подхватывает Горяев.
– А разве не минуты «сладкого свиданья»? – спрашивает артистка.
– «Верного», – поправляет Горяев.
– Но я же помню, что «сладкого», – настаивает она.
– Может, в ваше время оно и было сладким, – отшучивается Горяев.
– А в ваше? – не обидевшись, говорит артистка. И тут она поворачивается ко мне, хотя я голову мог бы дать на отсечение, что меня до сих пор она не замечала. – А мы вот спросим молодого человека, у него память посвежей, какое там у Пушкина свидание было?
Теперь все глядят на меня. Кто с любопытством, кто с интересом, с удивлением.
Ждут, что я скажу. Даже Горяев приблизился к краю сцены и, так как я молчу, приходит мне на помощь:
– Ну он еще молод. Ему сказки Пушкина по радио слу… – И тут же, оборвав себя, почему-то кричит: – А сколько времени?
– Время? – удивляется артистка. – А при чем тут время?
– Да «Тамара», «Тамара» сейчас! – спохватился еще кто-то.
– Какая еще «Тамара»? – удивляется артистка.
– Радиостанция такая… «Тамара»… Подпольная…
– Под-по-оль-ная?
– Да не подпольная она, – с ходу отвергает Горяев. – Ну, не совсем, что ли, законная… Сейчас ее время!
– Что значит не совсем законная? – вопрошает артистка и театрально поводит плечами, словно желая подчеркнуть полную абсурдность услышанного.
Мне отчетливо виден ее профиль, мочка уха, шея и волосы, схваченные тесьмой и завязанные сзади крупным узлом. Я понимаю, что она вовсе не стара, и кожа, и шея, и подбородок как у девочки. А каждый жест ее выразителен.
– Она что, эта Тамара, или как ее… Она с аэродрома, что ли, передает?
– Да нет, нет! – кричат все, перебивая друг друга. Начинают объяснять, но так громко и бестолково, что не сразу выясняется: никто толком ничего не знает, откуда и кто передает, но известно, что работает радиостанция на коротких волнах и странные такие передачи посвящены какой-то Тамаре.
– Но – это кто?
– Ну радист, кто еще!
– Он что, сумасшедший? – вдруг осознает артистка.
– Наверное… Сбрендил от любви к Тамаре!
– Но его же схватят? Да? – спрашивает артистка. И сразу наступает молчание, в котором повисает тревога: схватили или не схватили?
– А чего его хватать! Подумаешь, дело – смастерил любительский передатчик и трещит о любви!
– Конечно. Если схватят, то за любовь! – пошутил Горяев, уходя со сцены, и становится ясно, что репетиция на сегодня закончена.
Я не влезаю в спор, хотя у нас в лаборатории тоже слушают эту станцию. Да и как не слушать, если каждый может настроиться на нее, имея приемник для работы. Да если бы он один – хулиганства полный эфир: то какой-нибудь школьник «Луку Мудищева» читает, то песни Петра Лещенко с пластинок на «ребрах» гоняют, то анекдоты. Мало ли дурачков, возомнивших себя артистами. Но их быстро вылавливают, штрафуют, а передатчики отбирают. А этот и на хулигана эфирного не похож…
– И все-таки дурак, – заключает кто-то. – Разыщут, влепят несколько лет.
– А как разыщут?
– Кому надо, разыщут, – это Зоя Волочаева. Она появилась, как и должна появляться прима, всамделишняя польская аристократка, и так посиживала в сторонке, пока мы тут сплетничали про радиста.
Теперь внимание переключается на нее.
– Ты уверена? Разыщут? – быстро спрашивает Горяев.
– Конечно, уверена, – отвечает Зоя. – Они затребовали из Москвы эту, ну, машину…
– Пеленгатор?
– Ну, что-то вроде. Я же не понимаю.
– Кто «они»?
– Ну, они, – сказала Зоя, и все поняли, о ком речь. Волочаева – секретарь-стенограф при самом высоком институтском начальстве. Кому и знать, как не ей.
Но Горяев повторил упрямо:
– Я не знаю, кто этот «Тамара»… Но они его так просто не найдут!
– Найдут! Спорим? – и Волочаева протянула своему партнеру руку. Артистка сказала:
– Ну, мальчики, девочки… Ну, не так серьезно!
И Горяев воскликнул, как на сцене:
– «Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более поверят польской деве, чем русскому царевичу?»
Зоя ответила тоже по роли:
– «Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа, с тобою, князь, она меня мирит, безумный твой порыв я забываю…»
Все рассмеялись, а спор сам собой заглох. Обо мне больше не вспоминали, и я благополучно досидел до конца репетиции. После клуба зашел к Мусе на чай, мы долго крутили с ней ручку приемника под названием «Рекорд», чтобы отыскать ту самую «Тамару», но не нашли и стали слушать музыку: пели Бунчиков с Нечаевым знаменитую «Незабудку», а потом про дождик.
Если друг с тобою рядом,
Значит, счастье под рукой,
Значит, всё идет как надо
И не страшен ни-ка-кой…
Дождик, дождик, дождик, дождик…
А Муся сказала:
– Как ты думаешь, он кто? – Это она про радиста. – А мне кажется – сумасшедший.
Одурел парень от одиночества, придумал какую-то Тамару и шпарит свои записи…
– Почему придумал? А если в самом деле?
Муся вздохнула.
– Когда кто-то есть, тогда не по радио объясняются, а свидания назначают… – И пропела вслед за радио: – «Если друг с тобою рядом, значит, счастье под рукой…»
Еще и политику пришьют!
– Если поймают, – сказал я. Но не так уверенно, как Горяев.
– Ох, какой неуловимый! Да у нас такая техника, а он со своей самоделкой… – сказала, потом посмотрела на ребеночка, он уже спал, и вдруг добавила: – Вообще-то мне его жалко. Ну, какой от него вред… То, что нарушает закон? А его все нарушают, но за всеми же не гоняются? Да со спецмашинами.
– А кто нарушает? – спросил я. – Ты нарушаешь?
– Конечно, нарушаю, – ответила сразу Муся. – И на работе, потому что домой отпрашиваюсь, и здесь… Я же не должна жить с ребенком в общаге…
– А Горяев? Тоже нарушает?
– Горяев?!! Еще такой нарушитель!
– Какой?
– Не знаешь? И не нужно! – резко произнесла Муся. Смягчаясь, добавила: – Ему, если хочешь знать, в нашем режимном городе даже прописка не положена! Так-то! Он ведь из… Из бывших…
– Горяев! – У меня дыхание перехватило. Но от моего восклицания шевельнулся ребенок, и Муся погнала меня за дверь.
– И ты, и ты нарушитель! Ребенка разбудил.
С тем и выпроводила.
Так с Мусиной легкой руки я привязался к клубу. А к кому мне было еще привязываться, я жил один. И жил один, и был один.
Но первым, кто меня отметил вниманием, был клубный художник Толик. Он тут по делам клуба крутится с утра до вечера, но еще и ночью, ибо здесь и живет в крошечной каморке за сценой, где обычно хранят всякую бутафорию, комфортно расположившись среди фанерных щитов, заготовок для рекламы, банок с красками и всякими растворителями, среди каких-то старых барабанов, горнов, сваленных в кучу вместе с переходящими знаменами, бюстиками и бюстами Ленина. Один, правда, с отколотым носом.
Здесь Толик спит на железной коечке в углу, здесь рисует свои рекламы. А когда истощаются «финансы, которые поют романсы!», но не ранее, даже на день, сосредоточивается «на халтуре»: расписывает знаменитые коврики с котятами, которые здешние жители с охотой у него покупают – по трешке за штуку. Котята у него и впрямь как живые, чего не скажешь о киногероях на фанерных рекламах – все на одно лицо.
На столике, которым служит тот же кусок фанеры, положенный на старый ящик, электроплитка с подгоревшей спиралью.
Когда Толик впервые привел меня к себе, он сдул с плитки пепел, потыкал в спираль какой-то щепочкой и, когда заискрилось, поставил греть огромный эмалированный чайник бывшего синего цвета. Рядом с плиткой на газете открытая консервная банка – «Частик в томате» и надломанная буханка хлеба.
– «От черного хлеба и верной жены мы…» Ну, и так далее – в общем, заражены, – продекламировал он странно. Извлек из-под старых плакатов черный дерматиновый короб, а из него вдруг баян, сверкнувший рядами перламутровых кнопок. Поставил себе на колени, пригладил, пощупал, даже носом по нему провел, взял несколько нот и вдруг решительно вместе со стулом отодвинулся в темный дальний угол, словно исчез куда-то, оставив лишь звуки. Но какие звуки…
Закончил также неожиданно. Одним махом погрузил инструмент в темное нутро короба, лишь сверкнула на прощание серебряной искрой перламутровая кнопка и потухла. И каморка потухла. Все стало как прежде: куча красного тряпья со вчерашними призывами, кого-то куда-то зовущими, шаткий столик с остывающим чайником и засохшей рыбой в консервной банке рядом с надломанной буханкой хлеба.
Приметив, что Толик свою каморку не запирает, я однажды спросил: не боится ли он, что такой драгоценный инструмент, как баян, у него сопрут, приделают ему, так сказать, ноги?
Толик очень удивился моему вопросу. Маленькие голубые глазки его потемнели.
– У меня – сопрут? – с интересом переспросил он. – У меня? Хотел бы я посмотреть, кто этот смельчак?
– Да чем ты страшен? – наивно поинтересовался я. Мне показалось, что Толик, как и все тщедушные мужики, немного бравирует.
– Ничем я не страшный, – произнес он загадочно. – Но я, знаешь… Я о-пас-ный.
– Ты – опасный? Чем? – приставал я.
– А чем электричество опасно? – вдруг спросил он. – Есть оно в проводе или нет, а его боятся. Правда? – И засмеялся. Я так и не понял, шутит он или нет.
В тот вечер я засиделся у него дольше обычного и опоздал на последнюю электричку, которая отходила в ноль сорок две по расписанию. Упустил, как бывает, из-под носа и остался мерзнуть на пустынной, продуваемой со всех сторон платформе до четырех двенадцати утра, то есть до первой утренней электрички. Надо было добраться до дому, покормить кошку и собаку, попить чайку и отправиться до этой же платформы обратно, чтобы не опоздать на работу. За опоздание у нас строго карали. В ту ночь я простудился, загрипповал и провалялся неделю в жару, вышел – еще качало.
Толик незлобно обругал меня и с тех пор стал оставлять у себя на ночь.
– Спи и считай, что эта койка твоя, – объявил буднично.
А чтобы не особенно брыкался, добавил, что по ночам он все больше книжки читает, сегодня вообще не собирается спать, письмо надо… Тут одной… С тем и уложил на своей солдатской коечке, а сам достал общую тетрадь и уселся за стол.
Несколько раз я просыпался оттого, что он выдирал очередную неудавшуюся страницу и, скомкав, швырял в угол. Нервно вскакивал, садился, покосившись в мою сторону.
Утром проводил меня на работу, пробормотав, рассматривая пол, усеянный бумагой, что в сердце у него «вступило», и так всегда бывает, когда не может письмо написать. Нужно сердцем своим заняться, иначе заклинит да остановится. А это, дружок, не мотор, ручкой не заведешь!
– У тебя останавливалось? – спросил в упор.
– Что? – повторил я испуганно. – Сердце, что ли? Останавливалось?
Он не ответил, отмахнулся и ушел в буфет, располагавшийся так близко, что ближе некуда: на втором этаже нашего клуба, в левом его крыле.
Там я и разыскал Толика после работы.
Он лишь хмыкнул, завидя меня, и, не вставая с места, развел руками с виновато-глупой улыбочкой:
– Вишь… Поне-сло!
Это словцо он повторил несколько раз.
– А кстати, вы что, вы не знакомы? – спросил и указал на соседа, который сидел, опустив голову так, что виден был лишь черный густой вихор. Я пригляделся и вдруг понял, что пьет-то он не с кем-нибудь, а с самим Горяевым!
Но теперь и Горяев поднял голову, со сделанной улыбкой показал на стул, приглашая в их компанию. Он и стакан придвинул: «Разрешите?» А Толик почему-то за меня ответил:
– Разрешаю, разрешаю!
Но именно оттого, что он разрешил, я и не стал пить, а в общем, я тогда и не потреблял спиртного.
– Не пьешь? Или… не хочешь? – спросил в упор Горяев.
– Не хочу, – ответил я.
– Ага. С характером, – подытожил он. – Нам больше останется.
Настаивать мои застольники не стали и даже, как мне показалось, одобрили, что, мол, правильно, нельзя человеку самого себя насиловать, еще успеет за жизнь этой гадости наглотаться!
Они же сами деловито, как во время работы, опрокинули каждый по полному стакану.
Выпили, не прикоснувшись к тощему бутербродику, одному на двоих, лежащему на тарелочке посреди стола. Возникла пауза, но никто не спешил ее нарушить.
Требовалось все, как положено, прочувствовать, пережить. Переждать.
Они глядели на меня, будто изучали. Толик как-то по-особенному и разрешительно произнес:
– При нем можно.
Горяев с интересом посмотрел на меня и уставился в тарелку с бутербродом, будто впервые его увидел. А Толик сказал:
– Ты говоришь, Забайкалье? Но я там бывал… В Усть-Баргузине и на Ольхоне, в Култуке… Это все там?
– Примерно, – кивнул Горяев, не сводя глаз с бутерброда, и медленно, будто подыскивая слова и даже по временам заикаясь, стал рассказывать, что именно в Забайкалье он окончил летное училище – Улан-Удинское, а потом их прямиком на Сахалин, где в последний год войны стояли они грудь в грудь с япошками, которые что ни ночь дергали их за нервы, не давали свободно вздохнуть, и только в сорок пятом в какой-то момент их скрутили… Но он-то сам был уже далеко.
– Далеко? – спросил Толик. – Но не дальше Колымы?
– Не дальше, – согласился Горяев.
– Чудесная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное лето! – продекламировал Толик, подскочил вдруг и исчез. Но почти сразу появился с двумя полными стаканами водки. Поставил, не расплескав ни капли, но пить не торопился, а смотрел на Горяева, будто ждал продолжения. Не дождавшись, спросил: – Сколько?
Дали?
– Все мои, – мотнул головой Горяев.
– За пьянку небось? Или за баб? Или…
– За баб, за баб, – торопливо произнес Горяев и поправился: – За одну то есть, – и выставил палец как бы в доказательство того, что баба действительно была одна.
– И чего?
– И того, – отвечал Горяев. Но сообразил, не так ответил, и стал пояснять. Но чем дальше, тем путаней у него выходило. А на каком-то месте и вовсе заклинило.
Так что Толик, чуткий к фальши, поморщился, не выдержав, осадил:
– Хватит! Ты знаешь, я не обидчив.
Он и правда не обижался, даже разулыбался, протягивая к Горяеву стакан, чтобы чокнуться.
– А ну их к лешему. – И заключил: – Не терплю баб. От них все зло хорошим людям.
Впрочем, и плохим тоже.
– Ну, зачем же так сразу? – сопротивлялся Горяев, но спорить не стал.
Тут они вспомнили обо мне и опять преложили выпить. Но не как прежде, а по-иному, как своему, ибо я был причастен к чему-то такому, что им помогало понять друг друга, а меня делало сообщником этого понимания. Я вдруг согласился. Захотелось стать сейчас как они: раскованным, по-мужски широким, тем более что речь зашла о бабах, и надо было проявить солидарность, показать, что я достаточно опытен.
Какой уж там опыт, если, начистоту, никаких баб по-настоящему я в ту пору не знал. Сколько угодно мог делать вид, что мне они не нужны, но они мне были нужны хотя бы вот для такого разговора, чтобы произнести о них свое суждение в снисходительно-ироничном тоне. Но не только для этого, просто любви хотелось.
Об этом пытался я рассказать, но ничего не успел, мои спутники снова меня одобрили, но теперь за то, что я хочу с ними выпить. Было произнесено: «Ну да, конечно, пора и привыкать, не мальчик уже…» – и далее в том же духе.
При этом они торжественно чокнулись со мной и стали пить очень сосредоточенно и серьезно, допили все до дна, но опять не прикоснулись к бутербродику. Вслед за ними и я попытался проделать то же самое, но дыхания не хватило, и где-то на середине стакана поперхнулся. Тут они оба, как по команде, схватили с двух сторон бутербродик, разодрали его пополам, и каждый поднес мне ко рту свою половинку с таким страстным участием, прямо-таки обожанием, будто я сделал сегодня им обоим какой-то подарок.
Толик еще прошелся насчет водки, которая… «яд, и от водки деревни горят, так заливайте водку себе в глотку!..» – и захохотал, довольный.
А Горяев воскликнул, глядя влюбленно на Толика, что он-то и есть настоящий артист, а все остальные и он сам, Горяев, просто говно, ничего по-настоящему не умеют. «Он живая, раненная навек душа, вот он кто!»
– У нас что не говно, то моча, – отвел со смешком похвалу Толик и, обратившись ко мне с милой улыбочкой, но не серьезно, а так, будто опять шутковал, допросил громко: – А вот скажи: душа есть?
– Нет, – вместо меня ответил торопливо Горяев.
– Мы так не уговаривались, – произнес Толик недовольно. – Я же не тебя, я его спрашиваю. А вот американцы говорят – они умирающего на весы положили в тот момент, когда он кончился, по приборам определили, вес-то уменьшился на тридцать граммов! Тридцать граммов в душе!
– Рю-ю-моч-ка! – вдруг воскликнул умиленно Горяев.
Но Толик его опять будто отодвинул, сделал знак ладошкой и повторил свой вопрос ко мне:
– А в Бога веруешь? Нет, ты скажи!
– Отступись, – попросил Горяев. – Он же не пересекал ее.
– Кого – ее?
– Черту! Черту, ну! – И вдруг отчетливо, совсем трезво, как выдохнул: – Единственным доказательством существования Бога может быть только личный опыт.
Лич-ный, понимаешь?
– Какой же личный, если Бога? – спросил недоуменно Толик, перестав улыбаться.
– Личный – это своя собственная смерть, – отчеканил Горяев и отвернулся, считая тему закрытой.
– А ты? Ты пересекал… ну… черту? – спросил, набычась, Толик.
– Я пересекал.
Толик словно изучал лицо Горяева, впиваясь глазами в глаза. Но не нашел в нем того, что принял бы за обман, за фальшь. Охотно согласился:
– Поздравляю. И я пересекал. Ах, какие же мы сукины дети! – Он даже за голову схватился, застонал. – Какие же мы… Испытываем душу целомудренную, которая не окрепла… Он же так молод, а мы его на… на… на излом!
– Ладно. Ладно, – уговаривал Горяев, но Толик уже не мог успокоиться, он стал просить прощения и у Горяева, и у меня, в таком вот истерзанном состоянии мы увели его в каморку и уложили на кровать, но почему-то не нашли одеяла, накрыли красным полотнищем «Наше поколение будет жить при коммунизме». – Главное, что будет жить, – почему-то сказал Горяев, вздыхая. То ли про поколение, то ли про товарища. – А то заклинило… Но это бывает. – Что бывает, не объяснил, предложил пойти к нему в общежитие, где он лишь переоденется, так как с работы, а ему еще кой-куда заглянуть надо. И мы пошли по территории бывшего санатория, где располагался наш институт, часть его, и в дальнем конце за техникумом и жилыми домами стоял трехэтажный кирпичный дом итеэровского общежития. Горяев проживал в комнате на четверых на втором этаже. Потом мы снова топали по поселковым улочкам и вышли ко второму участку, который как бы считался центром города, а улица называлась: Чкалова. На этой улице в длинных-предлинных домах, именуемых в народе лежачими небоскребами, в угловой комнатке, крошечной, с окошком, обитала медсестра Верочка, как представил ее Горяев. Курчавая блондинка, бойкая, смешливая, домашняя, от нее пахло почему-то теплыми блинами.
Верочка стала поить нас чаем, понимая, что «другого» нам уже хватит, и рассказывала всякие сплетни, в том числе и про радио «Тамару», который сегодня выдал…
– Нет, вы не представляете, как вы думаете, что? – И Верочка торжественно преподнесла: – Он прочитал длинное послание к своей Тамаре! Влипнет со своими посланиями, вот увидите!
– Как это мы увидим? – спросил Горяев, которому вдруг захотелось перечить.
– Ну, услышим.
– А это, ну, послание, в стихах?
– Обязательно в стихах, что ли? – возразила Верочка. – Ты мне вон тоже заливаешь, я и без стихов верю, как дура какая.
– Ну, не такая уж ты дура! – Горяев стал при мне обнимать Верочку, а я заторопился домой. Они пошли меня проводить до станции, а дорогой снова поспорили насчет «Тамары», и Верочка вдруг сказала:
– А мне почему-то стало его сегодня жалко.
– Из-за неразделенной любви? – усмехнулся Горяев, явно уязвленный.
– Сама не знаю почему. На него прямо облава какая-то ведется. Неужто любовь превыше свободы? Ведь его посадят, правда?
– Правда, – кивнул Горяев. – За такие штучки по головке не гладят.
– Но так же нельзя! – воскликнула Вера. – Судить человека за любовь!
– Но его пока никто не судит.
– Судят, судят… Еще как, сегодня с вертолета искали.
– Кто сказал?
– А чего говорить! Как он включился, так и залетали. Тоже мне нашли шпиёна!
– А меня как судили? – спросил Горяев.
– Ну, тебя хоть за дело! – отмахнулась Верочка.
– Да все мое дело, что доверился бабе… Кстати, тоже Тамарой звали, документы ей перепечатать отдал… А они, черт возьми, секретные, кто-то взял и донес… И это дело?
– Конечно, дело, – сказала Верочка. – А кстати, ты мне об этой Тамаре не рассказывал, ты что, с ней жил?
– Опять – двадцать пять! – вздохнул притворно Горяев. – Да говорил же я тебе, не было там романа. Так, по пьянке разок.
– Потом про меня скажешь? – И Верочка вдруг решила: – Знаешь, Горяев, не пойду я за тебя замуж, не надейся… «Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай», – это она из известной песенки Шульженко.
– Почему? – засмеялся Горяев. Но смеялся как-то натянуто.
– А потому, что ты развратный тип, соблазнитель и совратитель, вот кто ты, товарищ Горяев… Я найду себе такого, как этот радист! Или нет, нет! – с пафосом объявила она. – Я найду его самого, потому что эта дура Тамара не достойна его, вот что я скажу. А я умею любить, ты, Горяев, это знаешь. И хочу такой любви, как у него, – что, выкусил, товарищ Горяев?
– Желаю успеха, – сказал он. – Но я тебе секрет открою. Радиста такого нет.
– Как так нет? Не придумывай, Горяев, что это, фантом, что ли, передает пылкие объяснения, от которых другие бабы сохнут? А?
– Это привидение, – сказал Горяев. – Это человек-невидимка.
– Но чувства-то у него настоящие? Или как?
– Не знаю.
– Настоящие, Горяев, это я знаю. Потому что я баба. А у тебя, Горяев, непонятно какие, может, у тебя никаких чувств и нет, хотя сам ты – есть.
– Сам я есть, – подтвердил Горяев.
Тут подошла моя электричка. Я вскочил, сел у окошка и помахал им рукой. А они тихо пошли под руку, и по тому, как они шли, я видел их со спины, было ясно, что все Верочкины всхлипы по поводу неведомого радиста – это лишь страдания по самому Горяеву, который отчего-то на ней не женится, а жениться-то, наверное, ему надо. Я бы женился, если бы меня так любили. Хоть кто-нибудь. Хоть Алена.
Так я подумал тогда.
Это произошло в электричке, востроносенькая девушка с рыжеватой челочкой на лбу оставила на клочке бумаги свой адрес: «Задольск, улица Растунова, 2 – Алена».
Задольск от Москвы километров на десять дальше моей работы, но я решился и поехал, нашел улицу и дом, краснокирпичный, двухэтажный, позвонил не сразу, а потоптавшись на площадке от неожиданного вдруг страха, робости. Квартира состояла из трех комнат, и две из них занимала Алена с отцом, а в третьей жила дальняя родственница, старая бабка. Отец, специалист по строительству фабрик для обогащения руд, часто уезжал в командировки, его я так ни разу и не видел.
Квартира поразила меня непривычной роскошью: ковры – на стене и на полу, горка с красивой посудой, да и сама хозяйка, встретившая меня в домашнем ярко-розовом халате, в тапочках на босу ногу. Оценивающе, без стеснения оглядела меня, предложила снять обувь и повела в комнату, жалуясь на плохую погоду, на отопление, на дряхлую соседку и на котенка Архипа, который приноровился есть соленые огурцы. Мы пили чай и слушали пластинки, но чаще других ставила она Рахманинова, которого я и запомнил лишь потому, что был длинен, так длинен, что казался мне бесконечным, целый альбом из пяти, что ли, дисков; а она меняла пластинку за пластинкой, лишь из вежливости спрашивала каждый раз: «Ну, еще?» – предполагая, что я, конечно же, скажу: «Да, да!» И я именно это и говорил, мучаясь от собственной неполноценности.
Такой я и запомнил ее, полулежащую на тахте с поджатыми загорелыми ногами и Архипом под щекой для тепла; она увлечена своим Рахманиновым, и мой заезд сюда выглядит как занятный, вполне случайный эпизод в ее жизни.
Больше я сюда решил не приезжать.
Оставался клуб, неизменный Толик, голубоглазый, взъерошенный, весь какой-то подростковый, оставался, наконец, кружок раз в неделю, я трепетал от нетерпения, ожидая этого дня.
Собирались к семи, и первым приходил Степанов, играющий старичков и сам глубокий старик, ему под сорок. Прибегала Муся, но всегда в разное время, как повезет; заглядывали две девицы, Лина и Томочка, молоденькие, простенькие, смешливые, которым не столько нравилось играть – сцена в саду из Бальзаминова, – сколько смотреть, как играет Горяев, в которого они тихо влюблены. И наконец появляется Зоя Волочаева, суровая и неприступная, но когда она улыбается, она ангел, и начинаются шумные посиделки – самое примечательное в наших вечерах. Шутки, импровизации, всяческие новости и уж, конечно, сплетни о неведомом радисте, которого называют «Тамарой». Вот о нем-то тысяча непотребных слухов, и один фантастичней другого, ну, такой, например, что влюблен он в лаборантку, которая работает в барокамере и выглядит так себе, крашеная блондинка, да у нее к тому же двое детишек и муж, представьте себе, военный, то ли капитан, то ли майор.
Так вот, муж, который военный, якобы догадался, что по радио преследуют его жену, и заявил в милицию, обещая лично расправиться с радиохулиганом, если того найдут.
– Ему надо свою радиостанцию запустить! – предлагает кто-то. – И отвечать как мужчина мужчине.
– Ох, не шутите, а если вашу жену начнут преследовать?
Но обращение повисает в воздухе, потому что женатых у нас нет. Не алкаш же Степанов, которого давно бросили, и не Муся, «мать-однаночка», и не Лина с Томочкой… Да и про Зою Волочаеву известно, что она старая дева, ей под тридцать, и оттого она такая суровая, замкнулась в себе и уже не мечтает выйти замуж. Но тем слаще все эти домыслы про чужую жизнь, которая вроде бы тебя не касается, но и касается, если вынесена в эфир. Уже есть защитники «ее» и «его», но, конечно, есть и противники.
– А вот я слышала, – говорит наша знаменитая актриса, – что вовсе эта Тамара не девица и никакого мужа-военного у нее нет, она старая учительница, в которую он когда-то в молодости был влюблен… Сам он будто бы женился неудачно и не ладит с семьей, а запирается где-то на голубятне и объясняется этой учительнице в любви. А учительница слушает и плачет. Потому что все позади и ничего не вернуть.
– Да нет, – опровергает кто-то. – Она же была его женой!
– Учительница?
– Какая там учительница, Тамара – вовсе не учительница, она врач!
– А кто-то говорил, что ее посадили! Работала она в разведке!
– И не в разведке, а в овощном ларьке, но проторговалась…
– Господи, чего не наплетут! – без улыбки, даже хмуро изрекает Горяев. Обычно он не принимает в разговорах участия, слушает, но думает в это время о своем.
Сейчас он не выдерживает и возмущается: – У вас, случайно, не говорят, что это вообще не женщина, а подпольный публичный дом под названием «Тамара»?
– Отчего вы такие злые? – спрашивает молчащая до поры Зоя. – Не хотите, не слушайте. Ведь это касается всего двух человек! Двух!
– Но я же не кричу на весь белый свет о моем разводе с женой? – говорит Степанов.
– А он иначе не может, – парирует Зоя.
– А ты можешь?
– Не знаю, – теряется Зоя. – Но иногда мне кажется… только не смейтесь… что, будь у меня радио, я бы еще не такого наговорила!
– А чего бы ты наговорила? – живо интересуется Горяев.
Зоя шутливо отмахивается, но глаза у нее совсем не веселые. А я вдруг обнаруживаю, что все мы, тут собравшиеся, не очень-то везучие люди и всем нам есть что сказать по радио, которого у нас нет. Другое дело, что не каждый на это осмелится. И Зоя не осмелится… Это не сцена, где можно талантливо произносить чужие слова как свои собственные. А вот свои собственные… На это надо решиться.
– Я вот думаю, – говорит Степанов, – что наш сбрендивший радист – просто несчастный парень, и кричит он на всю вселенную лишь для того, чтобы кто-нибудь его услышал… Вот и вся тайна. Остальное каждый из нас домысливает в меру своего одиночества!
Перестал являться на репетиции Горяев, и все наши выступления оказались под срывом. Сперва ждали, недоумевали, строили догадки, а потом и злиться перестали, но, правда, злилась одна Волочаева, и уже не знали, что делать, где его искать.
«Тольча, – сказала знаменитая артистка Мария Федоровна, обращаясь ко мне, – ты не можешь на аэродроме его поискать, ведь надо что-то делать?..»
Легко сказать «поищи», но это же не клубик, это целая самолетная страна…
Десятки зданий, ангаров, корпусов… Но в какой-то день, мокрый, туманный и нелетный, я сказал своему непосредственному начальнику: «Схожу на свалку, винтиков наберу».
На свалку мы ходим по любому поводу, она поставляет нам запчасти для работы: винты, провода, всякие детальки, лампочки и прочее, чего никогда не бывает на складе. Свалка располагается в лесу, между нашей пятой лабораторией и летной частью, и представляет собой скопище железа: остовы самолетов тридцатых-сороковых годов, останки полуреализованных проектов и даже просто списанная за сроком техника, которую было легче свезти сюда, чем латать старые дыры и ремонтировать.
Был еще один источник добычи всяких деталек – это склад с трофейным оборудованием, которое в свое время вагонами тащили из поверженной Германии, а сгружали и хранили по принципу: вали кулем, посля разберем. Но разбираться было некому и некогда, и все это годами ржавело и становилось ненужным, и тогда кладовщик Глебов, якобы отвечающий за весь этот чужеродный хлам, снимал амбарный замок и отдавал склад на разграбление, правда, на короткое время.
Но был и подарок судьбы, несчастный для одних и счастливый для других – так и бывает в жизни, – когда на взлете рубанулся прямо среди аэродрома супергигант из последних, у него снесло весь передок от удара, сама же машина, ее корпус остались целехоньки. Летчиков схоронили (это было по части нашего Толика, украшавшего к таким событиям клубик еловыми ветками да черным крепом), а машину тягачами оттащили на край поля, отдав на разор всем желающим. Желающим, т.е. допущенным по пропускам на летное поле, у меня такой треугольный значок на пропуске, к счастью, был.
Мы налетели на машину, как шакалы, мы рвали ее на куски, выматывая, как потроха из железной утробы, километры цветной новехонькой проводки. Это был праздник варварства, день авиации у дикарей, облапивших, облепивших сотнями, как муравьи облепляют труп гордой, но поверженной птицы, прекрасное, сверкающее на солнце дюралевое туловище самолета. Его «объели» так, что через месяц на поле оставалось жалкое подобие машины, обглоданный скелет, сквозь который можно было видеть взлетную полосу и деревеньку на противоположном конце аэродрома.
Но в этот мартовский день вся аэродромная обслуга – механики, мотористы, заправщики, прибористы – пряталась по бытовкам и ангарам, никого не было на мокрых дорожках. Поеживаясь от холодных брызг, летящих с сосен, я одиноко отшагал несколько километров до «шестого комплекса», в левом крыле ангара номер один, здесь, по моему предположению, вкалывал в приборном отделе Горяев.
В задымленной и прокуренной бытовке, где коротали нелетную погоду старые и молодые технари, обсуждая житейские дела да пересказывая старые анекдоты под перестук костяшек домино, мне пространно объяснили, что Горяев перешел в новый «высотный» отдел, который занимается катапультами, а находится он в правом дальнем углу этого же ангара. «Да там видно, – сказали, – у них рельса вверх, как член, торчит!»
Допуска в ангар у меня, разумеется, не было.
Я обошел бдящего на своем боевом посту вохровца и через запасной выход, для того и существующий тут же за углом, чтобы не терять на бумажки и выяснения драгоценное рабочее время, проник в гигантский шатер ангара, плотно обжитый большими и малыми самолетами.
В дальнем левом углу, отгороженном от остального помещения дюралевой стенкой, стояло странное сооружение, наподобие огромной рельсы, уходящей под углом вверх, у основания рельсы был закреплен вагончик, вокруг которого суетились несколько человек. В одном я узнал Горяева. И он, хоть не сразу, меня заметил и махнул рукой, мол, подожди, сейчас освобожусь. Вскоре спустился, приветствуя меня словами из пьесы «Лес», которую мы с ним давно репетировали: «Аркадий! Куда и откуда?» На что я в тон ему отвечал: «С аэродрома в ангар, а вы-с, Геннадий Демьяныч?» По игре, которая у нас существовала, ему следовало бы ответить: «А я из ангара на аэродром!» Но Горяев сказал:
– А я, брат Аркаша, застрял здесь, и, видать, надолго… Так как жизнь? – И тут только я увидел, что рука у него – левая – забинтована и подвязана ремешком на груди.
– Сломал? – спросил я, потому что другие вопросы сразу отпали. Было ясно, что наш ведущий артист травмирован, и довольно серьезно.
Но Горяев не посчитал возможным обсуждать свои болячки.
– Так, ерунда, – отмахнулся, – а как жизнь, брат Аркадий, как ребята?
– Тебя заждались, – отвечал я коротко, не сводя глаз с руки. – На этой штуке?
Горяев оглянулся на «штуку» и громко рассмеялся.
– Какая же это штука? Это, брат Аркадий, не штука, а гениальная хреновина, которую господин Жюль Верн – читал такого? – описал в своей книге, ну где из пушки на Луну…
– Это пушка? – спросил я недоверчиво, не разобрав, шутит мой друг или говорит серьезно. Надо было бы сразу догадаться, что разговариваю-то я с человеком, который отсидел срок за разглашение военной тайны, а такой урок дается однажды, но на всю жизнь.
– Пушка! Конечно, пушка! – И Горяев, чуть подтолкнув, повел меня в закуток. – Ты слышал этого… ну, своего «Тамару»? Что он там плетет?
– Почему моего? – обиделся я.
– Ну он же по радио! Может быть, у вас и работает? Но ты послушай, вчера он рассказывал, что на катапульте произошел несчастный случай и один из испытателей травмировал руку…
– Про тебя?
– Моей фамилии, слава богу, не назвал, но ведь остальное описал так, будто сам все видел! Или не видел? – и так как я молчал, Горяев добавил с недоумением, но при этом он несколько раз оглянулся: – Ну, плел бы об этой, ну… О любви, что ли! А куда он полез?! У нас такой шухер, собираются еще засекретить! Ладно, – вдруг опомнился он и посмотрел мне в лицо, не сержусь ли, – это ведь я так, сгоряча! Жалко охломона, сам не понимает, на что замахнулся.
– А на что? – поинтересовался я глупо. И правда, как тот радист, мало чего еще понимал.
Горяев оглянулся и, подхватив меня под локоть здоровой рукой, повлек в дальний угол, по пути рассказывая, что вчера вышел, как всегда, в эфир этот нахал и объясняет своей Тамаре, что жизнь у него, как катапульта, что стоит в ангаре, выстрел – и летишь. А если испытатель сломал только руку, то у него, у влюбленного бедолаги, вся любовь может сломаться…
– Но ведь он о любви? – спросил я.
– Конечно, о любви! – простонал Горяев. – Но к чему катапульту-то приплел? Она ведь засекречена! Она же не для любви стоит! – и опять оглянулся, но среди гулкого фона, наполнявшего ангар, как гигантскую музыкальную шкатулку, среди треска, грома никто здесь, даже если бы захотел, не мог нас услышать. – Придурок, что ли, не понимает, что о любви так-сяк, а сейчас…
– А что сейчас?
– По стенке размажут, – сказал Горяев. – А то еще «вышку» дадут!
– За любовь? «Вышку»?
Рядом застрочил клепальщик, да так, что уши заложило, и Горяев лишь руками развел, видимо, поняв, что я вроде того радиста и оба мы два сапога – пара.
А у меня все вертелся глуповатый вопрос, слава богу, что грохотало и я его не задал, вопрос же был таков: а что же Пушкин, описавший любовь самозванца, не раскрыл ли он ненароком какую-нибудь там военную тайну, за которую полагается «вышка»?
Грохот оборвался, и я услышал голос Горяева.
– Ну, мне пора, – произнес со вздохом и добавил словами Несчастливцева: – Всегда так бывает, брат Аркадий, есть люди, которые бьют, а есть люди, которых бьют, что лучше, не знаю… А в клубе так и скажи, что руку подлечу и приду. – И правой рукой махнул, поднимаясь в кабину катапульты, которая для него, наверное, тоже была смыслом жизни, хотя и отличной от неистовой любви неведомого радиста.
Тот-то уж, конечно, был из тех, «кого бьют». – Прощай, брат Аркадий! – крикнул сверху Горяев, и я увидел, как он нырнул в кабину. Я еще постоял, будто ожидая, что он сейчас вот возьмет да взлетит, но, конечно, не взлетел. Да и вообще это не для наших незасекреченных глаз: рискованный полет – выстрел, когда снарядом взлетает человек к небу, рискуя, как Горяев, для чего-то своей жизнью. Может, именно это и хотел передать радист, сравнивая себя, свои чувства с катапультой?!
Чей же путь – из этих двух – истинный? Горяев, да и все, кто здесь работает, конечно, считают, что катапульта не в пример нужней! Наверное, и я тогда так думал: радио – звук, а катапульта – путь в небо… Сквозь тернии, но к звездам.
Да и создана она для того, чтобы спасать чью-то жизнь… А «Тамара» – кого она спасает?
Возвращался я в лабораторию под дождем, еще более припустившим. Не мог я тогда знать, это случится через годы, когда именно Горяев впервые в истории нашей авиации, и не под грохот боевых рапортов, а под тихий шелест секретных документов, установит свой первый мировой рекорд, катапультировавшись на сверхзвуковой машине, в особом кресле, вниз головой, к земле; я видел этот кадр, снятый в засекреченной книжке, показанной из-под полы Горяевым в день его рождения. А потом будут еще кадры: вертолет над морем и винты, отрубленные специальным патроном, превращающим его в бескрылый, отвесно падающий кусок железа, а тут летчик и парашют! Снимают издалека, из другой машины, и кадры эти не для кинохроники, а для научного анализа, для архива (тоже секретного), поэтому лица не видно, но мне-то известно, что все это делает Горяев! Летит, поднятый катапультой, навстречу своей золотой звезде!
Такой вот путь, если бы я умел видеть, то есть заглядывать вперед, но я не умел заглядывать вперед. Я лишь попытался сравнить его с неведомым никому радистом, и само сравнение, попытка уравнять две несоразмерные судьбы свидетельствовали, что я и правда ничего тогда не понимал.
А кто – понимал? …Погиб Горяев ровно двадцать лет спустя, в 1968 году. О его гибели я узнал из сообщения по радио в один из дней в середине августа, когда вернулся из отпуска.
Из короткой информации было известно, что катастрофа произошла во время демонстрации нового отечественного вертолета на авиационной выставке в Бурже под Парижем. Тела Горяева и двух других пилотов доставили в Москву специальным рейсом, а похороны были объявлены в клубе Чкалова, что на улице Правды.
Справившись по телефону о панихиде, я приехал много раньше, но уже от остановки троллейбуса увидел огромную очередь, которая тянулась через всю улицу, перекрыв ход машинам, и загибалась на Ленинградский проспект. Я встал в конец, но минут через пять сообразил, что так я к Горяеву не попаду, и попытался пробраться к дверям, но там была давка, и меня легко оттеснили, прижали к стене дома. Тогда я зашел со стороны двора, отыскал по старой привычке черный ход и после препирательств с дежурным милиционером спустился в какой-то вонючий подвал, миновал подсобку и вынырнул прямо в фойе клуба. Тут уж ничего не стоило притереться к медленной и чинно настроенной очереди, которая мелким шажком продвигалась к залу. Мимо комнатки, забитой венками, и другой, где в мягких креслах отдыхал военный караул, прислонив оружие к вешалке с одеждой, вытянувшись вдоль стеночки в цепочку, поднялись мы чуть выше и боковыми кулисами прошли прямо на сцену. За спинами стоящих людей я сразу же увидел большой и отретушированный до неузнаваемости портрет Горяева, а потом и украшенный кумачом гроб с закрытой крышкой.
Сколько я ни хоронил летчиков, их всегда так и хоронят – и никто не может знать, что там от них на самом деле осталось.
Да нет, иногда и знали, ведь в бытность мою в лаборатории нас, учеников-подростков, посылали собирать останки на место катастрофы, если она происходила где-то неподалеку от аэродрома.
Трудно представить, кому пришло подобное в голову – испытывать таким способом наши неокрепшие души. А мы-то их видели, испытателей и асов, еще молоденькими, белозубыми, насмешливыми и даже чуть-чуть ветреными, но крепко верящими в свою бессмертную звезду, когда они забирались по стремяночке, которую мне приходилось придерживать, в сверкающие серебристые машины, уходящими – я не пишу взлетающими, они именно уходили, с ревом и пламенем огневым из сопла по бетонной светло-серой, упирающейся в горизонт полосе, как боги, в бескрайнее, ничем не угрожающее им небо.
В лаборатории же был переполох, и все опять из-за «Тамары». Оказывается, уже с утра, только я ушел, от имени Комарова, нашего начальника, сутулого, сухого язвенника, молчуна, а судя по некоторой печали в глазах, сильно поддающего, предупредили в очень жесткой форме, чтобы после обеда были все работники на местах: приедут для беседы. Кто приедет, что за беседа такая, не объяснили. Но все и так догадались, а неопределенная форма подтверждала догадку. Хотя для верности кто-то лениво поинтересовался, не отрываясь, правда, от дел: а что это будет, лекцию, что ли, приедут читать? Тогда почему во время работы? Почему не в клубе?
– Тебе же, дураку, лучше, отоспишься, если ночью перегулял, – отвечали остроумцы.
– А у меня грыжа, – встрял Носов, который по любому неприятному для него поводу приплетал грыжу, о которой все были наслышаны и в которую никто не верил. На это заметили, что болеть не запрещается, но тогда нужна справка от врача по всей форме, а без справки сочтется за прогул. И Носов хоть поартачился, но, покричав, никуда не ушел, а даже наоборот, когда кликнули сбор, чуть ли не первым побежал на «беседу».
Я лишь потом раскусил, что все это был разыгранный спектакль, не более, все всё знали, потому что у каждого в доме приемник, настроенный, конечно, на «Тамару», которую ловят по вечерам. Это я один такой простофиля и дурачина, узнаю новости самым последним и во все верю – и в лекцию, и в грыжу, и во весь этот разыгранный балаган.
Сейчас меня интересовало, в ком можно угадать того артиста, того мастера, гения находчивости и умения, который с похмелья, тяпнув нитроглицерина или иной какой дряни из авиационной гидравлики, запускает самые быстрые, самые лучшие и самые, самые (по Сталину) высотные самолеты в небо, а потом, поддав еще, идет домой и там ложится под машину и закладывает теннисные мячи в амортизаторы, вместо того чтобы идти на корт, потом тычет бытовым паяльником, которым лудят ведра, тазы и кастрюли, в схему и создает из обрезков проводов, сопротивлений и конденсаторов, обретенных на свалке, ПЕРЕДАТЧИК…
Тот самый – «Тамара».
Кто этот – «кто», ради которого останавливают работу, поднимают в воздух вертолеты, вызывают из Москвы слухачей с их аппаратурой, организуют армию стукачей, доносчиков и служек? И все, чтобы его, мелкого гада такого-сякого, найти и раздавить. Понятно, что собрать в наших домашних условиях передатчик – никакая не проблема, и даже самого себя в эфире передать – тоже не проблема, хотя для этого уже что-то надо иметь. Хотя бы голос. А вот вести передачи и до сих пор не попадаться, и где – в режимном поселке, в котором все люди, а не только радисты наперечет!
Но и это не самая главная, что ли, проблема. А вот быть таким, чтобы все это делать и «голосить», как выразился кто-то у нас, на весь белый свет, не обращая никакого внимания на все названные мной обстоятельства, делая вид, будто бы их нет, это чего-то стоило. Хотя я знал, я был просто уверен, что в нашей сонной лаборатории таких именно личностей нет.
Своих-то я знал всех. Думал, что знал.
Но чтобы себя лишний раз проверить, я обвел взглядом лабораторию, пытаясь еще раз на глазок прикинуть, кто из сидящих в этой рабочей комнате, огромной, как баня, она и создавалась, судя по всему, для целей иных, с каменным холодным полом, с окном, серым от копоти, занимающим два этажа и неподсильным для протирки… Кто из моего окружения способен на… преступление? Нет, это не из моего лексикона. Хотя и другое словцо – «проступок» тоже не подходило. Можно бы назвать так: способен на ГЛУПОСТЬ? На – ДЕРЗОСТЬ? НАГЛОСТЬ? НАХАЛЬСТВО?
СУМАСБРОДСТВО? На этот ИДИОТИЗМ. В последнее, кажется, вмещались и все предыдущие, именно ИДИОТИЗМ, потому что в нормальное сознание нормального человека происходящее никак не укладывалось. Оно было из разряда невозможных. Но если оно все-таки было, значит, было вопреки норме и всему, что мы понимали, а значит, мерить привычными мерками тут не приходилось. А вот других мерок мы, да и лично я, не знали. Я был такой же не идиот. То есть не глуп, не дерзок, не нагл, не нахален, не сумасброден и сумасшедш, КАК МЫ ВСЕ. Да кто же из нас, в конце концов, выродок? ОН или МЫ? А если все-таки ОН, то за что НАС-то трясут?
Мы-то в чем виноваты? Выходит, ЕМУ надо своей такой же, как он, идиотке Тамаре (иначе ее и невозможно представить) объясниться в лучших чувствах, а за задницу будут брать каждого из НАС, кто явно НЕ ОН, и каждую, кто явно НЕ ТАМАРА?
Но так ли я прав, занятый собой и мало, как все мы, осведомленный об остальных?
И опять, как бы почти невзначай, стрельнул я глазом вдоль комнаты. В самом дальнем углу, обложившись со всех сторон громоздкой, давно отслужившей аппаратурой, сидит Николай Иванович, старый пердун, кулак недорезанный, жмот и молчун, у которого снега зимой не выпросишь, не только шурупчик какой, хотя и шурупов, и винтиков или шайбочек у него припасено и разложено по калибру по всяким коробочкам больше, чем на всем нашем лабораторном складе. Он, как рак-отшельник, залез в свою железную, сооруженную им ракушку и, не вылезая даже на обед, кудесит, чинит старые часики, под видом работы собирает, разбирает моторчики, жирографы, триммера. Его-то лично никакая «Тамара» не волнует. Уж точно! А рядом с ним, по левую руку, Носов вместе со своей любимой грыжей; длинный, нескладный, в волейболе он мячи, как гвозди, заколачивает, но в сборной лаборатории играть не станет, уж очень любит он себя и очень печется о своем здоровье; не дай бог, вскочит прыщ на носу, тотчас в панике бежит в поликлинику просить больничный, и смотрит поминутно в зеркало, и ноет, что переутомился, что заразился сифилисом в нашем грязном буфете. Но он туда и не ходит, а носит с собой картошечку в баночке с крышкой, а ложку, прежде чем приступить к трапезе, протирает спиртом, который тоже носит в кармане в пузыречке.
Носов передатчик, возможно, и соберет, но передавать (то есть «голосить», как сам он выразился) никогда в жизни не станет. Тут надо любить кроме себя еще кого-то, ну хотя бы ту же Тамару. Да и для здоровья небезопасно.
Спиной к Носову сидит небезызвестный алкаш Грянник, он уже с утра поддал и оттого приветлив, сонливость у него наступит позже, как раз к приезду «гостей».
Но они Грянника не интересуют, как и вся их копошня с поиском передатчика. А появись у него, скажем, такой передатчик, он бы его в первый же день пропил.
И Тахтагулов, башкир, его стол ближе к двери, между Грянником и мной, хоть приборист, у него всякие там спидографы и барографы, но скорее передатчик создашь из утюга, чем из них, да и голос у него далек от левитановского: твоя моя не понимает! Вот инженер Ванюшин, очкарик скрюченный у двери, – другое дело.
Он, наверное, в день рождения вместо соски конденсатор сосал и радиоволны во всем их многообразии впитывал вместо витаминов и детских смесей, такой он весь прямо наэлектроненный. Сидит, обложенный схемами, любуется, как картинами Пикассо, и видит в них красоту и гармонию, которая другим недоступна!
Но, погрузившись однажды в свой электронный многоволновый мир, Ванюшин ничего вокруг не помнит, не только о каких-то передачах, но и о том, что в Питере в семнадцатом году произошла заварушка, вряд ли слышал. А если и услышал, пропустил бы мимо ушей и тут же забыл. Да и в буфете, если бы вместо винегрета по ошибке положили бы триодов и диодов, а сопротивлениями заправили, он проглотил бы и поблагодарил за вкусный, натуральный обед.
Ну, вот и все, кто сидит на первом этаже, не считая дам, то есть Тани, Риты, Люси да еще уборщицы-старушки Паши и аккумуляторщицы Любки, знаменитой тем, что слесарь из подсобного цеха, профессиональный трахальщик по имени Вася, драл ее, положив прямо на аккумуляторы, всю задницу ей разъело кислотой, а она даже не пикнула. Это потом ее лечить пришлось, такие вот страсти бывают в нашей лаборатории! Но тут и радиостанции не надо, всем все в подробностях и так известно.
Остальная инженерия, располагающаяся на втором этаже, хоть и специалисты вроде Трубникова или Ванюшина, который из-за экспериментов у нас застрял, все они, по заверению того же Трубникова, «вумные, как воблы, и вопытные, как вутки». Но все это «техретически», как утверждает уборщица тетя Паша. А она цену нам знает. А значит, без нас они там наверху никакой передатчик не склепают. К их вумным головам чужие и ловкие руки нужны.
Да, вот еще запамятовал, что болтаются у нас два бездельника-практиканта из авиационного института, которым нужно за время практики организовать себе дипломные работы. Но они ребята современные и резонно считают, что дипломы каким-то образом сами возникнут из наших разработок, и поэтому ничем не заняты, кроме бильярда. Впрочем, по сонным рожам практикантов ясно, что думать – не самое любимое их занятие. Успешно закончив институт, они пополнят наши ряды, и никому от этого, особенно же авиации, хорошо не будет. Те, что пришли в лабораторию до них, были не лучше, но вот же сидят и не гундят и даже по временам, как бы очнувшись, толкают науку, правда, неизвестно в какую сторону. Но уже одно это дает стопроцентную гарантию, что наши балбесы никакого радио типа «Тамары» не изобретут, а если бы нечаянно изобрели, то вещать бы не стали. Это точно.
Собрали нас в конференц-зале, на втором этаже. Пришли все, даже из других лабораторий, потому что ждали не только проработки, но каких-то сведений или подробностей, да и занятно было публике за счет работы организовать себе маленькое развлечение. Но никакого развлечения не получилось. Объявился мужчина неопределенных лет, чуть седоватый, в штатском, по виду похожий скорее на бухгалтера, чем на майора госбезопасности, хотя все уже знали, что он майор, а вместе с ним пришел и начальник лаборатории Комаров, как всегда молчаливо-грустный, и некая Люся – девица из первого отдела. Человека представили: Андрей Андреевич, и он без предисловий, поглядывая на часы, стал популярно объяснять, что явление «Тамары» – никакая вовсе не случайность и не хулиганство, а хорошо организованная диверсия вражеской агентуры, и все силы брошены на поимку и ликвидацию данной организации. Но вот вопрос, который невозможно не задать самим себе: как в нашей среде, в нашем обществе могло появиться такое чрезвычайное и опасное явление, как эта радиостанция? И не потеря ли всеми нами бдительности тому причина? И бдительности, и дисциплины. А может быть, и нашей идейности?
Штатский майор Андрей Андреевич заглянул в бумажку, которую ему подвинула Люся, стервозочка с милым улыбчивым лицом, ее отвратительный характер выдавали тонкие, всегда поджатые губы, и стал приводить примеры из жизни нашей лаборатории, как-то: несвоевременные уходы с работы, плохой учет деталей, взятых со склада, и очевидное их разбазаривание и вообще – пренебрежение законами о сохранении тайны, когда схемы валяются на столах, а на особо секретную локаторную площадку могут пройти все кому не лень. Там даже чьи-то козы пасутся! Вот до чего дошли!
– А чего их секретить, локаторы-то американские? – спросил Ванюшин, он сидел в первом ряду и листал журнал «Радио», вовсе не делая вид, что это словоговорение его хоть как-то интересует. Штатский майор внимательно посмотрел на Ванюшина и спокойно ответил:
– Вот и видно, что товарищ хоть и наукой занимается, а не понимает, как важно сохранять научную тайну. Локаторы, может, и американские, я этого не знаю, но зачем потенциальному врагу, который где-то рядом с нами, знать, что у нас нет других локаторов? Зачем, спрашиваю, ему знать об этом? – он строго осмотрел нас всех и, не повышая голоса, добавил: – Чувствую, что некоторые товарищи не прониклись серьезностью ситуации, а жаль, очень жаль… В поселке появилась масса самодельных приемников, настроенных как раз на волну «Тамары», и не только «Тамары», там и «Освобождение», и «Голос Америки»… То есть станции, от которых постоянно исходят ложь и клевета. К нам попало несколько таких самоделок, и мы сейчас пытаемся разузнать, где их производят и кто. Но и без экспертизы ясно, что собраны они из дефицитных, а значит, ворованных деталей, и возможно, хотя точных данных у нас пока нет, что их собирают и на территории вашего почтенного института. Такие-то дела, товарищи, – сказал штатский майор и снова из-под очков оглядел нас, будто хотел проверить, пока на глазок, не собираем ли мы тут названные самоделки.
Стало неуютно от всего услышанного, сидящие рядом со мной будто сжались, напряглись под этим брошенным на нас всевидящим оком. И только двое, кажется, не ощутили драматичности момента: Ванюшин, продолжавший внимательно рассматривать журнал «Радио», да еще один из практикантов. Я видел, как он написал записку: «Танечка, отдайте передатчик, зачем он вам нужен?» – и пустил по рядам нашей лаборантке.
Та прочла и испуганно обернулась, пытаясь понять, кто так неумно шутит, наткнулась на глуповатую улыбочку практиканта и покрутила пальцем у виска: идиот!
После штатского майора выступил по обязанности Комаров и негромко, почти уныло повторил все те же слова о потере бдительности, о дисциплине, пояснив, что с этого дня ужесточаются всякие выходы за проходную, а также вводится особый контроль за использованием радиодеталей и некоторые другие строгости. Хватит ходить из комнаты в комнату, пора работать, закончил он.
– А как же работать, если не общаться? – опять спросил Ванюшин, его наивные реплики вызывали у слушателей улыбку, а у Люси нечто наподобие зубной боли.
Таких фанатов, как Ванюшин, не помнящих ни о чем, кроме работы, она ненавидела особенно сильно и этого не скрывала. Тоном классной дамы, наставляющей плохого ученика, она сказала, что все люди как люди, сидят и работают, только у Ванюшина вечно фокусы, на днях, например, забыл опечатать дверь в лабораторию, когда оставался допоздна, а еще ранее вообще не оформил допуск на вечернюю работу, из-за чего была вызвана по тревоге охрана и разразился скандал. Ну как можно с такими иметь дело?
– Да не имейте, вы лично мне совсем не нужны, – отозвался простодушный Ванюшин, пожав плечами, и уставился в свой журнал, а Люся картинно развела руками и посмотрела на майора в штатском, мол, видите теперь сами, в какой трудной обстановке приходится работать. И майор понимающе кивнул: «Вижу, если надо, поможем». Так, во всяком случае, поняли тот кивок сидящие в зале и – не ошиблись.
Но, конечно, никто не мог знать, что штатский майор написал на кусочке бумаги записку и подвинул Люсе: «Ванюшин что, настоящая его фамилия?» И Люся тут же письменно ответила: «Кажется, да, если надо, проверю». Он кивнул: мол, выясните, а записку убрал себе в карман. Люся же, ощутив поддержку, стала называть другие факты, свидетельствующие о расхлябанности работников лаборатории и притуплении (она это слово слыхала на недавнем совещании в горкоме и не преминула воспользоваться) бдительности, а это прямой путь к преступлению… Ей уже никто не возражал, все сидели потупясь, ожидая окончания. А когда отпустили, повалили в курилку, в лаборатории курить не разрешалось, оживляясь и разминая онемевшие ноги, раздались первые невинные шуточки по поводу того, что скоро вот и в туалет придется выписывать допуск, не без того… А комнатам вести меж собой деловую переписку!
– Вам шуточки, – пожаловался кто-то из инженеров. – Но ведь без подписи министра теперь и конденсатора не получишь!
– Скажите спасибо «Тамаре»!
– Я бы так сказал, что… да где ее найдешь?
– За рукоприкладство и сам срок получишь!
– Зачем же драться? – раздался чей-то голос. – Я бы тысчонок десять вольтиков к нему подключил, и пусть потом доказывает, что он не вольтметр!
– Ну, тогда вы уж сразу его – на электрический стул! – Я узнал голос Трубникова, он, как всегда, ерничал.
– А чего с ним чикаться? – возразил кто-то. – Попадется паршивая овца в стаде, всем жизнь испортит! А мы еще его пожалеем: ах, какой несчастный, по Тамаре своей истосковался, ему, видите ли, надо перед всеми душу свою вывернуть! А о моей душе он подумал? Когда нас по подозрению трясти начнут, это гуманно? Да?
– А я скажу – он над нами над всеми издевается, – крикнул еще кто-то.
– А вы над ним поиздевайтесь! – предложил сочувственно Трубников. – Чем мы хуже?
Возьмем да и создадим свои радиостанции… Радио «Вера» или, к примеру, радио «Катя»…
Или вот совсем здорово: радио «Фекла»!
Вокруг засмеялись.
– Да, а вы, конечно, слыхали, что в седьмой лаборатории тигров закупили? – вспомнил Трубников.
– Кого, кого? – раздалось сразу несколько голосов.
– Так вы ничего не знаете? – И Трубников объяснил: – Приобрели двух тигров из зоопарка… Их там в коридоре посадили, чтобы поменьше болтались, побольше, значит, работали! И говорят – помогает!
– Ну да? – удивились самые легковерные, остальные, кажется, поняли, что Трубников в обычной своей манере их разыгрывает, и помалкивали, но слушали с интересом.
– Сам видел, – клятвенно заверял Трубников. – Но там история, братцы, вышла…
Неприятная история. Не знаю прямо, надо ли продолжать… – И сделал паузу, ожидая реакции.
– Рассказывай, не тяни!
– Видите ли, – печально продолжил Трубников. – Работа в самом деле пошла! И курить перестали! И болтаться! Но… Стали замечать, что в коридоре грязи прибавилось, хватились, уборщиц нет, а в углу, братцы вы мои, не поверите…
Косточки обнаружили! – И, выдержав эффектную паузу, Трубников, вздыхая, досказал историю: – Да, да, выяснилось, что тигры съели двух уборщиц… Сами понимаете, «чепе», криминал, вызвали охрану, сопроводили людоедов обратно к себе в зоопарк… А дорогой, значит, один тигр и говорит другому: «Дуррак, на кого польстился! На костлявых уборщиц! Я двух докторов наук сжевал, трех кандидатов, и никто, представь себе, не за-ме-тил!»
Публика с удовольствием рассмеялась. Но тут же послышалось:
– Полегче на поворотах… Запишут в дружки с «Тамарой»…
Сказано-то было в шутку. Но поняли всерьез. Смех разом кончился. Возникла пауза.
– А вот майор объяснил – целая организация орудует.
Мне показалось, что голос принадлежит одному из практикантов, затесавшихся в компанию, но мог и ошибиться: курилка без окна, с тусклой лампочкой, и дыму полно. Вопрос повис в воздухе. Люди молча расходились по комнатам. Начиналась новая жизнь.
Я стукнул в Мусину дверь. Хозяйка, к счастью, оказалась дома. Удивилась, что я так странно ворвался и лицо вроде не в себе, будто дорогой меня пчелы кусали.
– Ты чего такой? Ошпаренный?
Я не стал объяснять, что после собрания, а лишь попросил:
– На минутку. Можно?
– Можно и на две! – ответила она, оживляясь. – Это даже хорошо, что пришел.
Посидишь с Андрюшкой, а я сбегаю за молоком. Лады?
И, уже одеваясь, бросила на ходу:
– Не бойсь, он не капризный… Сам с собой играет… А ты, если скучно, радио включи – сейчас будет «наш» вещать! Но я не могу, магазин закроют!
– «Наш»? – спросил я вдогонку, не сразу сообразив, что речь идет о той же «Тамаре», теперь, оказывается, он еще и «наш». Слышал бы майор, что приезжал нас инструктировать! Свихнулись, что ли, все на этой «Тамаре»: драмкружок, и Горяев, и лаборатория… И Муся туда же! Ей-то что до чужой жизни? У нее своя есть. И не такая уж пустая, когда ребенок.
Муся, схватив пару пустых бутылок и сетку, унеслась. А я, посидев, на всякий случай включил радио, стоящее на тумбочке.
Приемничек у Муси был так себе – старый, довоенной марки, под названием «СИ-235», с крохотным окошечком, где светилась лента с делениями и цифрами. Я не стал искать волну, сообразив, что приемник уже настроен на «Тамару». Так и оказалось.
Несколько минут приемник фонировал, будто слышался отдаленный шум моря, потом раздался щелчок и возник голос, непривычный, рядом, как из соседней комнаты.
Почти по-домашнему кто-то хмыкнул, прокашливаясь, будто не мог этого сделать раньше, и произнес негромко: «Здравствуй, я выхожу в эфир, Тамара, ты меня слышишь?» Наступила пауза, довольно длинная, и Андрюшка откуда-то от моих ног прошепелявил:
– Дядя будет тете говорить, а мама тогда плачет…
– Что? – спросил я, наклоняясь, и снова услышал глуховатый ровный голос без всяких интонаций: «Я должен перед тобой извиниться, Томочка, я немного приболел и хриплю, но я не мог пропустить эту передачу, иначе ты бы подумала, что со мной что-то случилось. А со мной ничего не случилось, вот температурка, но я принял малины, закутался в полушубок, и даже – ничего, через пару дней оклемаюсь, выйду, тем более впереди воскресенье, есть возможность отлежаться с книжкой в руках и с мыслями о тебе.. – и он опять коротко прокашлялся. – Сегодня, кстати, исполнится два месяца, как я с тобой разговариваю, и жизнь моя повеселела. Это даже невозможно объяснить. Сперва я просто вещал в пустоту без надежды, что меня услышат. Потом я стал ощущать твои подключения. Редкие, но я верно знал, что ты меня слушаешь. Я чувствую исходящую от тебя обратную волну, и этот хрупкий мост не может прерваться по моей причине: он соединил нас, и никто, слышишь, никто прервать его не сможет. – Он что-то невнятно бормотнул, видно, с кем-то, не выключая передатчика, перемолвился. Голос его захрипел сильней. – Это у меня живность собралась, кошечка, собачка, по именам не называю, но будем считать, что у кошечки-красавицы имя Мяу, а у собачки кличка Гав… Они, знаешь, ревнуют меня к тебе, понимают, что с этими волнами я куда-то от них уношусь. А я знаешь что вспомнил?.. Было это в армии, я служил в одном крохотном городке и в госпитале – нас туда водили на рентген – увидел в коридоре медсестричку, такую куколку, что несколько дней не спал. И я написал ей письмо. Но был я стеснителен, неуклюж, не уверен в себе и обратный адрес дал своего дружка по соседней койке Кольки Нарежнева, он-то и получил от нее первое послание. Но отдал честно мне, и я ответил, и завязалась заочная страстная переписка, потом любовь, и она просила о встрече, а я сопротивлялся, я не мог уже объяснить ей, что я не Нарежнев, а другой, которого она даже не слышала. Так я и уехал, распалив себя и милую девочку, которая мне откликнулась и поверила… Она ведь тоже практически писала в пустоту… Да сколько же таких голосов если не в эфире, то в письмах, когда люди хотят любить и ищут, ищут друг друга! Но я-то тебя нашел, я знаю, кому я пишу. И я буду с тобой рядом всегда, пока ты захочешь включать приемник, я буду тебе всегда говорить это главное слово: «Люблю». Тяжкая зима, а я «люблю», и настроение не очень, а я «люблю», и с работой не очень, и с друзьями, и с самим собой… Но пока есть любовь, я жив, да мы оба живы, несмотря ни на что! Я верю, она и правда спасет нас, когда не будет ни в чем уже спасения…»
Тут влетела Муся, сбросила свой плащик, положила сумку с бутылками прямо на кровать и спросила шепотом:
– Это он? Что он сказал?
– Не знаю, – отвечал я. Я и правда не знал, как объяснить, что же говорил этот человек. Но то, что он упомянул кошку и собаку, мне понравилось, это было похоже на мое собственное существование. Конечно, я бы никогда и никому не стал бы объясняться так в любви. Да еще по радио! Впрочем, откуда я мог знать, что я буду делать, если когда-нибудь полюблю!
Муся подхватила ребенка на руки и притиснулась к приемнику. Андрюшка сказал ей:
– Дядя говорит тете…
– Ну и говорит, а тебе-то что! – прикрикнула Муся и сама же себе сказала: – Да тише же! – Будто кто-то шумел. Но, по-видимому, все заканчивалось, да и голос у радиста сел настолько, что стало слышно, как он тяжело дышит. Он произнес с трудом:
«До свидания, дружочек мой Тома, не думай и не жалей меня, я очень счастливый человек, и солнышко, которого все мы заждались, мне светит целую жизнь именно потому, что я люблю. И когда я выключу микрофон, мои чувства не изменятся и моя жизнь будет благодаря твоему существованию такой же светлой, так прощай и помни, я здесь, я рядом. А если я когда-нибудь замолчу, значит, меня совсем нет. И, видит бог, доживем до завтра, я тебе что-нибудь да скажу… Прощай, прощай!» – и выключилось.
Муся еще какое-то время смотрела на приемник, будто ждала продолжения, потом спохватилась, извлекла из сетки молоко, одну бутылку поставила за окно, на холод, другую перелила в кастрюльку и поставила на электроплитку.
– Он о любви говорил? – спросила Муся.
– Но ты же слышала.
– А о том, что его ищут? Говорил? Нет?
– Нет.
– Вот! – воскликнула она с какой-то гордостью. – Они его ищут, обложили, как медведя в берлоге, а он на них начхал! – И со злым торжеством повторила: – Он на них на всех начхал! Это их и бесит! И никакая это не организация! Это живой человек! Жи-вой!
– Да, конечно, не мертвый, – подтвердил я. – Столько наговорить!
Муся поняла, что я придираюсь, да я и правда придирался, потому что был смущен услышанным. Я никак не мог представить, что эта «Тамара», возникшая как фантом из воздуха, из космоса, из ничего, могла вести свой разговор так откровенно с неведомой женщиной, будто в целом мире, кроме них двоих, никого больше не существовало. Какие же мы дикие, если самые обыкновенные чувства, выраженные открыто, кажутся запрещенными! А если мы все-таки не дикие, то какие мы? И чего мы все боимся?
Муся огрызнулась:
– Тебе много? А мне лично так мало! Да и он, наверное, намолчался за свою жизнь, ты об этом не подумал? Вот я целый день тарирую свои приборы, сверяю, так сказать, а сама с ними молча разговариваю. А там вольтметры, амперметры все с чудными названиями: «Сименс и Гальске», небось изобретатели, ученые – немецкие такие… Я подсоединяю их, а сама шепчу им разные бредни: милый Сименс, драгоценный мой, красивенький мой, чужестранец, я тебя тарирую в пятый раз, а все для того, чтобы после моей пятой проверки тебя снова бы поставили в дальний шкафчик с замком и никому не давали, даже Ванюшину не давали, которому ты позарез нужен… Но такой ты дорогой, ты жутко дорогой, дороже, как утверждают, автомобиля «Победа», которая стоит шестнадцать тыщ, и значит, тебя надо беречь!
А пройдет годик или два, и меня вызовет мой начальничек Комаров: а что, Мусенька, скажет со вздохом, не проверить ли нам еще разок нашего Сименса, и ласково, нежно так погладит приборчик, потому что знает им истинную цену и обожает их, не как заприходованную единицу, а как шедевр, как вершину человеческого разума! И я вдруг понимаю, он-то сам ужасно одинок, и ему тоже – тоже! – не с кем, кроме Сименса, поговорить, со мной-то он разговаривать боится! Так мы все молча и молча разговариваем. Да кто с кем, а я вот еще с Андрюшкой да с тобой… А кто же мне ответит? Ведь я тоже живая душа, доброе слово, говорят, и кошке приятно…
А мне?
Муся вдруг оборвала на полуслове и прислушалась. Ей показалось, что кто-то пришел, хлопнув дверью. Но кто к ней мог прийти, кроме ее летчика, которого она, судя по всему, сейчас не ждала? И оттого лицо ее менялось на глазах, оно на мгновение просветлело, готовое к счастливой вспышке, но тут же погасло и даже еще более потемнело.
Она отвернулась, поймав мой взгляд, буднично спросила:
– Ты был на собрании?
Я сказал, что был.
– Значит, слышал, как они его… «Тамару»…
– А как они нас?
– Вот именно. Теперь еще больше озвереют. Даже чистку хотят устроить!
– Как это? – спросил я. – Чистку! – С этим словом у меня связывалась уборка помещения.
– Да очень просто: уборка, только людей – под видом сокращения штатов! Не знаешь, что это такое?
– Нет.
– И не дай бог узнать, – сказала резко Муся. – Приходишь на работу, а тебя в проходной задерживают… Нет, говорят, пропуска, потому что ты – сокращен. И катись… Куда глаза глядят… А куда я с ребенком?
– А ты-то при чем? – я отчего-то рассердился, хотя до конца не верил, что все это возможно. – Ты, что ли, их секреты американцам продаешь?
– Нет, не я, – ответила очень серьезно Муся. – Но я для них – пустое место.
– Так у нас все – пустое место!
– Неправда, кто-то и работает. – Муся вздохнула. – Хоть бы кто этой «Тамаре» подсказал, что плохо будет… Или он не понимает, что мне с ребенком не выжить…
Да и тебе… Он бы только месяцок-другой помолчал, пока не успокоятся! Пожалел бы нас, правда?
И Муся стала тереть глаза. А я не знал, как ее утешить, потому что она-то, неунывающая и такая уверенная, вдруг запаниковала.
– Тебе не надо его слушать, – сказал я, собираясь уходить. – Собака лает, а ветер носит.
– Нет, – возмутилась Муся. – Он не лает, в том-то и дело. Лают на него, а он чистая душа… Мне его жалко… И себя тоже жалко… Господи, ну как жить?
Муся проводила меня до двери. И вдруг, оглянувшись на ребенка, словно боялась, что он подслушает, шепнула, я это тогда дословно запомнил:
– Если они посмеют со мной… Я покончу, вот клянусь… А ребенка убью. – И тут же с силой захлопнула дверь.
Домой я не поехал, там меня и правда никто не ждал, кроме моих зверушек: сучки Дамки и кошки Катьки. Они обычно встречали меня у калитки и провожали до дома. Я направился к Толику в клуб и просидел у него весь вечер в каморке, пока тот бегал по всяким клубным делам, а дел у него к вечеру прибавлялось: сменить лампу, открыть-закрыть комнаты для репетиции, помочь киномеханику или приструнить расхулиганившихся и навести порядок… Одного лишь он не делал никогда: не вызывал милицию, предпочитал обходиться собственными силами. И, кажется, ему это удавалось.
Вернулся на диво трезвый, хотя в буфете всегда есть с кем выпить, и, вглядываясь в мое лицо, спросил:
– Ну? И тебя – понесло?
Я кивнул. Про себя подумал: «Понесло… Только вот куда меня понесло?»
– А если – тово? Залить? Пожар тушат, когда горит!
– Не хочу. Спасибо.
– Давай сыграю?
– Нет, не надо, – попросил я.
– А что надо?
Я не ответил.
Неодобрительно покачав головой, достал краски, заготовки для ковриков, на ходу пояснил, что завтра базарный день и у него в запасе лишь ночка, чтобы нарисовать своих котят и получить за них гульдены, которые имеют свойство быстро иссякать…
– Ложись и спи. Сон – лечит! – приказал он, а сам, засучив рукава, приступил к делу. Я улегся на его жесткое ложе, сказал:
– Радио меня «заело».
– Ты про «Тамару»? – сразу сообразил Толик. – А что он говорил? Я-то ведь его не слушаю.
– Неважно, что он говорил… Важно, что он вообще говорит. Мы-то молчим.
Толик взял кусок угля и стал набрасывать контур будущего коврика. Не отрываясь от своего занятия, произнес:
– А вот представь такую картину, ее можно было бы даже живописно изобразить!
Стоят люди по горло в дерьме, стоят и молчат, чего-то ждут. И час ждут, и два, и три. Наконец один из них не выдерживает, кричит: «Ну сколько же можно так стоять?»
И тут, представляешь, все остальные на него набрасываются с криками: «Тише! Тише!
Не пускай волну!»
– Набрасываемся на «Тамару»… Мы? – спросил я.
– Да и мы тоже.
– Но от его, извиняюсь, радиоволны многим ведь и правда хуже?
– Чего-чего? – поинтересовался Толик. И так как я не отвечал, он сам себе и ответил: – Хуже-то и правда некуда!
Он отодвинулся, рассматривая набросок издали, что-то поправил, чиркнул и остался доволен результатом. Повернувшись ко мне, весело спросил:
– А ты как считаешь, на чем держится мир? На трех китах? На вере в Бога? В дьявола? В Сталина? А вот я лично думаю, что мир держится на праведниках… – И тут он прицелился и положил первый мазок. – Я совсем не утверждаю, что этот, который «Тамара», и есть тот самый праведник. Я вообще говорю. И вовсе не надо бросать свои дела и уходить, как Христос в пустыню, или… Или – сжигать себя на площади! Или – глаголить из подполья по радио… Это не всем дано. Надо просто рисовать своих котят и ложиться спать с чистой совестью. Это я про тебя говорю.
Спать я не мог. Я сел у Толика за спиной и стал смотреть, как чудесным образом из ничего, из фантазии и второсортных красок возникают на полотне с теплой шерсткой и глуповато-счастливыми глазами его котята. Толик не рисовал их по трафарету, как иные рыночные маляры, он сочинял каждый коврик заново, и котята выходили у него разные, разных мастей и пород, но все они и правда были как живые, их хотелось погладить. Иной раз для интерьера он добавлял к ним какой-нибудь предмет: вазочку, или чайник с кружкой, или даже свой собственный мольберт.
Я поинтересовался из-за спины, почему-то шепотом, отчего он рисует лишь котят, а не цветы, скажем, не натюрморт. Ведь это тоже красиво.
– Можно и натюрморт, – он не отрывал напряженных глаз от полотна, как бы обласкивал его глазами, влюбленный в свое детище, в каждого нарисованного котенка отдельно, это было видно. – Но, – уточнил, – котята лучше!
– А собаки? – И вспомнил про свою домашнюю живность, которая, конечно, голодная.
Сумасшедшая моя соседка и себя временами забывает накормить, не только других.
– Ну конечно! Можно рисовать и собак, и кошек, и цветочки, и березки… – Произнес это Толик медленно, будто напевая. – Много, брат, чего можно изобразить.
Но все люди – немножко дети, а дети любят котят…
– Если нарисовать самолет? – спросил я. – Ну, этакий красавец самолет? Его купят?
– Может, и купят, – как бы вслух раздумывал Толик. – А может, и нет… Кому он нужен, твой самолет?
– Кому? – переспросил я.
– Да никому, пожалуй. – И подтвердил: – Никому твой самолет не нужен. – Он бросил на холст последние мазки, налил в кружку чаю. На ходу, даже не присев, отпил жадно несколько глотков и стал рассказывать, как однажды нарисовал для продажи два сельских пейзажа: улочка, березка, изгородь и край избы… Только на одном на голубом небе доизобразил реверсивный след от самолета, показалось, что этот белый полукруг оживит картину, придаст ей некое завершение – цветовое.
– И что же ты думаешь? – спросил с вызовом Толик, шумно отхлебывая чай. – Пейзаж без следа купили сразу, а со следом нет, чем-то этот след мешал… Посмотрят, помнутся и отойдут. Ну, след я замазал и картину, конечно, продал, но сам-то стал соображать, я тогда не такой вумный был, и досоображался вот до чего!.. Не хотят люди видеть испорченным небо! Ни самолетом, ни даже следом от него! И вовсе не одинаково, какое белое пятно я положил на небо. Шум моря, скажем, или шум машин на улице – не одно и то же! Природу-то измордовали, сгубили, так люди хотят, чтобы она хоть на картинках была такой, как во времена сотворения, – заключил Толик. – А котята? Чего ж натуральнее? Уж лучше клепать котят, чем клепать самолеты, ты согласен? – И засмеялся необидно. – А ты и сам еще котенок, оттого и гоношишься, не спишь. Ложись давай, все котята уже спят! – так вот шутя и прогнал меня в постель. Я лег и сразу уснул. А когда открыл глаза, было утро, на столе возле остывающего чайника лежала записка: «Дорогой котенок, на дворе весна, а жить, наверное, стоит…»
Было воскресенье. Сверкали на солнце лужи, небо было чистым, голубым, чуть размытым, но без облаков и самолетных белых трасс. Я постоял на ступеньках тихого в этот ранний час клуба, щурясь от прямого, в лицо света и вдыхая свежий запах талой воды. Что-то надо было решать, но ничего я не решил и побрел куда глаза глядят; оказался я на станции, загадав наудачу: куда пойдет электричка, туда я и поеду, или на Москву, или на Задольск. На Москву – там в Подосинках ждут оголодавшие мои зверушки… В Задольске живет Алена, остроносенькая студенточка с рыжей челкой. Она мне отчего-то нравится. В отличие от меня она знает, чего хочет в жизни, может, это меня к ней и привлекает. Электрички в обе стороны подошли одновременно, и я, поколебавшись, выбрал ту, что увезла меня к Алене, ощутив вдруг сильную вину перед своими зверушками, которым я в этот момент как бы изменил. Но именно весеннее шальное мое состояние внушало надежду, что сегодня я не буду таким уж паинькой и тихоней, а войду, ворвусь в дом и увезу ее куда-нибудь на танцы, в кино… Да хоть куда, только чтобы побыть вместе.
Я и в самом деле решился бы на какой-нибудь опрометчивый поступок, но застал Алену, уже одетую по-дорожному: она собиралась уезжать. Лишь на секундочку присела, не в комнате, в прихожей, чтобы так, с ходу меня не выпроваживать.
Культурная девочка, и на том спасибо. Я присел, мы оба присели, глядя друг на друга. Это было немного смешно. Ну что можно сказать в прихожей?
– Вы бы меня предупредили, что ли! – произнесла не без упрека, чувствуя некую неловкость от такого приема. – А у меня зачеты, надо вот в Москву ехать.
Сообщила и вздохнула. Но вздох получился как бы напоказ.
– А почему… в воскресенье? – Кажется, я тянул время.
– А потому: профессор у меня – бо-льшой дурак! – произнесла не без удовольствия и стала примерять свой пуховый малиновый беретик, поглядывая на себя в зеркало.
Остренькое лисье личико, веснушечки, а все равно привлекательная. Даже обворожительная, как писали в какой-то книжке. И она об этом, конечно, знает. Я лишь посмотрел и отвернулся.
– На улице, между прочим, не жарко, – предупредил не глядя.
Она легкомысленно отмахнулась, подхватила сумочку с торчащими из нее конспектами, дождалась, пока я выметусь, стала запирать дверь сразу почему-то на три замка.
– А дурак, – объявила, – профессор мой потому, что ко мне прицепился, я, видите ли, напоминаю его первую любовь, в молодости это было – кажется, еще до взятия Зимнего дворца! В прошлый раз так и не поставил мне зачет, зато долго распинался о своем одиночестве и даже пытался ухаживать. Вот. А теперь надо ехать к нему домой.
– Но домой же нельзя! – воскликнул я непроизвольно.
– Почему нельзя? – удивилась Алена. Но, кажется, сообразила и поправилась: – Да нет, я его не боюсь, только он ужасно слюнявый… Как-нибудь вывернусь. Зачет-то получать надо. Папа вернется из командировки, что я скажу?
Быстрым шагом направились мы к станции. Но это была даже не прогулка, спортивная ходьба по пересеченной местности; после нее от самой весны, от легкого солнечного высверка уже не оставалось ничего, кроме невольного раздражения.
Наверно, она почувствовала смену моего настроения.
– Почему вы так долго не приезжали? – и по-иному, теплее взглянула на меня. – Были заняты? Или забыли?
Я не стал заверять, что я все время помнил. Сказал:
– У нас все телефоны на работе отключили.
– Что-нибудь случилось?
– Да нет. Отключили и все. Чтоб меньше болтали.
Конечно, я знал, что произошло, но зачем ей рассказывать. У нее свои проблемы. У нас свои. Да и считал ее интерес лишь данью вежливости. Но она вдруг спросила:
– А что там у вас за странная передача какая-то объявилась… «Татьяна», что ли?
– «Тамара», – подсказал я, но негромко. Мы всходили на платформу, кругом было много народу.
– Да, да! – подхватила Алена. – Про нее кругом говорят, а я, оказывается, ничего и не знаю! Хотела приемник починить, но там какая-то лампа сгорела… А он немецкий, «телефункен», к ним никаких ламп в продаже нет!
– Я починю, – пообещал я, чтобы замять неудобный здесь разговор.
Но Алена никакого неудобства не испытывала. Глядя с интересом мне в лицо, она допытывалась, выспрашивала:
– Правда, что она подпольная? И что ее ищут? Мне все уши прожужжали, такие рассказывают страсти! Такое чувство! Нет, честно, не знаете? Или не хотите сказать правду?
Кажется, она еще что-то говорила, а я, оглянувшись, приметил знакомый женский профиль: серая каракулевая шубка, платочек с узорами и кокетливый завиток волос над розовым ушком… Люся! Наша родная секретчица! Она толкалась совсем рядом, но не на виду, и смотрела совсем в другую сторону. Но я прямо-таки кожей почувствовал ее интерес, и знобкий холодок пробежал по спине: она все, все слышит и ловит, ловит каждое произнесенное Аленой слово своим невинным, своим розовым, нежным ушком!
– Да что с вами? – спрашивала Алена обидчиво.
В этот момент, слава богу, подошла электричка и мы вошли в вагон. Я сел и сразу оглянулся; народу было немного, но Люси я нигде не увидел. Свободно вздохнул, откинулся, снимая фуражку, и вдруг обнаружил Люсю за своей спиной. Она сидела, как бы не замечая нас, поглядывая в окно. Но это маленькое розовое ушко, способное уловить все, о чем мы говорим…
– Какая она? – продолжала настаивать Алена.
– Кто – она?
– Эта… ваша «Тамара»?
– Почему наша? – разозлился я. – Вот приеду, починю твой «телефункен», тогда узнаешь! Какая!
– Правда почините? – обрадовалась Алена. – Я буду ждать. Но скажите, вы хотите быть на его месте? Только честно? Чтобы так говорить о любви?
– Не знаю.
Правду сказал, что я не знаю.
– Напрасно, – упрекнула Алена, огорчаясь. – Девушки, между прочим, рискованных любят! А лично я, – произнесла Алена почти с вызовом, – я бы вас очень зауважала, если бы узнала, что способны на такой поступок. Наверное, влюбилась бы в такого человека!
– Трепач он, между прочим, – вырвалось как-то у меня. Уже было наплевать, слушает меня эта штатная стукачка Люська или не слушает. Как говорят, понесло на волнах ревности. – Тоже мне герой за чужой счет, а из-за него, между прочим, люди могут пострадать! И уже страдают!
– А совесть? – спросила Алена странно. – Не страдает? – И посмотрела на меня как-то необычно, словно бы жалела. И отвернулась, считая, что разговор у нас с ней закончен. Я и сам это почувствовал и встал, решив уже не ехать до своих Подосинок, а сойти у работы, то есть там, где еще недавно по наитию выбирал себе электричку. Выбрал, называется!
– До свидания, – сказал я Алене. – А приемник я починю…
Она не ответила. И не попрощалась.
Я сошел, еще не зная, что буду делать, и тут же услышал, как мимо звонко простучали каблучки Люси, увидел ее быстро удалявшуюся меховую спинку и медленно двинулся вслед.
Возле пивной палатки, самой обшарпанной точки у железной дороги, но тем не менее желанной и посещаемой, судя по толпе мужчин, стоял Горяев, а рядом – полноватый блондин в летчицкой кожаной куртке, но без шапки, с одутловатым красным лицом.
Шея и даже проплешина на голове были у него особого красноватого цвета: то ли рано загорел, то ли сейчас вышел из бани. Они пили пиво, будто занимались делом, серьезно, сосредоточенно, и лишь по временам перебрасывались короткими фразами.
Все это я увидел на подходе и уже было собирался прошмыгнуть мимо, но Горяев, протянув руку с кружкой, обрадованно закричал:
– Брат Аркадий! Какая встреча! Куда и откуда?
Может, это вышло несколько театрально, но искренне, а блондин сразу развернулся всем телом и произнес снисходительно:
– И я – Аркадий. Какая встреча! Глаза у него были голубые, но холодноватые, как весенняя водичка.
– А я – не Аркадий, – ответил я не совсем приветливо.
– Он правда не Аркадий, я пошутил, – миролюбиво сказал Горяев, и они, допив пиво, попрощались. Блондин, кивнув мне на ходу, направился к станции, и теперь я увидел со спины, что ноги у него больные и ходит он едва-едва. Горяев задумчиво посмотрел вслед. – Пиво будешь?
Я помотал головой, пива я не хотел. Да ничего я не хотел. Такое было в этот день настроение.
– Не сидится в воскресенье дома? – спросил Горяев. И опять посмотрел в ту сторону, куда ушел его приятель, видно, мысли были далеко. И вдруг предложил: – Ты вот что, проводи-ка меня, если без дела. Мне в поселок надо, а тебе, кажется, все равно, да?
Он обогнул ларек и появился уже с велосипедом. Мы двинулись по обочине дороги к поселку, только теперь, когда он придерживал за рога свой велик, я обратил внимание, что рука уже не на привязи.
– Поправился?
– Гипс сняли, но… Еще рентген, то да се… Приходится терпеть, – отвечал он, но как-то нехотя. И вдруг добавил: – У Аркадия-то хуже…
– Тоже… на этой?.. – Я не стал называть катапульту, но Горяев и так понял.
– Конечно. У него, в общем, в момент выстрела отчего-то одна рука подогнулась, тело сместилось, и весь удар пришелся на позвоночник, но под углом… А в результате… – он не договорил.
– Какого выстрела? – Мне показалось, что я ослышался.
Горяев усмехнулся и отчего-то посмотрел на небо.
– Ну, а ты, брат Аркадий, хоть представляешь, как летает эта штуковина из…
Жюль Верна?
– Нет, – сознался я.
– Она стреляет.
– В кого?
– Не в кого, а куда, – поправил он. – Вверх стреляет! – И пояснил, что в основании кресла, которое я тогда принял за вагончик, на самом деле этакое в скорлупе креслице на рельсах, закладывается мощный заряд, и в момент выстрела человек, сидящий в кресле, летит по этим рельсам вверх, а перегрузка, которая зависит от степени заряда, подсчитывается по отношению к весу человека. – Скажем, два «Ж», три «Ж», четыре… Ну, то есть вес испытателя, помноженный на эту цифру…
– Горяев объехал огромную лужу на пути, подождал меня и продолжил: – В общем, взлетаешь под крышу ангара, выстрел, и ты наверху! Дальше нужно быстро включить сознание, контроль над собой и реагировать на сигналы: зажигать цветные лампочки, стрелять из кинопулемета… Ориентироваться, в общем, в сложных условиях, почти как на сцене! – И засмеялся, довольный сравнением. Наверное, он был прав: на сцене раздумывать некогда, ошибся ли партнер, возникла ли странная пауза, сбился текст или неадекватно отреагировал зал, соображай, но выкручивайся, но доводи, что бы ни случилось, игру до конца. Все так, но и не так, на сцене можно опозориться, но руку там сломать, а тем более позвоночник – невозможно.
– Без руки – какая же реакция? – недоумевал я.
– Ну, – пожал он плечами, – не все же ломают руки!
– А позвоночник?
– Это – исключение! – он чуть нахмурился. – Просто Аркадию зарядик посильней дали… Десятикратный, что ли… В общем, перемудрили, бывает… – Но тут же опомнился и уже по-иному, нестрого добавил: – Ты это, брат Аркадий, забудь! Я ничего не говорил, а ты ничего не слышал!
– Да я-то что? Но этот радист тоже, что ли, ничего не слышал, но рассказывает, как там у вас калечат? Или – врет?
Горяев с кем-то на ходу поздоровался и долго мне не отвечал, наверное, выжидал, когда мы останемся совсем одни.
– Ты про «Тамару»?
– Да.
Он буркнул, сдвигая брови:
– Не врет… В принципе… Но что изменишь?
– Но он же о любви, – защитил я радиста.
– Вот именно, – резко отвечал Горяев. – Любишь – и люби себе на здоровье, на хрена же он меня приплел?
– Для примера.
– Не надо для примера. Хватит и того, что на мне остальные экспериментируют!
– Но он-то же про любовь! – повторил я.
– У меня своя любовь есть, – сказал Горяев очень серьезно и даже затормозил велосипед. – Хотел я мимо пройти, горд очень…
– К Верочке? – вырвалось у меня.
– К ней, брат Аркадий, – отвечал он. – Да не знаю, право, как быть. Мы, видишь ли, поссорились… А баба она мировая! Господи, золотая прям баба, но таким, уж известно, в жизни не везет.
– С тобой? Не везет?
– И со мной, со мной тоже… Замуж она хочет, – сказал со вздохом. – А куда мне, брат Аркадий, жениться, я гол как сокол. И у меня еще сын у матери воспитывается…
У моей мамы, – уточнил он. – У него – костный туберкулез… А та мама… Которая его мама… Она меня бросила, я еще и года не отсидел, выскочила за кого-то, и ребенка она тоже бросила! Так ты спрашиваешь, зачем мне это? – И приподнял руку, но я понял, что он говорил вообще про свою жизнь. – А для меня, брат Аркадий, это выход… Понимаешь? Туда – выход… – И резко ткнул пальцем вверх. – Я с пеленок летаю… Долго добивался, чтобы попасть в летное училище… И теперь карабкаюсь… Ну, срыв, ну, еще срыв. А ведь мы намечали один прыжок, такой прыжок… Да нет, не скажу, но если бы он удался, я прорвался бы… И вдруг рука, и этот… фанат еще…
– Ну что ты пристал к человеку! – воскликнул я.
– Да потому что ко мне пристали! Вчера в парткоме заседали. Знаешь? Нет? И меня тягали… Они, не я. Они вообще на нем заклинились. Все решали, что с ним сделать.
– А что с ним можно? Сделать?
– Что? Да вот какой-то обормот глушилку предложил поставить… Ну, как на «Голос Америки»… Это глупость, конечно. Но что-то там решили… Постановили пойти в подразделения, разъяснить, чтоб не слушали…
– Слушать будут, – вставил я.
– Конечно, будут, – согласился Горяев. – Даже больше, чем раньше. И ловить будут, а для острастки сюда водить! – Он показал кивком на здание поселковой милиции, возле которой мы в это время оказались. И кажется, неслучайно, Горяеву надо было забежать в милицию по каким-то своим делам. – Подожди-ка, – торопливо попросил он, сунул мне в руки велосипед и скрылся в дверях, а я остался стоять у грязного подъезда. Наверное, у всех милиций подъезды одинаково грязные. Входили-выходили суровые милиционеры, некоторые почему-то поглядывали на меня, а Горяева все не было. Его так долго не было, что я успел весь наш разговор заново прокрутить про себя, особенно про ту «машину», которая выстреливает человека в небо. Конечно, понимал разницу между Горяевым и собой, знал, что эта «лесенка» вверх не для меня. Но я примерил ее на себя, как примеряют из интереса чужую, не по размеру одежду. Ну вот, например, мог бы я сидеть в том кресле, зная, что меня «выстрелят» и я могу стать инвалидом? Да, мог бы, наверное, не трус и смотрел на такие вещи как на веление судьбы. Но только – зачем? Прожив в одиночку свою немалую – до семнадцати лет – жизнь, я осознал крепко одно: карабкаться надо и себя отстаивать надо, но там лишь, где есть уверенность, что это твое. Даже – ради денег, которые были ой как нужны, у меня не было ботинок, не было белья…
Плохонькие штанцы заржавленного цвета, купленные по случаю на барахолке, да рубаха по имени «мастерка», под которой ничего. Какой уж там велосипед! А когда на летном поле я видел испытателей, подъезжавших к самолету на красавцах «Фордах», вывезенных в войну из Америки, у меня даже зависти не возникало. Разве можно завидовать богам, что они живут на небесах!
– Как ты думаешь, сколько они получают? – спросил однажды техник Тахтагулов, мы устанавливали самописцы и узрели из лючка в хвосте самолета летчика, лихо подрулившего на своей машине.
– Тысячу? – спросил я, потому что все мои представления о деньгах заканчивались на тысяче. Сам же я зарабатывал двести двадцать, а Тахтагулов – шестьсот рублей.
– Бери больше! – хохотнул он и с восторгом сообщил: – Шестнадцать тысяч! – пощелкал языком в знак особого восхищения.
Когда Горяев возник наконец в дверях милиции, вид у него был едва ль не виноватый – заставил меня битый час мерзнуть на холоде. Он вдруг предложил:
– Слушай, извини, не по своей воле задержался, но, может, теперь к Верочке? – И торопливо добавил, что знает точно, она не на дежурстве и примет нас как надо, у нее и выпить найдется, и закусить, само собой.
Я отказался. Не почему-то, специально, а просто у меня такой день был, который состоял из сплошных «нет».
Горяеву я тоже сказал: нет. Нет, к Верочке не хочу.
Он секунду раздумывал, реакция у него была и впрямь как у летчика или на сцене.
– Дело ясное, что дело темное! – громко произнес он и предложил отвезти меня на станцию на багажнике, не зазря же я дожидался его.
Разбрызгивая мартовские лужи с крошевом зеленого ледка и сторонясь встречных машин, без приключений добрались мы до платформы. Электрички не было. Зашли в станционный буфетик, просторный, деревянный и почти пустой; инвалидик с костылем, добирающий в углу свою «наркомовскую» норму, да старуха уборщица в грязном халате поверх ватника, с грохотом собирающая со столов пивные кружки. Горяев оставил меня ждать и тут же вернулся, прижимая одной рукой к груди два граненых стакана водки, а в другой руке неся пару пива в высоко поднятых кружках. Потом он притащил в тарелочке бутерброды с килькой и винегретом. Все это взгромоздил на круглый, в крапинку под мрамор высокий столик на одной ножке, окинул хозяйским оком, предложил:
– Ну, вздрогнем? У меня все-таки праздник!
– Праздник? – я почувствовал вдруг, что хочу есть. А килечка перед глазами поблескивала влажным бочком, и винегрет алел призывно, так что слюнка соленая набежала. Горяев между тем взял в руки стакан, заглянул туда, будто удостоверяясь – водка, и сразу стал пить. Я видел, как быстро двигался кадык на его тонкой шее. Так же нетерпеливо и жадно жил он, все спешил и спешил куда-то, боясь не поспеть: и сцена, и самолеты, и катапульта, и Верочка… Но он и впрямь, кажется, везде поспевал, а на аэродроме называли его «муравей».
Он уже закусывал килечкой с хлебом, поторапливая сквозь набитый рот:
– Да ты выпей! Выпей! Вот и праздник!
Меня уже не надо было уговаривать. Хватил из стакана ледяной водки, не почувствовав ни вкуса, ни запаха, а лишь один холодный комок, который, сомкнувшись с моим обмерзшим нутром, вдруг воспламенил его, горячо толкнулся в животе, в груди, в шее и в последнюю очередь снова во рту, вернув на этот раз крепкий дух сивухи. Только теперь я ощутил, как замерз, дожидаясь Горяева у милиции.
– Ты не удивился? – спросил в упор Горяев.
– Чему?
– Милиции?
– Нет, – и я положил на язык килечку, испытывая невероятное блаженство от пряного солоноватого вкуса. Опять мое сегодняшнее «нет». Но я и правда не удивился – прожив, как мне думалось, немалые годы, я твердо знал, что с милицией, так или сяк, всем нам и всегда приходится иметь дело: роды ли, или похороны, или прописка, или, не дай бог, кража какая…
– А я удивился! – произнес как-то странно Горяев. – Я ведь недавно у них был.
Вдруг опять вызывают.
– Был? – недоумевал я. – Зачем? – Но, конечно, и сам понимал: мой вопрос прозвучал глупо. Но Горяев вовсе не склонен был скрывать что-то.
– Я же «бывший», отмечался! А сегодня вызвали и говорят… – Он смотрел словно бы сквозь меня, в синюю даль, и глаза торжествующе блестели, как у царевича Димитрия перед походом на Москву. – Говорят… Ну вот, Юрий Петрович, это меня-то да по имени-отчеству! Впервые, между прочим, а то все «гражданин Горяев». Вот, значит, Юрий Петрович, срок твой истек, можешь к нам больше не приходить, не отмечаться, значит. А если что, мы тебя и сами найдем.
– Если – зачем? Если понадобишься? – спросил я, ставя вот так необычно слова. Но по-другому у меня не выходило. Сама тема для языка была какой-то неудобной, вязкой и не выговаривалась. Горяев замешкался, легкая тень набежала на лицо. Он вскинул голову, посмотрел на мутные окошки, за которыми ничего не было видно, лишь холодный белый свет да грохот проходящего рядом поезда, сотрясающий деревянный пол.
– Мало ли бывает? – отмахнулся не от меня, а от какой-то неприятной догадки. – Не будем, ладно? Ведь праздник же! – Он вздохнул и снова вздохнул, как бы привыкая к новой роли, которой название: свобода.
– Так за свободу? – сказал тогда я.
Он просиял. И снова, подхватясь, побежал к буфету, принес два наполненных граненых стакана и уже без слов, но с чувством чокнулся, и стало вдруг понятно, что означает его новое, непривычное состояние. Грязненький буфетик на холодной платформе, и килечка, украшенная винегретом, облезлые в голубой краске стены, сотрясающиеся от гудящих мимо поездов, и даже я, случайно оказавшийся свидетелем праздника, – все это и было сейчас для него свободой, краше которой, оказывается, ничего быть не может. Особенно после второго стакана оттаяла душа, стало легко и нежно, появилось желание всех пожалеть и всех полюбить, да я уже и так любил, и, конечно, любил Горяева, который между тем что-то давно рассказывал мне о себе, о милиции, о прописке, о работе, на какую его не брали, но потом взяли, а еще о рождении, которого никогда не праздновал, но теперь-то, как человек свободный, непременно справит и, конечно же, пригласит весь наш кружок вместе с Марией Федоровной.
– Надо же отметить? Надо же, правда? – в упор, приближая свое лицо ко мне, как-то настойчиво произнес он.
– Надо! Юрка! – Я осмелел и впервые назвал его по имени. – Тебе сколько сейчас?
– Мне-то? – Он усмехнулся и потупил глаза, может, хотел спросить: «А сколько не жалко?» Но спохватился, он же не баба, чтобы кокетничать возрастом, и четко ответил: – Двадцать семь! – При этом посмотрел мне в глаза. Может, думал, что я скажу: «Ну, ты еще молоток! – И далее: – Терпи, молоток, кувалдой будешь!» Все, что говорят в таких случаях. Но, сознаюсь, я был глуп своей молодостью, десять лет разницы казались мне тогда не менее века, и потому я подумал, точно это помню, что так подумал: «Господи, как же он стар, а ему еще жениться надо!»
Но Горяев был разгорячен и не заметил моей смуты. И слава богу, он бы огорчился.
А он строил планы, как мы соберем всех наших в клубе, в столовке, или нет, в столовке много пропитых рож… Лучше на природе, за поселком, скажем, взять на субботу, на воскресенье автобус и выехать в деревню с концертом! Как?
Я впервые, кажется, не сказал «нет», а только кивал и соглашался, ощутив наконец единство с этим миром, со всеми, кто меня в нем окружал, и с Горяевым тоже.
Самое неожиданное – я почувствовал согласие на исходе дня и с самим собой.
Как мало, оказывается, человеку нужно для этого.
К вечеру заметно подморозило. Я возвращался домой от станции на дальнюю, окраинную мою улочку, и под ногами приятно хрупал мелкий ледок. У заснеженной калитки никто из моих зверушек меня не встречал, и ничьих следов на огороде не было. В доме царил холод, все, даже дверь, даже порог заледенели, и я немало повозился, пока разжег керогаз, чтобы поставить чай, на печку ни сил, ни желания растопить ее у меня не было. Сейчас приму кружку горячего кипятка, пригрею своим телом охолодавший до пружин диван, сверху навалю старой одежды да еще матрац накину и до утра, до работы.
Кто-то осторожно стукнул в окошко. Я посмотрел, но никого не увидел, вышел на крыльцо. Посреди двора стояла моя соседка, ну, то есть не совсем соседка, соседка была в больнице, а пока ее дом стерегла какая-то дальняя родственница, без возраста и без пола, странное существо, укутанное почему-то в мужскую одежду.
Я уже был наслышан, что на улице ее называют чокнутой. Сам я так не считал.
Правда, слова произносила она торопливо, невнятно. Так же невнятно сейчас сказала, что собачка моя, значит, пропадает, пришибленная она, и показала на поленницу, сложенную у забора.
– Кто, Дамка? Пришибленная? – Я спустился с крыльца навстречу соседке. Она тоже сделала шаг мне навстречу и стала пояснять, что собачку-то мою пришибли и она теперь прячется в дровах… Второй день там и прячется, выходить не хочет, уж как ее звала и косточку, даже краешек колбаски предлагала!
– А кошку мою вы не встречали? – спросил я.
– Да кошечка-то у меня, у меня! – торопливо объяснила она. – Да вы не беспокойтесь за кошечку-то, вы собачку спасайте… Собачку-то обидели, очень жалко!
Я вернулся домой, накинул телогрейку, прихватил спички и побрел к дровам, что были уложены в несколько рядов вдоль забора. Заглядывая в просветы и приседая, я наконец обнаружил Дамку в самом конце узкой щели: сжавшись в белый комочек, она пряталась тут, как в норе, лишь блестящие антрациты-глазки сторожили мои движения.
– Да-моч-ка, – позвал я. – Дам-ка! Ну поди ко мне, не бойся! Ну, что с тобой, девочка? Тебя кто-то обидел?
Она взвизгнула и облизнулась, оставаясь при этом на месте.
– Иди, иди ко мне, – просил я, приникая лицом к поленьям, ощутил крутой запах псины. – Я же тебе помочь хочу…
Она будто встрепенулась, даже чуть-чуть, самую малость подвинулась и снова негромко взвизгнула и уже больше на мои слова не откликалась. Даже морду отвернула, чтобы меня не видеть. А коленки мои, я почувствовал, почти заледенели.
Поднялся, отряхивая со штанов снежок, и вновь обнаружил у забора соседку, теперь со стороны ее огорода. Она сочувственно смотрела на мои попытки извлечь Дамку из ее норы.
– Не пойдет. Я уж как пробовала. Вам дрова разбирать надо.
Не отвечая, я принялся разбрасывать дрова, сухие, заготовленные мной с осени, они со звоном падали на мерзлую землю. Через час или больше, запыхавшись, добрался наконец до Дамки. Протянул руку, чтобы погладить Дамку – белый комочек среди разбросанных дров, а она, вдруг взвизгнув, залаяла так, что я испугался, отдернул руку. Господи, да чего же она так кричит, ее же не трогают!
Присмотрелся и увидел: прямо за правым ухом, ближе к шее, чернела дырища в три пальца толщиной! Белая шерсть свалялась, перемазанная кровью, кончики лап и острые уши подрагивали от боли. Осторожненько, как мог, несмотря на ее вскрики, подсунул под горячий живот ладонь, приподнял и понес, ощущая через кожу, как она крупно дрожит всем телом.
Дома положил ее на подстилку, достал йод, достал марганцовку и стал обмывать края ранки, да какая, к черту, ранка, с первого взгляда видно – пулевое ранение.
Да и стреляли, видать, в упор. Где она без меня шлялась да кто стрелял, теперь без разницы, надо спасать глупую. А в общем-то, сам виноват, сказал я себе, не поехал бы в Задольск, может, ничего бы не произошло. Так я себя корил, так съедал, занимаясь Дамкой. И тут снова, будто синичка клювом, мелко стукнули ноготком в стекло, и голос соседки спросил, не надо ли чего, бинта или йода, она готова немедля помочь.
– Зайдите! – крикнул я в стекло.
Соседка вошла, но не далее дверей, и, глядя на мои старания, со вздохом проговорила:
– Бедная животина, какой-то изверг в нее стрельнул, она ведь не обижала никого.
А умница такая, если вас нет, часами будет ждать у калитки, а потом увидит меня, обернется и пожалуется, прямо по-женски, отчего, мол, не идет… Одни мы, мол, забросили нас…
В словах соседки был скрытый упрек, и я сказал, неуверенно оправдываясь:
– Работа у меня.
– Работа у всех, – укорила кротко соседка. – А они тоже живые, божья тварь, им, как и всем, тепло да ласка требуются. Иначе они жить не смогут.
Посмотрела на рану застывшими глазами, посоветовала, отворачиваясь:
– Не лазьте туда… Замотайте тряпочкой, а завтра поезжайте к ветврачу. Я его знаю, он принимает на соседней остановке.
Пояснила, как найти ветврача и сколько это будет стоить.
– Деньги-то есть?
– Есть, – отвечал я.
– Ну и везите. Алкаш он, но добрый малый. – И повторила: – Я его знаю. Один раз в канаве подобрала… С кем не бывает. – И ушла.
Я не отказывался везти, хотя знал, что с утра надо спешить на работу. Да, но о чем речь, когда тут, под рукой, больное существо вопит о помощи. Шесть лет, кажись, пробыла у меня, и все у нас было на троих, даже картошка с капустой, на Дамку, на меня да на Катьку. А принес щенка к нам во двор сосед наш, портной дядя Вася. Ему в этот день опохмелиться не на что было. Давай рупь, сказал так, будто все заранее договорено. И вытянул из-за пазухи белый комочек шерсти. Держи.
Называется Пушок, хотя он почему-то дама…
– Значит, Дамка, – и, отдав рупь, унес щенка на ладони домой.
Дамка оказалась сообразительной собакой: ровно в шесть без всяких там часов будила меня тихим повизгиванием под окошком. Когда в магазин привозили хлеб, а магазин в конце нашей улицы, узнавала по нюху и предупреждала меня прежде, чем узнавали друг от друга соседи. За Катькой следила, хотя та жила, как все кошки, сама по себе. Сторожила дом и дрова, единственное ценное имущество, которое у нас с ней было. Однажды в сумерках, отпирая дверь, я обронил в снег ключ и не мог найти. Перекопал весь сугроб у крыльца и, отчаявшись, сказал ей: «Нет ключа, Дамка, видно, домой мне сегодня не попасть!» Она лишь вильнула хвостом и пошла обнюхивать кругом снег, уже и без того мной рытый-перерытый, и показала, раскидывая ямку лапками: тут ищи… И – я нашел…
Так я вспоминал, заваливаясь спать на диван, а Дамку положил на пол, на старый ватник, и она ни разу за ночь не подала голоса. Но я видел даже в темноте, как глазки ее поблескивают, она ждала утра, как и я, а еще она ждала от меня помощи.
Как я мог не помочь, если она поверила мне?
Утром, чуть свет, завернул ее в тот же ватник и, прижимая к груди, ощущая ее горячее тепло, поехал к ветврачу. Лечебницу по описанию соседки нашел сразу, и никакой очереди не было. Правда, не было и самого врача. Я прождал его около часа, стоя с Дамкой на руках у запертых дверей, пока он не появился, молодой, бородатый, с мутными оплывшими глазами, не видящими не только нас, но и весь белый свет. Он попросил меня подождать, буркнув «я щас», и стал умываться, было слышно, как отфыркивается за дверью. Потом он пустил нас, но прежде, кажется, принял чего-то для облегчения, и с морозца в теплой белой комнатке явственно ощутился острый запах спирта.
– Ну? – спросил приободрясь. – Кто тут у нас?
Я развернул ватник.
– Так, – сказал он, наклоняясь, и тут же отпрянул, такой сшибающий запах обдал его. Да и меня подташнивало, хотя вроде привык. И тут же он изрек, отходя к шкафу и принимая из мензурочки свое: – Это, браток, не лечится. Желаешь, могу усыпить. Сразу и без мук. – Поморщился, закусить ему, бедолаге, было, видно, нечем.
– Попробуйте, – попросил я, – спасите. Заплачу, вы не думайте…
Он посмотрел жалобно, но уже не на собачку, а на меня, и уставился в окно. В глазах у него ничего не отразилось, кроме холодной муки. Я вдруг подумал, что он и сам-то плох, и формула «Доктор, сперва излечи себя», вычитанная где-то, очень даже ему подходит!
– Что же нам делать? – спросил я в пустоту.
Он вздрогнул и виновато заглянул в мордочку собаке, мне показалось, что они понимающе поглядели друг на друга.
– Ишь, – произнес, вздыхая, – умничка, видать… Глазки-то плачут. Понимает, все понимает, зверюга, а что я могу?
Я завернул собаку в ватник, оставил на столе деньги, мятый трояк, и пошел прочь.
– Будь осторожней! – крикнул он вслед. – Взбеситься может, у нее мозг задет!
Я не поверил, не захотел поверить ему, поехал в Москву. В «справочном» на вокзале взял адрес ветлечебницы и разыскал ее на Цветном бульваре, неподалеку от круглого здания цирка, где я однажды побывал. Вход был со дворика, и прямо на улице и в прихожей толпился народ, тут уж я увидел – не один такой, что страдаю из-за Дамки. Стояли люди с кошками и собачками, даже с белыми мышами. Но те, правда, вели себя спокойно.
Дамка же стала дергаться прямо в руках и тихо поскуливала, не в силах терпеть боль. На нас оглядывались, но с сочувствием, а я все пытался ее утешить, приговаривал: «Подожди! Ну подожди, тебе здесь помогут», – и она замолкала.
Только поднимала заплаканную морду и смотрела мне прямо в глаза, умоляя ее спасти. А еще говорят, собаки не выдерживают человеческого взгляда, еще как выдерживают! Это я не выдерживал собачьего взгляда, и когда через час-полтора подошла моя очередь, долго топтался у порога, предчувствуя, что мне и здесь откажут. Так и вышло. Со мной долго не разговаривали, предложили сразу и немедля сдать безнадежную собаку в соседнюю комнату и не мучить.
– А если не сдам? – спросил я.
– Смотрите, – предупредили сурово. – Как бы вас самих после лечить не пришлось, она же на грани бешенства! Пожалели бы себя. Если ее не жалко!
– Ее-то жалко! – огрызнулся я и, завернув собаку в ватник, пошел пешком до вокзала, обнаружив, что нет даже медяка на метро.
Домой вернулись поздно: я еще раз заехал к бородачу, но его уже на работе не оказалось. Хотелось услышать хоть одно человеческое слово, прежде чем ее усыпят.
Он-то хоть ее жалел, он и усыпит по-человечески. Так я подумал, и мы провели с Дамкой еще одну ночь, теперь и вовсе беспокойную. Она покрикивала от боли, а временами свиристела тоненько, как свисточек, и все металась по комнате, не слыша уже моих слов. Нам с ней было одинаково плохо. Ранним утром, которое едва различал, настолько устал от чужой боли, я снова потащил ее на электричку и стукнулся к бородачу. Слава богу, он на этот раз пришел вовремя и был трезв. Он и не удивился, завидев меня. На сверток не глядел.
– Я знал, что приедешь, – буркнул вместо приветствия. – У нее, между прочим, гангрена. Зря измучил животину. – С тем подхватил и унес ее вместе с ватником.
Денег на этот раз не взял. А я не стал ждать его возвращения, чтобы не увидеть, какие у него после всего этого глаза. Опрометью бросился на станцию, времени хватило лишь добраться без опоздания на работу. Вчерашний день был как бы не в счет, я о нем даже не вспоминал. Но это я не вспоминал, а на работе, видать, очень даже вспоминали. И от дверей лаборатории, как зашел, меня сразу завернули наверх, к начальству.
– Иди! Иди! – произнес Носов, в голосе его я услышал скрытую угрозу. – Тебя давно ждут. – Но тут же он нагнал меня в коридоре и другим, почти нормальным тоном прошептал, что «эти», наверху, на точке закипания и мне надо наплести чего-нибудь насчет болезни, иначе всыпят строгача, если не отдадут под суд!
– Ну и пусть, – буркнул я.
– Ты не горячись, не горячись, – твердил Носов, почему-то оглядываясь. – Соври, придумай что-нибудь, зачем подставляться!
Эти слова у меня еще звучали в ушах, когда я всходил по лестнице, как на Голгофу, на опасный второй этаж.
Меня и правда ждали. В кабинете у Комарова уже находилась спешно призванная для разговора табельщица Зина, нервное и усушенное на корню существо, прозванное нами за глаза Воблой. Но самой отличительной чертой табельщицы была ее врожденная трусость, она всего и всегда боялась: боялась простуды и жары, боялась начальства и работников, боялась своей собственной работы. И тут, в кабинете, присев на кончике стула, она сжалась вся, опасливо рассматривая свои собственные туфли, меня она как бы не заметила. Здесь же пребывала Люся из секретного первого отдела. Сперва я подумал, что она случайно: засиделась по делам, листала какой-то журнальчик и никак не вмешивалась в наш разговор. Но судя по тому, что журнальчик надолго замирал в ее белой ручке, она не просто сидела, она слушала.
Первый вопрос Комарова был такой: что случилось, я прогулял целый рабочий день и никого об этом не предупредил?
– Ты не заболел? – поинтересовался мрачно Комаров, глядя мимо меня в пространство. Он явно старался мне помочь, подбрасывая нужный ответ, единственный, может быть, спасительный.
Но я не мог соврать, как учил меня Носов, и пробормотал, что, в общем-то, здоров.
– В чем же тогда дело? Может, дома что… Ты с кем живешь-то?
Я посмотрел на Люсу, журнальчик давненько замер на какой-то странице. Вобла рассматривала свои туфли и громко сопела. Комаров изучал стенку за моей спиной.
– С кошкой я живу, – сказал я.
– Но… Не с кошкой же, прости, несчастье? – настаивал Комаров.
– Нет. С Дамкой.
– С кем? С кем? – спросила, ухмыльнувшись, Вобла Зина. Но тут же испугалась своей улыбочки и строго поджала губы.
Но Комаров почему-то обрадовался моему откровению.
– Ах, с дамой! – и взглянул на реакцию Люси и Зины. – В твоем возрасте, понимаю!
Дама – это дама! – произнес он напыщенно, с глуповато-фальшивой улыбкой. – Надо, Зиночка, понять и простить, я так думаю. Мы оформим задним числом, ведь правда же… У него и отгулы… Да он и не прогульщик у нас, это же первый случай! Из-за дамы!
– Прям не знаю, – протянула Зина, сверля меня глазами. – Дама, вишь? Что за дама?
Если каждый из-за дам начнет прогуливать…
– Не начнет! Зина! Что вы! Да никто и не узнает, мы ведь и писать не станем, просто разрешим отгул субботним числом, правда?
Комаров тут же приказал мне сесть за его стол и написать заявление об отгуле, а число поставить субботнее, ну и, конечно, подпись.
– Смотрите. Вам отвечать! – предупредила табельщица и ушла. Следом поспешил и Комаров, потребовались, наверное, какие-то еще усилия для уговоров пугливой Зины.
В кабинете остались Люся и я.
Я сидел, катал свое заявление, а она все листала журнальчик, время от времени поглядывая, как я пишу.
Вдруг сказала, обращаясь не ко мне, а к журналу:
– Конечно, такой прогул – уголовное дело. Но, думаю, на первый раз обойдется…
Тем более несчастье… Ты правду сказал?
Я кивнул, а про себя подумал, что Дамка, если бы я бросил ее умирать там, в дровах, меня не простила бы, да я и сам себя не простил. А значит, мое неожиданное вранье вовсе не вранье. Так, маленькая неправда, подхваченная сметливым начальником.
– С кем не случается… В молодости, – с видимым сочувствием продолжала Люся. – Да еще – дама… Кстати, я, кажется, тебя видела с какой-то дамой в электричке?
Это не она? – И когда я помотал головой, спросила: – А кто она, не секрет? Мне показалось, что я ее где-то видела. Она не в институте работает?
– Нет, – отвечал я, не поднимая головы. Это смахивало уже на допрос.
– А где же она работает?
– Она нигде не работает.
– Учится? Где она учится?
– Я точно не знаю.
Заметив, что заявление дописано, да оно давно было дописано, это я валял ваньку, тянул, чтобы выиграть время, сообразив, что вся эта процедура с заявлением затеяна неспроста, Люся ловко подхватила листок со стола, как бы показывая, что решение моего дела у нее, а не у Комарова в руках.
– Как же так? – спросила она. – Дружишь с девушкой и даже не поинтересовался, где учится?
– Я не дружу с этой девушкой, – подчеркнуто твердо произнес я и впервые посмотрел Люсе в глаза. Если она слышала наш разговор, а она, конечно, его слышала, то знает получше меня, какая у нас с ней дружба!
– Ну ладно, – сразу согласилась Люся. – Допустим, знакомая. Но такая, извини меня, неразборчивость в знакомствах… Случайные связи… Вы же небось не только о пустяках толковали?
Это уже была покупка из самых, что ли, дешевых! Я даже разозлился. Нахально уставясь ей в лицо, подтвердил:
– О пустяках. О чем еще?
А про себя добавил: «Ты, сучка, хоть знаешь, о чем мы толковали, но не скажешь, иначе тебе придется объяснять, что ты самым элементарным образом подслушивала!
Вот так!» И поднялся, показывая, что разговорчик наш продолжать не намерен.
Но Люся и сама поняла, что совершила оплошку, и тут же сменила тон.
– Пожалуйста, присядь, – попросила. – У меня только один вопрос… Я долго не задержу, правда.
Я нехотя опустился в комаровское кресло.
– Горячитесь по молодости, – упрекнула мягко Люся. – А вам, между прочим, добра желают. – Тут она оглянулась, потому что хлопнула дверь, в свой собственный кабинет просунулся Комаров и тотчас, завидя нас, замахал руками: «Сидите! Сидите!
Я не хотел мешать, я потом!» И исчез. А я вдруг понял, что все не случайно: и присутствие Люси, и поведение Комарова, и этот разговор наедине. – Можно сказать, ты на наших глазах, у нас тут, в лаборатории, вырос. Кто же тебе поможет, если не мы.
– Чем помогут?
– Всем, – сразу сказала Люся. – И этим – тоже! – пополоскав в воздухе моим заявлением. – И добрым советом! Тем более что у нас все непросто, еще эта провокация с радистом! – Она почему-то снова оглянулась на дверь, хотя никто в нее уже не лез. – Ты честный парень, мы знаем, и не можешь относиться равнодушно к таким явлениям, которые вокруг нас происходят… Но в семье не без урода, и бывают люди двуличные, которые открыто, может, и не выступят, а за спиной будут злорадствовать, пересказывать всякую грязь и ложь… Понимаешь, о чем я говорю?
Я кивнул. Как не понять. Но черт меня дернул за язык:
– Про любовь… Это разве ложь?
У Люси даже лицо потемнело, так ее зацепил вопрос.
– Не просто ложь! – закричала она. – Это же ловушка для легковерных, для таких вот глупышей, как ты… Слюни распустите, а он читает по бумажке нужный текст, и даже, возможно, в нем скрытая шифровка той же организации под названием «Тамара», что ей делать, как шпионить! Да, да!
– Значит, и Тамары нет? – спросил я.
– Да нет же никакой Тамары! Это подпольная кличка, за ней кто угодно стоять может!
– А кто?
– Да кто угодно. Может, он даже рядом с тобой ходит, улыбается, ты ему веришь! А он-то и есть «Тамара»!
– А зачем же он тогда про любовь говорит? – упрямился я.
– Да чтобы ты слушал! Про любовь-то все хотят слушать, да еще так сладко поет…
Неужели ты не чувствуешь, что слушать-то ЭТОГО противно? Хотя вроде о любви! А на самом деле совсем о другом. Не знаешь, что так бывает?
– Не знаю, – сознался я. Но врал, потому что верил – можно зашифровать и подделать что угодно, только не чувство, особенно такое, как любовь.
Но я кивал, не поднимая головы. Знал, что Люся внимательно следит за моим лицом.
Я не хотел, чтобы она поняла, о чем могу думать.
– Вот у меня с Комаровым… Нет, у нас, – поправилась она, – будет к тебе просьба… – И сделала паузу. Повторила: – Просьба… Помочь… нам помочь…
Вдруг случайно увидишь, услышишь, словом, поймешь, что есть такие люди, которые нам мешают… Приди и расскажи. Об этом никто не узнает, зато мы примем меры.
Это будет лучше для всех. Ты поможешь избежать скандала, выявить негодяя, который пользуется нашим общим доверием. Нам надо быть всем вместе, – заключила Люся. – Мы должны друг другу помогать. И доверять. Вот ты сказал, что прогулял, но была веская причина, так мы тебе доверяем… Готовы помочь… Наша сила в помощи друг другу… Ты понял? – спросила в упор Люся.
Я опять кивнул. Понял: если стану стучать, мне простят прогул. И в этом, она правду сказала, их сила. Но сам виноват – подставился, теперь насядут. А если дать сейчас в рожу, пожалуй, и выгонят, может, и под суд отдадут. А кто меня защитит, кто поможет деньгами на хлеб…
– Ты все понял?
– Все понял.
Это единственное, что я мог сказать, пряча от Люси глаза.
– Я рада. – Она бодро улыбнулась мне теперь как своему. – Разговор, конечно, между нами, но ты подумай насчет той девицы, неплохо бы узнать, откуда она! Да нет, я зла ей не сделаю, просто на всякий случай…
– Я все понял, – как попка-попугай, повторил я. И меня отпустили.
Я нахожусь внутри «летающей крепости», будто в чреве кита, где стрингера – как ребра и куда при случае, как в сказке Ершова, без труда бы поместилась целая деревенька вместе с ее жителями. В гулком железном пространстве, изолированном от внешнего мира, я занимаюсь прозаическим делом: тарирую приборы под названием «термопары», ну понятно – измеряют они температурный режим работы моторов, когда самолет в воздухе, а кинокамера в это время фиксирует показания приборов.
Но пока машина на земле, она целиком принадлежит наземному персоналу: мотористам, радистам, механикам, прибористам, заправщикам и так далее, а я как раз тот самый приборист, сосланный сюда, на край аэродрома, все равно как в дальнюю сибирскую ссылку, подальше от лаборатории. Все потому, что старая, испуганная на всю жизнь Вобла, она же табельщица Зиночка, не простила мне «даму» – да старые девы такого никому не прощают! – и все-таки настучала о прогуле куда-то наверх. Комаров на всякий, как говорят, пожарный случай быстро приказал исчезнуть, не мозолить глаза начальству. «Уберите этого дамского угодника на недельку-другую, – приказал он, – авось за суетой и забудут! Кто там у нас на «американце» работает?
Тахтагулов? Вот и передайте его в помощь Тахтагулову, чтобы сидел в самолете и носа не высовывал, пока не позовут!»
С тем и отправили в ссылку на аэродром, в дальний его край.
«Американец» – одна из двух «летающих крепостей», которые в свое время, как объяснил Тахтагулов, наши боевые летчики захватили в войну с Японией на Дальнем Востоке и перегнали сюда. Посадили союзничков, по всей видимости, заблудившихся, на нашем дальневосточном аэродроме и расстреляли, не без того, весь его экипаж, а может, и не расстреляли, а заставили гнить на урановых рудниках, чтобы из их американских испорченных мозгов выветрилось не только капиталистическое прошлое, но даже их собственные имена. Теперь по образу и подобию «крепости» наклепали еще своих двенадцать таких машин! Копии, на первый взгляд (и на второй, и на третий), не отличишь! Но вот загвоздочка какая вышла – у наших машин и у ихних моторы не ровня: мы на своих через сто часов работы меняем, а ихний – летает. Мы опять меняем, а ихний опять все летает. Стыдно сказать, без смены. В чем дело – без поллитры не разберешь. Отчего они гады такие и что в них особого, секретно американского, что не хотят они скверно работать? Вот и летаем, и смотрим, и сравниваем, и разводим руками! А летает для контроля мой нынешний начальник Тахтагулов, самолет поднимает в воздух командир корабля знаменитый Кошкин, а вокруг все конструкторы, генералы, представители фирм и заводов. Я же вместе с остальной обслугой провожаю и встречаю машину на земле и, стоя под леденящим мартовским ветром, вижу, как со стремянки сходит Тахтагулов в меховой куртке, в шлемофоне и унтах, ему полагается спецодежда, и показывает издалека большой палец. Это означает, что полет прошел как надо и приборчики, проверенные мной, фурыкали (наше лабораторное словцо!), да и сама машинка, которая «крепость» Б-29, тоже фурыкала; механики, обслуживающие наших «парадников», завидуют нам черной завистью.
В преддверии парада они малюют на своих «тушках» (от слова «туша» или от слова «ТУ», не поймешь) цифры, добавляя к старым номерам от единицы до двенадцати впереди еще тысячу, так что первый становится тысяча первым, а двенадцатый – тысяча двенадцатым.
Я спросил однажды Тахтагулова, к чему такая цифирь, если все на аэродроме знают, сколько у нас таких машин.
– Чтобы другие не знали, – ответил он на ходу.
– Кто – другие?
– Ну, дипломаты там… Они же в бинокли смотрят!
– Но там на параде и наши будут смотреть?
– Ну, нашим и так понятно.
– А не нашим… Непонятно?
– Им тоже понятно. – Тахтагулов кивнул издалека мотористу, стоящему на стремянке и выводящему на борту последний из нулей. И добавил: – Но мы думаем, что им непонятно… Понятно? – И в шутку окунул палец в черную краску – нитролак, мазнул меня по носу. Это значит, чтобы я не совал свой нос куда не надо, а сидел бы в «американце» и не высовывался. Сам же он передает мне кассетку для проявки и последующей расшифровки в лаборатории и спешит в бытовку, чтобы принять свою норму спирта после удачного полета. Это как бы полагается.
Есть у моего «американца» еще одна особенность, которая хранится в строжайшей тайне, правда, ее знают тут все: это его необыкновенная вооруженность. Знатоки утверждают, что у него практически нет «мертвой зоны», то есть места, откуда бы мог подойти неприятель и безнаказанно обстрелять во время воздушного боя.
Пушечки, а их много, расставлены так, что достанут любого противника, хотя управление ведется всего одним стрелком из одного места. Но вот незадача: тот самый пультик, которым пушечки-то управляются, был уничтожен экипажем до того, как их пленили и тоже уничтожили. А без пультика и пушки не те, и сама «крепость».
Какая же она, к черту, «крепость», если стрелять не может!
Никто не видел в глаза этого пультика, судя по всему, мелочишка при такой махине, и сверху было решили: да хрен с ним, авось и так пальнем. Но не пальнули.
Система у этих янки построена так, что на глупость двойной глупостью отвечает: то заклинит стволы так, что не сдвинешь, а то пустит их вращать, как карусель.
Начальство в телефон дует: ну, что у вас там, неужто без этого глупого пультика запустить нельзя? Нельзя. Ну так придумайте! Но думать-то не наше дело. Пушечки не стреляют? А вы, знаете ли, посадите на каждую по стрелку! Это сколько же их надо? А сколько надо, столько и посадите, что у нас, стрелков не хватает? Так-то так, но загрузка самолета, расчетный бомбовый вес и прочее, и прочее… Да что вы, в самом деле! Вес, вес, у нас сколько надо, столько веса и поднимет… Эк, махина, сюда дивизию стрелков, и еще место останется! В общем, действуйте, а эту хреновину… Ну, как ее… пультик ваш, мы прикажем, и сделают. Нет таких «крепостей», которых бы не брали большевики… Вот именно.
Поговорили, называется. А пультик, хоть он и правда при «крепости» что пуговица на пальто, но выяснилось, что в нем одном этакий электронный калькулятор, который все и рассчитывает: дальность до самолета противника, угол атаки, скорость и прочие параметры, элемент той самой вредной науки кибернетики, которая не существует. Как ее по приказу создать, если она не существует? Словом, раздвоение мозгов – это там наверху. А внизу попроще – вызывают Комарова и говорят: «Чем у вас там Ванюшин занимается? Телеметрией? Ну, пусть отставит ее и свяжется с вооруженцами, им срочно помочь надо. Пультик, значит, этот…» А Комаров не дурак, зачем ему лишняя головная боль, ему и без того хватает. Он руками и ногами от этого пультика: что-де и времени нет, и средств, и людей опять же… Но оттуда, сверху, долдонят: найдите, изыщите, организуйте. И кладут трубку.
Жалко Комарову Ванюшина, жалко работу, которую надо ломать, но приказ есть приказ. Он зовет наверх Ванюшина, заводит долгий душещипательный разговор о том, как трудно нынче дела делать, когда сверху мешают. А в конце разговора, как незначительное, что вот поступила просьба… Просьбишка, там и делов всего ничего, главное – вникнуть… В пультик этот…
Ванюшин кивает, ухмыляясь. Такая нехорошая, такая противная у него ухмылочка, что смотреть тошно. Но Комаров вздыхает: «Возьмешь?» Слышит ответ: «Конечно, не возьму». – «Почему?» – «Да потому… у них там небось в Неваде целая лаборатория годы сидела, а у нас кто будет?» – «Возьми Носова, Тахтагулова…» – «Возьми их сам, это же не калькулятор для бухгалтера, это система взглядов, тут целую лабораторию из специалистов создавать надо…» – «Надо, – кивает уныло Комаров и руку на прощание подает. – Значит, договорились?»
О чем они договорились? Да ни о чем не договорились и не договорятся. И оба это понимают. А вся надежда у Комарова на своего дружка да на его увлеченность: посмотрит, вникнет, заведется и – догадается! Это рабочему инженеру годы надо, а гению лишь одно-единственное просветление! Яблоко упало с ветки, ты вдруг осознаешь – ба! Да это же и есть всемирное тяготение!
Нет, он, Комаров, не кретин, чтобы так думать. Но выхода все равно нет, пусть Ванюшин помается, он такие загадочки обожает… Что-нибудь да придумает. А не придумает, и спроса нет. Они наверняка по разным «ящикам» заявку разбросали. Где-нибудь да кто-нибудь под дурачка и сработает.
И вот теперь, когда машина на приколе, а так простоять она может и несколько дней, и неделю, Тахтагулов появляется, как солнышко в ненастный день, заскочит, потычет пальцем в приборы: «Этот и этот проверь, они чего-то зашкаливают!» – и исчезнет до вечера в одной из бытовок допивать неразведенный спирт да толковать на досуге с механиками и мотористами о превратностях аэродромной жизни. А вот спирт – особая статья, потому что среди многих и многих достоинств «американца» есть и недостаток: во всякие приборы вместо непотребной гидравлики, как у нас, сущей отравы, кто знает и кто пробовал, хотя и ее пьют, да что у нас не пьют!.. – так вот, во все их американские приборы по их американской глупой недалекости залит чистый спирт, и нет ему до поры никакой замены! Но так только думают разные там научные деятели. Наши же спецы хоть не столь образованны, но зато блестящие практики, и спирт они давно научились заменять раствором под названием «аква», то есть простой водой. А если при этом что-то перестает работать, сваливают тут же на вражескую технику, которая потому и вражеская, что не хочет работать в наших советских условиях, ей, видите ли, чистый спирт подай, которого никогда нет и не будет. А если будет, то опять же не будет: лучше умрут, но заливать спирт в такой прибор не станут. На том стоят. Даже, представляете себе, летают.
Блаженное время, когда машине дают отдохнуть, мотористы пропивают иноземный спирт, потом и свой тоже, а я предоставлен сам себе и нахожу тихую радость от своего одиночества. В гигантских хитросплетениях стрингеров и ланжеронов можно проводить дни, а если бы разрешали, и ночи, не выходя наружу, и чувствовать себя человеком. Более человеком, чем где-либо еще. Тем более в лаборатории.
Я давно заметил, что полное ощущение бытия и красоты окружающего нас мира не имеет такой уж прямой зависимости от количества металла и камня, на которые недавно пенял клубный художник Толя, жизнь приспосабливается ко всему, и здесь, в эпицентре научной мысли и сосредоточении новейших реактивных самолетов, электроники, телеметрии, локаторов, катапульт и барокамер, мы испытывали всю полноту жизни и радость мироздания. Более того, чем сложней и современнее техника, тем ярче, неосознаннее, загадочней и острее предстает перед нами остальной мир, техника не заслоняет его, а обнаруживает при всей своей сложности свою слабость в сравнении с вечными законами жизни. И неслучайно летчики, боевые наши небожители, черпающие жизнь полной пригоршней, оказывались при близком рассмотрении глубоко суеверными и чуткими к природе, далекими от цинизма и неверия людьми, в том числе и мой друг Горяев.
Что же касается уединения, то в идеале каждый из нас, работников аэродрома, втайне мечтал попасть на бомбометательную площадку, огромный, принадлежащий нашему институту полигон в глуши под Рязанью, отгороженный от мира, а потому наиболее сохранившийся в своей заповедной неприкосновенности; никакие болванки, имитирующие бомбы, падающие сюда время от времени, не могли его повредить, даже потревожить, нарушить его цельность, как и помешать сбору ягод, или грибов, или цветов, не тронутых ни в какие времена не только человеческой рукой, но даже сторонним глазом. Правда, и не так далеко, а возле локаторов, на краю аэродрома, в прозрачно-золотом сосняке в летнюю пору некоторым из нас удавалось насобирать горсть-другую душно пахнущей земляники или десяток маслят!
Мой приятель, например, уверял, что однажды он исхитрился набрать шампиньонов под голубыми елками на Красной площади, вблизи Мавзолея и Кремлевской стены.
Может, он и загибал, никто бы его в те елочки не пустил, там под каждой из них то ли милиционер, то ли стукач или агент какой платный сидит и соглядатает из своего укрытия поведение простых советских рабочих у святого могильника Ильича или шпионит за иностранными туристами, беспечно разгуливающими в центре столицы мира. Но в своих мыслях я не отдалялся так далеко. Мой микромир – аэродром, муравьиная куча, с высоты полета мы напоминаем муравьишек, которые тащат какую-нибудь крылатость размером много больше их самих. Да, в общем, мы не так уж далеко ушли от своих малых братьев, которых цивилизация оттеснила с их тысячелетних мест обитания, а теперь сама и страдает, и мается, и погибает от нашествия всяких разных насекомых, жуков и мошек, которые одолели наши города, и не может понять, что они вернулись к себе, приспособившись к нам, проникли в наши жилища и захватывают то, что от сотворения всегда им по праву принадлежало.
Чем же был для нас аэродром, как не новой, грядущей цивилизацией, возникшей на костях наших предков, на их домах и огородах, и нетрудно вспомнить, что еще в недавние времена на месте взлетной полосы колосился хлеб и росла капуста с картошкой. А мы, несуразные потомки тех хлеборобов, освоились, и освоили, и приспособили для себя аэродром со всем, что ему принадлежит, мы и были муравьи в том общем историческом процессе, на фоне возводимых нами ангаров и сверкающей, гремящей своей мощью на всю вселенскую новой боевой техники. Мы проросли через самую крепкую нержавейку и дюралюминий, мы обогрели живым дыханием эту мертвую технику, обогатив ее тем, что живые, мы отдали ей часть нашей души и получили взамен прочные, надежные укрытия в ненастье и мороз… Мы научились гнать в своих бытовках дедовским примитивным способом зеленый самогончик, но, правда, не из домашней свеклы со своего огорода, а из гидравлики, добытой в тех же самолетах. И даже закусь была, потому что под боком странная установка испытывала остекленные части кабины при помощи особой пращи, которая швыряла с силой в стекло самых что ни на есть магазинных, а значит, дефицитных, потрошеных цыплят, они должны были имитировать столкновение птиц с самолетом в воздухе.
Правда, вид у них после таких ударов был уже не столь товарный, но в пищу (в нашу пищу!) они годились!
Здесь, при аэродроме, живут собаки и кошки… Вот сказал и вспомнил несчастную Дамку и одинокую Катьку в остылом доме! Может, зазря я не притащил их сюда?
Здесь можно насобирать цветов или устроить себе «загоральный» сезон, отдалившись за взлетную полосу, и здесь же наши мотористы в робах, пропахших маслами, с удовольствием трахают молоденьких лаборанточек, разложив прямо на зеленой травке или подстелив под задницу, чтобы не застудить, брезентовое покрытие от самолета!
Да и Горяев как-то поведал, что на взлете вдруг обнаружил в метре от шасси самолета, прямо на бетоне, слившуюся в экстазе парочку, напугаться, правда, он не успел, но машину чуть не угробил!
Радио во всех его видах было частью этой жизни, как и возникший из небытия радист «Тамара», пробивающийся с трудом в наши забетонированные, наглухо задраенные, как люки моей «крепости», мозги.
Но отчего я вдруг стал вспоминать, не ко времени будь сказано, пресловутую «Тамару», осознав лишь здесь, в укрытии, в отдалении от лаборатории и ее стукачей, что опосредованно, исподволь она проникла и стала влиять на всю мою жизнь через моих дружков, через любовь, а теперь и лабораторию, в которую отсюда, из чрева кита, никак не хотелось возвращаться!
Так однажды, посиживая перед приборчиками и бессмысленно глядя в пустоту, а все от горечи, что время моей «ссылки» истекает, почувствовал я толчок в спину и, оглянувшись, увидел остренькое смуглое личико Тахтагулова, который, судя по всему, был навеселе; он прокричал, наклоняясь к моему уху:
«Музыку хочешь послушать?» – и протянул шлемофон, теплую кожаную шапочку с вытертым изнутри мехом и вмонтированными наушниками. Следовало лишь подключить болтающийся шнур к бортовой радиосети.
Не помню, так ли уж мне хотелось музыки, но я натянул на голову шлемофон, подключился и вдруг услышал знакомый глуховатый голос «Тамары». Испуганно оглянулся на Тахтагулова, знает ли, какую «музыку» он подключил, но тот с невинной полупьяной ухмылкой вдруг смылся куда-то, а я остался слушать. Голос сегодня почти не хрипел. «Тамара, ты меня слышишь? – спросил он. – Я бы хотел назвать тебя иначе и ласковее, но я не мог придумать единственного для тебя слова. А знаешь, однажды мне попала какая-то старая открытка, не помню, но, кажется, десятого или одиннадцатого года, вечность по сути… А на ней рождественский сюжет и трогательная надпись, которая начиналась так: «Дорогая моя Шубенка!» И далее – поздравление молодого человека своей девушке. Кто писал, кому, теперь уж не узнать, да и неважно, наверное, они завершили худо-бедно свою жизнь и ушли, оставив одно-единственное слово, выразившее всю их любовь… Но какое! Я к нему прикоснулся, понимаешь, и у меня сердце затрепыхалось от радости:
Шубенка! Вообрази, если можешь: девочка, девушка, молоденькая, с ясными глазами, с русой косой, она в меховой шубеночке, обшитой по краю белым мехом и подбитой снизу нежным горностаем, проходит зимней, рождественской, праздничной улицей, и снег блестит, и такая в глазах глубокая синева, что ты невольно замираешь и смотришь вслед и говоришь ласково: «Дорогая ты моя Шубенка!» А время уже тут – ничто, – так сказал радист и прочел стихи Гёте: – «Нам суждено споткнуться в этой жизни, но в мире нашем, падком на безумства, две вещи есть, удерживающие нас, – то долга бремя и любовь, что пуще долга!» Так прощай, моя радость, – закончил он, – будет завтра, буду и я, мы с тобой встретимся, чтобы услышать друг друга. Так прощай же, прощай!»
Я еще немного выждал и снял шлемофон, потому что бортовой радист, принимавший эфир, врубил какую-то музыку. Но я не мог ошибиться, я был уверен: Тахтагулов знал, что он мне подсовывал, хотел, чтобы я услышал «Тамару». Но когда он явился, чтобы забрать свой шлемофон, с невинным видом спросил лишь: «Ну, как тебе вальсы Штрауса?» – я отвечал в тон: «Класс!» А он обрадованно закивал, прихохатывая: «Я же говорил, настоящая музыка!» И – ушел, оставив меня снова наедине с моими термопарами. Но мысли теперь были о самом Тахтагулове, который не побоялся открыться передо мной, хотя ему, как и мне, известно, что наша лаборатория, как коробочка, доверху напичкана стукачами. Откуда ему знать, что я не из них! Тем более что меня-то уже вербовали, и по замыслу нашей секретчицы Люси я как раз и должен, заслышав подсунутое пресловутое вражеское радио, бежать стремглав докладывать о подозрительном поведении старшего техника Тахтагулова! А значит, не одна наша лаборатория его слушает и не одна Муся из поселка и Алена из Задонска. Но и в самом сердце института, на аэродроме, где все принадлежит власти военных и эмведешников или купленных ими слухачей, даже тут способен усилиями самых разных людей звучать трижды проклятый ими голос, и в том, что он звучит, я нахожу почему-то некоторое облегчение. Пусть не я, пусть другой способен на такое, но ведь кто-то должен все равно прыгнуть с безумной высоты Эйфелевой башни, проверить, что он способен летать… А вдруг – полетит?
Мне казалось, что за две недели моей вынужденной ссылки на край аэродрома что-то в лаборатории могло и произойти. Но ничего ровно не произошло, кроме одного: она вдруг затихла, как бы уйдя в себя, ее совсем не стало слышно. Ни песенок, ни анекдотцев, ни даже телефонных звонков, а уж как прежде развлекались тем, что звонили по разным подразделениям и назначали неведомым девицам встречи где-нибудь подалее, куда, конечно, сами никогда не пойдем, и приметы себе придумывали хором во время таких переговоров, мол, буду (кто «будет», решали, если нужно, потом) в шляпе, в бабочке-галстуке и с третьим томом «Войны и мира» Толстого! И ржали, как жеребцы, положив трубку и представляя, как эти самые девицы попрут на дальнюю автобусную остановку и будут терпеливо ожидать! Но, впрочем, и девицы были не промах развлечься во время восьмичасового отсиживания на работе, и никуда они, возможно, и не бежали, но зато на следующий день под общий оттуда смешок звонили и сурово отчитывали, отчего, мол, никого не могли найти, и уже сами назначали для свидания местечко подальше нашего, и эта невинная телефонная игра разнообразила нашу жизнь.
Теперь выяснилось, что и телефоны отключили, и аппараты унесли, оставив один, для связи, и тот в кабинете у Комарова, куда, ясное дело, по каждому звонку не набегаешься! Получалось, что остались мы вовсе без связи, хоть создавай заново голубиную почту!
С моим столом тоже творилось непонятное – вдруг стали исчезать учебники, конспекты, даже роли для драмкружка. Да и на работе и то все больше молчком, за день успеем переброситься двумя-тремя фразами, и только. А чтобы не так угнетало молчание, кто-то додумался врубать на полную громкость «Маяк», есть такой на аэродроме, крутит музыку и служит приводом для своих самолетов.
В прежние времена хоть заглядывал, развлекая нас байками, громкоголосый инженер Трубников: как возникнет, из коридора уже слыхать! А теперь исчез, но не в том смысле исчез, что его не стало, а исчезли куда-то его голос, его высокая фигура, загромождавшая весь дверной проем, сейчас появится, заглянет торопливо, лишь по делам, и пропадет надолго. Зато вовсю активизировались игруны-практиканты: Сеня и Саня. Оставили бильярд и стали проявлять неожиданное рвение к нашим лабораторным делам, с чем и подкатились однажды к Ванюшину: а что он такое все пишет и пишет, способен ли собрать какой-нибудь этакий приемник, а лучше передатчик, который мог бы работать… Ну, как работать? Как вот работает, скажем, «Тамара»?! Может или нет?
Вопросик был и по тону, и по сути, конечно, бестактным, но не более нахальным, чем все остальное, что они делали. Да и Ванюшина прошибить таким манером было невозможно. Он даже не заметил, насколько все это глуповато выглядело, а очень серьезно озаботился горячей заинтересованностью молодежи, попросил их даже присесть и, задумавшись, правда, ненадолго, разглядывая юнцов, словно впервые их увидел, оживился от пришедшей на ум догадки – предложил практикантам самим для себя собрать такой передатчик, один на двоих, как он сказал. «Если вам интересно, – продолжил, уставясь на них линзами очков, настолько сильных, что за ними глаза казались вытаращенными, как у рака, без выражения, – я готов начертить, но собирать, разумеется, будете вы сами. Ну как?»
Практиканты не очень, но смутились и пустились в объяснения: этот вопрос их интересует, мол, как бы теоретически, а сами-то они практикуются по другому делу.
– Ну да, я так и понял, что вы, дружочки, у нас тут по другому делу, – очень даже уважительно говорил Ванюшин, но не отпускал от себя гостей и даже усадил их так, чтобы они до поры не могли из угла его выскользнуть. – Полагаю, что до создателя «Тамары» вам еще далековато, – произнес под занавес Ванюшин, не убавляя ни на гран ни вежливости, ни внимания к визитерам, – но вот начать с детекторного приемника, я думаю, можно, его, кажется, сейчас в пятом классе на уроке физики изучают… Ничего, – утешил, – бог даст, дорастете! – И на листочке набросал схемку, элементарную такую схемку, из контура, то есть катушки, переменного конденсатора и самого детектора, он же выпрямитель. – Если к первому и последнему витку контура теперь подсоединить антенну и заземление, а на выходе, после детектора, подключить наушники, можно при случае услыхать вашу любимую «Тамару»!
– Она – не любимая! – в голос запротестовали практиканты, почуяв скрытый подвох.
– Да я же про песню, – без улыбки, но очень доверчиво, даже наивно произнес Ванюшин и поправился: – Ах, там же не Тамара, да? Там эта, Татьяна… Ну, как это… Татьяна, помнишь дни золотые!
– Еще «Маша» есть, которая у самовара, – подсказал Носов.
– А «Выходила на берег Катюша»?
– А «Моя Кар-ме-ен»?! – пропел кто-то.
Практиканты оглянулись и, кажется, теперь только поняли, что их дурачат. Впрочем, заподозрить самого Ванюшина в этом было трудно.
– Видите, какой репертуар вас ждет, если потрудитесь над схемкой… Да можете прямо сейчас и начинать, – добавил вежливо он и ушел в туалет. Но практиканты только того и ждали. Они выскочили из-за стола и понеслись вон из комнаты, судя по всему, прямиком на второй этаж, в кабинет к Комарову. Минут через двадцать Ванюшина тоже призвали к начальству, и вернулся он очень нескоро. А о том, что там, наверху, произошло, мы могли лишь гадать. И лишь когда в моей жизни произошли перемены и мы встретились с Ванюшиным далеко за проходной, свободные, можно сказать, от всяких дел, он по одной причине, я – по другой, он поведал мне о тогдашнем разговоре с Комаровым, который сразу его предупредил, что пикировка с Люсей к добру не приведет, с ней говорить – здоровью вредить! Так вроде бы пошутил Комаров, а потом спросил напрямки, чего этакого особенного он предложил нашим практикантам, что они как черт от ладана в два голоса стали отказываться и от практики, и от лаборатории?
– Да ничего особенного, – отвечал Ванюшин. – Я предложил им именно практику. А чего им тогда надо?
– Но ты дурочку не валяй, – заметил мирно Комаров и устало пожурил: охота, дескать, ему заниматься ерундой и тратить на этих сачков время, ведь они и правда не по нашему делу!
Но Ванюшин не понял, не захотел понять приятеля и резонно возразил:
– Хоть чему-нибудь научатся, иначе так и помрут дураками! – И оба понимающе рассмеялись. Комаров лишь рукой махнул и разрешил Ванюшину взять бездельников к себе, несмотря на их протесты, создать на их базе нечто научное и обоснованное, вроде практики, после которой уж к ним точно никого и никогда больше не пришлют.
Дураков на свете нет.
И правда, к нам никого долго не присылали, да и эти растворились незаметно; сперва говорили, что заболели оба, одновременно, потом как по волшебству появились вдруг в другом подразделении… И стало еще тише. Помертвело, будто черный ворон накрыл нас своим крылом.
Разговор с Комаровым на этом не закончился, да и не было это главной причиной, для чего начальство могло побеспокоить Ванюшина, так он понял, когда объявились двое военных и пожелали с ним лично переговорить. Комаров их представил: работники военсвязи, часть особого назначения, подполковники Андреев и Полуян, оба в форме. Только один подполковник покрупней и посветлей, несмотря на молодость, с пролысиной, а старший – темен, курчав и коренаст. Они долго и старательно жали руку Ванюшину, поясняя, что давно мечтали познакомиться с прославленным ученым, они по его учебникам еще в училище занимались и не ведали, не гадали, что он так близко от них работает. А пришли они посоветоваться по очень важному для них вопросу, не мог бы уважаемый ученый выделить им минут десять?
– Я вас слушаю, – коротко сказал Ванюшин и посмотрел на Комарова, пытаясь по его реакции определить, что так мучает наших братцев-связистов, но тот, отвернувшись, глядел в окно.
Вопрос же необычных гостей состоял в том, что их подразделение, технически вполне оснащенное (еще американская аппаратура, переданная по ленд-лизу), второй месяц занимается поимкой пресловутой станции «Тамара», и все безуспешно. Ну, то есть какие-то успехи есть, и засечь, к примеру, координаты незаконно работающей станции в таком поселочке труда для них не составляет, и две находящиеся на линии спецмашины не раз и не два ее засекали, хотя иной раз именно в момент выезда на задание станция прекращала вдруг вещание, что означало: у нее, то есть у «Тамары», хорошо поставленная агентура, которая ее, видать, предупреждает. Но эту проблему, в общем, они преодолели.
– А как? – спросил Ванюшин. До этого он молчал.
– Наш маленький секрет, – ответил рослый подполковник.
– Небось замаскировали спецмашины под хлебный фургон? Или – под мясной?
– Ну, примерно.
– Тоже мне секрет, – сказал Ванюшин. – А уши, то бишь антенны, на них торчат! Да весь поселок знает, когда вы выезжаете, тут никакой агентуры и не надо!
Военные смешались, но ненадолго.
– Не в этом дело, – сказал подполковник Полуян, он был неулыбчив и жесток. – Даже когда нам удается засечь их координаты, создается впечатление, что волны исходят как бы из нескольких сразу точек…
– Если несколько передатчиков, то отчего же?
– Станция – одна. В том-то и дело.
– Она на колесах?
– Нет, – ответили в голос оба. – Эту версию мы отрабатывали, станция – не на колесах. Но она, как бы сказать, дробится, указывая новые, совершенно противоположные и дальние точки. Такое разве возможно?
– Вы меня спрашиваете? – удивился Ванюшин.
– Вас. Вы, как бы сказать, ну, известный в стране теоретик, но вы и практик, мы вам верим.
– Простите. – Ванюшин наклонил голову и при этом недобро взглянул на Комарова, втянувшего его в этот криминальный разговор. Хотя было понятно, что и без Комарова при нужде они разыскали бы его, нашли возможность поговорить. – Простите, я никогда не занимался обнаружением вражеских… как их… агентов, что ли? Так вы их, кажется, называете?
Военные вроде не заметили или решили не замечать скрытую иронию в словах Ванюшина и поставили вопрос по-иному: возможно ли, чтобы скрытая группа, об одном лице и разговора нет, могла так координировать работу передатчика, чтобы он вводил в заблуждение и морочил их так долго?
– Но вы же сами объясняете, что это возможно, – сказал Ванюшин и вновь оглянулся на Комарова, стараясь привлечь его к этому, все более занятному разговору.
И тот с кислой миной откликнулся, пробормотав, что он все это уже слышал и объяснял товарищам офицерам, что лаборатория ничем подобным не занимается, никакие разработки такого рода из их стен не могли быть использованы для станции «Тамара».
– Да, мы и правда задавали такой вопрос, – подтвердил спокойно один из гостей. – Мы не только вас об этом спрашивали, но тогда остается одно, что все это какой-то непонятный фокус? Мистика? Или – как?
– Фокус?
– Ну, а что же! Радио – такая область…
– Да, в общем, я немного догадываюсь, что собой представляет радио, – отвечал Ванюшин. – Что же все-таки вы хотите? Чтобы я разгадывал ваши фокусы?
– Не спешите, – сказал, поднимаясь со стула, тот, что был постарше. – Подумайте, что это такое, а мы вам позвоним.
– Звоните, – согласился легко Ванюшин и попрощался, каждому из военных он долго и старательно жал на прощание руку. Но когда они были уже у двери, нечаянно вспомнил: – Да вот телефоны у нас отключены! Так что извините, если что!
– Телефоны вам подключат, – сразу же сказал подполковник. – Не все, пока один, но вам хватит.
И военные удалились, вызвав последней репликой бурный восторг у Ванюшина, и даже Комаров вымученно улыбнулся. Они учились с Ванюшиным на одном факультете института связи, и Комаров мог оценить балаганчик, который сейчас при нем был разыгран. Но при этом сдержанно посоветовал:
– Это тебе не практиканты! Учти. С ними шуточки не проходят. Они свое дело знают туго. А в общем, они к тебе обратились, так что решай, думай сам.
– Кто их навел на меня? – спросил в упор Ванюшин.
– Ты у нас знаменитость! Профессор!
– Будь моя воля, я бы им такую двойку влепил! – энергично пообещал Ванюшин. – А еще говорят, по моей книге занимались!
– За что же? – поинтересовался Комаров, морщась от терзающей его боли. – Дело-то и впрямь непростое.
– За мистику, – отмахнулся Ванюшин.
– А инженер Соболевский? – спросил вдруг Комаров.
– Что Соболевский?
– Сам знаешь… Как к схеме какой подойдет, так она вырубается… Это не мистика, по-твоему?
– Ерунда это, – произнес Ванюшин. – Один раз и было.
– Да в том-то и дело, что не один! И не два! Его уже летчики с собой не берут, уверяют: когда он садится в машину, вся электроника самолетная вырубается! Этак, говорят, мы с ним загремим! А дома? Жена не подпускает его к телевизору. В лаборатории уже называют «эффект Соболевского»; он вот тут в кабинете у меня тронул настольную лампу, до сих пор починить не могу!
– Просто он – безрукий, – отмахнулся Ванюшин. – А ты Петрова-Водкина читал? Так я тебе расскажу… Вот у Петрова-Водкина в одной книжке описан деревенский самоучка, который, не зная электричества, впервые в жизни увидел в правлении колхоза телефон и весь его до винтика разобрал! А на вопрос, как же он осмелился и сможет ли снова его собрать, ответил… Ты знаешь, как он ответил?
– Ну?
– А ответил он так: что смогли сделать одни руки, смогут сделать и другие.
– Это ты к чему? – поинтересовался Комаров.
Но было видно, что ему неохота продолжать разговор, его угнетает бурная неуемность приятеля.
– А хрен его знает, к чему… Наверное, ни к чему, – бросил на ходу Ванюшин и ушел в лабораторию.
Вот это и было мне рассказано в странный, даже драматический момент нашего увольнения, когда, выкинутые за стены института, мы встретились на автобусной остановке за проходной. Я как бы по сокращению штатов, а Ванюшин по какой-то особой статье, о которой в ту пору предпочитали вслух не говорить.
Остальное, что происходило в лаборатории, я и сам помнил, да все мы помнили, оно вершилось на наших глазах.
Ванюшин тогда вошел в лабораторию легкой, энергичной походкой, бросив вскользь «вот бездельники», имея в виду практикантов. Но настроение его при этом даже на глазок было отменным. Он бросился чертить на листах какие-то ему одному доступные схемы. Не получалось, и он лишь качал головой, приговаривая вслух: «А батька эдак, а сын вот так…» Закончил расчеты к вечеру и просиял, будто открыл для себя такое, чего и сам до сих пор не знал. Но он-то, как известно, знал все и даже немного больше! Вскочил, забегал в возбуждении по комнате. Остановился, рассматривая нас, будто давно не видел. Подбежал к своему столу и впился глазами в схему, в массу начертанных им цифр с изумлением, с восторгом почти детским.
Потом сделал вот что: попросил у Тахтагулова спички, сам он не курил, и поджег у нас на глазах эту схемку. А мы смотрели. И держал он свою схемку, пока та горела, обжигая ему пальцы, и не превратилась в пепел у него на ладони. С этим пеплом он прошел к умывальнику в углу, сбросил в мойку и, включив воду, долго, даже слишком долго отмывал руки. И вся комната слышала, как он напевал марш из оперы «Аида». Победный такой марш. Ванюшин пел как победитель, я, да и все мы видели это по его лицу…
Много лет спустя, когда нас выбросили за ворота лаборатории, мы встретились с Ванюшиным на похоронах Горяева; духовой оркестр исполнял Шопена, дирижер был седой, представительный, в военной форме.
Я узнал его сразу, да он и не очень изменился, разве чуть пополнел, напоминал какого-то известного спортивного комментатора. Меня из-за сильной близорукости он признал не сразу, какое-то мгновение вглядывался, но улыбнулся и даже, кажется, обрадовался. Может, потому, что хотелось поговорить, выговориться. Он тут же и заговорил о Горяеве, выяснилось, что они в последнее время встречались по делам и на отдыхе. Даже перед самым его отъездом, вернее, отлетом во Францию.
– Что там случилось? – спросил я.
Не мог не спросить, хотя понимал, что этот вопрос задают все друг другу, не веря никакой официальной версии, да ее на этот раз и не было. А если будет, то наврут с три короба, как врали всегда.
Ванюшин так и понял мой вопрос. Он лишь развел руками.
– Кроме слухов, ни-че-го. Вот недельки через две что-нибудь нам расскажут, – добавил, странно усмехаясь. Если бы я даже не знал этой привычки как-то особенно и лишь губами усмехаться, я все равно бы не пропустил его усмешки, в ней обычно скрывалось то, чего не было сказано вслух.
С импровизированной трибуны стали произносить речи. Известный летчик-испытатель, высокий, седой, с золотой звездой Героя, открывал траурный митинг, но в это время по железной дороге, нависающей над кладбищем, прошел длинный товарный состав, и я сумел расслышать лишь последние слова о том, что имя Горяева будет жить столько, сколько будет жить советская авиация.
– Как же! Вспомнят! – пробормотал Ванюшин, впрочем, ни к кому не обращаясь, стоял он потупясь и ковырял землю носком ботинка. Говорили и другие, от Министерства среднего машиностроения, от каких-то военных фирм, Ванюшин начал было объяснять, кто и откуда, но запутался. «Нет, я всех не знаю. Это какие-то новые! Им нет числа!»
Буркнул и двинулся в сторону ворот вслед за остальными – митинг закончился.
– Вы-то сами как? – поинтересовался я.
– Что я? – спросил Ванюшин.
– Но они же тогда здорово с вами… В лаборатории…
– Здорово, – согласился он.
Я думал, что Ванюшин продолжит, но он молчал. А расправились-то с ним и правда круто. Меня подвели под сокращение, а под него копали долго, биографию изучали, искали какие-то семитские корни, да, видать, так и не нашли. А уволили с формулировкой: «За халатность и потерю бдительности, приведшие к грубому нарушению в хранении особо секретных документов…» С подобной формулировочкой у нас далеко уже не уедешь. И он это понимал. Последний раз мы встретились у проходной в ожидании пропуска, чтобы пройти в отдел кадров. В отличие от меня он не паниковал и считал, что все обойдется.
– Значит… Обошлось? Как вы живете?
– Живу, хлеб жую, – отвечал он со своей странной улыбкой. – Никому ничего не должен. И мне никто.
– Но где-то служите?
– Да в одной фирме.
– Руководите?
– Приходится.
Я стал прощаться, мы были уже у ворот кладбища, но оставался еще не выясненным для меня один вопросик, будто бы совсем простой, но не простой, которого я не мог не задать Ванюшину. Когда мы еще встретимся и встретимся ли вообще!
– А вы не помните, случайно, – спросил я торопливо, – в те самые дни, ну, когда с нами это происходило, был такой случай с радистом, который…
Я следил за его лицом, но ничто на нем не отразилось. Не дрогнуло, не всколыхнулось. Ни даже тени сомнения.
– Не помню, – спокойно отвечал он.
– Ну, как же! – настаивал я. – Столько было шума!
– Да мало ли у нас шумят!
– Но это и правда особенный случай! Радиостанция «Тамара». Его же ловили, пытались засечь, а он…
Ванюшин отвернулся, почти зевнув. Произнес лениво-снисходительным, каким только он умел, тоном:
– Ах, этот сумасшедший… И что?
– Но почему сумасшедший?
– Разве нормальный человек станет таким преступным делом заниматься? – спросил и посмотрел с вызовом на меня. – Я полагаю, что его, бедолагу, словили да посадили…
А может, расстреляли…
– Но – поймали?
– Откуда мне знать? – удивился он и пожал плечами.
– Ага. Значит, все-таки не поймали? – догадался я. – Ведь ему тоже вешали разное…
Вешали даже гибель Кошкина, которому якобы он не дал своими помехами выйти на связь с аэродромной службой!
– Это уж полная глупость, – заметил он. – И вы знаете, что это глупость. У Кошкина на взлете осекся двигатель, при чем тут, право, связь? – И посмотрел мне прямо в глаза.
Вот тут я и понял: ничего Ванюшин не забыл. Все, все он помнит, но почему-то ему не хочется, чтобы я об этом догадался. Но – почему? И почему я именно от него ждал нужного для меня ответа? Пригляделся, но за толстыми, как линзы, стеклами не смог разобрать выражения его глаз, вот только губы да странная блуждающая улыбка, так раздражавшая его недругов.
– Знаете, кто у меня работает? – спросил вдруг он. – Нет, ни в жизнь не отгадаете: Саня! Из практикантов! Вы же их помните?
Ванюшин смотрел на меня, и очки его издевательски поблескивали. Разыгрывает он меня, что ли, помнить какого-то стукача Саню, не самого первого и не последнего из всех, что нас окружали. И забыть – радиста!
– Работает, между прочим, моим замом!
– Такой же бездельник?
– Да нет, – отвечал Ванюшин. – Старается… Копает под меня. Полагаю, они спихнут меня.
Кто «они», я не стал спрашивать. Только произнес, чтобы что-то сказать:
– Но может, обойдется? – это были слова самого Ванюшина из тех давних наших лет, когда были мы еще оптимисты. Этот же, нынешний Ванюшин вздохнул, озирая шоссе в поисках такси. И тотчас же оно объявилось: лихой частник на серой «Волге».
– Вам не до Беляева? – спросил Ванюшин, прощаясь. – Ну, тогда до… – Он оглянулся на нетерпеливого частника и, не досказав, сел в машину, она с ходу рванула, а я смотрел вслед, вдруг осознав – встреча эта последняя.
«Опять любовь, опять цветы, опять любовницу ищешь ты…» – напевал Иван Степанов совсем не по роли, но апрель творил с ним, да и с нами со всеми, противоестественные вещи. Почему-то именно в этом году все заговорили о любви – и Горяев, и Мария Федоровна, знаменитая наша артистка, и даже Зоя Волочаева. Вот уж от кого не ждали, а она взяла да выскочила замуж за вдовца с двумя детьми и сразу охладела к кружку. С трудом ее вытаскивали, она забегала, но как-то непривычно суетливая, с сумками, пакетами, и оживлялась лишь при разговоре о радисте «Тамаре», которого до сих пор не обнаружили, и уже, оказывается, тягают на собеседования всех Тамар, даже из нашего драмкружка двух вызывали, деликатно о чем-то выспрашивали, а одну, продавщицу из овощного ларька, не стали вызывать, справки навели и оставили в покое. Да еще такая новость: в поселковом роддоме косяком пошли новорожденные Тамары, и уже в загс полетела категорическая телеграмма вести просветительские разговоры с мамами и убеждать, что есть и другие красивые русские имена, которые надо пропагандировать и внедрять.
На фоне всех этих страстей мне вовсе не показалось странным, когда у Толика на столе обнаружил альбом с голыми девицами. Я прямо-таки вцепился в него, рассматривая разных там красавиц, у которых, если честно говорить, и не было ничего видно, кроме красивых грудочек, и все они сняты так замечательно, что самое тайное место, предмет нашего глубокого и затаенного интереса, было как бы случайно прикрыто то ли веточкой сирени, то ли надкушенным яблочком, которое она держала в руках, а то и просто ладошкой, но как бы мимолетно, даже невинно. Да и сняты девицы были на фоне яхт, лодок и бесконечно синего, ярко-синего моря.
Повторюсь, что я вцепился в альбом, не выпускал из рук и даже спать с ним лег, так что Толик, заметив, мимоходом сообщил, что он сам получил это на пару дней, но может мне оставить завтра, только, чур, никому не показывать и не отдавать, а наслаждаться в уединенном месте, где никто не увидит.
– Лично по мне, – заметил, прищурясь, – все это глупости. Хотя мои собратья художники эротики не отрицают, наоборот. Но бабы, конечно, там что надо.
– А если переснять?
Такая вот неожиданная мысль пришла ко мне, возможная только весной и при сильном желании немедленно кого-нибудь полюбить. Ну хотя бы девочек из альбома!
– Бери, но будь осторожней, – предупредил. – Альбом-то безопасный, не порнография, но у нас не различают, как углядят – «мейде ин оттуда», размажут по стенке!
– Не увидят, – самоуверенно сказал я.
Всю ночь я листал тот заграничный альбомчик, мечтая о красотках и строя всевозможные планы, как заполучить их копии, совершенно необходимые, я был в этом уверен, для моей жизни. Ради таких красавиц я был готов на все. После некоторых колебаний, сопровождавших меня и на работе, я выбрал, кaк мне показалось, удачный вариант – посвятить в свои планы моего шефа Тахтагулова, который был допущен в фотолабораторию. Его иначе у нас в лаборатории, чем черную косточку, рабочую лошадку, умеющую вкалывать на аэродроме, и не воспринимали. Да и я, сказать по правде, тоже – до нашей последней работы на «американце».
В обеденный перерыв, подловив его за лабораторией на припеке жующим хлеб с луком, я предложил погулять и в дальнем соснячке за зелеными фургонами локаторов достал из-за пазухи заветный альбомчик, показал из своих рук первую картинку.
Тахтагулов заглянул и тут же вцепился в альбом и почти вырвал. Надолго припал к нему, забыв обо всем вокруг, я видел, как убыстрились его движения, как зажглись азартом глаза.
Реагировал он по-своему, громко чмокал губами, что-то восклицал, но чаще повторял почему-то: Зухра! Видно, запомнилась из недавно прошедшего фильма «Тахир и Зухра», но здесь по поводу особенно красивенькой складненькой японочки с грудочками в кулачок.
Мы потом и другим девицам дали свои имена, но японская обольстительная Зухра так и осталась самой желанной для нас обоих. Вот уж я не ожидал такой скрытой страсти от нашего тихони башкира, ведь у него, по всем данным, была семья.
Альбом он мне обратно не отдал, засунул по моему примеру глубоко за пазуху, произнеся торопливо, что он сейчас же, немедля переснимет все на пленку, а вечером возьмет ключ у начальника фотоотдела, чтобы отпечатать. А до поры, извини, так сказал он, я уж побуду с ними! И с этими словами опять извлек альбом, открыл на странице, где была изображена Зухра, поблескивая влажным глазом, нагло и лихо поцеловал ее в самую грудку и погладил ручкой – «Любимая!» – не без ерничества, конечно. Потом снова спрятал альбомчик, застегнул плащ и погладил потаенное место, показывая тем самым, что дорожит временным сокровищем, бережет и хранит его. Ну, а далее произошло так: мы, перемигнувшись перед звонком, чуть задержались и тут же заперлись в комнате фотографа, приступили к делу. А дела было много – надо было отпечатать всех любимых девиц, да не по разу, а по нескольку раз, и каждая из них вызывала у нас новый приступ влюбленности.
Разгоряченные необыкновенным делом, мы совсем забыли о времени и о том, где мы находимся, а между тем допуска-то мы для вечерней работы не имели и за спешкой совсем забыли подать заявку для такой работы. Фотолабораторию, как и полагалось, снаружи опечатали, поставили на охрану, но мы, ничего этого не ведающие, потеряв голову, печатали и печатали фотографии своих дам, подгоняя себя горячечным шепотом и перебивая друг друга: «Еще вот эту! Смотри, какая! А эта прямо на скале! А эта под парусом! А эта в гамаке!» Штамповали и ту, что на скале, и ту, что под парусом, и ту, что в гамаке… И много, много разных других. А имена давали им экзотические: Мэри, Сюзи, Анжела… Ну, а той красотке японочке, с узким разрезом глаз, смугленькой, миниатюрной, с детскими обольстительными ножками, с грудочками, торчащими торчком, мы так и оставили имя Зухра. Этих Зухр мы отпечатали больше всего, никак не могли остановиться.
Дело подвигалось к концу. Все фотографии были рассортированы по кучкам и мокрые – сушить мы собирались, конечно, дома – были разложены в лаборатории на столе, на полках, на стульях и даже на полу. В такой вот критический момент и раздался легкий стучок в дверь. Мы затаились, даже перестали дышать. А между тем услышали чьи-то шаги, подергивание двери, а потом кто-то снаружи вставил ключ, повернул, замок щелкнул, и на пороге появился инженер Трубников. Он ничего не спросил и вообще не произнес ни слова. Вглядевшись и узнав нас, окинул быстрым взглядом помещение, потом наклонился и поднял одну из фотографий, лежавших прямо у него под ногами. В то время как мы, оцепенев от неожиданности, в страхе взирали на него, он, приблизившись к лампе, не спеша и не без любопытства стал рассматривать наши изделия. Причем подробно, не пропуская ни одной и подчас приближая карточку поближе к глазам, чтобы лучше разглядеть подробности. Отложив последнюю из фотографий, он обвел глазами лабораторию и сосредоточился на нас с каким-то новым интересом, разглядывая ну почти как эти снимки.
– Так-с, молодые люди, – произнес врастяжку, но без какой-либо угрозы и даже не так громко, как привык. – Распечатывание, то есть тиражирование, явно аморальных порнографических изделий на работе! Вы хоть понимаете, что вы натворили?
Мы стояли потупившись. Еще бы не понимать! И не за такие грехи, а за невинный поцелуй в аккумуляторной был подведен под аморалку дежурный электрик. Его имя долго трепали на всяких собраниях, смакуя подробности, которые были или могли быть. А тут… В сотнях видов, словно специально выставленные для обозрения, демонстрировались наши Мэри, Сюзи, наши Анжелы и – двадцать бесстыжих грудочек любимой Зухры! Это ли не криминал, достойный сурового наказания! Изничтожат, сомнут, провернут сквозь общественную мясорубку, подведут под разрушительное и зловредное влияние вражеских голосов типа «Тамары» да выкинут из лаборатории, из нашего сверхсекретного института.
Все это молнией пронеслось в нашем воображении. Мы и без всяких угроз были сражены. Стоя перед Трубниковым, как перед Страшным судом, понимали всю глубину и пагубность нашего падения, и не было прощения нам!
Наш же обвинитель сделал далее то, что и должен был сделать. Получить от такой встречи самое полное свое удовольствие. И тогда он снова обратился к фотографиям, комментируя увиденное вслух, присюсюкивая, причмокивая и со вкусом обсуждая всяческие подробности, одним этим как бы низводя тех, кем мы любовались, до нашего морального уровня. А уровень наш был низок, очень низок, да просто никакой.
– Ну, ус и носки! – восклицал он азартно, специально присюсюкивая. – Палки какие-то, а не носки! А ус эти грудечки… Вымечки козьи, не иначе, где такие берут! А зывот? Ну сто это за зывот… Это просто доска, а не зывот…
Произнося так, он поблескивающим глазом косил в нашу сторону, желая воочию убедиться, что нам при этом больно, что наши души хоть и оцепенели от страха перед будущим наказанием, но еще способны реагировать на его тычки и уколы. Так, наверное, вздрагивает мертвая лягушка на уроке физики, когда во время опытов ее дергают за нерв. А насчет опытов, в том числе психологических, наш Трубников, это мы знали и до того, был великий мастак!
Наигравшись вдоволь таким образом, он в какой-то миг переменился, посерьезнел.
Игра закончилась, начиналась разборка. Коротко, по-деловому пояснил, что явился он, конечно, не случайно. Заслышав шум в запечатанной лаборатории, охранник, слава богу, не поднял тревоги, а позвал его, Трубникова, который засиделся у себя в лаборатории.
– К счастью, к счастью, засиделся! – подчеркнул он.
«Какое уж тут счастье!» – мелькнуло тревожно. Наверное, и Тахтагулов думал примерно так же.
Но Трубников словно угадал наши сомнения и сам на них ответил.
– А счастье ваше, – произнес негромко, – вот какое… Сейчас я пойду к охраннику и скажу, что это я вас оставил тут для работы, но забыл с вечера подать заявку, сейчас позвоню и подам… И улажу. А завтра… Ну, у нас есть время подумать и решить, что мы будем делать завтра, – добавил он.
При этих словах вытянул одну из карточек, кажется даже, взял любимую нами Зухру.
Не обращая внимания на то, что карточка еще мокрая, он сложил ее вчетверо и сунул в нагрудный карман, словно там было для нее место. Шагнул к дверям, но оглянулся и четким шепотом приказал:
– Убирайтесь! Да уничтожьте этих… – прищелкнул пальцами. – Всех до единой!
– Конечно же… Сейчас же… До единой…
Мы произнесли это вразнобой, но на одной мерзко-гнусавой от фальшивости наших голосов ноте и при этом не сводили глаз с его нагрудного карманчика, в нем он уносил улику в лице нашей незабвенной Зухры. Что же толку от уничтожения всего остального!
– Тогда до завтра! – почти приветливо, но опять негромко проговорил он и, взмахнув бежевым плащом, прикрыл за собой дверь. И даже запер на ключ.
Это последнее не было вовсе излишним. В нее уже заглядывал сторож. Мы опрометью бросились собирать мокрые отпечатки, где обольстительные Мэри-Сюзи-Анжелы и девятнадцать оставшихся Зухр уже ничем не могли нас утешить, они словно угасли и обесцветились после всего, что произошло. Их и нас унизили, как унижает хулиганье тебя и твою возлюбленную, застав во время свидания.
За пределами проходной, в кустах, мы торопливо поделили наше богатство, нисколько не огорчаясь, что кто-то получит чуть больше или меньше. Мы ждали следующего дня, пытаясь с утра в проходной по лицам случайных встречных угадать свою судьбу, угадать, что нас ожидает.
Мы думали, расправа будет на следующий же день. Но никто не приходил от Комарова и день, и второй. И почти вся неделя прошла в противной неизвестности. Лишь в конце ее (или так много нужно времени, чтобы нас изничтожить?) вдруг выяснилось, что Тахтагулова в скоростном порядке переводят в другой комплекс и он немедля должен туда явиться. Он сам сообщил об этом на ходу, потупясь, будто чувствуя передо мной вину. Но, прощаясь за руку, вдруг по-разбойному сверкнул темным глазом и произнес: «А баб не отдали! Они наши!» С тем и укатил, оставив меня дожидаться решения моей судьбы. И тут меня позвали наконец «наверх», к Комарову, я уже знал, что это означает. Но я ошибался, там не было на этот раз ни самого Комарова, ни острозубой Люси, а сидела лишь табельщица Зина с белыми глазами, застывшими навсегда от испуга, как у выловленной из воды рыбы. Вообще-то у нее была крошечная комнатушка рядом с кадрами, и я не понимал, зачем для встречи с ней надо было меня вызывать в кабинет начальства.
Она со вздохом произнесла, что по графику мне надлежит написать заявление об отпуске, который назначен на апрель.
И добавила, открывая знакомую всем нам амбарную тетрадь:
– Время-то уходит.
– Почему я? – спросил я.
– Положено ведь, – отвечала, не глядя на меня, Зина. – У каждого свой месяц.
– А у меня апрель?
– А у тебя апрель.
– А на май что – нельзя?
– Нет, – сказала Зина. – В мае идет Носов.
– А если я не хочу?
– Твое дело, – тускло произнесла табельщица и опять вздохнула. – Допек ты их, теперь сам и выясняй, а мне что скажут, я то и делаю.
Ну, понятно, что скажут… Вот ей и сказали: допек, мол, уберите подальше с глаз, а чтобы не ерепенился, вызовите в кабинет к Комарову, это на него, то есть на меня, подействует!
– В понедельник решу, – уходя, сказал я.
Зина кивнула:
– Не позже. Мне на оформление подавать надо. – И закрыла свою амбарную книгу, где особыми Зиниными значками было обозначено все сущее обо мне и об остальных.
И от этих значков зависело, что мне вьщадут в получку или в аванс, а один раз – впервые в жизни – даже премиальные! Это было так неожиданно, что я от радости побежал в магазин и купил спортивный костюм: куртку и шаровары из плотной байки темно-бордового цвета, которые сразу заменили мне всю верхнюю одежду. Теперь я подумал, что от такого предложения может статься и польза: отвалят кучу денег, можно купить новые ботинки, лучше в детском магазине, там для моей крошечной ноги тридцать восьмого размера они стоят вполовину взрослой обуви. Мои-то давно протерлись до дыр, а на сцене я вообще надевал горяевские, он в это время сидел в одних носках, укрывшись за занавесом.
В тот момент я еще не понимал, что в отпуск могут отправить так, что обратно и не вернешься. Вот вспомнил о Горяеве и решил ему позвонить прямо отсюда, из комаровского кабинета. Не зря же тут торчал. Я набрал его рабочий номер, но мне ответили, что он на стенде. Я уже знал, что они обзывают стендом, и решил в перерыв сбегать в ангар. А пока – достал сгоревшую Аленину лампу, увидел, что аналог ее 5Ц4 – выпрямитель, и стал мастерить переходную колодку, в старое гнездо для немецкой лампы она бы не сгодилась.
Носов со своего места спросил:
– Тебя что, в отпуск отправляют? А зачем тебе сейчас отпуск-то?
– Не знаю, – сказал я.
– Они и Ванюшина отправляют, – сказал Носов. – И мне предлагали.
– Это что же? – поинтересовался из угла Николай Иванович. – Прикрыть, что ли, нас решили? Всех разгоняют?
– Нервничают, – произнес от своего верстачка Грянник. С похмелья он обычно говорил дельные вещи. – Радист-то, который «Тамара», не пойман, вот и психуют.
Ищут, ищут, у меня весь инструмент перерыли.
– И у меня, – подтвердил Николай Иванович. – Даже тестер развинчивали.
– А у Ванюшина вообще схемы украли, – сообщил Носов. – А он говорит: «Пусть у меня башку попробуют украсть!»
– А все «Тамара», – проворчал Николай Иванович. – Скорей бы его словили. Его специально не ловят, чтобы под шумок всяких там недовольных убрать! Еще один халдей по примеру «Тамары» начал передачи, «Наташей» назвал, так его со второго захода накрыли!
– Глуп был, потому и накрыли, – припечатал Носов. – Они землю роют, не то что наши ящики… В поселке свет два раза вырубали во время передачи, чтоб не слушали!
Николай Иванович в своем углу хихикнул негромко:
– Светом они балуются. Только для другого. Ты как специалист это должен понимать.
– Я по железкам специалист, – ответил Носов.
– Ну, это же ясно как день, – пояснил Николай Иванович. – Проверяют, не автономное ли у него питание.
– Ну и что?
– А то… Если не автономное, его легко подловить, отключая кварталы или дома. – И он хмыкнул, утыкаясь в свои приборы.
– Ну и что? – снова спросил Носов.
– Я думаю, что автономное, если он не прервался… Он в это время стишки о любви читал… Ничего стишки… Серьезные.
– А говоришь, словить, – упрекнул Носов. – И сам – стишки слушаешь!
– Стишки задушевные, – вполголоса из угла молвил Николай Иванович. – Только ни к чему порядок общий нарушать. Этак каждый эфир засорит, что будет? – Но, помолчав, добавил: – Я вот тоже одну женщину обожаю… Всю жизнь… Ну и что? Я-то молчу.
– Ого! А теперь разговорился!
– Я и говорю: зараза, – пробурчал он. – Одни карточки голых баб пустились печатать, другие «Наташу» завели, и я, старый хрен, туда же… Чуть письмо не написал! Рехнулся на старости лет.
– Ну и пиши, – посоветовал Носов.
Николай Иванович покачал головой:
– Нет. Не напишу. А «Тамару», вот если бы от меня лично зависело, словил и посадил, чтобы людям голову не морочил!
– А я понял, – вставился опять Грянник, казалось, что он до сих пор и не слушал, а подремывал за своим верстачком. – Понял, – повторил он. – Что говорит «Тамара», уже неважно. Ну, то есть важно, – поправился он. – О любви всегда важно, но дело не в этом…
– А в чем? – заинтересовался Носов.
– Прошиб броню.
– Какую еще броню?
– Которая «крепка… и танки наши быстры»…
– Ты с утра бредишь? – спросил Носов.
– Нет, – встрепенулся тот и даже привстал в доказательство того, что не дремлет.
– Ну, словите, посадите, так он же свое сказал! – Это в адрес Николая Ивановича, наверно. – И все мы слушали… Внимали, да? И чего-то в нас зашевелилось, да?
Вот какая броня. – И он скорее сел, долго стоять и напрягаться с похмелья было ему невмочь. А как сел, так и погрузился в сон.
В это время прозвучал звонок на обед.
До ангара недалеко, но я запыхался, пока добежал, пролез в боковую дверь и за железным барьерчиком отыскал Горяева. Он плашмя лежал на брезентовом пологе, два молчаливых парня в белых халатах, похожие на санитаров, бинтовали ему руки и ноги.
Горяев велел встать мне у головы, и так мы беседовали, пока его всего не перебинтовали, после чего стали надевать серовато-стальной скафандр.
– Как жизнь, Аркадий? – он скосил глаза в мою сторону.
– Ничего. В отпуск ухожу.
– Куда?
– Никуда, – ответил я.
Горяев нахмурился, хотел что-то спросить, но не спросил. Тем более его отвлекли «санитары». «Не жмет, Юрий Петрович?» – это они зашнуровывали, начиная от ног, скафандр.
– Нормально, – ответил он. И мне: – А что, брат Аркадий, завтра едем в деревню, сообщили тебе?
Я сказал, что сообщили, но неизвестно, где собираться и во сколько, и кто еще едет, и что будем играть…
– Да выедем с утра, – сказал Горяев, глядя в потолок. Ему уже затягивали живот и бока. – Там и решим. Подожди, не уходи, проводи меня до кабины.
Теперь ему зашнуровали грудь, плечи, горло, и он поднялся, пробуя непривычный костюм и разминаясь. Походил на пловца из книги «Человек-амфибия».
– А это для чего?
– Для полетов, – откликнулся Горяев. – Высотный костюм. Помоги-ка мне дойти. – Он оперся на мою руку и, медленно переставляя ноги, тихо пошел к кабине, «санитары» шли позади. Он дал им знак, что не нужны. Мы поднялись по отвесным ступенькам, завернули за стеклянный матовый барьерчик, и тут я впервые увидел кресло. То самое кресло, в котором Горяев взлетит наверх. Ничего в нем особенного и не было, железное кресло, как в кабине летчика, и ручка-штурвал перед ним, и приборный отсек, фонарь над головой. Но сейчас в этом кресле сидел человек в таком же комбинезоне, что у Горяева. Лишь подойдя ближе, я с удивлением обнаружил, что этот человек – чучело, хотя все как у человека: лицо, уши, глаза и даже почему-то усы.
– Знакомься. Мой напарник! – весело представил Горяев. – Зовут Иван-Болван, а я величаю «Ванюша».
– Он чего тут делает? – Я кивнул на всякий случай манекену. А вдруг и правда положено с ним здороваться.
– Летает. Мы вместе летаем, – отвечал Горяев. – Вот скоро с самолета придется прыгать, он это сделает первый… Тоже рискует, между прочим!
Горяев засмеялся и прочел стихи, я тогда впервые их услышал:
– «У атамана была булава, а у Ивана была голова». Не слышал? Поэт Николай Панченко. Атаман рисковал булавой, а Иван рисковал – чем?
– Головой, – догадался я.
– Ну вот, – заключил Горяев. – Так что там с карточками? Тебя правда накрыли?
– Правда.
Горяев покачал головой.
– А не спрашивали – откуда?
– Не спрашивали.
– Ну, может, обойдется, – произнес задумчиво. – Им и без того неприятностей хватает… «Тамару»-то, говорят, схватили!
– Нет, – сказал почему-то я. Наверное, я хотел другое сказать, что я не верю, что этого не может быть.
– Я тоже не верю – там какая-то «Наташа» появилась… Может, спутали?
– Спутали, – сказал я.
И мы простились до субботы. Я и Ивану-Болвану на прощание кивнул, но он сидел прямо, слишком прямо, и смотрел он лишь перед собой. Ничто живое его не волновало.
Собирались выехать с утра, потом в обед, но едва поспели к вечеру. Как всегда, опоздал автобус, потом выяснилось, что баянист заболел, и стали уговаривать Толика, который в таких случаях всегда на подхвате. По обычаю, подвела и Волочаева, за ней пришлось заезжать домой, а где ее новый дом, никто толком не знал. Но зато когда собрались, когда выехали и стало ясно, что и вправду все в сборе – и вокал, и хореография, и, конечно, драма во главе с Горяевым, – когда мчались стремглав среди полей, оттаявших под первым и потому особенно желанным солнышком, которое уже склонялось, но было еще ярко, захотелось петь. С первыми аккордами неизменной в те времена «Ой, цветет калина» ожили все, зашевелились, стали подавать голоса и под конец распелись.
А вечером в деревне в клубике был концерт, проходил он на редкость гладко, и все, казалось, были довольны до той минуты, когда в сцене из «Леса» я прошу у Несчастливцева-Горяева денег взаймы, жалуюсь на нелегкую актерскую жизнь. Тут поднялся в зале подвыпивший дядька в белой полотняной кепчонке, ватнике и громко спросил:
– А вы нам про «Тамару» лучше скажите, он чего – не знает, что в колхозе жрать нечего? Дайте адрес, мы ему сами письмо накатаем!
Горяев попросил зрителей вести себя потише, и без того трудно играть.
– Ты, дружок, конечно, извини, – сказал дядька, подходя к самой сцене. – Мы же с вами соседи, знаем, что ваша жизнь не сахар… Да еще самолеты гробятся…
– Какие еще самолеты? – выкрикнули в зале, поворачивая головы к дядьке.
– Ну как же! – воскликнул дядька, размахивая руками, в одной из них была зажата цигарка, и от нее во все стороны полетели искры. – При взлете прямо, говорят, в лес упал и взорвался, да ведь все небось слыхали!
– Ничего мы не слышали, – отреагировал Горяев и попросил дядьку сесть, но того уже под руки выводили из зала. – Это недоразумение, у нас полигон, и всякие могут быть взрывы… А слухи по принципу «одна бабка сказала», это мы и правда слыхали. – Горяев даже попытался улыбнуться. Концерт продолжался, но игра уже не клеилась, так, договаривали слова и ждали, когда все закончится. И хоть оставались самые выигрышные номера с плясками и юмористическим рассказом Степанова, но Горяев попросил вести концерт Волочаеву и быстро исчез из клуба.
Он переправился на другую сторону, чтобы на попутке скорее добраться до поселка и узнать, что случилось на аэродроме.
Самолет вел Кошкин, и он сам, и экипаж – бортрадист, второй пилот, штурман, ведущий инженер и приборист – погибли. Никого из них я прежде не знал, кроме прибориста, на месте которого оказался Тахтагулов.
Понедельник день рабочий, но никто, конечно, не работал, бродили, расхаживали из угла в угол, шептались по коридорам. Вроде бы никто ничего не знал, но при этом все всё знали: и то, что полет был рядовой, на серийном самолете, никаких сложностей не предвиделось. Но, правда, какие-то параметры каких-то приборов надо было в очередной раз проверить, и кто-то, естественно, торопил, подгонял, чтобы успеть к празднику – завершить до срока план и получить премиальные.
Говорили, что и Кошкину не с руки было лететь, будто пил он напропалую у Муси всю ночь и был не в себе, да кто-то заболел, и он без охоты, но согласился. А Мусе сказал: «Погоди, я слетаю, там всего-то ничего. За бутылочкой только успеешь сбегать!» Муся вроде бы ни в какую: сегодня ты мой, никуда не полетишь!
А он вроде бы спел ей: «Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки – а девушки потом!» И улыбался белозубо, и голубые развеселые глаза его излучали спокойствие и нежный свет. Как Муся ни удерживала, уверяя, что этот день не для полетов, он дан им для любви, Кошкин поцеловал Андрюху, завел машину и уехал…
Навсегда.
Как рассказывали очевидцы, самолет на взлете потерял высоту, осекся один из двигателей, врезался в недалекий лесок, проломив километровую просеку, и взорвался. А Тахтагулов сидел у приборов, в хвосте, мог бы уцелеть, но взрыв был так силен, что разметал тела на километр в округе. От кого палец или клок волос, а от многих и того не нашли, лишь планшетку да пуговицу и еще по мелочи из личных вещей.
В лаборатории было тихо, все на своих местах. Но тишина была совсем другая, никто не работал, и было понятно, что работы сегодня требовать не будут. Но и сидеть, вперясь в пустую стенку, невыносимо. Копались, погруженные в смутные мысли о бренности бытия, и лишь выходя по надобности или в курилку, коротко здоровались, отводя глаза в сторону, ни спрашивать, ни отвечать, ни тем более вести какие-то отвлеченные беседы не хотелось.
Так и дотерпели до обеда, разбрелись по углам. А после перерыва вдруг спустили от Комарова распоряжение ехать с грузовиком в лес и ломать елки, желающим, конечно. Мы с Носовым тут же подхватились, будто ждали этого приказа. Поехали, испытывая особое чувство освобождения и даже, как ни странно, радости.
В лесу было сыровато, но тепло. Быстро загрузив ветками машину, мы, несколько подростков из разных лабораторий, оборзели, как молодые щенки, выпущенные наружу: стали гоняться друг за другом, играть в чехарду, в салочки, даже в футбол, пиная консервную банку и тем подтверждая в который раз великую истину, что смерть и жизнь ходят рука об руку.
Грузовик с ветками мы свалили у ступенек клуба, и Толик, порядком засуеченный, почти не замечавший меня, торопливо объяснял, куда носить и где складывать наше добро. Мы перетащили ветки в зал, на сцену, и сразу все помещение заполнил сильный смолистый дух, от него можно было угореть.
Исчезая за занавесом, Толик вдруг обернулся, бросил мне на ходу:
– Зайди! – и исчез в недрах кулис.
Я нашел его в комнатке, где он жил, он резал на широкие полосы черный креп и вязал из него крупные банты на ветки.
– Ты кого-нибудь из них знал? – спросил он, не отрываясь от дела.
– Знал.
– Башкира?
– Да.
– У него кто остался? Семья?
– А что?
– Да так. – И после затянувшегося молчания: – Понимаешь, фотографии у него нашли, а там эта… девица из моего альбома.
– Зухра?! – воскликнул я непроизвольно, пытаясь понять, отчего же так бывает – не жена, не дети, не мать, а случайная карточка какой-то неведомой фотомодели стала последней спутницей в жизни аэродромного технаря Тахтагулова, о котором никто ничего у нас, оказывается, не знал. Или такова природа человека – любить абстрактную Тамару или условную Зухру, хоть кого-нибудь, но любить, пусть это связано с риском, с жестокой расплатой… Не перевели бы его в другое подразделение, не пришлось бы, может, и лететь, и все сложилось бы у него по-другому.
И еще такие смутные мысли: не по этой ли фотографии его опознали, собирая останки?
Толик, оставив свое занятие, сел на койку.
– Чаю хочешь? – спросил.
Я помотал головой.
– Выпить?
– Не хочу.
– Глупость ведь. – Толик обращался неизвестно к кому. – Я говорю – глупость, когда люди бесследно исчезают. Отдают себя ни за понюшку табаку… Кому это нужно, тебе? Мне? Мусе, которая сейчас в обмороке?
Он будто стряхивал с себя наваждение, может, верил, как бывало у меня в минуты несчастий, что надо только сильно захотеть и проснуться, и все, что случилось, сгинет. Вздохнув, он поднялся и сказал, помедлив:
– Завтра их привезут, ну, то, что осталось, надо подготовиться…
– А что осталось? – спросил я.
– Да, в общем, ничего. – И вдруг показал, как Горяев тогда, в первую выпивку, пальцами изображая рюмочку. – Тридцать граммов… А я, пожалуй, и напьюсь! Нет, не сегодня…
Толик ушел, а я посидел, глядя на черные куски крепа, зачем-то взял самый малый из лоскутков и сунул на память в карман. На похороны я идти не собирался, да и за работу в лесу нам полагался отгул. Вот и погуляю. Чего еще нужно для души, в которой всего-то тридцать граммов! И тех никто не видел!
О Толике, о его судьбе я узнал от Ванюшина в день, когда хоронили Горяева. Тогда, на Новодевичьем, после похорон, Ванюшин остановил какую-то частную машину и собирался было сесть, но вдруг спросил:
– Вы там бываете?
– Где?
– Ну, где мы вкалывали…
– Нет, – сказал я. – Даже в клубе, а вы?
– Иногда. По случаю.
– Как там Толик? Художник… Вы не знакомы?
Ванюшин наклонился и попросил водителя чуточку подождать.
– Толик? – переспросил он. – Который эти… Рекламы… Так его убили. А вы не слыхали?
– Нет.
– Давно. Лет десять, что ли… Но тогда много было разговоров, весь поселок гудел… – Он опять наклонился к водителю и сказал: – Сейчас, минуточку… Убили его ночью, по голове… С полсотни ударов, и мертвого, говорят, били… Но ничего не взяли, не унесли… Странная, знаете ли, история.
– А баян? – спросил я глупо.
– Нет, баян не взяли. Но вы же, наверное, знали, что он из бывших… Его и в лагерях уважали, боялись: все-таки вор в законе! В клубике-то он тихо жил, без прописки… Не полагалась. Да он, кажется, и не переживал! Так-то!
Возле Мусиного дома я замедлил шаг, даже приостановился, исполненный сомнений, нужно ли войти. Я должен был тогда войти. Сделай это, может, события бы повернулись иначе. Но мы сильны задним умом. А тогда вечная моя щепетильность и боязнь помешать взяли верх, я постоял и – ушел, хотя торопиться было некуда. Я вернулся в общежитие к Горяеву, но его не оказалось, какой-то парень объяснил, что он занят похоронами и только что побежал в клуб. Я вернулся в клуб, заглянул в комнату для репетиций и обнаружил Горяева, он крутил диск телефона, а мне кивнул, показав рукой на стул.
– Девушка, – сказал он в трубку, – нам нужен адрес Тахтагулова… У него семья?
Так, записываю.
Оторвался и сразу спросил:
– Ты его знал, да? Там грузовичок и этот, из лаборатории…
– Носов?
– Наверное. Бери адрес и езжай, он все знает.
– А что с Мусей?
– Ничего. Завтра приедет из Москвы семья Кошкина, их надо развести, чтобы, не дай бог…
– А жена разве…
– Может, и знает. Приходи к девяти, поможешь мне. Договорились? – И тут же засел снова за телефон. Я было направился к двери, но вернулся. Горяев держал трубку и выжидающе смотрел на меня.
– Что там произошло? – спросил я. – На самом деле?
Горяев, не кладя трубки, поморщился. Видать, на этот вопрос ему сегодня приходилось отвечать, и не раз.
– То и произошло, что людей нет, – бросил с досадой. – Сейчас всякие комиссии, то да се… А как немного рассеется, посидим, поговорим, ладно? – И уже вслед: – А твой Тахтагулов – отчаянный парень. Я его не знал, но отношусь с уважением.
Так и передай жене!
Грузовичок стоял, как и прежде, у подъезда. Я отдал адрес Носову, забрался в кузов, и машина поддала газу. Выехали на московское шоссе, через десяток километров свернули к одной из железнодорожных станций, проскочили переезд и свернули теперь на земляную улицу дачного поселка. В самом конце ее тормознули у домика-развалюхи. Тут, судя по всему, и жил Тахтагулов.
Ездить в семью погибшего, как и сообщать о несчастье, полагалось сослуживцам, это я знал. И хотя формально Тахтагулов к нам уже не относился, но он был наш, и надо отдать должное Комарову – не отпихнулся, не перекинул на неведомое подразделение, где числился теперь Тахтагулов, тяжкую обязанность, где нового работника не только в лицо, но по фамилии вряд ли успели запомнить.
Мы постучали в дверь и, не услышав ответа, толкнулись и вошли, она оказалась незапертой. Молодая женщина, судя по всему, жена, в байковом халате и тапочках на босу ногу, сидела за столом и кормила ребенка кашей. На нас она оглянулась, но никак не отреагировала, будто заранее знала, что мы к ней придем.
– Мы от работы, – сказал от порога Носов. – Там, значит, деньги собрали, велели передать, – и положил на столик перед женщиной конвертик, чуть помятый в кармане.
Женщина, не глядя на конверт, кивнула и опять занялась ребенком, беленьким мальчиком, не похожим на смуглого, обветренного до черноты Тахтагулова.
Носов посмотрел на него, потом обвел комнату глазами и вздохнул:
– Вы, конечно, простите, но мне поручено забрать его спецодежду, ну, которая за ним числится.
Я видел только спину женщины и волосы, схваченные в узелок. Но она вздрогнула при этих словах, как от удара, и сжалась, наклонясь еще ниже над столом. Нам она не ответила, но прикрикнула на ребенка:
– А ты чего варежку открыл? Ешь, говорят, не твою одежу берут! Отцовскую!
И от этих слов, даже еще ранее от просьбы Носова стало мне так паскудно, так муторно, что захотелось поскорей бежать на улицу. Надо было это сделать и Носова бы с собой прихватить, не было бы стыдно перед этой несчастной в ее вмиг порушенном жилище, ибо любой дом без мужика что изба без крыши, так говаривала моя соседка. И добавляла: каждый может подойти и плюнуть. Это мы, кажется, и делали, и я тоже помогал, вот что я чувствовал. А дом и так беден и неухожен, старый, еще тридцатых годов диванчик с деревянной высокой спинкой, а в нем зеркальце, старая пружинная кровать от тех же, видать, времен с никелированными шариками на железных спинках, два табурета, стол и тумбочка для посуды. Вот и все, что нажил аэродромный техник Тахтагулов в своей недолгой жизни. Не считая спецодежды, которую мы сейчас забирали.
Носов оказался настойчивей, чем я думал, ему, как выяснилось, строго-настрого приказали добыть имущество, которое числилось за лабораторией, и он, потупясь, повторил, что вещи-то эти не отцовские, а казенные, и если он их не привезет, кому-то придется доплачивать из своей зарплаты. А числятся за Тахтагуловым меховушка зимняя и меховые штаны, да унты, да шлемофон кожаный…
– Вот и машина ждет, чтобы увезти, – добавил он просительно.
– Кто велел-то? – спросил я.
Он не ответил, но не уходил, причем я лишь сейчас почувствовал, что незаметно, но очень крепко он держит за куртку меня, чтобы ненароком не выскочил, не оставил его одного. Женщина поднялась, медленно прошла мимо нас и почти сразу вернулась, держа в руках вещи. Не отдала, а швырнула на пол у наших ног. Снова медленно прошла мимо нас, одаривая своим презрением, и снова вернулась. Так трижды, а потом встала против нас и спросила:
– Все? Или что-нибудь еще хотите? Я отдам!
– Ну зачем же, – бормотал Носов и стал все подбирать, но так неловко, что все у него валилось из рук, и он вдруг крикнул: – Да помоги же ты, черт!
Я увидел, как он расстроен, не может совладать с собой, руки не слушаются.
Наконец вдвоем мы собрали, комкая и торопясь, будто и впрямь брали ворованное, медленно, пятясь, отступили к порогу и за порог, а женщина шла следом и смотрела на нас. Боже, как она смотрела! Так, сопровождаемые ее ненавидящим взглядом, закинули мы одежду в кузов грузовичка и забрались сами, стараясь не глядеть в ее сторону. Но, конечно, мы увидели, как выскочил следом за ней пацан и спросил громко:
– А папка где?
Как ножом под сердце. Носов обернулся и стукнул кулаком по кузову:
– Заснул, что ли? Трогай давай!
А я все не мог оторвать глаз от пацана, видел, как женщина с силой оттолкнула его от себя и выкрикнула в нашу сторону, я запомнил эти слова:
– Жаль, нет нашего папки! Он бы в морду им плюнул за нас! Но ничего, – добавила, – проживем… Катитесь вы на хрен! – и плюнула вдогонку, выругавшись матом.
Меня в машине затошнило, и я попросил остановить возле станции, на переезде, мое присутствие для доставки отнятых у несчастной вдовы вещей больше не требовалось.
Знал бы я, зачем вся эта экспедиция, ни в жизнь бы не согласился ехать.
Бросив Носова с его спецодеждой, я погулял по платформе, и на ветерке чуть полегчало. Но спал плохо и утром поднялся с больной головой, поздно, снова лег, ни на какие похороны уже не собирался. Так и провалялся несколько дней – до самого Первомая, и если бы не голодная кошка за дверью, валялся бы и дальше, странная сонливость и безразличие овладели мною. Но кошка голосила, и даже не от голода, а скорей от одиночества требовала, чтобы я открыл ей дверь. Я встал, умылся и оглядел стол, ничего съестного на нем не было. На глаза лишь попалась стопка фотографий, тех самых, что печатали мы с Тахтагуловым. Я их перебрал, как колоду карт, и выудил одну: крошечная японочка, прикрыв ладошкой тайное тайных, смотрела куда-то в пространство, не на меня. Кто она, сколько ей теперь лет, где живет, кого любит и есть ли у нее семья? Никогда этого мне не узнать.
Вспомнилось, как торопливо в кустах за проходной мы делили мокрые отпечатки этой самой Зухры. Господи, если бы я знал, что она так нужна Тахтагулову, в самом прямом смысле до гроба, – разве бы не отдал!
Впереди был вечер, праздничный и тоже пустой. Неожиданно для себя я решил – съезжу к Алене, поздравлю с Первомаем и поставлю на ее немецкий приемник «телефункен» приготовленную лампу.
Кошке, которая, урча, ласкалась у моих ног, я заявил:
– Ну, чего ты? Соскучилась? Хочешь, поедем в Задольск, там живет котенок по кличке Архип, и он угостит тебя солеными огурцами.
– Вот еще, есть огурцы, да я у соседки и жирненькой мышкой промышльнуть могу!
Только в этом ли дело? – дерзко отвечала она. Но продолжала ласкаться, тереться у моих ног.
– Не только, – подумав, согласился я. – Если ты такая понимающая, заведи дружка, что ли, будете вместе мышей ловить! Я что, зазря тебя, что ли, к Архипу-то приглашаю?
– Ах, эти дружки! – произнесла она капризно. – Есть один у меня. Есть. Да что в нем проку!
– А что тебе не нравится? – спросил я настороженно, ощутив в ее женских капризах какую-то скрытую от меня истину. – Может, масть? Или порода? Или это…
Недостаточно активен? Ну, то есть пассивен и потому глуп?
– Очень уж он сер, – пожаловалась она кокетливо.
– Не беда, серый – не грязный, он тоже человек! – строго сказал я и добавил: – Была бы душа хорошая. Тебе ясно?
Конечно, говорил из нас я один, а она отвечала движением хвоста и всем своим видом. Но мы всегда понимали друг друга. А дорогой я подумал, что с Аленой найти общий язык куда трудней. Но никакого языка на этот раз и не понадобилось. Ее просто не оказалось дома. Я попросил у пожилой соседки, которая мне открыла, разрешения войти и исправить у Алены в комнате приемник. Соседка знала меня в лицо и сразу разрешила. Я вынул из свертка приготовленный мной блок с лампой-выпрямителем, вскрыл приемник, и вскоре приемник ожил, зазвучал не хуже прежнего. Я повертел ручку настройки, проверяя качество звука, и вдруг услышал знакомый голос, немного глуховатый, не похожий ни на какие другие стандартные радиоголоса. Его нельзя было не узнать.
«Тамара, – спросил он негромко, – ты меня слышишь?»
– Это он? Да?
Я оглянулся и увидел Алену, она стояла в проеме дверей прямо в плаще и смотрела не на меня, а на приемник.
Я кивнул, даже не заметив, что со мной не поздоровались, не поблагодарили за первомайский подарок, все-таки оживил дом и заставил этого немца заговорить, да еще голосом радиста.
– А говорили, арестовали, – произнесла она почти разочарованно.
Я не ответил, не захотел отвечать.
А радист вдруг сказал: «Прошу, – сказал, – всех, кто может, выключить на минуту приемник. Лишь на минуту. То, что я произнесу, касается лишь нас двоих. – И после паузы просительно повторил: – Пожалуйста! Ну, пожалуйста! – и добавил странно: – Если вы люди».
Я потянулся к ручке, но Алена сразу приказала:
– Не надо!
– Почему?
– Не надо, и все.
– Но это ведь одной ей… Тамаре!
– А может, я та самая Тамара и есть! – Она упрямо встала между мной и приемником.
Я не стал перечить, да и никаких сил объясняться не было.
Радист же, наверное, верил, что его и правда не слушают. Теперь, когда, так или иначе, все подходит к концу, он хочет сказать о том, что помнит, как они впервые встретились.
«Ты не забыла эту церковку, куда мы зашли, познакомившись минутой ранее, на сельском кладбище? У тебя там мать, у меня старики – дед с бабкой. Было песнопение, ты помнишь, кажется, Пасха, и мы стояли и слушали церковный хор, и я увидел, что у тебя дрожат губы, и протянул тебе руку, а ты ухватилась за нее, прямо вцепилась, как цепляются утопающие. И это – долго, час, наверное, а может, вечность, мы стояли, рука в руке, пока не окончилась служба. А когда мы вышли на улицу, ты вдруг произнесла: «Как повенчались, да?» Это все. Потом мы долго не виделись, но в те редкие встречи, которые были на ходу, ты каждый раз повторяла:
«А помнишь, как мы стояли перед алтарем, как жених и невеста, правда?» И однажды добавила: «Это лучшее, что я пережила в жизни». Теперь я тебе на исходе жизни готов повторить: Тамара, это лучшее, что я пережил, я знаю это точно. Я тебя любил с тех самых пор и буду любить всегда… И вот еще…»
Голос прервался, что-то произошло, при невыключенном микрофоне стали слышны голоса, но и они умолкли.
Мы ждали, я и Алена, которая стояла за моей спиной. Откуда-то издалека возник голос Левитана, он вел репортаж с Красной площади, голос его звенел победительно.
Словно грохочущий гром раздался среди ясного голубого первомайского неба, привлек внимание гостей и всех присутствующих на Красной площади: из-за древних стен Кремля ровным парадным строем, заняв все пространство от горизонта до Москвы-реки, появились наши сверхтяжелые бомбардировщики, поблескивая серебристыми фюзеляжами, они проплыли на низкой высоте, заслонив на мгновение солнце и заставив нас всех, кто это видел, испытать трепетную гордость за крылатых сынов отчизны, за золотые руки наших рабочих, инженеров и конструкторов, создавших эту замечательную технику…
– Подожди, не выключай, – попросила Алена. – Там что-то случилось, он не закончил, может вернуться!
И он правда вернулся, но голос его уже не был похож на себя. Он спешил и временами прямо-таки проглатывал слова. «Тамара, ты меня слышишь?.. Слушай, слушай, случилось несчастье. Я только что узнал, сейчас, сию минуту, что Муся… возлюбленная Кошкина, того самого, что погиб в авиакатастрофе, покончила с собой…»
Опять возникла пауза, и стало слышней, как по параллельной программе ликовал голос знаменитого диктора:
«Воздушный парад, увиденный и услышанный нашими врагами, но и нашими друзьями во всем мире, продемонстрировал могучую поступь советских народов, уверенно…»
«Мне плохо, – вдруг произнес радист. – Но я доскажу: Муся убила и себя, и ребенка, выбросившись из окна общежития, где она жила… В прощальной записке, я читаю тебе, она пишет… что всю жизнь любила своего Кошкина и без него жить не хочет… А ребенка оставлять сиротой, чтобы скитался и бедствовал, она тоже не хочет… Вдвоем, никого не обвиняя, они покидают с сыном этот ужасный мир с твердой верой, что «там» они все воссоединятся…»
Радист отключился, и стало слышно, как гудит, потрескивая, приемник, врезается торжественным маршем другая станция, но его голос больше не возникал никогда.
Автор предупреждает, что события, описанные в повести, место действия и герои вымышлены.
This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
10.11.2008
СУДНЫЙ ДЕНЬ
1
В здании старенького клуба, в центре поселка, происходила выездная сессия суда над рабочим сборочного цеха танкового энского завода Константином Ведерниковым.
Никто из собравшихся на суд в майский, теплый этот день, особенно тревожный, потому что в воздухе носилось охватившее людей предчувствие скорого конца войны, не сомневался, что дело Ведерникова решенное и закончится оно приличным сроком, ибо не стали бы по пустякам проводить такую сессию и собирать со всего завода и поселка народ.
Памятен еще был случай с электриком гальванического цеха Сырниковым, который опоздал на восемь минут и получил шесть месяцев принудработ условно. Но там, говорят, и никакой сессии-то не было, вызвали в административный корпус, зачитали по бумажке приговор и велели трудиться дальше, в том же, кстати, цехе. Только за бесплатно.
Но в том-то и разница, что у Сырникова было восемь минут прогула, у Ведерникова же этих минут далеко не восемь и даже не восемьдесят восемь, целая рабочая смена, то есть полных одиннадцать часов! Это ведь и представить и подумать страшно для тех, кто понимает, что такое не выйти на смену, прогулять без причин рабочий день, когда все твои вкалывают и не могут без тебя, ибо ты звено в их цепи, а план горит, а дело стоит, а военпреды терзают бригадира, и мастера, и начальника цеха, а те в растерянности смотрят на часы да еще на пустые платформы, которые выстроились посреди обширного двора для немедленной отправки боевой техники отсюда прямо на фронт… А техника – где? Где? Где?
Не было, так скажем, за все годы войны подобного этому случая, да и быть не могло. Не было, не могло быть, да случилось. И с кем случилось-то, благо бы с дежурным сачком, от которого можно что угодно ждать, а то с Ведерниковым, тем самым Ведерниковым, чья фамилия всегда на слуху, ею, считай, все уши прожужжали, на стендах примелькалась, в призывах многотиражки, на митингах, на совещаниях на разных, вплоть до Москвы. И везде, как в медные трубы: будьте как Ведерников! Работайте, как работает, по-фронтовому, стахановец Ведерников! Он и ударник, и передовик, и зачинатель движения… А он-то, зачинатель фиговый, и показал, чего он стоит. Это ведь как лестница, такая слава-то, чем выше поднимешься, тем больней падать!
Так, меж собой, толковали люди, стоя раненько утречком перед закрытыми еще дверьми клуба, где, по объявлению, должен состояться тот самый суд. И далее, шепотком, передавали, что неспроста видели названного Ведерникова с прохиндеистым малым Толиком Васильевым, прозванным за голубые нахальные глаза Васильком. А он сорняк красивый и есть, Василек тот сам, рыльце в пушку, но и Ведерникова-тихоню затянул в дом к молодой спекулянтке Зине, что жила со своей несовершеннолетней племянницей в домике на краю поселка. Будто в тот домик знавали дорожку многие из здешних мужичков, проторив ее задами да огородами в темную ночку, к Зине, но может, и к племяннице, из-за которой дуры-девки – и произошел громкий на весь поселок скандал в известный апрельский день, закончившийся так печально.
Видать, крепенько опутали бабы наших парней, если они пошли супротив закона. Да они ли первые, они ли последние? Весь мир о баб спотыкается, сколько он существует, от Адама и Евы, если верить кинокартинам. И сводятся, и разводятся, и на всякие сделки с совестью идут люди, да какие люди, знаменитые, не нашим ударникам-стахановцам-зачинателям дутым чета! Подумаешь, тайный притон у Зины посещали! А девка-то, племянница та недоразвитая, видать, приманкой в этой истории была. Эту девку знали многие в поселке, она на местном рынке яблочками торговала из Зининого сада, притворялась тихоней, хоть многие законно считали, что молчаливость та от глупости, от придуркости ее. Чего говорить, если она говорить не способна, и даже в школу ее не отдают. Улыбается, да рубли с червонцами замусоленными поглубже за пазуху, за лифчик сует.
Еще трепали, что уж совсем несуразно, невнятно про мастера с завода Илью Ивановича Букаты, будто и он ходил к Зине в дом, хотя заподозрить старика в разврате было уж никак невозможно. Особо тем, кто хорошо его знал. Жил он бирюк бирюком и не признавал в жизни ничего, что было не его работой на заводе. В цехе прозвали его Железным. Таким он и был. И что его могло связывать с беспутной Зиной, никто толком не мог объяснить. Вроде бы он доводился каким-то родственником племяннице той глупой. Но если оно и в самом деле так, как же он, родственничек, мог допустить, чтобы организовали подобное безобразие в доме, что стал притоном и привел к преступлению Ведерникова, который и работал в цехе у Букаты? Невозможно объяснить, вот в чем дело. И вся эта история, и участие в ней названных лиц и неназванных еще, вроде приезжего спекулянта по фамилии Чемоданов, была запутанная, темная. На этом сходились все.
В то воскресное майское утро народ словно на митинг пришел к дверям клуба барачного типа, построенного еще в годы первой пятилетки, деревянного под штукатурку, которая местами отвалилась, обнажив дранку крест-накрест.
Многие встали пораньше, чтобы занять лучшие места, как на приезжих артистов. Но комсомольские активисты, с красными повязками на рукавах, выделенные от завода, сначала пропустили своих, которые приходили целыми бригадами от разных цехов по спискам, составленным руководством. Конечно, разделение на своих да на чужих было условным, кто же тут не свой, если весь поселок трудился на заводе в разных цехах и подразделениях, кроме разве не ходячих стариков и малых детишек.
Другое дело, что люди из головных цехов направлялись по разнарядке, и хоть считался сегодняшний день выходным, обязаны были явиться в клуб, как на работу; для них-то, если предположить, и предназначался весь этот показательный суд.
А вот другим никто и не приказывал, сами пришли, явились – не запылились, страсть как хотели все знать из первых рук.
Они толпились у дверей, терпеливо выжидая, и с шуточками пропускали тех своих удачливых собратьев из цехов, прося, чтобы им не забыли занять местечко.
А тут пронесся слух, не специально ли, что в магазине «выбросили» и отоваривают по сахарным талонам конфеты из постного сахара, редкость! И будто очередь, на удивленье, не велика, и продавщица божилась, что сахара завезли много. Сперва не верили, но слух подтвердился, когда понесли тот сахар ломкими цветными кусками, привораживающими взгляд, но поддались соблазну лишь самые невыдержанные, слабачки, словом. Основная же масса, успев поохать да повздыхать, продолжала, несмотря ни на что, подпирать дверь, резонно считая, что зрелище, показанное на суде, должно стать послаще того сахара. Если к тому же в подробностях расскажут о Зинином тайном притоне и его посетителях.
Сгрудившись у дверей, люди не сразу заметили, как появилась и стала пробираться к выходу молодая женщина, светловолосая, с ярко накрашенными губами. А когда ее заметили, когда углядели, то сразу поняли, что это небезызвестная Зина и есть. Шла она в сопровождении мастера Букаты, что и доказывало: не случайны все эти разговоры об их непонятных связях, хотя, возможно, не Букаты ее сопровождал, а она сопровождала мастера, который после всех этих странных историй слег с сердцем и был увезен в больницу. То ли его выпустили, то ли разрешили встать на время суда.
Все внимание баб из толпы, конечно, сосредоточилось на Зине. И хоть была она скромно одета, в темную жакетку и платье серенькое, да и шла никого не цепляя взглядом и даже чуть опустив голову, как бы признавая свою покорность судьбе и, в частности, этим людям, самые жестокие из женщин подняли голос, во всю силу, что вот она, такая-сякая, сука последняя, прописная, что губы не забыла на суд накрасить, небось и тут надеется мужиков из прокуратуры завлечь… И все подобное, в том же роде.
И правда, в губах ли пухлых, приманчивых, в глазах ли, почти и не подведенных, но больших, серых, навыкате, было что-то впрямь завлекательное, сладко-обещающее для мужиков…
Букаты, который шел спокойно, будто ничего не слыша, уже в конце, у самых дверей, не выдержал, гневно оглянулся, чтобы посмотреть, кто же это больше других разоряется, глотку не бережет.
Но тут и ему досталось: произнесли, хоть и не столь ожесточенно, что «нече зыркать, не спужались, и лучше бы за своей ближней смотрел в два глаза, а не по сторонам, чего она еще может наперед выкрутить… Змея такая!»
Впрочем, голос не поддержали.
А вот когда проходил Ведерников с мамой и милиционером, то все смолкли, потому что знали тетю Таю, уборщицу, которая проработала и прожила тут с двадцатых годов, когда очереди были на биржу, и все лепились семьями в узких бараках, прозываемых «лежачими небоскребами»: тетя Тая тут и мужа своего встретила, тихого, непьющего, он потом, как образованный, в бухгалтерии работал, и на фронт из той бухгалтерии уходил, и вскоре пропал без вести.
Когда скрылись Ведерниковы с милиционером за дверью, кто-то громко сказал, что бедная Тая, всю жизнь страдавшая, еще теперь должна страдать из-за собственного отпрыска; а он-то, недоросток, куцепалый, он-то куда лез, о чем он думал в тот момент, когда связался с этой Зиной, бабой отпетой. О матери-то не думал в тот момент! А вот теперь засудят ни за что. Но как, возражали другие, «ни за что?». Возражали раздраженно, потому что толпа прибывала, и уже душно стало стоять, а активисты все не пускали. Как же это «ни за что»? У нас, если судят, значит, виноват, иначе бы не судили. И невиноватых с милиционером не водят, и под стражей зазря не держат, и делегатов на суд из цехов не собирают! Тот не виноват, этот не виноват, а кто же по поселку хулиганит, что страшно после заката на улицу нос показать? А кто недавно табельщицу ограбил: часы и сумочку забрал? А кто с ножом у клуба фулюганил? Но при чем же здесь Ведерников-то, он-то при чем? Ну, отвечали, если не он, так дружки какие-нибудь, житья на поселке от них нет, вот при чем. Одного посадят, так другим неповадно станет хулиганить!
Тут разговор прервался, активисты отступили от дверей, поняв, что своих уже не прибудет, и люди, давя, отталкивая друг друга, бросились к входу, спеша занять свободные места. Но уже и мест не было, клуб был набит как коробочка, лепились в проходах и вдоль стен, а самые бойкие садились на пол между сценой и первым рядом, чтобы все получше слышать… Как они там у Зины-то – ели-пили-веселились, подсчитали – прослезились. Прям про них сказано. Эту поговорку ко времени привели в здешней газете «Ленинец» два дня назад, когда писали о боевой дисциплине советских трудящихся, которые среди общего и дружного ударного труда еще нарушают сознательную дисциплину и понесут за это суровую кару, по всем законам военного времени.
Все читали эти слова и поняли, что милости на суде не будет, и приговор вынесут, намотав срок на полную катушку, лет так до восьми, хотя еще неизвестно, какая длина у этой катушки и пристегнут ли к прогулу какие-нибудь другие разоблачающие факты. А может, уже и приговор-то готов, и осталось для формальности услышать слова вины и грохнуть так, чтобы остальные содрогнулись. А иначе для чего их собирать, остальных-то? Показательный, он и есть показательный, как прежде казнь на лобном месте: смотри и думай, что с ним, то и с тобой, и с каждым, не дай бог, может случиться!
Сейчас сцена была пуста, только стоял стол с графином и несколько казенных стульев.
Но люди переговаривались и терпеливо ждали, глядя на стол с графином, смотреть больше было не на что.
Некоторые, самые невыдержанные, закурили, ядовито пахнуло самосадом, хоть они и пытались пускать дым в рукав, но скандальные бабы подняли крик в адрес несносных мужиков, которых надо гнать на улицу, иначе в этой угореловке, где и так дышать нечем, еще смраднее станет и невмочь слушать.
Мужики поухмылялись, отмахиваясь от криков, но дымить вроде перестали. Другие же забавлялись тем, что лузгали семечки, запасливо их набрав полные карманы и прижимисто раздавая по жменьке знакомым; молодежь шумно переговаривалась по рядам, слышались смешки и выкрики.
Кто-то из нетерпеливых привставал, заглядывая на передний ряд, чтобы разглядеть, кто же из заводского и поселкового высокого начальства приехал на суд. Видели спины тех самых активистов, начальников цехов, кто-то углядел Князеву, которая работала в суде, а прежде была секретарем профкома завода.
В спину можно было различить и каких-то военных, возможно, среди них находился и новый прокурор по фамилии Зелинский, чью статью о строгости законов все прочитали в «Ленинце». Было известно, что Зелинский прибыл сюда с фронта, после ранения, и был офицером, или в разведке, или в смерше, то есть именно из таких, которые чикаться и либеральничать не станут. И хорошо. Он сменил на прокурорском посту известного своей довоенной славой Григорьева, который любой факт нарушения дисциплины и опоздания трактовал как саботаж, подрыв устоев, а иногда присовокуплял и вредительство. Но Григорьев в последнее время порядочно сдал и ушел на другую работу. Но кто из сидящих впереди военных является Зелинским, каков он, правда ли, что он еврей или белорус, определить с задних рядов было невозможно. Оставалось гадать да ждать. Хоть и известно, что нет ничего более тяжкого, по поговорке, чем ждать и догонять…
Наконец те, которым надоело смотреть на пустой стол, начали по привычке хлопать и вызывать суд, будто долгожданных артистов. Некоторые засвистели. Но прошло около получаса и даже более, пока суд не начали.
2
Недели так за три до этого судного дня, ранним апрельским утром по улицам поселка, еще пустынным, прошел человек, с саквояжем в руках. Был он высок, лет сорока или чуть моложе, в военной форме без погон, и форма эта, было сразу видать, сшита на заказ из добротного английского сукна, френч, и галифе под сапоги. Только шляпа мягкая, великолепная велюровая шляпа, явно трофейная, никак не гармонировала с остальной одеждой, хоть и придавала человеку вид необычный, во всяком случае, не здешний, не рабочий, и не поселковый.
Шагал человек широко, энергично, но в то же время будто и не торопился, поглядывая по сторонам и вдыхая полной грудью чистый воздух, наполненный запахами земли, особо чувствительно воспринимаемый в это дивное предмайское время.
Денек, казавшийся поначалу сероватым, уже расходился, разголубел, и человек, видать по всему, был настроен особенно, он бойко из какой-то оперетки напевал в такт шагам, трынькал губами и, наверное, сам себе с таким настроением нравился. А старый саквояж, из добротной темной кожи, с округлыми боками и застежками наверху, с такими прежде ходили по домам земские врачи, хоть был тяжел, судя по тому, как часто приезжий менял руку, но не отягощал и не мешал его отличному настроению.
Он завернул в последнюю, из самых отдаленных, никуда уже не ведущих улочек, тупичков, сплошь в садах, так что и домиков за ними почти невозможно было увидать, и столкнулся с инвалидом на костылях, который не спеша прогуливался в эту тихую рань. Вот, не спится же человеку, а казалось бы, отвоевался, отдал что мог, ну и спи себе, задавай храпака, наслаждайся тем, что все еще воюют, а ты свою войну закончил, да вдобавок еще остался жив. Так нет, ходят, бродят, смотрят… Чего смотрят! В другое бы время приезжий только бы раздражился такой встречей, не любя лишних свидетелей, но сегодня он почти обрадовался инвалиду и сам подошел к нему.
– Папашка! – крикнул еще издали, хоть было видно, что инвалид не стар и уж точно никак не годится ему в отцы. Теперь, когда он обратился к инвалиду, стало заметно, что приезжий чуть-чуть, ну самую малость, выпил. – Папашка! У тебя закурить не найдется?
Инвалид остановился, упираясь на костыли широкой грудью, за полой длинной шинели не виден был обрубок левой ноги, окинул приезжего неторопливым взглядом и саквояжик его осмотрел, и сапоги, хромовые, еще новенькие, сверкающие (в туалете на вокзале небось носовым платком тер), и шляпу тоже, потом огляделся, может, для того, чтобы убедиться, что день и вправду только начинается, а перед ним уже стоит этакий молодец расфранченный да навеселе.
Глуховато ответил, что не курит, врач ему из госпиталя настрого запретил. А прежде-то, смолоду, сглупу, очень даже курил, и все что попадя курил, и кору, и травку, и заварку испитую от чая, когда курева серьезного не было… Так что потерпеть приятелю придется, если терпелка не кончилась!
– Да за дорогу-то! В поезде! – воскликнул приезжий. – Бабы в попутчиках, хоть кто из мужиков! То же и на вокзале! – И засмеялся, растягивая длинный рот дугой и показывая крупные зубы: – А мне доктора, папашка, терпеть, наоборот, не велели… Опасно, говорят, для жизни… Терпеть-то!
Инвалид посмотрел на собеседника и покачал головой, в серых строгих глазах будто что-то смягчилось.
– Веселый ты… Однако. Не раненько начал-то?
– В самый раз, папашка! – воскликнул человек, поправив шляпу. – Я ведь не как-нибудь, я жениться приехал!
Инвалид не удивился. Мало ли всяких чудес повидал он за войну. Да и что же такого особенного, если мужчина в расцвете лет решил семьей обзавестись. Война на исходе, победная весна на дворе, а бабы за войну застоялись, задубели, им мужичок, да еще такой фартовый, как манна с небес, счастья небось кому-то полный рот!
– Сколько на твоих не заржавленных? – спросил между тем приезжий весельчак.
Инвалид покачал головой и указал кивком на солнышко:
– А вот мои часики… Думаю, пять-то отстукали.
– Пять? – переспросил приезжий. – Вот удивятся-то. Я ведь налётом, без предупреждения… Раз – и готово! – и снова захохотал.
Инвалид, глядя на него, тоже повеселел. Да и как не повеселеешь, если от человека такие счастливые лучи исходят. Поневоле развеселишься. И уже подделываясь под тон собеседника, он спросил как бы в шутку:
– Может, твоя невеста ничего не знает, а ты женихаешься, а?
Приезжий подхватил радостно:
– Но так она точно не знает! Спит и не знает. А? Папашка! А я ее сонную с флангов и в кольцо, чтобы время на раздумки у нее не оставалось! – И вдруг, уже всерьез, спросил: – Тебя, папашка, по затылку били?
– Меня? – переспросил инвалид, еще по инерции посмеиваясь. – На войне-то не разбирают, куда бьют.
– Война, папашка, всё! – категорически произнес приезжий. – Всё! Конец ей, я о любви говорю. Кот кошечку-то как ласкает, а? Он ее лапкой по макушке тяпнет, и она твоя… И котята, и прочее…
– Ты сам-то на каком фронте был? – спросил инвалид. Так уж теперь знакомились люди, отвоевавшись, искали не только земляков, но и однополчан. Да и человек становился понятнее, когда у него про фронт узнаешь.
Это как характеристика, даже более, для любого встречного поперечного.
Приезжий оскалил рот:
– Не спрашивай, папашка! Фронтов много… Есть такие, про которые ты и не знаешь… – Он уже собрался уходить, но оглянулся и добавил: – У каждого, папашка, свой фронт!
Инвалид со знанием отреагировал:
– Ну, да… Стало быть, в разведке. Или еще в этой… которые по вражеским тылам!
– По тылам! – захохотал человек громко, на всю улицу. – Вот уж в точку попал. По тылам, да все по вражеским! И столько врагов! Папашка! Столько, что не сосчитаешь!
– Ну, слава богу, что жив, – сказал миролюбиво инвалид. Но приезжий не слышал, ускоряя шаги в сторону самую дальнюю этой улицы, к дому, которого отсюда не было еще видать.
А в доме, куда направлялся странно веселый ранний гость, поднялась при первом свете девушка Катя. Накинув легкое платье, которое ей было чуть мало, вышла на крыльцо. Глянула на себя в крошечный осколочек зеркала, что был вставлен в столбик над умывальником, и сама себе не понравилась. «Фу, уродина… Обезьяна», – произнесла, показав язык, и отвернулась.
Все в это утро казалось ей противным: и собаки, которые ночью лаяли как сумасшедшие, не давали ей спать, и это серенькое утро, и деревья, и даже инвалид на дорожке за деревьями, хотя подумать, при чем тут, право, инвалид. Но, может, каждый день беспричинными гуляньями на рассвете он и будоражил собак? Впрочем, собаки и прежде лаяли, но Катя спала крепко, их не слышала. Это что-то с ней такое стало, что напала бессонница, и оттого можно сосчитать, сколько же стуков, скрипов раздастся в доме и сколько гавкнут собаки, привязанные за крыльцом, на задах.
Вот и сейчас, заслышав Катины мягкие шаги в резиновых ботах на босу ногу по крыльцу, они усилили голос, и Катя сказала вслух: «Ну чево раскричались-то? Сейчас, подождите… Сейчас накормлю».
Она вернулась в дом и уже появилась с кастрюлей. Собаки, почуяв съестное, встретили счастливым повизгиваньем, и лишь Катя подошла к ним ближе, бросились к ней, чуть ни сбивая с ног, натягивая со звоном цепь, и ловили бурду на лету, пока вываливала в деревянное долбленое корытце. Корытце было от прежней свиньи.
Собаки жадно поедали, чавкая и подергивая животами, а Катя смотрела, как они едят, и вдруг подумалось, так отчетливо, как никогда прежде: «А зачем я вообще живу? Вот они, и Дамка и Рекс, дом сторожат, для этого они родились, для этого их держат, а меня для чего? Если бы я поняла, для чего я родилась, я бы так не мучилась и спала бы, ведь для чего-то я нужна, раз я родилась? Я готова быть собакой, сидеть на цепи и лаять по ночам, и знать, что я кому-то нужна. Но я никому не нужна, в том-то и дело. И если бы меня не было, всем вокруг легче стало бы, потому что они бы тоже поняли, что меня не должно быть, и это просто ошибка природы, что я почему-то есть. А может, и вправду повеситься? Веревка в подвале лежит…»
Стало ей легко, когда она поняла, что ей надо делать. Впервые в это утро она улыбнулась и погладила Дамку. «Дура, – сказала ей. – Ты поела, и тебе хорошо. Только по ночам не надо лаять, а надо спать. А я решила, и я это сделаю. Можешь мне поверить».
Забыв про кастрюлю, про собак, она пошла в дальний конец огорода со своим новым и счастливым рожденным чувством, вдруг принесшим ей освобождение. Ей хотелось побыть с этим чувством подольше, укрепиться в нем, чтобы никто и ничто не могло в него сейчас вторгаться, а вторгнувшись, разрушить или хоть на ноготь мизинца изменить его.
В этот момент из дверей террасы выглянула Зина, чуть растрепанная, припухлая ото сна и в домашнем халате. Поняв, что племянницы нет, она дала рукой знак куда-то в глубину дверей, и тут же на пороге встал молодой человек – светлый, поджарый, миловидный, голубоглазый. Он натягивал на ходу пиджачок.
– Толик! – произнесла Зина негромко, но с чувством, понимая, что он сейчас скроется, пропадет, как делал каждое утро, и она останется на весь день одна, в своей бабьей пустоте. И теперь полусознательно она пыталась затянуть момент ухода. – Толик! – повторила она. – Подожди! Я заверну тебе завтрак на работу.
Толик отмахнулся, ускорил шаг. Зина вдруг поняла, что он таки уходит, сбегает, почти и не простясь, и ринулась за ним, шлепая тапочками по земле и придерживая у ворота халатик.
– Толик! – крикнула сильней. – Подожди же! Толик!
Наверное, он понял, что отвертеться от завтрака не удастся, и от бурного Зининого прощанья тоже. Он уже знал, как это будет.
– Ну, чего? – спросил не поворачиваясь, стараясь быть как можно неприступнее. – Ну, простились же, Зин, сколько можно!
Но Зина совала сверток в карман, другой рукой обвивая ему шею.
– Это надо… – бормотала она, сильней охватывая Толика. – И не спорь… Нельзя же всегда не есть… Тебе сила нужна.
– Ну, Зинаида, – капризно произнес Толик, пытаясь вывернуться из ее рук, оглядываясь по сторонам. – Люди же кругом… Тебе мало?
– Мало! Конечно, мало! – запричитала Зина и, забыв обо всем на свете, стала его целовать, вот чего он и боялся. Сейчас посыпятся упреки, а то и слезы, и не будет им конца. – Мало! Мне тебя всегда мало! Ну, что тебе на часик задержаться! А?
Толик вдруг заметил вдали Катино серенькое платье, быстро воскликнул:
– Катя-то встала! Ее бы постеснялась! Взрослая девка! Она же все видит, слышит!
Но Зина как обезумевшая, что любовь со взрослой женщиной делает, держала крепко, намертво, все повторяла:
– Ничего она не видит… Ничего! Она блаженная! Дура!
Поняв, что ему сразу не уйти и нужно искать другие пути для отступления, в конце концов можно и мирно-тихо умиротворить лаской Зину, ее всегда лаской можно взять, Толик перестал рваться и сказал, проведя рукой по ее волосам:
– Она же мне ровесница… Мне стыдно при встрече ей в глаза смотреть.
– Ох, сначала! – Зина лишь головой замотала, зарываясь у Толика на груди.- Ну, потерпи годик-то… Чуть подрастет, я ее к дядьке на завод спроважу… Тогда станешь тут жить… Все тут будет твоим… Хозяином станешь-то: в дому нужен хозяин…
Разговор этот происходил не первый раз, он и в постели даже Зининой возникал, когда Толик, понимая свою власть и силу мужскую, мог от нее добиваться желаемого. А желал он получить Зинин дом, вместе с самой Зиной, то есть записать дом на себя и стать его полновластным хозяином.
Осточертело ему быть приживальщиком на этом свете, зависеть от всех, в том числе и от самой Зины.
Общежитие же, где он числился, надоело до тошноты. А вот как дом он получит, как бумаги на него справят, тогда… Тогда он и покажет, на что способен. Был у Толика надежный план, как обтяпать одно дельце, но времени на исполнение почти и не оставалось. Зина-то еще, слава богу, не знала, провожая и засовывая сверток с едой, что уже не ходит он на дурацкий завод, потому что погнали в шею из цеха, заставили заметать двор и трудиться на других подсобных грязных работах. А отсюда один путь – бежать.
Куда бежать, Толик еще не решил, но знал, что сбежит, потому что, когда он появлялся во дворе с метлой, на него пальцами указывали, смотрите, мол, как наш Василек устроился! Ловок был, но и его отставили! А Толик, не слыша насмешек, помахивал метлой, словно только и мечтал всю жизнь этот двор подметать, насвистывал что-то. Но про себя мстительно прикидывал: «Подождите! Вы узнаете, на что Толик способен!» А к вечеру, взвинченный, устроил Зине категорическую сцену: или дом, или разрыв. А Зина умоляла его повременить, ведь Катя на руках, которая от сестры сиротой осталась. Намучилась с ней, и осталось мучиться немного. «А ведь я еще не старая, правда? – спрашивала Зина. – Я ведь и ребенка могу…»
Ни о чем не договорившись, утонули в ласках, потому что Зина была неистова в любви, и все ушло в ночь, в небытие. А теперь, на выходе, разговор как бы эхом вчерашнего всплыл, и Толик повторил, без всякой, правда, надежды на результат:
– Да что ты пристала! Хозяин! Какой же я хозяин? Поморочишь да оставишь! А я гордый! Я хочу знать, что меня любят не только на словах! Возьму и уеду!
А Зина вдруг оттолкнула его от себя, разозлилась. И крикнула в лицо:
– И уезжай! Замучил ты меня совсем!
Но когда Толик повернулся и пошел, быстро пошел, уверенный, что она опять его станет догонять, и уже желая, чтобы именно так случилось, потому что ссора, особенно такая, не входила в его планы, Зина, и правда, опомнилась, бросилась за ним, и лицо ее было в слезах от отчаяния. Она тоже поняла все так, что они сейчас расстанутся навсегда.
– Ну, подожди же, – попросила виновато. – Ну куда ты? Куда ты уедешь, кто тебя где ждет? Никому ты, кроме меня, не нужен, и сам понимаешь… Одна я могу тебя любить, так люблю, что на все готова… – И далее, ластясь, прижимаясь к нему, в беспамятстве забормотала, что бесстыжий он, так ее терзает, потому что знает, понял, что она уж бумаги заготовила и переписала на него, но все лежит у юриста и ждет своего часа.
Толик о бумагах услышал впервые. Зина от него эту новость тщательно скрывала. Это теперь прорвалось, потому что довела себя и его до края. А у него аж сердце запекло, только подумалось сразу: не врет ли? Но уже в следующую минуту – нет, не врет, она не способна врать, глупа для этого и добра слишком. А потом еще про счастье, которое бы теперь не спугнуть, и не дать Зине повода пожалеть об ее откровенности… Лучше бы так и расстаться, оборвать на этом до вечера, а вечером дожать до конца.
Тут и появилась спасительницей Катя, выйдя из-за дома. Делая вид, что Толика она вообще не знает, обратилась к тетке, потупясь:
– Теть… Я хотела…
Но та ее сразу же перебила:
– Зина я, Зина, а не тетя! Сколько тебя учить!
Сказала в сердцах, потому что не отошла от разговора с Толиком, и решила про себя, правильно ли она сделала, что сказала, обмолвясь про бумаги. А тут не вовремя, но она всегда не вовремя, Катерина со своей глупостью: «Тетя!» Будто специально пришла, чтобы подчеркнуть ее возраст, при Толике… Такая дрянь…
Катя в этот раз на удивление спокойно перенесла теткин гнев и поправилась:
– Зин… Я хотела спросить, можно ли с этой корзиной на рынок пойти, она все-таки легче… – указывая на новую небольшую корзинку, которую держала в руках.
– Потому и легче, что яблок меньше влезает, – ответила, смягчась, Зина. – А почему с людьми не здороваешься? Слепая?
– Здрасте, – сказала Катя, не глядя на Толика, а по-прежнему уставясь в землю. – Мне самой яблоки положить?
– Еще половину передавишь! – сказала Зина, но заколебалась, оставлять ей Толика или не оставлять. Только отойди, вильнет хвостом, и нет его. Но практицизм Зинин победил в ней, она добавила: – Принеси другую корзину, я сама в подвал спущусь.
Катя отошла, а Зина бросилась к Толику, он стоял будто бы в растерянности после услышанной новости, вот такого растерянного, но уже управляемого, почти своего, она больше всего любила.
– Ну, ты не сердишься? – спросила. – Ты придешь? Сегодня? Да?
Толик пробормотал, но опять же по-своему, а не отчужденно, что, конечно, придет, но у него неприятности с работой, и он пока не знает, как быть.
– У тебя же мастером мой брат? – перебила в нетерпенье Зина. – Хочешь, я с ним поговорю?
– С Букаты! – воскликнул Толик злобно. – Нет! Бесполезно! Ты знаешь сама, какой это тип!
– Вредный, – подтвердила Зина. – Я с ним всю жизнь в разладе, хоть он и дает деньги на Катьку… Но сам, между прочим, не заходит!
Легка на помине, тут же опять появилась Катя с другой корзиной. Протянула, глядя в землю: «Вот. Такую нужно, да?»
Но Зина ей не стала отвечать. Посмотрела на Толика долгим взглядом и сказала: «Как договорились, да?» И пошла в подвал. А Толик, потоптавшись, не зная, как вести себя с этой странной и, видно, нелюдимой девицей, попрощался неловко, почти развязно:
– Ну, счастливо оставаться! Красавица!
– До свидания, – сказала Катя. Впервые подняла на него глаза и тут же отвела их. – А вы… приходите.
И такое сочувствие неожиданное прозвучало в ее словах, что Толик, уже повернувшись, чтобы идти, застопорился и удивленно посмотрел на Катю: чего, мол, она, по правде или так, для словца?
Катя кивнула:
– Она вас любит… Вы не думайте, что она злая. Она сердится, потому что устала. Ей трудно… Когда человек не знает, как ему жить, ему всегда трудно. А потом он поймет, и ему легче.
Она, конечно, подумала про себя в этот момент, но и про Зину, ей было жалко свою запутавшуюся тетку. Но Толик думал, наверное, про себя, и он, пододвинувшись к Кате, произнес искренне, кривя красивые губы:
– Ох, Катерина! Надоело! Мне все в этом поселке надоело!
– Я вас понимаю, – сказала, улыбнувшись, Катя.
– Да что ты можешь понимать! С работы меня поперли! Скоро из общежития попрут… А кто я без рабочих карточек, без койки, да и без дружков, которые меня оставили… Кто? Спрашиваю? А все твой дядя, между прочим! Железный! – И Толик махнул рукой.
– Я его тоже терпеть не могу, – сказала Катя, подумав. – Он к нам не приходит, между прочим. А когда у тети… у Зины, – поправилась, – были неприятности в буфете, это когда ее обокрали и хотели в тюрьму посадить… И вы тогда еще привели этого… Ну, Василь Василича…
– Ну и что? – вдруг враждебно спросил Толик.
– Ну, он нам помог, а дядя совсем не хотел помочь, и я его возненавидела… – И опять Катя попросила, будто просила за себя, никогда Толик не слышал у нее таких интонаций в голосе: – Не уезжайте! Пожалуйста! Я скоро сама уйду… Совсем… Понимаете? А Зина останется одна, а вы с ней… Вы же ее не бросите? Если ей станет плохо?
– Как это? – спросил Толик, потому что испугался вдруг разговора с этой непонятной девушкой. Она будто все про него понимала и заглядывала в его душу. А там у Толика такое творилось, никому бы не открылся и не захотел бы, чтобы его попытались открыть. Вот он и испугался этой молокососки, которую Зина и за нормальную-то не признавала, а за ней и Толик тоже не принимал всерьез… Они, юродивые, всегда догадливы, подумалось суеверно, и он, уже не глядя на Катю, сказал как можно равнодушнее:
– Ну ладно. До свидания, Катерина.
– Идите и приходите, – произнесла Катя весело вслед. – Прощайте!
И даже в этом энергично сказанном слове «прощайте» прозвучало для Толика что-то непривычное, но он уже не хотел ни о чем понимать и думать, а все страхи и сомнения оставил за крыльцом.
Выбираясь из сада, по узкой тропинке, у калиточки кривенькой, которую надо было приподнимать, чтобы открыть, иначе она цепляла за землю, увидел он человека и, еще не подходя, угадал: «Чемоданов! Легок на помине, – вот что первое подумалось, а уж потом: отчего же он в такую рань приехал, не случилось ли что-нибудь? Вот уж не хватало, чтобы и тут завалилось!»
Но судя по всему, Василь Василич был в «духах». Как он сам называл, когда бывал в хорошем настроении.
Он вприщур, сверху вниз, посмотрел на Толика и на его приветствие лишь хмыкнул насмешливо:
– Ага. Тут! Тогда держи! – и протянул саквояж, будто Толик на то здесь и был, чтобы за ним таскать. А саквояжик-то был тяжеловат!
– Что-то случилось? – спросил на всякий случай Толик.
– Случилось! – Чемоданов все рассматривал Толика.
– Сыпанулся, что ли?
– Почему сыпанулся?
– А зажигалочки… Которые я тебе?
– С этим норма, – кивнул Чемоданов и опять посмотрел на Толика. Что-то неуловимо ехидное, неприятное было в его лице.
– Тогда что же? – спросил Толик, желая спросить иное, а почему, собственно, Василь Василич так рано и неожиданно приехал, какая нужда заставила его тащиться в такую даль. Жил Василь Васильич за тыщу километров, работал на железной дороге.
– А ничего, – опять отвечал тот, не желая откровенничать. У него была противная и дурная ухмылка.
Толик потряс саквояжем, начиная злиться. Спросил впрямую:
– А здесь что? Это мне? Нет? А то мне пора идти!
Чемоданов понял, что тот в самом деле сердится, и уже миролюбиво произнес, что он привез швейные иголки «зингер», трофейные, из Германии, по червонцу штука… Но это потом, потом… Они на вокзале.
В это время залаяли собаки, он вздрогнул и погрозил в сторону дома кулаком.
– У-у, зверюги! Почуяли… Узнали… Они меня не любят! Но я им… А где все?
– Ты прям как хозяин, – сказал, вдруг успокоившись, Толик.
– А что же, – перешел на свой неприятный смешок Чемоданов. – Наши Берлин окружили… Слышал?
– Ну?
– Вот тебе и ну! И ты чего тут болтаешься?
– Бортанули меня с завода-то, – вдруг пожаловался Толик. Не хотел говорить, но вдруг сказал.
– И правильно сделали, – сразу отреагировал Чемоданов. – Вглядываясь в глубину сада, в террасу, он спросил: – Не встали, что ли?
– А куда я теперь? – гнул свое Толик. Его опять начала злить эта манера не слышать других, которую он вдруг сегодня заметил у Чемоданова.
– Куда хошь, – бросил тот, уже направляясь по тропинке. – Отнеси это в дом, – кивнул на саквояж. – Да разбуди! Мне срочно!
– Нанялся я тебе, что ли! – возмутился Толик. – Разбуди, тащи… Для продажи дашь?
Чемоданов, глядя на террасу, сказал:
– Потом.
– Иголки? Сколько штук?
– Я же сказал: потом! Все потом! – отрезал Чемоданов, что-то в его тоне было непререкаемое. Заметив, что Толик снова готов обидеться, он примирительно добавил: – Сейчас у меня дело… Но оно не к тебе. Ты понял?
Но Толик завелся, в конце концов их дела до сих пор были вместе. А если так пошло, то на хрена толочься и выглядеть так, будто ты еще о чем-то его просишь.
– Не хочешь, не надо, – сказал он. Повернулся и пошел, но остановился на тропинке и крикнул, чтобы зацепить побольнее Чемоданова: – Мне тоже наплевать на твои дела. – И ушел, насвистывая; нескладно начинается для него утро.
А Чемоданов присел на скамеечке, врытой криво, прямо у завалинки, и снял шляпу. Но опять залаяли собаки, и он вздрогнул. Сплюнул и пригрозил кулаком. В это время из-за террасы вышла Зина, а за ней Катя с корзиной яблок.
Зина на ходу объясняла Кате, наверное, в сотый раз, как надо торговать яблоками на рынке, чтобы не обжулили.
– Ты, Кать, смотри не продешеви, – втолковывала она. – Стой как солдат на часах, но цену держи… Корзиночку-то не выставляй вперед, а под себя запрячь, да по штуке одной доставай… Как продала, деньги спрятала, а ты их знаешь куда прятать-то?
– Каждый день одно и то же, – сказала ровно Катя. – Знаю, Зина. Вот сюда… – и показала на грудь.
– Ну и хорошо, – обрадовалась Зина. – А сердиться не надо. Денежки хоть и бумажные, а сердце согревают.
Тут она заметила Чемоданова и немного смутилась. Такой ранний визит мог смутить кого хочешь.
– Ой, Василь Василич! – произнесла она растерянно. – Так неожиданно! – А сама уже вглядывалась в гостя, стараясь понять по выражению лица, что же означает столь ранний визит.
– С первым поездом, Зиночка, – сказал Чемоданов и посмотрел на Катю, пристально посмотрел, Катя потупила глаза. – А предупреждать некогда было… Дело у меня такое… Здравствуй, Катюня!
Катя кивнула и спросила Зину:
– Я пойду? – понимая так, что сейчас взрослым надо выяснить свои дела, а она тут, понятно, лишняя. Наверное, они и ждут, когда Катя уберется. К этому она привыкла.
Но Чемоданов почему-то заторопился и сказал, обращаясь к Кате, никогда к ней прежде не обращались:
– Стой! Подожди! Разговор у меня… Садись, Зиночка… И ты, Катюня… Садись… Ну?
Зина села, не сводя с Чемоданова пытливых глаз, никак не могла она сегодня с ходу раскусить этого человека, и оттого пугалась. И Катя села, недоуменно посмотрев на тетку, я-то, мол, тут при чем, если ваши знакомые приехали. Заметив, что Чемоданов смотрит на ее оголившиеся коленки, она подтянула платье, но так оно было коротко, что не могло закрыть этих коленок беззащитных. А Чемоданов впрямую продолжал рассматривать племянницу, отмечая про себя и светлые волосы, заплетенные в кривые косички, и серые, чистые, какие бывают лишь у девочек, глаза, и худенькую шею, и плечики узкие, и едва прокалывающиеся сквозь платьице груди, и эти обнаженные коленки, белые, непорочные, как первый снег… Стало жарко ему при виде этих коленок, по спине электричеством прошла дрожь. Всю дорогу твердил и выпил для храбрости, но, видать, больше надо было выпить, да еще и курить охота. И он вдруг спросил Зину, нашелся, что спросить:
– У тебя папиросочки не завалялось случайно?
– Ну как же, Василь Василич! – обрадовано ответила та. – Есть и папиросы, – и уже поднялась, чтобы сбегать за ними, но Чемоданов вдруг сказал торопливо, как выдохнул:
– Нет, не сейчас… Я ведь, Зиночка, приехал, чтобы твою Катюню в жены взять!
Выговорил, слава богу. И сразу посмотрел на Катю. Та сидела, не шелохнувшись, запрятав неловкие, мешающие ей сейчас руки под мышки. Да и сама похожа на мышонка: серенькая, напуганная.
А Зина вдруг глупо хихикнула:
– Ты, Василь Василич, шутишь, да?
Но ее смех прозвучал искусственно. Догадалась она, что не шутка, да и нельзя было не догадаться, глядя на Чемоданова. Всегда более чем самоуверенный, он покраснел, как мальчишка, такого она его еще не видела. Смущенно пробормотал:
– Да нет… Зиночка, я всерьез!… Какие уж тут шутки. – И вынул зачем-то платок, стал сморкаться. Платок был тоже трофейный, в синий горошек.
Но Зина уже пришла в себя, потому что все теперь ей стало ясно. Она сказала Кате, которой нечего было дальше слушать:
– Отнеси в дом багаж и накрой стол…
– А яблоки, а базар? – спросила вдруг глупая Катя. Она не понимала того, что случилось.
– Ах, какие яблоки! – в сердцах произнесла Зина и с силой подтолкнула ее к крыльцу. – Иди, иди! Слушай, что тебе говорят!
Вернулась, посмотрела, точно ли Катя ушла, а не стоит ли, не подслушивает за углом, хоть за ней этого никогда не водилось. Да и причин таких, как сегодня, не было. Присела, произнесла, поджав губы, что Катя еще молода. Слишком молода. Да он и сам видит, какая она дура.
– Молодость, Зиночка, недостаток, который быстро проходит, – отвечал Чемоданов, обретая былую уверенность. Платок он убрал.
– Да она же… Ребенок!
– Откормим! – сказал Чемоданов уверенно. – Это у них как у поросят. Быстро округляются!
– И глупа ведь… – настаивала Зина.
Тут Чемоданов поднялся и уже сверху, наклоняясь к Зине, начал говорить, жестко произнося и выделяя каждое слово, что умных с него довольно, сыт по горло ими… Одна такая умная, когда он уехал по делам, очистила дом так, что крупинки не осталось. А Катя молчалива, тиха. И терпелива опять же, и дома любит сидеть. Золото, а не девка.
– Я ее как год назад увидел, – сказал Чемоданов со вздохом, отворачиваясь от пытливых Зининых глаз. – Как увидел… Подумал: это моя! Так-то, Зиночка. – И потрепал ее по стриженной коротко головке.
Та вдруг размякла. Спросила, поднимая собачьи глаза:
– А я уже не своя?
– А ты не своя, – сказал он добро.
– Это почему же?
– А потому… – отвечал он ровно и все трепал ее непослушные волосики. – Потому, что ты для всех своя… И для Толика ты своя. И для выпивох, которые…
Тут Зиночка отмахнулась от его руки и встала. Она и впрямь рассердилась:
– Ты что! Чемоданчик! Ты это кем же меня прозываешь?
– А ты собой девку не прикрывай! Тогда и прозывать не стану! – резко в лицо бросил ей Чемоданов. Но тут же смягчился, понимая, что ничего руганью не добьешься, не так надо: – Катька мне нужна! Как это поется в довоенном фокстроте: «Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет!»
– Какая любовь! – отмахнулась Зина. – Тебе сторож для дома и для денег нужен!
– А ты, Зиночка, моих денег не считай! – вскинулся Чемоданов. – Ты от них имела кое-что… Может, пора и возвращать? Должок-то?
Знала Зина, что напомнит Чемоданов о долге, невероятной сумме, которая спасла ее от тюрьмы. После того как обокрали буфет при вокзале, долго Зину таскали к следователю, все пытались чего-то добиться. Наверное, считали, что сама себя и обчистила, и припрятала до лучшей поры. Допытывались, как и когда приобретен дом, и лишь успокоились, когда принесла она справки, что дом этот от сестры, умершей в начале войны, Катиной мамы, что работала в поселке учительницей. Вот в эту трудную пору и объявился в доме с помощью Толика энергичный, все умеющий и все имеющий Чемоданов. Деньги дал под расписку, но еще и пожил тут в охотку, сразу приноровив к себе покорную Зину, хоть Толик небось говорил, не мог не сказать, что с Зиной у него какие-то отношения. А потом еще наезжал, и появлялись на столе коньяк и водка, и музыка под патефон, и неунывающий Толик, который делал вид, что все идет как надо. И Чемоданов, будто от века положено, ложился к Зине в постель, покрикивал на Катю, как на родню, а днем пропадал на рынке или у каких-то дружков, приходил навеселе, заваливался, требуя, чтобы Зина снимала ему сапоги и дала бы в постель попить, да сама бы скорей шла.
Но про деньги Чемоданов, надо отдать ему должное, не напоминал. Может, берёг неотразимый момент напоминания до лучших времен. А Зина помалкивала. Она-то понимала, что при ее нынешней работе, в багажном отделении на станции, никогда не набрать ей той фантастической суммы, которую она взяла. Что-то копилось от продажи яблочек, которые Зина умела хранить так, что лежали целехонькие до весны. Так ведь сколько лет, сколько зим надо, и все равно не выходило… Получалось, что до конца жизни нести Зине этот долг, если еще захотят ждать. Потому и сжалась, как от удара под дых.
– Да что ты! – пискнула едва слышно. – Где же я тебе возьму-то?
– Этого я не знаю, – сказал тот и вздрогнул, потому что вдруг залаяли собаки, которых он терпеть не мог, но и они платили ему тем же. Сейчас чувствовали, что чужой у дома, и заливались, не хотели успокоиться.
– Заткнула бы людоедов! – крикнул он вспылив. – У меня такой день, черт возьми! Они у тебя без понятия!
– А что с них взять, – робко произнесла Зина. – Живая тварь. Тоже жить-то хочут.
– Все хочут, Зиночка! – сказал наставительно Чемоданов. – И я хочу! Победа-то на носу! Берлин окружили… А я хотел в новую эту жизнь, как бы тебе сказать… Новым человеком… Ну? Поняла?
Зина кивнула. Она-то давно все поняла. И поняла, что обречена, поперек Чемоданова ей не выстоять. Вот как сама Катька поведет себя. Дело-то в ней, а не в Зине, которая сломана, и если перечит, то лишь потому, что совесть болит. Всю жизнь Зине совесть жить мешала. Еще и покойная сестра Люся и другие говорили, ты, Зина, говорили, добра, и пропадешь ты со своей добротой. Всех-то тебе жалко, и буфетных выпивох, и проводников с поезда, и заезжих каких пассажиров. Всем ты открываешься, всех подкармливаешь, оберут они тебя. Как увидят, что ты слаба, так и оберут.
Был у Зины приживальщик Леша, пил и нигде не работал. А Зина его держала. Жалко тоже было. Потом-то, в долгом раздумье на следствии, прикидывала, не он ли с дружком ее и почистил, потому что пропал в те самые дни. Но никому ничего она не открыла. Раз доверяла, сама и виновата. А случись, появится, снова бы, наверное, доверила, потому что любила его. А теперь до смерти еще и в Толика влюбилась. Десять лет между ними разницы, пропасть, если посудить. И она знает, что обречена, но верит, во всем ему верит, хоть он из нее веревки вьет. Так она еще и рада такому, пусть себе вьет и пусть требует, может, в этом-то и есть ее, Зинино, счастье, чтобы быть веревкой, чтобы кому-то угождать, лишь бы не бросили… А вот Катя другая. Какая, сразу и не поймешь. Но точно другая. Зина со своими бедами и не заметила, как она вытянулась, стала настороженным подростком. Все тишком и молчком, а что на уме, того сроду не узнаешь. Потому Зина и произнесла сломлено, чтобы закончить этот разговор:
– Пусть сама решает. – И встала, показывая, что пора им идти в дом.
Чемоданов встал, за деревьями увидел инвалида, того самого, с которым так неосторожно разговаривал.
– А этот чего ходит? – спросил. – Чего высматривает-то?
– Гуляет, – ответила Зина. – Пойдем, что ли…
Чемоданов оглянулся на инвалида и проворчал, что это милиция гуляет, так она одновременно и дело при этом делает. А этому чего не спится-то, он свое отпахал, ну спал бы себе, а не шатался по улицам в такую рань.
– Из госпиталя он, – сказала Зина, будто оправдываясь за инвалида. Все утро ей оправдываться приходилось. – Тут неподалеку жил, а семья гостила на Украине, там их сожгли в избе. Ну ему-то куда? Остался один, вот и ходит. – И повернувшись у самого крыльца к Чемоданову, Зина, приблизив лицо, попросила, как милостыню просила бы у чужого: – Может, годик подождать? С Катей-то… Совсем ведь мала она. А? Василь Василич…
– Нет, – сказал он твердо и попытался ее обойти. Но Зина стояла у порога и смотрела ему в глаза. Страданье было на ее лице.
– Но я-то не готова!
– До завтра времени много!
– Завтра?
– Завтра, – подтвердил он. – Наварим, напечем и сыграем. У меня времени в обрез, Зиночка! У меня дом и служба… Такие-то дела.
Входя в дом, Чемоданов уже знал, что он будет делать. Зину уломал, и уж с девочкой-то справится, в этом он не сомневался. Тут надо было бить по затылочку, как инвалиду про кошечку объяснял. Не зазря объяснял, знал, что говорит. Кошки умны, а собаки дуры… Вот и опять услышал, входя на террасу, как разорались, вызывая в нем какой-то странный, ничем не объяснимый испуг, в котором он и сам себе бы не сознался. Но как сейчас он ни ненавидел этих собак, а в мыслях его была Катя, которую он жаждал. Он знал женщин, и было их не мало, из них некоторые попадались впрямь красивые, особенно актрисулечка одна из областного театра. Но не удерживались они около Чемоданова потому лишь, что на ум взяли себе, будто они такие же личности, как мужчины. Все-то им нужно: общественные дела, работа, поездки. А у него другие понятия о будущей семье, и такие вот, чтобы жена сидела дома и вязала… А хоть что вязала, не имеет значения. Борщ или там котлеты приготовила и вяжет, смотрит в окно, ждет мужа. А он, работяга, придет, и хозяин перед ней, и господин: сымай сапоги, еду тащи на стол… Да сама не пикни, пока не спросят, а лишь глазами благодари господина, что он разрешил сапоги снять и конфет со склада притащил. Грызи себе конфеты, еще и орехов притащит, и другое все, и радуйся, и свою радость мужу показывай, чтобы он тоже чувствовал, какой он хороший человек, что при нем радуются и в доме пахнет достатком.
Наверное бы, Зина могла стать такой бабой, в понятии Чемоданова, но Зину испортили многие мужики. А Катька у нее ничем не испорчена, как чистый лист под пером, все, что напишешь, все первый раз. Он – первый мужчина, он и отец, и наставник ее, бог, словом.
А тут совпало, что последняя шлюшка, которую он держал, обобрала его и пропала. А он в милицию не подавал, слава богу, мелочью отделался, а денежки в золотых десятках-николаевках у него были надежно спрятаны. Не зазря поезда из Германии с барахлом вывозил, когда генеральши себе тащили. Вагончик генералу, вагончик себе; да не дохлое тряпье, как те дурочки, и не ковры, не автомобили, а такие редкие вещицы, как зингеровские иголочки, их миллион в одном чемодане поместится, а все чистая монета! По червонцу штука – уже десять миллионов рублей! Такие денежки доброхотной голодраной Зиночке с ее яблоками и не снились. И Толику-прохиндею, который зажигалочками промышлял. Вот оно, чем он встретит Катю, а с ней уже вместе новую жизнь – в новом послевоенном прекрасном мире!
Так раздумывал, прикидывал еще прежде Василь Василич. Переступил порог, а тут сама Катя навстречу с посудой в руках. Не давая ей опомниться, Чемоданов бухнулся перед ней на колени и сразу показался таким беспомощным, даже жалким. Но он-то знал, что делает. Старомодный, смешной способ, вроде как дарение цветов, но женщин поражает, известно, в самое сердце.
– Катенька, – произнес дрогнувшим голосом. В этот момент он и сам верил, что любит ее. – Катенька, я стар, я все понимаю, но ты не гони… Послушай старого дурака, только послушай, а потом сама и решишь! Как скажешь, любое твое слово закон… Только послушай, пожалуйста!
Катя держала посуду, испуганно глядя на него. И сама-то подрагивала, как тарелочки в руках: никогда еще перед ней не становились на колени, только в кино она видела, как это происходит. Но на то и кино, что там не по правде. А здесь!
– Что вы! Василь Василич! Ой, встаньте! Я не привыкла! Мне неудобно! – говорила она, все держа тарелочки и не зная, что с ними и с Василь Василичем и с собой делать. Дико все это, наверное, выглядело со стороны. Вот и Зина из-за спины выглядывала. Но молчала. А Чемоданов всхлипнул, слезы заблестели у него на глазах.
– Катенька! Если согласишься… Я без тебя все равно не уеду… Вот, у меня и литер на двоих…
– Ну, встаньте, – попросила Катя, ей вдруг самой захотелось плакать. – Ну, встаньте… Ну, пожалуйста, Василь Василич.
Но он будто не слышал.
– Судьбу мою, жизнь мою ты можешь сейчас решить… – Уже навзрыд говорил Чемоданов. – Один в целом мире, – бормотал и стал целовать ее ножку. Катя в испуге дернула ножку на себя, и он стукнулся об пол лбом. Громко стукнулся, но даже не заметил, продолжал плакать и цепляться за нее. Господи, да что же Зина стоит, не поднимет его, не поможет встать, он ведь так и умереть может! На лбу темное пятно от удара, с ума он сошел, что ли!
Но Зина, побледневшая, будто неживая, только произнесла одними губами, Катя даже не поняла, по губам ли, без звука, или ушами разобрала сказанное Зиной: мол, тебе жить… Думай сама… Думай и решай… А вместе с этим в уши проникло и другое, и оно, будто стихия, все переворачивало в Кате, вызывая непонятные ответные слезы. Не к мужчине этому слезы, а к самой себе. Словно мужчина был и ни при чем.
– …Вместе… Вместе будем… Как куколку наряжу… Шоколадом кормить буду… Красивей всех станешь, маркизет! Панбархат оденешь! Вагон барахла из Германии для тебя специально… Любое твое слово, как повелительницы, станет… Ручкой двинешь, и все для тебя… Я же все могу!
– Он все может, – в тон за ним вторила неживая Зина.
Катя вдруг поняла, что Зина уже ни при чем, стоило теперь на нее посмотреть, и что она, Катя, впервые сама по себе, она хозяйка всего, чтобы она сейчас ни сделала. И, осознав это, вдруг торопливо шагнула к столу, поставила посуду и присела перед Чемодановым, глядя на его заплаканное, мокрое от слез лицо. Кухонным полотенцем, почему-то оказавшимся у нее в руках, стала вытирать ему лицо и при этом она говорила, повторяла, не вдаваясь в смысл сказанных самой слов:
– Я скажу… Вы встаньте, Василь Василич… А то мне неудобно… Я согласна… Я, конечно, согласна… Правда…
Зина как стояла молча, опустилась на стул и, подперев кулаком голову, вдруг произнесла равнодушно:
– Ну и дура! Подумала бы сперва!
– Зина! – крикнул Чемоданов и сразу вскочил, угрожающе, с кулаками надвигаясь на Зину, Кате даже страшно стало.
А Зина и не шелохнулась, не испугалась, будто и не видела Чемоданова, она смотрела лишь на Катю.
– Все равно дура, – повторила хрипло. – Хоть поартачилась бы для форсу.
– Зина! – крикнул опять Чемоданов, в бешенстве он схватил тарелку и бросил на пол. Зина посмотрела на разбитую тарелку, потом взяла другую и тоже швырнула вслед первой, аж брызги полетели. Будто проснулась: голос, жесты, глаза – все в ней стало другим.
– Ладно! – бросила Кате. – Катись! По обратному билету! Баба с воза, так лошади легче!
Вот когда у Кати сердце зашлось. Все, что передумала-пережила за эти бессонные ночи, выплеснулось у нее наружу.
– А я бы, тетя… – и повторила, нажимая на это слово: – Тетя… И не на такое согласилась… Чтобы только из дома из вашего… – и заплакала, прижимая руки к лицу.
– Катя! – опомнившись, вскрикнула, подскочив, Зина. – Да ты что? Ты по правде? – и стала гладить ее голову, ее руки, прижимая изо всех сил к себе. – Ну я, ладно… Озлобилась, так я на волоске висела. А ты-то! Ты же за моей спиной войну прожила, ты и трудностей-то по-настоящему не видела! Дома ведь пересидела! Дома!
– В подвале! – сказал Чемоданов. Он уже опомнился, будто слез и криков и не было.
– Почему же в подвале-то? – спросила, впервые оглянувшись на него, Зина.
– А где же ты ее держала? Не в подвале?
– Так наказывала когда…
– Я и говорю: наказывала! – быстро отреагировал Чемоданов. – Подвалом… Разве нет?
– Зато у своих, – отмахнулась Зина. И снова только к Кате: – У родни… После смерти матери-то, Люси, кому ты была нужна? Может, дяде своему? Скажи? Ну?
Чемоданов стал ходить по комнате, глядя то на Катю, то на Зину, обе отчужденно теперь молчали. Он подошел к Кате, сидевшей так, что за руками не видно было и лица. Обнял ее, будто отцом был, и стал говорить, знал, что обе его слушают.
– Ну и тетка у тебя… Катюня… Сколько ты, говоришь, у нее отсидела-то? – Хоть ничего такого Катя не говорила и не думала говорить. Просто были случаи, когда Чемоданов приезжал к Зине, к Толику, а у Кати в это время подвал был за непослушание. Все он видел, но ни слова не говорил, это сейчас почему-то обиделся за Катю. – Сколько? За войну? – повторил. – А я вот полчаса с ней сижу, и то терпение кончилось! – И вдруг, оторвавшись от Кати и подняв палец на Зину, он предложил: – А хочешь, Катюня, мы ее посадим в тюрягу? Мы же с тобой вдвоем, а она против нас одна…
– Меня? – спросила Зина, снова побледнев: что ж с ней сегодня все что хотят, то и говорят. – За что же меня-то?
– А за все! – воскликнул Чемоданов, повеселев. – За Катькины муки, вот за что!
Чемоданов подошел к окну и снял с руки золотой перстень с прозрачным камнем, который будто сам по себе светился и сверкал цветными искорками. Не поворачиваясь, он сказал:
– Легенда такая… Король написал три слова палачу, но запятую не поставил… – И тут же, будто знал, что это именно так произойдет, он сверкающим странным камнем прямо по стеклу, лишь жесткий режущий звук пронесся, написал три слова: «Казнить нельзя помиловать». – А запятая тут ценой в жизнь человека!
Чемоданов вновь подошел к Кате, взял ее руку и крепко вжал в ладонь перстень:
– Это тебе, миленькая… Свадебный подарочек… А теперь иди… – Он легко поднял ее и подтолкнул к окну. – Иди… И поставь запятую. В твоих руках судьба твоей тети… Как поставишь, так и будет… Поняла?
Катя стояла у окна, а Зина и Чемоданов смотрели на нее. Может, это длилось мгновенье, а может, всю жизнь, никто бы не сказал, сколько прошло времени, пока Катя с зажатым в кулачке перстнем стояла у окна.
А за мутным стеклом, за белыми крупными буквами слов «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ», написанных размашистым почерком, чернели деревья, и в просвете за ними вставало солнышко, в размытом голубеющем небе. В это время Катя всегда была на рынке. Каждое утро, когда она по молчаливой окраинной улочке проходила будто на работу на этот привокзальный, привычный более, чем свой дом, рыночек, где знала она наперечет всех барахольщиков и всех старух с семечками, на пути странным образом, торопливый и сонный и будто никого не видящий, попадался ей юноша, подросток еще, который с баночкой пол-литровой, наполненной вареной картошкой, шагал на работу. Ясно было, что на работу, еще со сна он все время натыкался на Катю и лишь в последний момент успевал отпрянуть, провожая ее удивленным взглядом. Как его звали? Кто он был, куда шел? Худенький, с острым личиком и усталыми, как у пожилых и поживших людей, глазами. И что он думал о ней, целый год день за днем встречаясь на одном и том же месте? «Здравствуйте вам»… Катя вдруг увидела прямо внизу за окном корзиночку яблок, приготовленную для рынка. Огляделась, будто просыпаясь, потом швырнула на стол перстень – он покатился прямо к Чемоданову – и выбежала из комнаты. Зина хотела ее догнать, уже поднялась, но Чемоданов с силой посадил ее, взяв за плечо.
– Нишкни! – произнес. – Пусть поостынет. Она теперь наша. А ты-то вредное, оказывается, существо… Ох, вредное, я бы на ее месте запятую после слова «казнить» поставил… Казнить, запятая, нельзя тебя, Зина, миловать! Вот что она думала про тебя. Но пожалела! Дурочка!
Тут он полез в саквояж, что стоял на полу около комода, и стал вынимать оттуда вино и консервы. Ловко вскрыл бутылку, налил в стаканы, что были уже приготовлены на столе, и поднял свой стакан.
– Но я тебя прощаю, – произнес. – Ради Катюни прощаю. Поняла?
Зина молчала.
– Нет, не рада, – сказал строго Чемоданов. – Значит, не поняла. Тебя Катя сейчас от тюрьмы спасла, вот что она сделала. – И приказал, почти прикрикнул: – Бери стакан, и – чтобы радость на лице! Ну?
Зина безвольной рукой, тоже почему-то белой, взяла стакан и слабо повторила:
– Поздравляю… Василь Василич…
– Так-то! Тетка! Я тебя теперь буду звать тетка! И не перечь! Выпьем за нашу победу! Ура!
Наверное, Чемоданов крикнул громко, потому что во дворе опять подали голос собаки, и он передернулся при их голосе и побледнел.
– У-у! Зверюги, – пробормотал, отрезая от огромного куса колбасы, особенной какой-то колбасы, такой здесь в поселке и не видывали, и зажевывая снова налитую и опрокинутую в себя водку. – Чувствуют, зверюги, что им хана приходит. Ты спрашиваешь, Зина, почему хана? – сказал Чемоданов, глядя Зине в лицо, ни малейших признаков улыбки не было в его голосе. – А потому им хана, что когда мы с Катей будем здесь жить… Да, верно, мы так и сделаем, мы будем здесь жить, а ты за занавеской… Но мы тебя обижать, Зиночка, не станем. Ты будешь нам теткой, мамочкой нам с ней… с Катюнечкой… С женой моей, значит…
Чемоданов на глазах хмелел, глаза его поплыли.
– Постой, – вдруг подняла голову Зина, отставила не пригубленный стакан. – Кто останется? Ты останешься? А обратный билет? Литер?
Чемоданов с превосходством, поглядывая на Зину, налил себе и снова выпил.
– Умная ты, Зиночка! – сказал с чувством. – А дура! Катя и то умней тебя. Потому тебя и в буфете обчистили, что доверчивая ты со всеми!
– Я сейчас с тобой доверчивая, – напомнила Зина. Но смотрела, ждала ответа.
– И со мной! И со всеми! – произнес развязно Чемоданов и опять стал наливать. Уже поднес к губам, но раздумал, поймав ее недоуменный вопрошающий взгляд. – Мне тут нравится, Зиночка, вот что я тебе скажу. В доме твоем, понимаешь… А литеры – тьфу! Что ты к ним привязалась! Право дело! Сейчас я… Смотри…
Он полез в боковой карман, достал огромный кожаный бумажник, открыл, видны стали плотные купюры. Где-то между ними разыскал синие бумажки железнодорожных литеров, которые так трудно всем доставались, уж Зина-то знала им цену, сунул их под нос Зине, потом скомкал демонстративно и выбросил в форточку.
Собаки при этом подняли лай на всю улицу. На лице у Чемоданова выступили пятна. Он огляделся, он бывал в этом доме и знал, где что лежит и где хранится ружье. Это ружье тульское, довоенной марки, еще оставил Зинин брат Букаты, когда ходил до войны на охоту и жил тут с двумя сестрами. Чемоданов дрожащими руками схватил ружье и бросился на улицу. С порога он крикнул, обернувшись к Зине:
– Пристрелю к черту… Надоели, изверги…
Выскочил на улицу, но тут же вернулся, держа ружье так, что дуло было на изломе: нужно только вставить патрон.
– Патроны? Где патроны? – разгоряченный водкой, Чемоданов был яростен, лицо его пылало. – Зина! Тебя спрашиваю: где патроны? Ну?
– Значит, тебе не только Катька, тебе и дом мой, и собаки мои… Тебе все? Все? – спросила тихо Зина, глядя на Чемоданова широко открытыми глазами. Что-то еще до нее не доходило. А ведь ясно же ей было сказано, что дом ему нравится… Что с Катей тут будут… А она за занавеской… И обижать не станут… Теткой будет… Ну, и домработницей, не без этого… Чемоданов начал втолковывать, глядя ей в лицо, но вспомнил про собак, и опять на него нашло, рявкнул, посуда зазвенела от его голоса:
– Зинка! Патроны, спрашиваю, где? Молчишь? – он показал ей кулак. – Ну, молчи, молчи! Они тоже замолчат скоро! – Он бросил на стол ружье, изломанное буквой «Г», долил остаток из бутылки себе в стакан, залпом выпил, а бутылку прямо с террасы запустил в сторону собак. Потом в сапогах, не в силах их стащить, опрокинулся на большую, высокую, железную кровать с ярко-красным залатанным одеялом и сразу захрапел, будто сделал дело, огромный, сильный мужик, он даже сейчас во сне был Зине страшен.
Но она не как прежде, не подошла, не разула, не ослабила ремня и не расстегнула воротничка на шее, а продолжала сидеть в каком-то странном забытьи, которое было похоже на бесконечный обморок.
3
На сцену прошли, разговаривая между собой, несколько человек, среди них узнали Нину Григорьевну Князеву и секретаря комитета комсомола завода Вострякову. Были еще четверо, двое в военной форме без погон, так что публика не сразу смогла разобраться, кто же из этих двоих тот самый новый прокурор, пропечатавший в газете сердитую статью.
Во тьме зала произнесли врастяжку: «Ишь сколько рыл на одного-то! Съедят!» И те, кто в рядах передних слышал, рассмеялись, негромко, правда.
Несколько минут у объявившихся ушло на какие-то свои выяснения. Они стояли, не глядя в зал, будто его не было, и совещались, небось делили места. Наконец расселись за столом, а Князева оказалась в самой середке. Ее знали на заводе от начала войны, от первых дней эвакуации: сперва как общественницу, из ОТК, потом как председателя цехкома, а потом и всего профсоюза завода, пока она вдруг не стала на поселке судьей, закончив заочно юридический.
Князева громко объявила в зал: «Встать, суд идет!» Все послушно поднялись, застучав откидными стульчиками, и так же громко сели: будто темная вода вспузырилась, прихлынула и отхлынула от берега. Стало вдруг тихо. Возникла пауза, откуда-то сбоку из-за сцены вывели Ведерникова, вывел его милиционер и тут же ушел. В свете желтых клубных ламп обвиняемый показался еще меньше, чем на улице: подросток, каких еще болтается немало по дворам, с неестественно тонкой шеей и узкими плечами. Одет он был в форму фезеушника, из которой за несколько лет нисколько не вырос: темные диагоналевые брюки, протертые на коленях, и темно-белесая застиранная рубаха, подпоясанная, как гимнастерка, ремешком. Металлические пуговки тускло блеснули, когда Ведерников присел на поставленный для него у края сцены стул.
Князева выждала, пока уляжется прошедший по залу шумок, люди обсуждали появление обвиняемого, некоторые знали его по заводу, по цеху, но большинство видело впервые, и стала зачитывать состав выездной сессии суда, так это называлось. Себя она объявила вовсе не судьей, а председателем, а двух сидящих рядом мужчину и женщину – мужчина был в форме военной, но без погон – народными заседателями, а потом она уже назвала защитника и прокурора. Тут в зале громко зашептались, вытягивая головы и даже приподнимаясь, чтобы разглядеть названного прокурора, все указывали в правый угол сцены, где сидел тоже в военной форме без погон человек и держал папку.
– Этот? Который лысый?
– Да не лысый! Какой он лысый, он же стриженый!
– А смотрит, смотрит, все ищет, как упечь! Ишь, бумаг исписал!
– Глазами так и зыркает!
Прокурор, и правда, был коротко пострижен, светлоголов, с высоким лбом, обозначившим небольшую пролысину. Он был не стар, на вид лет тридцати пяти, и глаза у него были красивые, светлые. Из тех, кто ближе сидел, могли рассмотреть, что глаза у прокурора лучистые, сине-голубые. Защитник же всем показался занюханным, будто пахнувшим нафталином, в своем мятом темном костюме, о нем и разговору в публике не было. Многие знали, что это Козлов, робкий и смирный человек, может, самый осторожный в округе, он не только преступников, но и себя, случись какое дело, не смог бы серьезно защитить. Но его и приглашали обычно на дела несложные, проверенные, именно такие, как это, когда все очевидно: и преступление и сам преступник налицо.
В конце объявили еще Ольгу Вострякову, как представителя общественности завода, и в зале снова возник шумок, возник и пропал. Ольгу Вострякову знали достаточно по разным собраниям-митингам, не считая нервотрепок из-за членских взносов. Ее побаивались, но вовсе не из-за взносов, и в компании, где иной раз собиралась на дому молодежь, ее старались не приглашать.
Шум же возник вовсе не по этой причине.
Тем, кто знал, да и не знал тоже, двух присутствующих на сцене женщин, стало понятно, что бабы, как было вслух обмолвлено по рядам, перевесят мужиков, а еще и третья заседательница, хоть и пожилая, молчаливая – тоже баба, и фронтовикам бывшим тут не поспорить. Впрочем, а где нынче, в войну, без баб? Они и судят, они и судятся, и все равно правы!
Князева громко спросила Ведерникова, нет ли у него замечания по составу суда, и он что-то ей ответил. По всей вероятности, сказал, что замечаний у него нет. Князева надела очки и, взяв со стола принесенные бумаги, стала зачитывать обвинительное заключение на Ведерникова Константина Сергеевича, шестнадцати лет, беспартийного, холостого, выпускника ФЗО в сорок втором году, слесаря-центровщика сборочного цеха. Она читала о том, что Ведерников нарушил трудовую дисциплину, прогуляв рабочую смену 19 апреля 1945 года, о чем в прокуратуру поступило соответствующее заявление от дирекции завода. В ходе расследования и опроса свидетелей все факты подтвердились и сам нарушитель признал на предварительном следствии свою вину, выразившуюся в том, что он без всяких на то причин злостно прогулял смену, что привело к срыву программы цеха и всего завода, ввиду чего ему предъявлено обвинение на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, пункт два об уголовной ответственности за опоздание на работу свыше двадцати минут.
Поведение Ведерникова усугубилось дракой в доме гражданки Гвоздевой, закончившейся, как известно, трагически… Но участие обвиняемого в названных событиях оспаривается свидетелями и может быть выявлено и доказано лишь в процессе суда…
Присутствующие обратили, конечно, внимание, что о драке, как и обо всем, что связано с домом, о котором столько разговоров, произнесено вскользь, без подробностей и каких-либо фактов. Ясно было, что не за этим выезжал на место суд, и, возможно, даже сверху спустили установку не акцентировать внимание на всяких там злачных делишках, а сосредоточить процесс на воспитательных и на показательных примерах, касаемых в основном работы.
Главное же: бездельничал Ведерников, пренебрегая заводской честью, и это закономерно привело его в компанию, к разврату и хулиганству. Моральное разложение – так оно теперь именуется. И это в то самое время, когда его заводские друзья и товарищи по цеху сил не жалея отдавали себя работе и ковали своим доблестным трудом победу над врагами.
Так закончила свое обвинение Князева.
Некоторая размягченность, почти беспечность зрителей незаметно истаивала, на смену пришла настороженность и даже раздраженность против подсудимого. Так ведь и правда, они-то вкалывали, они-то не спали, они-то выматывались из последних сил, а этот… Бездельник, сволочь, проныра, прогульщик, хулиган, головорез, хоть и весь в соплях… По сопатке бы ему врезать! Руки-ноги повырывать сучке, чтобы знал наперед, как на других перевалить… На чужом горбу, дармоед, в рай захотел въехать! Ишь щерится, тварь! На нашей-то кровушке, падло…
– Тише… Не слышно, что сказал!
– А что он может сказать?
– Но, тише! Тише! – донеслось из задних рядов.
Князева, о чем-то спрашивавшая подсудимого, повторила, голос у нее был звонкий, как у артистки:
– Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?
Но Князева и внешне была похожа на артистку из довоенного популярного фильма, где красивая девушка с глазами дикой лани в тайге ловит шпиона, а потом приезжает в Москву, наводит везде порядок, среди всяких безобразий в магазине мехов и на фабрике патефонных пластинок, и под громкую песню, награжденная орденом, вместе с другими со всеми веселыми девушками, уезжает чего-то там строить на Дальний Восток.
У Князевой характерец был не хуже, это все знали. Не зазря ее выбирали и назначали на всякие серьезные должности, она умела наводить порядок. Она и теперь спросила так, что и заседателям, и новому прокурору Зелинскому, и самому подсудимому было ясно, что не признать своей вины он не может.
– Будьте добры, – попросила она вежливо, тоном учителя, – повернитесь к залу и отвечайте громко, чтобы все могли слышать! Вы признаете, что виновны?
Ведерников повернулся, но в зал не смотрел, а смотрел он в пол.
– Я… Ну, да… Я признаю… – торопливо, чуть сбиваясь, произнес он.
– Что виновен?
– Да, конечно.
– В чем вы виновны-то?
– В чем? – спросил Ведерников и поднял глаза, в них не было никакой мысли, кроме равнодушия и усталости. Но, может, так и показалось, в лицо ему светил яркий свет, как бы стирая с лица любое выражение и делая его безличным, плоским.
– В чем же? – спросила неутомимая Князева.
– В том, что… не хотел… работать, – и он поправился, – ну у вас же все сказано там… Там означало в бумагах.
– Значит, вы согласны с обвинительным заключением? – переспросила Князева мягче.
– Согласен. Я ведь и раньше соглашался, – пояснил Ведерников.
– Раньше – на следствии?
– Ну да, они же там собрали…
– Кто они? Кого собрали? – спросила Князева.
– Ну с завода… С кем я работаю… Вот и он был… – И Ведерников кивком головы указал на прокурора. Тот копался в своей папочке, перебирая какие-то листки.
– Ну, это и было следствие? – подсказала Князева.
– Ну, да, – кивнул Ведерников. – Они собрались, значит, и мне все объяснили, как и что говорить.
– Кто же это вам объяснил? И что надо говорить? – вдруг оживился защитник, который тоже до поры будто дремал. Впрочем, он и спросил это чуть удивленно, но и только.
– Что виноват и готов…
– Это ты верно! Раньше сядешь, раньше выйдешь! – выкрикнул кто-то резво.
Но Князева строго посмотрела в зал, и смешки потухли.
– Так вам объяснили, что вы виноваты, или вы сами осознали, что виноваты? – спросила она тем же взыскующим тоном Ведерникова. – И при чем тут другие, которых собрали?
Ведерников молчал, растерявшись от угрозы, скрыто прозвучавшей в голосе судьи. Вроде бы все правильно, что он сейчас пояснял, ибо собирали в цехе людей, обсуждая его поступок, и там было все ясней для него, чем здесь. Сейчас же они добивались каких-то непонятных для него слов, и он терялся и расстраивался оттого, что не знал, как им, этим людям, сидящим за столом, помочь. Среди них сидел и тот, что приходил на собрание, в военной форме голубоглазый человек, его называли Зелинский. К нему сейчас и обратил свой вопросительный взгляд Ведерников, как свидетельство того, что все было в цеху как надо, и тот знает, слышал же сам и даже вопросы задавал. Но прокурор молча листал бумажки, ни на что не реагировал.
– Подсудимый, я жду ответа, – попросила Князева, но ее слова повисли в воздухе, а зал отреагировал глухим ропотом. Это не был уже ропот возмущения, закономерный, по мнению Князевой. На таком суде. Недоумевал и зал, заинтригованный странной путаностью, возникшей на сцене, ибо что-то происходило не то, что предполагалось. Точней же, на сцене вообще ничего не происходило, хотя должно происходить. Подсудимый своей горячей готовностью все признать и согласием вины лишь мешал нормальному ходу, вот как понялось, как открылось зрителям. Вот кабы он не признавался, скрытничал, вводил всех в заблуждение, клеветал, изворачивался, утаивал, отпирался, наводил тень на других, все было бы ясно. Тут его бы на потеху и на радость присутствующим вывели бы на чистую воду и объяснили бы ему, кто он есть и чего достоин. А этот, болван болваном, рад услужить, да не знает чем, какими нужными словами. Тем и портит. Молчал бы, не мешал творить суд: конец-то все равно известен!
Тут и поднялся прокурор Зелинский, и зал, охнув, затих, все жаждали услышать его голос. Голос нашего справедливого правосудия, которому не поперечишь, ибо оно недремлющее око закона, люди, напрягаясь, ждали: этот-то скажет как надо, этот-то даст так даст, не то что Князева, которая вдруг растерялась перед мальчишкой и как попугай повторяет одно и то же. Виноват – не виноват… Да виноват! Виноват! Ты его дави и не стели дорожкой-то! Этак простелешь не в ту сторону!
Прокурор посмотрел в зал, а потом на подсудимого, и стало тихо. Слышно даже стало, как проехала машина по дороге за клубом и как у дверей с наружной стороны препирался кто-то с дежурным, сторожившим вход в клуб.
– Я должен уточнить, – начал прокурор, и голос его, мягкий баритон, прозвучал довольно миролюбиво, успокаивающе. – Я должен уточнить, что подсудимый Ведерников упомянул о собрании в цехе, которое происходило при встрече со свидетелями… Есть и протоколы, – он порылся в своей папочке и вынул несколько страничек. – Сейчас я их зачитаю… И все станет ясно.
4
В сборочном цехе, огромном, в нем одном когда-то располагался ремонтный завод паровозов, в закутке, за деревянной конторкой собрали после смены рабочих из бригады Владимира Почкайло, в которой работал до прогула Ведерников.
На конторке висели призывы и объявления, графики сборки и сдачи готовой продукции военпредам. Тут же молния по поводу ЧП – цех задержал погрузку боевых машин из-за плохой работы центровщика. Как раз центровкой и занимался бывший рабочий Ведерников, теперь срочно подыскивалась ему замена.
Рабочих собрали после смены, усталых, голодных, злых, все торопились домой, отработав от семи утра до семи вечера. Слава богу, что в апреле на улице светло и не так уж хочется спать. И все-таки пришли все, чтобы посмотреть на виновника цеховых неприятностей да и послушать, что скажут: до сих пор питались только слухами. А слухи были разные, иным и поверить было трудно.
Расселись кружком, на ящиках из-под стружки, а для руководства тумбочку поставили и два табурета. Пришла Ольга Вострякова, когда-то она работала в этом цехе, а с ней военный человек без погон, который назвался прокурором района товарищем Зелинским. С небольшой задержкой привезли и Ведерникова, стриженого и похудевшего, места для него не нашлось, и его попросили присесть пока рядышком с рабочими. Люди охотно подвинулись, поглядывая на него и перешептываясь.
Ольга Вострякова, в отличие от всяких собраний, много не говорила, а представила прокурора, а тот вкратце пояснил то, что в общих чертах знало большинство: о прогуле и следствии по поводу этого прогула, из-за которого всех сюда и пригласили. Суд же будет потом.
Петя Бондаренко, местный шутник, его между собой рабочие звали Швейком, сразу же влез:
– А вопрос задать можно?
– Какой еще вопрос? – отрезала Ольга. – Сиди, Бондаренко, и слушай. Это и тебя касается. Тебя и твоих товарищей, потому что вы все в ответе за проступок бывшего рабочего Ведерникова.
– Сиди на чем стоишь, – сказал Швейк недовольно. Ему не хватило места.
– А свое настроение прибереги для следующего раза, понял? – добавила Ольга. – Тут собрание, а не театр.
– Что же теперь, выходит, и спросить нельзя? – поддержал Швейка его дружок Почкайло, в отличие от Бондаренко был он крупен и широк в кости. Еще в ФЗО к нему прилипла кличка Силыч. Так и звали до сих пор, а уж по имени-отчеству изредка, при посторонних. – Мы хотели узнать, – добавил он, толкнув локтем Швейка. – Долго нас мучить-то станут?
Тут прокурор, не дав Ольге рта открыть, сразу сказал, что мучить здесь никого не будут, но задержат настолько, насколько надо. А если понадобится, то и дополнительно вызовут. Но лично он хочет, чтобы дело обошлось разговором в цеху. Потом, конечно, некоторых вызовут и на суд, уже как свидетелей.
– А суд когда? – спросили.
– Когда надо будет, – отвечал прокурор. – Это зависит и от вас, между прочим.
А Ольга тут же встряла, со своими поучениями, что надо не о времени волноваться, а подумать о том, как в своем коллективе они смогли упустить, не заметить, как их товарищ катится по наклонной плоскости к преступлению… В этом все виноваты! Вот о чем надо говорить!
– Но ты за нас и так все сказала, – негромко и будто про себя произнес Швейк. Ольга все слышала, она посмотрела на Швейка, как смотрит учительница на шаловливого ученика.
– Бондаренко, – наставительно добавила она. – А про самого себя ты сказать не хочешь? Ты же работал вместе с Ведерниковым? И ничего не замечал?
– Замечал, – ответил тот сразу, уставясь Ольге прямо в глаза.
– Что же ты замечал?
– Что он работает.
– И все?
– А что еще! Заберется себе в танк и центрует. А как центрует, это ты в ОТК спроси.
– Ну, я не про работу. Ведь разговаривали же вы между собой… О доме, о настроении… О девушках, наверное.
– А он еще не женат? – спросил прокурор.
– Кто? Ведерников? – удивилась Ольга, а рабочие захихикали.
– Женилка у него не выросла!
– А когда жениться-то? Времени для знакомства и то нет!
– Ах, нет? – спросила Ольга. – А танцы под патефон в этом… В вашем амбаре! А?
– Каком-таком амбаре? – поинтересовался прокурор.
– Да старую избу переделали… Собираются после смены, каждый несет по полену, топят печь и всю ночь танцуют… Думаете, не знаю? – спросила Ольга. – Я все знаю.
– Ну, а какой тут секрет-то? – спросил Швейк. – Приходи, и тебя научим.
– Вот еще! – фыркнула Ольга. – Других дел нет! А Ведерников туда ходил или не ходил?
– Ведерников туда не ходил, – сказал Швейк. – Он кроме цеха вообще нигде не бывал. Один раз, правда, выезжал в Москву на ЗИС в командировку.
Почкайло, которому претила любая неточность, хоть и не любил говорить и считал это пустой тратой времени, сейчас влез в разговор.
– Он и женщины живой не видел, кроме нашей Ляльки… Ну, то есть товарища Востряковой. Ну а если она товарищ, то какая же она, извините, женщина? – развел он руками и сел. А рабочие засмеялись.
– Что же, женщина не может быть товарищем? – возмутилась, покраснев, Ольга.
– Не следствие, а бытовая комиссия, – покачал головой прокурор. – С дисциплинкой у вас, и на глазок видно… Не тово… На фронте вы у меня не поговорили бы много… Благо, что тыл… И в таких условиях военную технику вам еще доверяют!
– А у вас по работе претензии есть? – спросил Швейк.
Ольга прикрикнула:
– Бондаренко!
Но прокурор движением руки попросил Ольгу помолчать и в свою очередь спросил у Швейка:
– А отчего у вас там «молния» о задержке висит? А? Вы мне не расскажете? Петр… Петр…
– Антонович, – подсказали.
– Да, Петр Антонович?
– Как почему? – спросил Швейк, чуть смутившись на непривычное обращение. – Центровщика заарестовали нашего, вот и задержка. Отпустите, задержки не будет!
– Найдите другого! Что за вопрос!
Тут среди рабочих смешок прошел. Все почему-то посмотрели на Силыча. И как не хотел он еще раз в разговор влезать, но поднялся, чтобы пояснить непонятливому прокурору, который, наверное, знал о войне больше, чем о работе в цеху.
– Только короче, – подсказала Ольга и посмотрела на часы.
Но Почкайло отмахнулся:
– Ты, Лялька, молчи. В этом деле ты ничего не смыслишь.
– Вот тоже, – обиделась Ольга и передернула плечами.
Но прокурор вдруг улыбнулся, аж глаза засинели:
– Зачем же короче, я и пришел вас послушать. Милости прошу, говорите все, не стесняйтесь… Пожалуйста!
Он вынул из кармана авторучку с золотым пером, редкость по тем временам, все уставились на нее, и стал быстро записывать на листочке.
Свидетельское показание бригадира сборочного цеха номер пять Почкайло Владимира Никаноровича.
«Ведерникова я еще встречал в ФЗО, но знакомы мы не были. Я закончил на год раньше и к тому времени, как он в феврале сорок второго пришел в наш цех вместе с Бондаренко, Востряковой, Васильевым и другими, я уже работал в бригаде Бусыгина на сборке Т-60, а уже после мы перешли на более тяжелый танк Т-70 и на самоходку СУ-76. Другую же цепочку сборки пятого цеха возглавлял нынешний мастер Букаты, который сейчас находится в больнице. Ведерникова и других фабзайцев, мы их так называем, направили к Букаты, но он не хотел их к себе брать, и от Кости Ведерникова он тоже отказался. Он сказал так: «Что я, нянька, с этим детским садом возиться, сопли им подтирать». Это после того случая, как Ведерников потерял свой талон на обед, на который нам выдавали завариху, ее еще называют затирухой: баланда из муки, заправленная постным маслом и луком. Когда Ведерников потерял свой талон, он заплакал, и все помнят этот случай. Тогда в цехе стали говорить, что зачем такого брать, если он ложку не может в руках держать, не только инструмент для работы. И тогда их сперва направили строить из бруса одиннадцатый цех по соседству, под которым уже стояли прямо на земле станки, и на них работали эвакуированные из Коломны. А стены мы уже потом сделали. Но они все числились в нашем пятом цехе и приходили к нам греться, хотя и у нас тоже не топилось.
Все запомнили тот случай, когда с мороза, с улицы, танки ввезли в белом инее, а мороз был выше сорока, а Ведерников, который еще без опыта, взялся рукой за броню и прилип к ней кожей, а кожа его вся на броне осталась. Кровь из него хлещет, он побледнел, но не проронил ни слова. А бывший тогда мастер Букаты проводил его в медкабинет, а когда вернулся, говорит, что на перевязке на голое мясо повязку наложили, а он не пикнул, и потому его надо учить и ставить с таким терпением на центровку. Там тоже надо адское терпение иметь, а у этого фабзайца, как сказал он про Ведерникова, виден характер. А в бригаде как раз Синицын-центровщик на фронт добровольно ушел, мы на него через год похоронку получили. Он, этот Синицын, на скрипке играл, хоть и был рабочим, и говорил, что для центровки особая чувствительность пальцев нужна. Вот что такое центровка. Еще чутче, говорит, чем на моей скрипке. А уж он-то знает. Когда похоронка на Синицына пришла, мы все его жалели, а Костя Ведерников к этому времени уже его заменял, и Букаты говорит: «Ты теперь у нас один такой остался, что незаменимый. И понадобится, мы и Силыча, – это так меня прозвали со времен ФЗО, а еще Кувалдой звали, я ею больше любил орудовать, – так вот, мы Силыча, – говорит, – заставим лезть и центровать». Но это он в шутку, потому что центровка происходит внутри танка и даже Косте, который меньше нас всех, в три погибели приходилось сгибаться, чтобы туда влезть. Военпред может не сразу работу всех проверить, установку там катков, ленивцев, но центровку он проверит обязательно. У нас лозунг такой: «Сдача с первого раза!» Как бригадир, я удостоверяю, что за три года и два месяца работы Ведерников не имел брака ни разу. Он даже слишком старательный, все уйдут на обед, а у него чего-то не выходит, он там и сидит в танке, а мы ему баланду тащим. Или после работы возится и заснет. А проснется, лицо, простите, как печеное яблоко. Он вот так работал, и потому его вешали на Доску почета, как лучшего, и писали и даже в речах называли как передовика, и в Москву посылали, хотя когда с ним знакомились, его никто не принимал всерьез, из-за роста. Он и на работу никогда не опаздывал и даже представить невозможно, чтобы он хоть на минуту где задержался, не то чтобы прогулять целую смену. Если бы мне сказали раньше, я бы не поверил. Некоторые говорят, что на него будто бы Васильев повлиял. Но я и этому не верю, хотя они между собой дружили.
Записанные мои показания с моих слов прочел и с ними согласен. В. Почкайло. 25 апреля 1945 года».
«Уточнение по поводу центровки и как она делается. На танке ставится мотор, это, кстати, моя работа, и ставится фрикционная коробка, и их валы стыкуются так, чтобы зазор по щупу был не более пяти сотых миллиметра. Это как волос человека, не толще. Если же произойдет ошибка, то начнется биение, вибрация и разрыв тяги. В бою такой бы брак мог вывести боевую технику в самую трудную минуту. Но фронтовики были довольны и даже приезжал генерал, который похвалил нас за работу и Ведерникова лично, хотя и произошел инцидент, о котором я не хочу рассказывать, так как он отношения к делу не имеет.
По поводу же Букаты, который сейчас в больнице, то отношение у него к рабочим хорошее, и Васильев, которого он после погнал за брак, работал на соединении рулевых тяг, и мы присутствовали, когда обсуждалось поведение Васильева. Но никакого конфликта у нас с Букаты не было, и я не слышал, чтобы Ведерников с ним ссорился. Хотя Букаты и очень строгий мастер. Но Ведерников ни с кем никогда не спорил и вообще был молчалив. О дружбе же Васильева и Ведерникова ничего добавить не могу. Они, по-моему, разные люди, хотя дружили в ФЗО. С уточнением ознакомился и согласен, что с моих слов записано, кроме слова «разрыв», которое надо заменить на слово «смещение тяги на излом», что будет точнее. В. Почкайло. 25 апреля 1945 года».
5
Третьи сутки лихорадило пятый сборочный, все шли и шли, все дергали без конца бригаду, и бригадира, и мастера; от комитета комсомола и от начальника цеха Вакшеля, но больше других от цепких военпредов, которые хозяевами тыркались по цеху и вмешивались во все дела. Но ясно, что их тоже не гладили по головке, звонки из Москвы из Наркомата сигналили все угрожающей, а техника между тем задерживалась и погрузка эшелона шла медленно. Ненормально медленно. Букаты, конечно, психовал, а тут еще Ведерников, опытный, можно сказать, образцовый рабочий, во вчерашней смене о чем-то замечтался, не заметил, что смотрит незащищенными глазами на бенгальские снопы искр от сварочного автомата. За ночь глаза у него покраснели, заслезились, веки опухли, как говорят, «наелся глазами», ему бы на бюллетень, но о каком там бюллетене речь, если все сошли с ума от непрерывных понуканий. Единственно, что спасало Ведерникова: в его центровке нужны более руки, чем глаза. Но, к сожалению, и глаза тоже. А тут еще прибавились неприятности с Толиком Васильевым, в ФЗО его звали Васильком, также как Петю – Швейком, Ольгу – Гаврошиком, а Костю – просто Костиком. К нему клички почему-то не липли.
Но о чем он мог размечтаться, когда происходит такая гонка, что многие забыли, как их зовут! Небось сидел, свернувшись улиткой, на железном дне очередной машины. И день сидел, и два, и неделю, и год, и два года, и третий… Выскочил по какому-то делу, хоть могло бы показаться, что он тут на всю жизнь прописан в цехе, на дне «тачки», и незачем ему вылезать: сдал и перелез в другой, и снова сдал… Так мидия меняет себе панцирь, без которого она уже и не ракушка, и никто… Даже тело Костик всовывал наподобие улитки внутрь железной коробки, не передом, не головой лез, а ногами, так удобнее было.
Проскакивал через соседний цех и вдруг замер: посреди странного мира, который не имел начала и конца и состоял из одних моторов и фрикционов с их холодно-гладкими валами, вдруг прорезался сноп искр, будто фонтан волшебный! Странно, что, глядя на огненные, летящие потоком искры, подумал Костя не о тепле и не о солнышке, которое, наверное, сияло на улице, ведь не заходило же солнце на время войны как-то иначе, так же ярко небось светило! Нет, не о солнышке и не о прошлом задумался Костя, прошлого у него, если подумать, тоже не было. Его прошлое, как и его настоящее и даже будущее, было все тот же железный танк! Он вспомнил, что читал когда-то «Конька-Горбунка», а там жар-птица, которая прилетает на поле… Сварщик, виден был лишь темный силуэт, будто держал в руках эту птицу, а она рвалась, осыпая его и все вокруг жаркими перьями…
Ну а потом началась эта самая резь в глазах и беспричинные слезы.
Где-то к концу дня бригадир Почкайло, он же Силыч, отбросил инструмент на железный пол со звоном и поднялся, обозначая, что он закончил. Не спеша подошел к графику сдачи, где стояло сплошь цифирье, и, удовлетворенно нажимая на кусочек мела так, что тот трещал и крошился под рукой, вывел цифру сто. Означало: сто процентов. В этот момент, как черт из-под печи, появился Букаты. Будто он караулил момент, когда станет видно, что дело сделано. Правда, сделано-то не до конца, оставались крохи, и все из-за Ведерникова, который копался в танке и не вылезал наружу. Но ясно было, Костик и с больными глазами долго не задержит, не тот человек.
– Как, молодцы, делишки? – спросил Букаты, и тон его не предвещал ничего хорошего.
– Как у молодцов, – ответил за всех Петя-Швейк, уловив на слух, что Букаты раздражен и шутить не намерен. – А что случилось, Илья Иваныч?
– Скоро узнаешь, – пообещал сурово мастер. Он мельком взглянул на цифру, выведенную Силычем. – Устал, говоришь? Ничего. После войны отдохнешь. – Хотя ничего подобного про усталость Швейк не говорил. – Мы сейчас проведем маленькое собраньице… Как?
– Ну, если маленькое, – с неохотой отреагировал Силыч, отряхивая руки от раскрошившегося мелка. Информация о собрании предназначалась, в общем-то, ему, как бригадиру. Да он, в общем, знал, о чем пойдет речь.
– Пять минут, – пообещал Букаты и впервые посмотрел на Василька, который стоял тут же. – Васильев, ты не уходи, ты будешь нужен. Вострякова не появлялась? Сейчас я схожу… – Букаты ушел, а все остались ждать.
– Эх, – сказал Швейк, потягиваясь. – А мне нужна Тонечка! Как она, моя родная, там без меня!
– Людочка? – переспросил Силыч, так как помнил, что Швейк недавно хвалился знакомством с какой-то красоткой по имени Людочка.
– Людочка? – изумился Швейк. – При чем тут какая-то Людочка?
– Но ты же сам говорил?
– Я? Ах… Так это когда было-то! – вспомнил он, будто разговор происходил не на прошлой неделе. – Нет, Силыч… Тонечка, только она! Единственная, неповторимая, вечная… Работает, между прочим, на спичечной фабрике за рекой, ходит по льду на свиданку и ждет, как часовой!
Толик Василек хихикнул и отвернулся. Он уже знал всю трепотню Швейка и не верил ему. А Силыч, тот был лишен начисто юмора, ему верилось во все, он лишь наивно кивал, слушая Петины бредни.
– Но подожди, – переспрашивал он. – Как же по реке, река же вот-вот пойдет?
– Я и тревожусь, – и чтобы прекратить разговор, Швейк поднял ключ и постучал по броне. – Ведерников, кончай ночевать! Тонечка ждет!
Из люка башни высунулся Ведерников, видок у него был не самый лучший. Даже хорошо, что он там внутри сидит, никто его не видит. Начальство бы прознало, живо отстранило от работы: глаза, как у пирата, повязаны наискось платком, и красные веки шмякают, как у Вия. Хорош! Лишь бы не высовывался из «тачки».
«Тачкой» рабочие между собой прозвали эту грозную технику давно: коротко и понятно, а если случайно проговоришься на людях – не выдашь секрета. Мало ли о какой тачке речь!
– Ведерников! – позвал объявившийся вновь Букаты: приблизившись, он рассматривал повязку, неодобрительно покачивая головой. – Эка тебя разнесло! Ты побыстрей там можешь? Разговор есть…
– Стараюсь, Илья Иваныч, – со вздохом отвечал Костик и поправил повязку, съехавшую на ухо. Он прикрыл глаза так, чтобы не очень, как ему казалось, было видно.
– Ну, ладно, – разрешил Букаты, будто пробурчал ругательство. – Сиди, говорю. Когда будем голосовать, позовем. – Он ткнул пальцем в танк и отошел, завидев Ольгу Вострякову. Костя скрылся. Позвали других рабочих. Подошли, хоть и не все, столпились вокруг мастера, садиться никто не хотел, не дай бог, сядешь, так собрание затянется на целую вечность. А люди измотались, и по внешности было видно. Сонные глаза. Вялые движения.
Некоторая возбужденность в поблекших лицах, так все оттого, что скоро по домам идти. А сказали бы: надолго, так сели и не поднялись бы, сил уже не хватило.
Букаты все это понимал и не ослаблял тона, знал, что держать их можно лишь так, жестко, не давая до поры размягчаться.
– Где остальные? – спросил, хмуро оглядев собравшихся.
Ответили, что несколько человек на доводке, у слесаря Елкина травма и нет Ведерникова…
– Ведерников на месте, – сказал Букаты. Он отыскал глазами стоящего среди остальных Васильева и откашлялся. – Ну что, товарищи, времени у нас, и правда, мало, а тут еще приходится митинговать по поводу… – Тут он посмотрел на Васильева и кивнул в его сторону, – этого вот товарища.
– Конь свинье не товарищ, – как бы от всех заметил Силыч. Он Толика Василька не любил и не скрывал этого. Особенно же сейчас, когда дело коснулось пребывания того в бригаде.
– Я не свинья, – возразил Толик спокойно. – Прошу меня не оскорблять, а то я уйду.
– Может, ты считаешь, что ты конь? – спросил Швейк насмешливо.
– Ну и уходи, – сказал Силыч. – Тебя никто не держит. Ты, кстати, хуже, чем свинья.
– Почкайло, выбирайте выражения, – призвала строго Ольга. – У нас собрание, надо говорить по существу.
– Вот ты и скажи, – буркнул Силыч и отвернулся. А Букаты кивнул, мол, правильно, пусть скажет, что там думает комсомол.
– Ну, Илья Иваныч, – Ольга обращалась не ко всем, а лишь к мастеру, и говорила, стоя к нему лицом. – Вы же знаете, что я пыталась на него воздействовать… Он ведь человек способный, он рисует неплохо, и все видели, как он оформил стенд.
– Видели, как ему за это талончик на обед! – произнес кто-то. – А мы за этот же талончик целую смену вкалываем!
– Врешь! – повернулся к говорившему Силыч. – Ты не за талон, ты за совесть вкалываешь. Чем, кстати, от него и отличаешься! А он не только плакатики, он и талончики малюет. И все это видели.
– Кто? – спросил Букаты.
– Да все, кто с ним обедал. Он шесть штук нарисовал и получил шесть порций, и никто, даже подавальщик, не заметил!
– Ха! Не заметил! – сказал Швейк. – А кому обеда не досталось? Они, думаешь, тоже не заметили?
– Чепуха на постном масле, – пожал плечами Толик. – У меня всего три талона было, а не шесть.
– Ну и что, Толик! – воскликнула Ольга. – Неужели не понимаешь, это подделка документов! За это же судят! Ты хоть понимаешь?
– А пусть докажут!
– Но люди же видели?
– Кто это видел? Силыч, что ли?
– Но ты и сам говоришь…
– Ничего я не говорю. Три талона у меня было, вот что я сказал. А откуда, это мое дело. Доказательств у вас нет.
– У меня Мурка не кормлена, а я ему еще должен что-то доказывать, – с ожесточением врезался Силыч. – Гнать его, и на этом закончить говорильню!
– Почкайло, при чем тут ваша кошка? – спросила Ольга. – Мы же Васильева обсуждаем!
Все посмотрели на Силыча. Он неохотно объяснил, что Мурка вовсе не кошка, а коза, которую он купил, потому что на руках трое детишек, а доить, кроме него, некому.
– Ну, Силыч! – воскликнул Петя-Швейк. – Они что у тебя, детишки-то, почкованием, что ли?
– Бондаренко, – призвала Ольга, громко постучав костяшкой руки по броне. – Перестаньте юродствовать. Вы что-то конкретное хотите сказать?
Швейк пожал плечами. В это время высунул из башни свою повязанную голову Ведерников и спросил, слепо озираясь: «Звали?»
Бригада разулыбалась, напряжение спало.
Букаты махнул рукой: «Сиди, позовем!» И Костик исчез.
– Вот, – сказал Букаты, указывая на танк, но подразумевая Костю. – Он еще работает, а мы тут толчемся, на одном месте. А случай-то, все знают, не первый с ним, с Васильевым имею в виду. Ольга, – спросил он. – Васильев у тебя брал спирт?
– Брал, – Ольга смутилась, – он для краски брал…
– И у меня брал, – сказал Букаты. – И тоже для краски.
Толик враждебно посмотрел на Ольгу и постучал пальцем по виску:
– Тебя-то кто за язык тянул! Ду-ра!
– Ну Толик… – забыв окружающих, воскликнула Ольга, понимая, что начало рушиться что-то в ее жизни. То есть нарушилось оно, наверное, раньше, да уж точно раньше, когда Толик зачастил на край поселка к какой-то неведомой Зинаиде, но Ольга поперву не приняла это всерьез. Да и он говорил так, что понятно было, что там у него могут быть лишь дела. Но какие дела по ночам-то… Глупа была Ольга, глупа и слепа, и сама себе закрывала глаза, не желая видеть правды. Тешила себя, что вот пройдет увлечение, а она, Ольга, тут, она всегда со своей любовью на месте…
Окружающие, из бригады, догадывались, а может быть, и знали об этом обо всем, во всяком случае, скоропалительная перепалка прошла, никого особенно не удивив. Лишь Букаты, откашлявшись, попросил, не поглядев в ее сторону:
– Ольга Викторовна, личные чувства прошу попридержать… Вы тут, между прочим, от комитета комсомола.
– Но я же правда не виновата! – в отчаянии произнесла она. – Я же не знала, что он меня обманывал!
– Вот гадюка, – сказал, качнув головой, Толик, будто про себя, но очень даже слышно. – Попробуй, приди теперь…
– За гадюку можно и по шее получить, – сказал Силыч и показал огромный кулак.
Букаты спокойно отреагировал:
– Без рукоприкладства. Нам этого еще не хватало. У нас свои коллективные меры, и они, надеюсь, не менее действенные… Так-то! Васильев ведет себя так, будто не он, а мы перед ним виноваты. Гнать так гнать! Ольга Викторовна, проголосуйте, пожалуйста!
– Голосуем, – сказала вяло Ольга. – Но, может, какие другие предложения? – спросила она, на нее было жалко смотреть.
– А какие другие?
– Не знаю.
– Вы что-то другое предлагаете? – спросил напрямик Букаты.
– Нет. Но все же…
– Тогда голосуйте. Не будем время терять.
Начали голосовать за изгнание Васильева из бригады, и все подняли руки. Но Швейк в это время вспомнил про Ведерникова. Постучали по броне. И еще постучали. Не заснул ли, случаем, когда вдребезги устанешь, возможно и такое: спасительный сон, как обморок, на несколько минут.
– Кончай ночевать! – крикнул Петя и постучал сильней ключом по стальному корпусу, аж загудело и искра из-под ключа высеклась. – Анекдот такой…
Костя высунулся в своей разбойной повязке, снова всех развеселив.
– Что? – спросил он, нелепо озираясь. – У меня готово. Правда.
– Я говорю, анекдотец такой есть, – крикнул Швейк Косте. – Из деревни в ремеслуху малый приехал, а поставили его дневальным. Утром в шесть часов надо кричать «подъем», а он забыл слово-то и кричит: «Кончай ночевать!» А никто, ясно дело, не встает!
– Ну, Швейк, рассмешил! – вдруг захохотал Толик Василек и стал таким своим, голубоглазым, беззащитным, что даже смотреть на него неудобно было. – Кончай ночевать, да?
Но Швейк перестал улыбаться и сказал:
– Я не тебя смешил, а я вот его, Ведерникова, смешил!
– Голосуйте снова, – приказал Букаты Ольге.
Ольга снова стала считать руки и споткнулась на Ведерникова, тот торчал как-то по-глупому из своей башни, будто не понимая, что творится вокруг него, но руки не поднимал.
– Костик, а ты? – спросила Ольга.
– Что я?
– А почему ты не голосуешь? Ты не понял, да? Что мы исключаем Васильева из бригады?
– Почему? – сказал Костик, поправляя повязку. – Понял.
– Ну и что же?
– Ничего.
– Ты не хочешь голосовать?
– Почему? – опять повторил Костик свой глупый вопрос.
– Но почему же ты не подымаешь руку?
– Не знаю. Не хочу.
– Ах, не хочешь? Все знают, хотят, а он не хочет? – Ольга небось себя имела в виду. Она посмотрела на Букаты. Но тот молчал. И Костя молчал, то ли он отупел от работы, то ли валял дурака. Но это скорей бы можно было заподозрить Швейка, Костик же был тих, всегда тих и послушен.
– Кстати, а что это за девица, с которой ты встречаешься? – неожиданно вспомнила Ольга. Видать, краем уха что-то ухватила, когда шутил Швейк, а может, и Толик проговорился.
– Не знаю, – сказал Костик, вдруг растерявшись. – Я на дороге ее встречаю. Она мне говорит: «Здравствуйте вам».
– Встречаться везде можно, – зло произнесла Ольга. – Главное, знать надо с кем… А эта твоя знакомая яблочками, между прочим, спекулирует. Откормленная за счет трудящих…
– Трудящихся, – поправил Швейк.
– Вот именно, – сказала Ольга. – И тебя в том числе.
– Я же с ней не разговаривал, – сказал Костик виновато.
– А надо! Все спросить, прежде чем… Так будем голосовать? Да или нет? Еще раз подумай, Костик…
– А чего думать? – удивился он. – Я же сказал…
– Свидетель Почкайло, – спросила Князева. – Вы помните точно, что Ведерников не голосовал?
– Все помнят, – сказал Силыч.
– И вы считаете, что с этого момента он как-то изменился?
– Не знаю, но он никогда так не поступал.
– А как же он поступал?
– Как все, – сказал Силыч и посмотрел в зал. – Он всегда шел в ногу с коллективом.
– А здесь, вы считаете, он пошел не с коллективом?
– Ну, конечно, не с коллективом. А Толик ему тогда сказал… Да, он так сказал: «Поднимай, поднимай руку! Дави меня! А потом наступит черед, они и тебя задавят!»
– Угрожал, значит?
– Нет. Он не угрожал, он даже посмеивался… Его ничем не прошибешь. Надо Толика знать!
– Так что же Васильев имел в виду? Если не угрожал?
– Откуда я знаю? Он так крикнул и засмеялся.
– Может, он уже тогда влиял на Ведерникова дурно?
– Вряд ли, на Ведерникова трудно влиять. Вон, сколько мы ни давили, а он не проголосовал.
– И чем же он объяснил такое поведение?
– Ничем. Он и объяснять не стал. Букаты же говорил, что у него такой тяжелый характер. И тут, как его ни долбили, как ни напирали на него, как в броню уперлись, не сдвинешь, значит.
– Но, может быть, он и вправду так устал, что уже не мог понять, что происходит. Вы же практически без него провели обсуждение-то?
– Да все он понял… А что устал, так ведь все устали. Он же потом еще на ночь остался.
– Не понимаю. Разве смена не кончилась?
– Кончилась.
– А про какую же вы ночь говорите?
Силыч смутился, промолчал.
– Свидетель Почкайло, вас спрашивают!
Силыч ничего не ответил.
– А чего думать, – спросил Костя.
– Вот именно, все проступки оттого и происходят, что вы думать не умеете, – подхватила Ольга: на кого уж она сердилась, на себя или на Костика?
– Поднимай, поднимай, Костик, руку! – зловредно вылез Толик. – Помочь ты мне не сможешь все равно. Дави меня, вон Ольга, уж как клялась, а приказали – и задавят! А потом наступит черед, они и тебя задавят!
– Ладно, – заключил Букаты, пропустив последнее мимо ушей. – Вопрос исчерпан. Теперь последнее…
– А мне что делать? – спросил невинно Толик, голубея глазами.
– Тебе можно ничего теперь не делать, – сказал Силыч чуть раздраженно. Он еще не остыл от неприятного разговора.
И Швейк ехидно добавил:
– Занимайся, Толик, тем же, чем всегда!
– Так мне уйти? – переспросил Толик.
– Если тебе позволяет совесть! – вдруг крикнула Ольга. Не выдержала в последний момент, нервы сдали. Вот и закричала.
– Нет у него совести.
– Держите себя в руках, – сказал Ольге Букаты. – Он не стоит наших нервов… – И уже Толику, поворачиваясь к нему:
– Будете метлой у меня работать! Подождите у конторки!
Толик, помедлив, ушел.
На прощание улыбнулся, хотя понятно уже, что за улыбка была у него, жалкая улыбка проигравшего. Рабочие из бригады знали, что за наказание подметать двор. Да на глазах у товарищей. Будут надсмехаться, шутить, злословить. Но, главное, отрежут паек, ибо на конвейере давали особую рабочую норму: килограмм хлеба, а с метлой и на «служащую» карточку можешь не потянуть, не говоря о зарплате.
6
– И последнее, – произнес Букаты и медленно всех осмотрел, желая убедиться, что все его слушают. Но большинство уже без слов поняли, в чем дело, отводя глаза.
Тяжкая минута, что и говорить, после всей этой гонки, после тяжкой смены предлагать людям остаться еще на одну ночь. Но сказать надо. И остаться надо. И, уж точно, останутся, только поперву переживать будут. Так и он, Букаты, тоже переживает, что он, вправду Железный, как обзывают.
– Домой намастырились, понимаю, – сказал хмуро он. – А у нас еще три машины. Три… А из-за них на сутки, а то и на двое, задержится весь эшелон… Ну а что такое сутки… Когда наши из последних сил дерутся на подступах к фашистской столице, не вам объяснять. Конечно, не приказ. Я не могу вам приказать. Но я прошу. А вы подумайте.
Мертвая пауза повисла в воздухе. Молчал и Букаты, не желая никого торопить. Время еще было. Самые понятливые тут же стали присаживаться, потому что в ногах, теперь уж точно, правды не было. Надо было передохнуть перед новой сменой. Но другие продолжали стоять, глядя себе под ноги. Может быть, они еще верили, что у них есть какой-то, пусть малый, шанс уйти на отдых. Но шанса у них такого не было. Просто они еще не перестроились и не могли до конца для себя сразу принять. Даже осуждая Толика, голосуя, они верили, что сейчас их отпустят, и каждый в уме уже решил, что надо в первую голову сделать. Отовариваться ли в магазине, если там что-то «выбросили», или сходить к реке, подготовить и законопатить лодчонку: понесет упущенный никому не принадлежащий лес, и можно будет заготовить дровишек, они за зиму давно кончились, и уж крошек торфа, и тех не оставалось. И еще рыночные дела, зажигалочку ли на толкучке поменять, толкнуть пайку… Да мало ли дел у людей накопилось за это время.
И Ольга встряла. Ей больше других надо.
– Петя? Силыч? Вы-то чего молчите? А Ведерников? И Ведерникову непонятно, что надо сказать?
– Понятно.
– Ну и что?
– Я согласен остаться, – сказал Ведерников и поправил повязку. Смотреть на него было тошно с этими покрасневшими глазами и этой грязной повязкой. Но вот то, что Ведерников согласился, как бы прощало и все остальное.
– Молодец, – воскликнула Ольга. – А остальные?
– Если надо, – вразнобой сказало несколько голосов.
– Мы не Толики… – более спокойно произнес Силыч, ясно, что он-то не откажется.
А Силычу тяжелей остальных с детишками, которые остались ему, как старшему, от матери, умершей осенью от туберкулеза. Силыч добавил, что он сбегает подоить Мурку и вернется.
– Можешь свою Мурку подоить, – разрешил подобревший в одну минуту Букаты, хотя не в его манере было отпускать нервы. Видать, и он немало устал и сейчас не верил, что люди так быстро согласятся. – Всем дается час на свои дела. А доппитание сейчас принесут. И раскладушки в цехе поставят…
– Их еще не убирали, – сказал Швейк, и все засмеялись, – Значит, кончай ночевать! Эх, как там моя Леночка!
Букаты подошел к танку, похлопал по холодной броне ладошкой: «Так-то, дружок! Пора! До самого Берлина, вражьей проклятой столицы! Гони, верши свой суд над разбойной сворой, за всех, за нас… За эти вот дни и ночи, которые нас сожгли… Но ведь кончатся же они! Кто потом поверит, что все наши поздние радикулиты, грудные жабы, туберкулезы и инфаркты мы заработали в этих бессменных ночах! Но доживем ли мы еще до инфарктов-то, вот в чем дело…»
Размышлял он, глядя, как разбегается бригада: откуда-то и живость появилась, и новые силы? Откуда? От этих повторяемых слов: надо! Надо! Надо! Сколько их приходилось произносить раз! И себе, и другим… Заметив, что рядом стоит Ольга, он как бы внове поглядел на нее, решил ободрить.
– Не все, Оленька, золото, что блестит! Будет, как сказал вождь, и на нашей улице праздник!
Ольга вдруг отчужденно, как бы не видя, посмотрела на него и даже отодвинулась, поведя зябко плечом.
– Вы о чем? – спросила странно натянутым голосом и пошла, твердо и уверенно, как всегда ходила. Вот уж кто железный, так железный. Девического маловато, а железного хоть отбавляй. Так подумал Букаты и присел, вдруг почувствовав, что у него силенок не осталось. Это потом, через десяток минут, он скажет себе то же великое слово: «надо», и пойдет, и три танка, кровь из носа, они за ночь выдадут!
7
Прокурор Зелинский: Как же это понимать, свидетель Букаты? Они же у вас без отдыха? И ночью, и днем?
Свидетель Букаты: Почему же без отдыха… (пауза).
Прокурор Зелинский: Это запрещено трудовым законодательством, насколько я понимаю.
Свидетель Букаты: Законодательство… (качает головой). А вы, простите, товарищ Зелинский… Вы на фронте все как надо по закону, по расписанию поступали?
Прокурор Зелинский: Сравнили! Там же фронт! Там война! А тут?
Свидетель Букаты: У нас тоже война. И у нас свой фронт… (пауза). А вообще, можете считать, что тут моя вина, поскольку я оставлял их работать. Причем не на одну ночь, бывало и две, и три… Сколько, в общем, нужно.
Прокурор Зелинский: Подростков? Таких, как Ведерников? Я вас правильно понял?
Свидетель Букаты: А чем Ведерников лучше? И он, и остальные тоже.
Прокурор Зелинский: Вот как!
Свидетель Букаты: Да. Вот так! (с вызовом). А откуда мы бы взяли те танки в сорок втором? А? Вы там на фронте не спрашивали друг друга об этом? Ну так нас спросили бы! Как коломенские приехали, станки поставили на снег, провода положили по земле и стали работать. Это уж потом избу-то вокруг печки возвели!
Прокурор Зелинский: Но не дети же!
Свидетель Букаты: (спокойно). А кто же тогда? Вы в зал-то поглядите, увидите, кто сидит. Эти и начинали: двенадцать, тринадцать лет…
Вострякова Ольга (неожиданно): Мы трудностей не замечали, Илья Иваныч! Гайдар в семнадцать лет полком командовал, а Островский…
Судья Князева: Почему же, замечали. Разное было. А иногда…
Прокурор Зелинский (повернувшись к судье): Что иногда?
Ольга Вострякова: Да опять Ведерников! Это когда генерал приезжал!
Прокурор Зелинский: Да? Что же он еще натворил? Ваш вундеркинд?
Свидетель Букаты (мнется): Да я, в общем-то, не очень помню. Ну, было, что глазами сварку схватил…
Прокурор Зелинский: Это мы слышали. А потом?
Свидетель Букаты: Что потом? Работал…
Прокурор Зелинский: Ачто с генералом?
Свидетель Букаты: Ах, с генералом! Ну так это так, детское…
Судья Князева: Ладно уж, скажите. Все помнят.
Свидетель Букаты: Ну а если помните, то чего и вспоминать?
Прокурор Зелинский: Странно вы ставите вопрос! Странно! Надо вспомнить!
Свидетель Букаты: Ну, если только так… Что надо… (задумывается). В ту ночь они сделали, в общем-то, все три танка… Хотя помучились мы тогда прилично. Да, помню, как же… (Опять задумывается.)
– Кончай ночевать! – крикнул Швейк, вытирая концами руки. – Чур, последний бежит за доппитанием.
– У меня все, – сказал Силыч и постучал по корпусу, как там Костик. – Жив? – спросил, когда тот высунулся.
– Уже? Утро?
– А ты думал? – усмехнулся Швейк. – Твоя с корзиночкой давно на рынок двинула! «Здравствуйте вам»…
Костика по временам дразнили этой странной девочкой, которая ему встречалась на дальней улице. Дразнили, хотя знали, что он даже имени ее не спросил, даже не ответил на ее здорованье ни разу.
– Чертова центровка, – сказал Костик. Никогда он не ругался, а тут не выдержал.
– Опять не сходится? – спросил сочувственно Силыч.
– С кем, с девицей, не сходится? – переспросил Швейк, и все вокруг прыснули. И сам Силыч заржал.
– Ну, Швейк, ну, загнул! Центровка… Ха-ха-ха… С девицей, говорит, центровка…
А Швейк между тем продолжал:
– Красотка по бессердечному трое суток слезы льет на перекрестке… Полная корзиночка слез… Она для этого и корзиночку носит!
– Ну зачем вы, – устало отмахнулся Костик. – Я правду говорю… Я же ее имени даже не знаю!
– А чего проще-то, – будто посерьезнев, по секрету сообщил Швейк. – Подойди и скажи: «Здравствуй, Люся!» А она ответит: «Я, мол, не Люся вовсе, а я Фекла!» А ты ей тут же, не дав прийти в себя: «Что вы! Ах, как вам к лицу это имя!» Ну и так далее.
– А что? Что – так далее-то? – заливался Силыч, глядя по-детски Швейку в рот. Сам он не умел сочинять, но Швейка прямо-таки обожал за его байки. И сейчас ждал чего-нибудь такого, что тот выдаст, и будет жутко смешно.
Петя продолжил:
– Как это что? Она растает, потеряет бдительность, а тут и надо действовать как мужчине, то есть не зевать!
– Ты скажи, ты скажи, как действовать! – настаивал Силыч.
– Ну, как… Наш Костик посмотрит на нее пристально, как на «тачку», где нужна центровка! – Швейк изобразил, как Костик посмотрит на нее, и все, кто собрались послушать этот треп, снова закатились. – Возьмет нежно, как вал фрикциона берет – за руку, и прижмет к груди… К своей, к своей груди, не путай, – пригрозил он Костику, который отмахивался, но тоже слушал. – Потом, вдохнув всей грудью пять с половиной литров по спирометрии, произнесет ласкающие слух слова… Ну такие, к примеру: «Позвольте вас, Фекла Харитоновна, пригласить в нашу заводскую столовку на затируху! У меня за три переработанных смены талончик: угощаю от всего сердца! Пир, как говорят, на весь мир!» Ну а потом танцы под патефон… – Швейк схватил табурет и стал изображать зажигательный фокстрот «Рио-рита»… – Там-там, – напевал он, – там-там-там-там… У нас там одна пышная девица патефон приносит! Выносливый, говорит! Где ни поиграет, две-три пластинки вынесет!
Со словами: «Да ну вас!» – Костик нырнул в спасительное чрево машины, а Силыч присел, отсмеявшись, и сказал:
– Как тебя хватает! Если честно, я и то выдохся. А меня в училище, знаешь, как звали? Шестьдесят девять! Вот как! Цифра такая есть, ее как ни перевернешь, она все равно шестьдесят девять, вот и я такой же крупный, что в ширину, что в высоту!
Петя закруглил танец, сел на ту же табуретку, с которой танцевал. Посмотрел на Силыча и спросил вдруг:
– А ты знаешь, откуда я пришел в ФЗО? Я из детдома пришел, между прочим!
– Ну и что? – спросил Силыч.
– Ничего. У нас там одна дорожка: как чуть подрос, одежонку, что похуже, сунут, ноги в руки и ступай… Топай, браток, устраивай свою личную жизнь и уступи свою койку другим, которые тоже хотят жрать! Так вот, я про детдом… Там без того, чтобы не почудить, нельзя. Почудишь, и легче. А то еще и корочку за твои циркачества подбросят!
Появилась Ольга с плакатами в руках, зачастила:
– Мальчики, вы живы? А я вот молнию: «Три танка – наш последний удар по врагу!» Нравится? А я, значит, в час или в два ночи прохожу по цеху, слышу, вы там, в машине, ну прямо заливаетесь от хохота… Я-то подумала, подбодрю их, небось осоловели, и слышу, прямо кто-то надрывается… Это ты, Почкайло? Вот повесь мне плакат!
Тот кивнул. Плакатик одобрил и сказал, что поможет сейчас повесить.
– А что смеялись-то? – опять спросила Ольга.
– Да Швейк, – отвечал Силыч.
– Понятно, что Швейк. А что он сказал?
– Да я уж не помню, что-то такое… Ах, вот что… Встречаются два приятеля, и один другого спрашивает: «Где ты работаешь?» А тот отвечает: «В доменном цехе». – «Это что же, сталь плавишь?» – «Да нет, – отвечает второй, – домино делаем».
– Домино? – спросила недоуменно Ольга.
– Ага. Ну «домино» игру знаешь?
– Знаю.
– Ну вот они, значит, в доменном цехе «домино» делают, – сказал, засмеявшись, Силыч. Но Ольга смотрела на него немного озадаченно, не улыбалась.
– Ты думаешь, это смешно?
– А разве нет? – удивился Силыч. – Но ты дослушай! Этот второй и говорит: «Я делаю домино, точки на них ставлю». – «А почему ты сегодня не на работе?» – спрашивает тогда первый. А второй и говорит: «Ой, умора, – он говорит, – у меня выходной, потому что мы выпускаем сегодня «пусто – пусто»!»
– И все? – спросила Ольга.
– Все, – кивнул Силыч и вздохнул.
Он понял, что Ольге анекдот не понравился.
– Ерунда какая-то, – сказала уверенно Ольга и посмотрела недоверчиво на Швейка и на Силыча. – И над этим всю ночь гоготали? Вот уж как дети? А Костик где? Я вам новость принесла.
Костику постучали и раз, и другой, он не откликался.
– Спекся, – сказал Швейк и полез в машину. Чуть не силой он вытянул оттуда Костика, тот и на свет вылез, и вниз спустился, и все никак не мог разомкнуть глаз. А чтобы не видно было, спустил на глаза уже ставшую совсем черной повязку.
– Кончай ночевать! – крикнул Швейк ему в ухо и прислонил к борту машины. -Ладно. Пусть спит, лошади тоже стоя спят. Так какая у тебя новость? – Так не пойдет, – сказала Ольга. – Сейчас генерал придет с Букаты… – Она толкнула Костика, и он неожиданно стал оседать прямо на пол. Силыч успел его подхватить, но Костик болтался, как тряпочная кукла, у него в руках.
– Силыч! Швейк! Ну разбудите! – сказала Ольга испуганно. – Они же скоро придут, а мы… Это же позор на весь завод! – Она стала тормошить Костика, и он открыл глаза, мутные, как у пьяного. – Костик! Костик! Ты слышишь? Генерал придет! В цех!
Костик кивнул и закрыл глаза.
Ольга испуганно оглянулась, желая пригласить Швейка и Силыча или хоть кого-то для помощи, но и те, присев и прислонясь друг к другу, уже спали мертвым сном. Ольга и к ним бросилась в панике, охнув про себя, и тоже стала тормошить, и в это время они вошли: начальник цеха Вакшель, Букаты, какие-то военные и среди них в папахе невысокий, поджарый, с острыми глазками-буравчиками исподлобья, генерал.
И тут произошло чудо: как по команде Швейк и Силыч встряхнулись, поднялись навстречу высоким гостям, и лишь Костя остался сидеть, опустив голову. Рабочие его тут же прикрыли собой. Только Ольга с беспокойством раз и другой оглянулась, но все напрасно: Костик спал, и никакие генералы для него в этот миг не существовали.
А начальство и военные быстро прошли вдоль конвейера, о чем-то беседуя, и приблизились к стоящей кучкой бригаде.
– Вот, – сказал Букаты, – указывая на Силыча и на Ольгу. – Вот они, герои нашего тыла. Бригада сборки, которая не подводила ни разу! И сегодня не подвела!
– Могу подтвердить, – глядя на генерала, сказал военпред. – Не подводили ни разу.
Генерал кивнул, но ничего не сказал.
Букаты продолжал говорить, а все стояли и смотрели на генерала. А тот все шарил острыми глазками по цеху, вскидывал голову на танки, на потолок и вдруг спросил пронзительно тонким, как всем показалось, голосом. Швейк за глаза его сразу назвал: «козлетоном».
– А Константин Сергеич – тут работает?
– Константин Сергеич? – спросил начальник цеха Вакшель, крупный мужчина с пролысиной и дряблыми щеками. Он посмотрел на Букаты. – Это кто?
Букаты пожал плечами и взглянул почему-то на Ольгу. Но та отвела глаза.
– Константин Сергеич? Простите?
– Ведерников, – подсказал военпред генералу. Военпред был строен, усат, будто гусар.
– Да, да, Ведерников, – сказал генерал.
– Ах, Ведерников, – тут же подхватил Букаты и показал рукой на рабочих. – Он в этой смене, товарищ генерал. Сейчас он к вам подойдет!
– Ну зачем же, – капризно произнес генерал. – Я сам к нему подойду. Только укажите мне его! Где он среди… Среди этих?
Во время всего этого короткого обмена репликами Ольга быстрей всех сообразила, что надо делать. Она бросилась вперед, встала прямо перед генералом и быстро начала говорить, тот, наверное, опешил от такого потока слов.
– Ведерников! – тараторила она, заступая дорогу генералу, он вынужден был остановиться и выслушать ее. – Ведерников наш лучший заводской центровщик, он выполняет план и числится в ударниках и в стахановцах, цех им гордится и всегда берет с него пример… Вот и сегодня лучший рабочий бригады товарищ Ведерников не уходил со своего поста…
– Ладно, ладно, – сказал генерал и вдруг потрепал Ольгу по щеке, так что она от неожиданности проглотила последние слова. – А где он сам-то… Ударник ваш? Дайте поглядеть!
Ольга отступила перед генералом, но время было выиграно. Двое из бригады, Швейк и Почкайло, растолкали Костика и, подняв под руки, встали, как бы почти обнявшись. Друзья, мол, не разлей водой.
– Который из них? – спросил, прищурясь, генерал, испытующе скользнул по лицам и остановился на старшем, на более внушительном Почкайло.
– Вот каков! – произнес генерал.
– В центре! В центре он, Ведерников! Товарищ генерал! – громко, будто глухому, крикнула Ольга.
Генерал посмотрел на Костика, на его повязку и обернулся к военпреду:
– Тот самый? Ведерников? Вы не ошиблись?
– Так точно, ошибки нет, товарищ генерал! – мгновенно отвечал тот. От старания даже темные усы шевельнулись.
И Букаты подтвердил, не очень-то понимая, куда все это клонится, что это слесарь-центровщик Ведерников Константин Сергеевич, правда, немного приболел, с глазами у него…
– Глаза у него засорились! – опять громко произнесла Ольга. – Сейчас он в медкабинет пойдет! Товарищ генерал!
Генерал смотрел на Костика, будто не верил, что ему показывают того, кого он просил, и вдруг он засмеялся. Тонко, но на весь цех, и все кругом заулыбались, глядя на генерала. А он, между тем, заливался, и рабочие захихикали. Лишь Костик, один он, виновный, стоял, тараща глаза свои больные, мало что соображая в происходящем.
Генерал перестал смеяться и сказал:
– Вот сюрприз! А я думал, ветеран! С бородой! А у нас в дивизии на танках написано: «Будь в бою, как Ведерников в труде!» А он вон какой…
Ольга, тут же осознав важность момента, снова выскочила перед генералом, теперь уже не ради Ведерникова, а ради цеха, который она возглавляла в комсомольских делах, и отсалютовала со словами: «Наш боевой комсомольский пост! Товарищ генерал! Ведерников – сын фронтовика! Пришел из трудовых резервов, и мы гордимся, все как один на нашем заводе…»
Генерал отвернулся к военпреду, не слушая, спросил:
– А может, все-таки не он? Какой-то замызганный и это – мал же?
– Да он же! Товарищ генерал! Я лично его работу принимал! Мал золотник, да дорог! Как раз про него!
– Потом… Он же спит? – генерал опять посмотрел на Костю. – Смотрите, спит же… Его надо отвести домой!
– Так точно! – произнес еще один из военных, стоящих неприметно сзади. – Отвезем! На машине!
– Да не спит он, – неуверенно подсказал Букаты. Косте подсказал, а не генералу. – Глаза у него такие, что он плохо смотрит, да после ночи…
Ольга подхватила:
– Что вы! Товарищ генерал! Это у него от волнения! Он и мы все счастливы, что вы нас… К нам в цех…
Генерал посмотрел на Букаты, на Ольгу, на других рабочих и стал говорить, что он поздравляет от имени командования Константина Сергеевича Ведерникова за ударную работу в деле создания боевых и безотказных в бою машин, ему и его друзьям по бригаде…
Тут в его руках откуда-то объявились две блестящие консервные банки.
– А это вам наша фронтовая премия! Из нашего боевого пайка! Называется она свиной тушенкой…
Все, и даже Вакшель, зааплодировали, а Костю подтолкнули к генералу, и тот отдал банки в руки со словами: «Заслужил! Здоровейте! На радость советским танкистам!» Все опять стали хлопать. Костик стоял с банками, не зная, что с ними и с собой делать. Ольга хотела забрать банки из рук Костика, помочь ему, но тот не послушался и банок не отдал, а сильней прижал к груди.
– Не молчи, – шепнула она, это слышали те, кто стоял рядом. – Не молчи, скажи что-нибудь! Мы будем достойны… Ну!
– Мы будем достойны… – повторил Костик и вдруг, будто очнувшись, добавил вполне осознанно. – Спасибо… Мы с мамой щи наварим, у нас с мамой давно мяса не было…
– Не в тушенке дело, – пришел тут же на помощь Букаты.
А Швейк негромко, лишь для бригады досочинял:
– Не тушенкой мы богаты, так сказал И. И. Букаты!
У Швейка про Букаты таких импровизаций было много.
Во время зарплаты он говорил: «От зарплаты до зарплаты нас ведет наш вождь Букаты!»
А вчера, когда горели с планом, у Швейка вырвалось: «Как закончу план проклятый, так уймусь, сказал Букаты!»
Ольга вслед за Букаты подхватила, что Костик смущен, это понятно, но вместе с Костиком, товарищ генерал правильно сказал, трудилась и бригада, и цех, да весь наш героический рабочий класс завода, и все они гордятся, что своим славным трудом приближают нашу долгожданную, как говорил товарищ Сталин, победу!
– Спасибо нашей родной Красной Армии! – так закончила Ольга, и все облегченно захлопали. Все, кроме Костика, который держал свою тушенку, и руки были заняты. Поистине драгоценный подарок! Это все понимали.
Генерал еще раз смерил Костика взглядом, шепнул что-то военпреду и на прощание пожал Вакшелю и Букаты руки, Ольгу, стоящую рядом, он не заметил.
– Что ж, товарищи, – сказал озабоченно уже, хоть еще и неторопливо. Но мягкость, но тепло, неожиданно проявившиеся, пропали. Он снова стал тем настоящим суровым генералом, которого они увидели при появлении. – Мы уезжаем отсюда вооруженные вашей замечательной техникой и вашим дружеским участием… Обещаю, что эти танки будут драться за Рейхстаг! Спасибо!
Генерал быстро ушел, удалилась и свита.
Ольга было бросилась вслед, но тут же вернулась, требовательно глядя на Костика, произнесла:
– Язык от радости проглотил, что ли! Какой позор!
– А что говорить-то? – вступился Силыч за дружка. – Спасибо же он сказал, и будя. Швейк тут же подхватил:
– Мы сейчас эту награду героически срубаем в цеху! А? Не таскать же такую тяжесть… Еще потеряешь!
Все посмотрели на Костика, на его руки. Бригада вдруг поняла, что Костик угостит их американской тушенкой, боевым военным пайком. Но Костик молчал. И Ольга недоуменно повторила:
– Ну что за человек? Он хоть слышал, что говорят его товарищи? Слышал он или нет? Вот объясните, почему он молчит? Почему?
8
– Не вижу никакого криминала, – вдруг сказал защитник Козлов, почти оживившись. Его унылое лицо никак не изменило своего выражения.
– А что вы видите? – спросила Князева.
– Ничего не вижу, – сказал Козлов. И в зале засмеялись. Возможно, он хотел сказать вторично, что ничего плохого не видит, но сказал так, что получилось, что он вообще ничего не видит. Как же тут не посмеяться над незадачливым защитником.
Князева, ради объективности, попыталась исправить неловкость, она повторила громко, чтобы все слышали и до всех бы дошло, что криминала в тушенке и в том, что Ведерников чуть не заснул после смены, и верно, никакого нет. Но далее… Далее-то что было?
– Скажите, – обратилась она к Востряковой, сидевшей тут, на сцене, и Ольга поднялась. – Он так и не отдал бригаде тушенку?
– Нет, – сказала Ольга в зал. – Он никому не дал тушенку, он унес ее домой, и мы это дело замяли. Но сейчас я думаю, что не надо было заминать. Вот результаты!
– А я считаю, что ничего не произошло, – возразил Букаты. – Награда-то назначалась Ведерникову, и его личное дело, как ею распорядиться. Главное, что план он выполнил!
– Вот-вот! – бросил ему из-за своего стола Зелинский. – А дисциплинка? Был у нас в роте малец один, храбрый не по годам, ему все потакали. И такой он, и сякой, ну и потерял парень контроль, захвалили! Повел без приказа орудийный расчет напрямки, через болото… Да и утопил в болоте технику-то, чуть сам не утонул с людьми… – Зелинский сделал паузу, то ли вспоминал, как было, толи пережидал реакцию зала, считая, что такой эпизод нельзя проговаривать наскоро. Помолчав, он добавил; все сейчас на него смотрели: Князева, и защитник, и Ольга, которая продолжала стоять, и Букаты, и сам Ведерников. – Так мы… Мы не пощадили храбреца! Невзирая на его заслуги и медали… Не по-ща-ди-ли! Товарищи!
– А какое это имеет отношение к Ведерникову? – спросил Букаты.
Ольга, которую ни о чем вроде бы не спрашивали, тут же отреагировала, но так, что вроде бы не понравилось и самому Зелинскому, хоть ясно было, что она подпевает ему:
– А вот какое, товарищи! Сперва преступного дружка защитил, не проголосовал, потом консервы, как собственник какой… А у Силыча, ну то есть у Володи Почкайло, трое детишек, мал мала меньше… Они тоже мяса давно не пробовали… А может, и никогда не пробовали! Да и по словам товарища генерала понятно, что это награда для всех, а не для одного Ведерникова! Вот в чем тут дело!
– Консервы мы осуждать не будем, – сказал вдруг, поднявшись с места, Зелинский. – Мы только запомним, что комсомольцы, которые были радом с Ведерниковым, сами осудили его. – Тут прокурор посмотрел на Вострякову и перевел взгляд на Костика.
– Подсудимый Ведерников, а куда вы, кстати, дели эти консервы?
– Продал, – ответил Костик вяло.
– На следующий же день?
– Мы работали на следующий день.
– А когда?
– Не помню, – сказал Костик.
– Но вскоре, да?
– Да. Вскоре.
– Выходит: получив от генерала вознаграждение, вы побежали поскорей на рынок? – спросил Зелинский под громкий смех зала.
– Я не побежал, я пошел…
– Это все равно. Сколько же вы за них получили? Сотню? Две?
Ведерников не ответил. Да ответа от него и не ждали. Тут в самом вопросе заключался ответ: человек загнал свою награду, а деньги небось прокутил. Не матери же он отдал, раз мать еще на предварительном следствии утверждала, что никаких консервов, и даже денег от них, она не имела. Она бы такое запомнила.
– Но ваша мама денег от вас не получила? – продолжал добивать свою жертву прокурор. – Так или нет? Ни консервов, ни денег?
Ведерников снова ничего не ответил.
– Именно так, – вместо подсудимого сказал прокурор и, удовлетворенный, откинулся на стуле. – И это в то время, когда жена фронтовика, пропавшего без вести, едва сводит концы с концами, работая уборщицей при школе… Да что говорить, она и сама скажет…
По залу пронесся ропот негодования.
– Позор! – крикнули из первого ряда. – Позор преступнику!
9
Отец Костика был заводской бухгалтер, спокойный и сосредоточенный на своих конторских делах человек. До завода он работал на молокозаводе, и в трудные предвоенные времена Костик запомнил – мать, а потом и он сам, ходили за реку на этот завод, где им выдавали белую водичку-обрат, то, что оставалось от молока после переработки.
В сорок первом, несмотря на плохое зрение, отца призвали в роту санинструкторов, и он, и другие такие же долго, несколько месяцев, стояли в здании школы. Тогда Костик подбегал к изгороди, а отец несколько раз смог передать ему через щель прямо в казенной шапке принесенный откуда-то мерзлый картофель. Он сыпал картофель в сумку, которую подставлял Костик, торопливо оглядываясь и шепча слова, чтобы Костик еще приходил, он, отец, для семьи что-нибудь да достанет. Костик возвращался с ношей домой, а картофель в сумке постукивал, как деревянные кубики.
Но однажды, когда Костик пришел к забору, он уже никого не увидел: лишь катил холодный ветер по натоптанному двору клочки сена. И ни одной души. Так и получилось, вроде бы много раз могли попрощаться с отцом, но не попрощались ни разу. И писем от него не было.
В те голодные первой военной зимы месяцы мать Костика придумала ходить за реку далеко в лес, где работали бригады лесорубов. У них были лошади, и мать вымаливала у суровых возчиков (многие из трудармии, из Средней Азии, в ватных расшитых халатах) пару стаканов овса. Этот овес спасал им жизнь. Они отмачивали его в воде, прокручивали через мясорубку, крутил Костик, у матери не было сил, и варили кисель. Так и выжили, потом и на заводе стали подкармливать.
Однажды он возвращался со второй смены, и привалило счастье: отоварили сразу на два дня: буханку хлеба дали и на жировые талоны полкило хлопкового масла. Пока он до дому шел, все щипал понемножку да макал в масло, все и укрутил. Домой пришел, а в руках пустая банка, крошки на дне плавают. Посмотрела мать и заплакала. Не оттого заплакала, что жалко ей было, а оттого, что увидела, как он отощал, что вечно голодный: и на работе, и дома. С тех пор она делила ему норму: одну порцию с киселем до работы, другую – тоже с киселем – после работы.
А тут их наладили в свободное от смены время, как ни странно, это почему-то случалось по ночам, потом-то они поняли, почему по ночам, но сразу не дошло, посылать на разгрузку раненых.
В ночь приходило до десятка санитарных поездов и эшелонов. Стон, кровь, бинты… Некоторые кричат, рвут на себе одежды… Их поскорей на грузовики, пока население не узнало и не прослышало, да по госпиталям.
Так случилось во дворе одного госпиталя, Костя тащил носилки и вдруг услышал, как один раненый выкликает другого: «Ведерников!» Чуть носилки не уронил! Бросился туда: видит – человек, а точней, не человек, обрубок: ног у него нет. В глазах у Костика поплыло. Он закричал изо всех сил: «Папа! Папа!» Раненый обернулся, и Костик увидел: не отец это, чужой человек. Разрыдался, скорей от испуга, а раненый-то, который без ног, стал его утешать: «Ничего, пацан, крепись… Твой папаня еще вернется… Я точно знаю, говорит, что он жив… Я, говорит, встречал одного на передовой Ведерникова… Как звать, говорит, не помню, но похож на тебя… Такой деловитый, спокойный, он, кажется, по какой-то подсобной части…»
– Из медицинской, может быть? – спросил с надеждой Костик.
– Во! Точно! Оттуда! Я и говорю, что жив! Жив твой папаня! Ты жди! И мамане своей скажи, что надо ждать!
В то счастливое утро, когда получил он в награду от генерала тушенку, Костик сразу же понял, что он сделает с тушенкой, он отнесет ее Ведерникову. Тому Ведерникову, который без ног и который видел его отца… Он много раз о нем вспоминал, но выкроить несколько часов и вырваться из железных объятий завода было непросто.
Зажав две блестящие баночки в руках, прохожие на них останавливали взгляд поневоле, даже вслед еще смотрели, – как же такую роскошь несут у всех на глазах! – бежал он через весь город шесть километров до госпиталя. Глаза болели, он и не замечал! За то время, пока не были они на разгрузке эшелонов, уже от станции к пристани узкоколейку проложили, и теперь возили по ней раненых до причала, но опять же больше по ночам…
Так с баночками Костик во дворик зашел и в палату, он уже знал, где лежит его Ведерников. Никому он своей тайны не открывал, не хотел открывать даже матери, что есть у него теперь родственная душа в госпитале. Да матери тем более нельзя говорить, она хоть и мучается по отцу, но вслух не вспоминает, а тут, ясное дело, все всколыхнется, станет по ночам плакать. Этого еще Костику не хватало!
А Ведерников, безногий, который из госпиталя, очень веселым человеком оказался. Он воздушным стрелком был и много разного из своей боевой профессии рассказывал: ему и гореть приходилось в воздухе, и выпрыгивать на вражеские позиции… Прострелили ему ноги во время такого прыжка прямо в воздухе, но попал, слава богу, к своим. Ветерок в нашу сторону-то был.
Все помнил Костик про Ведерникова, он и бриться ему помогал, цветы с поля приносил, а один раз притащил морковку, которую ему подарили.
А тут подарок судьбы – тушенка! Он представил, как вскинется ему навстречу Ведерников, как закричит на всю палату: «Братцы, мой сродственник пришел! Праздник у нас!» Свой-то сынок у него тоже был, но под оккупацией, в Одессе, и хоть город освободили, он ничего не знал, не слышал. Костик его, конечно, уверял, что сынок тот жив, как же иначе…
Так они и встречались: один другого уговаривал, про сына или про отца, и один другому верил. Вот что главное.
Теперь Костик встал в дверях, но не видел Ведерникова, потому что койка была пуста.
Сперва подумалось: увезли на перевязку, а может, вообще перевели в другую палату. Давно он не был здесь. Но другие в палате, из тех, кто знали Костика, промолчали, даже будто не обрадовались ему. Так ему показалось. Проходящая мимо сестренка, новенькая, она Костю прежде не знала, спросила на ходу: «К кому, товарищ? – И удивилась: – К Ведерникову? Он же умер на прошлой неделе». Сказала и пошла по своим делам дальше. А Костик остался стоять у всех на глазах, потому что теперь он и сам не мог уйти. Даже заплакать не мог, слишком неожиданно хватило. Он дошел до пустой койки и положил банки на тумбочку. Зачем это сделал, он сам не знал. Наверное, потому и сделал, что живому Ведерникову не приносил такого богатства, а теперь как бы мертвому оставлял. Хоть понятно, что не увидит тот никогда Костиного подарка, не оценит. Ну так что же, живые съедят. Костик не сразу так подумал, потом, когда валялся он за госпиталем на задворках и ревел, ревел. Родного человека потерял: Ведерникова. Будто самого себя.
10
Весь день, свободный от смены, провалялся Костик на койке, благо можно сослаться на глаза, которые и вправду болели и слезились. И уж непонятно было, отчего они слезились, и не хотел сам Костик, чтобы кто-нибудь это понимал. Даже мать. А она ходила вокруг да около, невысокая, еще меньше сына, и не седая почти, волосы пучком, на темной одежде старая шаль теплого солнечного цвета, сама связала.
Мать прежде много вязала, и скатерки, и накидки на диван, а потом, как голод наступил, все продала. Была у них коза, черная в белых пятнах: Машка, и козу пришлось зарезать, когда зима первая военная пришла. Сама-то мать не решилась, а отвела козу соседу дяде Васе, портному, он потом на фронт ушел. Отвела, и тот зарубил Машку, а мясо они растянули на три месяца, но и оно кончилось. А больше и продавать нечего было: вот диван разве, но его-то мать и берегла. Нажитый вместе с отцом, он как бы подкреплял ее веру в то, что дом у них еще не пропал, еще жив, и хозяин когда-нибудь вернется. И шаль свою солнечную она не продавала. Мерзла без шали, да и заплаты, что были на одежде, эта шаль вроде бы прикрывала.
Посуетилась мать возле Костика, присела, вздыхая, у окошка. Не хочет говорить, можно и помолчать. А захочет, так она тут, рядом.
Окошко в их каморке одно, небольшое, да и лучше оно, что небольшое-то, меньше тепла уходит. Сама каморка тоже невелика, стены оклеены пожелтевшей газеткой, за ситцевой занавеской кухонька: тумбочка с керосинкой, в которой давно выпали слюдяные стеклышки, полочка, потемневшая от сажи, а рядом рукомойник и ведро под рукомойником. И кружка на гвозде. Печка с двумя конфорками, маленькая, но удачная, теплая, хороший печник клал, отделяла материн закуток, где у нее тот самый диван с высокой деревянной спинкой поставлен, а в спинке в прорези полосочка зеркальца, а над спинкой икона. У Кости своя железная кровать, а над ней портрет товарища Калинина. Портретом его в цехе наградили. За портретом, как и за иконой, мать держала всякие квиточки и лекарственную травку. Рядом грамоты, полученные Костиком за трудовые победы. Одна из них, врученная лично директором завода, генерал-майором Яковлевым, с портретом Сталина в уголке: «За лучшую слесарную центровку».
– Кость, а Кость, – подала мать неуверенно свой голос. – Новость-то какая… Сосед с фронта вернулся… Дядя Вася, портной, помнишь? – Костя молчал, и мать продолжала: – Инвалид теперь, ноги у него нет… А он, значит, себе костыльки сделал да и скачет, и скачет по огороду, будто галка какая… И шутит все, хорошо, что голова цела, вот что, матушка… Он меня и прежде матушкой называл… Голова-то уцелела на войне, ее, говорит, палочкой не заменишь… Во как!
– Повезло, – подал Костик голос. Будто буркнул в подушку, но мать и этому обрадовалась.
– И я говорю! Повезло тебе, Васька! Живой ведь! А ноги нет, так ты ведь не футболист, а ты – портной, а портному-то руки нужней, чем ноги! А он, значит, снова шутит… Песенку эту… Хорошо тому живется, у кого одна нога, и портчинина не рвется, и не нужно сапога! А Дуня-то, жена, и дети у него в избе сгорели в оккупации… Они гостили у родни. Вот я реву, сама уж не знаю почему. То ли песня такая, то ли отца вспомнила, Сергея Митрофаныча… Поплакала о ней с детишками, и легче стало…
Костя сел на кровати, спустил ноги.
– Мам, – спросил он. – А если с отцом что-то… Ну такое же что-то случилось?
– Ох, лишь бы пришел, – сказала мать. – На руках носить буду, не брошу.
Костик о чем-то сосредоточенно думал. И снова спросил:
– Мам, а если не придет совсем?
– Как же… – растерянно спросила она. – Я с твоим отцом жизнь прожила. Даже на работу и то вместе, везде вместе. А без него к чему мне жить? Не хочу… – И вдруг спохватившись, что не то совсем говорит, прикрикнула на сына. – Ты чево раньше срока его хоронишь-то? Чево? Тебя спрашиваю? У других вон похоронки пришли, а потом оказалось, что живы… А нам и похоронки никакой не было! Слезай, поди умойся лучше… Не в настроении пришел, вот и мелешь, что на язык попадет…
– Прости, мам, – Костик опрокинулся на подушку, отвернув к стене голову.
Мать опомнилась, пересела на койку к его ногам.
– Придет он, сынок, – сказала ласково. – Ты отца-то хорошо помнишь?
Костик произнес, не повернув головы:
– Он мне, мам, снится… Каждую ночь.
– Вот, – подхватила мать, – значит, живой! Думает о нас! Он когда на санинструктора-то учился, в школе стоял, я к нему, к забору, тоже ведь бегала… Прижмусь к ограде, а он с другой стороны, и слушаем мы друг дружку и думаем об одном и том же, что кончится проклятая война и станем опять рядом ходить… Или вот на диване сидеть: мы как купили диван, скопив деньжонок, так уселись с ним, будто на своей свадьбе второй раз, такие торжественные. И как хорошо нам, вот ты родился, а потом пошел первый раз… Мы садимся и рядом сидим, это значит, праздник у нас с ним… А тут мне говорят: продай да продай! И хлеба даже предлагали… А я пришла, села на диван и захотела представить, что он тоже тут сидит… И никак не могла решиться… Не продала… Страшно стало, что продам, а он рассердится, когда придет.
– Таисия… Таисия Петровна, так вас зовут? – спросил прокурор, доброжелательно поглядывая на мать Костика.
– Зовут меня тетя Тая, – сказала та, поддергивая на себе шаль от смущения. – Я с отчеством-то не привыкла, – добавила она.
– Скажите, пожалуйста, тетя Тая, вы знали или слышали хотя бы, что вашего сына наградили тушенкой?
– Не слышала, – ответила она, глядя в пол.
– И не видели?
– Да господи, конечно же, не видела! – возмутилась она, что ее переспрашивают, а значит, выходит, не верят,
– И что на рынок снес, тоже не знаете? – спросил прокурор. – Как же вы воспитываете сына, если ничего не видите и не знаете?
Тетя Тая снова поддернула шаль и сказала со вздохом:
– Дык он у вас в цеху больше живет, чем у себя дома… Вечером придет да в постель. А утром снова не до разговоров. А я и сама при деле, у меня в школе своя смена, а у него своя…
– Значит, он от вас скрыл, что получил тушенку? – долдонил свое прокурор, тете Тае это надоело. Она начала сердиться. А когда она сердилась, она уже никого не смущалась. И тут она расправила шаль и повернулась прямо к прокурору, чтобы его хорошо видеть.
– Вы знаете, товарищ… Вы вот, говорят, фронтовик и человек вы заслуженный, как я понимаю… А только чтобы вы там ни рассказывали про болото, про оружие, которое утопло, и как мальчишку того бедного вы до смерти засудили…
– Таисия Петровна! – подала голос Князева. – Попрошу отвечать конкретно!
– Не бойся, я отвечу, – сказала тетя Тая и повернулась к Князевой. – А ты, милушка, сама послушай, тебе полезно!
– Какое вы право имеете! – воскликнула Ольга и даже привстала на месте.
– А вы какое право имеете? – одернул ее прокурор и повернулся к свидетелю: – Говорите, пожалуйста!
– Я и говорю, – строго произнесла тетя Тая. – Вот ей сперва, – указала в сторону Князевой. – Тут этот, Буката, на себя напраслину возводил, мол, он и виноват, что задерживал на работе и на смене… А чево вы молчали-то? Вы-то заводские были и знали, они не слепые котята, понимают, что они делают… И Костьку дергали… А какой план без дерганей, а? А вы, – это опять она Князевой, – молчите! А еще на заводе работали! Вам небось нравится, что этот старый хрен… – тут тетя Тая прищурилась и посмотрела на передний ряд, где сидел теперь Букаты. Не нашла его и махнула рукой. – Что этот берет на себя всю вину, а не завод и не другие, которые план-то гонют…
– Скажи им, тетя Тая! – крикнули из зала. – Все скажи!
– Ладно, – пообещала она, поджав губы, и повернулась к прокурору. – А теперь вот я и вам отвечу. Вы на фронте победили… А мы тут в тылу тоже ведь победили… А как… Вы этого про нас, товарищ фронтовик, ничегошеньки не знаете… А что вы про моего Костьку понять хотите, если вы ничего не знаете, а? Как я с работы встречаю… Как раздеваю его в постели, как ребенка малого… Он ведь совсем без сил после вашего цеха-то…
– Ну так расскажите, прошу вас, – сдержанно и даже будто с сочувствием попросил прокурор. И Князева кивнула:
– Да, да! Говорите!
– А чево я должна говорить? – спросила тетя Тая и сделала шаг к прокурору. – Вы же все равно на полную катушку тут… Вы же небось и срок ему назначили, а? А теперь тут сидите и подгоняете ответ под задачник: то консервы, то деньги… А я, выходит, вам еще в этом деле помогать должна?
– Это уж слишком! – крикнула опять Ольга. – За такие слова, знаете!
Тетя Тая вздрогнула и повернулась к Ольге. Долго вглядывалась в нее, будто что-то в ней понять хотела. Поняла. Отвернулась. Потупилась и тихо произнесла, так, что в зале наступила глухая тишина. Все старались услышать.
– Не пугайте вы меня… Я мать. Я ничего не боюсь. – И она снова повернулась к прокурору, и теперь она говорила только ему: – Вы его тут судите, а я вас сужу! Чтобы вы тут про себя ни придумали… А про тот день я вам расскажу, когда он пришел раньше обычного… Я отругала его, что не умывшись-то лег… А потом мы про отца еще нашего поговорили, и я заснуть не могла, все думала о нем да и проспала утром-то… Вот беда!
11
– Вот беда! Вот беда! – спросонья тетя Тая суетилась, она и без часов поняла, что проспала то время, когда ей надо вставать. Прежде-то она успевала завтрак приготовить, хоть какой-то, и баночку картошкой наполнить, чтобы на работе Костик мог ее поесть. «Господи, – думала в отчаянии, поглядев, как спит ее сын, один профиль от него остался… И шея цыплячья! – Господи, за что же людям эта всемирная мука, война! Накажи ты, господи, лютым судом тех, кто ее затеял!»
Руку протянула к нему и вдруг почувствовала, что сердце не пускает нарушить этот и без того короткий сон. В раздумье постояла и преодолела себя, позвала:
– Костик… Костик… – негромко, правда. – Вставай, сынок, на работу пора!
Он проснулся. Поднял голову, только глаз разомкнуть не мог.
– Сейчас… Мам… Сколько?
– Да много! Ты уж поднимайся, я-то ведь сама проспала! Слышь?
Не открывая глаз, он кивнул и уткнулся в подушку:
– Мам… Я чуть-чуть… Я совсем немножечко… Ну, секундочку… Мам…
– Да какое чуть-чуть! – всплеснула руками. – И оно кончилось! Костик! – она схватила его за плечи и стала тянуть его на себя, и приговаривать, ласково поднимая, лишь так можно справиться с его всесильным оглушающим сном. – Ты же у меня ударник… Танки делаешь… Ты у меня молодец… – И когда дотянула до того, что он уже сидел, а не лежал, схватилась, не успев отдышаться, побежала к керосинке. – Ну теперь сам вставай! Я тебе чайку налью!
Костя как сидел с закрытыми глазами, нащупал одежду, штаны и рубаху свою фезеушную надел и ремешком подпоясался. Все это не открыв ни разу глаз. Подсел привычно к столику, опустил голову на руки. Уснул!
– Вот он, чаек-то, – приговаривала мать за занавесочкой, стараясь, чтобы Костик слышал ее голос и не спал. – Елочкой заварила… Елочка, она десна укрепляет.
Вынесла чайник, охнула:
– Костик! Ну что ты со мной делаешь! Ведь опоздаешь!
При грозном слове «опоздаешь», настолько грозном, что он и во сне иногда видел, в самых страшных снах, это опоздание, Костик вскочил и бросился к двери.
– Да куда же ты! – вслед крикнула мать. – А чай?
– Мам, ну какой чай… – Костик едва расщеплял глаза. Вдруг как стоял, так и уткнулся в дверной косяк. Стоя заснул. Но при этом какая-то часть мозга у него самоохранительно работала, потому что ему казалось, что он уже идет на работу, и он бормотал слова, что он пошел… Он уже пошел… Он… При… по… шел…
– Ах ты! – тетя Тая стала шарить по карманам. Нащупала флакон нашатыря, который носила при себе постоянно. Не первый раз такое! Она открыла стеклянную притертую пробочку и сунула горлышком прямо в нос Костику. – Ну, ну!!! Шел и не дошел, – проворчала. – А ты дыши глубже… Вот так… И еще…
Костя вдруг замотал головой и окончательно проснулся. Даже глаза прояснели.
– Ух, мать! – проговорил уже осознанно и отодвигая рукой ненавистный флакон. – Ну, мать, придумала! Фашисты газами не травят так мирное население…
– Зато в мозгах просветлело, – оправдывалась она и, перекрестив Костика на дорогу, спрятала злополучный флакон в карман.
Посмотрела в окошко, как он идет, со спины карликовый старичок, сутуловато горбясь, засунул руки в карманы. Вспомнила, что не положила ему в банку картошки, а значит, останется он на целую смену голодный. Вздохнула, виня себя и эту ночь, что так расстроилась она по приходе с фронта соседа Василия от этих разговоров, бередящих душу. Столько остерегалась, а тут распустила слюни. «Переживем», – пробормотала про себя. Это слово было единственной подпоркой ей во всю войну. А что оно по-настоящему-то означало, она и думать не хотела. Надо пережить, раз Костик при ней. Одна бы она не стала переживать. И сейчас так подумалось: «Переживем». Она и представить не могла, чем кончится для нее с сыном этот светлый апрельский день, который так солнечно начинался с синего размытого неба и терпких запахов от земли.
Но за час или больше до выхода Костика прошел по этим же улицам высокий человек во френче из дорогого английского сукна и в модной, наверное, трофейной шляпе, принеся с собой кроме веселой энергичности что-то разрушительное и даже роковое, предопределившее судьбы многих людей в поселке, в том числе Костика и его мамы.
Провернулись какие-то шестеренки в межгалактических часах, и ничего нельзя было изменить или повернуть вспять. И хоть сам виновник этих грядущих событий успел приятно выпить и даже заснуть, беспечно прихрапывая на Зининой широкой постели с пестрым лоскутным одеялом, все остальные, или многие из них, такие, как Толик по кличке Василек, и Катя, и Букаты, и Зина, и сам Костик, и даже инвалид дядя Вася, были в движении, и движение это несло их навстречу друг другу к тому неизбежному будущему, которое в них произошло раньше, чем наступило наяву.
12
Бросив настороженный взгляд на Чемоданова, широко распластавшегося на постели, Зина тихо прикрыла за собой дверь и бросилась к калитке. Где-то на исходе улочки чуть не налетела на инвалида и даже не успела испугаться.
– Доброе утро, – произнес он, широко расплывшись, наверное, решил, что эта молодайка со сна так неразборчиво ходит, что на всех натыкается.
Какое-то мгновение Зина недоуменно смотрела на инвалида, никак не захваченная этой, не ко времени, улыбкой. Ответила так:
– Ох, доброе ли!
Но не к инвалиду был вопрос, а к себе самой.
– А чего же… – сразу отреагировал инвалид. – Весна и теплышко… И дров почти не надо… И тихо… Ведь тихо же… А? – С ухмылкой такой, будто он сам только что создал эту тишину.
А Зина уже поняла, что человеку поговорить надо, и отодвинула его от себя одной фразой.
– Тихо, как в могиле! – бросила и ушла.
Побежала, а инвалид чуть недоуменно посмотрел ей вслед, но его солнечное настроение вовсе не помрачнело. Будто тучкой пролетела, не оставив следа.
«И чего, спрашивается, недовольны? – подумалось вслух. – Пули над ними не летают… Наоборот, бабочки…» И проводив глазами первую из них, увиденную въяве, такую неуверенную еще, как желтенький лепесток: мотает ветром туда-сюда, но ведь живая, настоящая бабочка-капустница из мирной, почти мирной, весны, он вдруг подумал, что ведь и на фронте были вёсны, а бабочек почему-то не было. Может, их войной спалило, они же нежные-то какие, а воздух и тот кругом горел, когда они на танках прорывались под Курском…
Зина между тем встала на перекрестке двух знакомых улиц, утром в это время здесь всегда проходил на работу ее брат. Уж он такой, что и болеть будет, но работы не минует и времени своего не пропустит. В цех он ходил как на праздник. Зина помнила, что если в доме у него появлялась обнова, рубашка ли нарядная или галстук, он непременно надевал первый раз только на работу. А все это от тех времен, когда бегал тайком от школы и от родителей в паровозное депо и там в мастерских был счастлив, если ему разрешали взять напильник и подпускали к верстаку. Однажды дали постоять за токарным станком, и судьба его была навсегда решена. У людей мечты как мечты: быть летчиком, моряком, полярником, артистом, а у этого – слесарем. Мать с отцом, оба учителя, недоумевали, нервничали, даже наказывали, если он пропускал школу, но все напрасно. «Память отличная, смекалка, мог бы на инженера учиться», – говорили они. Он же едва закончил девять классов и ушел навсегда в эти мастерские, чинившие паровозы. Уехал под Москву, в Коломну, там уже стал мастером. Но вместе с коломенским заводом, чистая случайность, снова попал в родной городишко во время эвакуации.
Зинаида увидала его издалека и уже, не желая ждать, сама пошла ему навстречу.
– Илья, – торопливо произнесла, он остановился как вкопанный, не смотрел по сторонам, и наверное, не ждал этой встречи. – А я тебя караулю… Знаю, что ты ходишь в такое время… Хотела с тобой поговорить…
– Если по поводу Толика, – отвечал, насупившись, – зря время теряешь.
– Толика ты сожрал с потрохами, не о нем речь!
– Словцо-то какое! Сожрал! Что он, рагу, что ли! – проворчал Букаты.
– Но ты послушай! – призвала Зинаида, приближаясь к нему.
– Нет, это ты послушай! – настаивал Букаты. – Я их принял из ФЗО сопливыми щенками… Толик твой, Василек, галошу потерял… Стоит и хнычет… Вот какие они были!
– Илья, проснись! – сказала с чувством Зинаида. – Сколько можно бредить цехом?
– А я говорю, – продолжал Букаты, не слушая ее, – что Толика твоего я уволил! Из цеха! А ты, Зинаида, подумала бы о себе… С подростком же связалась! А он прохвост к тому же! Вот!
– Все? – спросила Зина с ненавистью. Она заранее представляла эту встречу, так и вышло. И не пробьешься к этому человеку в душу, который зачерствел среди своих железок, сам в железо превратился! И семьи не завел, все некогда ему было. Зачерствел, заскорузнел среди своих дел, ибо питать душу они до конца не могли, если не спит рядом женщина, не играют под боком дети и нет в доме той неслышной музыки, которая зовется семьей. И у Зины, если посудить, не сложилось, так там свои причины, она бы и хотела сложить и билась, как воробей об стекло, об это неистовое желание, да только шишек набивала.
Но сейчас, может, в это мгновение, все решалось для нее, и много, ох как много зависело от того, что скажет этот непробиваемый, огороженный, будто танк броней, своей глухотой человек.
– Все? – спросила она.
– Все, – сказал Букаты, снижая властный голос перед ее напором. Он даже попытался оправдаться. – Времени в обрез… – И вынул карманные часы, серебристые, с кулак величиной. – Смена у меня… Зинаида…
– Но ты меня послушаешь? Или нет? – спросила Зина, готовая разрыдаться.
– Покороче! – попросил Букаты, почувствовав необычность в ее голосе. И ждал, набычившись. Словно и эту новость он предвидел. Но ничего он не мог предвидеть, и вообще был он беззащитней, чем мог показаться. Поэтому прозвучало для него, как гром среди этого ясного сегодня неба: «Катя замуж выходит».
– За кого? – спросил он растерянно.
– Об этом и разговор, – торопливо произнесла Зина, дождавшись, наконец, возможности хоть что-то сказать. Теперь-то она понимала, что ее не перебьют. – Есть один… Немолодой… Приехал, требует… – И не выдержала-таки, расплакалась.
– Ох, Зина, – прикрикнул Букаты, приходя в себя и обретая исконную свою уверенность. – Предупреждал я тебя! Ведь предупреждал же! Что испортишь девку! Рынки… Яблочки… Спекулянты… Темные людишки по вечерам… Ох!
– Илья, не митингуй, – попросила Зина негромко, вытирая слезы. – Я ведь к тебе от сердца… Я же сама… Хоть и давал ты деньги на Катерину, но ведь к нам ни шагу… Дорогу забыл… А я как должна выкручиваться?
– Откажи, – глухо произнес Букаты. Как отрезал. Он и в цехе, если не по нему, по бычьи пер напролом, наклонив голову, не свернуть.
– Как я откажу! – воскликнула Зина с отчаянием. – Она сама! Сама согласилась! Илья!
– Любовь, что ли?
– Какая в ее годы любовь? Дурость!
Букаты снова достал часы, посмотрел.
– Времени уже нет, – произнес тем же суховатым отстраненным тоном. – У нас с этим делом строго.
– Для живого у тебя никогда времени нет! – крикнула ему Зина, понимая, что он уйдет, а она не знает, как сделать, чтобы спасти себя и Катю. Ведь так можно сойти с ума.
И тут Букаты тоже не выдержал. Сверкнул глазами исподлобья.
– Но ты же довела девку! И учти… Если с Катериной что-нибудь случится… – даже руку угрожающе поднял, но Зина отвернулась, не поняв, не почувствовав его угрозы, и он руку опустил.
– Не кричи на меня… И так обкричали со всех сторон… Пусть я плохая, – произнесла сквозь слезы, закрыла лицо руками. – Пусть какая ты думаешь, но я же первая… Я же к тебе сама пришла…
– Поздновато пришла-то, – вдруг спокойно сказал Букаты. – Ладно. Я поговорю с ней.
– Лучше с ним, – попросила Зина, не отнимая рук от лица. – С Чемодановым!
– Как хочешь, – повторил Букаты и опять посмотрел на часы. – Пусть в цех ко мне придет… Или нет, его не пустят… К проходной, ладно? В обед?
Зина кивнула. И Букаты, откашлявшись, спросил, не зная, как еще успокоить сестру, уходить и бросать в таком состоянии он не хотел. – Он как с ней?
– Откуда я знаю, – сказала Зина. – Он странный человек…
– С кем поведешься, – отмахнулся Букаты. – Ох, Зинка! Надавал бы я тебе по шеям! Как в детстве! И за Толика твоего, и за Катьку… – Он вздохнул и посмотрел на часы, понимая, что и правда надо уходить, иначе опоздаешь. Уж насколько по привычке встал и вышел пораньше, а все время выскочило на этот неприятный разговор. – Одно скажу, – произнес он на прощание и помолчал. – Это на твоей, Зина, совести.
И пошел. Зина смотрела, вдруг крикнула:
– Илья!
Он обернулся, но уже не останавливался, потому что и правда мог опоздать, и сказал на ходу раздраженно, громко:
– Что Илья! Я говорю, думай сама! Душу заложи… Но Катьку спасай! Поняла?
Брат ушел так быстро, что уже через минуту его не видно было на улице, а Зина все стояла в нерешительности, произнося про себя его последние слова: «Душу? Заложить? Ладно. Ладно, Илья! Я заложу! Я заложу!» – будто грозила ему. И с этими словами бросилась в другую сторону. Туда, к вокзалу, где на привокзальной площади располагалась маленькая конторка знакомого ей поселкового юриста. Жил же он там же, рядом, в другом крыле дома.
13
В это время на другой улочке поселка стояла, задумавшись, с корзинкой яблок Катя. Стояла и смотрела бездумно на бабочку, возможно, ту же самую, которую приметил инвалид. Бабочка неровным зигзагом пролетела над дорогой, над заборами и села на корзинку с яблоками, накрытую сверху красной тряпкой. То ли запах яблок привлек, то ли бабочка этот красный цвет приняла за живой цветок. Но она сидела, пошевеливая сложенными крыльями, а Катя, боясь ее спугнуть, стояла и не решалась взять в руки корзинку. И вдруг за спиной сказали:
– Доброе утро!
– Ой, – вскрикнула она и повернулась. Перед ней стоял тот самый юноша, о котором она утром почему-то вспомнила. Так странно. Он посмотрел на нее, на бабочку и спросил, сделав осторожный шаг:
– Напугал, да?
– Нет, – ответила Катя. – Я задумалась.
– О чем?
– О чем? – переспросила она и не ответила.
– Я утром хожу на работу, а вы все время с корзиночкой… – сказал, замявшись, Костик, уже не зная, что ему делать, уходить ли или подождать ответа. – Так о чем вы задумались?
Катя мельком взглянула на него, стараясь понять, к чему он спрашивает и нужно ли ей с ним говорить.
Решила, что нужно.
– Стояла и думала… Возвращаться домой или… Или не возвращаться… – Она исподлобья посмотрела на него. Как он примет ее откровенность. Кажется, он принял как надо.
– А как лучше? – спросил. Значит, что-то понял. Значит, не дурак.
– Лучше… – сказала она, – не возвращаться. – И после паузы: – Никогда бы…
– Тебе плохо? – сразу спросил Костик.
Бабочка улетела, и он подошел ближе. Теперь они стояли друг против друга.
– Было плохо, – ровно, будто давнему приятелю, стала объяснять она. – А теперь… – Она присела, сняв с яблок красную тряпку и постелив на обочину. И Костик присел рядом. – Я утром встала, я уже которую ночь не сплю… Собак слушаю… Вот я встала и загадала про себя: если сегодня ничего не произойдет, то я что-нибудь сделаю… – Она посмотрела на Костю, прямо ему в лицо, и добавила: – Нет, я не жалуюсь, не подумайте. Просто мы не знакомы, я могу вам правду сказать… – И помолчав: – А если честно, то больше и сказать некому… Может, вам не интересно? – И стала заниматься какой-то травинкой, не решаясь теперь после такого странного откровения посмотреть на собеседника.
– Ну что вы! – сказал он и привстал, посмотрев на солнышко, чтобы понять, какое же теперь время. Катя его движения и его взгляда не заметила. Она была погружена в себя.
– Я привыкла ходить до базара и обратно. И вдруг мне прогуляться разрешили. Не идти на заработок, – уточнила она. – А именно так, погулять. А я по привычке схватила корзинку…
– С яблоками? – спросил почему-то Костя.
– Называются-то яблоки, – странно пояснила Катя. – То есть они и правда яблоки, хотя… Я не могу привыкнуть, что это яблоки… Понимаете? Ну раз они для торговли и Зина их пересчитывает… Как рубли все равно… – И, помолчав, Катя сразу сказала то, с чего, наверное, надо было начинать: – Я их терпеть не могу. Вот. – Посмотрела на Костика, может, у нее такая была привычка не верить своим словам и проверять, слушают ли ее и как слушают. – А Чемоданчик мне вслед кричит: «Да не бери ты их!» А я схватила… А может, это Зина крикнула… – Она вдруг всхлипнула, но говорить не переставала, а продолжала, и даже более торопливо, чем вначале: – А я схватила и на улицу… Гуляю вот, дошла до конца улицы и растерялась… А куда дальше, не знаю…
Костик, не отрывая от нее глаз, приподнялся, попросил:
– Ну, не плачьте… Пожалуйста… А то мне надо идти… У меня ведь смена… – снова сел.
Так уйти он не мог. И стоять не мог. Но и сидеть не мог. Он вообще не знал, что в таких случаях делают, когда рядом плачут.
– Ну и идите, – вдруг сказала Катя. – Я ведь вас не держу.
Она сидела, уткнувшись в коленки, и головы теперь не поднимала, не желая знать, тут он, этот случайный юноша, или нет. Если бы он поднялся и ушел, она бы все равно не заметила.
– Как же я уйду? – спросил он наивно. – Не могу я так… – И уже поднявшись: – Я правда, я прошу…
– Мне никого не надо, – и Катя, не отрываясь от своих коленей, отмахнула рукой. – Я вас не просила… Я вообще сама…
Костя почему-то разозлился. Может, его этот пренебрежительный жест рукой разозлил, эта отмашка, мол, убирайтесь и не застите свет…
– Сама так сама! – сказал он, решившись, и даже сделал шаг в сторону. Сделал и оглянулся. И увидел: никакой реакции. Значит, не поняла, что он уходит. Значит, и правда все равно. – Сиди себе! – крикнул он и пошел. Опять повернулся. – Не хочешь no-хорошему, да? А между прочим, все победы ждут… – К чему он вспомнил про победу, он и сам не понял. Просто захотелось что-то про себя сказать, чтобы она поняла, что он тоже человек и тоже со своими чувствами… Хотя… Какие уж у него чувства, нет никаких чувств, кроме одного: все время спать хочется. Вот кончится война, так подумалось, не надо будет в «тачку» свою лезть… Он тогда заляжет и попросит мать, чтобы не будила! Никогда! Пока сам не проснется и сам не встанет! А встанет он… Ну так через неделю… Нет, через месяц… Когда выспится так, чтобы…
Катя между тем поднялась, отряхнулась от травы, а яблочки накрыла красной тряпкой. Подняла корзинку и, не взглянув на него, прочь пошла. Вот характер!
– Постой! – крикнул ей Костя. – Давай познакомимся, а?
Не опуская корзинки, Катя лишь голову чуть повернула:
– Уже.
– Что уже? – опешил он, но сделал к ней несколько шагов, а она стояла спиной и так странно смотрела на него.
– Уже, – повторила она. – Познакомились. Ты как мой дядя, он тоже разговаривает, а сам кроме своего цеха ничего знать не хочет.
Костик, пока она все это говорила, подошел и протянул руку к корзинке, ухватившись за ручку. Катя рванула корзинку к себе и крикнула:
– Отдай корзинку-то!
– Не отдам, – заявил он. – Меня зовут Константин Сергеич.
– Ну и что? – и вдруг, почувствовав в нем какую-то силу, успокоилась. – А меня Катерина Егоровна. Беспартийная… Семнадцать лет… Сегодня…
Они стояли теперь, ухватившись за корзинку с двух сторон, и смотрели друг на друга.
– Что? Сегодня?
– Замуж выхожу сегодня! Вот дурак непонимающий! – сказала сердито Катя. Но сердилась она, было сразу видно, не сильно.
– Этот… – поинтересовался Костя. – Который Чемоданчик?
– Василий Васильич… Он мне подарки… Даже кольцо… Он хороший, – будто с кем-то спорила Катя. – Он мне сказал: «Уедем, и не будет никаких яблок!»
– Он что же, старый? Твой Василь Василич? – поинтересовался сдержанно Костя. Но Катя уже опомнилась и снова рассердилась. А может, потому и рассердилась, что ей о возрасте напомнили.
– А тебя вообще не касается! Понял? – крикнула она.
– Нет, не понял, – спокойно отвечал Костя.
– Послушайте, Константин Сергеич, – попросила Катя, потеряв терпение. – Идите на свой завод… Залезьте в свой танк и сидите и не знайте ничего… Там глухо, как в гробу!
– Не пойду, – крикнул ей Костя прямо в лицо. – Никуда я не пойду! Ты его не любишь, да?
– Вот же, пристал! – в отчаянии произнесла Катя и оглянулась. – Закричать, что ли! Имейте в виду, я закричу, а они услышат! Вы поняли! Они из вас захотят, котлету сделают! Они же убьют вас!
– Кричи, кричи, – предложил презрительно Костя. – Все равно не любишь! – Он отпустил корзинку и стоял, насмешливо глядя на нее. – Бери! Иди на свой базар! Я тебя понял… Ты просто спекулянтка!
– Я – спекулянтка? – опешив, переспросила Катя. И положив корзинку, она шагнула к Косте, чуть не наступив ему на ногу. – Ну-ка, повтори! Повтори, кто я? Спекулянтка я? Да?
Он впервые увидел так близко ее разгоряченное лицо и огромные горящие глаза. Промелькнуло, что она может и вцепиться в него, если он дрогнет под ее напором. Но ведь и он разозлился, за нее разозлился, потому что она врала: ему врала и себе самой… И что бы там ни произошло, он не отступится. Он будет ее, дуру, обличать, не за эту любовь, а за другое, в котором он тоже прав.
– Да! – крикнул он ей прямо в лицо. – Да, ты настоящая спекулянтка. И кроме своих яблок тоже ничего не видишь!
– Ах, так! – сказал Катя. Отошла на шаг, повернулась, отыскав глазами корзинку, и вдруг подскочила к ней и стала швырять на дорогу яблоко за яблоком, приговаривая: – Смотри! Смотри! Пусть все видят… Ненавижу! Всех, всех ненавижу! – С корзинкой рядом прямо в пыль села и разревелась.
– Ну и дура, яблоки-то при чем, – Костя попытался ее приподнять, но Катя отмахивалась руками и не вставала.
В этот момент и появилась на дороге Зина. Наверно, она успела сходить к своему юристу на привокзальную площадь, а может, и еще куда-то, но была она в полном раздрыге чувств, когда увидела издали, как дерутся двое на дороге и швыряют яблоки… Ее, Зинины, с таким трудом выращенные и сбереженные до апреля золотые плоды… Это уж было чересчур!
– Ты что же делаешь! – крикнула она Косте, подбегая. – Ты, сволочь, что же хулиганишь-то? А? Сейчас милицию позову!
Она думала, что он побежит, попытается скрыться, но вот что было странно: он смирно стоял около Кати, еще сидевший в пыли, и никуда не бежал. Он смотрел спокойно на приближающуюся Зину. Он еще пытался поднять из пыли глупую эту истеричку Катерину Егоровну, но ведь в пылу Зине могло показаться, что это он ее в пыль на дорогу и свалил, желая поживиться чужими яблоками. Она схватила его за руку, чтобы не вздумал уйти, и уж потом обратилась к Кате: что с ней, больно ли ее ударили?! Но Катя будто и не собиралась жаловаться, медленно поднялась и стала сбивать с себя пыль, не глядя ни на Костю, ни на Зину. Отряхнулась, собрала яблоки, а тетке сказала:
– Зин, он не виноват… Отпусти его…
– А чего кричала? – спросила подозрительно Зина. – А корзинку кто вырывал? Я всё видела! Бандюга! Испортил мне товар! – Но руку выпустила, наверное, поняв, что он не собирается убегать.
– Не кричите на меня, – сказал Костя негромко, но твердо. – Не имеете права кричать, не разобравшись.
И тут Зину словно прорвало: этот молокосос ее учит… Все учить стали… Все про права вспомнили… Один хочет дом отобрать… Другой девку увести… Третий ей тычет совестью… Четвертый яблоки ее швыряет! А она их всю зиму… Каждое отдельно от других обертывала… Сколько труда, сколько сил… Зина присела перед корзинкой и стала просматривать, вертя перед глазами, и все говорила, говорила, как они, эти яблочки, достались ей и как ей нужно за них получить деньги, чтобы расплатиться с долгами…
Но все, что она говорила, относилось не к этому хулигану, которого Катя почему-то защищала, а к Катерине, от которой, если посчитать, и пошли все Зинины беды, начиная с утра… От нее, а может, и от Толика… И от Чемоданова…
Зина вспомнила про бумаги, спрятанные за пазухой, и, поднявшись, отчего-то достала их, стала показывать Косте со словами:
– Может, тебе и дом мой нужен? Может, ты хочешь не только яблоки, но и остальное забрать? Так бери! Не стесняйся! Чего уж стесняться! Брать так брать! Грабить так грабить! Добивать нас с Катериной…
– Зин, ну успокойся, – сказала лишь Катя, она не смотрела в сторону Кости, не желая его теперь видеть, негодуя про себя, что он торчит здесь до сих пор и не уходит. Незачем видеть ему всю эту Зинину истерику, которая, кроме нее, Кати, никого и не касалась.
– Зин… Ну не надо… Не надо… Я тебя прошу…
– Из-за тебя все! – повторила с угрозой Зина и спрятала свои бумаги за пазуху, подальше. – Добила ты меня… Сердце на тебя ожесточилось… Пойдешь домой? Ну?
– Пойду… Конечно, пойду, успокойся только… Хочешь, посади в подвал… Только не сердись, ладно?
Они подняли вдвоем корзинку и пошли, а Костя остался стоять. О нем и не вспомнили. Он для них не существовал. Может, он должен и вправду радоваться, что не свели в милицию, могли бы и свести. Но вдруг ему показалось, что сейчас не он кого-то чуть не ограбил, по версии этой странной тетки, а его чуть не ограбили, а может, и ограбили, уведя эту девушку, которая теперь ему была нужна. Зачем нужна, этого он не знал. Можно было с ней три года встречаться здесь на улице, слышать: «Здравствуйте вам» – и не знать, что она существует. И ничего на свете вообще не знать. Но вот наступил апрель, пришел его девятнадцатый день, и у Костика раскрылись глаза. Сперва он увидел бабочку-капустницу, сидящую на Катиной корзинке, потом глаза девушки Катерины Егоровны, близко так, что любую рябинку в этих серо-голубых глазах рассмотреть можно было, и вдруг он увидел, даже ощутил, горячую волну, исходящую от нее… Что-то в нем пробудилось. Как от апрельского тепла пробуждается почка и разворачивается и становится листом. Очнувшись, он крикнул вслед:
– Катя! Катя! – Она уходила, не оглядываясь, не слыша его. Хоть он так закричал, что не слышать его было нельзя. Он бросился бежать следом. Он бежал и кричал на всю улицу:
– Катя… Екатерина Егоровна! Ну подождите же! По-до-жди-те!
Зина наконец оглянулась, оставила Кате нести корзинку, а сама повернулась к Косте. Он натолкнулся на нее, как на глухой забор. Встал перед ней запыхавшийся и жалкий.
– Не кричи, – сказала Зина. – И вообще… Не ходи сюда. Гуляй отсюда подальше, понял? – И повторила с твердой уверенностью, недобро взглянув в глаза: – Подальше, говорю, гуляй! Парень!
Она догнала Катю, и бок о бок, как забубённые подружки на гулянье, они ушли, держа корзинку с двух сторон. А Костя остался стоять на дороге.
Необычное было это утро. Сухое, теплое. Солнце прорезалось сквозь утреннюю дымку, обещая истинно весенний и теплый день. Инвалид проковылял на костылях. Он многозначительно посмотрел на Костю, будто хотел что-то спросить, но ничего не спросил и ушел дальше. Какие-то птахи свиристели с веток, и снова, вот же везение, неровным косым зигзагом пролетела капустница, как желтый листок, то ли ветром гоняло ее по поселку, то ли никак она не могла сыскать свой первый цветок, который еще и не родился. Поторопилась дурочка, поверила первому теплу, а цветочки-то еще все впереди.
Костик вертел головой, находя для себя новое, невиданное, непознанное, о котором он никогда не подозревал, что оно может существовать вне его привычного мира с табельщицей на проходной, с цехом, где гуляющие сквозняки разносят устойчивые запахи горелого масла, краски, железа и сварочных электродов, с Букаты около конторки, залепленной молниями, и верной вечной «тачкой», ждущей его, Костика, на его рабочем месте. Уж кто из них кому принадлежал больше, трудно сказать… Но уж точно, что жить они друг без друга не могли. Привычный, единственный, как еще вчера могло бы показаться, мир вдруг отдалился и стал совсем не главным, не единственным в сегодняшнем его самочувствии. Но что же тогда было главным? Эта улица? Эта бабочка? Это едва уловимое, но желанное, тепло от солнышка сквозь ветки дерев? Это ли стало главным? Нет, Костик знал, что не это. Слишком уж оно было непривычным, новым, хотя он чувствовал, что вовсе не враждебным ему. Но главным было все-таки иное. Странная девочка, девушка, которую сию минуту так ловко от него увели. Увели почти силой, в этом он не сомневался. Но столь уж важно, что увели-то? Больно, никто не спорит. Как кулаком под дых, когда стоишь, согнувшись, и не хватает воздуха от боли и гнева. Но вот сейчас стало понятно, что суть в другом, в том, что она, эта девушка Катерина Егоровна, вообще была, что она существовала в том, новом для него мире, посреди пробивающегося и почти пробившегося утреннего солнца и этих насторожившихся в предчувствии радостного тепла травки, птиц, бабочки… Получалось, что существование этой девушки в новом для него окружении делало невозможным прежнее его существование, хотя он еще не ведал, не знал, возможным ли… А вдруг он перешагнет через порог проходной, прежде перешагнув через себя, и все станет на свой привычный круг и понесется чередом: танки, цех, Букаты… И он снова поверит, что только оно дано ему навечно, и одно оно имеет в мире ценность, а больше ничего в мире нет!
Давно он сидел на обочине, погруженный в свои новые, странные для него мысли. А может, и мыслей-то не было, а было лишь предчувствие, которому он до конца не доверял?!
Появление вездесущего Толика вывело его из этого гипнотического, похожего на сон, состояния. Толик дожевывал на ходу бутерброд, всунутый ему в карман сердобольной Зиной – и чего, спрашивается, отказывался – и чуть не подавился, завидев жалкую фигуру приятеля на обочине дороги.
Суеверно подумалось, а Толик, как все греховодники, был суеверен, что если утро сегодня подносит ему сюрпризы, так почему бы и не это.
А то, что случилось невероятное, он не сомневался; лучший слесарь Ведерников, безропотный робот, маньяк в делах, не умевший, не желавший ловчить, когда ему ничего не стоило своими золотыми руками изготовить в перерыв несколько зажигалок для рынка, за пять минут до смены сидел и грелся на солнышке и не спешил бежать в свой пресловутый цех.
Денек и правда фантастический, и неизвестно, что от него ждать!
Толик, подумав так, и не подозревал, насколько он близок к истине!
Сперва Катька со своими невероятными прозрениями, потом Зина, потом Чемоданов… Ведерников… Наваждение какое-то!
В уме перечислив таковых, Толик одно лишь не сделал, он не связал всех в единую и законченную цепочку, не догадываясь еще, что эта цепочка существует. А если примкнуть сюда инвалида и, возможно, Букаты, то она замкнется в единое крепкое звено, которое уже никто не в силах будет разорвать.
С тех давних пор, когда выскочил он за калитку, поцапавшись с Чемоданчиком, он успел проделать массу самых необходимых ему дел, и главное: он достал литер на вечерний поезд, уходящий в Москву. Литер не был поддельным, хоть это ему не составляло труда, а его появление по-иному, чем обычно, диктовало и направляло жизнь самого Толика. Никакой уверенности, что литер ему пригодится, еще у него не было. Зина со своими странными намеками насчет юриста и каких-то бумаг и появление Чемоданчика – все это смешало продуманные заранее планы отъезда. Точней же, не отъезда, а бегства, ибо никто его с работы не отпускал…
Смешало. Но не отменяло. И билет, как было у него намечено, Толик, в зависимости от встречи с Зиной, собирался сегодня взять.
Теперь он крутился около Зининого дома вовсе не уверенный, что ему приятно туда войти. Тут и наткнулся он на своего дружка Костика Ведерникова…
Нельзя сказать, что они очень дружили. Да и что могло их связывать, кроме совместной учебы в ФЗО. Еще этот дурачок вздумал выручать Толика на собрании, будто не понимал, что все там давно предрешено, и никакие его голосования или неголосования изменить в судьбе Толика ничего не могут. Да и к лучшему, что не могут… Скорей развяжет свои узлы и с Зиной, и с Ольгой, потому что встречаться каждый день с ней в цехе, видеть ее молящие глаза было ему невмочь!
– А ты чего сидишь? – спросил Толик подходя. – Знаешь, сколько времени?
Костик мотнул головой, из чего можно было понять, что о времени он не знает и это его не интересует.
– Пять минут… Осталось! В отгуле, что ли?
Костик снова качнул головой, выходило, что не в отгуле. Чудик все-таки он. Умные люди когда не работают, свои дела делают. А этот сидит и в забор смотрит. Много ли высидишь, если торчать у дороги, уставясь в чужой забор!
– Отпустили, что ли? – заинтересовался Толик. И вдруг догадался: на больничном! Как же он сразу не углядел, что видок у его дружка не очень-то здоровый… – Ага. Приболел…
Толик приподнялся, вдруг ему показалось, что у Зины шевельнуло калитку. Но это был ветер. А Костик смутно пробормотал, что он не заболел, а так, сам по себе, решил на работу не идти. Решил, и все.
Такой ответ поставил Толика в тупик. Хотя, если посудить, удивляться в этот шальной день не приходилось. Все шло наперекосяк. Главное бы понять, к добру ли это происходило?
– Как это решил… Сам по себе? – переспросил Толик, засмеявшись. – Не понимаю…
– А я и сам не понимаю, – сознался Костик.
Толик повертел пальцем у виска.
– А ты чудило, – произнес. – Я всегда говорил, что ты чудило. И работать ты нормально не умеешь… И сачкануть как полагается… Ударник… Портреты, сбережения на танковую колонну… А выходит, что такой же сачок, как и я! Ну не потеха!
Толик снова, приподнявшись, посмотрел на Зинину калитку, потом на свои часы. Штамповка немецкая без камней, но красиво: черный циферблат, светящиеся циферки, стрелки и желтый нарядный ремешок.
– Хочешь мой совет? Бесплатный? – сказал вдруг. – Беги, заяц! Тебя еще простят! Ну, выговорочек за пять минут схватишь… И начнешь как миленький вкалывать дальше… Еще и счастлив будешь, что выговорочек-то, сама работа тебе премией покажется!
Чего Толик уговаривал, чего добивался, и сам бы не мог объяснить. Если посудить, ему все равно было, что сотворят с его названым защитником Костей Ведерниковым, когда у самого проблем невпроворот. А своя-то шкура всегда ближе. Но в том-то и дело, что Костик ему в жизни ничем, если посудить, не мешал. А подтолкнуть его к истине, когда он начал заблуждаться, вроде бы ничего не стоило. Ну мало ли у кого в какие времена винтик в мозгах начинает прокручиваться… Вот и наталкивал, и даже самому себе Толик нравился в эти минуты. Да что-то еще в этой ситуации Толика смущало. Вот если, скажем, Костик поймет оплошку да побежит, все станет на свои места. И мир, свихнувшийся с утра, войдет в колею и будет вновь таким же управляемым и понятным самому Толику, каким был всегда…
Может, и не так он думал, но уж точно не хотел, чтобы этого непрактичного дурачка Костю засуживали за глупое опоздание.
Он сказал:
– Пропустишь «указное время», никто тебя не спасет. Я однажды был на суде, они там не чикаются… Клепают наказания, как мы с тобой наши «тачки»…
– Пусть, – вдруг сказал Костик. Так равнодушно и произнес: «Пусть».
«Сошел с ума», – сразу подумалось Толику. Никогда бы прежний Костик не произнес этого слова. Никогда. Вот и соображай теперь, что эта ударная работа делает с людьми, если они теряют рассудок, как те киты, о которых Толик где-то читал, сами выбрасываются на берег. Дурацкая, если подумать, гибель. Бессмысленная какая-то.
Он посмотрел снова вдоль улицы, но ничего не колыхнулось у знакомой калитки, а время шло. Да и глупое сидение тут дружка-приятеля тоже отчего-то мешало Толику.
Он вдруг сказал:
– Ладно! Пойдем! Вместе! Я тебя хоть до проходной доведу, а то меня потом всю жизнь совесть будет мучить… А ты, если все будет нормально, вынесешь мне спиртика из цеха. Меня теперь туда не пускают… Спиртик у меня в цехе закаченный лежит. Договорились?
Костик, ничего не произнося, встал и послушно побрел, ведомый Толиком. Но молчал, только слушал и кивал головой. Явно человек был не в себе.
– Спиртик мне на свадьбу, я скажу, нужен, – между тем толковал Толик, уводил и уводил Костика все дальше. – Мой один знакомый свадьбу придумал. То есть мне-то он не сказал, но я и сам не дурак, вижу. А раз свадьба, то будь спок, без спиртика не обойтись… Понятно? Ну вот, ты мне спиртик, а я тебе избавление от позора… Баш на баш! Да я шучу, дурачок… Ты иди, иди, а если хочешь, беги, потому что время твое выходит. Вышло, считай…
На часах было ровно семь часов, начало работы…
15
– Свидетельница Гвоздева! – произнесли на сцене.
Зал насторожился, осознав почти мгновенно, что это вызывают ту самую женщину, о которой столько в поселке наговорено и которую они видели у дверей клуба.
Хотя надо сказать, что ее фамилии до сего момента никто из сидящих здесь не слышал и не знал, кроме разве судьи. Не о нем речь.
Появление Зины было встречено шумным вниманием, разговором, смешками и пересудом и особым вниманием самых первых беззастенчиво рассматривающих рядов. Но как только прокурор задал свой первый вопрос, наступила необычная тишина, похожая на черный провал пропасти, где не видно дна. Вопрос прокурора Зелинского был как камень, брошенный в эту пропасть, долетит ли, и когда долетит, и чем отзовется, дальним ли эхом или обвалом и грохотом других камней.
– Свидетельница Гвоздева, – спросил прокурор, заглядывая в какой-то листочек и наклоняя голову. – Вы до этого дня… Ну, до 19 апреля когда-нибудь встречали подсудимого Ведерникова?
– Нет, – сказала Зина. – Я его впервые увидела, когда он с Катькой моей стоял.
– Где стоял?
– На улице.
– А до этого дня, вы утверждаете, Ведерникова никогда не видели?
– Не видела, – сказала Зина.
– И не знали, что небезызвестный Васильев, который у вас бывал, является дружком подсудимого Ведерникова.
– Так он сам по себе, – сказала Зина. – Толик приходил один, а вместе они не ходили.
– Толик – это Васильев?
Зина кивнула. Даже теперь, после всего происшедшего, она продолжала называть его Толиком. Она стояла на сцене, скромно потупив глаза и сцепив пальцы рук, такая вся аккуратная, послушная, смирная, что представить было невозможно то, что это о ней, такой тихоне, столько понаговорено.
В свете ламп она гляделась даже привлекательней, чем там, на свету, и мужчины, особенно они, не преминули обсудить между собой все, что по этому поводу думают.
Бабы же, отмечая ее притягательность («медом, что ли, намазана, мужики зенки пялят, слюней напустили»), разглядели и морщинки ранние на лице, и худую грудь, и ножки тоже худоватые как палки, что уж там эти глупые парни могли найти?! Но главным уроном для свидетельницы были, конечно же, вопросы к ней судьи и прокурора, на которые ей нечего было отвечать, кроме разоблачительной правды, а вот ее-то и ждали в зале с большим нетерпением, зловредничая по каждому поводу, когда этой женщине приходилось смущаться и изворачиваться.
Впрочем, мужчины, настроенные добродушно, в этот момент жалели ее. Не из-за их ли жалости кто-то из девок, из молодых, кинул с последних рядов не без уязвленности, что она, змея, такая сякая, держит себя будто целочка и уже всех мужиков на свою сторону настроила… Небось и прокурор растаял, не прочь с ней ночку провести?!
Зал тут хохотнул и стал унимать не в меру раскипятившуюся девку, которая, и на глазок было видно, не из тех, которые могут вообще чем-нибудь к себе завлечь, и оттого невыносимы к чужой красоте. Особенно, кстати, привлекательной, что она приправлена постельными сплетнями и всякими домыслами.
– А этот Васильев… который Толик, часто к вам приходил?
– Часто, – просто сказала Зина.
– В какое время?
– В какое… Ну, когда ему хотелось.
– А все же?
Зина вздохнула, грустно посмотрела на прокурора.
– Вечером… После работы…
– И ночью?
– Да, – после паузы произнесла Зина; зал грохнул. Вот он, долгожданный обвал в горах!
Но прокурор был невозмутим. Он заглядывал в свой листочек и долбил и долбил, как дятел, в одну точку.
– В то утро он у вас был? Я имею в виду девятнадцатое апреля?
– Да, – сказала Зина.
– Он приходил к вам или… Простите, к вашей племяннице Кате?
– Ко мне, конечно, – ответила живей обычного Зина.
– Почему «конечно»?
Тут Зина замолчала и растерянно впервые, кажется, посмотрела в зал, будто искала там поддержки. Но холодны были едва освещенные лица в первых, видных отсюда рядах, да и не видела Зина сейчас этих лиц. Она смотрела вообще в зал, а может быть, просто в темноту, которая была символом ее прошлого. Не тот ли жадный до чужих подробностей зал, желавший что-то всегда потребить от ее жизни: сплетен ли или ее самою, окружал до сих пор в той, отрезанной судом, жизни?
– Катя – девочка, – ответила она тихо. – А у меня с Толиком совсем другое… Я мечтала… Я о семье…
Тут уж бабы не сдержались, не для того они ждали и прорвались в клуб, чтобы столько молчать.
– Семьи? А ты знаешь, что такое семья? Сучка ты!
– Бардак устроила!
– Девочка! Девочка? А где эта девочка?
– Людей сгубила!
Но тут и кто-то из мужчин не выдержал и крикнул громко, сложив руки рупором:
– Ишь раскудахтались, дуры! А то не понимают, что себе мужиков не сманили, так другим завидуют!
И тут поднялось: свист, крики, визг, и даже Зина на сцене будто сжалась от всей разразившейся кутерьмы в зале.
Но поднялась Князева, и оттого, что стояла и строго ждала, глядя в зал, крики постепенно утихли, хотя женщины долго еще не могли успокоиться, и слышно было в наступающей тишине, как чья-то жена пытается вытащить мужа из рядов и вообще из суда, оттого, что он, дурачок, наслушавшись здешних неприличностей, потащится туда же… А муж никак не хотел уходить и негромко уговаривал жену, внушал, что никуда он не потащится, ясное дело, но дослушать историю надо, потому что страсть как интересно.
«У вас, мужиков, у всех интерес одинаковый…» – резонно отвечала жена и вывела упиравшегося мужа за дверь.
– Успокоились? – спросила Князева. – Самых громких предупреждаю, будем выводить. Продолжайте! – кивнула она Зелинскому. – У вас еще вопросы к свидетелю есть?
– У меня есть, – вдруг сказала Ольга и обратилась к Зине. – Вы Васильеву обещали свой дом? Вы что же, его купить собирались своим домом, да?
16
Зина догнала Толика, это произошло перед самой проходной. Она почему-то решила, что сейчас Толик уйдет за каменные стены завода и она уже не сможет его найти.
Она крикнула издалека: «Толик! Толик!» Он оглянулся и сразу все понял. Подтолкнул Костика вперед, иди, мол, и не глупи: все, что мог, для тебя сделал… Он повернулся к Зине, сознавая, что сейчас для него и должно все решиться. «Пан или пропал!»
– Я тебя обыскалась, – произнесла Зина торопливо, запыхавшись, глядя ему в лицо. Она будто ощупывала, осматривала его, желая убедиться, что он весь перед ней такой же, как всегда. – Все меня бросили, – торопливо говорила она. – Все, все…
– Я не бросал, – сказал Толик. – Я тебя ждал у дома.
– Мог бы тогда и зайти!
– Не мог, – ответил он.
Она не стала спрашивать: «почему». Сама поняла. Да тут и понимать нечего.
– Ладно, – сказала. – Мне твоя помощь нужна.
– С Чемоданчиком? – уточнил он.
Зина оглянулась, произнесла, понижая голос:
– Боюсь я его… За Катерину боюсь…
– А что она?
Зина махнула рукой.
– Дура. Наверное, думает, что мне лучше делает…
– А себе? – насмешливо спросил Толик. – Чем ей-то плохо? Откормится на трофейном шоколаде… Забуреет… Нарожает ему маленьких Чемоданчиков… Крошечных таких, но все вылитые папа, под копирку… В галифе и шляпе!
– Как ты можешь шутить! Толик! – сказала Зина. Но вовсе не разозлилась, не тот настрой был у нее. – Он ведь хочет… – И снова при этом оглянулась, глаза ее тревожно блестели. – Он вместе с Катькой хочет и дом мой забрать!
Вот теперь все стало понятно: влипла Зинаида, так подумалось. Влипла по самые уши. Потому и прибежала сама, иначе стала бы она бегать по поселку да высматривать на зорьке Толика!
Он так и сказал, хоть прозвучало это, наверное, жестоко:
– Влипла, значит, Зинок.
– По твоей же милости! – воскликнула она. – Ты его привел! Ты!
Что было ей ответить? Не привел бы, так сама сидела, отсиживала срок… Как там в песенке: «А на дворе хорошая погода, а в небе светит месяц золотой, а мне сидеть еще четыре года, душа болит и просится домой…» Но сказал он другое. Сказал, что ловок оказался Василь Василич! Ловок, что и говорить!
– Не знаю, кто из вас ловчей, – без злобы произнесла Зина, полезла куда-то за лифчик и достала бумагу. – Вот, – со вздохом сказала она, – то, что ты хотел… Дарственная…
Толик хотел обидеться на это «ловчей», и уж готовы были сорваться слова: «Спасибо, нашла с кем сравнивать», но бумага, но последнее, что она сказала, круто меняло дело. Не до обид, когда поживой пахнет! А уж это он чувствовал на расстоянии, не ошибался!
– Дарственная? – спросил осторожно, боясь спугнуть счастливое мгновение. Все смотрел на ее руки, держащие драгоценные бумаги.
– Ага. Тут ты обозначен хозяином дома… – сказала Зина, и вдруг, заметив его непроизвольное движение к бумаге, ах, как не вовремя он выдал себя. – Не торопись, – произнесла жалобно, прижимая бумагу к груди. – Твое это… Твое…
– Значит, испугалась? – спросил Толик язвительно, и чего, спрашивается теперь, лез на рожон, сам понять не мог. Видно, заело. – Испугалась, Зинок, что чужие руки дом приберут?
– Испугалась, – кивнула Зина и стала сморкаться. Но не заплакала, сдержалась. – Не того испугалась, о чем ты думаешь… Я испугалась, что чужие руки… Чужие… Катерину…
– Голову бы проломить ему! – вдруг сказал Толик зло, вспомнив утреннюю сцену с Чемоданчиком, как тот отодвинул Толика, будто не он привел Василь Василича в этот дом. Прошел и говорить не пожелал. Такая-то его благодарность.
Но Толик тут покривил душой, перед собой покривил. Втайне он знал, что зависит от Чемоданчика, от тех «игрушек», которые тот привозил. Смягчаясь, он добавил:
– Только сидеть не хочется из-за такого… Все мои концы у него… Он и донести может!
– Он и меня грозился посадить! – подхватила Зина. И тут, будто опомнившись, приникла к Толику, отдаваясь полностью в его руки, как бывает, когда бабы теряют себя, когда не помнят ничего, кроме своей мучительной, в единый миг, жертвенной отдачи. – Ты меня любишь? Или… – спросила, будто упрекая, но вовсе не упрек тут что-то значил. Просто надо было ей себя в этот момент как-то оправдать. – Или… Тебе только это от меня нужно?
«Это» – бумага, которую она продолжала прижимать к груди.
– Не доверяешь? – с вызовом спросил Толик, считая, и правильно считая, что дело сделано и бумага сейчас будет у него. – Не давай! А я и сам не возьму!
Зина почувствовала его уверенность в себе и непривычную для нее жестокость, которая тем не менее ей нравилась. Вот же, не умасливал и не сменил тона, поняв, что выиграл свое. А был тем же Толиком, каким, как ей казалось, она его знала.
– Я не тебе. Я себе не доверяю, – попыталась она оправдаться. Да, в конце же концов, должна она выговориться и все выложить, что у нее наболело. А кому сказать, если не Толику, единственному, который ее мог сейчас понять. А если уж он не поймет, то к чему тогда ее жертвы!
Зина пристально вглядывалась в него, желая в этот особый для нее момент последним чутьем разобрать, пока документ еще был у нее в руках, то ли она делает и тот ли он человек, которому вверяет, по сути дела, свою судьбу?! И оттягивала, до последней минуты оттягивала самый момент отдачи, а вдруг сердце да шепнет, да подскажет, или знак какой будет, и сразу откроется ей в ее внутренней смуте истина… Так, мол, а не иначе!
А пока говорила, спешила выговориться, занять наступившую внутри пустоту… О том, как вдребезги упился Чемоданчик, руки по сторонам, в сапогах прям и брякнулся… Как скотина… Побежала она, а юриста, ясное дело, в конторе нет, он дома еще подтяжки набрасывал… Даже не хотел ей бумагу отдавать, все приглядывался, не сошла ли баба с ума, что так рано прибежала, а до того ходила, мучила месяц, осторожненькой была, раздумчиво неторопливой… Еще бы быть ей неторопливой, когда все полетело с утра кувырком, да разве это юристу объяснишь? В голове путалось, когда возвращалась, и тут увидела издали, как яблочки ее золотые летят из корзинки… Сердце-то и закатилось… Совсем зашлось, уж чего она кричала, не помнит… А все-то из-за этой бумажки…
– Ты меня хоть любишь? – спросила, жадно ловя каждое его движение, все стараясь понять, чего от него ждать. Чего? – Ну поцелуй меня… Мне так плохо! Толик! Сильней! – сказала с отчаянием. – Ну сильней же! Господи!
Вырвавшись из его некрепких объятий, сама крепко, до судорог, вцепилась в него, чуть не придушив, поцеловала. Потом оторвалась и отдала бумагу. Порывисто протянула, прямо-таки сунула ему в руки, будто боялась, что в следующее мгновение раздумает и все тогда станет мучительней, невыносимей.
– Держи! – шепнула, или голос ее сразу сел, даже охрип. – Вся моя жизнь! Моя и Катьки!
Толик торопливо, но тщательно прочитал документ, правильно ли оформлен и какова печать на нем, и быстро, неуловимым движением спрятал в карман. На всякий случай оглянулся, не видел ли кто-нибудь. И это последнее, оглядка, а не то, как ловко он растворил в себе Зинину ценность, вдруг привело ее в ярость.
– Чего ты все оглядываешься? – вспылив, закричала она. – Чего ты боишься? Целуешь – боишься… Разговариваешь – опять боишься! Я ведь баба! Баба, понимаешь! Меня ославить ничего не стоит! Но я-то не боюсь!
– Да нет… – сказал Толик, стараясь Зимины порывы как-то смягчить. Он догадывался, какие сомнения продолжают бушевать в ее груди. – Я просто посмотрел, где Костя… Он же спирт мне должен вынести с завода… Как бы не забыл…
– Успеется, – сказала Зина и снова приникла к нему. – Ты со мной, Толик, поговори… У меня на душе кошки скребут… Уж так плохо… Так плохо…
– Потом, Зинок, – пообещал Толик. – Костик ждет. – Все он понимал, и про Зинины мучения тоже понимал, но не мог уже оставаться, бумага была при нем, и надо было теперь, пока Зина не раздумала, удобно уйти.
– Да шут мне с ним! С твоим Костиком! – закричала она. – Подождет! Или у тебя все по часам расписано… Получил с меня, торопишься получить с другого?
– Тише… Зинок, тише… – снова попытался урезонить Толик, но Зину прорвало, будто сейчас почувствовала свои права вести себя как она захочет.
– Не буду тише! – вскрикнула она и даже попыталась еще повысить голос. – Не хочу тише… Тебе понятно? Я дом отдаю! Пусть все знают!
И опять Толик полез на рожон, хотя добивать раненую женщину было совсем не с руки. Но слишком был он самоуверен, оттого-то и просчитался.
– Ты что же, – спросил впрямую, ощетинившись. – Ты что же, считаешь, что вместе с домом меня купила, что ли? Тогда я твою фитюльку могу и вернуть!
Конечно, пригрозил, взял, как выражаются, Зиночку «на понт», на испуг. Но не вышло. Не рассчитал он Зининых самотерзаний и поплатился за свои слова. Она тут же уцепилась за них, за это некстати и впопыхах произнесенное слово «фитюлька».
– Ах, фитюлька! – спросила взъярясь. – Фитюлька, значит? Верни!
– Ну, Зина… – попытался смягчить Толик, умиротворить голосом, но Зину понесло.
– А я сказала верни! Фитюльку! Слышь?
И кулачки сжала, глядя на него с ненавистью, распалилась, не унять. Все бабы таковы: уж попадет шлея под хвост, так и от недавней любви ничего не останется… И пуще к слову они цепучи, как там говорится: у мужика слух в глазах, у бабы зрение в ушах! Лучше бы помалкивать. Молчание-то всегда на любовь похоже. Что и не доскажешь, сами довоображают. Все равно никогда не поймешь, чего они, пока ты свое внушаешь, на самом деле себе представляют… Никогда! И уж чувствуя, что потерял, не вернешь, отдавать надо, хотя невозможно было отдавать, Толик медленно полез в карман, произнося с угрозой:
– Вот уж, Зиночка, чего не ожидал… – Все копался в кармане, все медлил. – Вот уж не ожидал… Ладно. Как у нас говорится: «Любовь любовью, а денежки врозь!» – И неуверенно протянул драгоценность. Теперь еще ярче понимая, какой же он лопух, что так, зазря, из-за пустой лишней минуты да глупого гонора потерял навсегда… – Жил, – произнес, – и еще проживу… Без всяких… Прощевай, подружка!
Отдал и пошел, ругая себя последними словами, но Зину тоже ругая за ее неуравновешенность, бешенство чувств, которые не смог унять. Впрочем, в этом крутом повороте совсем крошечный выигрыш был все-таки за ним. Он ее оставлял, а значит, последним наносил удар. Синячок, проиграв целое сражение!
Но чувствительной Зине и того достаточно было, чтобы вдруг опомниться.
– Толик, – позвала она со страхом, даже наперед его забежала, чтобы остановить. – Толик, подожди!
Как ни хотел казаться непреклонным, но остановился. Все-таки это был единственный шанс что-то вернуть.
– Я и правда испугалась, – созналась, заглядывая ему о лицо. – Страшно стало, что тебе я не нужна! Что дом мой тебе нужен… Но ведь я написала! Я отдам! Толик! Потом отдам! Мне только надо привыкнуть к этому… Чтобы не сразу… Ну!
– Подавись ты, Зинаида, своим домом! – произнес он негромко, но отчетливо, прямо ей в лицо. Словно выругался на прощание.
– О, господи, ну постой же… Я что-то скажу…
– Все сказано, – отрезал Толик, чувствуя, что она поддается и теперь ей нельзя давать опомниться. С ней только так, только силой, вот что он запамятовал. – Я не хотел тебя пугать! Но у меня билет на поезд… Не говорил я, жалел тебя… И зря жалел… А жалел, Зинаида, потому, что сам не верил, что уеду… Подумалось, честно, черт с ним, с билетом, останусь… Начну новую жизнь… А ты… – Тут он рванулся из ее слабых сейчас рук и пошел. Чувствовал, что взял инициативу в свои руки, потому что видел порыв Зины, видел ее испуганные глаза.
– Так дурой и останешься в своем доме! – закричал, отойдя на расстояние. – И дом твой заберут! И поделом!
Толик ушел, а Зина прижалась к стене, странное место нашли они для выяснения, сейчас она только увидела. А вдруг за стеной кто-то стоял и слушал?… Глупо, конечно, слушать: какое кому дело, подумалось ей, и она расплакалась. Она поняла, что теперь-то она одинока. Бумага ее при ней, да что же проку, если все остальное потеряно и нет возврата…
Не услышала, как мимо проходил и встал за ее спиной инвалид, тот самый, что с утречка бродил по их глухой улице. Везде-то он, где надо и где не надо. И все со своими разговорами. И тут подлез, попытался утешать.
– Плохо тебе? – спросил он. – Слышь? – и помолчал. – Слышь? Женщина? Помочь не надо? А?
Зина не ответила. Вытерла рукой слезы и пошла к своему дому. Знала, пока дойдет, лицо высохнет. А инвалид остался стоять. Он размышлял про себя про такие странности, как бабьи слезы… Увиденные тут… На фронте тоже были слезы, так там война колесом проехала… Танком прошла… Матери детишек теряли, а детишки матерей… И солдаты плакали. Вот что страшно… В прифронтовом, наскоро под деревьями устроенном госпитале, когда ногу ему резали тупой пилой да без наркозу, как чурбак какой, тоже кричал… Одно знал, что надо вытерпеть, потому что жизнь ему спасали… Гангрена грозилась подняться выше, и тогда бы кранты! А тут! Рай тыловой, если здраво посудить… «Теплышко, все победы ждут, которая будто в затылок дышит… И вдруг слезы… Несерьезно как-то! Нельзя уже плакать: отплакались…»
Последние слова инвалид произнес вслух, того не заметив. И заковылял дальше. Доктор, который его выписывал, велел побольше двигаться. А он и сам рад был движению, потому что понимал, это и есть жизнь.
17
Нет, совсем не так было, что Ольга выкрикнула ей свой вопрос. Сперва попросила слова, но судья Князева ей не дала. Она обратилась к прокурору и защите, не хотят ли те что-то сказать. Лишь потом кивнула Ольге: «Что у вас?»
– Я хочу спросить свидетельницу, – начала та, но при первых произнесенных словах вела себя неспокойно, слава богу, этого не заметили сразу. – Я хочу узнать: вы упоминаемому здесь Васильеву обещали дом? Почему?
– Ну как почему, – ответила Зина, оборачиваясь к ней. – Я ведь уже сказала… Я хотела… Мечтала… Я думала, что у нас будет с ним семья…
– Но он же моложе, намного моложе, – громко произнесла Ольга, вовсе не понимая, что выдает себя с головой и перед судом, и перед залом, и перед этой падшей женщиной. Даже Князева вздрогнула, столько чувства неприязни и даже ненависти было в ее голосе. – Он же подросток, а вы – пожилая женщина! Вы же старуха по сравнению с ним, неужели вы этого не видели? – Каждое слово ее будто выстрелы било прямой наводкой по стоящему на открытой местности противнику. Беззащитному причем. – Вы что же, купить его хотели этим домом? Своей дарственной бумажкой? Да?
– Я не хотела… – Зина попыталась в растерянности что-то объяснить и заплакала.
– Нет, хотели! – крикнула Ольга, окончательно потеряв над собой контроль. И тут поднялись одновременно Зелинский и Князева. Первый бросился к Ольге, чтобы попытаться ее успокоить, а может, выговорить, что нельзя на суде распускать свои чувства, да еще перед всем поселком… А Князева чуть торопливо, но вполне владея собой, очень четко объявила, что выездная сессия суда объявляет часовой перерыв на обед.
Зал ожил, зашевелился, будто раздумывая, некоторые двинулись к выходу, но большинство осталось сидеть, караулить свои места.
В перерыв Букаты не захотел возвращаться в свою, ненавистную ему, палату, где вылёживал с того самого дня, как все это произошло. И хоть больничка находилась в парке, и в окошки двухэтажного небольшого флигелька стучались разбухшие от почек деревья, и небо голубое было видать, не лежалось. Не могло лежаться, пока шло следствие и готовились к суду. Силыч и Швейк приносили последние новости из цеха, не очень утешительные, месяц начинался трудно, без слесаря-центровщика, которого пока заменял сам Швейк. Он шутил, что приходится завязываться узлом, чтобы влезть на место Костика… И он, мол, производит сейчас усушку и утруску своего организма. Букаты старался о Ведерникове не говорить, его тревожили воспоминания обо всем, что в тот дальний день апреля произошло.
Чуть расшевелив больного, передав от всех приветы, ребята уходили: Силыч торопился подоить свою Мурку и накормить детишек, а Швейк говорил, что он опаздывает на свидание к Тае… «К Тане?» – поправлял сведущий Силыч, который в силу своей аккуратности и порядка терпеть не мог, когда путали или делали что-то не так. «Ну, к ней», – соглашался Швейк и путано объяснял, что она будто любит, когда ее по-разному называют, капризная, мочи нет…
Букаты даже не улыбался на такие шутки. Выпроводив гостей, он садился у окна и раздумывал о своем цехе, без которого все в жизни становилось пустым, о племяшке Кате, о Зине. Он проворачивал в который раз события, все пытаясь понять в них меру своей вины и не вины. Выходило: вины-то больше!
Теперь, хоть никто больше не требовал его присутствия на суде, он зашел в маленькую комнатку за сценой, в которой обычно переодевались приезжие артисты и участники самодеятельности; Ольги, как он и ожидал, не было, ее, наверное, увели, чтобы успокоить. Прокурор Зелинский курил, стоя у форточки, заседатели и защитник, сбившись в кучку, о чем-то негромко разговаривали, а Князева сидела отдельно, развернув сверток с едой и положив его на колени. Завидев Букаты, она, будто оправдываясь, произнесла, что позавтракать, как всегда, времени не хватило, и хоть есть совсем не хочется, но она решила пожевать, так как неизвестно, сколько продлится суд, хоть, право, поскорей бы, потому что в принципе и так все и всем ясно…
– Хотите? – спросила она Букаты, указывая на бутерброд, но он покачал головой.
Но подсел и спросил, чуть хмурясь, что же ей тут ясного? Хотелось бы ему знать! Ему так лично ничего не ясно. И он считает, да может, и не он один, что не все просто и очевидно, как на первый взгляд кажется… «Не наломать бы дров! Нина Григорьевна!»
– Ох, Илья Иваныч! – произнесла, поморщившись, Князева. – Только не учите меня! Я такая вся ученая! – и добавила зачем-то: – И кручёная. – Может, чтобы свести начинавшийся спор к шутке. Но Букаты не намерен был шутить. Да он, кажется, и не умел этого.
– Зачем учить, можно и напомнить, – сказал он. – Наказание ваше тогда лишь будет иметь результат, когда все поймут, что оно справедливо… Так ведь?
– Да кроме вас, Илья Иваныч, – с досадой ответила Князева, – все давно уже поняли… Это вы у нас гуманист… Оттого-то у вас в цехе подобные истории и происходят!
Не хотела она ввязываться, но не сдержалась, хоть знала: нельзя добивать и без того травмированного человека.
Но тут и Зелинский оторвался от окна и коротко бросил:
– Вы правы, Нина Григорьевна… Только не переходите на личности! – И тут же вышел.
Князева проводила его глазами. Про себя она подумала: «Осторожный человек… Не хочет да и боится раньше времени проявить себя. А ведь и без того видно, куда он гнет, и в целом ей близок его предполагаемый взгляд на все это дело».
Но Букаты был неукротим. Усы топорщились, под глазами темные мешки, и видно, что по временам он непроизвольно хватается за грудь, она обратила внимание еще там, на сцене. Сбычившись, наклонив голову, он негромко говорил, и каждое слово было у него будто взвешено.
– Смотрю я на вас… Нина Григорьевна, и вспоминаю… А знаете, что вспоминаю? Что вы раньше мягче были… Отчего же такая ожесточенность?
– Ожесточенность? – спросила с неприязнью она. – А вдруг это принципиальность?
Но Букаты гнул свое, будто ее выплеск и не слышал.
– …Ну, Ольга… Ту по молодости понять можно. У них в семнадцать, восемнадцать лет либо все красные, либо – белые. Средних не бывает. Если только чувства не задеты. Но они и при задетых чувствах в своих крайностях еще яростнее делаются, а значит, еще субъективнее. Но у вас-то почему? И возраст не тот, чтобы…
– Ну, Илья Иваныч! Это чересчур! – раздраженно отреагировала Князева. – Напоминать мне о возрасте! – Она даже попыталась встать, собрав в газету остатки еды, но Букаты движением руки посадил ее на место. Не столько даже движением, сколько словами, тут же произнесенными, что он может кое-что ей напомнить.
Тут они оба посмотрели в сторону присутствующих, но те вели беседу о своем, обсуждая какие-то огородные весенние дела, доставание семян, и ничего из их разговора не слышали.
– Вот хотя бы случай, – негромко, приблизив лицо, произнес Букаты, и от него пахнуло больницей, – очень давний, когда Ниночка Князева, так вас звали в ту пору, задержалась, не вышла на работу… Было? Или не было?
– Ну вспомнили! Такая старина! – отмахнулась почти добродушно Князева.
– Было! – кивнул Букаты. – А задержалась-то, между прочим, на свидании, оттого, что ночку прогуляла… И дело это разбирали на комитете комсомола, и люто разбирали… Грозили исключением, да так, думаю, и произошло бы. Что бы от вас тогда осталось? Товарищ судья? – Князева молчала. – А кто же бегал по всяким организациям, бил в колокола и доказывал, что произошла ошибка… Кто это проявлял пресловутый и заклейменный вами (да только ли вами) гуманизм?
– Вы бегали, – отвечала терпеливо Князева. Букаты кивнул.
– Я бегал… И получив выговорок, вы плакали от счастья…
– Так время другое было, – пожала плечами Князева и нетерпеливо посмотрела на часы.
– Время, говоришь? – рассердился Букаты и даже приподнялся, но раздумал и снова сел. – Время меняется, правда. В нынешние-то времена выговорком бы не отделались, тебя тоже бы судили! Время!… А вот люди… Они всегда живые, и всегда им больно… Я даже скажу, Ниночка, что в войну-то больней! Мясо обнажено! – Замолчал, хотя и не заметил, что по соседству прекратился разговор и стали прислушиваться к их выяснению отношений. И Князева это почувствовала, мирно предложила:
– Пойдемте на воздух… Что-то душно здесь.
Они вышли на заднее деревянное крыльцо клуба, в пять ступенек высотой. Далее шел негустой палисадник, и за кустами была видна долговязая фигура Зелинского, который вышагивал по тропинке, и сапоги его издали блестели.
Тут они и остановились у перилок, глядя друг на друга. Помолчали.
– Ну, ожесточилась, – вдруг созналась Князева, потупившись. – А вспомните, какую жестокую эвакуацию мы перенесли? В один час велели собраться, даже собственных вешей не взяла. В чем была… В плащике и резиновых ботах! Приехали, а тут мороз, а тут снег… Какие-то мастерские… А уже фашисты под Москвой…
Букаты кивнул: было.
– Господи, – вздохнула Князева, – мы обсуждаем прогул, а мы-то сами как жили… Мы же никуда вообще из цехов не уходили: спали тут же на нарах, кружку кипятку утром и кусочек хлеба, и за работу… Однажды проснулась, а у меня волосы к подушке примерзли… Не оторвешь… Да еще боль за тех, кто дома остался, а у меня мама и младшая сестренка… Ой, да что я вспомнила, – сказала она и будто отмахнулась. – Ни к чему это. Одно расстройство.
– Нашлись? – спросил Букаты. Она покачала головой.
– Одна. Как в пустыне. – Пристально посмотрела она в сторону мелькавшего за кустами Зелинского и сказала то, что ни одному человеку, кроме Букаты, и не доверила бы. – В какую сторону ни погляди, ни одного родного человечка… Чтобы в рукав уткнуться…
Тут видно стало, что к Зелинскому подошла Ольга и что-то сказала. И оба они, рослый, весь в военном, Зелинский и невысокая, похожая издали на подростка Ольга, двинулись к крыльцу. Князева смотрела, как они приближаются, и произнесла раздумчиво, что вот у этой, – кивок в сторону Ольги, – задача своего не упустить… Да ведь и не упустит… А у нее, у Князевой, дело конченое… В молодости ведь не догадываешься, что живешь только раз… А когда поймешь, поезд ушел… Начинаешь себя проверять, оказывается, что плоть сохранила, а души-то не слышно… Где она? Душа-то?
– Да вот, – будто оправдываясь, сказал Букаты, – и я так спросил: «где?» Я и Ольгу бы спросил, а может, и спрошу, потом. Если бы она сегодня не сорвалась, я подумал бы, что душа это вовсе не привилегия молодости. Но я даже рад, что она сорвалась!
– Ох, нет! – вдруг запротестовала Князева. – Противно. Сводить на суде счеты… Разводить истерику, раздеваться у всех на глазах… Впрочем, посмотрим!
– Вот именно, – кивнул Букаты, потому что Зелинский и Ольга были уже рядом. Ольга быстро выскочила вперед и быстро сказала:
– Не слышали? Ничего не слышали? Все ждут по радио сообщения!
– Думаете, что… – спросила Князева неуверенно. Впрочем, эта неуверенность происходила в ней от еще прошедшего разговора.
– Она! Она! – сказал, засмеявшись, Зелинский. – Конечно же, победа!
– Не верится…
– Мне тоже не верится!
– Вам хоть, Вадим Петрович, повоевать досталось! А я сто раз в военкомат ходила! И все отказ! – сказала Ольга.
– Моя война в сорок четвертом закончилась, – бодро ответил Зелинский. – Вот сюда, в плечо, навылет. – Он показал рукой. – А теперь в тылу с мальчишками воюю… Да девчонок курносых успокаиваю… – Он провел ладонью по волосам Ольги, и та вдруг покраснела. А Князева отвернулась.
Букаты спросил:
– Зачем же вам с ними воевать-то… С мальчишками? – он смотрел строго на Зелинского и ждал ответа.
– А если преступник? – сразу вставила Ольга. Но Букаты ее не услышал. Он продолжал смотреть на Зелинского и даже добавил с тем же выражением:
– Может, их понять надо? Понять да и простить? А?
– Вот еще! – снова попыталась влезть Ольга, но Князева положила ей руку на плечо. Она тоже смотрела на Зелинского. Но смотрела не так, как Букаты, а скорей с любопытством. Что же он скажет, этот непроницаемый бывший офицер? Как ответит?
Но Зелинский не собирался спорить. Не в его манере, видно, было все открывать и самому открываться.
Хоть риска для него никакого не было. А может, был риск?
Он взглянул внимательно на Князеву, потом на Букаты, но взгляд остановил на Ольге, и не было уже в его взгляде той отеческой ласковости, что промелькнула невзначай. Так, глядя на Ольгу, он и произнес, что он-де не судья и не суд, чтобы прощать или не прощать. Его заботы – выявить действительное положение дел, а вот они, – кивок в сторону Князевой, – пусть и решают. Он, как и остальные бы на его месте, не способен быть объективным, должность не располагает. А у суда других и забот нет, они обязаны на весах Фемиды взвесить… И не ошибиться…
– Ладно. Пойдемте взвешивать, – произнесла без улыбки Князева. – Время уже. А вам бы, Илья Иваныч, – это она Букаты, – идти бы в свою палату да полежать. Болейте уж там, тут вам вредновато находиться…
– Мне лучше знать, – буркнул Букаты, поворачиваясь к дверям. Но его остановил голос прокурора. Он продолжал стоять на нижней ступеньке и будто никуда не торопился. Ольга стояла рядом.
– Илья Иваныч! – спокойно окликнул он. – А вы лично не помните, как это было… Ну, я спрашиваю, как это случилось, что Ведерников в тот день дошел до проходной и вдруг решил не являться на работу… Кто-то мог на него повлиять? – Зелинский поправился. – Кто или что?
– А я знаю, что племянница виновата, – торопливо влезла Ольга. – Вот которая с яблочками!
– Чья племянница? – уточнил Зелинский, хотя не мог не знать, о какой племяннице шла речь. – Ильи Иваныча племянница?
– Конечно. Она да тетка…
– А Толик? Васильев? Его с Ведерниковым не было тогда у проходной?
– Не было, – сразу сказала Ольга и смутилась. Она испугалась, что все заметят, что она врет. И поэтому добавила: – А он-то при чем? Мало ли кто мог быть… Что, у Ведерникова своих мозгов нет? Он должен сам отвечать за свои поступки!
– Я не об этом, курносик, – резковато одернул Зелинский, – да и не тебя я спрашиваю, – и посмотрел на Букаты.
Вот как случилось, что скрестили они шпаги-то: сперва Букаты пер на прокурора, как в лобовую атаку, а теперь и прокурор отвечал ударом на его выпад. Князева это распознала быстрей Ольги. Она тут же вмешалась в разговор.
– Ну, еще чего! – подхватилась, поглядела на часы снова. – Заседание на крыльце устроили… Хватит нам и там заседаний, чтобы запутаться…
Букаты оценил ее помощь. Но он не умел деликатничать и уходить от заданного вопроса. Он медлил, раздумывая, что же хотел от него добиться прокурор, так вот, неожиданно, исподтишка, исподволь используя расслабленность, задав каверзный, очень уводящий в сторону от главного вопрос…
Хук после удара гонга на перерыв, так, что ли, это называется у боксеров. Или это назовется запрещенным приемом?
– Помнить я, естественно, не могу, – медленно, взвешивая слова произнес Букаты, исподлобья посмотрел на Ольгу. – Но мысли по этому поводу у меня есть… Если, конечно, вам интересно?
– Интересно! – живо откликнулся Зелинский.
– Да никто на него не влиял, я думаю.
– И племянница ваша не влияла?
– Нет. Не влияла, – не проявляя своей обычной раздраженности, отвечал Букаты. – И Толик не влиял… И Ольга, – тут он снова посмотрел на Ольгу. – На него нельзя было повлиять, вот в чем дело. Ольга тут права: на него мог повлиять только он сам.
– Как это? – спросил Зелинский и даже сделал шаг по ступеньке навстречу Букаты, чтобы лучше его видеть и слышать. Князевой почему-то опять бросились в глаза его зеркально сверкающие сапоги с узкими модными голенищами, сшитые, уж точно, на заказ и никак не фронтовые, их блеск начинал ее раздражать. Как и та настырность, почти твердость прокурора в выяснении того, что и без лишних дерганий больного человека было ясно. Но Букаты будто не замечал всего этого. Он витал глазами где-то по верхам прозрачных деревьев, но вряд ли что-то видел, он смотрел куда-то внутрь себя.
– Да обыкновенно, – отвечал он и вдруг оживился, будто только сейчас нашел нужные слова, которые давно искал. – А мы с ним, кстати, в чем-то похожи… С Ведерниковым! Я это в больнице понял…
18
Брошенный Толиком, у которого оказались какие-то дела с этой психопаткой Зиной, Костик дошел почти до проходной и замедлил шаги; не было в нем ничего, что призывало бы его сейчас перешагнуть порог…
Порог, а может, это была граница его прежней и нынешней жизни?
Завидев проходную, он остановился. Недоуменно некоторое время ее рассматривал, будто впервые увидал. Не желая вообще куда-то двигаться, он присел невдалеке, прямо под деревом, и стал смотреть, как мельтешат подъезжающие к воротам машины и как суетятся за оградой люди, их было слышно и видно в непрерывно распахивающиеся ворота.
Занятно это – впервые увидеть свой завод во время работы со стороны. «Гудит как улей родной завод…» – вспомнились прочитанные Толиком стишки. Концовка их была нецензурна. Но ведь и правда улей: все в движении, все снует и хлопочет, и еще вчера он, Костик, был в этом улье маленькой полезной пчелкой, носящей свой медок в общий котел… А вот живут пчелки тридцать дней. Может, сорок. Носят, носят свою капельку, а потом хлоп – и нет. Но так как их сотни, тысячи, миллионы, то никто и не заметит, что у них убыло… Пчелки-то одинаковые, взаимозаменяемые: что та, что эта! Может, и о Костике не вспомнят?
Необычные это были мысли, но хороши ли или плохи они были, этого он не знал. Никогда бы они не пришли в голову, если бы не этот отстраненный, почти потусторонний, потому что невозможный для смертного человека, взгляд во время работы откуда-то снаружи, из-за ворот. А тут, среди мельтешащих людей, вдруг объявилась запыхавшаяся Ольга, небось, бегала по своим комсомольским делам.
– Костик? – с налету пошла чесать. – Ну, слава богу! Там Букаты с ума сходит! Привезли два танка… – Тут, кажется, заметила она что-то необычное в лице Костика, придвинулась, заглядывая в глаза. – Ты что? Заболел?
– Нет, – сказал Костик, будто очнувшись. – Тебя Букаты прислал?
– Никто меня не присылал, – обидевшись, произнесла Ольга и оглянулась. Она явно кого-то искала. – Я тебя вижу каждый день тут у ворот… Но ты знаешь, сколько сейчас времени?
– Не знаю. А сколько?
– Ты что? Только проснулся? – ужаснулась Ольга. – Пятнадцать минут опоздания! Беги же! Скорей только! Тебя еще пустят! Ну!
Она даже попыталась сдвинуть его с места, но Костик вырвался из ее цепких рук и снова сел. Он не хотел, чтобы его куда-то тащили. Он вообще ничего и никого не хотел, и уж Ольги видеть сейчас тут он не хотел тем более. Они вместе кончали ФЗО, но Ольгина, прежде звали ее Лялей, суета по поводу всяких там общественных мероприятий вызывала в Костике раздражение, иной раз необъяснимое, непонятное ему самому. А тут еще вспомнилось недавнее собрание, то самое, где выгоняли Толика из бригады. Как она гнула, как настаивала, чтобы Костик поднял руку… А он не стал поднимать. Может, в другое время и поднял бы, а тут именно оттого, что она так настаивала, и не захотел голосовать, выразив свой протест против ее нажима.
Теперь же она крутилась вокруг него совсем не та, что была в цеху, на секунду даже Костику показалось, что их, этих девушек, вообще две, и одна из них Ольга точная, даже жесткая, мать-отца продаст, но своего добьется, она-то и была против Толика да и против Костика. Зато другая, Лялька, уж точно живая и сочувствующая, способная переживать и помогать, если станет тяжело. Но уж слишком наросло против нее, накопилось в душе всяких предубеждений, чтобы сразу ей поверить и просто не раздражаться.
Словом, не хотел ее Костик, не хотел, и все тут. Она же затеяла вокруг него копашню: присела рядом и все долбила, долбила его словами, пытаясь достать до живого, не заболел ли он, или что у него случилось, что он такой странный…
– Может, мама нездорова? – вдруг спросила она.
Он удивился, сказал:
– Ляльк… Не лезь ты… Не надо…
Назвав ее старым именем, он как бы признал за ней право стараться для него, помогать, но и обижаться. И она обиделась.
– Я и не лезу… Но ведь надо! Надо идти, Костик! Уже… – она взглянула на часы, – шестнадцать! Ты понимаешь, что это означает? Букаты наорет… Военпред разносить станет… Ну пусть собрание, выговор… На собрании уж я не стану такого, как здесь, говорить, ты сам понимаешь… Но отделаешься ерундой, останешься в бригаде… – И, словно маленького, стала его уговаривать и снова поднимать. – Тебе ведь только порог пересечь, ну… Видишь проходную… Ну, вот… Ты встанешь и тихонько пойдешь… Десять шагов, ну… Раз, два…
Костя поднялся, сделал шаг и снова сел. Не мог он пересилить себя ни ради завода, ни ради Ляльки. Как прежде не мог проголосовать, когда на него давили, словно заводским прессом.
Ольга вздохнула и села рядом.
– Семнадцать, между прочим, – произнесла она без всякого, впрочем, нажима. – А я поняла, что это Толик… Сам тонет и других за собой… Я ведь вас вместе с ним видела, когда шла на работу… Только учти! Никто из вас его не знает, я одна знаю, какой он… И только потому… – тут она замялась. – Ну, не важно. Что было, то сплыло. Так вот, Толик выйдет из воды сухим. Он так устроен, он и на работе за счет тебя да других выскакивал… А вот ты… Восемнадцать, – снова добавила она, взглянув на часы.
Чтобы покончить с этим мучительным для него разговором, он поднялся и пошел в другую сторону. Но Ольга, вот же липучка, бросилась вслед за ним. Она предложила дойти с ней до проходной и только отметиться… Номерок перевернуть, а дальше она все сделает. Пусть он уйдет, она сама будет отвечать перед Букаты… Она скажет ему, что послала его по комсомольским делам…
– А может, ребят из цеха позвать? – спросила она вдруг с отчаянием. – Швейка, Силыча… Они же тебя на руках перенесут и спасут… Я уверена…
Ольга сама побежала к проходной, будто она была уже не она сама, а Костик, и хотела вместо него опередить время. Но опомнилась, вернулась и со вздохом произнесла, встав перед ним, что она понимает, что глупость говорит, но она сделала все и больше не знает, как ему помочь…
Она посмотрела на часы, потрясла их, чтобы убедиться, что они спешат. Но часы ее не спешили, было на них двадцать минут опоздания…
– Что вы делали в это время? Когда вы опаздывали? – спросила Князева. – Вы понимали хоть, на что вы идете? Вы представляли всю меру ответственности в тот момент?
– Конечно, он представлял, – подал голос защитник, помогая Ведерникову, который почему-то молчал.
– Я спрашиваю не вас, а подсудимого! – повторила Князева свой вопрос. – О чем вы думали, Ведерников? На что надеялись? Или вы вообще ни о чем не думали и даже не вспомнили об этом?
– Я не вспомнил, – ответил тот, и зал охнул. Прошумел и стих.
– Что же вы делали? О чем вы думали?
– Ни о чем.
– Вот это и заметно, – сказала Князева.
В цехе среди горячки кто-то посмотрел на часы.
– Илья Иваныч, – это к Букаты. – Ваш цех задерживает…
– Петя, Силыч, как дела?
– Ничего идут дела, голова пока цела! – ерничал Швейк и сам с тревогой посматривал то на Силыча, то на часы.
– А правда, Илья Иваныч, почему задержка? Почему не работает конвейер? Вы срываете график! Пойдете под суд!
– Не грозите, – сказал Букаты военпреду. – У меня центровщик пропал, вы это понимаете?
– Не понимаю, – отвечал тот. В общем-то, он был прав.
– Военпредов у нас много! – вспылив, крикнул тогда Букаты. – А центровщик у меня один! Может, он такой на весь Союз один!
– Не кричите! У директора будем объясняться!
– Я готов! – крикнул вслед Букаты и посмотрел на Силыча. На том лица не было. И Швейк свой юмор растерял, будто сам был виноват.
– Где он? – обратился Букаты к Силычу и Швейку. – Где, я вас спрашиваю?
Его голос словно разросся, и Костик даже наклонил голову, так громко зазвучало: «Где он? Где, я вас спрашиваю? Где? Где? Где?»
Что-то ему пыталась говорить Ольга, он ее не слышал. А когда снова возник звук, до него только донеслись ее последние слова:
– Дурак! Понял! Ты дурак! Дурак! Это буду всем говорить, что ты глупый такой, что дурак! И не жди пощады! Я помогать тебе не стану! Так и знай!
И с этими словами, наклонив голову, может, уже понимая, что ей придется выступать против Костика на суде, она ушла.
19
– Ага! Тут! Не пошел, значит! – спросил Толик, возникнув как черт из-под печки, непонятно откуда. Он сел рядом, но в отличие от Ольги не стал лезть со своими соболезнованиями, а молчал. Долго молчал, соображая о чем-то своем, возможно, тоже не сладком. Вдруг произнес:
– Значит, теперь нас двое… Знаешь, Швейк анекдот рассказывал про доменный цех, где делают домино…
– Я пойду, – сказал Костик и встал. Все-таки, когда Толик молчал, было лучше.
– Давай уедем, – предложил Толик и тоже встал. Теперь они шли по улочке, удаляясь от завода. – Вместе… К черту на кулички… Ты не знаешь случайно, где находятся кулички? Я тоже не знаю! Но все равно. С твоими руками да моей головой… Мы же все рынки завоюем… Ну?
– Рынки? Зачем? – спросил Костик, хотя его вовсе не интересовали никакие рынки. Наверное, спросил, чтобы услышать собственный голос. А может, чтобы не обидеть Толика, который все-таки пекся о нем и не бросал, и не уговаривал вернуться на завод, а звал на какие-то рынки.
– Был бы умней, не спрашивал, – сказал Толик с пониманием. – А зачем, Ведерников, ты вообще живешь?
– Не знаю, – сознался Костик. Он и правда не знал, зачем он живет. Он и не думал об этом, и вопроса себе такого не задавал.
А Толик, многознающий Толик, вздохнул и крякнул от досады за своего такого товарища.
– Потому и не знаешь, что не живешь, – произнес он наставительно. И предложил: – Зайдем-ка в пивную… В «Голубой Дунай», что у вокзала…
– А зачем? – опять спросил Костик, и вышло уж совсем по-глупому. Потому что не было человека, наверное, не только в поселке, но и в округе, который бы не знал, зачем заходят в пивнушку «Голубой Дунай».
Толик не ответил, идти было не более пяти минут. Все тут в поселочке было рядом. Толик пробился к прилавку, несмотря на дневное время, народу толклось немало, взял две кружки пива, две таранки к ним и молча занялся делом: постукал таранкой о ребро стола, облупил, со знанием дела располосовал так, что спинка тонкой аппетитной полосочкой легла на стол, а за ней розово-прозрачные ребрышки и кусочек плотной, похожей на камешек икры. Закончив дело, он вытер руки о газетку, которая нашлась тут же на столе, и предложил выпить… Костик растерянно согласился и попробовал, он уже знал, что пиво на вкус горькое, неприятное. Вот морс совсем другое дело.
Толик будто не замечал, как морщится Костик, а мелко попивал свое пиво, обсасывал кусочки рыбы и молчал. Молчал, пока не закончил пить.
Он снова притащил пива уже себе и тогда лишь возобновил разговор.
– Сколько тебе? – спросил, хотя знал, сколько лет Костику, а сам он был на полтора года старше. – В этом году семнадцать? Теперь разложи: ФЗО и три года на заводе… А что ты видел? Кроме своих станков? А? В цехе у нас стоит станок, который зовется ДИП… Ну, мы с тобой еще фабзайцами на нем учились работать… А ДИП расшифровывается, помнишь: Догнать и Перегнать… Так?
Костик кивнул и снова попробовал пиво. С кусочком икры, которую ему дружелюбно подсунул Толик, оно уже не показалось таким горьким и противным. Несколько глотков с непривычки подогрели его, стало даже приятно. И слова Толика ложились под это пиво как-то легко, доступно. Откровенно.
– …Ну, Догнал… Ну, Перегнал… А дальше? – спросил Толик, посмотрел на Костика. Наверное, он здесь бывал часто и вовсе не захмелел от пива, а только разогрелся чуть, и щеки у него покраснели. – Вот ты, Костик, и есть тот станок… Крутишься всю жизнь, кого-то перегоняешь… А почему крутишься, зачем перегоняешь… Этого ты понять не в состоянии. Потому что ты робот… А вот Чемоданов… Тот знает, зачем живет! Зачем крутится! У него что ни движение, то достижение! Денежки… Катерина… Зинин домик…
– Это правда, значит? – спросил Костик, впервые оживившись при упоминании Кати.
– Что правда? – спросил Толик.
– Что она…
– А как же! – засмеялся Толик, но смех его был далеко не добродушный. – Дорогим новобрачным Екатерине Егоровне и Василь Василичу бутылку спиртика в счастливый день бракосочетания от группы друзей! От нас с тобой, значит! Хоть спирт ты мне из цеха не захотел тащить, да черт с тобой! Сам сделаю! – отмахнулся Толик и допил свое пиво.
А Костик вдруг, осмелевший оттого, что в нем заиграл непривычный хмель, вскочил и крикнул:
– Врешь ты все! Она не хочет! Я сам видел, как она плакала!
Тут он попытался ухватить Толика за пиджак через стол, обе кружки опрокинулись, покатились на пол, но не разбились.
Толик не стал отвечать криком. Он стряхнул с себя руки Костика и, оглянувшись, прошипел:
– Отпусти и замолкни… Вот псих-то… И без справки видно, что больной! Тебе в психушку надо, а не в цех идти, там сразу за своего примут!
Встал, отряхнулся, поднял и поставил кружки. Не спеша направился к выходу. Скандал тут, в месте, где его знали, вовсе не был нужен. Но Костик после пива, а может, после упоминания о Кате, стал как дурной. То есть он и был с утра дурным, но сейчас и вовсе развязался. Вот уж не узнаешь, что может статься с тихим на вид человеком.
Так думал Толик, быстро заворачивая за угол ближайшего дома. Там его догнал Костик. Вид у него был жалкий.
– Постой! Толик! Подожди…
– Ну, что? – спросил тот зло.
– Где она? Сейчас?
– Кто – она?
– Ну, Катя… Катерина Егоровна?
– А ты кто ей? Что так интересуешься?
– Никто.
– Вот и отцепись! – как отрезал.
– Жалко мне ее, – вдруг сказал Костик.
– Жалостливый у меня дружочек! – протянул насмешливо Толик. – А ты старушек через улицу случайно не переводишь? Ох, набить бы морду…
– Мне?
– Можно и тебе! А можно Чемоданчику, к примеру… Сундукову-Авоськи ну какому-нибудь… Ладно. Побегу за спиртом!
Бросив Костика, он направился в сторону завода. Но вдруг кого-то увидел, отступил назад. Мимо прошли двое, мастер Букаты и странный человек на голову выше мастера в военном красивом френче и в шляпе. Они проскочили, никого не заметив, занятые разговором, скрылись в пивной.
Толик в недоумении проводил их глазами. Новости дня! Какие такие махинации мог обтяпывать Чемоданчик с мастером, который не способен был ни на что подобное? Чудеса в решете! Сегодня и правда не соскучишься! Но тем лучше, как раз самое время проскочить в цех и изъять из заначки спирт. Так он решил и повернулся к Костику.
– Ах, так ты Катькой интересовался? – спросил, будто до него лишь теперь дошла просьба Костика.
Тот недоверчиво кивнул. Наверное, подумал, что Толик решил поиздеваться, благо настроение у него такое. Но он был серьезен и обстоятелен. Пояснил, что Катька сейчас в подвале, наверное, засадили за все ее утренние штучки, и просидит она там до вечера… До свадьбы своей… Дом, войдя в калитку, надо обходить слева, так как справа – собаки на цепи. Если, конечно, их не спустят… Да вряд ли их спустят, Чемоданчик их не переносит, они его тоже. «У них такая странная взаимность», – добавил Толик.
– А в подвале окошечко на уровне земли… Ты меня понял? Ты все как следует понял? – повторил он.
Костик кивнул. Хотя ничего он не понял, особенно же перемен, происшедших с его приятелем. Сперва психовал, а потом стал таким внимательным и добреньким
Но Толик и сам не смог бы объяснить, для чего все это он сделал. Ну, то есть какие-то соображения у него, конечно, были, но смутные еще, как говорят, на грани интуиции, которая до сих пор его не подводила. Интуиция подсказывала, что Костику надо бы встретиться с Катькой. Этот псих и правда найдет ее, таким способом можно насолить Чемоданчику. А вот дальше… Дальше он не мог всего разглядеть, хотя чувствовал, что и дальше может выйти очень занятная комедия… Во время свадьбы… Или как она там называется. Главное, тут держать руку на пульсе и направлять события (то есть лично Костика) в нужную сторону.
– За девок надо бороться, – сказал он Костику, будто бы доверял тайну. Так говорят обычно мужчина с мужчиной. – За них насмерть надо стоять!
– Я знаю, – кивал Костик, ему не терпелось бежать к Кате. Толик понял и толкнул по-дружески в спину, как бы благословляя на серьезное дело:
– Иди! Гони! Бейся за нее! Никому не давай! Ни-ко-му!
Последнее крикнул вслед и вздохнул: какой же он еще щенок, цуцик глупый, настолько всему верит! Обведут его вокруг пальца, да он себя сам обведет… Слепой, влюбленный дурачок! Блажной, словом…
20
Чемоданов, как велела ему Зина, подошел к проходным воротам и присел на том же самом месте, где за полчаса до него сидел Костик.
До перерыва было далеко. Но он и не собирался ждать, когда наступит перерыв. Он по опыту знал, что среди потока людей, снующих на завод и обратно, найдется кто-то, кто может позвать нужного ему человека. «Не бывает так, чтобы чего-нибудь да не было!» – любимое его присловье, обозначающее возможность всегда найти выход из трудного положения.
Проспавшись, ночка-то была не из приятнейших, среди разного вагонного сброда, а он еще за свой багажик с иголочками тревожился, он не нашел ни Зины, ни племянницы ее, но они и не были сейчас нужны. Зато от Зины лежала торопливая записка, где она просила завтракать без нее, а потом, если ему, то есть, Чемоданову, не трудно, сходить к заводу, где в перерыв его будет ждать дядя Кати, фамилия которого Букаты… Вот с ним, мол, Чемоданову и нужно переговорить по поводу будущей свадьбы, если он не хочет всякого потом скандала.
Чемоданов скандала не хотел.
Он посмотрел на часы, привел себя в порядок, почистил тряпочкой, найденной в прихожей, сапоги, ибо по опыту знал, что никакой френч и никакая шляпа не украсят его до конца, если обувь при этом будет грязной… И пошел.
Букаты в это самое время крутился по цеху, принимая как должное очередную порцию устных выговоров от начальства и пытаясь заткнуть брешь – заменить выбывшего неизвестно почему слесаря-центровщика. Как бывает в таких случаях по закону подлости, центровщик из другой смены накануне слег на операцию с аппендицитом… Букаты направил Силыча к Ведерникову домой выяснить, что же там случилось, Пете Швейку велел полегоньку, не спеша, осваивать новое дело…
– Незаменимых людей не бывает, – повторял он известную формулу Сталина, в которой было еще и продолжение: «не можешь, научим, не хочешь, заставим…» Но Букаты знал, по личному знал опыту, что есть они в природе, незаменимые люди, и заставить их делать то, что они не хотят, не всегда можно. То есть даже так бы он сформулировал свой тезис в отличие от того, известного, навязшего в зубах, настолько часто его вокруг повторяли, что мир-то де и состоит в основном из незаменимых людей, только мы это повернули кверху ногами, но это вовсе ничего не меняет. И Костик, и Силыч, и Швейк, да и сам он были из тех самых, как он понимал, незаменимых, расставленных так, что каждый незаменимый делал свое дело. В данном случае это были танки. Но разрушилась структура, и требовалось что-то изобрести, чтобы временно заменить незаменимого, то есть пойти на компромисс, дававший непосредственные, нужные сегодня позарез результаты. В перспективе же, как он понимал, все образуется и Костик вернется на свое место. Другого варианта он пока не видел.
Такими были его мысли среди многих забот, ибо нервничал военпред, звонили из ОТК, спрашивали из парткома, как прошла подписка на танковую колонну, деньги у него пока в сейфе, тут же в цехе; а Силыч все не возвращался, его-то, в нетерпении Букаты посматривал поминутно на часы, ждал, как не ждут второго пришествия.
Наконец тот объявился. Но еще издали, по тому, как изображал недоумение и пожимал плечами, Букаты понял, что Ведерникова не нашли.
Силыч пояснил, что дома он застал маму, тетю Таю, но она ничего сама не знает, повторяя лишь, что он ко времени встал и пошел на работу… Но теперь и она всполошилась, потому что не может понять, что же с сыном могло случиться.
– Зря ты ей сказал, – упрекнул походя Букаты.
Еще Силыч добавил, что у проходной к нему подошел какой-то человек, во френче и шляпе, высокий, «дядя, достань воробушка», и попросил позвать мастера Букаты, к которому у него разговор.
Букаты не удивился, мало ли кому он нужен… Он распорядился Силычу шума про Ведерникова не поднимать, вдруг да найдется! На всякие там дерганья не реагировать, отбояриваться общими словами, мол, все будет как надо и в том же духе.
У ворот и правда стоял человек занятного вида, впрочем, Букаты с первого же взгляда показалось, что сам-то он себе, наверное, нравится. Он поправлял шляпу, одергивал френч и при этом заглядывал в стеклышко проходной, ловя свое отражение. Но времени рассматривать прохожих у Букаты не было. Он сам подошел к незнакомцу и спросил, кого тот ждет. Спросил потому, что могла произойти ошибка: в одном из цехов работал человек со сходной фамилией, Бокатов.
– Папашка, – сразу оживился человек, – это – завод?
– Какой тебе нужен завод? – спросил недовольно Букаты. Он не любил, когда спрашивали не по делу.
– А какой есть?
– Никакого нет, – сурово отрезал Букаты. – Тебе что нужно-то?
И тут он посмотрел по сторонам, пытаясь понять, нет ли кого другого, не с таким чудным и нахальным видом, кто тоже мог бы ждать мастера. Но во френче, и в шляпе, и длинный – был все-таки этот, который к нему обращался.
Тот в свою очередь рассматривал мастера и делал про себя, по-видимому, свои, тоже не совсем приятные выводы.
– Мне мастера Букату позови, который танки изготовляет.
– Изготовляет… – проворчал Букаты, уже понимая, что назвали, точно, его, и ошибки нет. – Галоши, что ли! Как это я изготовляю?
– Так, стой! – обрадовался пришедший. – Ты – Буката?
– А ты кто?
– Чемоданов! Папашка! – сказал, оскалясь, длинный. И тронул полу шляпы. – Вашей племяшки как бы муж… Будущий…
От этих слов Букаты как покачнуло, настолько все было не ко времени.
Помнил он утренний разговор с сестрой, истерику ее помнил и свое раздражение, но как-то стерлось оно за другими, последовавшими вслед неприятностями, и уже перестал он держать в уме, надеясь, что само по себе обойдется.
Не обошлось.
Неприязненно осмотрев новоявленного жениха – прям петух – он спросил, задрав лицо вверх:
– Женишься, говоришь? – и тон его не предвещал ничего доброго.
Но Чемоданов не услышал, а может, и не захотел услышать угрозы. Он бодренько, на легкомысленном смешке заявил, что правда женится, и жениться никогда не поздно, если женилка работает… А Зиночка-то твердит, поговори, мол, родственник как-никак, неудобно… А чего неудобного-то, если все ясно… Он же не прохиндей какой, он по-хорошему, то есть по-гражданскому… И сам он считает факт сочетания делом торжественным, потому что он человек солидный… Между прочим…
– Ага, – выслушав, кивнул Букаты и посмотрел, набычившись, в землю. Раздумывал, кумекал про себя. Потом вздернулся, но глядел уже не в лицо, неудобно было все время задирать голову, а смотрел на пуговицу френча, что была на уровне его глаз. – А чем ты, солидный человек, занимаешься? – спросил у него. – Где служишь? Сколько получаешь? Сколько жен… Да-да! Сколько жен имел… Имеешь… по разным городам?
И этот напор Чемоданов выдержал, не дрогнул. Только поскучнел малость. Такими-то психическими атаками разве его проймешь! Не интересно даже на таком уровне работать. Так про себя решил. А этой сварливой Букате ответил он с упреком так:
– Эх, папашка! Если тебе моя жизнь приснится, ты проснешься в холодном поту! Пойдем-ка серьезно поговорим? А?
– Куда это? – оторопел Букаты. От нахальства названого жениха оторопел.
– Да в «Голубой Дунай». Куда еще! – сказал самоуверенно Чемоданов. – Идем? Ну?
Его самоуверенность вывела Букаты из себя.
– Некогда мне болтаться! Говори, да я пошел! – разозлился он и достал свои большие серебряные часы.
Ну и денек выдался, каждый старается побольней за нервы дернуть. Этот заморский петух туда же… Не на того напал!
– Да и у меня времени маловато, – невинно поглядывая на Букаты, произнес Чемоданов. – Я думал, что ловчее тебе не у ворот кричать… Вон, на тебя уже звукоуловители наставили… – и кивнул на проходную, где, и правда, из окошка торчала физиономия вахтера, заслышавшего, видать, скандал.
– Пять минут, – сказал между тем Чемоданов. – Проводи, дорогой и поговорим, папашка!
Ох, как не нравилось все это Букаты. Эта снисходительность, почти небрежность в разговоре, и словцо-то дрянное такое: «папашка!» Где он его откопал… Но закончить надо было, для пользы, как говорят, дела! Отбрить этого немолодого нахала, чтобы знал наперед, как соваться не в свои дела!
Росла досада и на Зинку, которая всю эту кашу заварила. Но ей он особо выдаст! Она получит! Как в детстве – березовой каши!
Наискось по тропинке вышли они к забегаловке, фанерной, но просторной, и внутри и снаружи толпился народ: инвалиды, мужички и совсем еще подростки… Были тут и женщины.
Чемоданов ушел, вернулся с двумя кружками и одну поставил перед Букаты. Но тот отодвинул демонстративно: он не из тех, кто будет пить неизвестно с кем. Чемоданов этот жест засек, как и все остальное. Но проглотил. Не хотел заострять отношения.
– Так вот, папашка, – начал, отхлебнув от своей кружки и оглядываясь по сторонам. Но никто их не слушал. – Семьи, так отвечу я на твой категорический вопрос, у меня нет… О прошлом моем тебе знать не надо. Это дело не твое. А Катя – она одна для меня… Запомни и запиши в каком-нибудь своем мозжечке. Одна, и на всю жизнь.
– Катьке – это рано, – теперь Букаты уже смотрел в лицо, удобно было смотреть. И говорил повелительно, твердо. – Будь моя воля, так я достал бы веревку… Вожжи… Да такую бы свадьбу устроил! И той, и другой!
– Значит, гражданин Буката, – вежливо, сменив игривый тон на иной, предупредительный, холодноватый, поинтересовался Чемоданов. – Я так понял, что вы категорически…
– Правильно понял! – кивнул Букаты. – Будь здоров! – И поднялся. Но Чемоданов остановил его.
– Минуточку… Папашка… А должок?
– Какой должок? – спросил Букаты, стоя и нетерпеливо оглядываясь по сторонам. Никогда он не был в этой пивнушке. Не дай бог, кто увидит.
– Обыкновенный… Который брали…
– Я? Брал? – наигранно удивился Букаты и улыбнулся такой наивности этого прохиндея в шляпе. Куда, мол, зашел! Шантажировать пытается! Не на таких напал!
Но и Чемоданов улыбнулся.
– Не вы, конечно… Но я понял так, что вы от их имени сейчас говорите? Вот и гоните их должок… И мы с вами квиты…
И уставился, глядя не отрываясь, на собеседника.
– Ах, вот как!
– Так… Только так, – кивнул предупредительно и даже с некоторой теплотой в голосе Чемоданов. – Вы мне, папашка, денежки… А я вам веревочку…
– Какую еще веревочку?
– Ну, вожжи… Чтобы отстегать, как вы того желали, этих… Ваших заблудших родственниц…
Видно, издевался Чемоданов, и был подвох в его таком масляном голосе, но какой, Букаты не мог до поры распознать. И еще продолжал по инерции кипятиться, лезть на рожон.
– Сколько тебе? – спросил напрямик и полез в карман, желая швырнуть в лицо этому хаму всю свою получку, которую он получил. Ради такого удовольствия можно себе позволить и поголодать! Накоплений у Букаты, ясное дело, не было никаких.
– Полмиллиончика, – невозмутимо произнес Чемоданов. Сохраняя все ту же мягкость в голосе. Он-то знал, что давно выиграл этот разговор, еще дома у себя знал!
– Не понял? – спросил Букаты и закашлялся… Все-то он понял, старый дурак, но выигрывал время, потому что нечего было ему ответить на эту цифру. Нет в мире такого ответа, который бы прозвучал удовлетворенно, кроме мешка с деньгами, который нужно выложить на этот залитый терпким желтым пивом столик… Может, где-то такой мешок и есть, но не у него… Не про вашу честь… Так и сказано в поговорке!
И вот тут Чемоданов взял свое. Прочно взял, развернувшись во всю силу перед старикашкой, который увядал на корню.
– Правильно понял, папашка! – сказал он строго. У Букаты взаймы тон занял. – Пятьсот тысяч – это выглядит солиднее, да? Так я же тебе сразу сказал, что я солидный человек… На мелочи не размениваюсь! – И оглянувшись, нет ли лишних ушей, он отодвинул кружки, которые их разделяли, наклонился вперед, предлагая это же сделать Букаты, и тот, вот странное дело, подчинился. – Теперь слушай, папашка! По-другому слушай, а то дырки слуховые у тебя засорились, себя только слышал… А ведь разговор-то даже не на двоих… На троих… На четверых! Вот как!
– Ну, ну… Считаешь… – смято произнес Букаты, на него было сейчас тошно смотреть. И вдруг вспылил, от слабости или отчаяния. – А тебя бы в милицию! Вот куда! И там посчитать! Сколько тебе полагается! Да, да! Сколько дадут срока!
– Ну вот, опять глухонемой, – натянуто оскалился Чемоданов. – Годы-то нам с Зиночкой придется делить… Я ведь только выручал, а садить-то ее полагается… Тут правды не найдешь! Папашка! И не там ты ее ищешь!
Букаты молчал. И Чемоданов молчал, давая сопернику прийти в себя. Он знал, что подобные удары с ног валят и не таких строптивых. Пусть оклемается… Он нам еще нужен…
Он даже не стал останавливать мастера, когда тот встал и пошел, направляясь к заводу. Разговор-то, в принципе, закончен. А то, что молчит, к лучшему, значит, дошло до него… Туговато, конечно. Младенцы, те, когда первая мысль у них появится, говорят, слюни пускают… Курчавые такие, умненькие слюни… А этот молчанием запустил…
Уже дошли до проходной, когда Букаты подал голос. Был он смирен. Так-то бы сначала!
– Ладно, – произнес, взглянув по-бычьи исподлобья на пуговицу, что маячила у лица. – Чего ты от меня хочешь? Времени у меня нет больше, планы с тобой строить… Побыстрей, пожалуйста…
Вежливо, как можно вежливей и кротче, Чемоданчик опять же сказал, что не с ним, не с ним вовсе строит, папашка, свои планы… Они у них общие с Зиночкой, с Катюней… Одно-единое, как говорят.
– Ты приходи в дом-то… Вот и всех делов! – сказал доброжелательно Чемоданов. Будто с близким дружком договаривался.
– На свадьбу? Не приду! – отрезал Букаты и отвернулся.
– А ты до свадьбы приходи, – подхватил Чемоданов. – В садике-то и поговорим… И договоримся, может… У тебя когда перерыв?
– Какой там перерыв, – отмахнулся Букаты. – Рабочий у меня пропал… А план горит… Ох, – вспомнил он про цех и про все, что там творится. – Зинка зовет меня Железным, но я железный и есть… В цеху родился, в цеху жизнь прожил… Со мной что с железкой говорить… Толку тебе мало… – и повернулся, чтобы идти, и уже машинально пропуск в кармане нашаривал.
– Ничего, папашка! – воскликнул Чемоданов вслед, понимая, что дело идет к согласию и остались какие-то недоразумения. – Племянница-то, думаю, поважней твово танка будет! А? Так жду! Жду!
Но Букаты не повернулся. А за проходной подумал: «С милицией к тебе в гости надо ходить! Сволочь! Не иначе!»
Постоял, скрывшись от глаз, чтобы прийти в себя, ладонью по векам провел… И словно отряхнув от себя как наваждение все, что сейчас произошло, он вздохнул полной грудью и направился через замусоренный двор в цех.
Одиноко, как упрек ему лично, стояли, вытянувшись во весь двор, пустые платформы для новой боевой техники. Он проскочил, стараясь на них не смотреть. Но к сборщикам не пошел, понимая, что ничего утешительного там не ждет. Незамеченный заперся в своей конторке, в уголке цеха, и долго ворошил какие-то бумаги, что-то искал. Несколько раз слазил в свой рабочий шкафчик, где хранилась одежда, и снова листал, цифирки выписывал, поправляя очки, старенькие, довоенные еще, в железной оправе. А потом откинулся и замер, закрыв глаза.
21
Расставшись с Ведерниковым, Толик прошел на большой заводской двор, оттуда проник в цех, допуска к сборочникам у него отобрать не успели. Там, в укромном местечке, хранился у него спирт в пол-литровой бутылке. По пути заметил Швейка. Хотел проскочить незамеченным, но тот окликнул, сам подошел.
– Министр двора! – произнес, намекая на новую работу Толика. – Зашел посмотреть, или…
– Или? – спросил Толик оглядываясь. Вообще-то ему никого не хотелось из бывшей бригады видеть. Не за тем, как говорят, пришел.
– А может, тебе обратно попроситься… – Швейк прочел старые свои строчки: «А сачкуешь, Толик, зря ты, на тебя сердит Букаты!»
– Мне и там не дует, – отвечал независимо Толик. – Весь день сам себе начальник… Без ваших Букат… А ты-то что сачкуешь?
Швейк нахмурился.
– Ведерников не вышел…
Толик присвистнул.
– И уже скисли?
– Почему скисли? – неуверенно произнес Швейк. – Мы пытаемся. А ты его, случаем, не видел?
– Случаем, видел, – кивнул Толик. – Не хочет он больше вашими «тачками» заниматься… «Грязной тачкой руки пачкай… ха-ха! Это дело перекурим как-нибудь…»
Толик спел известный куплетик, глядя на Швейка. Думал, что тот, как Силыч, попрет напролом и закричит:
«Врешь!» Но Швейк не закричал, а лишь с сомнением заглянул Толику в лицо. И отодвинулся, будто оберегаясь. Он, кажется, и правда понял, что Толик не врет. Но все-таки спросил:
– Правда? Так и сказал?
– Клянусь говорить правду, правду, одну только правду, – выпалил Толик. И добавил, ухмыльнувшись: – Но не всю…
– А не вся – вся? – спросил Швейк. – Или еще что держишь?
– А что мне держать-то… Подумаешь, какая военная тайна, что не хочет он трудиться, а хочет, наоборот, жениться…
– Это Костик-то?
– Именно. Именно, – подтвердил Толик. – Единственная, говорит, неповторимая, вечная, – и посмотрел на Швейка. Тот молчал, проглотив пилюлю. – Так что ваш зачинатель нового движения… В сторону от завода… Движения-то… Движется… Скоро прибудет…
Не хотел Толик злословить, не затем он пришел в цех. Но так зудило его отыграться за позорище, что устроили ему тут на собрании… Не сдержался. И Швейк это понял. Но ему сегодня будто отказал его природный юмор и находчивость.
– А ты его увидишь? – спросил вяло.
– Возможно, – отвечал Толик, ему даже стало жалко Швейка.
– Передать можешь?
– От тебя?
– Можешь и от меня.
– Попробую…
– Так вот, передай… – Швейк посмотрел себе под ноги, будто там мог найти какие-то слова. – Передай так… – и вскинул глаза. – Лучше, передай, пачкаться в «тачке», чем с таким дружком, как Василек… Не отмоешься после него… Не забудешь? – И уже посмотрел прямо в лицо. Это был прежний их Швейк, которому палец в рот не клади. Запамятовал Толик, открылся и получил в челюсть. Хотел что-то ответить, но затыркался в словах, а Швейк не спеша уходил, его не интересовало, что может сказать Толик.
Забрал он спирт, и то ладно, что никто до его заначки не добрался. Спрятал в карман, подальше. На выходе из цеха на Ольгу наткнулся, которая неслась как угорелая, ничего не видя, и если бы не воткнулась бы прямо в Толика, то пролетела бы мимо как снаряд и не заметила. Такая вся была из себя реактивная, что даже он не успел отскочить…
– Ой, – сказала и посмотрела на него. В глазах сверкнул радостный огонек. – Ой! Я почему-то подумала: Костик! Мы его весь день ищем! Ты не видал?
– Был, да весь вышел, – сказал Толик, припомнив зуботычину от Швейка. Теперь он стал осторожней. Он даже попытался уйти, но Ольга стояла на его дороге и не собиралась его отпускать. Да и говорить она хотела не о Костике, а о себе. Она посмотрела по сторонам и спросила негромко:
– Толик, сердишься, да? Но ты зря сердишься, я же ничего не могла сделать… Но хочешь, я поговорю с Букаты?
– Ляльк, отстань. Ничего я от тебя уже не хочу, – отвечал он.
– А про тебя мама спрашивала… И так Ольга это беспомощно сказала, что у Толика не повернулся язык выдать очередную грубость.
– Приходи, – вдруг попросила Ольга, почувствовав какие-то колебания в Толике. Никогда она его не понимала, а сейчас и подавно. – Приходи сегодня, мама оладушек напечет, а? Мы два стакана муки достали!
– Ладно, – вдруг сказал он, поняв, что ему долго не уйти, если он не отвяжется от Ольги. Замучает до смерти. Нет в мире страшней и опасней человека, чем тот, который хочет тебе добра.
– Придешь? – обрадовалась она, даже расцвела вся, вот дура. – Правда?
– Правда.
– Ой, Толик… Спасибо… – и, оглянувшись, попыталась поцеловать его в щеку, он увернулся, выскочил вон.
Но мытарства его на этом не закончились. Прямо у проходной он наткнулся на Чемоданова, который распрощался с Букаты и собирался уходить. У этого глаз-ватерпас; как ни пытался Толик юркнуть за деревья, сделав вид, что не видит он Василь Василича, тот углядел и, ухмыльнувшись, поманил пальцем.
– Чего крадешься? – спросил. – Или вынес что-нибудь? А я уж думал, что ты давно весь завод унес и носить больше нечего… Впрочем, – задрав голову, сказал он, – трубу не унес! А почему не унес… Она в проходную не влезает, правда? – И захохотал, довольный. Можно было понять, что разговор с Букаты кончился для него выгодно. «Иначе бы не веселился наш «саквояжик»…» – так подумал Толик, но грубить не решился, отыграется в другой раз.
– Так, чего прячешь? – спросил Чемоданов и ткнул пальцем на подмышку.
– Подарок, – сказал Толик. – Крепость – девяносто шесть градусов… А ты с Букаты отношения, я гляжу, налаживал?
Вот так-то, Василь Василич, и мы не лыком шиты, кое-что замечаем.
– Пытался, – отвечал Чемоданов неопределенно и посмотрел на ворота, где скрылся недавно растерянный мастер.
– Железный, – предупредил Толик. – Так у нас зовут. Три года меня на путь истинный наставлял…
Чемоданов хмыкнул.
– И железо тоже гнется…
– Да к чему он тебе?
– Для спокойствия, – произнес Чемоданов. Может, он и правда не врал. – Для тишины… Для порядка… Да и посмотреть на будущего родственничка интересно. Вдруг да пригодится! Все же ге-ге-мон! – И что-то вспомнив: – У тебя, кстати, патронов пары штук не найдется? Шестнадцатый калибр? Собаки надоели… И так нервы взвинчены… еще они…
– А что тебе собаки? – спросил Толик невинно. – Если сегодня уедешь?
– А вдруг – останусь? – на вопрос ответил вопросом.
– Надолго?
– Да хоть и навсегда.
И посмотрел в лицо Толика, ожидая реакции. Но к такому ответу Толик был готов.
– А Зинаида? – спросил. – Она-то согласна?
– Зиночка… – Чемоданчик засмеялся, весело ему вдруг стало. – Она у нас без права голоса… Что постановим, то и будет. Выделим ей Катькину маленькую комнатку, будет суп варить… Чем ей плохо? – И захохотал, но понятно было, что он нисколько не шутил.
– Здорово придумал! – в тон ему поддакнул Толик, никто бы не смог расслышать ту легкую иронию, которую он вложил в свои слова. – И все ты наперед, Василь Василич, знаешь?
Но Василь Василич расслышал. Наверное, расслышал.
– Не все, – ответил, перестал смеяться.
– Смотри, что получается, – по инерции еще продолжал ерничать Толик. – И свадьбу, и дом, и Зину, и Катьку, и Букаты… Всех прибрал к рукам. А уж Букаты никто еще не переупрямил… Его и военпред сломать не мог!
– Верно, – произнес Чемоданов, наблюдая за лицом Толика. И помолчал. – Всех, кроме тебя… Василечек!
– Ну, я-то шестерка, – наигранно отмахнулся Толик, поняв, что немного зарвался и выдал себя. Раненько выдал, надо бы усыпить бдительность Чемоданчика, сегодня излишне подозрительного. Он уже старательно добавил, что ему скажут тащить спирт, он тащит: вот он! Скажут торговать иголками, и тут он как пионер: всегда готов!
– Кстати, – поинтересовался и тем перевел разговор, – сколько их у тебя?
Чемоданчик посуровел:
– Тысяч сто… Но сейчас не до них…
– Ну да! – подтвердил Толик. – И я говорю, что тебе не до них… А мне-то до них… Я-то свободен…
– До срока, – вставил Чемоданчик, и удачная шутка восстановила в нем равновесие. Толику это было на руку.
– Слушай, Василь Василич, – предложил он, не выказывая своего волнения, будто разговор шел о пустячке. – Ты мне их оптом не продашь?
– А ты знаешь, сколько стоит? – поинтересовался Чемоданов, даже не удивившись. Он, наверное, воспринял это как розыгрыш.
– Догадываюсь, – отвечал Толик. – Но я серьезно.
– Я тоже.
– Тогда отвечай, – настаивал Толик. – Продашь? Нет?
Чемоданов с любопытством заглянул Толику в лицо.
– Откуда у тебя такие деньги?
– Их нет, – сказал Толик. – Но к вечеру, представь, будут.
– Трудно представить!
И хоть насмешничал Василь Василич и от вопроса увиливал, но так про себя и не решил, что же скрывается за словами Толика: игра или… Но откуда? Откуда? Два года он работал с Васильком, тот перекупал зажигалочки, спиртиком торговал, но все – по мелочам… Юркий парниша, что и говорить. Зиночку, Букату железную (ему так нравилось называть – калечить фамилию), даже Катюню раскусил… А Толика до конца и не раскусил… Как вьюн в мутной воде. Вроде бы ухватил, а он снова плавает… Может, он на Катюню с домом метит?
Отчего пришло такое открытие, Чемоданов не понял. Но горло перехватило, даже сдержать себя не смог, так напрямки и рубанул:
– За Катькой охотишься? Сосунок!
Толик аж рот открыл от удивления. Не сразу сообразил, какой подарочек преподнес ему сейчас Чемоданчик! Ай да Василь Василич! Ай да мастак! Как же он при своей ловкости так мелко обмишурился, что главную свою слабость напоказ вытащил и не заметил! Мерси за подсказку! Будем знать!
И Толик с удовольствием сплюнул на землю:
– Катька – тьфу! Других, что ли, девок мало! – небрежно произнес. – Чтобы этой чокнутой интересоваться!
Тут он не врал, он и вправду так думал.
Василь Василич для порядка пригрозил:
– Смотри у меня… Ты у меня вот тут, в кулаке… – И для наглядности показал свой крупный кулак. – Сожму…
Вот тут Толик и разозлился. Никогда Чемоданчик не грозил, но и повода, как говорят, не было. Это он от своей ревности попер – как бык на красную тряпку. Так пора ему и по рогам дать, чтобы не зарывался!
– Это ты, Чемоданчик, смотри! – огрызнулся Толик. – Не туда ты смотришь!
– Не верю! – рявкнул Василь Василич, багровея.
– Правильно. Не верь. Я тебе ничего не говорил, – подвел под занавес Толик и пошел, не оглядываясь. Он знал, что его удар под дых был неотразим.
– Сволочь ты! – крикнул, опомнившись, Чемоданов. – Я тебе за вранье, знаешь…
Толик только усмехнулся на пустые угрозы. Испортил-таки дорогому дружку Василь Василичу благостное настроение. Спокойствия захотел! И Толик пропел знакомую песенку из кино, удаляясь за деревья: «Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей… Огонь… Огонь…»
А тут еще под горячую руку Чемоданову подвернулся инвалид, и откуда он взялся в этот неурочный момент.
Чемоданов как увидел его, так и рассвирепел.
– Что, папашка! – спросил, едва сдерживаясь. – Все ходишь? Слушаешь? Как люди живут? Много услышал?
– А чего не ходить? – спросил инвалид, остановившись, но на злой тон не отреагировал, отвечал негромко, покладисто. – Земля, она, значит, обчественная, ходи сколько влезет. Так я думаю…
– А подслушивать-то зачем? – гнул Чемоданов, не поддаваясь, не подлаживаясь под чужое настроение. Ему надо было излить свое. – Может, я тут секреты секретничаю, а ты свои уловители, свои лопухи – во – наставил… И ловишь?
– А ты не злись, – посоветовал инвалид, он по-прежнему был спокоен и даже доброжелателен. – Ты кричишь так, что твои секреты кругом слышны… – Он достал кисет, потряс, прикидывая, сколько там табачку, и предложил: – Ты вот закури и подумай: чего я, мол, тут кричу… Чего шумлю и надрываюсь… Когда все в мир входят? В спокойствие входят, в радость…
Чемоданов отвернулся. Не хотел курить, а скандала не получилось. Инвалид же между тем сварганил «козью ножку», помусолил, достал «катюшу» – кремешок, да кресало, да трут, – высек огонек, прикурил, пахнуло ядреным самосадом. Табачок, видать, у него был что надо.
– Дай! – сказал Чемоданов и протянул руку. – Нет, – сказал капризно, – сверни сам… Что-то я… Нервы сдали…
– И я говорю! – воскликнул инвалид с охотой. – Что нервы у людей не те… – Он свернул вторую «козью ножку», еще покрупней первой, и дал собеседнику прикурить. А сам не спеша продолжал говорить, что вот у него, на фронте, он одно время шоферил и всяко случалось в бою, от нервов так аппетит поднимался, что свой собственный ремень однажды сгрыз… Но спал даже во время канонады… А сейчас что… Скоро победа, а сна-то нет…
Чемоданов молча выкурил самокрутку, а напоследок сказал:
– Но мы победим, папашка! Мы их всех! Всех! К ногтю!
Пошел, не поблагодарив, не попрощавшись. И чем дальше уходил, тем быстрей ускорял шаг, в конце он побежал, желая скорей увидеть Катю… Удостовериться, что она дома. А инвалид проводил его взглядом и вслух пробормотал, что уж почти и победили… Все почувствовали, что жизнь наступает… Счастья все хотят… А если покричат, то от непонимания, что после войны кричать им не о чем… А кричат потому, что нервы разошлись, как вот у этого достойного солдата… Все пройдет… Но только нервы долго после войны людей мучить будут и убивать…
22
Подвал в доме Гвоздевых был просторный, с ямой для картошки, с отделением, отгороженным специально для хранения яблок и засыпанным опилками, со многими кадушками по углам, частью уже рассохшимися, в которых когда-то солили огурцы и капусту.
Теперь Зина, кроме яблок да картошки, ничего не заготавливала: рук недоставало. Рук и сил.
В подвале было сумрачно, сыроватая мгла смотрела изо всех углов. Странные шорохи, скрипы, вздохи возникали, будто бы сами по себе. Крошечное окошечко для вентиляции не в силах было дать достаточно света и воздуха.
Оттого и сажала Зина племянницу сюда в моменты приступов, быстро приходящих и уходящих, своей женской неуправляемой истерики, что темноты боялась Катя больше всего. Не криков, не хулиганов, не шпаны базарной, которой успела повидать за время своего барышничанья, не голода, не даже одиночества, к которому почти привыкла… А именно темноты.
Случилось как-то давно, что поздно вечером загуляли и не хватило гостям вина. А Зина и говорит: «Ступай, Катька, в мой буфет, возьми ключи и принеси несколько бутылок…» А буфет этот, при станции, где она тогда работала, а позже его-то и обворовали… И тогда Катя сказала Зине, что она не пойдет. Не может пойти, потому что темно и она темноты боится. Не пьяниц, не хулиганов привокзальных, а просто темноты. В ту пору у Зины ночевал обычно ее дружок, с которым она и пила, по имени Леша, странный, припадочный, вышедший из психушки мужичок, пить ему нельзя было. В трезвом виде он был молчалив, даже добр, но когда напивался, терял себя, у него начинались всякие капризы… И тут, когда Катя стала отказываться, Леша вдруг закричал… «Вот, Зинка, какая у тебя племяшка уродилась, и услужить людям не хочет, только о себе думает… Она в своем эгоизме не послушает, не послушает, а подрастет и тебя же из дому погонит». Он и всякое другое тоже говорил. Мало ли мужик набормочет, когда ему выпить не дают; да не дают ладно, он, может, такое и вытерпит. А то дали, да не до конца, это еще хуже. Они и убить могут, мужичье, когда водки недопьют, в разгар своих неуемных-то желаний!
Катя все это понимала, ей тогда пятнадцать исполнилось. Но вот уперлась: «Не пойду, да все тут!» Зина вспылила да как закричала на нее: «Темноты, говоришь, боишься, да? Так ты у меня получишь! Я тебя приучу к темноте!» И заперла в подвал.
Сколько же Катя напереживалась! И кричала, и молила через дверь: «Зиночка… Зина, выпусти, я ведь тут помру!» Не выпустила. Была у Кати горячка, от которой она целый месяц оправлялась, даже в характере переменилась, стала вздрагивать, когда на нее кричали… И все потом исполняла, и про подвал напоминать не надо, сама помнила.
Ну а потом еще несколько раз сажали, уже не за непослушание, а так, под горячую руку тетке попадалась. Привыкла. Почти привыкла… А уж сегодня сама надела ватник и спустилась: наказала себя.
Чтобы не было страшно, разговаривала. Разговаривала с домовым, который, по ее убеждению, прятался в дальнем углу, за кадушкой. Она даже по временам слышала его возню и вздохи. Иногда он реагировал на Катин приход стуком по бочке, а один раз, не успела она прийти, как покатил ей под ноги старую кринку из-под молока… Ну кто, спрашивается, догадается из угла, где все обросло паутиной и прочно вросло в грязь да пыль, откопать кринку и катнуть ее прямо Катьке под ноги, кроме хулигана домового?
Теперь Катя, войдя, сразу поздоровалась, чтобы не сочли, что она такая уж невежа и зазнайка.
Она сказала:
– Здравствуй, подвальчик… Здравствуйте, мышки… Здравствуйте, все… Я снова тут… И не думайте, вовсе меня не посадили… Я сама… Правда. Потому что знаю, виновата…
И прислушалась, не раздастся ли привычный шорох. А когда он вдруг раздался, то вздрогнула и со страхом посмотрела в темноту угла. Понимала, что дверь заперта изнутри, захочет, так сама и выйдет. Да и на дворе день, не ночь, значит, и страхов меньше.
– Кто-то есть? – кротко спросила. И помолчав: – Ты, домовой? Ты, пожалуйста, не пугай… Ты ведь знаешь, я всего боюсь… Не потому, что трусиха… Я просто не люблю темноты…
Произнесла и снова прислушалась. Теперь ей стало казаться, что кто-то из угла смотрит на нее. Смотрит и медленно дышит. Тогда она решила петь. Придумала, чтобы не слышать, как он дышит. Он пусть дышит, а она споет, и будет ей казаться, что она хоть и в подвале, но будто не в подвале, а где-то на лужке. Как на одной картинке изображали хор Пятницкого, ох, до чего же красиво! Артисты все в кокошниках, в сарафанах ярких, цветных, в сапожках сафьяновых, будто вышли из сказки про Снегурочку и Берендея… Идут красавицы цепочкой друг за дружкой, взявшись за руки, по зеленому лугу… И поют… Катя по радио слушала, а когда слушала, представляла их в таком вот хороводе.
На закате ходит парень возле дома моего,
Поморгает мне глазами и не скажет ничего…
Она сделала паузу и снова прислушалась. Дышит ли? Он и в прошлый раз дышал… Она ему спела, он и успокоился. Может, и сейчас поутихнет?
И кто его знает, чего он моргает…
И замерла, потому что раздался громкий стук, и прямо у ее ног упал камешек. Катя закрыла глаза от страха. Вот раньше кринку, а теперь камни кидает. Чего он, совсем спятил, не понимает, что с ней так дурить нельзя, она может и в обморок упасть!
Но в это время всунулась в окошко голова Костика и тем прикрыла бедный свет в подвале. Катя хоть и открыла глаза, полные ужаса, но ничего не увидала, так вдруг стало темно. Но она и чужой головы не увидала, только поняла, что кто-то еще в подвале объявился. А Костик со света тем более ничего не мог рассмотреть. Он услышал Катин поющий голос и понял, что она тут. Теперь затаилась, молчит.
– Хор Пятницкого, а не подвал! – сказал в темноту. Гулко прозвучало.
Но ответа не услышал.
– Молчишь? – спросил. – Чего молчишь-то?
Катя впервые вздохнула шумно и долго, как прежде вздыхал ее домовой. И еще вздохнула. А потом спросила, надо же было что-то говорить. Неудобно молчать, когда тебя спрашивают.
– А это кто?
– Что? Кто? – спросил Костик в темноту.
– Со мной разговаривает… Кто?
– А кого ты ждешь?
– Никого, – отвечала она по правде. И спросила так странно, но она знала, что Он должен ее понять: – А ты… Это – Он?
Костику вдруг стало смешно. Он оттолкнулся ногами об землю и протиснулся в узкую щель. Не зазря же тренировался, залезая в узкий лаз танка.
– Я – это я, – сказал он, оглядывая подвал и пытаясь угадать, где он, а где Катя. Попривык, присмотрелся и увидел, что она сидит на каком-то чурбаке и смотрит на него, широко открыв глаза. Так он и запомнил ее навсегда: ноги по-восточному под себя подсунула, руками живот обняла, сидит и смотрит… Аж глазищи сверкают! От страха, а может, от гнева, что он в чужой дом влез?! И теперь, когда вся его смелость растаяла, он стоял как дурачок посреди подвала и не знал, как себя вести.
Наверное, оттого голос его прозвучал чуть развязно:
– Ну, здравствуйте вам… Не признали?
– Здравствуйте, – сказала Катя без выражения, хотя, наверное, она удивилась, как же не удивиться, что он тут. – Константин Сергеич?
– Они самые… – И тем же нахальноватым тоном спросил, поинтересовался: – Как у вас тут? Не дует?
– Не дует, – отвечала Катя, погрустнев. – Как в мертвом царстве.
Хотела добавить, что в мертвом царстве все мертвое: и ветер там, если он есть, и сквозняк. А значит, дуть не может. Но не стала говорить. Зачем… Поймет, слава богу. А не поймет, не надо. Не дано. Да и не для него, а для себя, считай, говорила.
Но Костик понял. Он предложил:
– Хочешь… Погулять?
– По-настоящему? – спросила Катя.
– Ну, конечно! По улице!
– Я сегодня одну улицу прошла…
– Гульнем, аж чертям жарко станет! Представляешь? – спросил он.
Но она покачала головой.
– Не представляю, Константин Сергеич.
И тут он тоже смутился, потому что тоже не представлял. Но знал, был уверен, что надо только вылезть из подвала, а там оно само по себе пойдет.
– Лезем? Ну? – предложил, указав на окошко.
– Нет, – сказала Катя и будто сжалась. Таким странным ей вдруг показалось это все, как представила, что оно возможно на самом деле.
– Что – нет? – загорелся Костик. – Не можешь? Или не хочешь?
И она опять сказала: «Нет». Даже разозлила его.
– Заладила как попугай! Нет, нет… Ты хоть другие-то слова знаешь?
А Катя почему-то снова, хоть это прозвучало ужасно смешно, а может, глупо, произнесла свое «нет».
Костик присел с ней рядом, подставив другое полешко, помолчал.
– Страшно небось… Так сидеть-то? – спросил, потому что надо было что-то говорить.
– Нет, – в который раз ответила она.
– Тьфу! – произнес он выходя из себя. – Ты как испорченная пластинка!
А Катя поднялась, дошла до дверей подвала, которые сама же за собой прикрыла, постояла в раздумье и вернулась на свое место.
– Все на меня кричат, – сказала спокойно. – Думают, что меня надо учить жизни. А я ведь ничего не прошу. Пусть все живут, как хотят, только чтобы я им не мешала… Вот, залезла в этот дурацкий подвал… Оказывается, и тут мешаю…
– Не ври, – сказал Костик. – Тебя сюда посадили.
– Я сама себя посадила, – тихо возразила Катя.
– Неостроумно!
– А вам не понять!
– Где уж там…
Поговорили, называется.
Но Катя произнесла после недолгого молчания:
– Зачем я сегодня яблоки взяла? По привычке… И сюда я по привычке залезла. Могла бы и не лезть. Зина меня не просила.
– Ну ты даешь! – воскликнул Костя, вправду удивляясь. – Выходит, сама провинилась, сама себя и наказала?
– А что тут смешного? Может, мне тут одной лучше? Зина ко мне не лезет, и Василь Василич тоже… – Катя посмотрела на Костика и отвернулась. – И вас, между прочим, я не звала.
– А я сам… Сам себя позвал… Сам пришел… Сам залез…
Катя снова посмотрела на него, теперь пристальней. И вдруг спросила:
– А зачем?
– Я-то…
– Вы…
– Зачем, что ли, залез?
– Да. Зачем?
Костик убито молчал. И вдруг прорвался:
– Хотел спросить… Ты его любишь? Или… нет?
– Это не я, а вы попугай, – сказала Катя. – Ладно, – решила она, вздохнув. – А если скажу, вы уйдете?
– Скажи, – попросил Костик.
– А почему вы, Константин Сергеич, не на работе? – вдруг поинтересовалась она.
– Вспомнил! Анекдот… Значит… Встречаются два приятеля, и один другого спрашивает, где, мол, работаешь? А тот отвечает: «В доменном цехе, на домино точки ставлю… А сегодня не пошел, потому что выпускаю! «пусто – пусто»… – и посмотрел на Катю, та сидела потупившись. – Не смешно?
Она покачала головой.
– Грустно. – И добавила: – Вы его так рассказывали, будто… Ну, у вас будто что-то случилось…
– А что у меня может случиться? – спросил Костик бодро-фальшивым тоном. Он не умел лгать. – Сам себя отпустил, сам себе не пошел… Шучу! – оборвал он себя. – Отгул, понимаете? У меня сегодня отгул!
И тут словно по ушам резануло: въяве услышал он голоса из цеха. Наваждение какое-то… Услышал, как Букаты распекал Силыча, а тот пояснял, что дома Ведерникова нет. А будто Швейк разговаривал с Толиком Васильевым, а он просил от имени Костика передать, что тот не придет… Не хочет! Надоело! «А совесть?» – спросил Букаты. И все стали повторять это слово на разные лады, аж уши заложило: «Совесть! Совесть! Совесть!»
Он ладонями зажал уши и глаза закрыл. А когда руки отпустил, то уже все кончилось. В растерянности огляделся: рядом сидела Катя и пристально смотрела на него. Он расслышал ее голос, может, она так и не прерывалась, говорила.
– Странный вы… Отгул… А со мной в подвале сидите…
– Я с тобой хочу гулять.
– В подвале-то? – спросила, усмехнувшись, Катя. – А я, наоборот, мечтала, что буду ходить по городу, сама… По улицам… Как все другие люди… Ходить, смотреть. Увижу одуванчик, сорву. Увижу кино, пойду. А потом, я слышала, продают мороженое, страсть вкусное, но я никогда не пробовала.
– И я не пробовал, – сказал Костик.
– Ну и пара у нас…
– Как два сапога! – Костя встал, за руку поднял Катю.
Она стала вдруг тиха и послушна.
– Вот, – сказал он решительно и подвел к окну. – С этой минуты мы гуляем!
23
Сквозь узкое окошко они легко вышли наружу в теплый, в сквозной апрельский день. Собаки при их появлении не стали лаять. Но это было начало, потому что и далее им везло. Им так в этот странный день везло. Никто из знакомых не встретился им и никто им не мешал делать то, что они хотели.
Но что они особенно хотели-то: просто бродить по улицам, смотреть вокруг, любоваться весной. Еще мечтали они попасть в кино, и они туда попали. Хотя никто из них не знал, работает ли кинотеатр в дневное время, ведь не было у них прежде повода все это узнать! А потом они сидели на бугорке за линией, уйдя далеко за станцию, и смотрели, как мимо проходят поезда.
Катя сказала:
– Давай уедем?
– Куда?
– Все равно куда. Лишь бы отсюда, чтобы ничего не помнить.
– А не жалко?
– Жалко, – сказала Катя. – Вообще-то мне Зину жалко… Она будет плакать.
– А мне маму.
– Что же делать? – спросила Катя. – Идти в кино?
Костя при слове «кино» развел руками.
– Все.
– Что все?
– Промотали! – и вывернул карманы наружу.
– Всю твою зарплату? – ужаснулась Катя. – Может, ты потерял?
– Я думал, что там что-то осталось, – удрученно произнес Костя, – но там ничего не осталось.
– Вы мот, Константин Сергеич. Вы мот и гуляка. Сейчас будем считать, – деловито произнесла Катя и взяла щепочку. – Пишем: пятнадцать мороженых…
– Сколько? – спросил Костя, сраженный такой цифрой.
– Шестнадцать, – поправилась Катя. – А вообще, после того как вы девятое начали есть, я сбилась со счета. Я боялась, что вам будет плохо.
– А мне было хорошо, – подтвердил Костя. – Даже в пингвина не превратился!
– И живот не отморозил!
Костя постучал по своему животу и спросил, наклоняя голову: «Эй, живот? Как живешь? Как? Не слышу! Громче! Еще хочешь? Да?»
И Кате:
– Он еще хочет! Он говорит: «Мороженого много не бывает».
Катя засмеялась:
– Он у тебя рекордсмен и растратчик! Просадил на мороженом всю зарплату!
– А газировка? – вспомнил Костя. – Ведь была еще газировка!
– Была, – подтвердила Катя. – Восемь стаканов с сиропом и три без сиропа. И еще – штраф!
– Ах, штраф! – вспомнил теперь Костик, как же он мог забыть.
В том самом кинотеатре, где они четыре подряд сеанса смотрели сказку «Василиса Прекрасная», а потом еще довоенную кинокомедию «Цирк», он увидел цветок в кадушке, замечательный алый цветок, и, сорвав, поднес Кате. А его за этим делом и застукали! Но прежде-то он успел подарить. Как он сказал ей: «Разрешите, Екатерина Егоровна, поднести этот цветок в честь нашего с вами праздника, который называется «День чудес».
– Первый цветок в моей жизни, – произнесла Катя задумчиво.
– И первый штраф за цветы в моей жизни, – в тон ей будто бы огорченно, но вовсе не огорченно, а счастливо сказал Костик. Да и могло ли быть у него другое состояние, если весь день, такой замечательный, они пробыли вдвоем.
Костик посмотрел на Катю и сказал о том, что он думал целый день.
– Знаешь, – сказал, – если меня за этот день будут казнить, я все равно не пожалею о нем!
– Я тоже! – воскликнула Катя. – Если даже на всю жизнь они посадят меня в подвал! Ты, Костик, самый замечательный в мире человек! Правда!
– Ну, что ты… – смутился он.
И даже отвернулся, побоявшись, что она увидит, что вовсе он не такой, каким себе представляет. Ему ведь говорили: от горшка два вершка, и еще так: «метр от земли, если с кепкой…»
Но Катя уже не смотрела на него. Она смотрела в ту сторону, куда начинало клониться долгое, терпеливое сегодняшнее солнце.
Сложив руки на груди, Катя сказала тихо-тихо вслед солнцу:
– Господи! Сделай так, чтобы этот день никогда не кончался! Ну что тебе стоит, господи! Ну часок, если нельзя день… Только часок, молю… Крошечный, крошечный такой часок…
И вдруг они неподалеку увидели Зину. Она держала в руках что-то похожее на веревку. Они даже не успели понять, почему же веревку, только Катя шепнула холодея: «Идет!»
– Суд идет! – крикнула, запыхавшись, Зина, карабкаясь на бугор. И посмотрела при этом на Катю. – Спряталась, поджала хвостик, думаешь, не увижу? Нет, миленькая, я тебя даже на луне найду!
– Мы не прячемся, – сказал Костик, прикрывая собой Катю.
– Кто это мы? – передразнила Зина. – Мы – Николай Второй! Половину города обежала, в милиции заявление оставила, как хулиган наши яблоки обворовал… Но за ним тоже… И за тобой, и за ним…
И тут они увидели, что из-за ближайшей водопроводной будки выныривают один за другим люди, и первый среди них Чемоданов, потом Букаты, потом Силыч и мама Кости позади, чуть поотстав. А далее еще незнакомые…
Вот тогда они заметались. Они схватились за руки, и Костя быстро шепнул: «Летим!»
– Как? – в смятении не поняла Катя, огромное горе было в ее глазах.
Целый поселок бежал к ним, и все для того, чтобы их унизить, опозорить. И было понятно, что это сейчас у всех на глазах произойдет.
– Как в «Василисе», помнишь? – шепнул Костик и посмотрел в Катины глаза. – Мы же умеем, ну… Вспомни!
Когда толпа во главе с решительным Чемодановым, у которого в руках была двустволка, посверкивающая на солнце, стала взбираться на бугор, а запыхавшейся Зине оставалось до беглецов всего несколько шагов, они оттолкнулись и вдруг стали подниматься вверх, чуть наискось, по направлению к станции. Зина в сердцах швырнула веревку на землю и произнесла: «Ушли! Но я все равно догоню!»
Все посмотрели на Чемоданова и закричали: «Стреляй! Стреляй скорей! Они же улетят!»
Было сверху видно, как среди замершей на склоне темной цепочки людей стоит, широко расставив ноги, и целится в них Чемоданов, в шляпе, из-за которой не видно его лица, и в военном френче, сливающемся с буровато-зеленым бугром. Настоящая форма для охотника. Ружье он вскинул, уткнув приклад в плечо, а все кругом кричат: «Стреляй! Ну стреляй же, а то улетят!»
И он выстрелил.
24
– Ну, знаете, – произнесла, будто очнувшись, Князева. – Может, вы свои сказки оставите для других и расскажете, как на самом деле было? Подсудимый! Я к вам обращаюсь!
– Я рассказываю, – пробормотал Ведерников.
– Что вы рассказываете? Как вы летали?
– Да.
– И вы утверждаете, что это вам не приснилось?
– Нет.
– Мда, – промычал Зелинский. И уже обратился к свидетельнице: – Екатерина Егоровна… – произнес, заглянув в бумажку. – Вы не подскажете, сколько раз вы побывали в тот день в кино?
Катя стояла на сцене в своем коротеньком платьице и не знала, куда деть руки, в которых она сжимала платочек. Зал, прореагировавший раскатом смеха на откровение Ведерникова, еще не успел успокоиться, хихиканье и смешки слышались тут и там.
– Во заливает!
– Это они вместе сочиняли!
– Насмотрелись-то сказок…
– Потеха!
– Чокнутого изображает, думает, скостят…
– Тише… Вы… Ничего же не слышно!
Катя между тем ответила, что в кино они вообще не были.
– Как? Ни разу? – спросила Князева.
– Ни разу.
– А мороженых вы сколько съели? – опять спросил Зелинский.
– Не ели мы мороженого, – опять сказала Катя.
– Подсудимый, – спросил прокурор. – Вы ели мороженое?
– Ели, – сказал Ведерников и повернулся к Кате. – Ты не помнишь?
Катя помотала головой.
– Ну в кинотеатре, там, в фойе… Где я цветок отломил…
– И цветка не было, – сказала Катя. – Ничего же не было! Мы вообще не выходили из подвала.
– Выходили! – закричал Костя и даже топнул ногой.
– Подсудимый, помолчите, – попросила Князева. – А что же было? – обратилась она к Кате. – Где же вы прогуляли день?
– Нигде, – ответила Катя и заплакала.
Она вытирала своим крошечным платочком глаза и сморкалась, а зал смотрел на нее, удивляясь такому странному ее рассказу. Вот, когда говорил подсудимый, там все было ясно. Все, кроме того, что они взлетали. Ну ладно, влюбленные все летают, во сне, по крайней мере. Такая фантазия понятна. Но зато понятно и другое, как два шалопая, сбежав из подвала, развлекались по дешевке, пренебрегая коллективом завода (как Костя) или семьей (как Кагя), и думали они в это время решительно только о своем веселье и удовольствиях! В этом свете прогул Ведерникова подтверждал порочность цели, с которой он был сделан. А вот рассказ свидетельницы ничего не мог подтвердить, потому что она пыталась все это отрицать.
Решительно все.
– Умела развлекаться, умей и отвечать! – бросила ей Ольга из-за стола. – Мы все равно все знаем! И слезами вам тут никого не обмануть! Вы яблочками торговали?
– Нет, – сказала Катя, вздрогнув.
– Вот видите! – победоносно и громко сказала Ольга. – И даже ваша тетка подтверждает, что вы торговка! Поштучно. Не так разве?
– В тот день… Я… Не торговала… – отвечала Катя.
– А я вообще спросила! А не про тот или другой день… И не пытайтесь выкрутиться! Лучше все расскажите! – громко произнесла Ольга.
И Зелинский кивнул, он был согласен, что лучше сейчас рассказать всю правду. Сколько раз были в кино? Сколько съели мороженого? И цветок, он не зафиксирован в протоколах, а надо бы! Антиобщественный поступок Ведерникова подтверждает лишь, что аморальность, если она есть, разлагает человека насквозь… Сперва цветок, а потом и на человека руку поднять ничего не стоит!
Но Катя молчала. А когда судья Князева снова обратилась к ней с вопросом, скажет ли она что-нибудь еще, она лишь помотала головой.
– Хорошо, идите, – сказала Князева. – Мы и без вас разберемся! Только учтите, что за сокрытие данных…
– Господи! – вдруг негромко, глядя в зал, произнесла Катя, и все затихли: так она это произнесла. – Называйте меня как хотите… И думайте что угодно. Но ведь правда… Правда, мы с ним никуда не ходили! Неужели вы не видите, что он еще маленький, что он все придумывает… Сочиняет…
– А вы целовались? – спросила вдруг Ольга. – Небось как взрослые?
Зал грохнул; вот он, наконец, счастливый миг, когда подошли к главному.
Катя потупила голову. Князева посмотрела на Ольгу и покачала головой: вот уж не к месту. Но Ольгу снова понесло, не удержать.
– А вы знаете, что поцелуй без любви, как сказала Зоя Космодемьянская…
– Ладно, ладно, – замахала на Ольгу рукой Князева. – Мы вас еще вызовем! Идите, идите… – это Кате. – И подумайте на досуге…
– Про поцелуй! Давай! – крикнули из глубины зала. – Нечего зажимать свидетелей! Пусть расскажут все, как было!
И зал заорал, загикал, засвистел, выказывая свое неудовольствие уходом свидетельницы, которую спросили о поцелуе.
Но тут вдруг подсудимый Ведерников сделал шаг вперед.
– Замолчите! – крикнул он, сжав кулаки, и зал и правда замолк, но лишь на мгновение. – Какие вы… Какие сволочи! – добавил он, так и не найдя нужного слова.
– Это вы замолчите! – произнесла судья подсудимому. – Сядьте, пожалуйста, на место… – И к защитнику: – Посадите его!
– Но я хочу сказать! – настаивал Костик под общий рев зала.
– Скажете, когда спросят…
– Но я хочу о поцелуе…
– И о поцелуе тоже! Садитесь! Садитесь!
– Так вот, мы правда целовались… Но это было не в кинотеатре… Мы правда не ходили в кино… Мы сидели в подвале…
– Перерыв! – крикнула в зал Князева и постучала по графину. – На де-ся-ть ми-ну-ут! Пе-ре-рыв!
25
– Вот, – сказал решительно Костик. – С этой минуты мы гуляем! Кино днем работает?
– Не знаю, – сказала Катя.
– Значит, работает. Покупаем билетики… Проходим в зал… Садимся в первом ряду…
– В третьем, – поправила Катя.
– В первом видней… Ладно… В третьем… – Костик, изображая кино, сел на полешко, но тут же стукнул себя по лбу. – Ох, а мороженое?
Он полез в карман и якобы достал деньги.
– Пятнадцать штук хватит?
Катя впервые улыбнулась. Игра ей начинала нравиться.
– А живот вы не отморозите, Константин Сергеич? Вы их глотаете, да?
– Ой, это я на кино загляделся, – сказал Костик. – А какое у нас кино?
Катя задумалась. Вспомнила.
– Кино пусть называется «Цирк»! Вы видели? Там Любовь Орлова перед полетом из пушки танцует… Вот так…
Катя вышла вперед, будто она и была Любовь Орлова, в черной шляпе и золотом трико, в сверкающем волшебном плаще. Она накинула на себя мешковину и залезла на пенек, потом сбросила и запела: «О Мери! Мери, чудеса! Летит Мери в не-бе-са!»
И вдруг покачнулась, и если бы Костик не подставил руки, она бы грохнулась головой об пол. Теперь они стояли, невольно обнявшись, и не торопились отпускать руки.
– Ой, – сказала Катя, натянуто засмеявшись. – Как это я… Не удержалась…
– Я сильный, удержу! – сказал Костик.
– Правда?
– И никому не отдам… Всю жизнь…
Он поцеловал Катю, а она вдруг заплакала.
– Катя! Катенька! Я тебя обидел?
Она помотала головой.
– Ну, честное слово… Я не хотел… Я не думал… Так получилось само, что…
В это время раздался стук в дверь. Оба притихли и будто сжались. Они давно забыли, что кроме них и подвала существует в природе другой, более реальный мир, и он вовсе не собирался их оставлять в покое. Во всяком случае, тетка Зина.
– Открой, – сказала она. – Ты с кем там разговариваешь?
Катя помолчала и ответила, глядя на дверь:
– С собой… А что, нельзя? Я вам и здесь мешаю?
– Да, мешаешь, – повелительно сказала Зина. – Открой-ка, поговорим!
– Не хочу.
– А ты через не хочу. Мне тоже небось не очень нужно. Но я же пришла… Сама… – Катя молчала. – Открывай давай. Дело есть.
Катя показала Костику на окошко, и он понял. Быстро подцепился и через несколько секунд его не было видно. Катя посмотрела ему вслед, поправила волосы и платье на себе, потом подошла и с неохотой отодвинула задвижку. Зина стояла на пороге, щурясь и пытаясь разглядеть внутренность подвала. Может, она что-то заподозрила.
– Чего залезла-то? – спросила миролюбивей. – Хочешь доказать Чемоданчику, какая я злая… Несправедливая… Вот, мол, смотрите, люди добрые, Зина уже и не сажает, так я сама… Разнесчастная… Сама сюда лезу…
И тут она всхлипнула.
– Ну, теть… Зин… – попросила Катя, совсем не зная, как теперь вести с ней себя. Со злой – знала, а с доброй – нет. Ведь и правда же, не сажала ее Зина, и значит, не была виновата ни в чем. – Я, наверное, глупая… Я сейчас поняла… Но я же хотела как лучше… И тебе и мне…
И тоже всхлипнула. Так они стояли на пороге погреба, уткнувшись друг другу в плечо, и ревели, а почему ревели, спроси, и сами не смогли бы объяснить.
– Одному Чемоданчику лучше! – сказала, сморкаясь, Зина. – А мне-то чем? Я ведь не чужая… Только я жить не умею… Когда твоя мать умерла, я пошла в буфет, думала, хоть при продуктах будем… А когда обокрали, я и испугалась: посадят, а выйду из тюрьмы совсем старухой… Кому буду нужна? Ну и… – Хотела произнести слово «запродалась», но махнула рукой. И так было понятно.
А Катя терпеливо стала утешать Зину и говорила:
– Зин, ты не думай… Я все сделаю… Я же понимаю…
– Если бы! – сказала, глубоко вздохнув, Зина и вытерла передником лицо. Была она в фартуке, видно, что-то наверху готовила. – Это я, Катя, все сделаю. Я оформила документы на Толика… На дом, на наш… Но я не отдала! – И со страхом ждала Катиного ответа. Вот уж очевидный факт – дура девка, а за советом к ней прибежала, а не к кому-нибудь. Верила, значит?!
И Катя миролюбиво ответила:
– Вот и хорошо. Хорошо, Зина. И отдай! Отдай ему!
– Думаешь, не обманет? – испуганно спросила Зина.
– Он же тебя любит.
– Правда?
– Ну конечно, – Катя была убеждена в том, что сейчас говорила. И еще она знала, что Зине надо говорить о любви Толика. Она, Зина, верила в это. Другого у нее не было, зачем бы ее разубеждать!
Зина огляделась, глаза-то попривыкли, почему-то взглянула на окошечко, куда недавно скрылся Костик, осмотрела с ног до головы племянницу.
– Ты вот что… Отряхнись и выходи. Чемоданчик ходил к дядьке твоему… К Букате… Сердитый вернулся… Тебя спросил, а я возьми и соври, мол, к соседям побежала… А он вдруг и закричит: «Это у нее там хахали! Хахали! Я все знаю!» А что он может знать! Дурак!
Тут она насторожилась, потому что послышался ей голос Василь Василича.
– Бегу! А ты приходи! Только почисться, а то вся в пыли… Фу!
И Зина ушла. Тут же всунулся в окошко Костик, что-то протягивал, держа на ладони.
– Тебе, – сказал он и подул, как дуют обычно на птенцов. И тут она увидела, что это крошечный желтый одуванчик.
– Одуванчик? Первый? – она приняла на свою ладонь и погладила как живого. – Спасибо… – тихо сказала она. – Первые цветы в моей жизни… Я знала, что дарят… Но я не знала, что мне… Что я… Что я имею право, вот так… Получать… – и запутавшись, она чмокнула Костю в щеку.
Он тоже попытался ее поцеловать, но она отстранилась.
– Не надо, – попросила.
В это время голос Зины со двора, видно, второй раз спускаться было лень, окликнул Катю, скоро ли она собирается выходить… Чемоданчик лютует…
– Вот. Слышал? – спросила она шепотом Костика.
– Не пущу, – отвечал он.
– Ну, что ты…
– Ты меня знаешь, – предупредил он. – Я же сказал: не пущу!
Катя оглянулась на дверь, подошла и заперла ее. Потом вернулась к Костику и взяла его лицо руками. Гладила и повторяла:
– Ты же самый хороший… Ты самый любимый… Мой… Только не надо меня держать… Я должна идти.
Он поддался ее ласкам, но повторил:
– Не могу отпустить! Не могу!
– Тогда еще хуже будет… Милый!
– Катерина! – крикнула Гвоздева и постучала в дверь. – Иди скорей, там еще дядя пришел… Скандал!
Катя схватилась за голову и засуетилась, уже не видя Костика.
– Ой, одно к одному… Одна беда не ходит… Другую тащит… Сто лет он не заходил, и в такой-то день…
Остановилась, в отчаянии посмотрела на Костика, который встал у дверей и не спускал с нее горящего взгляда.
– Прости! Прости! Ну хочешь, жди меня! Только не здесь! Здесь они тебя увидят… Они расправятся… Около дома жди! Ладно?
– Когда? – спросил Костик, уступая. Хотя все говорило ему, что не надо сейчас уступать. Не надо. Не надо. Не надо.
– Не знаю, – торопилась Катя. – Ничего не знаю! Прощай, родной! Прощай, милый! Прощай!
Катя выскочила во двор и тут, у террасы, замерла, завидев собак.
Подумалось вдруг, что столько от утра прошло времени, а ничего в ее мыслях не изменилось, и она сейчас по-прежнему думает лишь о том, что не знает, как ей дальше жить. То есть знает, что жить не надо, потому что всем от этого хуже… И Зине, и Костику, и дяде, наверное… Вон, сам притащился… Стемнеет, подумалось, она в спасительный свой вернется подвал… Там, за бочкой, веревка у нее… и… «Мери, Мери, чудеса, летит Мери в небеса…»
26
Наверху, на просторной террасе, замученная, засуеченная в своих собственных растрепанных чувствах Зина в который раз ставила самовар, пытаясь и чаем, и водкой, и согласными словами ублажить, задобрить Чемоданова.
И что с ним произошло? Уходил, она, правда, не видела, но был в порядке. Она уверена, что с утра он был в порядке. А вернулся, как чумной. Психопат, словом. Прям от дверей пошел шуметь, что она, мол, Зинаида, не знает, где шаландает ее Катька, а кругом шпаны много, и все остальное, такое же. Уж Зина старалась помягче стелить, умасливала и всякие слова про Катино воспитание говорила, что с ее-то напуганностью некуда ей уйти, он не затихал.
Зина решила: пусть Василь Василич сбросит лишний пар, а то раскипелся, как тот самовар, того и гляди, расплавится! А пока сходила за Катериной, сказав, что понадобится, и попросила девку выйти из своего добровольного заключения… Не терпится ее новобрачному посмотреть на невесту, так пусть глядит сколько влезет: удовольствие-то небольшое!
Сказала Катьке, а сама самовар раздула. Заварила чаю с мятой и села сама пить. Чемоданов же пить отказался.
Перестал шуметь, стал ходить. За спиной у Зины ходил, гремя сапогами: от стенки до стенки. Все копил про себя, все выдерживал да за стекло поглядывал: не идет ли? Не выдержал и сказал прямо ей в затылок:
– Ты это нарочно, да? Я знаю, что нарочно… Как утром на твою физию поглядел, понял! Недолюбливаешь, Зиночка, ты меня!
Она продолжала молчать, уткнувшись в блюдце.
А он кого-то за стеклом увидел, напрягся, но понял, что не Катька, спросил рассердившись:
– А это кто пошел?
Зина подняла голову, но никого не было видно за деревьями. Может, и проходили, не без этого, разве за всеми уследишь.
– Не знаю, – сказала. И снова воткнулась в блюдце. – Улица. Кто хочет, тот и ходит.
– А чего смотрят? – допрашивал Чемоданов.
– Да кто ж смотрит-то? Никто и не смотрит, – отпиралась Зина, но лениво так, чтобы вовсе не разозлить гостя.
А он злорадно настаивал, что смотрят, что не улица тут, а проходной двор, и все небось к Катьке шастают, у них и знак какой существует тайный, что посмотрят издалека и узнают, можно или нельзя им заходить…
«Вот сдурел на старости лет», – подумалось Зине. Никогда она не слышала про какие-то тайные знаки. Это от головы дым пойдет, если заранее все такое придумывать, как в кино… С ней, правда, было раз, когда заночевал командированный, а тут этот скаженный Лешка приперся, а ведь не ждала его, потому что он накануне надрался сивухи и был неведомо где. Так она и того и другого по разным местам разложила, а сама отдельно легла. А утром им бутылку одну на двоих поставила, и оба познакомились и довольны были… Но знаки… Господи, это у Чемоданова от затмения, не иначе!
– Ты что, спятил? – спросила она его. Но опять миролюбиво спросила, чтобы до конца не злить. Но он продолжал горячиться:
– Не хочу быть в дураках! Поняла?
– Не кричи, – сказала. И стала наливать новую чашку. Налила, заварила и только после этого изволила ответить: – У Катьки сроду никого не было… Да и откуда? Она кроме рынка да вот этого, – кивок на стол, но подразумевался дом, конечно, – нигде и не бывает. Я даже хотела, чтобы она не была такой чистой, все равно испортишь!
Хотела Зина еще про подвал добавить, но не добавила. Вдруг да сообразит. А Зине в тот ее заход показалось, она еще у дверей ухом прикладывалась, что и вправду кто-то с Катькой там говорил… Будто голос несхожий, хотя когда Катерина свои сказки про разное говорит, она так иной раз себя изменит, что удивляться приходится… Артистка… И Зина, как ни всовывала в щель ухо, так и не поняла, что за голос, чей он, откуда… Сама себе не поверила: надо знать Катьку, чтобы понять, что ни с кем она не станет говорить! Пуганая девка-то! Настороженная к людям! Да еще Зина и к окошку приглядывалась в подвале: не пролезет в него нормальный человек… Никак не пролезет.
Чемоданов нарушил ход ее мыслей. До него, видать, долго доходило, что испортит он девку, но дошло.
– Ага! – крикнул. – Я говорил, что не любишь! И они, – кивок в сторону калитки, – тоже не любят… Даже собаки против меня! Все!
– Садись, попей чая, сейчас она придет, – утешила Зина и пошла на улицу, понесла собакам воды налить. Налила воды и крикнула так, чтобы на террасе не слышно было, мол, Катька, выходи, а то Чемоданчик твой совсем того… И вернулась с пустой миской… И он опять к ней, и все одно, все одно…
– Скажи, Зиночка, – твердит. – Я тебе что плохого сделал? Я виноват перед тобой? Так в чем? В том, что вытащил из тюряги?
Зина пила чай и не отвечала. Решила молчать. Меньше придирок.
– Или этому, прохиндею… Толику?
– А он-то при чем? – не выдержала Зина.
– Чувствую, – сказал Чемоданов. – Он меня тоже не любит! И Буката твоя не любит… Я тут в поселке, как волк, флажками обложен… Я ведь бояться начинаю… – И снова на окно. – А это кто пошел?
– Люди.
Зина и смотреть теперь не стала. Разобиделась за Толика.
– Почему же это Толик стал прохиндеем? А? – спросила уязвленно.
– На роже написано, – пролаял Чемоданов и вдруг, углядев в который раз кого-то за забором, выскочил на крыльцо и закричал на весь сад: – Ну, чего уставились? Не видели, как люди чай пьют?! Не водку! А чай! Может, стаканчик поднести? А? – Вернулся, сел и, набычившись, стал смотреть на свое отражение в сверкающем самоваре.
– Налить, что ли? – спросила Зина и, приняв молчание за согласие, стала наливать ему чай. Он не ответил на вопрос, думал о своем.
– Всем… Ну всем надо в твое нутро заглянуть… И не просто, Зиночка, заглянуть, но и плюнуть уж заодно! – принял от Зины чашку, пригубил, отставил. – Скажи… Зиночка… Ведь чем к людям лучше, тем они к тебе хуже, а? Ведь я жил, зарабатывал, продавал, покупал… Но я никому не мешал! Это мой принцип: никому не мешай жить! А вот твоя Буката мне вопросик подкинул, мол, где работаешь, Василь Василич… А Василь Василич на железнодорожном транспорте по интендантской части… Скажи так, не поймет! А ведь армия и есть армия, и все у нас по-фронтовому: и бомбят, и в окружение один раз! А что я ловчее других-то оказался и понял, где, никому не мешая, свою выгоду найти, так за это меня не казнить, за это награждать надо! Казнить надо тех, кто ленив, причем для себя ленив! Они мешок картошки в вагон на станции втащить да перевезти за труд почитают! А я не ленив! Так мой покойный прадед с такими замашками в купчишки вышел и семью свою из крепости откупил… И никак его дармоедом не звали: он моему деду в наследство фабрику оставил. А теперь что ж? На печке сидишь, ждешь, когда пироги сами поспеют: хорош! А в поле вышел пахать, так кулак! А не дай бог, соседу помогнешь, так классовым врагом назовут и к стенке приставят! Мироед, скажут, ату его! И в продаже те же штучки: не поленился, купил ларь для продажи – спекулянт! На народном добре нажился! Да не надо мне вашего добра, у меня свово – во! Только не могу я сидеть на печи-то… Лень мне ничего не делать-то… Винт во мне такой, что двенадцать часов вертеться готов, лишь бы при деле… Причем всем от меня польза. А уж как начал вертеться, так деньги поплыли, нужно быть вовсе безмозглым, чтобы не видеть, как они там и сям без пользы лежат, чтобы совсем мимо рта ложку-то не носить! Вот, Зиночка, даже порой интересно прямо спорт такой смотреть: как идет человек, а денежка на пути… Наклонится он или не наклонится за ней… И ты – вижу, вижу! – готова подсказать: кто ж не наклонится, если кошель на дороге положить? А вот те – и нет! Пройдет! Потому как нагнуться надо, и не дай бог, кто увидит! Отнимут, обвинят, а то и ограбят… А идти просто да ногой пхнуть, еще и молодцом назовут, вот, мол, каковы мы… Широкие… Плевать нам, мол, на это добро! А он так проплюет свое и чужое, то бишь государственное. А в конце-то хватимся – пусто… Не хозяин в доме, а дармоед на печи, который уж давно мечтал так жить, и в сказке про Емелю все это привлекательно даже выложил… Расписал… Он к царевне на печи поедет, и детей-то, вот смех, рожать придет время, он дворне прикажет… Ха-ха… На хрена ему свои органы затруднять, прикажет, и опробуют ему ту царевну… – Чемоданов закатился, очень даже ко двору шутка придуманная пришлась. Он отсмеялся, но не забыл своей мысли, которая буравчиком в нем остреньким сверлилась… – Дармоеда-то и растим! И кого посноровистей, того гоним… Унижаем… В подполье, считай, загнали… При всех унизили! А разве мой прадед крепостной смог бы спину-то расправить, если бы из него пугало-то в то время сделали? Если бы ему руки в инициативе связали? Вот ты мне ответь?
– Значит, прохиндей? – спросила Зина.
Чемоданов с недоумением уставился на нее. Он-то себя вывернул, всю свою философию со зла наружу выдал, а она… Нашел перед кем бисер метать!
– Ты меня не слушаешь?
– Отчего, – сказала Зина. – Ты говоришь мне, что Толик прохиндей. Так? А я слушаю. И думаю, какая же я дура! Ты вот, Чемоданчик, никому не веришь! Всех боишься! Правильно, я тебя слушала? Вот, поняла! Ты со всеми в войне! И с Толиком! А я всем верю… И тебе, и Катьке, и Толику… А разве мне от этого лучше? И тебя обманывают, и меня обманывают… Одинаково, выходит?
Но из слов про обман, разобиженный на невнимание Зины, Чемоданчик ухватил лишь близлежащее словцо про обман… Заслышав, подскочил и тут же потребовал:
– Кто меня обманывает? Катька меня обманывает? Ты на кого намекаешь? Зиночка?
Но Зина не ответила. Молча встала и вышла. В этот момент и появился Букаты. Сам пришел.
27
Букаты до последнего момента не знал, как ему поступить: идти ему сюда или не идти. Уж очень двусмысленно все выглядело, если он соглашался на разговор с этим преступным Чемодановым. Но день складывался на редкость неудачно: центровщик не обнаруживался, начальство волновалось, а техника, ее выпуск, затормозился. Вот и решил он сам в перерыв к Ведерниковым домой сходить, поговорить с матерью Костика и все, что возможно, выяснить. Для лучшего воздействия Ольгу Вострякову захватил да послал вперед, сейчас, мол, догоню… Пусть поговорят, как баба с бабой, у них между собой это всегда лучше выходит. И получилось, что не старался, но все равно зашел к Зине, для того и зашел, чтобы не было этой самой надежды на него, в том смысле, будто он может поддержать всякое такое беззаконие. Вот каков был его окончательный результат. Но результат! А каких сомнений мучительных он стоил, знал только сам мастер.
Чемоданов все понял по-другому (и прав по-своему был). Он обрадовался, поднялся навстречу, встретил гостя на крыльце.
– А я знал! – воскликнул, повеселев. – Знал, что придешь! Папашка!
– Ты знал, а я не знал, – буркнул Букаты и оглянулся. – Где Зинка? Племяшка?
– Сейчас они придут, садись, – предложил Чемоданов и сам стул поставил. Букаты будто стула не заметил и сразу начал:
– У меня времени мало… Ну и хорошо, что их нет. Мужской, знаете, разговор…
– Мужской – всегда хорошо, – согласился Чемоданов и уже рукой показал на стул. – В ногах правды нет, будьте добры!
Букаты оглянулся на дверь, на окна и, решившись, сел, но так неудобно сел, на самый краешек, чтобы вовремя успеть вскочить. Стоя, по всей вероятности, чувствовал он себя тверже.
– Я в цехе с мужчинами привык больше… – как бы повторил он, приноравливаясь к себе, к своим мыслям, и беря нужный тон. – С бабами же, с ними всегда проблемы… То роды, то любовь… А то что и похлеще…
– А ведь правда! Папашка! Может, чаю? – спросил Чемоданов. Он весь был внимание, благодарный Букате за этот приход, означавший уже какое-то между ними согласие. А то, что сердится тот, упирается и привередничает, так он и должен таким быть. Не может настоящий мужчина сдавать своих позиций без боя. Вот как он все понимал. И шел сейчас во всем навстречу мастеру, давал ему возможность отступить почетнее.
Букаты от чая отмахнулся:
– Да нет… Я один живу, так от этого чая… Ладно. – И вернулся к своей теме. – Я, значит, про завод… У нас недавно мероприятие было: деньги вносили на танковую колонну… – Оторвался от стола и вскинул жестко зрачки – прямо как шурупами воткнулся в собеседника! – Ты когда-нибудь вносил деньги на колонну?
Чемоданов кивнул: вносил то есть. Но поскольку вопрос у Букаты был прямо с ответом, и прозвучало так, что, может, и не вносил, или даже: точно, мол, знаю, что не вносил, Чемоданов для солидности паузу сделал, и папироску достал, и закурил, и уж потом не спеша произнес, что дело это всенародное, и он, как любой патриот… Только у них сбор был последний раз на эскадрилью Кожедуба, а до этого на военный санитарный поезд для раненых… И уж напоследок он сумму назвал, чем и поставил точку.
Не верить ему было при таких подробностях нельзя.
Букаты поверил, во всяком случае, хоть и не хотелось ему знать, что этот щелкопер может с ним на равных в таких благородных делах быть. Да чего в наше военное время не бывает! Американцы, капиталисты, считай, и тех проняло, яичный порошок шлют да еще спасибо по-русски говорят… Отчего же свой брат, нэпман, не отложит толику, не отвалит от своего пирога кусочек…
Вот так Букаты повернул про себя ответ. Но мысль его текла дальше. Он торопился ее до прихода хозяйки выложить.
– Ну а я собирал… Главный, так сказать, по заводу… Знаешь небось, как это делается? Назначили меня от наркомата обороны ответственным и полномочным за этот самый сбор…
Букаты сказал это с достоинством, даже важно, но скрыл, что в свое время растерялся, когда это произошло, хоть и принял назначение безропотно: надо значит надо! Святое дело – деньги для фронта! Вывесил плакат, митинг собрал, и тут же, после митинга, велел записывать свои средства, а в табели ставил цифры, чтобы лучших взносчиков на красную доску и в газету вывесить.
Несли люди, сколько могли, кто много, кто меньше, но куча росла, и уж некуда было ее девать, и ящичек, который захватил из конторки непрактичный мастер, скоро заполнился, и рядом уж не помещалось… Тогда догадался кто-то из рабочих, притащил для рынка захваченный мешок из-под картошки… Пыль выбили да и стали туда валить! Целый мешок доверху и навалили! От всего цеха полмиллиона вышло! Никогда он таких денег прежде не видал: даже издали, не только вблизи! Поставил в своей конторке, прямо рядом со знаменем, а тут как раз генерал приехал, и залихорадило завод со сдачей танков, не до почетного эскорта с машиной да знаменем всей суммы, как это полагалось делать! Сунул он мешок в свой рабочий шкафчик, где одежда висела, и не вспомнил о нем. Только сегодня вспомнил…
– Сегодня вспомнил… – сказал Букаты и кряхтя поднялся. Но снова сел. Мысль не высказанная, видно, его угнетала, не давала спокойно отдыхать.
Чемоданчик с вниманием, даже большим, чем прежде, слушал, наклонив к нему голову, а на этой паузе подхватился и торопливо, но деловито вставил:
– Я слушаю, папашка! Ты докладывай дальше! Что ты вспомнил? А?
Букаты слышал или нет, но вздохнул, видно, припоминая, как он листал списки сдатчиков, скользил глазами по знакомым фамилиям, пытаясь угадать, догадаться, чего кому стоило отдать свои сбережения, а то и зарплату для этой боевой колонны… И кто сколько недоест, недопьет, то есть еще больше, как обычно – так надо ставить вопрос… Еще больше недоест и недопьет. И так ведь хлебали баланду да чайком перебивались, именуя его по привычке жареной водой… Будто бы так сытнее! Как и чай, то бишь кипяток, прозывали в шутку «белой розой». Оттого, мол, и чай-то белый, что заварен «белой розой»… Пусто, а с названием-то вкусней! Но не о том речь… Не о том!…
Подошел он сегодня к мешку после их разговора с Чемодановым и взвесил на руках. Полмиллиона… Лежат, считай, посреди цеха, поставь – у всех на глазах – не возьмут… Фронтовые, посудить, деньги! Да что рубли, он за свои тридцать лет и гайки не вынес, разве с дому что несут… А цех и есть для него дом… А тут, значит, поставил он мешок перед собой на стол, стал на него смотреть. Смотреть и думать. Вот, мол, полмиллиона. И столько же стоит моя племянница… Так как же возможно, чтобы этот мешок с мертвыми деньгами, если даже они в труде взяты, можно с живым человеком сравнить! Бумажка, даже самая ценная, все равно только бумажка! Не может она ценней человека-то быть! Не может, ведь правда?!
Это он не спросил, то есть не Чемоданова спросил, а себя, как бы рассуждая сам с собой. Он за своей исповедью про Василь Василича словно забыл и про то, где сидит, забыл, вздрогнул, когда Зина у него за спиной появилась.
– Здравствуй, Илья, – сказала. Будто он всю жизнь к ней приходил. Даже удивления не выразила. А Чемоданов на ее появление так объявил:
– Садись, Зиночка… Послушай, как меня тут в упор расстреливают… Казнят!
И усмехнулся, с любопытством поглядев на Букаты. Допер он, к чему этот железный старик ведет речь, хоть и не знал финала. Но суть он схватил. Ему даже интересно стало. Противник-то, выходит, пришел не сдаваться, биться пришел, а значит, вызывал у Чемоданова встречное уважение. Хоть вредный он, старик, ясно.
Но и Букаты оценил собеседника, тем, что одобрительно протянул свое «если бы…», давая понять, что тот недалек от истины, и он, Букаты, пришел с намерением решительным, и каждое его слово, как деньги в том мешке: высчитаны и взвешены и самоценны. И он, чем положено, отплатит.
– Если бы, – повторил он. И перевел суровые глаза на сестру. – Пусть слушает. Может, поумнеет… И вот странные мысли меня одолели: «А что, – говорю я себе, – Илья Иваныч, если взять этот проклятый мешок да, к примеру, украсть?»
– Какой мешок? – спросила Зина, но думала она о своем и была будто расстроена.
– С деньгами, – подсказал Чемоданов и подмигнул. Ему старик начинал нравиться. «Занятная, выходит, Буката», – молвил про себя.
Но тот не принял тона и к Зине, к ее вопросу, отнесся сурово.
– Молчи, Зинка! – цыкнул на нее и по столу пальцем, как некогда родитель, постучал. – Тебе теперь только молчать надо. А то и… Вон, пойди! По этому… По своему хозяйству!
Чемоданов защитил Зину.
– Зачем же, – покладисто сказал он. – Ей полезно знать, с кем она тут породниться собирается… – Но вспомнил про Катю, и голос изменился: – А ты ее… Нашла?
– Нашла, – сказала Зина. – Катя сейчас переодевается.
И будто не о ней спорили, решали, присела, придвинула к себе свою чашку с остывшим чаем.
– Пусть переодевается, – как постановил Букаты. – У нее свое дело, а у нас свое…
Помолчал и продолжил. Сбить его с курса было нельзя. Он шел, было понятно по его виду, как на таран, наклонив голову, белую, остриженную коротко. «Сам из металла, и волосы как из проволоки», – подумалось Зине, и сердце ее сжалось от предчувствия. Но он сейчас никого не видел и ни к кому не примеривался, и казнил он других тем, наверное, что пока-то на их глазах себя на площадь и на позор выводил. Но им до конца это еще не видно было. Сработало предчувствие у Зины, только и всего.
– Так вот, мысли, значит… Взять и свистнуть, говоря блатным языком, эти трудящиеся деньги… Их на танки пустят, в железо превратят… А тут человек… Девка… Но все равно… Так танков за войну мы столько наклепали, что всю Европу ими заполнить можно… Да уж и заполнили… А девка-то у меня одна! Перед которой я кругом виноват, потому что упустил… Не думал, что ее продадут да купят… Пропадет моя племяшка!
Тут Зина не выдержала, чтоб при ней такие слова говорили.
– Ты что, Илья! – с места в голос, в скандал. – Ты думаешь, что говоришь?
Но брат на то и брат, с ним не поговоришь. Особенно когда он такой, как сейчас: крут и беспрекословен. Стукнул по столу, чашка полетела на пол.
– Молчи… Твою мать! – рявкнул. И сам замолчал. Плохо ему стало. Схватился за сердце, Зина про эту болезнь давно знала. Нервы у брата ни к черту, и все его беспокойства сейчас ему выйдут боком. Не надо было ему приходить. Сбегала, налила валерьянки, из своих рук дала отпить.
Он смущенно пробормотал, отпивая, что вот… Давно болит… А сегодня из-за центровщика… Одно к одному… Вот пошло вразнос… И, уже отходя, добавил, что некогда с ним чикаться, с сердцем, черт с ним, со старым… Не железное же оно, впрямь…
– Может, тебе пора помолчать? – спросила Зина. И Чемоданов добавил, что поговорить они успеют, важно успокоиться. Здоровье-то превыше всего.
Букаты головой покачал:
– Нет. Не успеем. Я чувствую… Да я уже в норме, – добавил. – В норме… Это все от моей вины. Если бы не болело, было бы хуже. Я мог бы и правда решить, что оно железное! – и замолчал, размышляя. – Так вот, хожу я вокруг, смотрю на мешок, а рядом ребятки… Ученики все мои… Одного из них мы Силычем зовем… У него руки так устроены, не как у моего центровщика, которому бы на скрипке играть Ойстраха… А у Силыча – сила, он кувалдой орудует… Ну и бригадир, он же бугор по-нашенски. Однажды заклинило на башне люк во время приемки. Так он спиной уперся и чуть не вышиб его, только радикулит после, позвонки у него хоть и крепкие, но тоже погнулись… А он лезвие бритвы в кислоте, в «царской водке», расплавит и натирает позвонок… Но силу он сохранил… – И тут Букаты пристально, не отрываясь, посмотрел на Чемоданова. – Локтем походя зацепит, так ребра как не бывало.
– Ты что это, Илья, – опять вступилась Зина, почувствовав угрозу. – С ума, что ль, сошел? Ты же не убивца какой!
Но Чемоданов ее остановил:
– Пусть, Зиночка, выскажется. А мы послушаем.
Букаты кивнул, согласился.
– Сошел… В том-то и дело! Если уж меня довели до того, что стал о таком подумывать… Не попросить ли Силыча-то постоять вечерком у этого заборчика…
– Илья! – крикнула Зина.
– Не кричи, – попросил он. – Не кричи, Зинка! Я же рассказываю, значит, не попросил. И не украл мешок… И не попросил… Я сам пришел просить… Вот его…
– Поздно ведь, – устало произнесла Зина и, чтобы прекратить это самоистязание, стала прибирать на столе, что означало: хватит разговоров, пора и время знать. Не думала она, что так у Букаты может далеко это зайти. Молчал, молчал да выдал. Лучше б уж молчал!
Но Чемоданов Зининого намека не понял. Не захотел понять. Внешне он был спокоен, но, видно было, завелся.
– Почему же меня? – спросил впрямую. – Просить?
– А кого? – вскинулся Букаты. – Ты у нас тут – бог! Пришел, а может, приехал… Всех победил! – Он машинально взялся рукой за сердце, но, предупреждая Зинино вмешательство, так на нее посмотрел, что она и про посуду забыла, села, глядя на него с испугом. Он продолжал громче: – А я седой человек, старый дурень, к моим годам ничего и не нажил, и не имею, кроме мешка с чужими деньгами… Который, вот беда, вот несчастье-то, я и украсть не умею… Так я тебя прошу… Боже… Не губи ты нас… Всех нас… Зинку-дуру, она все-таки глупая, но добрая! И меня не губи, и Катьку… Хочешь, мы у тебя все прислуживать станем. Ну что захочешь, боже! Что захочешь…
Тут Букаты лицо руками закрыл и на колени опустился, а потом упал.
Зина всплеснула руками, вот до чего дошло, и бросилась к лекарству, потом к Букаты… А тут вдруг Катя вошла в пестреньком новом платье. И она бросилась к дяде, пронзительно закричала:
– Дядя! Дядя! Ну помогите же! По-мо-ги-те!
28
Букаты вывели под руки на улицу, рубаху расстегнули, отпоили, успокоили. И уже через пятнадцать минут он сидел на скамейке в саду, а рядом сидела Катя в качестве сторожа, чтобы он по глупости и по характеру не вздумал уйти. Хоть порывался он, ясное дело. Катя повторяла:
– Вам, дядя, нельзя. Еще нельзя. Посидите.
– Работа же, – сказал он. Короче и не скажешь. Все в одном слове.
– Подождет ваша работа, – отвечала Катя, но держала крепко и даже встать не давала. Прямо-таки висела на руке.
Он вздохнул, но руку выдернул.
– Не бойсь… – произнес. – Не убегу. А вот работа… Тут уж не спрашивают, чтобы ждать…
– А сердце?
– А танки?
– Но без сердца какие же танки? – спросила Катя.
– Нет, Катька! – Он насупился, покачал головой. – На войне как на войне. Кто способен, тот еще воюет. А кто не способен…
– Но вы же не способны…
– Вот, – кивнул. – Кто не способен, как смертельно раненный все равно, тот венок себе заказывает… Туда! А я, племяшка, я еще себе кажусь способным!
Тут он встал такой решительный, что Катя поняла, удержать его не может.
– Но хоть помогу… – И оглянулась, тут уж с террасы бежала Зина, чтобы тоже помочь.
– Илья, – произнесла. – Ну еще десять минут… Ведь что случится дорогой…
Он отмахнулся и пошел, придерживаемый Катей, только пробормотал:
– До смерти ничего не случится… Бывайте!
Но тут появился Чемоданов. До поры он к Букаты не подходил. С тех самых пор не подходил, как помог вывести в сад.
Он будто издали наблюдал за ним да ходил по дорожке. От калитки до дому и обратно. Как циркулем, ногами мерял и мерял…
Но когда Букаты поднялся, он немедля повернулся и выскочил ему навстречу. Так что встал прямо на пути.
– А я? Как же я? – спросил. Выглядел он сейчас далеко не победоносно.
– А ты-то чего? – недовольно упрекнула Зина. Не хотела она, чтобы начинался новый разговор, хватит и старого.
Но Чемоданов на нее и не взглянул, а смотрел он лишь на Букаты и будто от него ждал какого-то очень важного ответа. Но не дождался. Взгляд у Букаты был медленен, устал, и уходил он куда-то в сторону, за спину Чемоданову.
Но не таков был Василь Василич, хоть явно уже им пренебрегали: не видели, насквозь не хотели его видеть!
– Выходит… Что же выходит-то… – опять спросил он. – Что меня тут у всех на глазах чудовищем изобразили… Змеем Горынычем! А я утерся рукавом, будто не было… И ответить уж не могу? Так?
– Помолчи, Василь Василич, – попросила Зина, стараясь быть помягче. – Неужто не видишь, больной он… Ему бы полежать спокойно… А он сам дергается, да мы помогаем…
Но Чемоданов не поддался на такие уговоры:
– Ты вот что, Зиночка… Ты иди на веранду, займись посудой… Катька тебе поможет… А мы еще с братцем твоим два слова друг другу скажем… Нет, нет! – сказал он твердо. – Не бойся! Я с ним спорить не буду, даю слово! Я только кое-что скажу, а он выслушает. И уйдет… А если не захочет, так я прекращу… Как? Папашка?
Букаты не долго думал, кивнул. «Идите», – махнул женщинам. Вернулся к скамейке и сел, а Чемоданов остался перед ним стоять.
– Ты ведь опять не поверишь? – спросил Чемоданов.
– Не поверю, – ответил Букаты.
Помолчали.
– Не думай, что это все… Как бы тебе сказать… Ну, от твоих тут откровений, – начал, запинаясь, Чемоданов. – Раз ты сам считаешь, что тут есть твоя вина, так пусть она и будет… Только теперь продуй уши и послушай другую сторону… Папашка… Я ведь Катьку-то люблю.
– Полмиллиона твоя любовь стоит, – сказал, как отрезал, Букаты.
– А ты не верь! Не верь! Но ты слушай! – горячо, но и просительно, а вовсе без своей былой уверенности произнес Чемоданов. – Ты можешь представить человека, которого бы Толик привел с улицы в этот дом, а он тут же выложил бы полмиллиона за бабу… За Зину, чтоб ее только не посадили? А на кой лях, спрашивается, нужна мне эта баба? На кой лях, спрашиваю?
Букаты не отвечал. Он слушал. И то хлеб. Так решил Чемоданов и продолжал:
– Да я, папашка, тогда в первый свой приход Катю, Катюню мою, увидел… И весь год о ней после думал… Не о деньгах, а о ней, так было дело… Ты вот спросил давеча, какая у меня по счету жена… В каком городе… Была жена, не спорю. Но вот без жены я, для Кати дом держу… Ковры и прочее для нее. Все представлял, как она босыми ножками пойдет по ковру… Не в подвал, не на рынок с яблочками-то… А по дому пойдет… Своя… Родная… Я уж к ней привык, пока ждал, что она пойдет босыми ножками по ковру, своя…
– Может, ты и привык, – возразил угрюмо Букаты. – А она к чему привыкла?
– В том-то и дело! – воскликнул Чемоданов. Он подсел к Букаты и сбоку к нему обращался, чуть ли не за борты пиджак хватал в знак внимания. – Папашка! Я уж сюда ехал, все думал, как это будет… Выпил для храбрости-то… А она возьми да согласись… Сразу… Сразу-то! Я и сломался…
Он вскочил, подошел к террасе, чтобы понять, что его не могут слышать, и вернулся обратно. Доверительно заговорил, понизив голос, что никогда он бабам не верил… А их было много, всяких-разных… Корыстных, хитрых, говорливых, хозяйственных, ленивых, и дур было немало… То есть дур было даже больше чем нужно, хотя еще было больше корыстных… И одно их всех объединяло: равнодушие к нему. Он-то сам и его душа никому из них не были нужны! Сгинь он, исчезни, и не вспомнят… Обуви не сносят, выскочат замуж, и даже имени не вспомнят…
– До чего с Катей дошел-то, – вдруг произнес он. – Ревновать ее стал… А ты, папашка, когда-нибудь любил?
Спросил и жадно ждал ответа. За свою откровенность мог он ожидать и откровенности. А Букаты смутился.
– Да нет… – пробормотал. – Я в цеху больше… Тебя как по имени-отчеству?
– Вася, – с готовностью отвечал Чемоданов. – Василь Василич, значит.
– А вдруг, Вася, – спросил Букаты. – А вдруг и эта… Племяшка-то моя тоже из-за денег?
Чемоданов даже испугался такого предположения. Вскочил, оглянулся, горячо стал возражать:
– Нет… Нет! Такого не может быть!
Он и в карман полез боковой, достал какие-то сложенные аккуратно бумаги, стал совать их под нос Букаты со словами: «Вот они, расписки-то! Вот!»
– Ну и что? – удивился Букаты. – Не видел я расписок, что ли?
Но Чемоданов уже не слушал его, он добежал до террасы и побарабанил в стекло.
– Зина! – позвал. – Зина!
Выглянула испуганная Зина и прежде всего посмотрела на Букаты, убедилась, что он в порядке, то есть здоровый сидит.
– Чего? – спросила.
– Иди сюда, – сказал Чемоданов. – Иди… С Катюшей иди-то! Покажу тебе что-то!
И опять размахивал своими бумагами, был он, сейчас стало видно, крайне возбужден.
– Ну? – спросила, подойдя, Зина и уставилась в его руки.
– Узнаешь, Зиночка?
– Узнаю.
– Сколько их тут?
– Много, – сказала Зина, не спуская испуганных глаз с расписок.
Она-то уж знала им цену.
– Сколько? – крикнул Чемоданов.
– Ну, пятьсот… – произнесла Зина и запнулась, не в силах продолжить.
– Тысяч! – подсказал восторженно Чемоданов. – Это тебе, папашка, тот самый мешок! Теперь смотри!
Чемоданов резким, торопливым движением стал бумажку за бумажкой рвать, отбрасывая на землю. Руки его дрожали.
– Вот так! – повторял он. – Вот так! Вот так!
Расправился, будто со своим врагом, и остановился, рассматривая блуждающими глазами клочки бумаг, которые покатил по саду ветер. И все смотрели на эти клочки: и Зина, и Катя, и суровый Букаты…
Первой опомнилась Зина. Она всплеснула руками, недоуменно, будто чего-то не понимала:
– Это что же, Василь Василич? Ничего… Не должна? Мы не должны? Правда?
Чемоданов кивнул, уставясь в землю. Зина присела на колени, подняла один из клочков и, точно, увидела свой почерк, и тут лишь до конца поверила, что она свободна. Всхлипнула, бросилась к Кате, стала тормошить ее, наверное, тоже ничего не понявшую, до того она была неподвижна.
– Катя! Катя! – всхлипывала. – Это же спасение! Катя! Целуй ему руки! Ты что, одурела? Не слышишь?
Катя испуганно посмотрела на Чемоданова, на землю, где еще трепыхалось несколько клочков, на Зину, которая была в истерике, и сказала медленно, без чувства:
– Спасибо… Василь Василич… Вы, правда, добрый человек…
Чемоданов уже пришел в себя. Он смог улыбнуться, хоть был он бледен.
– Не стоит, Катюня! Я ведь для тебя… Я хотел, чтобы ты поняла, что я никого и ничего здесь не покупаю… А ты свободна… Катюня… Я тебя, правда, люблю… Вот и все… – И, посмотрев на Букаты, он добавил: – Я счастлив, что не хуже вас! Что не железный! Так-то, папашка! Клепай свои танки! И береги мешок! И ни о чем не думай! – Он зевнул и потянулся. – Пойду-ка я посплю…
29
Вдруг набежала неведомо откуда туча и пошел дождь, крупный, отвесный, сверкающий на солнце.
Все в комнате за сценой, забыв про свои разговоры, повернулись к окну. Где-то вдалеке громыхнуло. Дождь припустил гуще, стало слышно, как за окном в трубах гудит вода.
Все вдруг заговорили о том, как это хорошо, что дождь, что гром, потому что предвещает тепло, особенно если промочит землю и грядки.
Вернулся в комнату Зелинский, выходивший покурить. Он стряхивал с лица капли, а войдя, сказал:
– Слышали? Геринга поймали!
– Где? – спросила Князева с любопытством.
– Не знаю. Там по радио с площади… Ничего больше не разобрал.
– А что с ним будут делать, Вадим Петрович? – спросила Князева. – Ведь их казнить мало!
Зелинский подошел к окну и стал тоже смотреть, как весело гуляет по кустам вода. Ответил, не оборачиваясь, что, по его мнению, будут судить… Всенародно… За все страдания… – И вдруг совсем о другом: – Нам-то долго ли заседать?
– Уже недолго, – отвечала Князева. – Там еще несколько свидетелей. Да вот Ольга от завода с обвинительной речью… Она там вовсю Ведерникова клеймит!
– А что ж его жалеть? – спросила Ольга. – Я так скажу, что он дезертир, прогульщик, хулиган…
– И военный преступник, – пошутила Князева.
– Пусть и не военный, – сказала Ольга. – Но раз он судится, значит, виноватый!
– Ну что вы, Ольга Викторовна, – удивился Зелинский. – Совсем не обязательно.
– Не хотите подышать озоном? – спросила Князева у Ольги.
Дождь, видно было, как неожиданно начался, так и закончился в одночасье. Лишь крупные капли падали с веток.
Они вышли на крылечко, глядя на этот промытый дождем мир. Воздух серебрился, дышала земля, и на ней разливался особенной свежести аромат.
– Может, ты и права, Оля, – начала Князева, что-то от последних минут заседания будоражило ее, искало выход для слов. – Я не хочу никого оправдывать, особенно всяких гуляк, которые пропивают свою жизнь. От них-то все наши беды. – Она посмотрела в глубину палисадника, в сиреневое сплетение голых веток, и вдруг ясно представилось, как в глубине набухшей древесины бежит, бежит чудодейственный сок для завтрашних листьев. И улыбнулась. И пожалела, что не может ничего рассказать этой девчонке из своих фантазий, разговор ее немного о другом. – Но скажи, как на духу, Ольга, – и тут посмотрела она в лицо девушке, что-то в нем выискивая для себя важное. – Скажи, ты хоть по улице-то гуляла? Ну так, чтобы от утра до вечера… Чтобы в киношку заглянуть, на траве полежать, на лавочке побездельничать?
– Я так не гуляла, – будто с вызовом ответила Ольга. Но, наверное, даже такой ее тон не показался ей достаточным. Она быстро добавила, подчеркнуто выделяя слова: – И я не хочу так гулять.
– Почему же? – спросила Князева. Она чуть не рассмеялась, но побоялась обидеть свою собеседницу. Разговор-то был серьезный.
– Потому… – начала Ольга и запнулась. – Мы бережем свою рабочую честь. И вообще, у меня общественные дела!
– У всех общественные, – вздохнув, произнесла Князева, поняв, что ей, кажется, не пробиться к Ольге. Она еще по инерции сидит там, на суде… – Я тоже давно не гуляла. А мороженое… Я даже не помню… Я не знала, оказывается, его и вправду опять продают… – Она в раздумье поглядела на деревья, решаясь, откровенничать ей или нет. Не может же быть эта Ольга всегда такой деревянной, вон и деревья лихорадит перед листьями. И в ней, в Ольге, где-нибудь потаенно движутся, пусть медленно, свои соки… И срок их придет!
– Вот до войны, – начала свой рассказ Князева, но смотрела теперь только на деревья. – Илья Иваныч Букаты помнит, когда я после свидания не пришла на работу… Мы гуляли по парку, и Коля, его так звали, купил мне самое огромное мороженое, оно стоило, помню, рубль! Вот такой круг! Их накладывали в железную круглую формочку, а по бокам зажимали круглыми вафлями, да вы знаете! А на вафлях имена: кому какое попадет. А я взяла в руки мороженое, никогда я такого большого не ела, и ахнула: на одной стороне на вафле стояло мое имя, а на другой стороне – его! И я решила: судьба! А потом… Так вышло, поехала я на районные соревнования, я тогда легкой атлетикой увлекалась, и в районном кино шла очень смешная комедия «Сердца четырех», видела? Вот. Я вдруг рядом увидела его вместе с девушкой… Пока сидела полтора часа, что ни передумала… И повеситься хотела, и убить их обоих или его одного… Ревела, весь смешной фильм проревела!
В это время их позвали, и Князева, снова взглянув в глаза Ольги, спросила:
– Пойдем? Будем обличать? – с какой-то необычной интонацией.
– Будем, – уверенно сказала Ольга. И ушла.
А Князева еще раз задержалась взглядом на этом палисаднике: очень не хотелось ей отсюда уходить в тяжелый этот клуб, на сцену, с ее искусственным освещением, с подростком в углу, щуплым и странным таким подростком, которого, не видя, еще вчера она про себя осудила, а может, и сегодня вслух осудит, но уже не было в ней такого внутреннего напора, который бы ей подсказывал, что все она делает в отношении его правильно.
30
День у тети Таи выдался хлопотный, нервный.
Все началось от раннего утра, когда проспала и переволновалась, провожая сына Костю на работу. Но и в школе, в классах и коридоре, было шумней, но, понятно, грязней тоже. Весна ли, близость каких-то особенных событий, только все точно с цепи сорвались, хаос на перемене, но и гул, и передвижение во время занятий. Школа-то двухэтажная, деревянная, в ней как в сарае все слышно. Да вот и учителя, они-то какие непохожие на себя: один повел детей в рощу, показывать, как птицы поют, а другой в садике прививку на деревьях объясняет, а еще учительница, очень уважаемая тетей Таей, вдруг самодеятельность стала репетировать, да все во время занятий, это ли не новость! Натащили грязи из леса и сада, а военрук, голубоглазый Санька, он и на фронте побывал, но как был на поселке хохмач и выжига, так и остался, устроил во дворе строевые песни и тем совсем доконал уборщицу. Не школа, а театр сегодня. Отшуровала она щеткой по углам и, отчего-то рассердясь, что порядок привычный, незыблемый нарушен, ушла скорей домой.
Решила подремать и успокоиться. Костька приходил после семи, времени до него оставалось много.
Вдруг прибежал Володя Почкайло, бригадир над Костькой, и стал спрашивать о Костьке, когда ушел и куда… Да, господи, куда же он мог уйти, он три года с закрытыми глазами все по одному маршруту топает. Столько дорогой обуви сносил, и все на завод да обратно. Еще и обратно не всегда, потому что и день, и два, а то и неделю их там на раскладушках держат, когда выпуск продукции горит…
Так она Володьке-Силычу и объяснила, удивляясь на его вопросы. Еще его спросила: «А ты сам-то, что ль, иначе ходишь? Об чем же мозги у вас у всех, если не о своих «тачках»?» «Тачки», так Костя ей велел говорить. А Силыч подтвердил, что все правильно, и других у него проблем нет, а вот ее Костька чего-то запоздал или, как они и встревожились, не заболел ли? Всяко же бывает!
С тем ускакал к себе на завод.
А она осталась думать. И опять на ум пришло, что начался день нескладно, и в школе продолжился наперекосяк, так ждать от него и далее хорошего нечего. Вот и с Костькой тоже… И чего, спрашивается, опаздывать, если он вовремя на работу выскочил… Может, дорогой под кустом заснул? Ведь было так. Тетя Тая выпроводила его как-то утречком, а вышла ведро вынести, а он как шел, уткнулся в забор и уснул… С тех пор, считай, и носит она пузырек с нашатырем в кармане.
Не додумавшись ни до чего, вышла она на улицу и вдоль улицы поглядела, но никого, кроме соседа Васи-портного, не увидела, который на своих костылях уже с утра – ни свет ни заря – по улицам вымеряет. Она крикнула издалека, не видел ли он Костьку? А Вася кричать не стал, не спеша на костылях приблизился и стал говорить, что не знает он теперь Костьку-то, забыл, каков он из себя, небось, вырос?
Да где он вырос: в танке горбеть да улиткой сидеть, разве там вырастешь? Но все равно, сказал, не видел, много всяких мельтешит, суетится: кто кричит, кто волнуется, а кто плачет, а понять, что к чему, недоступно ему, он забыл, как в мире-то живут. Смотрел, смотрел, а ничего не понял. Но его лично понимание на этот счет, что из людей нервы выходят, почувствовали они конец страданиям… А под конец даже ночь всегда темней делается…
Какая такая ночь и о чем он, не поняла тетя Тая. До ночи, по ее понятиям, ох как далеко. Но молвила ему мысленно, глядя, как ковыляет он, мол, ходи, Васька, ходи, чего не ходить… Отдыхай от врагов, скоро тебе шить да шить придется! Много людей обносилось, и все довоенное потребили, и нужны людям портки да рубахи, чтобы снова на людей, а не на солдат одинаковых походить…
С тем ушла она, прилегла.
И сна вроде не было, а показалось ей, что видит она, будто школа их деревянная прям в Москве стоит, рядом с баней, где однажды Костька ее мылся в бассейне. Это когда его отправили за ударный труд на съезд передовиков из трудовых резервов; в Колонный зал и на Красную площадь… На целых три недели Костька пропал… Сообщали, что задержали, мол, на столичном заводе, и опыт он свой передает. А как вернулся, так она с вопросом, ты что ж, Костька, и письма не написал, что тебя задерживают… А он зубы сжал и молчок… Не узнать, как похудел да изменился. Только во сне про какие-то трупы… И про бомбежку, и про окружение… Спятил, решила она, и воды из церкви свитой принесла да окропила… В кино ли там, в Москве, насмотрелся, что ли, что кричит по ночам! А потом прошло. Но про Москву говорил он вяло, вот про баню все больше рассказывал да про метро, которое под землей ездит…
Так вот видит тетя Тая во сне, что в бане в бассейне Вася-портной моется со школьным военруком, а там и другие учителя, и Костька будто мелькает, а никак его не разберешь среди других-то! Приблизилась к краю тетя Тая и в изумленье пришла, что и не бассейн это, а их река, да воду-то как по весне гонит, мутную такую, грязь одна… И уж она на мосту стоит, а Костька ее, вот теперь лишь разглядела, на лодочке своей летит, бревна ловит… Эту лодчонку они, вмерзшей в лед, еще два года назад выловили, подконопатили и ездили на ней ловить по весне бесхозные дрова. Но то вдвоем, а то Костька один пошел да зазевался, не видит, дурачок, что несет его на сваи: вдарит, в щепу разлетится… Охнула она, захотела закричать от страха и проснулась.
Полежала, прикидывая, что ж это за сон, в котором вода и мост… Грязная вода – к скандалу да неприятностям, и мост туда же, перемена жизни, но ведь перемена-то нехорошая, если вода грязная. А Костька? Ударился он или нет, будто загрохотало, вот уж в ушах этот грохот стоит…
И поняла: кто-то стучится, а ей со сна стук за катастрофу привиделся, вот какое дело. Уж не Костька ли? Встала, охнув, шею от неудобного сна прострелило. А в дверях Ольга, подружка по цеху, где Костька работает, а позади и сам мастер Илья Иваныч стоит.
– Вот шли и зашли, – сказал Букаты, он почему-то решил, что напугали они тетю Таю сильным стуком. Сперва-то стучали нормально, уж решили, что дома нет никого, забарабанили напоследок, тут она и открыла.
– Заснула я, – произнесла виновато и пригласила в дом. – Заходите. Уж не помню, когда у нас были.
– А когда быть! – сказал Букаты. – И днем и вечером – все работа.
– Это сегодня рано, в цехе неприятность, – вторила Ольга, но Букаты резко одернул ее: «Помолчи».
Тетя Тая уловила про неприятность и спросила, что же стряслось, вот и она сон неприятный видела.
Но Букаты отмахнулся:
– Так, ничего, – и, садясь за стол, поинтересовался, оглядывая комнату: – Костя твой как поживает? Он здоров?
– Здоров, – сказала тетя Тая и посмотрела на Ольгу, у той на лице отпечаталось что-то, что их привело и что до поры скрывал старый мастер.
– Доволен жизнью?
– Кто? – спросила тетя Тая, дивясь странному вопросу.
– Да кто, Костя! Кто ж еще!
– А чего ему не быть довольным… Ест, пьет, спит, работает…
Тут она не выдержала:
– Чего случилось-то? Вы чего пришли? Узнать про здоровье Костьки? Так он не при мне, а при вас состоит! Вам-то лучше знать, чем он доволен, а чем недоволен!
Выговорилась и испугалась, поняв, что неспроста они спрашивают, и сон тот странный неспроста. Что-то случилось с сынком-то, вот и Володя-Силыч так же прибегал, выспрашивал… И эти все намеки делают… А впрямую-то не говорят.
– А у нас паника, – опять влезла Ольга, и Букаты снова ее остановил: – Да постой ты, – хотя понятно было, что пришли они не с добрыми вестями. Кто же это во время работы заходит так посидеть?
– Он утром у тебя куда пошел? На работу?
– На работу, – отвечала тетя Тая.
– А никуда не собирался еще идти?
– А куда? – спросила в свою очередь тетя Тая. – У него и таких мест нет, чтобы идти. Кроме вашего цеха, он и поселка-то не знает. Другие в избу на танцы ходят, а он и туда не идет. Вот разве… – произнесла тетя Тая и замолчала, губы поджала.
– Чего разве? Ну, говори?
– Да ничего. Я так подумала…
– Да о чем подумала-то?
– Тетя Тая, – сказала Ольга. – Очень важно, если скажете, куда мог пойти Костик… Понимаете?
Тетя Тая растерянно кивнула:
– Я подумала, может, он на реку ушел?
– Куда?
– На реку, мы там лодку старую имеем.
– Зачем? Теть Тай?
– Не знаю, – призналась она. – Приснилось мне, что он на реке…
– Ох, – только и произнес Букаты и закрыл лицо рукой. Видно, что устал он, осунулся, побледнел даже.
– Может, чайку? – спросила участливо тетя Тая.
Он покачал головой.
– Вот от сердца… Ничего нет?
– Есть! – она даже обрадовалась. – Корень у меня валерьяновый, сейчас дам… – И со словами, что она и сама пьет, налила в стакан темной жидкости, дала мастеру. Он выпил.
– А Толик к нему не заходил? Ну, Васильев? – спросила Ольга.
Тетя Тая хотела и этой, молодой, предложить корня, полезный корень-то, его можно вообще для нервов пить, но вдруг решила, что у нее нервы в порядке и сердце у нее в порядке, такая она прямо настырная, не отклонится никуда от своих вопросов. Посидеть, как все люди, не может. Так и стреляет глазами, так и стреляет…
Тетя Тая убрала бутылку, плотно прикрыв бумажной пробкой, а потом ответила, что Толика она не видела, да некогда ей видеть, у нее школа и свои дела.
– У вас свои, а у меня свои, – сказала она. – В школе по весне землю таскают и вообще из себя выходят… Весной всегда беспорядка больше, – выдала она то, что у нее накопилось против школы.
А Букаты чуть в себя пришел, корень у нее был отменный, мертвого подымет, эта она знала.
– А я думаю, что на него Толик влияет, он его с пути свернул! – сказала Ольга громко, тетя Тая аж вздрогнула от ее голоса. Да и слова-то какие она говорила: «С пути свернул». Это как можно сына ее свернуть, если он не сворачиваемый?
И Букаты от этих слов поморщился, даже рассердился:
– Что ты как на собрании все трещишь, трещишь! Поди обратно на завод да посмотри, может, он уже там, а мы с тобой пустую панику разводим! Пугаем тут друг дружку!
Это он специально сделал, не захотел больше с Ольгой сидеть.
И Ольга ушла.
А он откинулся назад, чтобы больше воздуха к сердцу подходило, и стал расспрашивать тетю Таю о муже, не слышно ли чего, может, какие вести, и прочее. Теперь он говорил так, как говорил бы, и правда, после работы, зайдя на досуге. Но ничего про мужа, с которым Илья Иванович был когда-то в дружбе, не слышно, а вот Костик весь в него, характером по крайней мере. А ведь было…
– Было, – сказал, улыбнувшись, Букаты, – когда они в цех-то ко мне пришли… Твой сынок талон на обед посеял, ну, заплакал. В цехе чтобы слезы… Ну, думаю, дела. А тут баланду принесли. Я его с ложки-то кормлю, а сам думаю: «Иесусе Христе, да как же я с ним танки-то собирать буду…» Он ложку не умеет держать, не то что инструмент… А теперь, вишь, без него на заводе прям беда.
– Беда, – повторила за ним тетя Тая. А сама подумала, что не только на заводе беда, а в сердце ее беда. Завод-то переживет, он большой, там таких, как Костька, много. А вот у ней он один, и одна она, и не дай бог что случится, тогда и ей незачем жить. Вот такие мысли наплыли на нее, но ничего вслух она не сказала.
31
Букаты ушел, кстати, ушел тихо, неторопливо, но показалось ей, что уже не на завод бы ему идти, а в больницу, такой у него был вид. Надела тетя Тая жакет свой плюшевый, платок и пошла к реке. Вот уж старая дура, сама понимала, что нечего там Костьке делать, а сон не шел из ума. А во сне – Костька-то был на реке. Торопилась она к нему, будто и в самом деле должна помочь, когда он станет тонуть на лодке.
А до реки четверть часа хода. Добежала, не заметила. Лодка на месте, а на реке никого не видно. По такой воде ни рыбаков, ни пьяных на ней не бывает. Присела она на лодку, вспомнила, как багрили с сыном дрова два года назад, истопились к весне так, что лучины в доме не было. И чуть тогда не опрокинулись, когда под них топляк поднесло. Испугалась, страсть. А Костька, хоть слаб и мал, но сопит и толкает, толкает багром, и спас лодку…
А еще вспомнила довоенное, когда с мужем костерок жгли, он свои донки на ночь ставил, а она, беременная Костькой, рядом сидела. И закат золотом растекался по воде, и на середке всплескивала рыба, и где-то ухали и купались, но тихо было. На душе такой покой и радость, что прислонилась она к мужу, и когда колокольчик на удочке зазвенел, он, ее муж, не посмел и шелохнуться, потревожить из-за пойманной рыбы такого их состояния.
А говорили они о том, что будет вот у них парень, они знали, что будет парень, а она, мать, уху им станет варить, а потом сядут на виду у реки, чекушку разопьют, станут о делах говорить…
И вот сидит она на ветру одна, в глазах серо, будто и не кончался ее дурной сон: та же мутная вода и тяжесть на сердце, что вот-вот сынок ее погибнет… А вдруг она тут попусту мозги раскидывает, а он уж дома и ждет ее. Вскинулась она и снова побежала как могла, ног не чувствовала, несмотря на то, что больные ноги, отекают от сердца. Как в молодости своей ласточкой к мужу лететь умела, так и сейчас, даже еще пуще летела. Издали увидела в палисаднике человека, и сердце заколотилось: Костька! Он еще ее не видел, встала, перекрестилась: «Спасибо те, господи, что все так, что он нашелся! Живой, и уж больше ей ничего не надо!»
– Костя, – крикнула издалека. – Ты чего у дома-то стоишь, иль ключи не знаешь – под половиком…
Было однажды, несколько лет назад, когда он, уходя, записку на дверях оставил: «Мама, я пошел, а ключи под половиком»… Вместе тогда посмеялись.
Костя валялся в постели, а она ходила вокруг и все не знала, с какой стороны завести разговор. Вспомнила про сон и стала ему рассказывать, но уже не выходило страшно, а почти что смешно: подумаешь, мутная река приснилась. А Костя молчал.
Начала она серчать.
– Разлегси, как барин! – сказала. – И лежит… Не умылся, не поел… А тут кругом обыскались… И люди о нем хлопочут, считай, два раза прибегали, и она-то, мать, тоже не последний человек, должна ведь знать, куда пропал ее сын… Не утоп ли на речке?
Костя и не двинулся от ее слов. Не спал, а будто спит, никакого движения. Ну что, в самом деле, как мертвец лежать, материных слов не принимать. Будто она воздух зазря толчет языком! Бесстыжий!
Наконец шевельнулся, голос подал:
– Кто, мама… Приходил?
– А кто? Кого с завода ждешь?
– Никого не жду.
– Вот и видно. А они тебя ждут… И Буката, и Володька, который Силыч, и эта… комсомолка горластая…
– Лялька?
– Она. Ей больше других надо.
Костя молчал.
– А ты чево, опоздал, что ли?
Костя молчал.
– Буката твой вовсе больной, за сердце хватается и все свое талдычит: завод, завод… А ему в больницу надо идти, а не на завод…
Костя повернулся и посмотрел на мать. И она увидела: нехорошие у него глаза, недобрые какие-то. Прежде-то, даже сегодня утром, у Костика было всегда одно выражение лица: будто ему сказали, что до смерти ему в танке сидеть, в танке его похоронят, как в железном гробу… Не было в нем других выражений, как это: вечная усталая занятость да желание поспать. Сон да работа, да снова сон… А теперь, она вгляделась: мать честная! Да ведь он оживел, но как мертвец оживает – лицо пепельно-бледное, глаза горят. А в них недобрость, в них блеск, как у гончей собаки, которая на дичь идет!
Хотела пойти тетя Тая за печку к иконке, что над диваном висит, да испугалась оставить сына. Мысленно перекрестилась она на портрет, «Отче наш» зашептала.
А он спросил:
– Мам, ты как с отцом познакомилась?
– Чего? – не поняла она.
– Как вы с ним познакомились-то? Ну, встретились где? – спрашивал сын.
– Люди увидят друг друга, руку подадут, вот те и знакомство, – сказала, сердясь на такие вопросы, тетя Тая.
– А где?
– Чево где? Тут, в поселке…
– А сколько тебе лет? Было?
– Да, молодая… Дура деревенская, – сказала тетя Тая. – Приехала на работу, нас в семье много, и всех кормить силов у отца не было. Езжай, говорит, у город, там хлеба больше. А не хватит на твою долю, вертайся, здесь голодать совместно будем… Тогды, после войны, голод у нас стоял. Стала я на фабрику наниматься, а койку сняла у тети Груши, она теперь померла. А то мы с тобой да с отцом ходили к ней, она чаем угощала… Вот. А отец твой тоже приехал и тоже койку у ней снял. Так и вышло, что вместе чай пьем, вместе постирушки какие, я ему и выстирала подштанники… И еще кое-что постирала. А потом он все рыбалкой увлекался, я ему на речку поесть носила. На нас так и думали, как брат да сестра. Я за ним как нянька все равно… Ну и поженились, у тети Груши-то…
Купили портвейна, ее пригласили да и говорим, мы теперь, говорим, теть Груш, не в разных углах, а в одном угле, за ширмой, спать станем, так как мы в браке с Сережкой…
– Ма… А у тебя кроме отца еще кто был?
Тетя Тая задумалась и вопроса не поняла.
– Кто?
– Ну, ухажер другой… До портвейна-то? Ну, чтобы отец, значит, и еще тот, другой, между собой соперники были?
Мать рукой отмахнулась, испугавшись.
– Окстись, ты чего придумал! Да разве бы отец твой стерпел кого-то… Да он ревнивец такой был… Он бы его убил… Правду говорю!
– Убил? – спросил Костя и даже поднялся с койки. Глаза заблестели. – Мать, ты сказала, что убил бы?
Но тетя Тая в запале сказала, сама не верила в сказанное. Как это, тихий ее Сережа, который и рыбу-то стеснялся живую потрошить, а ждал, когда она «уснет», так он выражался… Чтобы он, значит, руку на кого поднял… И не надо поднимать было, не было у них причин-то ревновать. И потому она засмеялась, стесняясь всего того, что наговорила.
– Убивать-то некого было. Хватит, Костька, дурака валять. Раз уж встал, поешь… И болтаешь неведомо о чем, а я, глупая, за тобой повторяю… Мели, Емеля, твоя неделя!
– Ладно, – согласился вдруг Костя. – Готовь. – И добавил ни с того ни с сего: – А ведь ты правду сказала. Их, мам, убивать надо!
Она услышала: хлопнула дверь. Выскочила следом, закричала:
– Ты что же? Голодный? Когда придешь-то?
Костя от калитки рукой махнул:
– Я же сказал, готовь… Я приду! – И исчез в улице.
Ничего она не смогла понять про то, что он спрашивал и что думал. Только забыть не могла его странные глаза, в которых был не прежний Костька. Прежний был ее послушный сын, и она знала, что от него ждать. А этот был чужой, хоть тот же Костька, но она про него уже ничего не знала. Она только могла чувствовать, это чувство внушало ей неведомую опасность, которая грозит Костьке.
А тут постучали, снова Вася-сосед попросился. Она забыла про время, не заметила, что смеркалось в комнате.
– Заходи, Вася, – сказала. – Может, чая хочешь?
Он кивнул, присел, костыли к стенке поставил.
– Сынок-то нашелся?
Она головой покачала. Чего объяснять, если сама ничего не поймет про него. Прибежал да убежал, вот и считай как хочешь.
Но Вася так понял, что не нашелся, и успокаивать стал.
– Вот на фронте, – рассказывал, – там по-другому, конечно, но если пропал человек, так он в борьбе с врагом, с фашистом, значит, пропал… Бывало, кто и дезертировал, так тех у нас без суда стреляли… А бывало и так: заснул один на переходе… А мы хватились, нет его! Потом-то нагнал, но опять же судили, в штрафнуху… за отсталость в бою… А здеся… – дядя Вася стал осматривать комнату и на диван посмотрел за печкой, узнал он диван-то, как же, помогал еще тащить Сережке… – Здеся пропасть никто не может! Так я думаю!
Тетя Тая, вспомнив про мужа, всхлипнула, очень ее разговором о фронте сосед Вася расстроил.
– Чего вы кричите-то… Я ведь сама не знаю ничего… Он же еще глупый, малой еще…
Вася понял промашку, стал утешать:
– Постой… Не расстраивайся, – сказал. – Он у тебя щуплый?
Тетя Тая кивнула.
– В форме такой серой, с ремешком ФЗО? Да? – Вася обрадовался. – Видел я его! Он все около дома Зины ходит… Ну знаешь, которая племяшку-то замуж выдает…
– А Костька там что? – спросила тетя Тая. И не дождавшись, пошла, поставила чай. И в уголке слезы вытерла.
Потом они пили чай, говорили про войну и про мужа тети Таи, а Вася рассказывал про смоленскую деревню Ляхово, что они освобождали. Там, значит, немцы человек полтораста в избы загнали да и спалили всех! А почему он говорил, почему вспомнил-то… Видать, про ту деревню думал все на Украине, где семью его сожгли…
– Ох, горе-то какое! – охнула тетя Тая.
– И дети малые, и девочки… И старики… Вот это горе! Ты думаешь, Таисья, у меня ноги нет? – спросил дядя Вася. – У меня вот тут выжжено, – и показал на грудь.
Тетя Тая поколебалась, но предложила:
– Может, того… У меня в бутылке-то осталось… Самогонная…
– Выпил бы, – сразу сказал дядя Вася. – Только прямо скажу, Таисья, пока я тверезый, я держусь… А как выпью, я заплакать могу. Ты уж не удивляйся, четыре года на передовой…
Дядя Вася помолчал, он вспоминал о своем, а тетя Тая о своем. Но оба думали о войне, какая она страшная, что землю всю опустошила, и люди стали другие, обожгло их огнем изнутри. Война как большой пожар, там, на фронте, в огне, но и в тылу доставало.
А Вася-сосед, махнув рукой, сказал:
– Знаешь, Таисья, ты налей мне рюмку-то… Только если заплачу, ты не успокаивай… Война, понимаешь, это вот что: умереть, а потом заново родиться. Только много дружков там осталось, которые уже не увидят нашего дня, который скоро наступит… Я родился, а они гниют… Вот земля, когда на ней термитный снаряд упадет, говорят, сто лет родить не может. А душа, у ней какой запас? А может, и мы, Таисья, еще жить способны? Может, мы только кажемся, что ничего в нас живого нет, а может, живое-то есть?
Вася принял водку, выпил, не закусывая, и запел. Странную песню запел. И даже тетя Тая заплакала, когда ее слушала.
Брала русская бригада
Галицийские поля.
И достались мне в награду
Два железных костыля…
Из села нас трое вышло,
Трое первых на селе.
И остались в Перемышле
Двое гнить в чужой земле.
Я приду в село родное,
Дом сложу на стороне,
Ветер воет, ноги ноют,
Будто вновь они при мне…
32
Костик бродил вокруг дома Гвоздевых. Сперва прятался за деревьями, потом и прятаться перестал, не очень-то беспокоясь, что кто-то из проходящих мимо людей или самих хозяев его заметит.
Глупо, он и сам это понимал, торчать дурачком, когда в чужом доме происходит праздник.
А что праздник в разгаре, можно было понять и по музыке, и по голосам, что слышались с веранды. Его слух был настроен лишь на один голос – Кати. Временами казалось, что он слышит, он был уверен, что слышит, хотя слов разобрать он не мог… Но разве дело в словах!
И он томился, поедая себя живьем в своих сомнениях, ибо догадывался, что за праздник возможен сегодня в доме, но отвергал, отстранял от себя эту, невозможную для него, очевидность.
Хотелось ему думать, что неведомый Чемоданчик закатил очередную пьянку, и Катя, его Катя, не смогла этой пьянки избежать… Но избежит же! Он верил, что она, обещавшая к нему прийти, непременно придет, и все станет на свои места. Важно ее дождаться, чтобы… Да и без чтобы, просто дождаться, увидеть, вот и все.
Выскочил разгоряченный праздником Толик. Попав со света в сумрак сада, он не сразу увидел Костика.
Огляделся и направился к калитке, напевая песенку:
Чтобы крепче ты меня любила
И дарила мне свой поцелуй,
Для тебя достану кус я мыла,
Хочешь, мойся, а хочешь, торгуй…
Костик шагнул ему наперерез. Еще слова не успел сказать, как Толик, ничуть не удивившись, протянул:
– Дежуришь?
– Толик! – окликнул Костик, пытаясь его задержать.
Тот обернулся.
– Восемнадцать лет как Толик! Ну и что?
– Помоги!
Толик смотрел мимо своего приятеля, на калитку, и продолжал напевать, наверное, ему было весело:
Я кровать твою воблой обвешаю,
Чтоб приятней и крепче был сон.
Этой воблы тебе я навешаю,
Если хочешь, так целый вагон!
– Ну помоги! – повторил умоляюще Костик. – Как друга… Прошу…
Толик замедлил шаг, остановился.
– Я тебе встречу устроил? – спросил сурово.
– Да.
– В подвале?
– Да.
– Ну и что?
Костик пробормотал, опустив голову:
– Она обещала…
– Да ну?
– Правда.
– А это – что? – Толик кивнул в сторону террасы, и, будто в ответ на его слова, там громко рассмеялись. Смех этот был, точно, Катин.
Костик сильней побледнел, поняв, на что намекает его дружок.
– Пойди, выпей за Катькино счастье. И замри на этом!
– Я не пью, – сказал Костик. – А она – сама?
– Цветет и зреет, – подтвердил Толик. – Ух, как им горько! Сундуков просто млеет из себя!
– Толик! – вскрикнул Костик и кулаки сжал. – Позови, ну?
– Не психуй, – попросил тот. – Психам сегодня выходной… Ты что от нее хочешь-то?
– Не знаю, – ответил он. Он, и правда, ничего теперь не знал, кроме одного, что ему надо ее увидеть. Надо, и все.
Толик в задумчивости покачал головой, никак не одобряя своего сумасбродного дружка. Но думал он в это время о своем.
– Слушай, – спросил. – Касса на вокзале сейчас работает?
Костик тупо молчал, что он мог понимать в кассах. В это время на террасе стали слышны голоса, и один из них, женский, громко спросил: «А Толик где? Вы не видели Толика?»
– Ох, Зинаида! – пробормотал Толик, оглядываясь в сторону дома. – Так и следит, следит… Вот что у баб во все времена развито, так вот этот локатор! – И он показал на нос. Он сложил руки рупором и крикнул в сторону веранды: – Иду! Сейчас иду!
Он с сожалением посмотрел в сторону калитки, вздохнул. Но вдруг его осенило.
– Слушай! Сходи-ка на вокзал, – попросил он Костика. – Это полезней, чем тут без пользы ошиваться… Сходи! А?
– Зачем? – спросил тот, явно никуда не желая уходить.
– Спросишь поезд на Москву… На двадцать три… Понял?
Костик, конечно, ничего не понял и промолчал. А Толик достал бумажник, а из него какой-то документ.
– Вот, – протянул. – Это литер и паспорт. Возьмешь билет на этот поезд… Стой… Деньги возьми…
– А позовешь? – с сомнением спрашивал Костик и топтался на месте. – Катю позовешь?
Толик вздохнул. Вынужденно пообещал.
– Делай, – произнес. – Посмотрим… Снова стал слышен голос Зины, и Толик поспешил в дом, бросив уже на ходу:
– Не потеряй! Возьмешь, и немедленно сюда! Я тут буду ждать! Да побыстрей!
Примерно через полчаса Костик снова объявился у дома с билетом, как обещал, зажатым в кулаке.
Касса работала, поезд не опаздывал, как ему объяснили, и билет по литеру он получил без всяких затруднений.
Костик никогда в жизни не покупал билета, и чувство при покупке он испытал странное, ему самому неведомое, будто не кто-нибудь, а это он, Костик, куда-то собирался уехать.
Однажды было, он ездил в Москву, но там их посылали делегацией несколько человек, подростков, и никаких ему билетов покупать не приходилось. Посадили на поезд, и все. Кажется, даже на этот же самый, поздневечерний, на котором теперь уезжал и Толик…
Если только он, а не его дружок Чемоданов. Но Толик еще днем грозился уехать. Запутался он на заводе, погорел… С Лялькой тоже запутался. И, судя по всему, с этой, которая тут на веранде…
Впрочем, Костик был уверен, что его ловкий дружок нигде не пропадет; он в любом городе, вынырнув, своим станет… Не о нем Костику сейчас надо печься, а о себе да о Кате, которая сидела в доме и не догадывалась, не знала, что он-то, как обещал, ждет… Билетами свиданку отрабатывает! Да Костик бы не только до вокзала, куда хошь, даже в милицию побежал бы по своей воле, лишь бы ему Катю позвали. Без нее, без того, чтобы ее немедля увидеть, жизни у него нет. И не будет. Он все равно окна в террасе высадит или что другое сделает, лишь бы Катю увидеть… Цех родной, и мама, и друзья все, всё ушло, всё отпало перед этим единственным, но съедающим его чувством, которого он никогда не испытывал и которое, может, он того и не знал, зовется коротким прекрасным словом – любовь.
Но не он один, оказывается, мучился в этот весенний вечер от своих неразделенных чувств…
У самой калитки, на подходе, Костик столкнулся с Ольгой Востряковой. Но какова была эта Ольга, если даже Костик ее не узнал!
Губы и брови накрашены, под шерстяным жакетом платье до пят в серебряных блестках, будто на маскараде, и туфли на высоких каблуках! Прям как актриса в каком-то американском кино, где она в баре цыганские песни поет… А на голове у Ольги фантастическая шляпка, да не шляпка, а целый сад-огород: немыслимой формы со всякими там фруктами по полям! Чудо-юдо, словом.
Шла она, Ольга, чуть покачиваясь, оттого что не привыкла ходить на каблуках, и было, наверное, больно ногам…
А Костик, хоть и смотрел в упор, потому что ждал свою Катю и все лица не только издалека, но и вблизи казались ему теперь Катиными, не узнал Ольгу, решил, что это пугало огородное какое-то вырядилось, чтобы пугать в темноте маленьких ребятишек.
А когда узнал, глаза вытаращил и даже в сторону отпрянул: еще бы, это ли не чудеса! Их непререкаемый комсорг, парень в юбке, которую никто в цехе за бабу не считал, один Толик чего-то там суетился, и то по линии не столько дать, сколько взять, расфуфырилась, как в театр, и тоже тут гуляет.
Увидела Костину растерянность, засмеялась победительно, наверное, считала сейчас себя неотразимой.
– Что? – спросила. – Не узнал?
Он кивнул оторопело, не сводя с нее глаз.
Поинтересовался сочувственно:
– Ляльк… Ты это что? Ты откуда?
– Красиво? – спросила она и кокетливо повернула голову. Но тут же посмотрела в глубину сада, за калитку. Наверное, ей хотелось, чтобы такой же ее увидели и остальные из тех, кто был там, на веранде.
Костик помолчал, не зная, что ей ответить на ее дурацкий вопрос.
Помявшись, ткнул пальцем в шляпку, спросил глуповато:
– А жратву зачем на голове носишь?
Ольга обиделась.
– Ну и видно, что лапоть деревенский! Не понимаешь в красоте! – И снова посмотрела вглубь, за калитку. – Ты бы захотел пригласить меня в кино?
– Куда? – удивился Костик.
– Ну, куда-нибудь… На танцы или в ресторан, например.
– Тебя? – переспросил ошарашенно Костик.
Ольге надоел этот бессмысленный разговор. И глупость Костика надоела. Хоть он и свой парень, и даже добрый. Но что он понимает в любви? Ради нее и не такое наденешь! Хоть ноги и правда болели, как после коньков.
– Я к примеру сказала, – успокоила Ольга. – Да ты и мал, чтобы кого-то куда-то приглашать. Я имела Толика в виду! Ты его не видел?
Костик не хотел врать. Но и правду он не мог сказать.
Ольга опередила его.
– Я знаю, он здесь… Он на свадьбе, у твоей этой… Которая с яблочками… Правда?
Костик вздрогнул от ее слов. Даже Толик не произносил этого невозможно тяжкого слова: свадьба. А Лялька раз – и бухнула. И чего ей вообще тут надо?
– Ляльк, – попросил Костик в отчаянии. – Ляльк… Уйди… А?
Но ей, наверное, нравилось так разговаривать с Костиком.
– Ты – ненормальный! – сказала она. – Тебя ведь за прогул судить будут!
– Ну и что?
– Вот до чего ты, Ведерников, опустился… Совсем себя потерял! Идешь на преступление из-за сопливой спекулянтки, которая тебя и знать не хочет!
Костик содрогнулся, как от пощечины. Сил не было терпеть эту вздорную Ляльку. Да еще каждую минуту мог выйти Толик, и тогда неминуем скандал. Он чувствовал по Ольге, что она настроена прямо на скандал.
– Ляльк, – попросил он, сдерживаясь как мог. – Будь товарищем, уйди! Мне нужно быть одному. Ну?
Но Лялька уже зацепилась за слово «товарищ».
– Вот! Вот! – засмеялась она истерично. – Для вас Лялька не баба, а свой парень! Товарищ! Именно… Один военпред на заводе мне так и сказал… Ты, сказал, не баба… А ты маленький мужчинка! Ты, говорит, Гаврошик! Когда ходишь по цеху в штанах… Ну а под штанами… Я хотела спросить, да не спросила. Под штанами я что же, не баба?
Тут из дома донесло музыку и смех. Оба они оглянулись, это случилось одновременно. Испытующе посмотрели друг на друга.
Ольга произнесла, но уже по-другому: горечь прозвучала в ее словах:
– Я, думаешь, зря тут болтаюсь… Я, как и ты, вокруг своего счастья хожу, которого нет… Я стояла тут, тебя не было, и слушала их музыку, на их свадьбе… Знаешь, о чем я думала? Господи, ну сделай так, чтобы мне повезло! Чтобы он сейчас вышел!!
«Она», – поправил про себя Костик.
– …И чтобы он понял, как я ему нужна! Ведь было же, было, когда он от меня ни на шаг не отходил… Даже в цехе… Я ему рисовать плакаты давала, и он целый день у меня, в комсомольской комнате, чертил… А сегодня он сам сказал: «Приходи…» Но я знала, что он-то не придет! Я знала!
Она шмыгнула носом и стала обыкновенной Лялькой, шебутной, но милой девкой из училища, которая почему-то еще и занималась в медкабинете и дежурила с коробочкой лекарств, и однажды, когда Костику было плохо, от слабости кровь носом пошла, она ему прикладывала сырой платок и утешала… Вот сейчас она была похожа на ту, простую и сердечную Ляльку. Куда-то весь гонор ее, поучительство, менторский тон пропали…
Она, мгновенно прозрев и осознав нелепость своего положения, вдруг сорвала с себя шляпку, швырнула ее на землю. Глядя на нее с ненавистью, топнула по ней ногой и посмотрела в глубь сада. Потом вздохнула, подняла, поправила смятые фрукты и пошла со шляпкой в руках, одна лишь зеленая виноградина осталась валяться на земле.
33
В доме шла гульба. На террасе стоял стол с закуской, в комнате, куда были распахнуты двери, заводили патефон, оттуда доносилась музыка. Гостей было немного, Чемоданов пригласил какого-то дружка из поселковых, с кем имел тут дело, темноволосого молчаливого человека, похожего на грузина.
Были двое соседей Зины, пожилые муж с женой, да Толик, который больше всех суетился, поднимал тосты и вообще чувствовал себя хозяином.
Чемоданов пил, но умеренно, и был настроен серьезно. Весь вечер не отрываясь он смотрел на Катю, которая была молчалива, тиха, послушна, даже по-своему к нему ласкова. Во всяком случае, в те минуты, когда Василь Василич обращался к ней, она ему улыбалась, хоть лицо ее было бледно, и даже губы бледны, и вообще ее немного лихорадило.
Толик, понимавший все как надо, пытался влить в нее хоть рюмку водки, чтобы согреть, но она лишь мотала головой.
– Нет, нет. Я это не могу… И я вообще не могу. – И порывисто отодвигала рюмку, словно боялась ее. Но эта ее трепетность, ее милая нервозность, странная улыбка, заметная дрожь губ будто еще усиливали ее сегодняшнюю привлекательность. Зоркая Зина время от времени посматривала на нее, точно издали изучала, что же это за племянница у нее и что от нее еще ждать? Но была она не менее занята своими чувствами. Катькино дело, как она считала, было в главном решено. А вот с Толиком… Который сегодня развязен, и мил, и приятно нахальноват, но все как-то исчезал, будто по нужде, выскакивая на двор, и Зине начинало казаться, а может, она и впрямь сегодня была чересчур подозрительна, что у него там с кем-то назначена встреча. Так что Зина на племянницу смотрела, а Толика видела. И лишь он в очередной раз вильнул хвостом, выскочив из террасы, тут же бросилась за ним:
– Толик! Ты куда?
Он даже растерялся, так неожиданно, в спину, его захватили.
– Никуда, – произнес, – просто это… – И уже приходя в себя: – Ну, Зинаида… Выйти, что ль, нельзя?
– А кого ты ищешь? – спросила и посмотрела в сторону калитки. – Ты назначил встречу?
Толик рассердился: и потому что был разоблачен, хоть и не до конца, и вообще на эту сегодняшнюю прилипчивость Зины. Такой навязчивой она еще никогда не была.
– Ничего никому не назначал, – отвечал он сухо, сказал как отрезал и повернулся, чтобы уйти снова в дом. Его никак не устраивало стоять здесь, на виду, когда мог объявиться Костик. Но Зина сама его теперь не пустила. Она ухватилась за шею, стала ласкать, целуя его в голову, в шею, грудь.
– Но это не женщина? Нет? А ты меня еще любишь?
Толик с трудом вырвался из ее рук.
– Ох, Зинаида, – произнес с упреком. – Анекдотец такой… Двое в постели, и она его спрашивает: «Милый, ты меня любишь?»
– Так любишь? – настаивала Зина и руки к нему тянула, а он увертывался.
– …А он отвечает: «А что же я делаю?» Тут до Зины дошел смысл рассказанного: она хлопнула Толика по щеке. Толик будто протрезвел. Но и разозлился еще больше.
– За что же? – спросил оскорбленно. Он знал, что этот тон более всего не терпела Зина.
И – точно. Ударила, правильно ведь ударила, а уже почувствовала на всю жизнь виноватой.
– Не знаю… Прости! Я сама не поняла, как получилось… Толик!
– А я понял, – сказал он, обретая свою силу над ней. – И я ухожу!
– Ну, честное слово… Не хотела, – запричитала Зина, теряясь и уже не зная, что делать.
И вдруг вспомнила. То есть она не забывала об этом ни на минуту, но сейчас лишь поняла, что нужно сделать, чтобы его удержать.
– Вот, – полезла куда-то и достала бумагу. – Вот! Бери! Ты сегодня какой-то странный… Чужой даже… Уходишь, уезжаешь… Я испугалась… Не знала, что же делать, а сейчас поняла, что надо вот так… Отдать, и как в прорубь головой…
Толик усмехнулся: ничего себе сравненьице, про прорубь! А может, она и права? Но бумагу сразу взял и положил в карман.
– Теперь торопиться не будешь? – спросила с надеждой Зина. – Теперь ты же тут хозяин… Ты можешь даже нас взять и выгнать…
– Ну, Зинаида, – произнес он, но уже по-иному и ласково, и сам попытался ее обнять. Надо успокоить бедную женщину.
– А литеры твои? – вспомнила некстати Зина. – Подари их мне? Подари?
– Да я пошутил! – воскликнул Толик как можно беспечнее. – Нет у меня никаких литеров… Да и откуда?
– Правда?
– Правда, правда, одна лишь правда, – сказал по-шутовски Толик, подняв руку, как в каком-то американском кино. А про себя добавил: «Но не вся… Правда…»
– Тогда поцелуй, – попросила Зина и повела его подальше от дома, по направлению к калитке. – Нет, подожди… – Повернула его лицо так, чтобы видеть его. И долго его рассматривала. Спокойно произнесла, наверное, давно это продумала: – Знай, что я без тебя не выживу… Да мне и не нужна жизнь… Потому и отдаю себя, что себе, если не ты, не нужна… – И вдруг: – Хочешь, я тебе ребенка рожу?
Толик даже опешил от таких слов.
– Потом, Зинаида… Ты же выпила?
– Я от тебя пьяная, – быстро возразила она. – Вино так…
– Вот и хорошо, вот и пойдем! – потянул ее Толик, незаметно оглянулся и заметил вдруг Костика. Но Зина ничего не понимала, она повисла на Толике и твердила свое:
– Нет, скажи… Хочешь? А кого ты хочешь? Мальчика или девочку?
Тут Костик от калитки подал голос. Не нашел, дурачок, другого времени.
– Толик! – закричал. -Подожди! Я все взял!
Толик сделал вид, что не услышал, и стал уводить Зину к дому. Но Костик продолжал кричать. Пришлось оставить Зину и вернуться.
– Ты кого? Меня? – спросил наигранно, удивленно. И морщил нос, и мимикой делал Косте знаки. Тот ничего не понимал.
– Но ты же просил?
– Я? Тебя? Просил? – удивился Толик, оглядываясь.
Зина подходила к ним и, наверное, слышала, о чем они говорили. Она посмотрела на Костика и засмеялась.
– А я его знаю! Этот, который утром… С Катькой стоял… А что ты у него просил? – поинтересовалась кокетливо, повеселев оттого, что ее подозрения насчет свиданки с женщиной не оправдались.
Толик туманно произнес что-то о товарище по работе и предложил Зине пойти, неудобно перед людьми в таком виде… Она сразу согласилась.
Толик увел Зину в дом, а Костик остался караулить, так ничего и не поняв. А тут откуда-то появилась его мать, тетя Тая. Вынырнула из сумерек улицы в тот момент, когда он стоял, прислонившись к забору, и смотрел в глубину сада, решив ждать до последнего.
– Обыскалась, – произнесла она сердито. – А он вот где стоит! Забор подпирает… Думает, что без него забор-то упадет!
Костик будто съежился под взглядом матери. Он и уйти не мог, то есть сбежать, и оставаться не мог, так ее появление могло все изменить. Особенно если выйдет Катя. А он верил, что она обязательно выйдет.
– Ма… Иди домой, – попросил он, оглянувшись. – А я приду.
– Вот как? – удивилась тетя Тая. – Родную мать гонишь? – Она прислушалась к музыке из дома, к голосам, которые доносились, и даже в момент ее прихода стали слышней. – Это что же? – спросила. – Гуляют?
– Не знаю, – отвечал бедный Костик.
Жалко на него было смотреть. Хорошо, что сам он себя со стороны не видел. Но и в том, что она, мать, его могла в таком виде наблюдать, тоже ничего хорошего не было.
Сердце у нее чуть не разорвалось, каким он показался ей слабым, несчастным, маленьким тут, у чужого забора.
– А я знаю, – произнесла она твердо, глядя сыну в лицо. – Это Гвоздева выдает племянницу, замордовали они девку-то, в прислугу превратили… Она и на огороде, и на рынке… Теперь задумали еще женить на старике!
– Ма… Иди! Ну, иди! – говорил он торопливо, чуть не срываясь на крик. – Я хочу побыть один!
Мать смотрела на него, и молчание ее было красноречивей всех слов. «Эх, Костька, кого ты хочешь обмануть? – подумалось. – Один… Один около чужой свадьбы – это уже не один, а вдвоем… С несчастьем своим!»
Постояла и пошла, согнув голову. Потом вернулась, сказала:
– На заводе у тебя… Да ты знаешь… Плохое место, Костька, ты выбрал для ожидания!
Ушла мать, а тут снова появился Толик. Может, он появился бы раньше, но видел их вдвоем и выжидал за кустами.
– Ты чего кричишь? При людях? – напустился на Костю.
– Но ты же просил?
– Я просил тебя кричать? Да? – И смягчаясь: – Ну, слушаю! То горло дерешь, а когда надо, голос потерял!
– Катя где? – спросил Костик. Единственное, что он мог спросить.
– А билет где? – в тон ему спросил Толик.
Костик показал на кулак. Он так и носил в кулаке, зажав изо всех сил, чужой билет. Странное это было чувство: держать в руке чужой билет на поезд… Сам бы в таком состоянии уехал, если бы не Катя. Не она и не мама. Но прежде всего она.
Толик с оглядкой взял билет.
– В одиннадцать? Не опоздает? – и повернулся, стал уходить.
– А Катя? – испуганно спросил Костик и побежал за ним вслед. – Катя будет? Катя будет, да? – повторял он до самой террасы, но Толик ему не отвечал, спешил уйти. И лишь у самого дома резко остановился, поняв, что так просто ему от этого чудачка не отвязаться, надо как-то его отпульнуть посильней.
Поглядывая вверх на окна и снизив голос, он стал объяснять, как противно, до смешного, он, Костик, здесь выглядит… Как нищий в вагоне… Ходит, просит, ноет… Тошно на него смотреть… Потому Катька и не идет, что таких попрошаек не уважают!
Костик выслушал, кивая, но, наверное, ничего не мог и не хотел понимать, а продолжал, как дятел, долбить свое:
– Но ты ей сказал? Ты сказал или нет?
Толик от такой тупой настырности чуть не озверел.
– Пойми! – прокричал он шепотом Костику прямо в ухо. – Она же сидит на свадьбе! Ты знаешь, что такое свадьба? Это когда ее целуют… Обнимают… Ласкают… Ну, тискают ее там… Вот так! И щупают… И… Что угодно… Чемоданчик ее щупает… А ей приятно! Бабам всегда приятно, когда их щупают!
В это время с веранды раздался громкий смех. Наверное, это был ее смех, Костя задрожал, его заслышав. И лег он как раз на последние, специально пошлые слова Толика, которые и были сказаны, чтобы добить Костика, убрать отсюда. Результат же вышел как раз обратный.
– Я их убью, – вдруг сказал он.
Глухо сказал, почти в себя, и достал из кармана нож, который прихватил у матери со стола. Хорошо, что она до сих пор не хватилась, иначе тут же, у забора, подняла бы скандал!
Даже видавший виды Толик опешил, вдруг, как наяву, увидев, что его приятель в таком сумасбродном, в невменяемом состоянии, что может совершить свою угрозу. Этого еще не хватало!
– Вот чокнутый! – пробормотал и попытался схватить Костика за руку. Тот не давался. – Отдай! Ну? Это же мокрое дело.
– А мне все равно, – сказал Костик.
– А мне нет! Ну… Прошу… Ну, отдай! – Толик попытался отобрать, но Костик, откуда в нем, таком тщедушном, сила взялась, держал нож крепко, спрятав его за спину. А ведь убьет, эти фанатики из-за девки что хочешь могут сделать. А ему-то, Толику, уголовщина сейчас не с руки. Ему без шума отчалить нужно. Он свое, считай, получил, осталась маленькая операция, но она спокойствия и сосредоточения требует. И – отсутствия этого блажного, с его столовым ножом.
– Ладно, – сдался Толик. – Черт с тобой! Позову, если обещаешь отдать?
Костик покачал головой.
– Ну, убрать… Обещаешь?
Костик кивнул и нож убрал.
– Смотри, – предупредил Толик. – Уговор… Оттого и не хотел ее звать, что вы оба с ней из одного дурдома… От вас не знаешь, что ждать! – Пошел и снова оглянулся. – Так учти, без шума чтобы! Меня в это дело не впутывать! Встретились и расстались… А я ни при чем…
34
Катя появилась как призрак, он бы ее на улице и не узнал. В белом платье: легкая, тонкая, воздушная.
Стояла под защитой дома и смотрела на Костю. И он смотрел, не в силах сделать к ней шаг. Вдруг на него столбняк нашел: он перестал себя чувствовать.
– Что вы придумали? – спросила она негромко, на расстоянии. – Почему вы здесь?
– А где я должен быть? – тоже спросил Костик.
Хотя не это было для нее приготовлено. Вовсе не это.
– Не надо со мной таким тоном, – попросила она и чуть придвинулась. Теперь их разделяло пространство в три-четыре шага. – Я все про себя понимаю… Я дурная, глупая, лживая… Вы можете мне это сказать… – И вдруг по-иному, и мягче, хоть пока и настороженно: – Вы для этого и пришли?
– Нет, – сказал Костик.
Она прислонилась к дереву и вдруг заплакала.
– Я знаю… Я дрянь! Дрянь!
– Ну что ты, – Костик подошел, но так и стоял рядом, не зная, как ей помочь; он даже притронуться к ней опасался, уж очень она сейчас была потусторонняя, не своя. – Ты хорошая, – повторял он. – Ты правда хорошая… Я таких никогда не встречал…
Катя оторвалась от дерева и посмотрела на него, прямо ему в глаза, будто что-то искала. От нее пахнуло легким дивным запахом каких-то фантастических духов. Небось, подарок жениха.
– Господи! – произнесла, как охнула. – Вы прямо блаженный какой-то… Но ведь ясно же, что у меня свадьба!
– А почему ты плачешь? – спросил он.
– О себе, о себе плачу, – отвечала она и замолчала, пережидая новые слезы. – На свадьбе, между прочим, положено плакать! А вы уходите… Константин Сергеич!
– Ты его не любишь, – настаивал Костик.
– Разве это важно?
– Важно, – сказал он. – Я хотел в твои глаза посмотреть. Сейчас я посмотрел и понял… Я тебя спасу! Хочешь? – Катя помотала головой. – Украду! Унесу! Увезу!
Она все качала головой, потом сама придвинулась к нему и уткнулась лицом ему в грудь, а он ее обнял. И тут только почувствовал, что она вся дрожит.
– Глупый, – произнесла, подняв к нему мокрое лицо, он губами ощутил вкус соленых слез. – Спасти меня никто не может… – Она резко повернула голову, прислушиваясь к голосам на веранде, но тут же успокоилась; громче других разливался смех Василь Василича. Значит, он сидел, ни о чем не догадываясь. А может, это Толик его забавлял, понимая сложность ситуации.
– Когда он утром нагрянул, – произнесла она и посмотрела Костику в лицо, – я даже была рада! Лишь бы куда-нибудь уехать! С ним или не с ним, да с кем угодно! Я бы все равно повесилась, если бы не этот его приезд… А потом я шла по улице и увидела вас… И вы поздоровались… И стало плохо…
– Почему же плохо? – спросил Костик.
– Потому что… Не понимаете, да?
– Не понимаю.
– Как же вы не понимаете? – удивилась Катя и отстранилась от него, чтобы лучше его видеть. – Жила бы я и не знала, что вот так… Что так бывает, что можно целовать… И цветы дарить… И даже мечтать о будущем…
Из-за дерева выскочила Лялька в своем дурном платье. Наверное, она решила, что это Толик стоит в саду. Шляпу она потеряла, и слава богу.
Костик даже подумал, что она поддала для храбрости. Но может, ему и показалось.
– Конечно! – громко, на весь сад, засмеялась она. – Мне бы тоже было приятно! – Встала, с вызовом рассматривая онемевшую Катю и испуганного Костика. – А что? – и подбоченилась, вульгарно выставив ногу. – Один мужик под боком, а другой загородку сторожит… В запасе, так сказать… А там еще, наверное, третий: Толик, например… Разве плохо так устроиться?
Тут Костик обрел дар речи.
– Ляльк? Ты что? – спросил. – Ты подслушивала? Да?
– А что слушать-то? – отвечала наигранно Ольга. – Тут улица… Гуляю… Имею, как говорят, право…
Катя стояла, отвернувшись. Костик растерянно посмотрел на нее, на Ляльку, уже понимая, что он опять сейчас все потеряет… Ведь она возьмет и уйдет! И все из-за этой глупой Ляльки, которой словно соли на хвост насыпали, сорвалась, что называется, с цепи.
– Ляльк… Ты уйди, – попросил он. – Пожалуйста… Ляльк…
– Конечно, я уйду, – заявила она. – Мне и не хотелось слушать… Я другого искала, а нашла вас, дурачков… Ну и услышала, как она тебе мозги заливает! А ты лопухи распустил!
Катя повернулась, губы у нее дрожали.
– Простите, но вы… Но вы…
Ольга не дала ей сказать.
– Ольгой меня зовут, – сделала книксен. – А в цехе по-свойски: Лялька! Подпольная кличка Гаврошик! Свой парень в доску… С ним и с Толиком три года вместе… Правда, я яблочками не торговала, а гайки крутила… Огрубела малость… Так что ты, девонька, уж извини…
– Ляльк! – крикнул Костик и даже сделал угрожающий шаг, но та легко отодвинулась на безопасное расстояние. Но не ушла, не испугалась. И обращалась она теперь только к Кате.
– Вот, слышите! – подсказала. – Ляльк… То бишь приятель его в юбке! Да, так вот… Вы сегодня и правда сделали свое дело, он же из-за вас прогул совершил… А вы знаете, что такое прогул на военном заводе?
Катя посмотрела на Костика и на Ольгу, сказала:
– Я ничего не знала.
– Ляльк! Хватит! – приказал Костик.
– А почему хватит? – спросила та. – Пусть знает… Пусть ей там на свадьбе тоже горько будет… Его, слышите, – это она, снова повернувшись к Кате, прямо ей в лицо: – Его судить будут… И полагается ему от трех до пяти… Ухожу! Ухожу! – И добавила: – Вот и знайте! Девонька! Вы там праздник справляете… Песни, пляски, вино… Поцелуи свои… А ему тюряга из-за вас… – Пошла, но оглянулась, снова повернула назад. – Чтобы у вас… Чтобы вам… – Никак не могла найти слов, таких злых, чтобы прошибить Катю. – Чтобы вам всю жизнь горько было!
Вот теперь она ушла.
А они остались стоять, будто на каких развалинах оказались: Ольга все разрушила.
Катя первая заговорила, она была совсем расстроена, и голос ее прозвучал жалко:
– Я, правда… Я ничего не думала… Вы же говорили, отгул… А я поверила… Опять я виновата, да?
– Ну что ты, – отвечал Костик. – Это я виноват…
Они стояли и не могли что-то преодолеть, чтобы подойти снова друг к другу.
– Но я, правда, растерялась… Он позвал, – она кивнула в сторону террасы, имея в виду Чемоданчика. – И знаете, что он сделал? Он порвал при нас наши расписки… А потом он еще сказал: ты, Катя, свободна… И вот когда он это сказал, он меня по-настоящему и купил… Добротой своей купил… Я подумала вдруг, а если он и правда… Что он любит…
– Не любит! – закричал Костик.
Катя посмотрела на него. Долгим, испытующим был ее взгляд.
И когда она заговорила, стало понятно, что она знает, что надо делать. Слова уже были в их положении ни при чем. Ольга их изничтожила. Только одно слово еще что-то значило, и она его произнесла: «Пойдем».
– Куда? – спросил Костик, но уже знал куда – и готов был идти.
Она подтвердила его догадку:
– В подвал! Куда же еще. – И она повторила: – В наш, в наш подвал! Милый, родной, желанный… Ты самый родной и желанный…
Она взяла за руку и повела, как ребенка, и он послушно пошел за ней, вздрагивая лишь на темных ступеньках, когда нога проваливалась в глубину, как в пропасть. Но при этом она что-то все время говорила, чтобы не слышать его встречные слова, которые могли бы ей напомнить о свадьбе и отрезвить, и вернуть в другой, более реальный, но вовсе не ее, не их мир.
Замолчала она, когда они оказались, это было ощутимо по особому воздуху, в глухой и вечной глубине, куда уже ничто не доносилось и не было слышно, кроме их собственного, слышимого ими дыхания.
Звякнула неожиданно громко щеколда, навсегда отрезая их от того, что было наверху.
А наверху вовсю еще игралась Катина свадьба.
35
Толик увел Чемоданова от гостей в другую комнату.
– Ну что? – спросил тот в нетерпении.
– Разговор есть.
– После…
– Не могу после-то.
– Горит? Так выпей!
– А то я не пил! – и заговорил, уж очень трезво заговорил для человека, который пил весь вечер, Чемоданов это про себя отметил.
– Насчет иголок я, которые ты привез… Швейных иголок… У тебя их сколько? Василь Василич?
Чемоданов вздохнул.
– Заладил… Не до них, Толик! Настроение у меня другое… Должен ты уважать мое настроение…
– Я уважаю.
– Тогда давай лучше выпьем, – и Чемоданов принес стаканы и разлил вино. Хорошее это было вино, с Кавказа, его молчаливый гость привез в подарок. Он тоже, оказывается, на железной дороге работал.
– Будь счастлив, Василь Василич, – предложил Толик. – И не забывай, кто тебе это счастье подарил!
Чемоданов захохотал довольно.
– Не забуду, Толик! Любое доброе дело наказуется!
– А ты мне счастья не пожелаешь?
– Отчего же, – сказал Чемоданов и снова налил вино.
– Так выпьем, чтобы… Василь Василич, вы бы мне сейчас, здесь, помогли обрести то, что мне необходимо! Для счастья необходимо!
Чемоданов покачал головой, удивляясь такой настырности Толика. Но уже понимал, что никак не отвертеться ему от делового разговора. Даже на этой, такой дорогой для него, свадьбе.
– Ох, – произнес он, покачав головой. – Ох… Чем платить-то будешь?
– А чем хочешь?
– Ничем не хочу, – отрезал Чемоданов. – Но раз уж у тебя шило в заднице, что ты вертишься и спокойно жить без этого не можешь…
– Не могу, – подтвердил Толик.
– Так и назначай! И не ерничай! Сегодня мой день! Я заказываю настроение!
Толик был человек понятливый, кивнул. Испытывать терпение Чемоданчика ему было не с руки. Он встал, закрыл наглухо дверь и достал Зинину бумагу. Дал прочесть из своих рук.
– Читай! Только не лапай! Стоит твоих зингеров?
– Я знал! – воскликнул, откидываясь на стуле, Чемоданов. – Я догадывался! Ох, Зиночка…
Он вскочил, побежал к двери, но вернулся.
– Но ты хорош! Хорош! Обмануть женщину! Какая ты дрянь!
– Короче, – спокойно сказал Толик и спрятал бумагу в нагрудный карман. – У меня времени мало…
– А если не возьму? – поинтересовался Чемоданов.
– Другой возьмет… Желающих, как понимаешь… И попадет домик в чужие руки… А ты, ты будешь виноват! Вот и подумай… Чемоданчик… Если уж ты взялся горячо спасать Катьку с Зинаидой… Стоят они твоих иголок или не стоят? Или для тебя лучше, когда придут их выгонять, и ты, ты с опозданием хватишься перекупать, только поздно будет… Как?
Чемоданов выругался. Крепко выругался, излил, что называется, душу.
Но Толика и это мало проняло. Он подошел к дверям и выглянул наружу: убедился, что Зина хлопочет вокруг стола и все спокойно. О Катьке никто не волновался, да и кто мог волноваться, кроме жениха, который сидел тут и ни о чем не подозревал.
– Ругайся, но поосторожней, – сдержанно предупредил Толик. – Ты голову потерял, Чемоданчик! Из-за бабы! А вот я не потеряю. И мне твои иголочки как пропуск в новую жизнь! Только я покрепче тебя буду… Поверь! Я мир завоюю… с ними… Так-то, Чемоданчик!
Тот, будто успокоившись, сидел и смотрел на Толика.
– Далеко пойдешь, – повторял задумчиво. – Если не свернешь раньше шею…
– Не сверну, – заверил Толик. – Где они у тебя? Иголочки? В багажном?
– В багажном…
Василь Василич достал квитанцию, а Толик Зинину бумагу. Они обменялись. Толик спрятал квитанцию подальше. Сам теперь налил вино в стаканы:
– За успех, – предложил.
Но Чемоданов пить не стал. Он поднялся и вышел из комнаты, оставив Толика одного. Пей, мол, сам за свой подлый успех… Толика это не смутило. Он выпил, сперва свой стакан, потом поднял стакан Чемоданова и тоже выпил. Крикнул, глядя на дверь, куда ушел Василь Василич:
– Я тебе тут по дружбе патронов пару штук для собак принес! Нужны, нет? – и поставил торчком на стол два в бумажных гильзах патрона. – Бесплатное приложение… Василь Василич!
В это же время на одной из прилегающих к дому улиц, навстречу Ольге, будто убегающей от самой себя, в этом странном наряде, ненавистном ей самой, встретился на пути инвалид на костылях. Шел он по направлению к Зининому дому, после того как тетя Тая пожаловалась, что ее Костька, как ненормальный, торчит около чужой свадьбы, и как бы с ним чего не случилось. «Хоть ты, Вася, как мужчина с мужчиной с ним бы поговорил, – попросила она. – Меня он вовсе уже не слушается, все делает наоборот».
Но еще до этого произошел у них душевный разговор о жизни, о том, как ее продолжить после войны, вот он остался один, и она, по сути, одна, и оба к тому же соседи… Может, вместе-то лучше будет?
Тетя Тая всплакнула о муже, на которого до сих пор не пришла похоронка, и он посочувствовал. Сережка дружком был, и дружили они семьями, а теперь-то что осталось от них: двое, и правда, двое, не считая Костьки, как погорельцы на обгарках дома… Все надо думать сначала. А тут вдвоем, а может, с Костькой, втроем, им ладнее начинать и дружней, все же свои, давно свои, а не чужие…
Потопал он в сторону названного дома, чтобы с Костей, сыном ее, поговорить, не об этом, а вообще об житье-бытье, понять паренька, чем тот живет, ну и заодно как бы разведать, а что он думает об семейных делах матери.
Важный разговор предполагался, может, самый серьезный для него, в новой его, нефронтовой жизни.
Шел, немного волнуясь, замедляя шаг и продумывая про себя, что же нужно сказать, чтобы и Костя его понял.
Увидел выскочившую на него из сумерек странную деваху в красивом, блестевшем искорками платье. Шла она странной походкой, будто что-то напевала. Так ему показалось.
А когда поравнялась, произнесла: «Вот мой жених!» Почему так произнесла, он и не понял, но подумал: «Веселая деваха! Да и угадала в точку, прям попала с женихом: не о том ли говорил нынче с Таей… Не о том ли в мыслях было, как не о семье!»
– Енот, да не тот, – ответил. – Я уж к другой просватан… – И засмеялся, довольный шуткой. И девушка засмеялась:
– Как же мне не везет… И тут опоздала! Никому, оказывается, я не нужна!
– Нужна, нужна, – он сказал. – Такая красивая, и вдруг не нужна! Не может такого быть!
– Правда? – спросила она вдруг серьезно.
– Правда.
А про себя подумал, что каждый человек кому-нибудь да нужен. Вон как они с Таей сразу это поняли… Даже занятно, там, на войне, еще стреляют, еще дружки его жизнью рискуют, пуле кланяются до земли, чтобы в последние минуты не взяла бы эту жизнь единственную, а тут люди об семье, об свадьбах да о красоте… Ишь какое удивительное платье-то надела, разве кто посмел бы такое в сорок первом году при людях надеть? Да ни за что! Это же только до войны имели такое право одеваться! А теперь вот вспомнили… Жить, значит, хотят…
– Ты сынка Ведерникова, случаем, не знаешь? – спросил инвалид.
– Знаю, – сказала девица. – Кто ж его не знает? Его все девушки в округе знают! – И почему-то снова засмеялась.
– Вишь, – сказал он. – И ты полезная особа. Для меня, но кому-то для жизни еще полезней станешь… Так где же он?
– А замуж возьмешь, скажу? – будто уже не шутила, а всерьез от него требовала, в упор, что называется, он даже растерялся от такого требовательного тона.
– Меня бы кто взял, подружка, – произнес он, вздохнув. – Я ведь семью потерял и часть себя потерял… – Это он сказал будто о ноге, но имел в виду свою душу. – А вот живу и удивляюсь: ни страха, ни стрельбы… Девушки такие красивые, как ты, навстречу попадаются, значит, все хорошо.
– Правда? – спросила Ольга, растаяв. – Вы правду сказали?
– А зачем мне врать? – удивился инвалид. – Вот ребята с фронта повалят, они тебя мгновенно умыкнут, им такие по ночам красавицы всю войну снились. А тут, оказывается, вот она… Живая стоит…
– Спасибо, – сказала Ольга с чувством и поцеловала дядю Васю в щеку. И ушла. На прощание сказала, что Костик у Зининого дома стоит… Там и ищите, он там как привязанный…
А он посмотрел ей вслед, чуть растерянный, но умиленный. Такая красавица его поцеловала… А что чумная такая, так это у нее от истерики, от бабьей накопившейся тоски по мужчине, что боится, как бы не остаться одной. Не останется, насквозь видно. Такие умеют к себе привязывать, да и солдатики оголодали по женской ласке, они придут, только держись, сколько свадеб будет. А вот чего Костик, сын Таин, там торчит, что над ним уж втихую посмеиваются, это распознать надо. Тут своя сложность неизвестная есть, как он догадывался. Но наперед загадывать не стал, а поспешил туда, где, по его разумению, впотьмах сразу и не разберешь, был дом с чужой свадьбой и Костей «на привязи».
33
Из дома вывалилась шумная компания: Зина, и Чемоданчик, и уже подвыпившие гости. Толик, как всегда, развлекал, он был с гитарой.
Песня разносилась вокруг, ей отвечали лаем соседские собаки.
А если мало, мы еще добавим,
Чтобы тоску сердечную залить,
И пусть друзья поплачут вместе с нами,
Ну а потом не грех и повторить…
Все засмеялись, а Толик продолжал. Он сегодня был в ударе.
И не беда, что денег нет в кармане,
Я, как и ты, считаться не люблю,
А ну-ка, Толик, подставляй стаканы!
А ну-ка, Толик, скинем по рублю!
Чемоданчик, дурачась, запел:
– А ну-ка, Толик, где моя Катюня! – Он вертел головой по сторонам, но никого не увидел. И закричал: – Ка-те-е-нька! Ты не заблудилась, голуба моя? Твой Чемоданчик без тебя пуст!
Он повернулся к Зине:
– Где же она?
Зина тоже посмотрела по сторонам и натянуто засмеялась:
– Уж будто не понимаешь, где…
А Толик развязно подхватил:
– Это у них бывает!
– Это у всех бывает.
– Тогда терпи… – Толик стукнул по гитаре ладошкой, хотел досказать какую-то гадость, очередную, Василь Василичу, в том смысле, что на молодой жениться, еще на такой взбалмошной девке, как Катя, да еще спокойно жить… Но не стал досказывать, остерегся разжигать не в меру горячего Чемоданчика. Хотя и Толику далеко не понравилось, что эти двое субчиков так надолго пропали. Не вычудили бы чего напоследок… У Толика билет и поезд по расписанию, ему вовремя смыться от Зины надо. Забрать багажик драгоценный, отвалить в сторону… А уж после его отбытия пущай хоть до конца жизни разбираются, кто тут кого насколько обманул! Ему, Толику, опосля хоть трава тут не расти…
И, стукнув по гитаре ладошкой, он громче обычного закатил:
А ну-ка, Толик, подставляй стаканы!
А ну-ка, Толик, скинем по рублю!
А Чемоданчик, зараженный его напускной беспечностью, пошел плясать, его длинные в блестящих сапожках ноги выделывали всякие чудеса, он даже присядку изобразил, и все захлопали!
Смахивая платком пот, он огляделся и, так как снова не увидел Кати, торопливо, несмотря на увещевания Толика, сходил за террасу, где будто бы она должна быть.
Вернулся он расстроенный: оказывается, и там ее нет. Так где же она тогда? Где?
– Может, к кому из подружек побежала? – спросила Зина.
– Подружки? – насторожился Чемоданов. – Какие еще подружки?
– Ну, разные…
Он посмотрел на Зину, на Толика и спросил, мрачнея:
– Вы чего-то от меня скрываете, да? И ты, Толик?
– Я-то при чем? – удивился Толик и даже обиделся. Гитару отложил. А Зина стала утешать Чемоданова, хоть и сама терялась в догадках, куда это сумасшедшая девка могла сгинуть. Но ведь известно, что причины оказываются всегда проще, чем ты можешь себе предположить.
– Василь Василич… – увещевала она и руку погладила ему, чтобы страсти улеглись. – Ну, ей-богу! Ну вышла куда на пять минут, так ты уже в скандал! Как же ты жизнь-то станешь жить? – И гладила, и успокаивала, и ей казалось, что все удалось. – Посиди вот на скамейке, а она придет… Поцелует тебя, вот так… – И Зина поцеловала его в щеку. – И объяснит, и обласкает, и ты поймешь…
Чемоданов кивал головой.
– Ну, Зиночка, ну прости, – повторял. – Ты видишь же, я от Катьки малость поглупел…
– Есть маненько! – протянул Толик без язвительности, и Зина тут на него прикрикнула:
– Помолчи лучше! Спой вот, чтобы все послушали! Когда ты поешь, ты лучше делаешься!
– Ну, ну, – сказал Толик и, подхватывая гитару, кинул взгляд на часы.
Он посмотрел в глубину сада и произнес:
– Романс под названием «Я вспомнил вас и все такое…».
Но запел неожиданное, пронзительное, так что все замолкли, замерев, и стали слушать. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда…»
Зина поняла сразу, что это про них про обоих с Толиком поет. Прислонясь к его спине, сидела, в это мгновение особенно реально ощущая, что начинается ее новая жизнь.
И Чемоданчик так про себя понял, что Катя его последний лучик в жизни, его звезда, и это про него рассказано… Ах, Толик, сучье вымя, сволочь, но как душу-то рвет!
А вечер, прохладный, чистый апрельский вечер вызвездился, сквозь ветки деревьев, обещая на утро вёдро. Было тихо, так тихо, что и звуки гитары и пение не могли расстроить эту тишину. Легкость в воздухе, спокойствие и одухотворенность разливались, и было ясно, что если господь бог создал все это, то лишь для мира и счастья людей. И то и другое казалось близким, достижимым, и душа трепетала, предчувствуя их, от их скорого наступления.
Они появились, выйдя из подвала, не утаиваясь и не хранясь: Костик и Катя.
Вынырнули из тени дома в свет террасы и попали на глаза всей честной компании, сбившейся вокруг Толика с его гитарой.
Их увидели.
Но первым увидел их Чемоданов.
– Вы сделали это намеренно… Ну, появились перед всеми? – спросила Князева подсудимого.
– Да мы ни от кого не прятались, – отвечал он, глядя в пол.
– Но вы же не могли не понимать, чем это кончится?
– Мы не думали…
– «Мы» – это вы и Катя? А о чем же вы думали?
– Ни о чем.
– Еще бы! – подхватилась Ольга. – Без раздумья опуститься до того… Что опуститься в подвал… Для того…
– Кому спуск, а кому подъем…
Князева повернулась к прокурору:
– Вы что-то сказали? Вадим Петрович?
Он рассеянно вертел бумажку, глядя перед собой.
– Да нет… Вспомнил… фразочку… кому спуск, а кому подъем…
– А при чем тут подвал? – спросила Князева.
Он вскинул на нее глаза.
– А при чем тут вообще подвал? Кто туда спустился, да кто оттуда поднимался? При чем?
Ольга почувствовала укор в его словах.
– Но, Вадим Петрович, – призвала она. – Они же утром только познакомились… А уже вечером это самое…
В зале хохотнули. Прошел легкий смешок.
– Точней! – крикнули. – Что они там делали?
– Может, они яблоки перебирали?
Ольга, не глядя в зал и не слыша его, закончила:
– А если все так будут? Вы понимаете, к чему мы придем?
– Не будет так, – сказал Зелинский, глядя на Князеву. – Не все, как я понимаю, любят настолько, что готовы из-за нее пойти на казнь!
– Куда? – спросила Князева, удивившись.
– На суд… Конечно, – поправился он. – Но не все же, как вы полагаете, Нина Григорьевна?
Та покачала головой:
– Ох, далеко не все.
– А вы как думаете, Ольга Викторовна?
– Я должна отвечать? – спросила та резко.
– Да нет, не надо мне отвечать, вы себе ответьте! Лично сами себе… Только не лгите, себе лгать не пристало… И вы, – кивнул он через сцену защитнику Козлову. – И вы, – это заседателям. – Да и они тоже, – это уже к зрителям. – Пойдете вы из-за любви на такой суд? Да? Или нет?
«Наверное бы, я пошла, – подумала Князева. – Если бы… А может, и без если бы… Пошла бы, и все тут… Но такого не будет».
«Нет, нет, никогда и ни за что», – решил Козлов и поежился от такой неуютной мысли.
Заседатели об этом вообще не думали. Мужчина, что был в военной форме, страдал от зубов, а дома у него подрались зять с дочкой и собирались разводиться. Вот об этом он и думал теперь: как их помирить да вырвать больной зуб…
А женщина, немолодая, грустная, что жила с больной матерью, вспоминала и не могла вспомнить, успела ли она выключить электроплиту, уходя на суд… И если нет, догадается ли ее мать это сделать. Это и заодно накормить поросенка, которого они недавно купили на рынке и который, кажется, был рахитичным и плохо рос.
Ольга же подумала так: «Пошла бы! Если бы позвал Толик! Но если бы не доводить дело до суда, потому что на суде бы она сама себя жестоко осудила…»
– А вы-то? – спросила вдруг Князева. – Сами-то, Вадим Петрович?
– Да я что… – отвечал Зелинский, утыкаясь в бумаги и как бы уходя в этот момент от всех и от Князевой, вернувшей ему его собственный вопрос.
Но он не мог не думать об этом и он догадывался, что и он пошел бы… Только не попадалось ему такой женщины и не везло ему в любви в его жизни.
…Чемоданов уставился, ничего не понимая.
– Зиночка… Это что за статуй? – спросил он, указывая со смехом на Костика, который стоял рядом с его Катей, и стоял так, будто он, а не Чемоданов был ее женихом, а теперь мужем.
– Мало у нас тут охламонов болтается! – воскликнул Толик и натянуто захохотал. – Шел да поздоровкался… У нас тут, когда ходят, всегда здоровкаются…
Он даже сделал шаг вперед, будто для того, чтобы разглядеть новоявленного знакомца Кати, а сам корчил мину, стреляя глазом в сторону калитки, намекая Костику, чтобы сматывался он с глаз Чемоданчика и компании, не то будет скандал до неба и выше!
Но Костик торчал рядом с Катькой и был как одурелый. И все это видели, лишь Чемоданов не видел, повторяя, как заведенный, дурацкую Толикову фразу:
– Это почему же они тут в саду здоровкаются-то, Зиночка? И почему охламоны ходят через сад рядом с Катюней? А?
Зина помалкивала. Она давно разглядела мятое Катькино платье с налипшей паутиной, видела она, что и ее спутничек, утренний скандалист, был не чище ее…
Выставились два дурачка, как на выставке, и все на своих лицах написали… Будто специально для Чемоданчика себя демонстрируют, смотри, мол, какие мы блаженные и что с собой сотворили… А он-то в пьяном угаре не видит, слава богу!
Но и Чемоданов теперь разглядел все.
Он пробормотал, будто просыпаясь:
– Это что же, Зиночка! Это же форменная свиданка за моей спиной?
– Не знаю, – ответила она. Что она могла еще сказать?
Катя не смотрела на своего бывшего жениха, а смотрела лишь на Зину. Не было в ней ни испуга, не было стыда перед всеми гостями.
– Зин, – произнесла не громко, но внятно. – Не пугайся только… Я тебе все объясню… Я все сделала сама…
– Я объясню, – перебил ее Костик. И выпалил: – Я на Кате женюсь!
– Ду-рак! – выдохнул непроизвольно Толик и осекся, поймав на себе ненавидящий взгляд Чемоданова. Наверное, до него дошло, что и Толик тут как-то замешан.
Сейчас он вразнос пойдет… Надо бы сматываться подобру-поздорову, а то ему влетит…
Толик зыркнул в сторону калитки, но проницательная Зина, как угадала, вцепилась ему в руку.
– Толик, – попросила. – Толик, успокой его!
– Как же… Успокоишь… – пробормотал он и попытался от Зины освободиться. Но она держала крепко.
– Ну поговори, он тебе поверит!
– Он никому не поверит!
– Зина! – Чемоданов обращался лишь к ней. – Ведь я с вами по-хорошему? А вы?
– Я правда не знала, – откликнулась Зина.
– Не знала она… Не знала, – подтвердил Толик.
– И ты тоже… – Чемоданов вскрикнул как раненый, берясь рукой за грудь, будто погибал от удара. Вдруг он подхватился и кинулся в дом.
– Беги за ним, – Зина толкнула Толика к террасе.
– Зачем?
– Беги! – сказала она. – А то он что-нибудь с собой сделает!
– Не сделает…
– Да он же пьяный!
Но всех в это время отвлек инвалид, объявившийся в саду. Никто не заметил, как он пришел.
– А я тебя ищу, – сказал он, обращаясь к Костику, стоявшему столбняком среди всего этого крика и гама.
– Меня?
– Тебя, мать послала… Ты же Ведерников?
– Я, – сказал он.
– А чего тут так шумно? С улицы даже слышно!
Из дома появился Чемоданов, но уже с ружьем в руках. Все, забыв про инвалида, уставились на него, на его руки. А он тут же переломил ствол и дрожащими руками стал заталкивать туда два патрона, подаренные Толиком.
Хорошие патроны, не с дробью, а с картечью, специально для собак.
Заталкивал и озирался, патроны туго лезли, выглядывая, как все они тут собрались против него, против Чемоданова. Все против одного, заранее договорились. Пощады от них не дождешься, но пусть и от него тоже не ждут. Ни Толик, ни Зина, ни Катька, ни этот… Объявившийся неведомо откуда типчик…
Его взгляд натолкнулся на инвалида, который один среди всех ничего в происходящем не понимал и был до крайности беспечен.
– Ты на кого, дружок, охотишься? – спросил весело.
– Папашка! Я тебе дружочек? – повторил Чемоданов, впиваясь в него глазами. – И это кругом тоже дружочки? Да? Да я тебе скажу, кто они на самом деле: волки! Папашка! Стая волков! А этот, – кивок в сторону Толика, – так матерый волчище… Он уже Зинкин дом успел загнать, у него и билет на поезд в кармане!
– Толик? – Зина в страхе повернулась к нему. – Это правда? Когда же ты успел?
– Успел, успел… Он такой, он поворотливый! – голосил Чемоданов.
– Да врет он! – выкрикнул Толик, потому что в сердцах ругал себя, что вовремя не ушел, а теперь стой как дурак и выслушивай пьяный бред этого сумасшедшего жениха, который еще неизвестно что выкинет… Со своим ружьем, как в дурацкой какой-то драме. Слава богу, что не умеет заряжать и патроны не лезут… Подарил, называется, на свою шею!
А Зина уже под руки Чемоданову лезла, просила, умоляла:
– Брось ружье-то… Василь Василич… Брось… А и правда стрельнет, оно же оружие… Давай тихо-мирно поговорим… И Катя поговорит… Ведь ничего не случилось же…
– И ты врешь! – произнес тот, наконец зарядив ружье, и щелкнул затвором. – Все тут заврались, все против…
– Эй, эй… Дружок, – выкликнул инвалид, замечая, что тот взводит курки, пытаясь целиться в стоящих тут людей. Он заковылял прямо на поднятое к нему ружье. – Ты, брат, не того… Убери пушку-то, не стращай… Не страшно… Мы уж отстрелялись, дружок… Совсем отстрелялись-то…
Он протянул руку, пытаясь ухватить за ствол, чтобы наклонить его к земле, но Чемоданов понял это движение как попытку отнять ружье.
– И ты против? Все… И ты тоже? Ненавижу! – крикнул он и нажал курки.
Грянул дуплетом выстрел.
Инвалид какое-то время продолжал стоять, будто в удивлении уставясь на смертельно белого неподвижного Чемоданова и на черные дула, изрыгнувшие два красных огня, из них еще исходил легкий дымок. И вдруг стал опрокидываться на бок, теряя костыли и хватаясь за воздух рукой. Упал, затрепыхавшись, и затих. Лежал на боку, скособочившись, ухом к земле, будто прислушивался к чему-то. А все, замерев, глядели.
Закричала Катя. Говорят, этот крик услышали в поселке многие, пронзительный, рассек он тишину, и люди в домах вздрогнули, и дети проснулись в своих кроватках.
37
От имени молодежи выступила с общественным обвинением Ольга Вострякова, чем-то внешне напоминавшая молодую Князеву, она и волосы стригла коротко, и в движениях, и в повадках даже, в манере громко говорить походила на своего старшего товарища.
Получалось, что она как бы шла след в след за Князевой, и ее прочили, как поговаривали, на те же профсоюзы. Уже и в горкоме обсуждали, но кто-то усомнился, что молода, и пусть-ка пока на комсомоле посидит, покажет, на что способна.
Вострякова не сидела, летала, в ней еще не было князевской силы, но уж точно категоричности, напора, энергии ей было не отбавлять. И тут она превзошла по выразительности, по нетерпимой горячей пылкости и чувству, которое не могло не заразить зал. На нерве, как выражаются актеры, она произнесла взволнованные слова от имени заводских комсомольцев и всей молодежи. Она говорила о том, что событие, которое произошло с Ведерниковым, не рядовое, не обычное и, как говорят, стандартное, укладывающееся в нормальные рамки суда. Нет, нет! Случай этот – беспрецедентный – должен стать и уже становится фактом всеобщего нашего осуждения, нашей общей бдительности по отношению к людям такого сорта…
– Какой, какой случай-то? – спросили с задних рядов. – Бесцельный, что ли? Сказала!
– Бесприцельный, – поправили другие со знанием дела. – Видать, прицелами в цехе-то занимался. Оружейник то есть.
– Ну теперь ясно. Вот ведь доверили какому!
– У нас доверяй, но проверяй!
– Именно! Именно!
– Тише, товарищи, – попросила Князева и постучала пальцем по столу. – Дома будете говорить, а здесь прошу послушать!
А Ольга напомнила случай с электриком Сырниковым, который и на двадцать минут не опоздал, но получил строгое наказание, строгое, но справедливое. А о таком прогуле, чтобы длился одиннадцать часов, никто за всю войну не помнит, да и не было, и не могло такого быть, вот в чем дело.
– А Хохлов! – выкрикнули из зала.
Ольга расслышала и тут же поправилась, что правда, был один случай с мастером сварочного цеха Хохловым, но выяснилось, что он от истощения не мог дойти до проходной, и его увезли в больницу.
– Небось выпивка у него истощилась, – сказали негромко.
– Ну, это известно… Но ведь правда, что заболел-то! – возразили первому.
– Да он язвенник, где ему! Это вы Хохлова с Беспаловым спутали!
Ольга на этот раз не реагировала на реплики, а может, и не слышала их, она как бы входила в роль, голос ее набирал силу.
– Насколько нам известно, – говорила она, – бывший рабочий Ведерников прогулял беспричинно, он даже развлекался в трудовые часы, и это выглядит намеренным издевательством над товарищами по работе, которые пытались его разыскать, решив, что с ним что-то случилось. Да я сама лично бегала по поселку, понимая, какой невосполнимый удар наносит Ведерников сборочному цеху, а значит, и всему заводу. Он умышленно, вот в чем его вина, умышленно, сознательно то есть, поставил один из главных цехов в критическое положение… И это в то время, как нашу продукцию, всем известно, что это за продукция, ждут бойцы на фронте! Ведерников нарушил святая святых – свой долг перед Родиной, которая доверила ему государственной важности дело, перед бойцами, нашими мужьями и братьями, которые не жалея сил и жизни добивают врага в его собственной берлоге, чтобы был, как сказал товарищ Сталин, и на нашей улице праздник!
Тут все в зале захлопали, хоть и ясно было, что Ольгу куда-то занесло не в ту сторону от задач суда, а про мужей, которые якобы на фронте, то все знали, что у Ольги никакого мужа не было, как, кстати, и у Князевой. И вообще, выходила какая-то закономерность, что как баба в активе, так безмужняя, то ли характер мешает семье, то ли времени на нее не хватает.
Зал поаплодировал, и Ольга, сознавая, что завладела его вниманием, его чувством, умело закончила мысль:
– Кто знает, – и тут она посмотрела в сторону подсудимого, – может, из-за такого, пусть ненамеренного, но вредительства, наши бойцы в решающем сражении за победу заплатят не одной жизнью… И значит, не вернутся домой…
Князева при этих словах качнула неодобрительно головой, но и она оценила точность попадания выступающей: в зале стали сморкаться, доставать платки, уж очень близко все это было для сидящих, и для тех, кто еще ждал, и для тех, кто не дождался, получив похоронку. Но и тем и другим становилось ясно, каков на самом деле этот прощелыга Ведерников, что из-за него не дождутся они своих мужей!
– Молодежь, все лучшие рабочие завода пришли на этот суд, и каждому из сидящих, и всем, кому мы завтра расскажем о нашем справедливом суде, должно стать ясно, к каким серьезным последствиям может привести человека безответственность, потеря бдительности, да просто и моральная распущенность! Мы считаем, мы просим наших товарищей, кому доверены бразды правосудия, быть в этом деле справедливыми, но быть бескомпромиссными в своем решении, каким бы строгим оно ни было!
В зале захлопали, а Вострякова, покрасневшая, но довольная собой, села неподалеку от прокурора, на свой стул. Краем глаза посмотрела на Зелинского – каково впечатление, но увидела, что он шепчется о чем-то с Князевой. А рядом стоит какой-то человек из военных.
Кто-то из аплодировавших крикнул, приставив руки корту:
– Да что много говорить-то! Вышку ему! И дело с концом! Ишь, пузырь, вредить вздумал!
– А у меня муж в сорок втором… – добавила женщина в первом ряду и заплакала.
– Дык он в сорок пятом… Нарушил-то…
– А откуда известно, что он раньше не вредил?
– А вредил, что ли?
– Так у нее двое малышей сиротами!
– И все Ведерников?
– А то кто же! И карточки отоваривают с перебоями!
– И дров не завозят!
– А инвалида за что застрелили? За что? Он-то к Ведерникову, говорят, с душой, а Ведерников к нему с пушкой?
– Да вовсе это не Ведерников – стрелял, а приезжий…
– Он-то свое получил, теперь сообщникам пора по рукам дать!
Князева и Зелинский продолжали что-то обсуждать между собой и никак не реагировали на реплики в зале… Теперь к ним присоединились заседатели и защитник, и лишь по обе стороны от кучки маячили фигурки стоящего на отшибе подсудимого и Ольги, которую не пригласили на эти странные переговоры.
Кто-то в зале произнес громко, во всеуслышанье:
– Все ясно, сейчас намотают, и не сосчитаешь!
– Раньше сядешь, раньше выйдешь! – прозвучало в ответ.
– Это уж точно.
Князева оторвалась от группы и сказала:
– Тише, пожалуйста… – вернулась к тем, кто совещался, что-то напоследок у них спросила и повернулась к залу.
– Товарищи, – сказала. – Ввиду чрезвычайных обстоятельств выездная сессия суда переносится на завтра.
Зал еще некоторое время сидел, будто не доверяя сказанному. Недовольно стали расходиться.
К Костику подошел тот самый военный человек и что-то коротко ему сказал. Костик в ответ кивнул. Откуда-то появился молодой милиционер и увел Костика за сцену.
Некоторые из тех, кто не успел разойтись, смогли увидеть, как подъехала военная машина «виллис» и увезла Ведерникова, а с ним военного и Букаты в сторону завода.
38
Уже в машине Букаты, сидящий по одну сторону от Костика, по другую сидел милиционер, объяснил коротко ситуацию: завод в прорыве, и представитель наркомата, генерал, кстати, тот самый, что подарил тушенку, обратился к суду с разрешением на одну лишь смену использовать подсудимого на работе. Суд разрешил, вот и все. Хотя он, Ведерников, имел право и не соглашаться. С завода он уволен, да и суд эту отработку никак не примет во внимание как смягчающее обстоятельство. Для него вовсе не довод, что он наверстает с опозданием на двадцать дней свою же пропущенную смену… Так Зелинский и сказал: не хитрите, Букаты, это ему, мол, не поможет. Хоть я и понимаю, зачем вы это все придумали…
Букаты промолчал.
– Но они не правы, – добавил он. – Это вовсе не я придумал, я лишь Вакшелю подсказал, когда стало ясно, что цех в прорыве. А работки тебе там хоть отбавляй. Ее надо уметь делать, а не языком с трибуны молоть, как некоторые барышни.
Видно было, что он злился на Ольгу и не мог простить ее пламенной обвинительной речи. Тем более что после, он уже знал, подойдет в цехе как ни в чем не бывало, станет сочувствовать тому же Костику. Так вот у нее странно разделялось: на сцене она одна, а в домашней, то бишь заводской обстановке, – другая. И что удивительно, она вовсе этой двойственности не стыдится, а считает, будто так и должно быть. Там, мол, официальная линия, и я, мол, со всеми. А тут я другая, потому что внутри себя я могу даже сочувствовать и понимать несчастье других. «Ох, сможешь ли, – сказал ей на днях Букаты. – Ты ведь и в жизни стала разговаривать, как с трибуны…»
В цех Костик так и вошел, как ехал, с милиционером и с Букаты, хотя тактичный мастер в последний момент оттер блюстителя на задний план, чтобы не портить картину возвращения.
Он подвел Костика к конторке, где уже сидела вся бригада, и также буднично, как всегда, стал пояснять, какие обязанности у всех на эту ночную смену и какие дела у самого Костика.
– А вам-то чего, Илья Иваныч? – спросил Силыч. – Вам-то домой бы надо… – Он не сказал в больницу, а лишь – домой.
– Когда надо, тогда и уйду, – мирно огрызнулся тот. А Швейк негромко сказал:
– Как закончим план проклятый, так умру, сказал Букаты…
Никто не засмеялся. Шутка была не ко времени.
Из-за машин появилось начальство, тут были и Вакшель, и Вострякова, а впереди знакомый генерал с двумя военными.
– Где? – спросил он. Ясно было, что спрашивал он про Костика.
– Он здесь, товарищ генерал!
Несколько секунд он буравил Костика своими острыми глазками, ни на кого больше не смотрел.
– Значит, влип? – спросил прямо. – Из суда?
Костик кивнул.
– А этот что тут делает? – кивнул на милиционера.
– Стерегу вот, как приказано, – ответил, смущаясь, молоденький милиционер.
– Стерегите за дверью цеха, – приказал генерал и отвернулся. А милиционер не ушел.
– Хоть постригли забесплатно… – но сказал без улыбки. – А ведь победа-то на носу…
– Говорят, что ждут чрезвычайного сообщения, – вставился Вакшель.
Букаты молчал и смотрел на генерала. И Ольга Вострякова тоже смотрела.
– Значит, говоришь, из-за бабы влип-то? – хотя никто, и сам Костик, ничего не говорил. – А она-то хороша? – и вдруг генерал улыбнулся, косясь на своих сопровождающих.
– Хорошая девушка, – кивнул настороженно Букаты. – Да я же вам все…
– Помню, – отмахнулся генерал и посмотрел на Ольгу Вострякову и на других ребят. – Завидую я вам… Только все настоящее и начинается… И у тебя… У тебя тоже, – это Костику. – Будет амнистия, так что не робей и работай! А таночки и после победы нам будут нужны! Еще как! Нужны!
Генерал повернулся и быстро вышел, а за ним и начальство. И Ольга ушла. Странно лишь, что молчала, не влезла со своими лозунгами, весь пар выпустила небось на суде…
Букаты подтолкнул Костика к танку, будто благословлял его на великий подвиг.
– Иди, Ведерников… И чувствуй, как дома…
Костик, ощущая за спиной взгляды всей бригады, подошел к машине. Вздохнул, прикасаясь к холодному металлу, полез внутрь. Напоследок не удержался, оглянулся: все напряженно смотрели ему вслед. Но заметив его оглядку, тут же рассыпались, занялись каждый своим делом…
На рассвете он закончил последнюю машину. От непривычки, все-таки сказывалась большая пауза, руки у него дрожали. Он сполз по гладкой броне вниз и огляделся: все уже спали. Одни на раскладушках, другие на брошенных прямо на пол матах, а Силыч, тот прислонился к порогу конторки, наверное, караулил Костика, потому так и заснул, сидя лицом к танку.
Костик приблизился к нему, хотел доложить, что дело сделано и можно идти домой… Но в последний момент засомневался и будить Силыча не стал. Наоборот, посмотрев последний раз на сделанный им танк и отыскав глазами своего сторожа – милиционера, который, конечно, тоже спал, удобно пригнездившись среди рабочих, Костик присел рядом с Силычем, сил не было куда-то еще идти и устраиваться…
Закрыл глаза. И как провалился в пропасть, в короткий беспамятный сон.
Впрочем… Толи во сне, то ли наяву появились какие-то военные, он так и не смог понять, кто же это, те ли, что принимают работу, или другие, которые судят. Но тут один, из самых старших, сказал:
– Все преступления твои налицо, дружок… Все, кроме одного… И ты знаешь какого!
Костик виновато кивнул. Он-то верил, что суду это не может стать известным. И даже похолодел: все-таки стало!
– Напомните, как было? – попросил старший офицер.
– Как? – спросил Костик. – Ну… Они же меня в Москву на съезд молодых рабочих послали…
– Это мы знаем. А потом?
– Потом? – спросил он, оттягивая трудное время признания. Он вздохнул и спросил: – Все рассказывать?
– Правду, одну только правду… – подсказал откуда-то Толик. – Но не всю…
И откуда он, прохиндей, снова объявился, он же сбежал тогда, и его так и не нашли. Да и не особенно его искали, он нужен был лишь как свидетель. А теперь вот, в критический момент для Костика, вынырнул.
Старший офицер кивнул:
– Вы виноваты, что долго скрывали факт командировки, но мы хотим все знать с самого начала… Говорите!
39
Еще гремит великое сраженье
Громами битв и грохотом труда,
Последних сил последним напряженьем
Еще жива фашистская орда.
И мы, страны резервы трудовые,
От братьев и отцов не отстаём,
Мы армии рабочей – рядовые,
Все силы для победы отдаём!
Женщина в длинном красивом платье объявила, что выступала со своими стихами учащаяся ремесленного училища номер один из города Перми. Далее шел оркестр народных инструментов ремесленного училища номер два города Москвы.
В ослепительно белом Колонном зале сидели подростки, все такие же, как Костя, он обратил внимание даже, что у многих, как и у него, не было никакой особой формы, кроме той, которую дали в училище. А ему удалось лишь на время поездки в Москву пряжку сменить на бронзовую, самодельную, горевшую как золото.
Их кормили в каком-то красивом ресторане и даже деньги выдали на расходы. Но Костик ехал в Москву, не верил, что сможет увидеть то, что знал лишь по картинкам… Это было странное ощущение: он будто и ходил, и видел себя со стороны, что ходил прямо по картинкам, то есть все было настоящее, но точно как нарисованное и известное ему раньше: Красная площадь, Мавзолей, музеи, храмы, и вдруг – Сандуны… Он так и запомнил, что баню называли Сандуны, где выдали им простыни, а он, кроме обычной бани, других и не знал! Везде мрамор, бассейн, про который он часто потом маме рассказывал…
Побывали они и на рынке: махорка, хлеб, табак.
Спичечная коробка махорки – двадцать пять рублей. А буханка хлеба – двести пятьдесят. И вдруг они увидели «петушки»! Сладкие довоенные «петушки», янтарного и рубинового цвета на палочках. Тут же все деньги просадили на эти «петушки», шли по улице Горького, зажав по пачке в руке, и лизали… Лизали!
– Ну а потом? – спросил офицер. – Потом-то что?
– Сейчас… Я все расскажу, – пообещал Костик и задумался, вспоминая. – В общем-то, я нарушил тогда дисциплину, только на заводе не знают… Что я тогда сам вызвался поехать с бригадой.
– Добровольно? Я вас правильно понял?
Костик кивнул. Его и правда никто не принуждал. Но его деликатно попросили. Дело-то, и правда, на две-три недели, так сказали. А он на это время будет числиться, по согласованию с наркоматом, как бы при заводе… На ЗИСе – заводе имени Сталина, к примеру…
Так ему было объяснено в НКО – наркомате обороны – куда его привезли. Он лишь запомнил, что это неподалеку от Китай-города.
В огромном, он таких и не видывал, кабинете с ковром во всю длину, Костик его попытался, чтобы не грязнить, обойти по краю, полковник встал из-за стола и спросил у Костика, а сколько ему лет. Костик вместо четырнадцати сказал, что ему исполнилось пятнадцать.
– Маловато для такой поездки, – вслух произнес полковник и сделал паузу. – Но уж здорово, говорят, умеете вы с техникой, правда?
– Не знаю, – отвечал Костик.
– Ладно, – произнес полковник и вернулся к себе за стол, потому что раздался звонок. – Управление ремонта бронетанковой техники, – доложился он и встал, звонило, видно, начальство. – Так точно, ремонт осуществляется, на сегодняшний день отремонтировано сто тяжелых и средних танков… В полевых условиях рабочие ремонтники отдают фронту обратно восемьдесят один и семь десятых процента, – полковник заглядывал в какую-то бумажку. – Так точно. Но очень гибнут эвакуаторы… Ну те, что вытаскивают из боя машины… Сейчас формируем новые ОПРБ: отдельные подвижные рембазы, вместо выбывших…
Полковник посмотрел на Костика, закончил разговор и вдруг сказал:
– Будешь включен в рембазу… Там шофер, военпред… Только не рисковать. Сам слышал, что я тут доложил…
Костик кивнул.
– Впрочем, – тут же сказал полковник, – если дрейфишь, то лучше не езжай! Поищем, заменим!
– Я поеду, – сказал Костик.
– Ну, тогда счастливо, – произнес полковник и протянул ему руку.
Костик возвращался из кабинета и ощущал на коже руки это прикосновение: еще бы! Сам полковник из министерства ему руку на прощание дал, виданное ли дело! Ему велели ехать в Лось, под Москвой. Там, в военном городке, обмундировали в старую, давно ношенную военную робу, дали телогрейку, ватные штаны. Выдали противогазную сумку, чтобы носить инструмент, и поставили на довольствие: полкило хлеба на день и еще какие-то «рейсовые». А старшему лейтенанту, он был украинец по фамилии Шепель, темный, с темными усами, выдали и пропуск для беспрепятственного проезда по военным дорогам: с красной чертой по диагонали…
На рассвете на двух машинах, на английской, крытой брезентом, под названием «Битфорд» и на русском «газике» выехали они по Симферопольскому шоссе.
Ночевали в «Ясной поляне», в полусохранившемся здании музея. Повернули на Воронеж. В каком-то пункте – Масловка – у них на «Битфорде» полетела коробка скоростей. Пересели и продолжали далее путь они на «газике», но и он за дорогу несколько раз ломался, и Костику с другими слесарями приходилось его чинить.
Запомнился городок Острогорск, бывший городок, а теперь пустыня, лишь трубы печей торчали из земли и кое-где из землянок выглядывали, будто из преисподней, напуганные люди.
Через Ростов-Дон и переправу – она была на полметра под водой для маскировки – вышли на Батайск и на Краснодар. В станице Крымской еще шли бои. Тут под Краснодаром у старшего лейтенанта Шепеля была семья, он даже не знал, живы ли они после освобождения. Оказалось, живы: жена и двое детишек. Выскочили, повисли, от радости не знали, чем накормить и где посадить, да и сажать не на что было, и кормить тоже нечем. Машину поставили во дворе, а ночевали на полу вповалку, на мешках, накрывшись телогрейками. И вся-то встреча у командира одна ночь: здравствуйте и прощайте!
В подарок оставили ящик селедки. Это они везли по совету опытных рембазовцев, которые говорили, что за селедку, мол, везде в станицах накормят и напоят.
А еще до встречи со своими вышла у них авария: ночью шофер, не спавший двое суток, задремал за рулем, и машина перевернулась. Случаем в кузове бочка оказалась от горючего, зажатая ящиками, она-то и спасла им жизнь: подперла и не дала придавить тех, кто спал в кузове.
Кто шишку набил на голове, кто коленку ушиб, с тем и обошлось, не считая того, что напугались.
А вот в кабине, где ехал старший лейтенант, был запасной аккумулятор, который разбился и расплескал кислоту. Когда он вышел перед домом и неловко нагнулся, форма на нем поехала лоскутками… Хотел он домой явиться во всем блеске, а явился в дырках! Очень страдал он, но домашние утешили, дело-то не в одежде, пусть самой красивой, а что нашли они друг друга…
Костик просыпался ночью и видел, как жена старшего лейтенанта при свете коптилки штопала ему одежду и почему-то плакала.
Снова возвращались в Белгород, мимо Курской дуги, которая еще дымилась, мертвая искореженная техника до горизонта, страшно смотреть…
В станице Лабинской на реке Лабе, у танкового полка, только вышедшего из боя, ремонтировали муфты, занимались блокировкой.
Костина работа – расцентровать да снова сцентровать… А тут прошел слух, что враг атакует Ростов, и полк, не успев прийти в себя, был брошен в бой.
У Святогорского монастыря, в доме отдыха, встали на ночевку. Меловые горы кругом да памятник Артему с отбитой рукой. Только приступили к ремонту танков, посыльный из штаба: «По тревоге сниматься!» Выскакивали уже из-под снарядов: грязь, дым, пыль, копоть. Весь день гнали через села, забитые ранеными. Где-то в лесу отдышались. Ночевали в немецком блиндаже. В какой-то бочке, как показалось, из-под бензина, постирали белье. А когда надели, зуд по всему телу: бочки оказались из-под ядохимикатов. Кожу разъело до мяса. Старший лейтенант Шепель чертыхался, потому что это он прочел, будто по-немецки написано «бензин».
Да еще во время очередной бомбежки бросили они котелки с едой прямо в машине, а когда вернулись, тех котелков и след простыл. Шофер заметил: «Война войной, Костик, но в самом горячем бою держи котелок поближе к пузу».
Но был случай и похлеще, когда в парке вечером у танкистов крутили фильм под названием «Секретарь райкома». Там замечательные актеры Ванин и Крючков играют. В самом интересном месте, где фашисты окружают партизан в церкви и предлагают сдаваться, а комиссар Ванин отказывается, вдруг застрекотал вражеский самолет, один, другой, третий, и началось.
Они шли на бреющем, волна за волной, и стало темно от поднятой вверх земли. Падали вывернутые с корнем деревья. А Костик побежал. Куда, зачем, он потом не смог бы и себе объяснить. Побежал, потому что страшно стало. Парк обезлюдел, да и парка-то не стало, а кладбище изрубленных в щепу деревьев, среди которых он несся куда-то, как угорелый, и кроме темного страха ничего не чувствовал в себе. Наверное, он сделал круг под градом осколков, потому что влетел в собственную землянку, от которой и начал свой дикий бег. Влетел и увидел, что все лежат плашмя, и никто его позора не увидел.
А потом старший лейтенант Шепель ему жизнь спас, это когда он поднял с земли бризольную бомбу. Никогда о них не слыхивал, да их немцы недавно стали применять. Красивые такие, цветные, как игрушки… А уж когда разорвется, веером осколки вдоль земли, все живое в сито превращают. Так Костик шел за начальством и с интересом крутил у нее изящное крылышко: старший лейтенант оглянулся да замер от страха. Только крикнул: «Не шевелись!» И уже был за деревом. Оттуда скомандовал: «Присядь, так, положи тихо на землю… Так… И задом, задом, так, отходи… Еще, еще, теперь ложись!» Последнее выкрикнул, понимая, что жизнь-то спасена, и тут ее из пистолета расстрелял, аж свист разбойный пошел по лесу, да ближайшая березка повалилась, ее срезало, как ножом.
А первого в жизни фашиста Костик увидел в реке Донце, когда нахватались они в одной землянке немецкой вшей и решили помыться. И деревня, кстати, Банной называлась, будто бы для Екатерины Второй тут проездом бани устраивали. Нырнул он, и вдруг лицом к лицу с разбухшим трупом оказался… Чесал по воде, аж брызги до берега летели, испугался и назад не оглядывался.
А потом им в деревне попалась колонна: два наших автоматчика вели пленных фрицев… Один рыжий, рукава засучены и сапоги на подковках… Идет, будто из карикатуры, что в газетах печатают… Костик подошел к нему и долго разглядывал, желая понять, как выглядит в лицо их враг, против которого он танки клепал!
А потом у того же Донца, когда проезжали деревеньку, вдруг из колонны наших солдат он услышал, как кликнули на всю улицу: «Костик!»
Это он явственно расслышал и даже подумал: «А вдруг – отец!» Оглянулся, но ничего, кроме пыли, не увидел… И не решился шоферу постучать. Мало ли Костиков-то на свете!
Но мучился он этим вопросом до конца поездки, и потом дома этот крик слышался ему во сне…
40
– И вы вернулись?
– Да, – сказал Костик.
– На завод?
– Да. То есть нет, нас еще всю бригаду в кабинет снова позвали, в наркомат обороны.
– Зачем?
– Там эти… Американцы были… Ну, корреспонденты…
В том же огромном кабинете, теперь при свете люстры, в прошлый раз среди дня Костик ее не заметил, сидели какие-то оживленно болтающие люди с фотоаппаратами, в ярких клетчатых пиджаках, а некоторые в военном: не совсем привычной военной форме.
Один из них спросил знакомого Костику полковника:
– Вы назвали фантастическую цифру… Каждый танк восстанавливается четыре-пять раз… Я правильно понял?
Полковник кивнул. Вся бригада и старший лейтенант в новой замененной форме сидела на стульях, у стены, и смотрела на странных иностранцев, которые что-то обсуждали на своем языке.
– Армии Гудериана, это вторая немецкая танковая армия, за август сорок первого потребовалось заменить семьдесят процентов моторов… – подсказал второй военный, присутствующий в кабинете. – Им отказали, хотя все подбитые танки оставались у них в руках! А у нас, как вам известно, заводы оказались в труднейших условиях эвакуации… На Урал, в Сибирь… На счету был каждый танк… И драться приходится за каждую машину…
– Это они? – спросил длинный, поджарый, с усиками иностранец и нацелился на бригаду глазком аппарата.
– Не надо! – попросил знакомый Костику полковник. – Запишите лучше цифры: больше половины танков мы восстанавливаем в зоне боевых действий…
Иностранцы качали недоверчиво головами и смотрели в сторону ремонтников. Костику казалось, что и на него обращают внимание, и некуда ему спрятаться.
– Но вопрос вашим людям задать можно?
– Спрашивайте, – кивнул полковник.
– Они что же, являются «командос»? Или «камикадзе»? Им велят идти на смерть? Или они сами… Как этот… Маленький ребенок? – и указали при этих словах на Костика.
Полковник тоже посмотрел на Костика и заглянул в бумажку, отыскивая его фамилию.
– Это не ребенок, а юноша-доброволец, Ведерников Константин Сергеевич, – сказал он. – Он рабочий одного из эвакуированных в Сибирь заводов, делает танки. Но он, по его личной просьбе, включен в бригаду ремонта… У нас таких добровольцев много… – И полковник стал говорить о мужестве рабочих, об их самоотверженности и еще о том, что такой восстановительной службы, господам журналистам это, наверное, известно, нет ни в одной армии мира!
Корреспонденты и кабинет в наркомате пропали. Остались те, что своими вопросами мучили Костика.
– Но почему вы не говорите о главном… Почему вокруг да около…
– А что такое главное? – спросил, насупившись, Костик.
– Вы сами знаете.
– Не знаю.
– По лицу видно, что вы догадались.
Костик кивнул. Да, конечно, он догадался, о чем его спрашивали. Он с самого начала знал, что его об этом спросят. И все-таки оттягивал время, всякие мелкие дорожные происшествия описывал, иностранных журналистов, но о том, что случилось на Редьковских песках, умалчивал… Он знал – почему. Он не имел права рисковать, так предписывала ему устная инструкция наркомата.
– Редьковские пески? Это где?
– Под Харьковом, – сказал он. – Мы шли вслед за прорывом.
– Ну, ну!
Ремонтный «газик» в сутолоке боя и ужасающего грохота – била откуда-то сзади тяжелая артиллерия – проскочил зеленую балочку и встал. Не выходили, а выползали на траву. Осматривались, не поднимая головы.
Старший лейтенант ткнул пальцем вперед, туда, где, чуть завалившись набок, беспомощным чудищем темнела среди поля наша самоходка.
Костик узнал: это были СУ-76, моторы на них ставили спаренные, сразу две штуки, справа и слева, и общая блокировка, то есть одной ручкой в обоих моторах включалась одна и та же скорость. Но иной раз не срабатывал синхронизатор, летели зубья. То же произошло и теперь, во время боя…
Оба, и Костик, и старший лейтенант, смотрели на самоходку. Смотрели по-разному. Старший лейтенант с опаской, а Костик с любопытством и интересом. Да он и понимал, что выхода все равно нет, и работу придется исполнять ему. Кто может еще мышью пролезть до этой коробки, юркнуть туда и, свернувшись клубочком, попытаться исправить. Выбора, как он тогда сам понимал, у него не было.
– Не было? Вы уверены?
Костик пожал плечами.
А что еще оставалось делать?
Хотя старший лейтенант ему тогда вовсе не приказывал, он и не мог ему приказать, он только спросил: «Ну?» Что означало: «Как ты думаешь, можешь ли ты это сделать? Если можешь и если хочешь, тогда бери инструмент и в путь, да не тяни, а то потом тяжелей решаться будет».
А может, это Косте показалось, что будто ему так хотели сказать, и это неопределенное мычание «ну» означало иное, то есть недоумение командира перед невыполнимостью задания?
– А экипаж где? – спросил Костик, но спросил лишь затем, чтобы протянуть время и прикинуть хоть на глазок свой маршрут до самоходки, где и как ему нужно проползти.
– Тут они, – указал старший лейтенант на бугорок. – Окопались… Ждут…
Это последнее слово тоже указывало на то, что необходимо работу сделать. Ведь ее ждут, и ждут для боя, который не кончился, а идет сейчас вокруг них.
Костик еще раз смерил глазом расстояние, взял инструмент в холщовой замасленной противогазной сумке и побежал, делая зигзаги и пригибаясь, теперь он был весь на виду.
– Дальше, дальше, – сказали ему. – Что было дальше, Ведерников?
– Я стал работать, что еще?
– Внутри? В самоходке?
– Да. Внутри. Только жарко было. Нечем дышать, – сказал он.
Работал он по привычке на ощупь, отсоединил тяги, рычаги управления. Все как в цехе, но там проще, во всяком случае, знаешь, что кругом бригада, и ты на смене… Можешь перекур сделать, баланды похлебать, отдышаться…
От пота стал весь мокрый. Высунулся наружу, ртом воздух ловил. Старший лейтенант ему из ложбинки рукой махал, мол, пригнись, дурак, башку ведь снесет! Ничего Костик не видел, хотел надышаться воздуха, потому что ослеп от пота…
А снаружи-то солнышко да травка на проплешинах, а чуть дальше солдат бежит, пригнувшись, пулемет за собой тащит. Костик загляделся, как бежит солдат, мелко перебирая ногами, будто в какую играет игру: вправо, влево, и опять вправо, влево… И вдруг кустик вырос на том месте, где солдат пробегал. А когда рассеялись земля и пыль, уже не было никого: ни солдата, ни его пулемета.
Остолбенел Костик от такой картины. Круги красные пошли перед глазами. Тут только дошел до него жест старшего лейтенанта…
Нырнул вовнутрь, а руки дрожат, и никак он не может попасть ключом в нужное место! А тут глухой удар потряс корпус самоходки. Костик ничего не понял: потерял сознание. Ему показалось, что минуту или две он пролежал с закрытыми глазами, а прошел час. И этот час и экипаж, и старший лейтенант ждали: жив или нет этот замухрышистый, отощавший на тыловых харчах слесарек, который добровольно с ними поехал из Москвы, а теперь так настырно пер под самые пули.
Он лишь почувствовал звон в ушах, голова была цела. Он ее руками ощупал. Подтянулся: солнце ударило по глазам. Боже, а тут все тот же праздник весны, он уже забыл в темноте, в железном своем гробу, как это выглядит, будто вечность прошла! Бежит к нему старший лейтенант, не выдержал, значит. Кричит на ходу, что-то указывая вперед. Оглянулся Костик, дымится болванка снаряда возле самого борта, не взорвалась, значит, только брезент землей засыпала! Он еще подумал, что не взорвалась, значит, уже не страшно, а взорвись, так и не почувствовал бы все равно, как тот пулеметчик, что не убежал от своего снаряда.
А старший лейтенант подскочил, лег за гусеницу и кричит ему.
– Хватит! – кричит. – Уходим! Больше нельзя ждать!
А сам к земле жмется и глазом, вывернувшись, на Костика смотрит, и лицо у него белей, чем пыль на гимнастерке.
– А чего ждать? – сказал ему Костик. – У меня же готово…
– Готово? Сколько же часов? – спросил допрашивающий.
– Я не считал, – сказал Костик. – У меня и часов нет.
– Но все же?
– Часа четыре, что ли…
– И все внутри?
– Да. Только там жарко было.
– А дальше что?
Костик задумался.
– Ну, они проползли, опробовали моторы…
– Вы говорите про экипаж?
– Ну да. Развернулись, мы больше и не видели, они ведь в бой ушли.
…Он еще прислушался, лежа в балочке на траве, моторы работали как надо. Но тут что-то рыкнуло за кустами, и в небо наискось к горизонту изрыгнулось пламя. «Катюша», – крикнул старший лейтенант. Вот уж сколько они кроме танков и самоходок там же, на заводе, этих «Катюш» наклепали, а не представлял Костик, что они так противно скрежещут. Для врага – так, наверное, очень противно, а для себя – приятная такая противность, а может, и не противность вовсе.
А еще через несколько минут «газик» во весь опор, высоко подпрыгивая, несся в сторону от боя, и тут только Костик и остальные рядом с ним поняли, что опасность позади.
Костик попросил остановиться, отошел подальше, его качало, как от ветерка. Присев, стал он выташнивать из себя какую-то желтую горечь… Его долго рвало.
41
Он открыл глаза с ясным пониманием, пришедшим к нему мгновенно, что весь допрос и все его откровения случились с ним во сне. А значит, и страхи его с разоблачением нереальны; зазря он трясся там, на сцене клуба, ожидая, когда Зелинский спросит у него, почему-то казалось, что этот Зелинский все знает: «Все преступления твои, братец, налицо, кроме одного… И ты знаешь какого?»
Да и кто, если подумать, мог догадаться, что за странная трехнедельная командировка оказалась на завод ЗИС, после которой он приехал молчаливей прежнего… Рассказывал лишь про баню с белыми простынями, которая поразила его воображение, про Москву, а про остальное железно молчал.
По ночам лишь просыпался от липкого страха, заставлявшего вздрагивать и слышать, как учащенно барабанит сердце, переживая сильней, чем наяву, увиденное и услышанное за тот короткий срок. И – особенно – этот, доносящийся до него голос: «Ко-стик!»
Костик оглянулся. Показалось, что кто-то позвал. Светило в рыжие от грязи стекла под самое перекрытие солнце, его косые лучи пятнали стены и пол. Слух уловил музыку, но не поверилось, откуда бы ей взяться здесь, на заводе. Но музыка и впрямь звучала, она доносилась со двора, то сильней, то тише, это были марши…
Швейк прокричал привычное:
– Кончай ночевать! Последний бежит за доппитанием!
Силыч пробурчал про козу Мурку, которую бы пора доить.
Швейк сказал:
– А мне сон приснился про твою Мурку, знаешь?
– Ну, ну! Говори!
Все и Силыч уставились на Швейка, привычно ожидая занятной байки.
– Эх, как там моя Анечка… Единственная, неповторимая, вечная… – потянулся Швейк, оглядывая всех и улыбаясь.
– Ты про козу давай! А про Анечку и Людочку мы знаем!…
– Вижу я, идет по поселку Силыч и ведет свою козу, – начал Швейк и замолчал.
– Рассказывай! – разрешил Силыч, посмеиваясь.
– Разрешаешь?
– Конечно!
– Так вот, ведет он козу на веревочке, а навстречу ему милиционер.
Тут проснулся Костин страж и сразу спросил:
– Кто? Кто?
– Не вы! Не вы! – быстро отреагировал Швейк. – Другой совсем милиционер. И спрашивает он Силыча, кого, мол, ты ведешь-то? А Силыч отвечает: «Кота вывел на прогулку…»
– Кота? – спросили ребята. И Силыч удивился.
– Ну да, говорит, кота Мурку… – продолжал Швейк. – «А чего же у твоего кота рога выросли?» – спрашивает милиционер…
А Силыч и отвечает…
– Ну? Ну? Что отвечает Силыч-то? – спросил кто-то, хихикая.
– И Силыч отвечает… Рога… Это, мол, его интимное дело…
Тут влетела в цех Ольга Вострякова.
– Сидите? – спросила, а у самой рот до ушей. – Ничего не знаете?
– Знаем, – пробурчал Силыч, которому помешали дослушать историю, нарушив под самый финал. – Из прорыва вышли…
Швейк добавил:
– И милиция помогала!
– Да нет! Нет! – произнесла Ольга, сияя, из нее так и рвалось, и никак она не могла высказаться. И вдруг произнесла так, будто до самой только дошло: – Ребята… Ведь победа…
Так оно прозвучало для них для всех первый раз.
А потом каждый из услышавших сам попытался произнести это слово. Но не так, как прежде, когда его ждали и когда оно выходило как бы вопросительно, а по-новому, будто бы пробуя его на вкус и понемногу с ним сродняясь, находя свою собственную, личную в нем интонацию.
Победа. Победа. Победа. Победа. Победа. Победа. Победа.
Вот столько раз его повторили. Это слово пришло не извне, а родилось внутри каждого, и потому оно стало сразу своим, обозначающим самое откровенное в жизни, до конца ее. У каждого не только само слово, но и сама Победа была своя, хотя и общая со всеми. И никто, наверное, еще не догадывался, что теперь оно будет звучать для них всю жизнь, ибо сам день, которого они еще не знали, не видели, станет для них одним из самых дорогих и близких дней… Чем далее во времени, тем глубже, сильней для его понимания.
Сейчас же этот день никак не осознавался в исторической перспективе, а казался лишь границей, за чертой которой заканчиваются все в мире страдания, все потери, все смерти, а начинается новое, которому, хоть оно и мир, но нет реального названия. Мир – уж слишком просто и обыкновенно, а то, что будет, будет, ясное дело, необыкновенно и прекрасно.
Люди из цехов валили на улицу, ослепленные ярким днем, оглушенные собственным сердцебиением, сливающимся с тактами яростной, гремевшей будто с небес музыки.
Кто пережил Победу, тот не может не помнить, что день этот с утра был особенный и даже воздух был особенный, он искрился золотом и полыхал солнцем.
И те, кто появлялся на улице, выходя из домов, тоже изменялись, становились иными, в их глазах, в жестах, в настрое возникало торжественное и ликующее и наступала особенная близость между каждым человеком и всеми остальными людьми.
Они стояли за воротами: Силыч, Швейк, Костик вместе с милиционером и вся остальная смена.
Стояли и щурились, потому что они еще не жили при Победе и не знали, как при ней живут.
Какой-то пацан гнал мимо тряпочный мяч, играя сам с собой и делая самому себе пасы.
Все вдруг уставились на него, на его ноги, ловя мгновения этой странной игры, про которую они, казалось, навсегда забыли.
И вдруг кто-то, опомнившись, завопил:
– Подкинь!
Бросились к мячу, сняв его с ноги пацана, и погнали по лужайке, поднимая столбом пыль.
– Пасуй!
– Вдарь!
– Подкинь!
– Мочи!
– Мазило!
Милиционер не отставал от других и тем более от Костика, которого ему следовало сторожить. Где-то на подходе к импровизированным воротам он рассерженно закричал:
– Подсудимый! Отдай мяч! Я кому говорю… Отдай!
Откуда-то появилась Лялька.
– Ребята… Возьмите меня…
Силыч коротко, но выразительно взглянул на нее и промолчал.
– Возьмите… меня… Я же первая принесла Победу!
– Обвинительница! Ольга Викторовна! – сказал Силыч громко, указывая на нее ребятам и как бы представляя.
– Но я же Лялька… Я же Гаврошик…
– Ах, Лялька!
– Да, да!
– Ладно, – разрешил Силыч. – Становись, Лялька, в ворота и защищайся. – А ты, Костик, будешь ей бить!
Ольга попыталась торговаться, но все прикрикнули на нее, и, поняв, что ее взяли, почти взяли, она встала в ворота, надев чей-то от солнца картуз. Рядом стоял мальчик, хозяин мяча, и просил ее:
– Теть, я этот угол держать буду…
– Держи, – кивком разрешила она и поплевала на руки.
Костик разбежался – все смотрели и все понимали, что это за поединок, который они сами организовали – и дал по мячу так, что Лялька упала, не взяв мяча, а мяч, взвившись в воздух, улетел в глубину леса.
42
Игра продолжалась, но милиционер уже отвел Костика в сторону и приказал идти за ним.
– Куда идти-то? – спросил Костик.
– Не знаю, – ответил милиционер. – Велели на суд приводить…
– А будет? Суд-то?
– Кто же его отменит? – резонно произнес милиционер. – Без суда в нашей жизни нельзя.
– Сегодня?
Он в раздумье покачал головой.
Милиционер был одних лет с Костиком, но покрупней, видать, из деревни.
Он поправил на себе форму, которой, видать, дорожил, отряхнул пыль и стал вслух соображать, что ему с Костиком делать.
Победа хоть и, понятно, праздник, но возник не по порядку, как возникают, скажем, другие праздники… Чтобы заранее прочитать в газетах, как, кому и сколько праздновать, и что нести на демонстрацию, и как вообще проводить мероприятие. И в газетах, и по радио о том объявят, всем понятно и удобно, потому что без проблем.
– Может, в КПЗ тебя отвести? – спросил он.
– Можно, – согласился Костик и посмотрел со вздохом на дружков, которые, забыв обо всем, гнали по поляне мяч. Лялька стояла в воротах. – А может, к маме?
Милиционер хотел было произнести слово «не положено», но поперхнулся. При слове «мама» в его лице промелькнуло что-то живое.
– Давай. Только ненадолго, – предупредил он и пропустил Костика вперед.
Но Костик не пошел к матери, хоть очень ему хотелось ее увидеть. Он пошел к Катиному дому, резонно считая, что милиционеру, в целом, все равно, куда идти, он тут недавно и поселка не знает.
Они прошли по улицам, ставшим вдруг многолюдными: слышалось радио, играли на гармошке, а кто-то выставил на середину улицы стол, угощал всех встречных-поперечных самогонкой и солеными помидорами. Поднесли и милиционеру, как представителю власти, но он рукой отвел. – У них свои дела, а у нас свои, – буркнул и велел Костику идти дальше.
У знакомой калитки Костик замедлил шаг, вглядываясь в глубь сада и пытаясь угадать, кто из них, Катя или Зина, дома. Но что-то еще мешало ему перешагнуть границу сада, где все так живо напоминало о недавнем убийстве.
– Иди уж… – сказал милиционер. – Я тут постою.
Костик потоптался и пошел по тропинке в направлении террасы. Шел, не глядя по сторонам, а лишь себе под ноги.
Постучал в дверь, тихо, потом чуть сильней. Никто ему не ответил. Взглянул на окна, и там никого не было. Лишь на одном как бы наизнанку были процарапанные слова: КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. И после слова «нельзя» стояла жирная запятая из приклеенного кусочка бумаги. Видно, что ее поставили в другое время.
Костик вздохнул и вернулся к калитке, где, позевывая, стоял все в той же позе милиционер. Завидев Костика, он удивился:
– Так скоро?
Костик кивнул.
– Ну, пошли?
– Куда?
– Не знаю.
– Может, подождем? – попросил Костик.
– Ушли, что ли, твои? – Милиционер посмотрел, прищурясь, на солнце и сказал: – А у нас в Первомайске сейчас пьют… Батька-то у меня погиб, а мамка с невесткой, она жена моего старшего брательника, да еще бабка, достали рюмочки и дуют… И плачут… Они когда соберутся, бабье-то, пьют да плачут, дуры слезливые… Уж сегодня и подавно!
Он поправил фуражку:
– Надо идти, гражданин Ведерников! А то с меня спросят! Скажут, потеряли в праздник подсудимого, а его нельзя никак терять… А то непорядок, вдруг да решат – суд, а подсудимого и нет… Кого же тогда судить, спрашивается?
– Еще секунду, – попросил Костик и бегом вернулся к дому. Милиционер ничего не успел ответить.
Обошел дом со всех сторон, убедившись снова, что никого нет, и даже собак нет, уж они-то куда делись!
Дверь в подвал была распахнута, он вошел, спустившись по крутым каменным ступенькам. Сразу ощутил особый тяжелый прохладный воздух, и запах камня, и глубинную тишину, как в подземелье.
Суеверно подумалось, что здесь, вдали от людей, еще хранятся те звуки, те слова, которые они недавно произносили. Он напрягся, вглядываясь в сумрак, и вдруг услышал:
– Ну, здравствуйте вам… Не признали?
– Здравствуйте. Константин Сергеич?
– Они самые… Как у вас тут? Не дует?
– Не дует. Как в мертвом царстве.
– Хочешь погулять?
– По-настоящему?
– Ну, конечно! По улице!
– Я сегодня одну улицу прошла…
– Гульнем, аж чертям жарко станет! Представляешь?
– Не представляю, Константин Сергеич.
– Лезем? Ну?
– Нет.
– Что нет? Не можешь, не хочешь?
– Нет.
– Заладила, как попугай! Нет, нет… Ты хоть другие слова-то знаешь?
– Нет…
Костик вздохнул и вышел.
За забором, против террасы, стояла женщина и молча смотрела на него. Он ее сразу узнал, она была в тот вечер среди гостей, а на суде она выступала как свидетельница.
– Эй, – крикнула женщина. Она-то, видно, его не узнала. – Тебе кого?
– Катю, – сказал он и сделал к ней несколько шагов.
– Их нет, – отвечала женщина.
– А где они?
– Не знаю. Ушли утром. А вообще, они не будут тут жить, их, говорят, гонят…
– Гонят? – спросил Костик, приблизившись к женщине. – Кто их гонит?
– А кто… Зинка кому-то отдала дом-то, ну а тот еще кому-то продал, и вообще неразбериха… Так что не ходи сюда!
– А где их искать? – спросил упавшим голосом Костик.
– Этого я не знаю, – произнесла женщина и ушла к себе.
Костик вернулся к калитке. Милиционер гулял в конце улицы, а у забора сидела на земле Катя, поддерживая одной рукой корзиночку. Костик посмотрел и сел рядом.
Катя оглянулась, охнула: «Вы?»
– Напугал? – спросил он.
– Нет, – ответила. – Я задумалась.
Вдруг он увидел, что она плачет, без слез, беззвучно, только губы вздрагивают.
– Ну, Кать, – попросил он. – Ну что ты… Все будет хорошо, вот увидишь… Ты из-за дома, да?
Она помотала головой.
– Дядю жалко.
– Букаты?
– Ты ничего не знаешь?
– Нет, – сказал Костик.
– Он сегодня утром умер… Там Зина…
– А на заводе тоже не знают, – зачем-то сказал Костик. – А ведь победа…
Катя всхлипнула и посмотрела на него. Проглотила слезы, спросила, заикаясь:
– Правда?
– Конечно, правда!
– А я, дура, и не поняла… Думаю, отчего это музыка играет и все какие-то необычные… А я еще ничего не знаю… Иду и ничегошеньки не знаю… А мир-то другой… И деревья, они ведь тоже почувствовали… Правда… И небо, и солнышко… Вы слышите?
Костик заглянул в лицо Кати.
– Что?
– Как же, ведь они же все шепчут… И травка, и деревья… Зима кончилась… И все теперь будет по-другому… Неужели не слышите?
Тут вернулся милиционер:
– Пойдемте, гражданин Ведерников! Хватит!
– Куда? – спросила Катя.
– Куда надо, – строго сказал милиционер. – В КПЗ пойдем!
– Я тоже пойду, – решила Катя.
– Это вы как хотите, – подумав, сказал он. – А нам пора.
В конце улицы показалась Зина. Она шла, глядя в землю, и ничего не видела: ни Кати, ни Кости с милиционером, и лишь наткнувшись на них, остановилась. Бросилась к Кате, разрыдалась.
– Зин… Ну чего ты… Зин… Ну не надо… Вот Костя… Он говорит, что победа наступила… Слышь, Зин… Кость, ну скажи, ведь правда? Победа?
– По радио доложили, – подтвердил милиционер. – Что капитуляция всего фашизма… Праздник, значит…
– Вот видишь, Зин! – воскликнула Катя, а сама заплакала.
– Как теперь жить-то будем? – спросила Зина и оглянулась на Костю. Она сняла с головы платок и стала вытирать слезы.
Милиционер стоял, смотрел на них, нетерпеливо переминаясь, не зная, что ему делать.
– Как положено, значит, так и будем, – пояснил он. – Как вождь всех народов прикажет… Генералиссимус, значит… А сегодня, гражданочка, праздник, и надо не плакать, а положено всем радоваться!
– Но ведь нет никого, – повторяла Зина. – И дома нет, и все пропали… И Толика нет, и Чемоданова посадили… И брат… Не дожил… Несколько часов ведь не дожил…
– Вы хотели идти, так идите, – сказала Катя строго милиционеру. – Нашли зрелище смотреть, как женщина плачет!
– И я говорю… – милиционер пожал плечами и пошел, взяв за руку Костика, забыл даже приказать идти впереди.
А Катя крикнула вслед:
– Костик! Я догоню! Ты не бойся! Я с тобой буду!
А когда они скрылись в конце улицы, двое так странно выглядевших в этот день, со стороны – друзья не разлей водой, она взяла Зину за плечи и посадила на зеленую траву у забора.
Она гладила ее голову и говорила: «Это правда, – она говорила. – Правда, что их нет. Они остались там, Зин… Они до этого дня все остались… Знаешь, Зин, теперь так и будет у нас с тобой, то, что до этого дня, и что после…»
Дуновением ветерка, теплого, ласкового, донесло музыку марша. Наверное, по радио из Москвы транслировали.
Катя подняла голову, прислушалась. И снова приникла к Зине, стала вытирать ей слезы на щеках, и руки у нее стали мокрые от чужих и своих слез.
«Мы с тобой, Зин, остались, правда… Пусть без дома… Мы-то живы, и мы есть друг у друга… И Костика я люблю… Я спрашивала у них… Я спрашивала, как его осудят, а они говорят, что пять лет… А может, даже меньше… Но я буду ждать, а если его куда пошлют, то я за ним поеду… А потом мы будем все вместе, ты его тоже полюбишь… И будет у нас другая жизнь… Новая, правда, Зин… Ты посмотри! Посмотри! Ты же видишь, какой это мир начинается красивый! В нем уже никто никуда не пропадет, и все только будут любить друг друга… Ну правда же! Зин! А я вдруг впервые поняла, что мне жить хочется… Очень хочется, Зин… И счастья тоже хочется…»
– Встать, суд идёт!







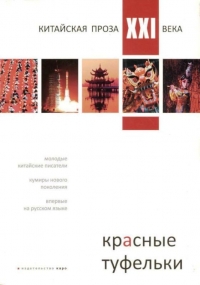

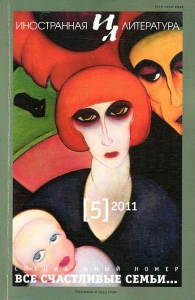

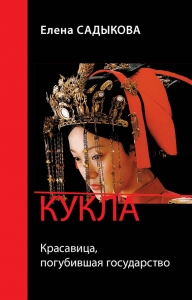
Комментарии к книге «Солдат и мальчик», Анатолий Игнатьевич Приставкин
Всего 0 комментариев