Патриция Гёрг
ШПАГАТ СЧАСТЬЯ
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих лет опять найдешь его.
Книга Екклесиаста 11:1В пять часов вечера Маат меняет свою служебную форму на рубашку и брюки, причесывается и вступает в современность, спускаясь с заднего крыльца музея. Навстречу ему низко над землей летят птицы. Ветер несет мимо него обрывки газет. Маат идет домой.
За его спиной закрывается музей. Залы постепенно, один за другим, погружаются во тьму. Гардеробщицы собирают забытые, еще плачущие дождем зонтики. Они пересчитывают чаевые и ныряют в демисезонные пальто. Это время года — время приглушенных красок. Рано темнеет.
Маат идет домой. Автозаправочные станции щедро расточают свет. Они стоят плотно друг к другу, словно деревья на аллеях. Маат идет. Мимо него тянутся однообразные декорации. Он не слышит собственных шагов. Громко хлопают дверцы машин. Из магазинных тележек, щелкая, выскакивают монеты. На светофорах пульсирует металлический сигнал для слепых.
За спиной Маата, в потухшем музее, погружаются во мрак картины, прибывшие из далекого далека.
Дома Маат снимает ботинки. Ложится на софу. Боль распинает его спину. Он целый день стоял или ходил со скрещенными за спиной руками, измерял расстояния шагами, которые с годами сделались совершенно одинаковыми, а его волосы постепенно поредели.
Квартира Маата — его крепость. Это единственное место, где он может лежать. Посылаемые миром волны слабеют, увязая в ее стенах.
Маат включает телевизор. Программа, которая сейчас идет, называется «Шпагат счастья». Он смотрит ее каждый день. Одна из претенденток на выигрыш с завязанными глазами ощупывает призы. Подушечки ее пальцев скользят по холодильникам, стиральным и посудомоечным машинам. Сначала она молча раздумывает, затем начинает с вопросительной интонацией в голосе называть некоторые предметы вслух. Ведущий хватает ее за плечи и смеется. Он показывает на свой рот. Маат видит, что там, на свисающей изо рта ленте кассового аппарата, проставлены правильные названия предметов. Он видит пальцы претендентки, обрамленные экраном телевизора. Они возбужденно мечутся по нему вверх-вниз, как маленькие рыбки, потерявшие вблизи поверхности воды предмет своей страсти. Маат лежит на софе и храпит.
Каждое утро Маат идет в музей. Он идет по мягко поднимающемуся вверх желтому холму. Слева и справа в первых проблесках утра встают крестовины столбов. Играют собаки. Женщины несут корзины с овощами. Маат улыбается. Он бросает деньги в шляпу слепого. На горизонте высится музей. Его окна сияют. Все дорожные указатели направляют к нему. Деревянные простертые руки, обветшалые компасные стрелки, камни, наполовину ушедшие в землю, показывающие одновременно на музей и на небо. Маат идет, следуя указателям. Напрямик.
С другой стороны приходят гардеробщицы. По пути от остановки, где они выходят из автобуса, до музея они почти не разговаривают. Их головы повязаны платками. Они считают свои шаги. В их животах булькают по две чашки горячего кофе. Они здороваются друг с другом коротко и хмуро. Маат видит только их темные силуэты: далеко от него на фоне неба равномерно движутся вперед словно вырезанные ножницами фигурки. Над ними замерло огромное красное солнце. Музей ждет. Музей, освобожденный от отлива утра, ждет своего смотрителя Маата.
* * *
— Маат? — говорят коллеги. — Маат всегда пунктуален. Маат, — говорят коллеги, — всегда входит в здание на цыпочках. Маат, — говорят коллеги, — всегда тихий, никогда не болеет и приглаживает свои желания, словно волосы на голове, так что их уже не различить. Наш коллега Маат, — говорят сотрудники, — питается воздухом. В обеденное время он исчезает. Пока мы сидим в столовой, он гуляет. И никто не знает где. Маат, — говорят коллеги, — не любит болтать, даже тогда, когда залы почти пусты и мы еще торчим здесь, а снаружи собираются тучи. Маат очень скучный, — говорят коллеги. — Иной раз кажется, что можно смотреть сквозь него, — вот что они говорят.
Маат надевает свою служебную форму. Стены раздевалки запотели, штукатурка отваливается, пятна плесени расползаются, образуя узор, в котором Маат иногда различает крестьян, обрабатывающих плугами свои поля. Он видит дельту реки, над которой поднимается солнце. Пыхтит отопление. Маат раздвигает занавески раздевалки. Регистрируется в книге дежурств. Он ежедневно расписывается в одной и той же графе. Каждый день он пишет: Маат, дежурство в отделе «Средние века». Годами кружит он по одним и тем же залам. Его коллеги регистрируются перед его строчкой. Они охраняют Новое время. Они стоят между портретами и пейзажами, битвами и набухшим мясом, брызгами красок и восклицательными знаками и косятся на ноги молодых женщин.
Никто не оспаривает у Маата Средневековье. Он там один.
Маат входит в свое царство. Стены обтянуты матово-зеленой тканью того цвета, который напоминает о погибающих домашних растениях. Этот цвет приобретают горшечные растения, если они позабыли, где находятся, и уже отстраненно смотрят, как их кто-то поливает. На обивке, будто разбитые параличом, висят картины. Маат прищуривается. Он научился не смотреть на зеленую поверхность. Под его ногами скрипит паркет. Он считывает одно за другим показания гигрометров. Они тикают так быстро, будто измеряют время, капающее время, время, вытекающее из крошечной пробоины. Их иголки чертят профильные контуры. Маат видит горные цепи, долины, высокогорные плато, превращающиеся в пропасти, и горы, медленно поднимающиеся из моря. Маату нравятся морская пена и песчаные бури. Землетрясения начинаются и прекращаются. Маат видит под стеклом гигрометров ландшафты, простирающиеся во все стороны. Он склоняется над иглами. Оживленные его дыханием приборы рисуют горы в пять миллиметров высотой. Маат начинает свой обход.
Во время первого обхода в музее еще нет посетителей. Маат фиксирует картины краешком глаза. Он проверяет застывший пейзаж из рам, скамеек для отдыха, опорожненных корзин для бумаг и осветительных приборов. Он идет, увязая в плотном воздухе, сгустившемся вокруг батарей. Раздвигает шторы. По утрам он обеспечивает картины дневным светом, днем, когда солнце стоит высоко, он снова заслоняет их и погружает в мягкие сумерки. Картины необходимо щадить. Если их осветить, они испугаются и пропадут.
Маат смотрит на свои часы. Скрещивает руки за спиной. Одна рука сжимает другую. Они как пара давно знакомых животных, целыми днями дремлющих вместе. Они почти не шевелятся во сне. Он чувствует их белую кожу. Он чувствует, что они грезят, страдая дневной слепотой, что они пусты, что они отпускают его, когда спят. Маат не владеет специальной ловкостью рук. Маат не рубит свои дни как дрова. Его руки лежат спокойно.
Картины медленно, одна за другой, просыпаются. Святые поднимают паруса. Появляются парящие рыбы и ангелы. Между ними вощится золото. На темных водах плавают постепенно проявляющиеся лица. Включаются вентиляторы. Поднимается бриз. Маат начинает кружить в матово-зеленой шкатулке своего дня.
* * *
Когда Маат наконец вытягивается на софе и ранний вечер опускается на крыши, висящие на всех домах тарелки собирают картины, падающие в них прямо с неба. Картины светятся. Они показывают частички счастья в стеклянных плоскостях, подсвеченных так, что кажется, будто они парят в темноте. Они показывают участников игры, крепко держащихся за пульты, потому что сквозь рамы этих картин на них веет ветер судьбы.
Маат видит небесный город. Люди прислонили лестницы к городским стенам и пытаются забраться наверх, но лестницы очень высокие и к тому же качаются. Маат слышит, что говорит ведущий.
— Не бойтесь, — говорит он.
Маату завязывают глаза. Он знает, что должен вскарабкаться вверх по нескольким перекладинам лестницы, потом вдруг чувствует, что его подхватывают мягкие крылья. Он вдыхает аромат духов ассистенток, который расстилается во все стороны, как павлиноглазое крыло серафима.
— Мы прикуем вас к колесу, — говорит ведущий. — Но вы не должны бояться.
Маат слышит аплодисменты публики. Ассистентки дотрагиваются до его запястий. Когда колесо начинает вращаться, у него волосы встают дыбом. Он выкрикивает гласные буквы. Ассистентки проверяют, близок ли он к разгадке. Они перемещают для подсказки деревянные кубики алфавита. Маат слышит, как публика тихо удивляется. Когда колесо останавливается, он все еще кричит. Ассистентки снимают повязку с его глаз. С колосников опускается вниз свежеиспеченная улыбка и располагается на лице ведущего. Он хочет проститься с Маатом, но кисть руки Маата, отделившись от сустава, повисает в руке ведущего.
Маат открывает окно. Он вдыхает запах земли палисадника. Ночные бабочки сбиваются в блестящий конус и вьются внутри лампы. Далекий шум, как бы прикрепленный к небосводу, парит над городом. В боковых зеркалах припаркованных автомобилей отражаются припаркованные автомобили. Дома спят. Время от времени вспыхивают их номера: их веки слегка приоткрываются во сне. Под звездами беззвучными стаями пролетают спутники. Маат слышит звяканье собачьих жетонов, когда к дому приближаются последние прохожие.
В телевизоре, рассекая воздух, свистят слова. Счастье нужно угадать. Иной раз это поговорка, незначительные сведения о мире, мудрость, что стоит у самого вашего порога, синица в руке, которая может вспорхнуть и через мгновение превратиться в журавля, иногда это слово из многих букв, которое извивается по углам и перекрывает кислород играющим. Иной раз это имя человека, который добился большего успеха, чем остальные, и теперь радостно помахивает всем со своего пьедестала.
Руки у игроков холодные и влажные. Иному счастью цена сто тысяч марок. Его нужно отгадать. Оно прячется в головах людей, притаилось за оградами, за стенами из воспоминаний, которые теперь лишь помехи. Претенденты изо всех сил стараются выманить его оттуда. Они борются сами с собой, пока их лица не становятся багровыми и мятыми. Ответы не вертятся у них на языке. Ради них они готовы расшибиться в лепешку.
* * *
Маат идет, слегка нагнувшись вперед. К его поясу прикреплено переговорное устройство. Рядом с ним висит большая связка ключей. Она звякает при каждом его шаге. Ключи открывают невидимую часть музея: склад, производственные помещения, мастерскую реставратора. Маат их редко использует. Он живет в своей служебной форме. Он заполняет ее всю целиком. Его служебная одежда обволакивает его, как обветшалая, давным-давно возникшая земная кора обволакивает свое ядро. Маат идет обычным для себя маршрутом, его ноги трутся о пол музея. Его встречает все то же число все в той же последовательности висящих картин. Это планеты, на которых живут другие люди.
Царица Савская преклоняет колени перед Соломоном. Она прибыла издалека, через пыль пустынь, через желтые пески. Вместе со своей свитой она ехала под огромным небом, по которому вверх-вниз ползало солнце, царица же двигалась вперед. Она ехала долго, через скалы и тернии, за ней шли тяжелогруженые верблюды. Она шла из страны ладана и караванов. Она отправилась в путь, потому что мудростью и богатством Соломон превосходит всех царей на земле. Все на свете жаждут увидеть Соломона, чтобы услышать мудрости, которые Господь вложил в его сердце. Царица Савская прибыла, чтобы испытать его загадками. Она спросит о шестиугольнике, вырезанном на его кольце. «Как видимое сочетается с невидимым?» — спросит она. Два треугольника проникают один в другой. Это ключ к загадке царя Соломона.
Она склоняется перед ним. Он восседает на троне, подобно драгоценному растению. Его одежды струятся строгими зелеными складками. Его красный головной убор собирает росу, как цветок.
— Лучше горсть с покоем, — говорит Соломон, — нежели пригоршня с трудом и томлением духа.
На царице Савской голубая накидка.
— Все труды человека, — говорит Соломон, — для рта его, а душа его не насыщается.
Царица Савская испытывает его загадками. Она беседует с ним обо всем, что заранее наметила, и Соломон отвечает ей на все вопросы, ничто не сокрыто от царя. И она говорит: «Все, что я слышала в своей стране о твоих деяниях и о твоей мудрости, — это правда».
Соломон смотрит на нее. Ее высоко поднятые волосы убраны под белое покрывало. Его брови склоняются к ней. Она преподносит ему золотой кубок. Левая рука царя вытянута вперед, она в центре картины, на золотом фоне остановившегося времени, ладонь повернута вверх, так что в ней могут собираться роса и воздух. Он не дотрагивается до кубка. Его рука будто парит в воздухе.
Приходят первые посетители — страстные любительницы музеев из чужих городов. Они приносят с собой мармеладный глянец своих завтраков, у них наручные часы, которые слегка отстают. Дамы прислушиваются к голосам эпох. Их улыбки ровны и робки. С каталогами в руках они перемещаются от картины к картине. Они листают каталоги, пока не найдут нужные номера, при этом золотые циферблаты их часов задевают раскрытые страницы. Дамы раскачиваются взад-вперед. Откашливаются. Сравнивают подлинник с уменьшенной копией в каталоге. Они ищут точку опоры на прогалине Средневековья. Они выясняют, где жили художники, кому они подражали, кто подражал им, как они смешивали краски, где висели их картины, страдали ли они от голода, что им удалось и какие стези проложили они для спасения мира.
Они ищут в каталогах, что следовало бы посмотреть. Они отмечают, на что не стоит обращать внимание. Ангелочки порхают вокруг них, как насекомые. У ангелов толстые щеки, и все они поют. Дамы чуть слышно подпевают.
Маат считает пылинки. По утрам, когда свет струится наискось, он видит, как пыль безмолвно затопляет картины. Она прикасается к лаку, проникает в трещины и щели, тяжелеет и опускается на пол, вздымается вверх от движений Маата, поднимается облачками над отопительными приборами и снова подлетает к успевшим за это время состариться картинам. Рука Соломона уверенно протянута вперед.
* * *
Когда Маат по вечерам клюет носом у телевизора, освещаемый голубоватым светом его экрана, он время от времени переворачивается с боку на бок. Постепенно боль начинает распинать его спину, и он приоткрывает глаза, чтобы понять, где это он. Он в своей комнате. На экране танцует надувной шар. Он прыгает прямо на Маата и извергает из себя различные ландшафты и сгустки пламени. Из него тихо выкатываются лимузины. Он идет дриблингом, как ему заблагорассудится, над головой ведущего. Иногда этот шар становится размером с Землю, потом опять делается маленьким, как точка схода на горизонте. Маат видит, как изменяются его цвета. Стремительно проносятся континенты: голубые моря и сверкающие горы, желтые пустыни и красные дыры, всевозможная жизнь под далекими небесами.
Ведущий излучает палящий свет. Он что-то ждет. Его вынужденно отдыхающие руки сложены на животе. Погрузившись в глубокую задумчивость, они мурлычут считалочки. Ни одна из них не дернется прежде времени. Они знают, что иной раз не нужны, и потому должны спокойно лежать поверх лобка и ждать своего часа. Им скучно, но они стараются, чтобы никто не понял их тусклые мысли. Маат подозревает, что они с удовольствием растерзали бы ведущего, лишь бы освободиться, лишь бы больше не находиться в этом палящем свете. Когда ведущий выходит из оцепенения, он опять выглядит так, будто хочет обнять всех и каждого.
Появляется дикторша. У нее гладко зачесанные волосы. Ее губы шевелятся. Она рассказывает о счастье.
— Для вас, — говорит она, — мы поставили его на попа.
У дикторши золотые волосы. Она почти все помнит наизусть. Она старается говорить о счастье не по бумажке.
— Оно большое, — говорит она. — Оно любит играть, — говорит она. — Оно не висит на небесах, — говорит она, — а катится к тем, кто его жаждет. В вашей гостиной, — говорит она, — оно будет чувствовать себя как дома.
* * *
Маат вышагивает в своей скрипучей обуви. Солнце постепенно поднимается выше. Оно касается нарисованных маслом яблок. В райском саду просыпаются растения и животные. Каждый миллиметр заполнен мечтами. Львы и лани пьют из одного источника. Рыбы и птицы плавают в голубом воздухе. Цветы обвивают подножия деревьев, разливая запах земляники, птицемлечника и меда. Время, беззаботное как пыльца мотылька, зависло между небом и землей. Никаких облаков воспоминаний. Нет страхов, грозами спускающихся на землю. Рай спокойно дышит в своих рамах. Маат охраняет его от людей. Стоит им сунуть свои носы чуть глубже, как завоет сигнализация. Маат нервничает, когда заворачивает за угол.
Дух Божий носится над водами. Развевается его огромная ярко-красная мантия. Над бездною тьма. Мир круглый, это шайба, с которой играет Бог. Он отделяет свет от тьмы. Свет — это день, а тьма — это ночь. Он простирает руки. Он сотворяет мир из бездны. Развевается его ярко-красная мантия. Бог в апогее творения. Мир тяжел. Бог водворяет его на место. В нем еще кружатся, не смешиваясь, четыре стихии, еще вращаются, кольцеобразно, друг против друга огонь, вода, земля и воздух. Бог рассматривает свое творение. Он создает мир, где люди будут умирать. Мир парит на золотом фоне.
Внезапно под ногами Бога появляется земля. Он стоит босиком на шахматной доске, на черных и желтых плитках над бездной, в которой вращается мир. Его левая рука отпустила свое творение, его десница поднята. Она указывает открытой ладонью на созданный им порядок. Его левая рука в центре картины. Ладонь Его обращена к миру, готовая поддержать его в падении. Она покоится в тончайше прорисованном золоте.
Бог смотрит на то, что он сотворил. В центре мира открываются глаза. Сияет Спаситель. Его лик — это предчувствие в окружении кудрявых облаков. На все четыре стороны от него исходят лучи. Вокруг лица смыкаются красный круг неба и голубой круг воды. Бог стоит, слегка откинувшись назад. Его красная мантия ниспадает на его голубое облачение. Он собирает воды под небом в особых местах, и появляется суша. Он отделяет землю от моря. Мир растет. Бог благословляет его тремя перстами. Появляется все больше и больше созданий. Подобно каплям крови среди стволов деревьев сверкает земляника. Зигзагами высятся над бездной скалы. Вдали возникает тьма леса. Бог создает два светила — одно светило большое, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, и звезды. Он плотно окутывает их своей мантией. Созвездия плавают на волнах текущих небес. Солнце серьезно улыбается. Месяц, подобный серпу, прижимается к темному лику Земли. Из Вифлеема в картину восьмиугольником входит Звезда. Бог благословляет отплытие своих кораблей. Небесное море взбудоражено. Он сотворяет китов, а также щук и раков с грозными клешнями. Он создает животных, червей и полевой скот. Все животные кружатся вокруг него, а он, наклонившись, вдыхает в них душу. Его ярко-красная мантия колышется. Рыбы плавают в золоте, птицы раскрывают свои клювы, появляются хищные звери, травоядные животные и летучие мыши. Бог стоит на краю бездны. Земля еще не знает силы тяжести. Еще все летит по направлению к Богу, потому что Он — центр мира.
Маат пересекает утро. Он проходит между огромными алтарями. Иногда ему кажется, что он слышит, как там, глубоко внутри, резные изделия грызет древесный червь. Если поблизости нет посетителей, Маат прижимается ухом к древесине. Ему кажется, что он слышит, как червь вгрызается в артерии пораженных болезнью алтарей и выдалбливает их изнутри. Он проделывает извилистые ходы, по которым начинают странствовать их мысли. Алтари шепчутся. По их артериям внезапно начинает циркулировать воздух музея.
Святые и пророки меняют позы, шевелятся в резных нишах. Они подносят к глазам свои утерявшие земное тяготение атрибуты. Оценивают их значимость. Пересчитывают на пальцах добрые дела.
Маат слышит, как червь грызет дерево. Святые и пророки странно выгибаются. Маат видит, как они балансируют на алтарях, чтобы не упасть.
* * *
Ведущий входит в раж. Он делает стойку на руках. Из его карманов выкатываются монеты. Ассистентки приносят пачку банкнот и прикрепляют их бельевыми прищепками к его штанинам. Все еще стоя на руках, ведущий раздвигает ноги, и банкноты начинают колыхаться при малейшем дуновении воздуха. Из правого угла банкнот выглядывают Клара Шуман, Балтазар Нойман и Пауль Эрлих: отбрасывающая тень муза, архитектор, упорный исследователь. Три бюста с номерами серий. Бумаги шуршат. Они демонстрируют барочные дворцы, раскрытые фортепиано, украшения в форме слезок в ушах Клары Шуман. Пауль Эрлих наводит орудия точной науки на маленькие частички. Сквозь нули проступает серебряная падающая звезда: попытка защититься от подделки. Деньги, вечные бродяги, приковывают к себе взоры. Они поглядывают на мир из-за кулис достигнутого.
— Посмотрите, — говорит Пауль Эрлих, — я был обыкновенным человеком, но я открыл формулу.
— Посмотрите, — говорит Балтазар Нойман, — я был обыкновенным человеком, но я построил божественные здания.
— Посмотрите, — говорит Клара Шуман, — я была обыкновенным человеком, но я утешилась. Сквозняк поглаживает бумажные лица.
Ведущий не может больше стоять на руках. Он прыгает опять на ноги и поправляет галстук. На экране телевизора за его спиной возникает толстый мужчина. Он похлопывает ведущего по плечу. Ведущий делает вид, что удивлен. Толстый мужчина протягивает ему пряник в виде сердца. На сердце написано: «Мы тебя любим». Некоторое время ведущий не может сообразить, что ему делать. Он держит сердце перед камерой.
Вечер после рабочего дня, эта чернота, постепенно спускающаяся на землю, затопляет гостиную Маата. Теперь Маату уже не видно, сколько времени на часах, он определяет время по передаче «Шпагат счастья», которая всегда точно выходит в эфир, но такое впечатление, что длится дольше, чем это указано в программе. Только там, где экран излучает свет, где он похож на стомарковую банкноту, которую просвечивают специальной лампой, только там темнота слегка отступает. Только там, куда достают лучи, выныривают из темноты лица. Маат видит публику, на чьей одежде отпечатались цветы, приглушенные бури и грозы свободного времени. Он видит, как эти люди сидят в светлой студии на скамьях без спинок, вытянув ноги слегка вперед. Из предпоследнего ряда подают руками знаки. Это прибывшие в студию приветствуют оставшихся дома, потихоньку помахивая руками, пока они не начинают болеть. В последнем ряду разворачивают транспарант. На нем написано: «Мы здесь!»
* * *
Гигрометры тикают. В музее царствует искусство ожидания. Ближе к полудню Маат остается один на один с картинами. Он снова и снова рассматривает их в том порядке, в котором они встречают его. Он по буквам читает алфавит веры. Алфавит веры меняется. Он претерпевает уходы, катастрофы и вознесения. Маат погружен в одну-единственную историю. Когда залы пусты, он иногда садится на скамейку для посетителей и рассматривает картины оттуда. У скамейки нет спинки. С этого места он видит картины будто в первый раз. Они висят выше, чем обычно. Кажется, что они только появились на свет, эти с трудом поддающиеся расшифровке доски, которые по незримому мановению нисводятся с облаков.
Бог еще ниже склоняется к земле. Перед ним вырастает первый человек. Ангелы, размахивая кадилами и теснясь, нисходят с небесной тверди. Человек показался из земли только наполовину. Не прикасаясь к нему, Бог вытягивает его в жизнь. Он дает человеку имя Адам. Возникает небольшой вихрь. Правая рука Бога изогнута подобно радуге, его левая рука, почти касаясь указательным перстом указательного пальца Адама, ставит нового гостя на якорь земли. Руки Адама широко раскрыты. Он готов жить. Но Бог опять усыпляет его. Он наводит на него глубокий сон и укладывает спать на поросшую травой скалу. Маленький лесок дает тень. Во время своего первого сна Адам обнимает сам себя.
Бог сотворяет ему спутника. Из ребра Адама вырастает маленькая женщина. Ангелы музицируют в честь ее появления на свет. Под огромным рукавом Бога женщина раскрывает свои руки.
Ева благодарит. Бог оставляет первых людей наедине. Над ними склоняются деревья, широко раскидывая свои ветви. Оба человека гуляют и ощупывают стволы. Они не знают, где они находятся. Они набредают на дерево с красными плодами. Вокруг его ствола извивается, мечтательно улыбаясь, змея. У змеи белокурые волосы. Не хотят ли люди получить что-нибудь в руки? Пустые руки, говорит змея, бесполезные руки. Она срывает два красных шара и дает их людям. Ева поднимает шар к лицу. Внезапно она видит в нем свое отражение. В картину вдвигается стена.
День становится прохладнее. Бог призывает свои творения. Своим властным перстом он указывает на дерево с красными плодами. Над трещиной в земле сияет лицо исчезающей с улыбкой змеи. Появляется херувим, и его гнев повергает Адама и Еву в бегство. Они, спотыкаясь, бросаются вниз по лестнице. Впредь небо для них закрыто. Оно высится над ними как крепость. Они идут, шатаясь, вниз, навстречу мотыге и веретену, навстречу земле, на которой история их будущих детей будет всего лишь дуновением ветра.
Маат слышит шаги. Входят и растекаются по залам школьники. Музей наполняется запахом жевательной резинки. Маат пугается. Он следует за школьниками, ни на секунду не выпуская их из виду.
— Старые мастера, — говорит незнакомая Маату экскурсовод, — могли проходить сквозь время, как сквозь зыбкие стены. Мы не знаем, кто нарисовал эти картины, — говорит она, — поэтому мы называем художников по их творениям. Мы даем им условные имена. В сущности, — говорит она, — имя для человека не важнее шляпы; снимаешь ее с головы, и дух беспрепятственно проникает в непокрытую голову художника и начинает водить его кистью. Здесь вы можете увидеть его явление. Здесь вы видите ожившее Священное Писание, покрывающее свои слова плотью.
Маат разглядывает экскурсовода. Она начинает перечислять условные имена художников: Мастер Голгофы школы Вассерваас. Мастер Страстей Господних. Мастер жития Марии. Мастер святого Варфоломея. Мастер домовой книги. Мастер аллегорий бренности. Мастер видов города Ландсберга. Мастер из 1477 года. Мастер tabula magna[1]. Мастер англиканского образа Троицы.
— Мастер лунного моря, — добавляет Маат, — мастер дароприношений.
Женщина поворачивается к нему.
* * *
Маат грезит. Он словно за ниточки подтягивает события к себе. Вокруг него шелестят руки, собирающие запасы на зиму. Пахнет подогретой едой. Жалюзи падают, как гильотины. Далеко-далеко, в тишине мерцают созвездия прошедших эпох.
Ведущий подходит к женщине, желающей принять участие в игре. У нее на груди табличка с именем. Ведущий слегка присаживается и видит, что ее зовут Гизела. Она должна рассказать какую-нибудь правдивую историю.
— Я была ночью на шоссе, — говорит Гизела, — и толкала впереди себя тележку для покупок, в которой лежал мой только что родившийся ребенок. Я не понимала, куда толкаю тележку. Меня все время обгоняли машины. Люди в них отливали зеленоватым светом. Они сидели в своих жестянках слегка понурившись. Я толкала тележку. Ребенок, лежащий в ней, был совершенно голый. В свете неоновых реклам, возвышающихся вдоль шоссе, я вдруг заметила, что ребенок стал сжимать и разжимать свои ручки как будто в такт биению сердца.
— Гизела! — перебивает ведущий и заботливо приобнимает претендентку на выигрыш. Ожидание достигает предела. Какие-то мужчина и женщина начинают обниматься при виде падающего кубика и сверкающих цифр. Потом ведущий поворачивает претендентку к нужной камере:
— Это было великолепно! Вы выиграли четыре восстановленные зимние шины!
Маат лежит на софе и ждет вспышек вечерних сюрпризов. Ассистентки играют на маленьких трубах. Потом открывают большие ворота, за которыми скрывается занавес с нарисованными облаками. Занавес слегка колышется. Когда они его отодвигают в сторону, Маат приподнимается и наклоняется вперед, чтобы лучше видеть. На экране появляется гостиная. Там все на месте, только отсутствует четвертая стена, поэтому Маат может разглядеть внутреннюю часть комнаты. Женщина и ребенок сидят, согнувшись на телевизионном кресле, и зовут, и машут руками. Ребенок барахтается на коленях у матери. Через окно гостиной Маат видит ночную улицу, темную и мокрую от дождя. В лужах отражаются белые островки уличных фонарей.
* * *
Маат идет. Маат, всеми покинутый на прогалине Средневековья, идет вдоль ее солнечных краев. Застывшие жесты скользят по нему, как ветки деревьев. Это особые жесты: они приветствуют события, которые нельзя постигнуть. Они возможны только здесь. Столетиями они терпеливо выжидали и множились.
Перед бездонностью золотого фона появляется Гавриил. Путешествие растрепало его голубые крылья. Он складывает их. У него поручение. Его левая рука раскручивает ленту с текстом приветствия, его правая рука поднимается и указывает на первое слово. Ave — означает «оно». Ave Maria gracia plena dominus tecum.[2] Текст обвевает голову Марии подобно внезапно явленной ауре. Мария испуганно отрывается от изучения книг.
С трех пюпитров на нее смотрят труды, сочиненные людьми. Марии больше не следует читать. Уже исчезают страницы, которые до этого она перелистывала. Книги — всего лишь бумага, развеянная ударной волной ангела. Мария опускает веки. Она узнает, что ей предначертано. Она склоняет голову.
На верхнем краю картины золото разрывается. Из-за голубых облаков склоняется Бог. Вечность — это море, черно-голубой подол, с которого в картину падает краешек, когда появляется Бог. Он образует руками свод. Из его глаз, смотрящих долу, на голову Марии исходят три луча. По этим трем лучам движутся голубь и Младенец с крестом на плечах, как если бы это были ноты на нотном стане. Они внезапно пикируют, согласно Божьему повелению. Голубь прикасается к Марии своим клювом, обнаженный Младенец еще на полпути от Бога к ней. Он раскрыл руки, чтобы встретить Марию. Он стоит в воздухе на коленях и улыбается.
Правая рука Марии лежит, позабытая, на книге, которую она читала. Ее левая, решетка из плоти, поддерживает ее собственное сердце в волнах Благовещения: она покорно погружается в непостижимое.
Маат задергивает шторы. Солнце, стоявшее в зените, становится теперь скорее воспоминанием о солнце, слабым и беловатым. Маат не любит его, это белое пятно, вечно угрожающее погасить краски старых полотен. Некоторые из них могут выжить, только будучи защищенными от дневного света. Он задергивает шторы. Старые картины, охраняемые Маатом, это картины, возникающие в крепко зажмуренных глазах, это копии, это отпечатки увиденных ранее вещей и явлений, отчетливые схемы на сетчатке глаз.
Все вырастает позади глазниц, думает Маат. Все вырастает позади глазниц, в том числе мистические леса, где живут отшельники, улыбающиеся, когда их пронзает стрела охотника.
* * *
Некоторое время ведущего не видно. Потом он вдруг появляется, откуда ни возьмись, этот истинный хозяин экрана, и занимает свое обычное место с краю. Камера, подрагивая, следует за ним. Он обходит студию и смотрит направо. Из-за кулис, оттуда, где протянуты кабели, его собираются приветствовать карлики. Они спрыгивают с высоких фанерных стенок, где они висели как живые прищепки, скрепляя декорации, они падают с перекрытий, где они бегали и наводили на ведущего, следуя за каждым его движением, мощные лампы. Они сломя голову подбегают к ведущему, становятся друг другу на плечи и начинают его причесывать. Он пожимает им руки и хлопает по спине. «Вы подросли», — говорит он. Карлики смущенно смеются. На них надеты футболки с изображением головы ведущего. С криком «ура-а-а!» они ложатся на пол.
Маат переворачивается на другой бок. Теперь перед ним ровный решетчатый узор мягкой стенки дивана, сотни прямоугольников, бесшовно соединенные друг с другом. Они расплываются перед его глазами и превращаются в воспоминания. Между геранями кружится вертушка, мужчина безобразно трясущейся рукой подносит ко рту свой «Пильзнер», по подоконнику шагают верблюды. Выныривает слово «счастье». Оно как густая капля сгущенного молока, готовая оторваться и упасть с ложки. Умерший четыре года назад человек все еще сидит перед своим телевизором. Заключенные в рамы своих картин, средневековые пророки взирают из них на затишье истории, где крутятся деньги со все новыми и новыми номерами серий.
— Самое ужасное, — говорит ведущий за спиной Маата, — это когда я представляю себе, что каждое утро нужно идти на работу, а потом вечером возвращаться домой, и так, вероятно, в течение сорока лет.
Публика сидит в зале и считает в обратном порядке. При слове «ноль» должен появиться исчезнувший ведущий. Кто-то из публики испек торт и привез его в коробке из-под обуви. Люди прибыли издалека, они ехали мимо убранных полей и столбиков экстренного вызова, держа торты на коленях, а автобус с запотевшими изнутри стеклами вез их сквозь дождь, и единственным признаком жизни были лучи фар встречных автомашин. Когда дорога стала казаться им слишком долгой, они начали рассказывать друг другу анекдот о дуэли между слепым и глухим. «Он уже здесь»? — спрашивает слепой. «Он уже выстрелил?» — интересуется глухой.
И вот публика сидит в студии, считает в обратном порядке и вдруг внезапно видит перед собой открытое небо. Сидящие хватают ртом воздух. Мимо проносятся облака, на которых гигантские рты показывают, как надо складывать губы для крика. Руки отбивают стаккато. Вырванная из своих стульев, публика буйствует над землей в синеве неба, придя в себя, начинает петь, пока на горизонте не появляется зарево. Ведущий ввинчивается в экран. Он поднимает руки и широко раскидывает их. Сегодня ожидаются следующие чудеса: яичница, поджаренная под водой, и пожарные машины, наполненные пивом.
* * *
Маат прислоняется к стене. В музее стоит тишина, слышно только легкое потрескивание калориферов и жужжание мухи, собирающейся здесь перезимовать. Иногда Маату кажется, что он последний человек на этой земле. Иной раз ему представляется, что все кругом умерло и живы лишь старые картины, защищенные от смерти лаком, под которым сохраняются пейзажи, когда-то существовавшие в действительности. Маат размышляет о тех картинах, которые он обычно видит в конце рабочего дня: об их стремлении не изменяться и в то же время выглядеть новыми, об их усилиях прорвать черноту мира своими красками. Иногда он думает, что его руки, начинающие вздрагивать к концу рабочего дня, сами того не зная, ищут эти старые картины.
Обнаженный Младенец парит над землей. Он лежит на нимбе, воздев руки, он благословляет все, что видит. Приветствуя его, небо вспыхивает алым светом и равномерно покрывается цветками маргариток. В облаке появляется Бог, он посылает Младенцу Слово, которое сходит на землю сверкающим дождем. Пейзаж слегка раздвигается и разламывается вокруг Младенца, образуя темную пещеру. Вол и осел протискивают из тьмы свои головы. Там, где лежит Младенец, — голая коричневая земля. Вдали, над холмами, низвергается с неба Ангел. Он несет ленту с Благой вестью. Маленькие пастухи смотрят и указывают на него пальцами. Их стада пасутся на косогоре. Ни одно животное не пугается этого посланца, который падает с неба, как веселый самоубийца. Ни одна овца не поднимает голову. Овцы топчут копытами заросшую скалу и спокойно жуют траву, хотя на небе появляются новые созвездия и ленты с текстами. Даль зелена и покойна. Леса подстрижены и приклеены к зелени, дерево за деревом, их кроны молчат. Вдали ни один путь не перекрещивается с другим. Все само по себе. Все погрузилось в тишину сна.
Это пора золота. В центре мира — Младенец. Он лежит на нимбе. У него старое лицо. Младенец видит огонь и воду, землю и воздух. Он видит время до времени, он видит, как оно возникает, сжатое и тяжелое. Он видит, как извиваются корни вокруг обугленных сердец. Он видит прах, из которого на ветреных равнинах образуются все новые и новые творения. Он видит самого себя, свое гигантское тело, распластавшееся во все стороны, солнце и луна на плечах Его. Он видит птицу, возрождающуюся из пепла. Он видит пастухов, тихую зеленую даль, пасущихся овец. Он видит вола и осла, жующих у водосточного желоба. Он видит молитвенно сложенные руки и возвышающийся надо всем кроваво-красный купол неба.
В музее жужжит муха. Маат знает дни, которым нет конца. Он медленно шевелится в них, как в банке с медом. Он поднимает ноги, но ступает каждый раз на одно и то же место. Он закрывает глаза, но видит все те же самые картины. Он поворачивает голову, но оказывается все в той же жизни.
Маат знает и другие дни, первоначально спокойно висящие под потолком, которые, внезапно испугавшись, вдруг начинают летать по залам, грозя разбиться у картин, включают сигнализацию и, взбудораженные, крепко впиваются когтями в лицо Маата. Эти редкие и непредсказуемые дни вызывают в нем страх.
Маат знает и рахитичные дни, одиноко скрючившиеся, сморщившиеся так, что могут спрятаться за своими же костями и почти незаметно исчезнуть.
Маат любит дни, которым нет конца. Они обволакивают его, как янтарь.
* * *
«Оставайтесь на месте!» — слышится в гостиной Маата. Он вырывается из объятий полусна. Ведущий отодвинут в сторону, и вместо него на телеэкране проливаются целые ливни счастья. Они, сверкая золотом, обрушиваются на Маата и вызывают в нем смутные желания. Он медленно встает, идет на кухню и ищет там что-нибудь съедобное. Разогревая консервированный суп, он слышит через тонкие стены, что в квартире соседа происходит то же самое. Он понимает каждое слово. Он различает звуки гудящих моторов, поцелуи, смех младенца, высыпающиеся из неисчерпаемых запасов с трудом исполняемые обещания. С тарелкой дымящегося супа он возвращается в гостиную. На экране кружатся ромашки. Наплывами показывают часы, стрелки которых сделаны из костей. Маат размешивает ложкой суп. Он видит на экране три пальца с содранной кожей, указывающие на три предмета: на зубной эликсир, способный освежать рот в течение семнадцати часов, на лосьон, целый день впитывающийся в кожу, на бинты, мгновенно останавливающие кровь. Сразу вслед за бинтами на экране опять появляется ведущий. Он читает по шпаргалке, что будет дальше.
Маат видит огромный кроссворд, по которому он блуждает вместе с игроками — скрючившиеся над разгадыванием букв, они частично сами стали живыми ответами, почти всегда неправильными. Он видит, как ведущий засекает время. Движения его руки похожи на дружелюбные жесты мясника. Он видит тонкие вопросительные знаки, обвивающиеся, как змеи, вокруг шей игроков. Ему мерещится, что ему отрубили голову, и он за доли секунды истек кровью. Маат выкрикивает ответы наперегонки с остальными. На гигантском табло появляется текст, фиксирующий положение вещей.
Иногда Маат чувствует прикосновения крыльев перелетных птиц, которые нежно и печально скользят по его лицу. Они заполняют ночь. За его спиной их клин опять смыкается, как будто Маата никогда и не было. Они улетают прочь.
Они летят сквозь стены, пересекают магнитные поля воспоминаний, они скользят, они очерчивают контуры гор. Они непоколебимы. Им навстречу летят города, светлые шквалы сопротивления. Они пролетают их насквозь. На пути птиц лежат разбитые автомобили с открытыми дверцами, из которых еще доносится музыка. Птицы не останавливаются. Они никогда не устают. Деревья напрасно простирают вслед им свои ветви. Птицы летят. Маат ощущает прикосновения кончиков их крыльев. Они скользят по нему, как пустые ладони.
* * *
Маат идет в своих скрипучих ботинках. Предобеденное время тянется долго. В отделе Средних веков муха ощупывает хоботком нарисованное небо. Она садится на нимбы святых и вылизывает их до блеска. Она движется по лицам, которым уже пятьсот лет, и ее движение — словно движение внезапной мысли на их лицах. Маат следит за мухой краешком глаза, на грани восприятия, он видит, как она фасетками своих глаз рассматривает Средневековье и испытывает его на пригодность. Он слышит, как она жужжит в щелях его реальности. Маат и муха здесь одни. Они плавают в воздушном океане, а за ними краешками глаз следят пятисотлетние лица. Когда муха ползет по их губам, кажется, что они улыбаются. Такое впечатление, что изображенные на полотнах могут смотреть вдаль, во времена, которые наступят после Маата и после мухи, во времена, когда перст Божий снова пробьется из облаков в верхнем краю картины.
Трое преклоняют колени перед Младенцем. Они пришли издалека, из незнания. Большая рука ангела подняла их из сна. Когда они проснулись, их глаза превратились в выдолбленные в камнях дыры: они больше не смогли их закрыть. Они увидели звезду и отправились в путь, ведомые ею. По краям дороги стояли пастухи. Они тоже пристально смотрели на распахнутые двустворчатые двери неба. Трое мужчин следовали дальше. Они ехали на верблюдах, невозмутимо переступавших своими мозолистыми подошвами. Звезда вела их через пустыню. Она все время светила им впереди. Она вела их через тернии и леса, через дни и ночи.
Трое склоняются пред Младенцем, как торопящаяся к берегу волна. Они снимают с голов короны, ставшие для них слишком тяжелыми и чужими. Потом они хотят поднести Младенцу подарки. Вокруг Него выросли золотисто-коричневые цветы и травы. Перед Ним расстилается мягкая степь. Растения колышутся, извиваются, покрывают землю и скалу. За скалой, позади трех склонившихся мужчин, появляется пастушок. Он изумленно застыл с поднятой для приветствия рукой. Картина наполнена светом смирения. Глазами никто не смотрит. У всех опущены веки.
Мария запеленала Младенца в белый платок и держит его на коленях. Он слегка поворачивается навстречу мужчинам, но не протягивает руки к подаркам. Младенец подарит им больше, чем они могли бы дать Ему. Он сможет двумя перстами усмирить бурю на море; на горе, окруженной черными пнями, Он сможет противостоять искусителю, вооруженный всего лишь пустыми руками; Он отошлет женщину, узнавшую Его, переодетого садовником, обратно к людям тем же самым мягким жестом, которым Он усмирял бурю на море.
Мария держит Младенца на коленях. Она сидит на коричневом морском песке. Вокруг нее опускается на дно время, уставшее от гонки часов. Трое склоненных перед Ним переполнены смирением. Они замерли в ожидании.
Маат пугается. Он слышит голос, зовущий его. Голос сдавлен, звучит так, будто его держат взаперти. Маат озирается, стоя между картинами.
— Маат, зайдите, пожалуйста, — зовет голос. Маат окидывает взглядом людей на картинах, но на их устах печать. Они в свою очередь разглядывают его. Тогда он понимает, что это голос из рации. Он прижимает аппарат к уху и слышит, что после обеда должен зайти к директору. Маат пугается во второй раз. Он совсем забыл, что его могут вырвать из его владений. Он позабыл, откуда дует ветер. Маат, разгуливая в тишине, начинает откашливаться. Он тренируется говорить «здравствуйте».
* * *
«Здравствуйте!» Ведущий слегка откашливается в кулак. Сегодня выигрыши рядом с вами: в телестудии построена модель железной дороги. Она извивается вдоль и поперек среди участников игры. Она проходит между ног, она пробивает узкие подмышки с помощью тоннелей, она кружит вокруг шей и лиц, она гудит на мосту над головами участников. Ее товарные вагоны нагружены настольной жаровней, жемчужным ожерельем и сервизом из сорока предметов, под глазурью которого давно вымершие птицы маленькими глотками пьют цветочный нектар. Железная дорога описывает круги. Маленький неподвижный кочегар подкармливает ее углем. В разгар работы, с лопатой, полной обломков древних лесов, он превратился в игрушку. Рядом с ним стоит машинист и пристально смотрит вперед. Состав идет через оживленную местность. Вдоль его путей как цветы открываются глаза.
Когда Маат по вечерам лежит на софе, он не один. Светлая тень, которую отбрасывает мир, вползает в его гостиную, чтобы там погреться. Мир больше не живет под открытым небом. Он будет некоторое время кормиться в стенах этого дома. Каждый день мир демонстрирует подобные фокусы, подскакивает от радости и жонглирует. Маат, дружелюбно принимая его, видит, что у того из-под кожи просвечивают кости. Мир сияет ярко, как звезда, перед тем, как потухнуть. Маат, наученный разглядыванием картин, понимает, что мир просовывает руки сквозь прутья решеток и просит милостыню. Маат хотел бы помочь миру, но не знает как.
«А теперь, — кричит ведущий, — взвесим, сколько вы выиграли!» Он подталкивает к большим весам одну из претенденток, толстую робкую женщину. На одной чаше весов настольная жаровня, жемчужное ожерелье и сервиз из сорока предметов, под глазурью которого давно вымершие птицы маленькими глотками пьют цветочный нектар. На другую чашу должна усесться претендентка Макси. Она тяжело опускается на пол.
— Макси, — кричит ведущий, — подумайте о наших производственных расходах.
Он ставит в первую чашу набор чемоданов из алюминия общей стоимостью 2 236 DM. Но Макси продолжает сидеть на полу.
— Садовую качалку! — кричат из публики. Ведущий и его ассистентка ставят садовую качалку на другую чашу весов. Претендентка начинает слегка приподниматься над полом, но призы ее все еще не уравновешивают.
— Сон! — кричит публика.
— Макси, — говорит ведущий, — расскажите нам, какой сон вы скрываете от нас, и вам станет легче.
Макси краснеет.
— Я, — тихо говорит она, — нахожусь в одной местности, где серое небо. Кругом одна галька. Безлюдно, вокруг только камни, у меня хриплое дыхание. Вдруг появляется процессия. Это зловещая процессия, потому что не видно, каких святых несут с почитанием. Носилки занавешены черным. Носильщиков тоже не видно. Слышны только их шаги по гальке. Я пугаюсь. Хочу убежать, но не могу стронуться с места. Вдруг порыв ветра подхватывает одну из черных занавесок и распахивает ее. Я вижу, что на носилках лежит толстая голая женщина. Я смотрю ей прямо в промежность. Это роженица. Из нее все время что-то вываливается. Внезапно я понимаю, что это я лежу на носилках. Это я сейчас рожаю все население Земли. Я вижу, как я рожаю. Я жду того момента, когда подарю вам Спасителя.
— Аплодисменты Макси! — призывает ведущий. Чаша весов, на которой сидит Макси, раскачивается теперь на одной высоте с призами.
* * *
— Маат? — жуя, переспрашивают коллеги. — Маат заблудился где-то в здании. Обеденный перерыв довольно длинный, — говорят коллеги, — да и здание большое, — говорят коллеги. — Мы никогда не видели Маата здесь в столовой, — говорят коллеги. — Вероятно, он не может ее найти. Наверное, он и рот-то свой найти не может. — Коллеги смеются. — Он, должно быть, — говорят они, — слоняется по залам рядом со Средневековьем: этнография, Африка, семь залов. Искусство Индии — пять отделов. Для нашего коллеги Маата, — говорят сотрудники, — прошлое — это свет в окошке.
Маат идет через шелестящий лес жестов. На время обеденного перерыва он покинул свои залы. Его тянет к соседям — туда, где жесты образуют темные леса, туда, где он может заблудиться среди их значений, туда, где берегут людей и богов, которые строго смотрят на него, но на удивление доверчиво поднимают руки.
Преодолев лестничную клетку, Маат попадает в Африку. Сначала ему надо привыкнуть к темноте. Его коллега, смотритель Африки, неподвижно стоит перед огромным контуром континента. Африка прибита гвоздями к стене — ощипанный, обугленный петух, висящий вниз головой и рассматривающий обувь смотрителя. Вентиляционная установка с грохотом прогоняет теплый воздух. Маат идет дальше. Лес начинает смыкаться вокруг него. В витринах, подвешенные на нитях, висят орудия труда, музыкальные инструменты, оружие, головные уборы.
Они подсвечены снизу, равномерно и блекло, поэтому выглядят так, будто никогда не отбрасывали тени. Они выглядят так, будто к ним никогда никто не прикасался — кроме реставратора. Все предметы перед глазами Маата пронумерованы и законсервированы, но он ищет до тех пор, пока не находит самые первые жесты: жесты из темного дерева, из меди, из слоновой кости. Руки протягивают ему калебасы, собирают кокосовые орехи, ведут за поводья вьючных животных. Женщины поддерживают руками свои груди. Мужчины держат обеими руками бороды. Бьют барабаны. И посредине Африки, на черном помосте, стоящем на покрытом ковром полу, возвышается Тот, вокруг которого, вероятно, все и вращается, Тот, кто обрел покой, Тот, кто поднял руки перед солнечным сплетением, одновременно защищаясь от Маата и приветствуя его. Это бронзовый бог. Маат больше не боится заблудиться в Африке. Он нашел, что искал. Этот бог из бронзы и притягивает его, и отвергает, — как и любой бог, он отклоняет накатывающееся на него время.
* * *
— Маат? — спрашивают двое коллег. Они прислонились к стендам с информацией между Индией и Монголией. — Маату место в Средневековье, — говорят они. — В поворот, — рассказывает один из сотрудников, — в который входишь на сто двадцать, много — на сто тридцать, другой может войти и на сто шестьдесят. Маат часто растворяется в воздухе, — говорят коллеги, — особенно в обеденное время. На повороте стоит ограничение восемьдесят, — говорит второй сотрудник. Потом они идут за угол и пропадают в заставленных просторах Монголии.
Маат открывает дверь в Индию. На черном фоне, как планеты, сверкают скульптуры. Индия — это большой рельеф, заполненный окаменевшими растениями и богами, разбитыми и элегантно подсвеченными. Смотритель движется через обломки извилистыми линиями. Маат видит, что его коллега описывает бесконечные восьмерки. Маат видит, как его коллега со скрещенными за спиной руками оплетает скульптуры паутиной вечности. Некоторые из богов танцуют. Многорукие, они бросаются навстречу событиям. Они стоят в залах свободно, дружелюбно и отстраненно. Маат углубляется в Индию. Он видит слона, который с поднятым хоботом обрушивается с неба к лежащей женщине. Женщина рожает ребенка. Это ребенок, который грядет. Маат ищет его. Посредине Индии, на черном помосте, стоящем на покрытом ковром полу, возвышается Тот, вокруг которого, вероятно, все вращается, Тот, кто обрел покой, Тот, вокруг головы которого возник нимб из камней. Между бровями у него локон мудрости. Он видит Маата не глазами, а поднятой ладонью своей правой руки. И на этой ладони появляется то, что было побеждено Грядущим: Маат видит колесо жизни, в бешеном вращении превратившееся в камень.
* * *
Одна из претенденток на выигрыш старается уловить свой шанс. Она скрючилась, как будто у нее на спине маленький горбик, она стоит, нагнувшись вперед, как будто ее ноги увязли в болоте, через которое она пришлепала на сцену, где, к своему изумлению, видит все то же болото. Она в смущении. Перед ней поставили несгораемый шкаф. Она нерешительно оглядывается. Стоящие полукругом камеры устремлены на нее. На одной из них горит красная лампа. Вдали дрожат неясные очертания публики. Претендентка ищет. Она владеет многими канцелярскими языками, умеет кивать, но не знает, где ее шанс. Она боится, что уйдет несолоно хлебавши. Не успевают камеры наклониться, как она вдруг бросается вперед и начинает крутить замок сейфа. Появляется зыбкий призрак успеха. Через несколько секунд камеры показывают, как бронированная дверь открывается и одна из ассистенток вводит претендентку в шкаф размером с комнату. Внутри он обит мехом косули, на котором тает снег. Он освещается вспышкой. Претендентка ждет. Она быстро сует ноги в прибитые к полу меховые тапочки. Она стоит посредине несгораемого шкафа, согбенная под своим злосчастным горбиком, и кивает, кивает.
* * *
Маату уже хорошо знакомы эти всегда готовые прийти на помощь руки ассистенток, каждую из которых он знает по имени. Как свора хорошо натасканных собак, бросаются эти руки на происходящее. Они вкатывают тележки на колесиках, открывают волшебные кубики, они без остановки рыщут в поисках счастья. Их вырастили такими изящными, что они могут вытащить счастье из любой щели. Маат, не отрываясь, смотрит на них. Руки приучены целенаправленно выхватывать претендентов и ставить их перед камерой на нужное место, туда, где их окружают призы, словно нимб. Они тихонько подталкивают игроков и соединяют их на экране таким образом, что никто уже не сможет понять, где чей выигрыш. Претендентов вставляют в рамку. Они вместе улыбаются из одного медальона. Руки ассистенток опять приходят в движение, готовые схватить новую добычу.
— Наша дружеская дуэль! — кричит ведущий. Он приветствует кандидатов. — Добро пожаловать, Гюнтер и Инге! Против Гюнтера и Инге выступают Сабине и Дитер! Гюнтер и Инге, — говорит он, — вы женаты?
— Да, — отвечает Инге, — мы женаты вот уже двенадцать лет, у нас двое детей четырех и шести лет, и нам бы очень хотелось сегодня выиграть.
— Сабине и Дитер, — спрашивает ведущий, — вы обручены?
— Да, — говорит Дитер, — мы обручены вот уже три месяца. Мы хотим пожениться. Мы хотим иметь двоих детей. И мы очень хотели бы сегодня выиграть.
Ведущий объявляет, что выиграет та пара, которая продержится дольше. Потом он отворачивается в сторону, и в студии появляется человек с сочувственным взглядом. Его руки гребут по воздуху. Он стоит перед стеной студии.
— Есть люди, — говорит он, — которые заворачивают за угол и никогда больше не возвращаются. Есть люди, которые хватаются за сигареты, а потом исчезают в дыму. Есть люди, которых видели в последний раз, когда они нырнули в коробку из-под стиральной машины. Не думаете же вы, — говорит он, — что это единичные случаи. Ежедневно в нашей стране пропадает двести пятьдесят человек. Если вы меня сейчас видите и вы пропали: пожалуйста, возвращайтесь назад!
Сочувствующего мужчину отодвигают с экрана, и ведущий опять тут как тут:
— Наши претенденты помчатся сейчас наперегонки!
Гюнтер и Инге начинают вращать один, а Сабине и Дитер другой барабан. Барабаны крутятся так быстро, что от них во все стороны разлетаются искры и потрескивают возникающие электрические дуги.
— Вот так, — смеясь, кричит ведущий, — мы получаем ток для нашей телестудии.
Гюнтер и Инге внезапно исчезают с экрана. Сабине и Дитер выиграли домашний тренажер.
* * *
Обеденный перерыв закончился. Маат опять на своем месте. В Средневековье никто не шелохнулся за время его отсутствия, только солнце ушло из зенита и стало желтее. В одном из уголков музея оно теперь так просвечивает сквозь шторы, что на них отпечатывается узор зарешеченных окон. Маат охотно заходит в этот уголок. Там висит картина, символизирующая для него родину. Маат, вернувшийся из других стран, опять принят голубыми скалами и коричневой землей.
Мария и Младенец на пути в Египет, Они передвигаются по ночам, на осле, которого Иосиф ведет за веревку, вдоль темных деревьев с отливающими золотом листьями. Младенец запеленат и тесно прижат к сердцу Марии. Мария с опущенными глазами, Иосиф в больших башмаках ищут дорогу. Через некоторое время они замечают, что осел ходит по кругу и что они во время своего бегства остаются на одном и том же месте. Теперь они останавливаются на отдых. Вокруг них простирается местность, уходящая как в прошлое, так и в будущее. Можно увидеть Вчера и Завтра. За их спиной, на пашне, засеянной в том месте, которое они уже покинули, сразу вызревает хлеб — от посева до полной зрелости. Солдаты Ирода допрашивают крестьянина. Они хотят узнать о новорожденном. Одного новорожденного, говорит крестьянин, я видел в тот день, когда сеял зерно. Солдаты, маленькие, обманутые в своих ожиданиях фигурки, рассеиваются, словно ветром, в разные стороны и потерянно бродят вокруг. Перед беглецами, в той части местности, где они вскоре окажутся, свергаются со своих пьедесталов, падают и разбиваются идолы. И это свершает Младенец, который может творить чудеса. Он освежает свою мать плодами пальмового дерева, склоняющегося перед Ним до земли. У ног Младенца внезапно начинает бить источник. Ландшафт держит Его в самом своем сердце. Младенец поднимает свою маленькую руку и приводит в движение стихии. Мария и Младенец отдыхают в центре картины, на полпути своего бегства, их взгляды обращены вовнутрь, они как сомнамбулы подняли правые руки и погрузили их в воздух своей истории.
Маат движется в желтом свете. Он ходит по своей засеке, окруженный видами, которые всегда одни и те же. Их окрашивает только пыль и меняющийся свет. Маат чувствует себя как дома среди незыблемых картин, среди картин, образы которых никогда не пересекаются, каждая из которых застыла во мгновение, не умещающееся в пределы своей рамы, и одновременно создающее ощущение незыблемости и уникальности. Маат как дома среди картин, рассказывающих одну и ту же историю, увиденную фасетками глаз живописи, одну-единственную историю, которую каждый художник рассказывает по-новому. Она рядом, но в то же время затерялась в бесконечной дали. Редко кто-нибудь поднимает глаза. Редко кто-нибудь выглядывает из старых картин. Никто не размыкает уст, чтобы произнести изречения, относящиеся к этой истории, лишь развеваются ленты с текстами. И говорят руки. Они населяют картины всеми видами движений, на какие способны. Они говорят о позабытых вещах. Маат, бродящий среди них, иной раз поднимает свои собственные руки и рассматривает их, спящих. Белые и мясистые, они, прищурясь, смотрят на него. Они устали.
* * *
Открывается дверь в виде потускневшей монеты в одну марку и выпускает на сцену ведущего. Маат ерзает на софе, пока не находит удобное положение. Ассистентки выкатывают первый приз. Это соковыжималка, лежащая на подушке.
— Сколько бы вы заплатили за эту штуку в магазине? — спрашивает ведущий.
Игроки поджимают губы. Потом они все одновременно поворачивают головы к публике, которая внезапно начинает жестикулировать. Зрители пытаются на пальцах подсказать цену. По студии проносятся знаки, бессвязные крики глухонемого языка желаний. В этой суматохе только соковыжималка лежит тихо и спокойно. На ее корпусе все отражается в искаженном и уменьшенном виде.
В то время как Маат, слегка раскачиваясь, становится на якорь перед специально для этого вечера выбранными им картинами, ночь медленно укрывает города, деревни, большие пустынные леса, указатели и магистрали. Три указателя направляют в одну и ту же сторону: туда, где автостоянка, спортивная площадка и стрельбище. Распределенные в ночи радиомачты посылают свои сигналы и дремлют стоя. Цветы, посаженные в отслужившие свой век шины от грузовиков, сжимаются и нагибаются, чтобы собрать росу. Подземные сточные воды шумят громче, чем днем. При малейшем движении воздуха хлопают таблички с названиями улиц, и далеко за городом большие пустынные леса начинают издавать звуки, которые никто не слышит.
* * *
Маат проводит рукой по глазам. В музее наступает послеобеденное время. Маат идет по залам и снова раздвигает шторы. Солнце скрылось за облаками. День обретает краски ветра. Возможно, пойдет дождь. Маат видит на улицах прохожих, которых как будто тянут вперед на невидимых нитях. Они быстро проскальзывают мимо. Маат некоторое время стоит у окна. Снаружи, со стороны тротуара, он кажется неясным пятном за решетками. Когда люди, проходя мимо, поднимают голову, они полагают, что видят заключенного, а Маат, для которого люди всего лишь неясные пятна, тоже считает, что видит заключенных. Иногда они кивают ему, приглашая грести вместе с ними через житейские бури, дабы у жизни был смысл. Маат улыбается. За его спиной улыбаются картины.
Сорок дней и сорок ночей провел Сын Божий в пустыне. Он выстоял в огромной пустоте, воздерживаясь от пищи. Он все отчетливее видел, как, проясняясь, сияет золотое пространство над пустыней. Когда Он совершенно истаивает от голода, к Нему приходит Его искуситель. Он внутри коричневой дьявольской шкуры. Он сыт и упитан. Они встречаются на краю пустыни, там, где она вытянула стопы коричневых гигантских гор. Они стоят напротив друг друга. Между ними расселина в скале. От дыхания искусителя падают деревья, и вокруг не остается ничего, кроме обугленных пней. Выстояли только два дерева, более сильные, чем остальные. Одно из них, покрытое цветами, возвышается над расселиной. На втором, похоже, вместо плодов висят камни. У искусителя крылья как у летучей мыши. Он передвигается на когтях. В его руках два камня.
— Если ты хочешь есть, — говорит он Сыну Божьему, — то скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Что может быть хуже, — говорит он, скрежеща зубами, — чем пустые руки и пустой желудок? Преврати их в хлеб, — говорит он, — и у тебя вырастут крылья, как у летучей мыши. Они накроют мир от одного конца до другого. Разве сорок дней и сорок ночей в пустыне было недостаточно?
Черный пузырь появляется изо рта искусителя. На нем выцарапаны очертания звенящих монет. Сын Божий и он стоят напротив друг друга, перед золотым фоном, простирающимся от одного конца мира до другого. Сын Божий поднимает руки к небу, чтобы на них проступили ангелы и служили ему. Одетый в шкуру дьявол чувствует, как камни тяжелеют в его руках. Они неудержимо тянут его в расселину.
Тихо напевая себе под нос, Маат идет своим обычным путем. Его послеобеденное время — это равнина, на которой не растут деревья, не шумят реки. Вокруг царит полное затишье. Маат слышит свои шаги, будто идет через свою собственную, туго натянутую барабанную перепонку. Одна из вентиляционных решеток стучит, как подковы осла, идущего под ярмом. На горизонте высятся картины. Они окаймляют равнину и одновременно открывают ее, они еще утопают в свете, который уже не достигает равнины. Маат пересекает вторую половину дня, не думая о времени. Он застрял на месте. День — это как годовой круг, года собираются в десятилетия. Стены музея всегда остаются на одном и том же месте.
Внезапно он слышит, как его кто-то зовет. Голос приходит издалека, такое впечатление, что из него самого. Он озирается в испуге. Рация щелкает и называет его имя. Директор ожидает смотрителя музея Маата.
* * *
«Войдите!» — слышит Маат голос директора. Директор существует вне времени и пространства, на дверях его кабинета ручки из золота. На столе, из-за которого он выходит, нет следов ни пыли, ни работы. С распростертыми объятиями он спешит навстречу Маату, а с колосников опускается вниз заботливая мина и приклеивается к его лицу. Маат бледнеет. Руки за его спиной вцепились друг в друга и не расцепляются. Директор вырастает перед глазами Маата как огромная тень.
«Моя поясница, — думает Маат, — моя больная поясница». В одном месте его позвоночник пригвожден недремлющей болью. Это свернувшаяся в комок боль, белый колючий морской конек, бросивший якорь между его позвонками. Он раскачивается туда и обратно, и кажется, ждет лишь небольшого толчка, чтобы отправиться в свободное плавание. Он крошечный. Это то, с чем Маат появился на свет.
Как летят годы! Как летят годы! Крылатые слова, крылатое время!
Маат знает дни, которые спят, повиснув под потолком, пока их не напугают до того, что они взлетают и от возбуждения вцепляются ему в лицо. Эти дни непредсказуемы. Под их натиском у Маата выпадают волосы.
Как летят годы! Как летят годы.
— Здравствуйте, — говорит Маат.
На лестничной клетке, по дороге к директору, он тренировался говорить «здравствуйте». Маат покрывается холодным потом. Его руки тяжелеют так, будто хотят вывалиться из суставов. Директор усаживает Маата на стул. Настенные часы отбивают время. Маат чувствует, как коварный морской конек опять начинает раскачиваться. Маат не привык сидеть на стуле.
— Скоро исполнится сорок лет! — восклицает директор. — Мой дорогой, скоро исполнится сорок лет, как вы пришли в наш музей! Я как сейчас вижу вас, тогдашнего: вы еще не были, так сказать, застывшей скалой. Вы с самого начала знали, что вам нужно. Оцените сами свои возможности, сказал я тогда. Вы оценили правильно. Бронированная дверь нашего музея распахнулась перед вами. И вы пропали в Средневековье, чтобы не выходить оттуда вплоть до сегодняшнего дня. Недавно, — говорит директор, — я увидел вашу несчастную спину. Но вы еще раз повернулись и на ходу проделали странную вещь: это выглядело так, Маат, как будто вы хотели благословить меня.
Маат видит самого себя, идущего на руках и глядящего на солнце до тех пор, пока лица людей не превращаются в светлые пятна. Он видит себя, пытающегося ухватить ветер, большой орган ветра и исполняющего на нем прелюдии и фуги облаков, которые проносят над землей свои нежные белые животы. Они развеваются в разные стороны ветром и никогда не стоят на месте.
— Мой дорогой! Вы всегда верны себе! Находка для нашего заведения! Теперь у нас с вами не будет ни мыслей, ни забот, ни иллюзий.
Тень директора ложится на Маата. Маату кажется, что он видит обугленные пни. Директор жестикулирует и скалит зубы. Он говорит, что заслуженный отдых сегодня близок Маату, как никогда прежде: рукой подать.
Маат видит остановившийся кадр. Директор поднял руку в дружелюбном жесте мясника. «Вот сейчас, — думает Маат, — он отрубит мне голову, и я за долю секунды истеку кровью».
* * *
— Сорок лет, — говорит директор, — сорок лет в пустыне Средневековья. — Он смеется. — Вы должны томиться голодом и жаждой.
Он раскрывает руки. Маат осознает, что директор предлагает ему две опечатанные пачки денег. Они кажутся Маату камнями.
— Доставьте себе удовольствие, — говорит директор.
Глаза Маата расширяются. Крылья летучей мыши затмевают небо.
— Маат, — говорит директор, — я должен сказать вам еще кое-что.
Маат видит самого себя. Он идет по мягко поднимающемуся желтому холму. Бросает деньги директора в шляпу слепого. На горизонте высится музей. Все дорожные указатели направлены в его сторону. Музей, спокойно раскинувшийся на отливе утра, ждет Маата. Он откусывает кусочек от большого красного солнца. Он наденет свою служебную форму, которая укутает его, как давным-давно возникшая мантия земли укутывает ее ядро.
— Кругленькая сумма, — говорит директор. — Я вижу, — говорит он, — что вы на седьмом небе от такого неожиданного счастья. Маат, — говорит он, — дверь темницы распахивается перед вами. Вы свободны.
* * *
Маат видит, как на лицо директора наплывает лицо дикторши. Ее волосы приглажены. Ее губы шевелятся. Она рассказывает о счастье.
— Счастье, — говорит она, — теперь проживает в большом зале. Оно любит играть, — говорит она, — оно не витает в облаках и может прикатить к любому, кто его заслужит. В вашей гостиной, говорит она, счастье будет чувствовать себя как дома.
— О господи, Маат! — кричит директор. — Вы нам больше не нужны. Сегодня ваш последний день.
Маат встает со стула. В кабинете директора царит непроницаемая чернота. Маата пронзает молния, белый морской конек поднимает голову и смотрит на него крошечными глазками.
* * *
Маат лежит на полу музея. Никогда раньше он не лежал на этом полу. Он, должно быть, был где-то далеко отсюда. Он медленно выныривает из темноты. Над ним раскинулось знакомое древнее небо, потолок музея, но ему кажется, что у него в руках камни. Ему кажется, что он лежит на скале, на краю безмолвно бушующего моря. Маат боится, что он выпал из времени. И хотя он приходит в себя в отделе Средневековья, но почему-то лежит там со странно вывихнутыми руками и ногами. Он лежит в зале, где пророки склоняются из своих рам и яростно возмущаются будущим. Он видит, как они потрясают перед ним кулаками, видит, что их изборожденные глубокими морщинами лица смотрят на него, когда он пытается встать, что на их суровых лицах высечены рельефы мест, по которым когда-либо блуждал человек. Маат хватается за батарею. Он надеется, что его мир опять сомкнется вокруг него. Он соскучился по хорошо знакомым картинам. Он мечтает об укрощении бури.
Лодка ушла далеко в море, когда начал неистовствовать шторм. Ветер дует из дьявольских глоток, вздыбливает воду, она покрывается белыми барашками и накатывает на лодку серо-белыми бурунами, ломающими весла и заставляющими цепенеть от страха всех, кто на лодке. Спит только Сын Божий. Они низко склоняются к Нему, их руки падают на Сына Божьего, как сорвавшиеся с высоты птицы, они кричат: «Мы гибнем!» Сын Божий лежит на корме лодки и спит. Он лежит на своем нимбе, как на постели, и видит во сне пилигрима с епископским посохом, спящего во Вселенной синим сном и окруженного колосьями, звездами и рыбами. Он видит во сне пелену нежного зеленого моря, раскинувшегося над пропастями. Серые головы ветров дуют с неба цвета слоновой кости. Сын Божий грезит. «Мы гибнем!» — кричат ученики. Ужас заставляет их содрогаться. И тут они видят, что Сын Божий уже стоит на носу лодки и одновременно спит на ее корме. Он смотрит шторму в глаза. Он поднимает два перста и усмиряет ветер и волны. Шторм затихает. Вокруг лодки простирается нежное зеленое море. Кажется, оно спит, как спит и Сын Божий, не тронутое пока ничем, что могло бы внезапно прорваться сюда из его собственной истории.
Маат опять стоит на ногах, неуверенно и слабо. Он не может поверить тому, что его обходы могут внезапно прекратиться. Он думает, что ему это приснилось. Стены Средневековья все еще высятся, полные картин. Еще тикают гигрометры, выписывая под стеклом очертания черных хребтов, фиксируя вдохи и выдохи Маата, мерцая между впадинами и гребнями волн. Еще скрипит паркет под его ногами, еще позвякивает на его бедре связка ключей от музея, еще лежит на его плечах пыль, которую отряхнули святые. Он еще видит, что на улице идет дождь, серый и далекий, как он это видел уголками глаз в течение многих послеобеденных часов. Маат все еще в музее, но в нем пробуждается страх. Начало конца его службы, сегодняшний вечер, станет пустыней, где он будет искать свои собственные руки. Ему нужно будет очень напрячься, чтобы вспомнить, что они крепко приросли к его телу. Он еще долго не сможет поднести их к лицу. Он закричит от напряжения. Он попытается расшифровать суть линий, врезанных в них, как дороги. Они сойдутся когда-нибудь в одной точке.
* * *
— Добро пожаловать в рай выигрышей! — каждый вечер кричит ведущий, отдаленный от Маата на семьдесят две тысячи километров.
Он был отправлен в немую, покрытую звездами черноту, пока не достиг спутника, находящегося над землей на расстоянии тридцати шести тысяч километров, и был сброшен с него через немую, покрытую звездами черноту прямо в тарелки, плотно расположенные у земли и ждущие, как раскрытые рты. Когда он снова появился на экране, никто не заметил его долгого путешествия, но Маат иногда видел, что ведущий украдкой бросает взгляд на свои наручные часы, как бы теряя терпение и спрашивая себя, когда же он вернется. Вместе с ним отправились в путешествие, охлаждаясь при этом, вещи, вопросы и претенденты. Они стояли на экране телевизора Маата, прижавшись друг к другу, в обрамлении сверкающих цепочек огней. Они спешили. Пролетев семьдесят две тысячи километров, они хотели попасть в цель. Вещи хотели быть выигранными, вопросы — получить ответы, а претенденты — стать счастливыми, оттого они и разрезали воздух на части взволнованными жестами. Маат видел людей, способных сделать сорок кувырков перед камерой. Он видел людей, получивших десять тысяч марок за то, что они угадали цену одной банки сгущенного молока.
— Добро пожаловать в рай выигрышей! Да вы же сами знаете, что чертовски быстро станете чертовски богаты.
Маат лежал на софе и слушал, как поет в телестудии публика. «Возьми себя в руки, найди верный ответ, вот мой совет, будь хитрым, как лис, и быстрым притом, приходи же, сыграй со мной!» — распевала публика, сидя на скамейках без спинок. Публика тоже прибыла издалека. Она оставила сохнущее белье, наполовину заполненные билеты лотереи, заботы и телевизоры, с вечно горящим красным огоньком, во время поездки этим людям давали по чашечке кофе и кусочку торта. Они тихо разучивали свою песню. Мимо окон автобуса проплывали местности, совершенно пустынные, если не считать дорожных знаков.
* * *
Маат скользит по темнеющему музею. Он пытается держаться своего привычного курса. Иногда он наталкивается на стены. Если на улице дождь, то их матово-зеленая обивка полностью теряет окраску. Она становится похожа на все поглощающую поверхность, на поверхность, в которой все картины исчезают, как в чреве кита, оставляя после себя лишь свой смутный образ, слегка поблескивающее золото, очертания потемневших от времени чудес. Маат знает картины так хорошо, что видит их и тогда, когда они становятся невидимыми, но если в темноте наталкивается на посетителя, то понимает, что пора включать освещение. Вспыхивает сильный рассеянный неоновый свет. Картины опять висят на стенах. Перед ними, скорчившись, стоят посетители и читают надписи. Они всегда сперва делают шаг вперед, затем шаг назад. Маат, не отрываясь, наблюдает за ними. Иногда они становятся около картины в полукруг, указывают пальцем на какую-нибудь деталь и шепчутся. В большинстве же случаев они стоят тихо, перелистывают проспекты, чтобы сориентироваться, как им найти выход из музея. С определенной долей робости взирают они на музейного смотрителя Маата, внезапно выныривающего во всех залах, Маата, который, по-видимому, умеет проходить сквозь стены, на Маата, который останется на своем посту, даже если вода ему будет по горло.
* * *
Лодка отплыла в черное, сверкающее рыбами море. На черном небе сияют маргаритки. Ученики стоят, прижавшись друг к другу. Их головы склонились от страха, потому что ветер дует им прямо в лицо и лодка терпит бедствие в волнах. У учеников огромные глаза. В этих глазах отражается черное, сверкающее рыбами море. Они зовут Сына Божьего, который сидит на горе пастельного цвета и молится. Они громко зовут Его. Их крики затихают вдали. Но в четвертую стражу ночи, когда они уже потеряли на этом ветру всякую надежду, к ним приходит, идя по морю, Сын Божий. Его ноги слегка касаются бушующей воды. Его улыбка освещает ночь. Ученики пугаются и говорят: «Это призрак!» — и кричат от страха.
— Не бойтесь, — говорит Сын Божий.
Ученики цепенеют.
— Повели мне прийти к Тебе по воде, — говорит Петр, ловец человеков.
— Иди! — говорит Сын Божий.
И Петр выходит из лодки и идет по воде с широко открытыми глазами, в которых отражается Сын Божий. Мерцают звезды. Но Петр, почувствовав ветер, пугается. Внезапно он начинает тонуть. Он кричит. Сын Божий тотчас простирает руку. Он вытаскивает Петра.
— Кто опустошен и сомневается, — говорит Он, — тот утонет в своих сомнениях.
Маат проверяет приборы, как будто делает это не в последний раз, а как делал это всегда, в каждый из десяти тысяч вечеров. Обходчик Маат идет по своему участку. Сначала он стучит по стеклам гигрометров. Потом склоняется над грохочущим вентилятором Defensor 4000. Прохладный ветер бьет ему в лицо. Это ветер, пришедший снаружи, из дождя, борясь с которым люди на улице растягиваются в караван. Под конец он проверяет, работает ли автоматический увлажнитель воздуха. Он называется «Оазис». Его эмблема — пальма. Он защищает картины от запотевания и испарений, исходящих от посетителей. Он обеспечивает необходимые климатические условия. Он беспокоится о том, чтобы у картин не расплылись краски. «Оазис» создает для них имитацию местности, где нет людей и нет ветра. Он создает для них атмосферу, пригодную для существования. Маат регулирует приборы. Он не дает картинам погибнуть.
* * *
Хоп-ля! Всегда, когда Маат слышал, что ведущий спотыкается, он приоткрывал один глаз. Он любил эти маленькие проколы. Ведущий проделывал их, однако, так ловко, что они производили впечатление естественных. Иногда он нарочно запутывался в обрывках фраз — затем только, чтобы ассистентки его спасли и вернули в игру. Или же он шел по краю сцены и в какой-то момент исчезал из поля зрения, переворачивая при этом ящики, из которых выкатывались и падали на колени игрокам апельсины.
Или же он мог перепутать игроков и рассказывал именно теще анекдот про кактус, который называется «тещин стул». Публика любила, когда большая шутка оборачивалась маленькими шуточками. Такие ошибки ведущего вдыхали в передачу жизнь: она становилась живым организмом, существом, неуверенно ступающим через преграды и улыбающимся. Передача становилась правдой. В ней появлялась подлинность. Публика вздыхала от удовольствия, потому что знала, что после проколов все будет хорошо. Ведущий дозировал проколы, поглядывая на режиссера, который ему показывал, когда нужно остановиться. Потом ведущий раздавал утешительные призы. Ничего не выигравшие претенденты могли взять с собой макеты телестудии с ее магическим занавесом, колесом счастья, размером с большой палец, бытовыми приборами, величиной с булавку, улыбающимся ведущим и с ними самими, когда, уменьшившись до предела, они идут за утешительными призами.
* * *
Маат, бредя через закатное время своей жизни, заглядывает в разные уголки музея, туда, где висят огнетушители, где находятся незаметно встроенные в стены двери, куда почти не доходит свет и где приходят в голову разные мысли. В одном из этих углов Маат находит окаменевшего посетителя. Он застыл в позе человека, давно здесь находящегося, долго все разглядывавшего и сравнивавшего. Он примеривается. Маат знает посетителей, которые терпеливо выжидают, почти не двигаясь, которые остаются у старых картин, чтобы скопировать их. Таких Маат любит. Они остаются здесь так долго, что начинают видеть то, что видит Маат: мистические леса, где улыбаются отшельники, пораженные стрелой. Затерянные планеты, на которых живут люди. Руки, расцветающие на золотом фоне остановившегося времени.
Посетитель делает наброски рисунков. Движется только его рука. Он смешивает краски. Маат поигрывает связкой ключей. Позвякивая ею в тишине, он медленно подходит все ближе, описывая все более сужающиеся круги, чтобы узнать, что копирует незнакомец. Маат ожидал увидеть точное воспроизведение жестов, которые он знает наизусть, тех жестов, которые давно ушли из жизни и сохранились только здесь, но когда он подошел настолько близко, что смог разглядеть картину посетителя, то едва поверил своим глазам. Посетитель скопировал все, что висит в отделе, и сделал из этого изображение Маата. Маат видит Вселенную, имеющую очертания Маата. Старые картины соединились в ней, в ее черноте, чтобы вращаться там по спирали, сжаться, вспыхнуть и однажды медленно погаснуть. Впервые Маат видит все эти картины одновременно, этот невероятный водоворот рук, ног и крыльев. У него начинает кружиться голова. Он ищет глазами ту единственную картину, за которую он смог бы ухватиться, картину, которая всегда встречает его в это время.
Вечером Сын Божий берет с собой Петра, Иоанна и Иакова-старшего и идет с ними в Гефсиманский сад на Масличной горе. Место крутое и скалистое. В полутьме поют птицы, чьи брюшки отливают красным, они всегда там, куда идет Сын Божий.
Они сидят в коричневатой траве и на крошечных, доходящих до колена деревьях, у которых листья подобны звездочкам аниса. Деревья сухо высвечиваются из тьмы и шелестят. Сын Божий возвышается над всем, хотя Он погружен в молитву. Он заполняет собой всю расселину. Он одинок на этом куске земли, отделенной от людей этой расселиной. За скалой, на краю Гефсиманского сада спят ученики. Петр раскрыл ладони и скрестил их на коленях. Иоанн обхватил себя во сне руками. Иаков подпирает левой рукой свою отяжелевшую голову. В то время, когда глаза учеников затоплены сном, Сын Божий воздевает руки к кроваво-красному небу. Из голубого облака к Нему склоняется ангел. Сын Божий и ангел смотрят друг на друга. В то время, когда глаза учеников затоплены сном, в то время, когда руки Сына Божьего принимают чашу на одиноком кусочке земли, на левом краю картины появляются четыре паучьи пальца, пальцы Иуды. Они судорожно обхватывают ограду ночного сада и начинают валить ее на землю вместе с его поющими птицами, шелестящими деревьями и скалами.
Когда Маат оборачивается, незнакомого копииста уже нет. В поисках его Маат проходит через всю эпоху. Пророки высовываются из своих рам и грозят кулаками, как всегда. Волнуются верующие руки. Ангелы помогают отлетающим душам подняться над крышами домов к небу. Маат проверяет углы, где стоят огнетушители и находятся двери, незаметно встроенные в стены. Копииста нигде не видно. И его картина пропала. Неоновый свет рассеянно и равномерно освещает помещения. Маата внезапно охватывает желание прикоснуться к каждой картине в отдельности, чтобы убедиться, что она действительно существует. Ни минуты не мешкая, он подходит к ближайшей. Когда он начинает ощупывать ее кончиками пальцев, раздается оглушительный рев охранной сигнализации.
* * *
Ассистентки с обнаженными в улыбке зубами осторожно запустили на полу сцены внедорожник. Публика разразилась неистовой овацией. Аплодисменты достигли пика, прервались, спали и поднялись вновь. На этой звуковой волне медленно вплыла Fata Morgana[3] абсолютной свободы. Ассистентки потянули на себя ручной тормоз. Ведущий подтолкнул вперед игрока, получившего внедорожник, непрестанно похлопывая его по спине. Игрок, спотыкаясь, вошел в магнитное поле автомобиля, сопровождаемый телекамерами, снимавшими его руки, простертые вперед, как у слепого. Он ощупал машину. Он ощупал ее со всех сторон. Ведущий открыл дверцу автомобиля и втолкнул игрока вовнутрь. Поблескивающая голубым металлом дверь машины захлопнулась. Он высунул руку наружу.
— Ну, — закричал ведущий, — теперь помашите нам!
Ведущий, ассистентки и оставшиеся ни с чем остальные участники встали вокруг внедорожника и стояли там до тех пор, пока над их головами не поплыли заключительные титры.
* * *
В отделе Средневековья пронзительно звенит сигнализация. Маат стоит оцепенев, одна рука на расписанной красками дубовой доске, как на двери, которую он собирается открыть и за которой тенью угадывается его будущее. Маат стоит как громом пораженный, как обухом по голове ударенный, прикованный к одной из тех старых картин, которые он раньше охранял от любого прикосновения. Он не в состоянии оторваться от нее. Его рука касается центра картины. Она окружена нарисованными руками. У Маата такое чувство, что его арестовали. Он слышит, как шуршит бутербродная бумага. Его коллеги, распределенные по другим отделам, вытягивают шеи и, прислушиваясь, поворачивают их в направлении бесконечного аварийного воя. От неожиданности некоторые из них поперхнулись. Откашлявшись, они бегут в Средневековье. Их руки крепко вцепились в рации. На бегу они обмениваются короткими вопросами. Попав в Средневековье, они не могут поверить своим глазам. Их коллега Маат взбудоражен. Такое впечатление, что он хотел взломать дверь. Сотрудники оттаскивают его в середину зала и молча стоят вокруг него. Маат явно не понимает, где он.
Вокруг Сына Божьего внезапно образуется вихрь. На нежном зеленом лугу появляются люди. Укрытые тенью цветы склоняются к пропасти. Люди теснятся около Сына Божьего. Один из них, рыжеволосый, подобный ядовитой орхидее, обнимает Сына Божьего и целует Его в щеку. Это знак. Вихрь закручивается еще сильнее. Шлемы, мечи и факелы обрушиваются на Сына Божьего. Ночь золотого цвета, как и все ночи Сына Божьего, заполняется преследователями. Становится светло как днем. Петр хватается за меч. Кнехт Малх, с лампой в руках, падает на землю. Его правое отрубленное ухо лежит среди цветов и истекает кровью. Крик Малха несется ввысь из его беззубого рта. Рыжеволосый не оборачивается. Он так крепко прижимает свое лицо к лицу Сына Божьего, что их силуэты вместе образуют очертания сердца. Перед Сыном Божьим стоит преследователь и протягивает к Нему кулаки в железных перчатках. Они блестят металлическим голубым цветом. Они настигают Сына Божьего, еще заключенного в теплую клетку объятий Иуды. Сын Божий смотрит из картины, не тронутый вихрем вспорхнувшей ночи. Тихо потрескивая, догорает факел из соломы. Руки Сына Божьего говорят.
— Друг, — спрашивает Он Иуду, — для чего ты пришел?
После легкой пощечины Маат осознает, что голубая стена, колышущаяся перед ним, — это его коллеги. Он вынужденно улыбается. Его коллеги состарились. Рептилиеобразные головы уставились на него. Их всех зовут одинаково — Джорджами. Маат знает, что они говорят друг другу при встрече: «Ну что, Джордж, скоро конец рабочего дня». Маат знает, что они любят стоять вместе в углах музея, где разворачивают бутербродную бумагу и показывают друг другу фотографии, на которых они смеются между палаточных стоек и кивают из прошлого. Их волосы развеваются, будто они едут в автомобиле.
— Помещения, — говорят они, — люди — все сегодня по-другому, все иначе причесано.
Маат знает, что его коллеги ходят только нужными путями. Свои рептильи головы они поворачивают вслед далеко не каждому посетителю. Служебные предписания они тем не менее знают.
— Держать глаза на затылке! — кричат они друг другу, подмигивая.
Как при ускоренной киносъемке они проносятся мимо друг друга с бутербродами и фотографиями в карманах униформ. В чрезвычайных ситуациях они сплачиваются и действуют вместе. Маат видит их лица совсем близко. Он опять вспоминает день поступления на работу. Он вспоминает, как ему доверили Средневековье и как он уже в первый день решил раствориться в нем.
— Ну что, Джордж, — говорит Маат, — скоро конец рабочего дня.
* * *
Мужчина по имени Вернер стоял, размечтавшись, в раю выигрышей. Чуть ниже его головы парил в воздухе розовый носовой платок. Платок нигде не прикасался к нему, а только обвевал легким дуновением, разыскивая фарфоровую руку, которую теперь увидел и Вернер.
— Мамочка, — прошептал он.
Фарфоровая рука разбилась. Глаза Вернера начали вращаться. Все ярче блестели их белки. Вокруг него кружились 10 тысяч предметов, которые ему нужно было срывать на весу, но он никак не мог сделать выбор. Прилетел Супермен — стрекоза, готовая прийти на помощь. Он сел на руку Вернера и расправил складки плаща.
— Этого не может быть, — прошептал Вернер. — Мамочка, — прошептал он, — твой мальчик купит для тебя все. На сей раз вещи никуда не исчезнут, когда ты утром придешь и разбудишь меня, это я тебе обещаю. Я привезу их тебе в тележке. Я протяну их тебе через закрытую дверь.
— Вернер! — кричит ведущий. — Что же мы все-таки возьмем?
— Ну хорошо, — говорит Вернер, — я возьму кровать с балдахином, велосипедный шлем, универсальный нож, вафельницу, ведерко для охлаждения шампанского, сервиз, бормашину, велосипед, видеокамеру, а для моей матери — термос.
* * *
Коллеги Маата оставляют его опять одного. День близится к вечеру. Маат впервые в жизни ищет в отделе Средневековья запасный выход. Он стоит среди раскрытых алтарей, среди пейзажей, изображенных на дубовых, тополиных и буковых досках, среди отдельных этапов истории, в чьи щели и трещины погружаются реставраторы, чтобы заделать их, спасая от разрушения. Он ищет среди застывших моментов вечности.
Вокруг музея взбудораживаются и тянутся к рычагам одноруких бандитов другие руки. Они погружаются в ромашковый настой, чтобы подольше оставаться гладкими. Они перелистывают жизнь наслюнявленными пальцами и пробегают ее глазами в поисках начальных времен. Они всегда в движении. Они охотятся за добротным счастьем. Земля вертится, руки чувствуют попутный ветер. Добротное счастье все время отдалено от них на одно и то же расстояние. Оно выглядит как фирменное изделие. Но все перья у него выпали, оно не поднимается с земли и напрасно бьет крыльями. Счастье летуче, но всегда находится в пределах видимости. По ночам те, которые видят его перед собою, берутся за руки и тащатся дальше, как слепые караваны, вслед за шумом хлопающих обрубков его крыльев, сами не зная куда.
* * *
Сын Божий стоит, почивши, с распятыми руками, слегка склонив голову. Его глаза закрыты. За Его спиной две прибитые друг к другу гвоздями балки простирают свои концы во все четыре стороны света. Сын Божий стоит выпрямившись в своем собственном гробу. Облако событий сгущается и разражается вокруг Него грозой. На темном заднем фоне вспыхивают отдельные эпизоды. Они возникают одновременно и мгновенно рассыпаются, как печальные составные части мозаики. У Сына Божьего нет выбора. Его судьба кружится, как гало, вокруг его тела, кольцом из стихий, не прикасающихся к нему, но обрушивающихся на него. Парящие в воздухе кулаки раздают ему оплеухи и размахивают прутьями. Две руки облиты чистой водой и вымыты в чаше. Другие считают сребреники. Появляется голова в шлеме, плюющая на Сына Божьего. Видны молоток, щипцы, копье, два заложника, мученический столб, губка, пропитанная уксусом, лестница, три игральные кости, багряница. Виден петух. Видны солнце и луна, закрытые чернотой более темной, чем темный задний план. Сын Божий стоит посреди этого, посреди мирских страданий, окружающих Его как воспоминания. Он скрестил руки на груди. Он отдыхает короткое мгновение перед тем, как его снова разбудят.
Маат один. Муха, ползавшая утром по нимбам святых, лежит на полу. Школьный класс, толпившийся перед картинами, рассеялся. Интересующиеся дамы из чужих городов вернулись в свои гостиничные номера и теперь читают о том, что они видели. И только экскурсовод музея думает о Маате. Она вспоминает о том, как он назвал имя мастера.
— Мастер дароприношений, — сказал он.
У нее такое чувство, что она знает Маата, но не понимает откуда. Она видит близко перед собой лицо Маата, а над ним огромное небо.
Маат сточился на своей орбите. Его униформа уже не сидит на нем, как надо, и кажется, что стала ему велика. При ходьбе он иной раз наступает на свои штанины. Его руки теряются в рукавах. Свет в музее теперь слабее, чем прежде. Маату приходится ближе подходить к картинам, чтобы узнать их. Он думает об экскурсоводе. Он слышит ее голос.
— Живой текст, — говорит она, — покрывающий свои слова плотью.
Маат видит перед собой ее лицо. Ему кажется, что он ее уже когда-то видел и над ней было огромное далекое небо, которое выглядело как нарисованное.
* * *
Ведущий выбирал претендента.
— Вот тот господин в последнем ряду, который откинулся назад, как будто его ничего не касается.
Адам втянул голову в плечи.
— Адам, — закричал ведущий, — первый человек!
Все засмеялись.
— Спуститесь, пожалуйста, ко мне! — крикнул ведущий.
Адам оказался робким богатырем со следами житейских бурь на детском личике. Он спустился вниз по сверкающей лестнице. Ведущий схватил его за руку и подвел к пульту.
— Адам, — сказал он, — у нас здесь трое ворот: техника, приключение, досуг. Через которые вы хотите пройти?
Адам покачался взад-вперед на своих огромных ступнях. Он вытащил правую руку из кармана брюк и очертил ею своеобразную неправильную дугу слева от себя. Он засучил рукава пиджака, как если бы ему нужно было что-то сделать. На лице Адама отразилась напряженная работа мысли. Его руки на глазах у всех изобразили прыжок. Они перепрыгнули через препятствия, видимые только Адаму. Ведущий покачал микрофоном перед ртом Адама.
— Досуг, — наконец сказал Адам с улыбкой, в которой притулились друг к другу волк и ягненок.
Ворота досуга отворились. Все увидели плюшевого черта.
— Адам! — закричал ведущий в очаровательном отчаянии. — Было бы правильнее выбрать приключение. Пожалуйста, — кричал он, — давайте покажем Адаму, что он не выиграл!
За воротами, которые назывались «приключение», открылась местность, расписанная зелеными и голубыми красками.
— Вот это было то, что надо! — закричал ведущий.
Он часто выкрикивал эти слова, но никогда еще не видел игрока, так медленно, так долго погибающего, как Адам.
Адам понял не сразу. Он перегнулся через ведущего, чтобы заглянуть в открытые ворота, и тут же рухнул на колени. Его тело описало круг, это было маленькое нисхождение в ад. Когда он снова вынырнул, то закрыл глаза, а рот раскрыл. За короткое время Адам превратился в распятого Христа. Потом он рывком поднял кверху сжатые кулаки. Адам со своим спрессованным лицом был похож на ребенка, не желающего слушаться. Он опять открыл глаза. Он попытался удержать хоть что-нибудь из того, что был вынужден оставить за высокой стеной.
* * *
Маат освобождает скрещенные за спиной руки. Выведенные из состояния сна, белые и мясистые, они смотрят на него. Они ждут, что вскоре снова займутся привычными послеобеденными делами, попадут на свои насиженные места, в ту атмосферу, где они обычно застегивали униформу Маата, приглаживали его волосы и помогали ему надеть рубашку и брюки. Вместо этого он так медленно вытаскивает их из-за спины, как будто вынимает из воды.
Сын Божий в развевающихся красных одеждах, на которых кружатся звезды, разбивает врата ада. Обрушившиеся половинки врат образуют крест. Они погребают под собой демонов. Сын Божий поднимает знамя креста, чтобы пронзить Люцифера, самого косматого демона, козла с закрученными рогами. Люцифер сидит скорчившись на четвереньках. Сын Божий ставит ногу на треснувшую стену между землей и адом. Адам и Ева неуверенно ступают ему навстречу, за их спинами черная крепость, из которой они убегают. Адам раскрыл руки и пытается обнять льющийся на него свет. Ева смотрит на землю, усеянную цветами. На зубцах крепости сидят на корточках демоны с высунутыми языками. Они бросают камни вслед спасенным. Перекрещивая запястья, они издеваются над судьбой Сына Божьего. В одном из чешуйчатых углов крепости из окон темницы выглядывают прижавшиеся друг к другу головы Давида и Соломона. Ад изрыгает своих узников. Он лежит укрощенный, как выпотрошенный зверь, но Сын Божий с язвами на руках и ногах остается бесстрастен. Он преодолевает стены мира подобно божественному лунатику. На Его красных одеждах кружатся звезды. Сын Божий разбивает ад, не глядя в него; Он смотрит из картины наверх, потому что эта разрушенная крепость — всего лишь цоколь горы, которую Сын Божий должен покорить всю, вплоть до ее далекой, покрытой облаками вершины.
Руки Маата пытаются найти свое место. Они ловят ртами воздух. Маат медленно, преодолевая сопротивление столетий, приближает их к коллекции. Он показывает им старые картины. Он показывает им местность, где лестницы растут в небо; местность, где люди изъясняются, как водолазы, скупыми повторяющимися жестами, значение которых им всем известно, укутанные атмосферой, где без труда появляются и исчезают чудеса. Руки Маата движутся.
В музее полная тишина. Никто не видит, чем занимается Маат в пустых залах.
* * *
Иногда ведущий преподносит такие вопросы, которые непосредственно перед ужином пробивают дыру в космическом пространстве, куда всасываются и где исчезают игроки.
— Вы имеете в виду меня? — говорит Луиза, не поднимая глаз.
При этом ее разум, который играл сам с собой, как два лежащих на коленях и крутящихся друг вокруг друга больших пальца, вероятно, отключился. Она скользила по льду во время новолуния. За ее спиной молодой человек разбивал замерзший канал, по которому она каталась. Где-то впереди нее двигались другие люди. Чтобы быть видимой, Луиза держала во рту зажженную метелку тростника. Она освещала ее лицо и озарила лед, когда Луиза остановилась и наклонилась. Под ее ногами что-то темнело. Луизе пришлось вплотную приблизить лицо к сверкающему льду, прежде чем она поняла, что из канала на нее пристально смотрит замерзшая рыба.
— За какое время должны подать заявку ученые, если они захотят посмотреть в телескоп «Хаббл»? — повторил свой вопрос ведущий.
— Вы имеете в виду меня? — сказала Луиза, не поднимая глаз.
Она смотрела на свои собственные губы, произносящие слова. На экране монитора губы выглядели замерзшими, кривыми и чужими. Луиза была не совсем уверена, что действительно видела самое себя, большеглазую, неподвижную, пойманную монитором. На пробу она потерла пальцем по стеклу, чтобы выяснить, ее ли это палец указывает на нее с экрана. Вместо этого появился ведущий.
— Как давно вы смотрите нашу передачу? — спросил он.
— Всю жизнь, — ответила Луиза.
Она почувствовала, как ведущий приподнял ее и прижал к груди.
* * *
Это время года — время приглушенных красок. Рано темнеет. Мимо проезжает автобус, сверху донизу разрисованный рекламными текстами. «Не надо мечтать и интриговать, делай ставки в лото, будешь все получать». Люди, сидящие за разрисованными стеклами автобусов, некоторое время видят освещенные окна музея. Они проезжают мимо хранящихся в музее вещей и думают при этом о телепередаче, которая сейчас начнется в их гостиных. Они думают о счастье, которое никуда не может деться, потому что остаются его неизменные обои, его дом, в котором оно наводит порядок, весело носится взад и вперед и каждый вечер щедро раздает подарки. Они ждут ассистенток, на чьих обращенных к небесам ладонях балансируют гладильные доски, массажные кресла и кварцевые лампы «Горное солнце». В течение часа мир вращается надежно, без сучка и задоринки. Люди, находящиеся сейчас на пути домой, видят музей лишь уголками глаз. Он находится на обочине их движения, немая, выброшенная на берег масса. Они не знают, что в одном из залов стоит Маат и пытается пробудить к жизни язык старых картин. Они не знают, что он пытается черпать из прошлого.
Тело Сына Божьего исчезло. Словно сквозь замочную скважину видишь двух женщин у пустого гроба. Напряженный золотой фон приобретает красноватый оттенок. Открытый гроб парит в воздухе. На крышке саркофага сидит могучий ангел и устрашает обеих женщин. Одна из них Мария Магдалина; она держит в руках сосуд с мазями и ладанку с фимиамом. Она помогала положить Сына Божьего в гроб. Теперь она напрасно ищет его. Лишь плат, в который он был завернут, образует переплетенный знак. От ангела с волосами и крыльями цвета пламени исходит взрывная волна. Женщины отшатываются и в страхе прижимаются друг к другу. Правая рука ангела приветствует их; его гигантские вытянутые персты указывают на путь, каким ушел Сын Божий. Женщины так широко раскрыли глаза, что больше не видят ангела и могут только глядеть. Сын Божий, которого больше нет в гробу, может находиться повсюду. В центре картины застыла сильная рука ангела.
Первым делом Маат разучивает приветственные жесты. Смотритель музея Маат, в потертой обуви, с больной поясницей, где прячется причиняющий боль, перекатывающийся из стороны в сторону конек, стоит в Средневековье и умоляет других людей подойти к нему. Он хотел бы, чтобы его подняли. Он хотел бы жить в одной из этих рам. Маат диктует по буквам свои желания: желание раскрыть запечатанные мгновения; желание стать частью того мира, где слово «возможности» ничего общего не имеют с деньгами. Маат, ощутивший, что старые картины пришли в движение, напрягается. Пока что он еще стоит обеими ногами на полу музея, но уже видит, что указатели, развешанные по стенам, чтобы посетители ориентировались в коллекции, становятся неразличимыми. Задуманные как ориентиры, они внезапно начинают указывать во все стороны разом. Маат ощущает, как в музее возникает взрывная волна и гонит его перед собой.
* * *
В студии лежит шар из стиропора. На нем нарисованы солнце, луна и звезды. Его вкатили сюда, когда в студии еще никого не было. Ведущий объяснил, что шар внутри пустотелый. Он слегка помял его рукой. Из шара раздался тихий стук. Ведущий объяснил, что за его стенками толщиной в сорок сантиметров прячется многорукая надежда, но все время норовит выскользнуть. Стук оттуда становится все громче.
— Короче говоря, — объясняет ведущий, — в это яйцо засунуты наши игроки, и мы сейчас посмотрим, удастся ли им взломать его, прежде чем там иссякнут запасы воздуха.
Публика захлопала, замахала флажками, на которых были напечатаны адреса игроков. Удары кулаков сотрясли солнце, луну и звезды. Шар медленно покатился. Ведущий, улыбаясь, спрятался в безопасное место, когда из шара показалась первая нога и, дергаясь, застряла снаружи. Потом появились многочисленные руки, пытающиеся найти опору, пока шар не перекатился через них. Публика подбадривала дерущиеся части тел. В то время как шар, ставший похожим на подушечку для иголок, нашпигованную преисполненными решимости конечностями, повсюду следовал за ведущим, тот не переставая выкрикивал одно и то же:
— Это всего лишь игра! Сезам, откройся!
Но трясущихся конечностей, протискивающихся через звездное небо, становилось все больше и больше, и шар уже смог двигаться с помощью рук и ног. В конце концов сквозь ленту кудрявых облаков протиснулась голова. На претенденте, одолевшем преграду, был защитный шлем. Он пристально посмотрел из шара, доходящего ему до плеч, на хлопающую публику и на счастье, в котором на своих орбитах вращались, музицируя, неисследованные миры. Все завертелось перед его глазами.
* * *
Маат, чья служба вскоре завершится, находится в музее лишь отчасти. Кажется, что он внутренне уже в другом месте. Маат совершает свой последний обход. Картины по-прежнему висят на стенах, как бы слегка придвинувшись друг к другу, как бы слегка увеличившись в размере, как бы став все вместе, повешенные рядом, частями одной картины, где отдельные эпизоды некоей истории происходят одновременно, где они все смешиваются в одном пространстве, разделенные только местом. Маат ищет то самое место, ту часть истории, где он будет подхвачен ветром, веющим в ней.
Мария Магдалина не потеряла надежду вновь найти Сына Божьего. Она входит в цветущий полукруг сада. Земляника и мелкие цветочки ковром покрывают землю. Тянутся вверх лилии и шток-розы, сплетающиеся в стену. Деревья устремляются к небу. В полукруге сада царит темно-зеленое настроение.
Мария Магдалина озирается и внезапно видит садовника. Он подходит к ней. В его левой руке лопата. Удивительно, но кажется, что садовник не стоит на земле, а как бы слегка парит над ней. Земли касаются только кончики пальцев его ног. Кровь течет у него из пяти ран.
— Это мои пять органов чувств, которые мне больше не нужны, — говорит Он, — это пять пальцев моей руки: они больше никогда не сожмутся.
Мария Магдалина пугается. Она узнает Сына Божьего. Она падает на колени и хочет прикоснуться к Нему.
— Нет, — говорит Сын Божий.
Он поднимает правую руку, чтобы благословить Марию Магдалину. Ее длинные волосы, когда-то осушавшие ноги Сына Божьего, касаются, выбиваясь из-под платка, самой земли. Ее руки, которые смазывали тело умершего Сына Божьего, подняты перед грудью и образуют, не соприкасаясь друг с другом, свод — нежную, прозрачную темницу, пытающуюся сохранить навечно то мгновение, когда она в последний раз видит Его. В огороженном саду появляется Он, чтобы дать ей утешение.
— Не прикасайся ко мне, — говорит Он, — ибо ты найдешь меня в себе самой.
Маат готовится покинуть музей. В какой-то момент ему показалось, что он слышит, как о берег бьются волны. Его связка ключей делается легче с каждым шагом. Маат зашторивает окна. Он подготавливает все необходимое для спокойного сна картин. Регулирует приборы. Проверяет, не спрятался ли кто, не стоит ли кто за шторами, кто только того и ждет, чтобы его проглядели, чтобы потом, под покровом темноты завладеть беззащитными картинами. Маат освобождает музей. Выключает свет в одном зале за другим. Его шаги скрипят по паркету. Картины исчезают.
День Маата сжимается как кулак.
* * *
Однажды ведущий появился, паря под потолком.
— Я приветствую вас, — кричит он, — с самого жаркого места в телестудии. Здесь сорок девять градусов в тени!
Он стоял в корзине осветителя и не попадал на экран. Впервые он предстал перед публикой в спортивной обуви. Впервые он был невыгодно освещен, и все увидели его пористую кожу и пот на лбу. Он выглядел усталым. В руке он держал микрофон, завязь цветка без листьев, с которого при постоянном ветре слов облетели все листочки обвертки. Глубоко внизу бурлила публика. Она размахивала на своих местах руками и, казалось, не замечала ведущего, потевшего высоко над ней. Он раскачивался на той высоте, откуда руководили съемками, в том месте, где сквозь облака обычно просовываются пальцы и дирижируют им.
Студия выглядела очень маленькой. Одинаковые крошечные операторы направляли свои камеры на раздвижные двери, в которых подобно падшему ангелу должен был появиться ведущий. А пока что он парил под потолком телестудии, под сводом черных прожекторов, которые могли в любой момент зажечься. Он наклонился вперед с заговорщицким видом.
— Оставайтесь с нами, — сказал он.
* * *
— Маат? — переспрашивают в нос коллеги. — Маат всегда уходит последним. Маат, — говорят коллеги, — приходит первым и уходит последним. Маат вполне может, — говорят они, — при ходьбе пришить пуговицу к брюкам.
В раздевалке вспыхивают смешки. Сотрудники выскальзывают из униформ и проходятся расческами по волосам. Стены раздевалки запотели. Пыхтит отопление. День — это серо-зеленый монолит, как и все прочие дни. Сотрудники радуются, что идут домой. Они радуются предстоящему ужину. Они радуются телепередаче «Шпагат счастья». После их ухода на стене остаются только рубашка и брюки Маата, вяло и одиноко ожидающие его, чтобы вместе с ним в последний раз выйти из раздевалки в раннюю темноту вечера, навстречу низко летящим птицам и развевающимся газетам.
На гравированном пуансоном золотым фоне, на котором, неравномерно осыпаясь, царит подобие ненастья, столпились ученики. У них узкие и длинные невесомые фигуры, их как будто тянут ввысь. Только что среди них был Сын Божий, но они подумали, что видят призрак.
— Что смущаетесь? — говорит Он. — Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам.
Сын Божий покидает их.
— Но вы, — говорит он, — должны оставаться в городе, доколе не облечетесь силою свыше.
Не имеющее тени золото образует маленький вихрь. В верхней части картины появляется облако. Оно охватывает Сына Божьего. Оно поднимает Его так высоко, что ученики видят, как Он наполовину исчезает в его бело-голубой кайме. Ученики запрокидывают головы. Они поднимают взоры к небу. Их нимбы похожи на волнующуюся поверхность воды. Их руки непроизвольно следуют за Сыном Божьим. Они не хотят, чтобы Он уходил, но и не пытаются остановить Его, они вовлечены в жестикуляцию свидетельства и готовы понести все, что узнали, тем людям, которые не поднимают глаза к открытому небу. Группа учеников разделилась.
Посредине ее возникает узкое пустое пространство, вертикальная расселина, заполненная воздетыми кверху руками, следующими за вихрем и в то же время остающимися на месте. На заднем плане отчетливо видна скала. На ней — последний след, оставленный Сыном Божьим на земле. Это отпечаток его ног.
Маата заперли в музее. Он блуждает, как призрак, по лишенным света залам с карманным фонариком в руке, который внезапно вырывает из темноты отдельные лица и детали. Он кружит по той же самой орбите, по которой кружил всегда, но теперь видит картины так, как никогда до этого не видел. Кажется, что они ждут его. Маат ищет то место, где Средневековье раскроется, чтобы впустить его в себя. Свет его карманного фонарика блуждает по картинам, как ищущий ощупью лунный свет. Вспыхивает рука Соломона. Бог сотворяет мир из бездны; развевается ярко-красная мантия. Адам обнимает сам себя во время своего первого сна. Ева держит перед своим лицом шар. Первые люди, спотыкаясь, бредут вниз, к мотыге и веретену. Гавриил складывает растрепанные крылья. Вол и осел протискивают свои головы из черноты. Голый Младенец парит над землей; Он поднял руки и благословляет все, что видит. Иосиф ведет за веревку осла мимо темных деревьев, листья которых слабо мерцают. Руки искусителя протягивают Сыну Божьему камни. Ветер дует из дьявольских глоток. Сын Божий усмиряет бурю, вытаскивает из глубокого моря Петра, тонущего с вытаращенными глазами; одиноко бодрствует в ночном саду. Среди цветов лежит отрубленное ухо. Сын Божий держит руки скрещенными на Своей груди. Адам и Ева, спотыкаясь, поднимаются из черной раскрытой бездны. Голубой подол Бога охватывает Сына Божьего. Маат идет по своим собственным следам, чтобы найти выход.
* * *
Последний раунд игры назывался «суперигра». Когда комедия, разыгранная в сундуке пиратских сокровищ, близилась к концу, когда раздали украшения в форме слез, похожие на те, что были в ушах Клары Шуман, водонепроницаемые водолазные часы и талоны на приобретение гардин, настал момент истины. Голой и сверкающей предстала единственная непреходящая ценность: не имеющее возраста неземной красоты откровение. Претенденты плотно зажмурили глаза. То, что они увидели, было золотом. Оно было уложено штабелями у стен вплоть до потолка, полностью покрывало пол и ослепляло любого, кто хотел войти в эту гостиную. Оно магическим образом притягивало претендентов, но не подпускало к себе, заставляя их потерянно стоять на его фоне. В телестудии воцарилась мертвая тишина. Слитки золота лежали стопками, образуя массивные фантастические стены. В них отражался свет прожекторов. Ведущий откашлялся.
— Насколько я знаю нашу ассистентку Марион, — сказал он, — она с удовольствием сейчас раздаст слитки!
Марион встала на одну ногу, вторую самозабвенно согнула под углом у края экрана, по собственной команде подняла левый локоть и описала рукой нереально плавный полукруг в сторону золота. Претенденты и зрители обмерли. Они были в ее руках, эти взволнованные мальчики-с-пальчики в царстве счастья.
* * *
Карманный фонарик Маата освещает музей. Свет скользит по картинам. Руки извиваются, как молочно-белые языки пламени. Маат идет. Он на пути к границам своего сферического мира; он слышит, как бьются волны; он постепенно теряет почву под ногами. Он стал ненужным, его выбросили. Он странствует по местности, которая, вероятно, по ночам пробуждается и расширяется. Маат почти не узнает музей. Его стены исчезли. Картины внезапно появляются в новом, своем собственном настоящем времени, в местах, ничего общего не имеющих с теми, где они висят. Маат разыскивает картину, которая выплывет ему навстречу, картину, где тихо раздуваются паруса, готовые перенести его на новые берега. Он ищет место, уготованное для него. Перед ним простирается картина «Странствие по морю». Море раскинулось, как огромный невод, золотисто-зеленое под сплошным золотым небом, с волнами, напоминающими тонкие, как волосок, трещины лака, полупрозрачными и широкими. Кажется, что оно ждет Маата. Перед побережьем поблескивают скалы. Маат слегка отступает назад, чтобы увидеть весь пейзаж целиком. Пейзаж простирается в прошлое. Он теряется вдали. Вода между высящимися у берега скалами светлеет и переходит в мировой океан. Внезапно Маат слышит шаги. Он слышит, что в музее, кроме него, есть еще кто-то. Маат направляет во тьму конус своего карманного фонарика и в его свете внезапно видит мертвенно-бледные глаза директора музея. За исключением ударов волн в музее стоит полная тишина. Потом директор поднимает правую руку и начинает размахивать белым платком.
Мария Магдалина, посланная Сыном Божьим к людям, чувствует, что ей все противодействует. Она не знает, куда ей деться. Земля без Сына Божьего опустела. Мария Магдалина наталкивается на ставшие ей чужими деревья и камни. Она идет вперед через тернии колючих жестов. Потом наконец добирается до побережья. Она слышит, как бьются волны. Ее голова наполнена образами. Она зовет Сына Божьего. Из пустоты прибегают люди, хватают Марию Магдалину и решают посадить ее вместе с теми, кто не перестает призывать Сына Божьего, на лодку без руля. Мария Магдалина смотрит на море. Над ней и ее спутниками вздымается свод неба. Он повторяется в нимбах святых, смыкающихся вокруг их голов. В центре картины мачта, напоминающая крест. Лодка готова к отплытию. Море ожидает «Странствие святых». Маат подходит поближе. Среди тех, кто толпится на лодке, он видит знакомое лицо. Забыв про столетия, Маат узнает лицо женщины-экскурсовода из его музея. Она стоит рядом с мачтой готовой к отплытию лодки. Увидев его, она улыбается.
Маат чувствует, как что-то в нем подскакивает и начинает биться о решетку ребер. Он слышит голос экскурсовода.
— Мастер глубинных источников, — говорит она. — Таинственный мастер, — говорит она. — Море, — говорит она, — особым способом нанесено на станиоль. Алтарь прощания. На раме, — говорит она, — имеется надпись, которую никто не может точно датировать.
Маат читает: Schri * kunst * schri * und * klag * dich * ser * din * begert * iecz * niemen * mer.
— Взывай, искусство, взывай, — говорит женщина-экскурсовод, — и плачь, ты никому теперь не нужно…
Маат смотрит на нее, потом опять на море, уходящее в светлую даль. Небо беззвучно нависает над пейзажем, который вскоре станет реальностью. Лодка, в которой сидит женщина-экскурсовод, слегка покачивается на волнах. Она улыбается Маату. Маат поднимает руки для приветствия. Его карманный фонарик падает на пол. Маат поднимается на борт.
МОРЕ СПОКОЙСТВИЯ
Книга приключений
Наперекор всему! Меня уже
Ваш стук не опечалит.
Иоганн Кристоф РубеКлиф
Воспоминание о стае птиц — воспоминание о том, как они в небе надо мной образуют карман, внезапно выворачивающийся наружу…
Море бьется о гранитный берег. Оно невозмутимо бросает вперед и вперед одну и ту же воду с бегущими по ней волнами и забирает ее обратно. Камни, облака, пена. Над неослабевающими ударами моря дует атлантический ветер. Все, что попадается ему на пути, он пригибает к земле. Он разметывает ландшафт во все стороны. Скрюченные сосны хиреют и посылают призывы о помощи в глубь материка. Но оттуда приходят лишь люди, желающие добраться до самой кромки воды, чтобы удостовериться, что прибой все еще бьется о скалы. Забравшись на утес, они некоторое время пристально смотрят вниз на пену, а потом поворачивают обратно.
Вслед им из окна одиноко стоящего дома глядит женщина. Ее руки скрещены на груди. На ней платье-халат. За ее спиной равномерно раскачивается в корпусе напольных часов время.
Мари Плогофф ждет, когда зайдет солнце и на море появится сверкающая дорожка — мостик между материком и островом, лежащим впереди маленькой каменистой черточкой. Там никто не живет, только разлагаются кости мертвых, перевезенных туда столетия назад и погребенных на острове, чтобы они, рассыпаясь, были ближе к заходящему солнцу. Вокруг Мари раскинулась пустошь. Она похожа на окаменевшее покрывало, в иные дни белесое от соли. Эта земля называется краем света, но поскольку Мари не знает никакой другой, для нее она — весь мир: гранитно-серый, поднимающийся из океана, покрытый вереском и лишайником.
Ее руки скрещены на груди. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Крепко прижатые к швам халата, они, казалось, пытаются сжать судьбу так, чтобы свернуть ее цыплячью шею. Мимо проплывают облака, летучие и безмолвные. В оконном стекле отражается послеполуденное время: расплываясь в вязкой мертвой зыби, стекло, над которым кружат облака, стекает к нижней раме. Сквозь верхнюю, утончившуюся часть окна Мари смотрит наружу.
В течение пятидесяти лет ее дом был отелем. Отелем на краю света с несколькими номерами и телефоном. С юккой, которая начинала цвести именно тогда, когда приезжали гости, которая бросала свои цветы гостям на столики, за которыми они завтракали, на бутерброды с отливающим красным цветом джемом и в кофейные чашки; со ставнями, которые во время зимних штормов хлопали так громко, что Мари их запирала; с напольными часами, которые весь год напролет, вздрагивая в полусне, отмечали пунктиром время.
Мари не шевелится. Она слушает, как море бьется о берег. Постепенно в одном из углов комнаты скопилась ее коллекция: целующиеся пары из фарфора заполнили полки стеклянной горки. Па-де-де, чепчики, ангелочки; приветы любви, закованные в глазурь. Эти предметы, выброшенные морем на берег и принесенные гостями, которые часто возвращались сюда и поэтому вскоре узнали слабости Мари, напрасно простирают свои розовые и молочные щупальца из угла комнаты в доме на гранитной скале. Мари сейчас не до того, чтобы утешать фарфор. Она подводит итоги. Вплоть до последнего времени она жила приемом постояльцев; теперь она ждет заката, ее глаза следят за дугой, которую описывает опускающееся вниз солнце, а в ее волосах, лежащих серыми волнами, местами просвечивает кожа головы. Снаружи собираются в стаю бакланы. Они летят к острову перед материком, один за другим опускаются на землю и неподвижно стоят там, неотличимые в отраженном свете скал.
Мари еще крепче сжимает кулаки. Все линии на ее ладонях теперь пересекаются и соприкасаются: линия ума, линия сердца и линия жизни — уменьшенные и искривленные, как довлеющее пророчество.
Дом рухнет. Он рассыплется со скрежетом, упадут одна за другой стены, он увидит свой собственный конец. Он, в котором не было никаких признаков одряхления, будет разрушен экскаватором, который придет через пустошь.
Бьют напольные часы. За спиной Мари ее фарфор извивается в вечных поцелуях. Ей семьдесят семь лет, и она не знает, как будет жить дальше, не подавая гостям отливающего красным цветом джема.
По утрам она всегда вставала задолго до того, как просыпались спящие гости, и бросала быстрый взгляд на море, посылавшее ей в это время голодные крики морских птиц, которые, паря, проносились мимо нее, как пена. Потом она надевала платье-халат, подтягивала в часах опустившиеся за ночь гири и начинала накрывать столы для завтрака, преследуемая юккой, которая раскрывала один цветок за другим, наполняя комнату внезапной нежностью. Иногда Мари отщипывала чересчур навязчивые цветы, но эти действия побуждали растение к еще большим стараниям, так что Мари в конце концов ограничивалась тем, что, проходя мимо, пренебрежительно задевала ее и мало поливала. Зимой, когда они оставались один на один, когда хлопающие ставни били по дому, ничто уже не побуждало юкку к цветению. Она замыкалась в себе и разрешала Мари подрезать ее, удалившись в ту часть своего корневища, для которого зима — всего лишь короткая пауза в обмене веществ, всего лишь тень.
Когда Мари накрывала столы для завтрака, она была уверена, что нужна. Она приглаживала рукой несуществующие складки на скатертях, передвигала стулья, переставляла посуду до тех пор, пока тарелки и чашки не образовывали в итоге созвездие прочности, которое не блекло в быстро надвигающемся свете утра. Потом она разливала кофе. Поднимающийся пар проникал сквозь щели в потолок комнаты. Он заманивал гостей — мужчин, постоянно приезжавших на край света, чтобы пытливо посмотреть на море. Мари видела, как они покидают дом, карабкаются по скалам, исчезают и вечером возвращаются обратно. Они ценили ее отель. Они ценили его несколько комнат и молчаливый телефон, нежно сходящую с ума пальму, отстающие напольные часы, не задающую вопросов хозяйку. Никакой другой дом не находился так близко от обрывистой кромки материка, не был выдвинут вперед как маяк, не стоял так близко от пены, которая вгрызается в скалы.
И Мари, не видевшая снов по ночам, жила в приливах и отливах моря и своих гостей как в спокойном сне, над которым временами раскачивался лик луны.
Она сглатывает слюну. Послеполуденное время медленно угасает. Оно окрашивает в розовый цвет лужи, которые оставил на ее пути к дому последний дождь. В комнату уже пришли сумерки. Поцелуи и ангелочки, закованные в глазурь, исчезают из поля зрения. Мебель соединяется в никому не нужную кучу. Стены придвигаются к Мари в страшной попытке обнять ее. Она боится, что вскоре задохнется без воздуха, хотя здесь, где она стоит под защитой своих обоев, в самое ближайшее время будет гулять только ветер, прилетевший с моря и дотрагивающийся до гранита, как будто он ищет что-то, что потерял на этом месте.
Гости Мари оставались для нее чужими. Она не могла себе представить, чем они занимались. Иногда они рассказывали истории о том, что творилось под поверхностью моря, но для Мари там прежде всего находились большие серебристые косяки сельди, которые для нее все еще были сутью океана. Она думала о рыбачьих лодках, которые прежде, как живая цепь, танцевали перед берегом и вычерпывали из моря серебро, а теперь они почти все куда-то исчезли. Она думала о муже, который забрасывал свои сети, потом их, тяжелых от улова, вытаскивал на берег, латал, чтобы снова отправиться в море, и так день за днем, пока для него не стало работы. В то, что море опустело, что его последние жители ушли глубоко в бездны и стали недоступны для рыбацких сетей, в эти рассказы гостей она не верила. Море было слишком большим, чтобы опустеть. Она имела возможность видеть это каждое утро. А ее гости, переползавшие через скалы, чтобы добраться до моря и окунуться в свои собственные представления о нем, с точки зрения Мари очень мало разбирались в сущности той местности, где она жила. Их понятия об этой земле были еще нелепее, чем ее изображения на почтовых открытках. Когда мужчины действительно хотели отправить почтовые открытки, то выбирали именно такие, на которых море бьется о берег и во все стороны разлетаются брызги. Они писали, что все здесь находится во власти великого грохочущего молчания, существенным образом отшлифованного ветром; с монолитами, на которые похожа их хозяйка, сама того не подозревая. Мари читала эти открытки и бросала их не в почтовый ящик, как обещала, а прямо в мусор. Открытки скользили вниз, испачкавшись в остатках отливающего красным цветом джема, вместе с опавшими гниющими цветами и вскоре начинали коробиться. Их тексты расплывались. Поскольку мужчины не ждали ответа, то и не замечали, какой путь избрали их тезисы. Но они видели необычное выражение глаз Мари, когда делали попытки рассказать ей о камнях ее родины.
Мари знала свою родину. Каждый день она ходила на кладбище по соседству, вела там с глазу на глаз разговоры с мертвым рыбаком и потерянным ребенком и стирала соль с обеих могильных плит из гранита.
Мужчины рассуждали о культовых камнях, сооруженных тысячелетия назад и разбросанных по стране; о том, как эти камни первоначально одиноко стояли в центре этой местности, окруженные плотно утоптанной землей и бороздами, образующими вокруг них дуги — и что вдруг на верхушках некоторых из них начали водружать кресты, а из самих камней извлекать фигуру, что по камням колотили так долго, пока не проступило страдающее, поднимающееся вверх тело. Наконец вокруг произвольно высеченного креста, парящего в воздухе, возникло множество изумленных глаз и поднятых рук — и все это соединилось в одну историю, которая лишь спустя несколько эпох снова потеряла свои очертания — когда руки отломились, а глазницы вымыл дождь и когда камень, из которого они были изготовлены, опять стал замкнутым в себе самом, безо́бразным, тяжелым.
Мари стоит у окна. В ее комнате не слышно ничего, кроме идущего вперед времени. Солнце опустилось так низко, что уже касается воды, и здесь, в комнате, один из его лучей бродит по картине, на которой в прибрежной воде качается лодка. Луч движется по воде и по лодке и слегка окрашивает их — ровно настолько, чтобы пробудить их к жизни. На дорожке, которую по вечерам прокладывает солнце, Мари видит своего мужа.
Она видит, как он становится все меньше и меньше, а затем окончательно исчезает в отблесках света. Мари же остается, чтобы варить джем и по утрам подтягивать гири часов.
Она трогает свои затекшие ноги. Ей хочется еще немного постоять внутри дома перед дверью. Когда она, проходя мимо, прикасается к юкке, ее листья прокалывают ей руки и пытаются преградить ей дорогу. С легким проклятием Мари отодвигает их в сторону. Скрип двери ее дома, давно с трудом открывающейся, заглушается ленивыми выкриками напольных часов.
Снаружи нет ничего, кроме желтого света. Ни ветра, ни бурунов, ни пены. Когда зрачки привыкают к свету, он отступает за ставшие черными зубцы прибрежного гранита и за остров перед материком. Лежащее между ними море издает нерешительные выжидательные звуки. Оно медленно раскачивается взад-вперед, отливая свинцом. Вокруг Мари кружат бакланы. Потом они разворачиваются и медленно улетают к черному острову. Мари делает несколько шагов по направлению к скалистой кромке берега. Пустошь расцарапывает ее ноги до крови. На краю клифа растет жесткая, свисающая над пропастью трава. Море пусто, вплоть до горизонта, но оно слишком велико, чтобы быть действительно пустым, говорит себе Мари. Она делает резкий вдох.
Гости, попавшие в отель впервые, с усмешкой спрашивали ее, почему она прикрепила к лестнице перед домом старый лодочный якорь. Чтобы удержать дом на месте, отвечала Мари. Гости, убедившись в последующие годы, что дом остался на своем месте, больше вопросов не задавали.
Она оглядывается вокруг. Пустошь. Трава. Измотанные, сгорбленные карликовые сосны оцепенело просят помощи. Ее дом, который уже почти не существует, высится перед ней, как помеченное к рубке дерево, простирающее ветви в свой последний вечер. Снаружи не видно, что комнаты все до одной уже пустые. Дом прочно стоит на граните. Мари спрашивает себя, какая часть дома будет первой, куда ударит ковш экскаватора. Она представляет, как расколются на мелкие куски окна, провалится крыша и внезапно ее обои обнажатся перед глазами тех, кто пришел на побережье, чтобы бросить взгляд на пенящееся море, а скорее всего затем, чтобы посмотреть на экскаватор, как он все бьет и бьет по ее дому. На ней не будет ничего, кроме платья-халата, когда она начнет метаться между приближающимся экскаватором и своим домом. Зрители увидят порхающее платье и не поймут, что они, собственно, увидели: птицу? Или простыню как знак капитуляции?
Она медленно идет назад. Здесь, однажды сказали ей гости, время протекает особенно хорошо, потому что внутри времени возникает принесенное ветром другое, вероятное время.
Мари пропустила момент, когда море между побережьем и островом превращается в сверкающую дорогу. Быстро увядающее солнце уже зашло и оставило ее в сумерках. Она открывает скрипучую дверь дома. Еще не включив лампу, она уже знает, что к ней из темноты потянутся молочно-белые фарфоровые руки. Она закрывает ставни, как будто уже наступила зима.
После того как в газете напечатали, что произойдет с отелем Мари, ее телефон откашлялся и выдал пару звонков. Постоянные гости попросили разрешения приехать к ней в последний раз: они не могли поверить тому, что прочитали. Репортеры, которым понравилась эта история, настаивали на том, чтобы Мари разрешила им сфотографировать ее стоящей перед домом со скрещенными руками и со сжатыми кулаками. Мари промолчала. Она стояла на ветру, разметавшем ее завивку, и плотно закрытыми глазами смотрела в камеру. Она все еще не понимала, почему должен иссякнуть отливающий красным цветом джем, на чьих берегах она стелила постели и резервировала комнаты.
Вероятно, ей надо было защищаться, когда к ней пришел бургомистр и объяснил ей, нервно затягивая один за другим узлы на своем галстуке, что решено вернуть побережье в девственное состояние. Охрана побережья, сказал он. Ведомство по охране побережья! Решено предоставить землю самой себе, без ковриков для вытирания ног, без оконных ставней. «Дикой, — выкрикнул он, — должна стать пустошь! Такой, какой она была до появления первого человека. Ничего, кроме ветра и лишайников на границе!» К сожалению, отель Мари спутывает им все планы. Тут у бургомистра закончился запас слов. От тщетных усилий обрести его снова он чуть было не лопнул, чувствуя, что предметы одежды один за другим сваливаются с его тела и образуют на полу вокруг его ног печальную кучу. Он замолчал. В наступившей тишине его адамово яблоко двигалось вверх-вниз, как выглядывавший из гнезда птенец. Море дышало. Мари оставила бургомистра стоять перед домом и пошла через пустошь к свисающей над краем пропасти траве. Она увидела силуэты бакланов, там, на острове мертвых. Она не защищалась. Ее клокочущий гнев, ищущий выход, затерялся в ней самой.
Горит торшер. Мари сидит в кресле, на коленях сумка, в которой хранятся шуршащие детали ее жизни, и она просматривает их. Жизнь умещается на поверхности стола. Среди ветхих бумаг обнаруживается вещь, хранимая как память, сделанная из отрезанных и склеенных волос ее рано умершей дочери, — на черном картоне растет в пустоте белокурая пальма. «Покойся в саване своем, спи под цветами мирным сном, будь счастлива — из всех земных страданий лишь смерть теперь с тобой!» Мари захотелось еще раз погладить волосы, но они были под стеклом. Потом появилась фотография ее мужа — наряженный в свой лучший костюм, с робко надвинутой на голову шляпой, он улыбается фотографу, увековечившему это мгновение. В заключение она видит свой собственный почерк, которым написано несколько строчек в школьной тетради. «Стучит дождь, будто из мешка высыпаются камушки. Там, наверху, холодно, и звезды катаются на коньках», — читает она. Мари захлопывает школьную тетрадь. Она сидит совершенно спокойно. Постоянные гости во время их последнего посещения подолгу неподвижно смотрели из окон ее комнаты. Они облокотились на подоконник, прислонили головы к волнистым оконным стеклам и рассматривали море, ради которого они всегда и приезжали сюда, как некую фотографию, цвета которой не совсем соответствуют истине. Им казалось, что они видят неудавшийся оттиск, что они должны дополнить действительность своими воспоминаниями. Они долго не могли обрести вновь в своих душах равнодушие, уже расстилавшееся перед ними, сформированное из облаков и пены. Море стало таким же матовым, как волосы Мари. Гости пытались утешить ее. Что, собственно, есть дом? — вопрошали они. Всего лишь кулиса перед гробовым камнем. Мари выносила тарелки, не отвечая ни слова. Гости разглаживали несуществующие складки на скатертях. Гранит спит. В отеле на краю света еще стоят стол и кровать. Телефон звонит. Над Мари, которая собирается переночевать на другой планете, катаются на коньках звезды.
Уезжая, последние гости с чемоданами в руках много раз оборачивались и оглядывались. Они хотели кивнуть на прощание, но увидели лишь тень быстро пролетевшей птицы на блестящем оконном стекле. Мари ушла вовнутрь комнаты. Она села в то же самое кресло, в котором ее найдут люди из ведомства по охране побережья, прибывшие сюда с разрушающим экскаватором, — шуршащие пальцы на коленях, а вокруг шеи цепочка из пустых баночек из-под джема, в которые вложены ветхие вещи — белокурый волос, улыбка, страница из старой школьной тетради. Когда мужчины дотронутся до Мари, снаружи застучит дождь, как будто из мешка посыплются камушки.
Буровая платформа
Лодка покачивается. На сползающих чулках Геккеля обнаруживается рисунок елочкой. Его ботинки сияют от возбуждения. Я схватила его за щиколотки и держу, пока он вытягивается под водой как перископ: почти не стоптанные подошвы ботинок обращены к небу; лицо в центре района его исследовательской деятельности. Когда его левая нога дергается, я вытаскиваю его на борт; дернет он правой, я привязываю к его щиколотке веревку с камнем и бросаю вниз, чтобы он смог донырнуть до зоны полумрака. Но большей частью Геккель ограничивается тем, что можно увидеть под лодкой на глубине не больше длины человеческого тела. У него на голове стеклянный колокол, он основательно знакомится с подводным миром и рисует на ладонях водостойким карандашом все, что колышется рядом с ним. Когда удается что-нибудь схватить, он поднимается с добычей наверх. Чтобы накопить знания, совсем не нужно забираться далеко, считает Геккель, и поэтому мы качаемся в прибрежных водах, а над нами медленно проплывает гряда облаков. Море терпит нас, хотя иногда и помахивает своим подолом, будто хочет стряхнуть нас с себя. Потом вроде бы одумывается: два пытливых глаза, ввинтившиеся, как блохи, в его внутренности, пожалуй, могут и развлечь. Наверху на море, кроме его самого, ничего нет. На горизонте оно выгибается от скуки и прощупывает местность, нет ли где кого, и если там наверху переворачивается корабль, то явно только потому, что море долго оставалось в одиночестве. Под его поверхностью цвета глины живут великая нежность и гнев. Руки из воды хватают Геккеля. Но он не дает сбить себя с толку. Лишь только тогда, когда стекло запотевает изнутри от его дыхания, когда его взор затуманивается от восторга, только тогда он нехотя позволяет моим страдающим рукам схватить его.
Геккель беспокойно вертится. Мне ни разу не удавалось быстро освободить его от стеклянного колокола, когда он выныривал наверх. Я слышу, как он кричит: «Periphylla mirabilis!» Он выстраивает цепь жизни: радиолярии, инфузории, коловратки, фораминиферы, известковые губки, медузы. Ищи, Геккель, странный дух. Среди беспозвоночных он расцветает как роза, готовый к любовным признаниям. Существам, похожим на цветы, он дает имя своей умершей жены. Остальным — придумывает. Море берет на вечное хранение его колышущиеся воспоминания. Он вписывает их туда, как стихи в поэтический альбом, передаваемый по наследству во все новые и новые руки. Мое дело помогать ему, когда он мокрым указательным пальцем перелистывает этот альбом и, потрясенный фейерверком, который производят клетки с момента своего возникновения, отвлекается от своих изысканий. Чтобы пробудить его, я шлепаю его по спине высохшей морской звездой.
Геккель откашливается. Вероятно, он наглотался воды. Я строю себе дом, говорит он. Выпрямившись, стоя в лодке как в городке Иена, он рисует пальцем в воздухе комнаты на Берггассе, 7, а за ним вырастают облака и нерешительно пытаются соединиться в какой-нибудь образ. Periphylla mirabilis — сцифоидная медуза — будет украшением моего кабинета, говорит Геккель. Он протягивает мне ладонь, чтобы я скопировала, что он на ней изобразил под водой: щупальца, покрытые узлами, образуют замысловатый орнамент; плавающий колокол — вид снизу; половые железы. Об этой медузе Геккель мечтал больше всего на свете; нарисованная у него в Иене на потолке, она будет оберегать его, покуда он размышляет. Я приветствую новое звено в цепи жизни. Геккель смывает записи мылом и опять прыгает через борт. Я едва успеваю схватить его за щиколотки. Лодка раскачивается. На корме дребезжат заполненные формалином пробирки, в которых начинают двигаться препарированные морские животные, как будто их понесло течением прочь.
Начинается ветер. И хотя это слабый бриз, мембрана океана, прорванная штанинами Геккеля, недолго остается гладко и самоотверженно натянутой над пучиной. Порывы эмоций то рябят ее, то неожиданно приглаживают. В пределах видимости ни одной лодки. По небу носятся качурки[4]. Они то исчезают среди облачных гряд, то опять пролетают как пули, совсем близко от нас — ножи, разрезающие мраморно-серый день. Их перья сверкают. Пролетая мимо, они разглядывают морских животных, бледно просвечивающих через формалин. Потом возвращаются, чтобы посмотреть еще раз. Слегка сбитые с толку этими тихими существами, они кружатся в освежающем бризе вокруг лодки. Они ждут, когда что-нибудь шевельнется.
Дергается левая нога Геккеля. Он хочет наверх. С онемевшими от напряжения руками я поднимаю его тросом до планки. С его костюма струится вода. В лодке образуются лужи, вода плещется о стенки. Пока я отжимаю его костюм, он опять рассуждает под колоколом, под которым торчит его голова. И я спрашиваю себя: не запотевает ли колокол при погружении в море от водяного пара его речей? «Гостиная!» — первое, что произносит он после того, как я сняла колокол с его плеч. Он опять на Берггассе, 7. Бюст Гете, говорит он, бюст Дарвина, а когда я умру — туда можно будет поставить и мой собственный бюст. Гете и Дарвин, на комодах, достающих до подбородка, воинственно смотрят друг на друга — кроме того, каждый посетитель должен будет помериться с ними. Они делят гостиную между собой. Гете открывает железные законы бытия; Дарвин снимает чары с Бога. И для Гете, и для Дарвина мир прозрачен. Все его загадки разгаданы. Геккель смеется так, что с его дрожащей бороды во все стороны разлетаются брызги воды. Я рассеянно вытираю ее. Я уже вижу свет, царящий вокруг него в гостиной, которую еще нужно построить. Профильтрованный через тяжелые шторы, тусклый и мягкий. На стенах, говорит он, введение в первоначало. Рисунки из времен юности. Листок из школьного гербария, возможно от сорванного под Мерзебургом ириса; дом моего дедушки, нарисованный красным мелком; «национальное собрание» птиц на дереве, состоящее из депутатов от каждого семейства, придуманное и выполненное Эрнстом Геккелем.
Сидя со мной в одной лодке, он погружается в прошлое. Потом вспоминает о радиоляриях. На обоях гостиной, говорит он, будут изображены их кремнистые скелеты: маленькие космические корабли моря, которые подвигли жизнь вперед, а меня — к профессорской кафедре. В глазах Геккеля зажигаются Лампы Морской Биологии. Он опять знает, где он. С осознанием своего научного долга он поворачивает ко мне ладони, и пока я срисовываю сложно устроенную медузу, которую он только что нашел там, внизу, я уже понимаю, что она будет основным элементом орнамента, украшающего потолок его гостиной. Я рисую длинные невесомые руки этой медузы, которая, выставив студенистый парус, может пересечь весь океан. Она дрейфует прямо под поверхностью воды, союз индивидов, один из которых является желудком, другой — процеживает воду своими смертельно обжигающими щупальцами, третий — поднимает на воздух прозрачный, пастельных тонов парус, который тащит их всех, вместе взятых. Ярко раскрашенные, они проплывают над бездной.
Геккель оглядывает небо, на котором облака, громоздящиеся как полипы, мрачнеют и пытаются засунуть свою ногу в нашу лодку. Все, что внизу, то и вверху, только и говорит он, опять замыкаясь на великой цепи бытия, берет мою левую ладонь и складывает ее ковшиком. Проба, бормочет он и наливает туда немножко воды, потом снова переползает за борт и с плеском падает вниз.
Я страхую его теперь одной рукой. В другой плещется взятая из моря, еще не исследованная проба. Геккель надеется, что и я работаю, пока он стремительно погружается в космос, а именно: я должна положить пробу под трубу микроскопа, стоящего на скамье в лодке, и посмотреть в окуляры; одноклеточные втягивают жидкий мир в себя, скользят по предметному стеклу и расплываются в разные стороны. Чтобы их определить, я должна отпустить щиколотки Геккеля. Я старательно навожу на резкость. Одноклеточные, которые и без глаз видят мои усилия, — это инфузории. Они ведут себя теперь так спокойно, словно замурованы в случайной пробе, как в камне. Они погружены в глубокий сон, но и сами они — тоже чьи-то сновидения, а те существа, которые видят их во сне, — суть сонные видения каких-то других существ, и так до бесконечности. Я в шутку спрашиваю себя, сколько инфузорий поместится на острие иглы. Спрятанным в море, призрачным, им всем, вероятно, нашлось бы там место, но под микроскопом они всего лишь — грубая реальность, заполняющая и затемняющая все поле зрения. В картину вдвигается луна с рельефом кончика моего пальца. Она отодвигает в сторону предметное стекло. Я поднимаю глаза, чтобы сориентироваться. Побережье тем временем удалилось на некоторое расстояние.
Мне захотелось есть. Геккель взял с собой на всякий случай удочку. Я закидываю ее, оснащенную бледным, вынутым из формалина тельцем, которое море начинает обманно раскачивать, чтобы заманить рыбу. Ветер теребит лодку, как человек, который назойливо трогает прыщики на своем лице. Качурки не оставляют своего любопытства, бросаются в воду прямо рядом с удочкой, разочаровавшись, с пронзительными криками взмывают вверх и снова бросаются вниз. Их голод и мой голод соединяются вместе и обрушиваются на угрюмое море.
Падают первые капли дождя. Они отскакивают от корпуса лодки и разлетаются во все стороны или попадают на воду цвета глины, выбивая на ней маленькие кратеры, из середины которых выпрыгивают наверх другие капли, в которых отражаюсь я, и падают обратно. Леска неподвижно висит между цепочками падающих вниз и прыгающих вверх капель, уходя в сумеречную зону, в которой одиноко и бесцветно болтается моя наживка. В желудке покалывает. Я вижу рыбные пастбища, на которых сверкают серебряные косяки рыб, преследуемые ножами и вилками, разрезанные на куски и приготовленные для поглощения. Бокалы, наполненные морской водой, чокаются друг с другом. «Еще рюмку водки!» — слышу я свой собственный голос. Мир становится прозрачным. Это акварель, за которой проступает основа, загадочное, но уже ушедшее счастье. Я терпеливо держу удочку над пропастью.
Дождь постепенно уходит прочь и оставляет только ветер, который уверенно начинает возиться с лодкой, окружив ее со всех сторон и ощупывая пальцами, проскальзывая меж препаратами, тихо посвистывая меж стеклами пробирок.
Вот так же свистит ветер и в Иене, когда он огибает холмы и прилетает в город, когда он преграждает мне дорогу и пытается просвистеть сквозь меня, как если бы не было на свете ни меня, ни моей сумки, в которой я несу научные гипотезы. Никто не считает меня способной на добычу, и меньше всего — ветер, который, напевая, толкает меня со всех сторон. Он хочет уморить меня голодом. И когда я уже вижу перед собой портал университета, на который бросаю пригоршню крошечных, извлеченных из моря известковых скелетов, чтобы дать о себе знать, леска внезапно натягивается.
Мой желудок подпрыгивает от радости. Удочка изгибается. Громадная рыбина хочет утащить меня в глубину, начинает бороться со мной, и мне приходится упираться ногами в стенки лодки. Я уже почти лишаюсь сил, когда наконец над водой появляется наживка — и крепко вцепившийся в нее Геккель. Я с изумлением вспоминаю о его существовании.
Лодка раскачивается. Освобожденный от водолазного колокола, Геккель тяжело дышит, сидя на банке. Он посинел от холода. Гете? — спрашивает он, едва переведя дыхание. Дарвин? Он явно не узнает меня. Качурки как ножи разрезают большой серый день из мрамора. Я смотрю поверх плечей Геккеля, сливающихся с линией горизонта. Не заметив, Геккель раздавливает своим задом микроскоп. Я трясу его и возвращаю в действительность. Toreuma bellagemma! — бьет из него ключом. Она украсит мою столовую! Он ищет ощупью наживку, чтобы я ее срисовала. Когда он был под водой, ему показалось, что перед ним нежный красно-зеленый блеск живого экземпляра, но упорное сопротивление этой уже однажды пойманной медузы так его ошеломило, что он израсходовал весь свой запас воздуха на изумленные проклятия. Геккель показывает мне бесцветную наживку и только тут замечает, что держит в руке один из наших препаратов. Я отбираю у него искалеченное борьбой тело и кладу его останки снова в формалин. Потом завинчиваю пробирку. На ее дне обретает покой молочное студенистое облако с бессмысленно поднятыми руками, которое когда-то было сцифоидной медузой.
Посмеиваясь, ветер трясет лопасти наших весел. Геккель подтягивает спустившиеся до щиколоток чулки. Он рассматривает помрачневшее небо. В его папке для эскизов, чьи разрисованные акварельными красками страницы он пополняет во время каждого путешествия, до сих пор еще не было пейзажа такой насыщенности. В чьем-то животе забурчало. Геккель вопросительно смотрит на меня. Он пытается что-нибудь прочесть по моему лицу. Я снова забрасываю леску за борт, на сей раз без наживки. Геккель свистит. Он неторопливо сует руку во внутренний карман своего костюма, вылавливает там один за другим столовые приборы, две консервные банки, открывалку, столовые салфетки, рюмки, бутылку шнапса и скатерть и расставляет все эти предметы на скамье, где они очень мило начинают скользить во все стороны. «Пора подкрепиться!» — кричит он. Я наклоняюсь над банками, чтобы прочитать, что на них написано: Геккель прихватил сардины в масле. Мы садимся друг напротив друга. Он хочет открыть для меня одну из банок, так как видит, что я слишком ослабела, чтобы сделать это самостоятельно. Сардины, лежащие в своем открытом взору убежище, отливают серебром, сверкают как косяк, еще пытающийся ускользнуть в последний момент. Я вожу вилкой между застывших рыбьих глаз, затем вытаскиваю из масла одну из сардин. И пока она, истекая каплями, приближается, покачиваясь, ко мне и ее чешуйки переливаются одна за другой, Геккель наливает первую рюмку шнапса, осушает ее, снова наполняет, пьет опять и начинает вещать, прерываясь назойливым покашливанием.
Ветер мнет пенистые гребни волн. Он поглаживает воду, толкает ее в разные стороны, ударяется о лодку и постепенно гонит ее в открытое море. Клочья облаков затерялись под небом, как развеянные обрывки фраз. Они раскрашивают безмолвие под мрамор.
«Что было вначале?» — начинается тост Геккеля. «Шнапс!» — прерываю я его. Он наливает и мне. Жидкость вгрызается в мое горло, но вскоре в желудке разливается тепло домашнего очага. Мир пригоден для жилья, даже если мы в нем лишние. Вначале почти ничего не было, продолжает Геккель. Он указывает на море вокруг нас. Почти ничего, что было бы достойно упоминания. Только туманности, которые сгущались. Они твердели, пока из них не выглядывало нечто белое, как щиколотка: кулак железных законов, который ударил по пустому столу Вселенной. Геккель смеется. Вверх взметнулась пыль, говорит он. Сверкающая пыль. Вот как много о началах, которых в действительности не было. Наш мир — это вечный двигатель. Он никогда не начинался и никогда не кончится. От века и до века в нем остаются та же самая материя и та же самая энергия, хотя многим это кажется невероятным. Творец с белой шкиперской бородой цепко держит их и не дает ни той ни другой ускользнуть из этой черноты. «О, скольких же Он уморил раньше срока!» — громко кричит Геккель. Некоторые качурки, спустившиеся на воду рядом с лодкой, улетают прочь. Геккель трет глаза. Только сила реальна, говорит он, только сила не дает нашим костям рассыпаться. Только сила удерживает нас в целости до тех пор, пока наконец от нас не остается только самое главное: черепа, которые нанизываются на цепь бытия, как жемчужины. Случай завязывает узлы между этими бледными жемчужинами — случай, который пристально следит, чтобы ничто не соскользнуло, чтобы все осталось на своем месте. Лодка качается. Геккель выпрямляется и продолжает говорить стоя. «Кто утешит исследователя?» — спрашивает он. Шнапс переливается через край, капает на скомканную скатерть. Что утешит?
Листок из школьного гербария, отвечаю я. Возможно, от сорванного под Мерзебургом ириса; дом дедушки, нарисованный красным мелком; «национальное собрание» птиц на дереве, состоящее из депутатов от каждого семейства. Радиолярии, инфузории, коловратки, фораминиферы, известковые губки и медузы. Берггассе, 7, в Иене, где медузы Periphylla mirabilis и Toreuma bellagemma, раскачиваясь точно по центру, ожидают вашего общества.
Пока я перечисляю, Геккель успокаивается. Многообразие, говорит он, спасает исследователю жизнь. И бездонная глубина его исследовательской деятельности, добавляю я. Мы выпиваем за это. Между нами стоит уже полупустая бутылка. Вполне возможно, говорит Геккель, опять усаживаясь на банку, что цепь скорее всего сплетена из примыкающих друг к другу атомов. Он рисует в воздухе дугу. Дискретные частички, говорит он, существующие в избирательном сродстве взаимного притяжения; атомы: мельчайшие сжатые в шарики силы, как отображение великой силы. Они одушевлены чувством и стремлением ежедневно соединяться вновь и тем самым развивать наш мир. За твое здоровье!
Речь утомила Геккеля. Он рассматривает свои ногти, чистые от многочисленных ныряний. Я же размышляю о подоплеке его успеха: трансатлантическом телефонном кабеле. Когда его подняли со дна моря для исследования, он был весь облеплен существами из той зоны, которую считали непригодной для жизни. Считалось, что гигантская толща воды, давящая всем своим весом на дно, все там внизу сокрушила. Немедленно был снаряжен корабль, из пропастей зачерпнуты пробы и доставлены на лабораторные столы знаменитейших исследователей. Геккель был одним из них. Побледнев от усердия, сутками напролет он давал имена неизвестным существам. С тех пор каждое путешествие, совместно предпринимаемое нами, он называет вызовом.
Геккель начинает петь. Ветер вторит ему пронзительным свистом в банках из-под сардин. На горизонте исчезает последняя полоска берега. Мы в открытом море.
Вокруг нашей лодки танцуют белые барашки, как будто ждут, что мы их начнем кормить.
«Вкруг мыса Горн, рискуя головой…» — поет Геккель. Из всех морских песен он знает только эту. Я хватаюсь за руль, хочу попытаться по возможности повернуть в ту сторону, откуда мы отправились в путь. Некоторые качурки, разочарованно сменившие курс, вернулись обратно, увидев, что в нашей лодке что-то шевелится. «Hidrobates pelagicus!» — угрожающе кричит Геккель и старается схватить их, несчастных. Беззащитных и настолько наполненных рыбьим жиром, что протяни через них фитиль — тут же загорятся. Я выхожу в седое море. Оно ворочается, тяжело дыша, с боку на бок и, как бы задумавшись на короткое время, приклеивается к веслам, потом освобождается и стекает каплями вниз. Атом за атомом, маленькие сжатые кулачки, как прообраз большого железного кулака. На пластроне рубашки Геккеля вздымается и опускается его борода. Он лежит среди опрокинутых пробирок, в которых были законсервированы наши препараты, и храпит. Вокруг него разлилась лужа формалина. Осколки стекла и бледные руки прижимаются к его штанинам. Сифонофора тихонечко помахивает своим подолом, две компас-медузы задумчиво разваливаются на части у рифов его начищенных ботинок. Белесые медузы Aurelia aurita тают рядом с его головой. Хоботковые медузы исчезают в рукавах его костюма. Улыбка Геккеля, которую он забрал с собой в свой сон, добрая, одновременно далекая и близкая, беловато-прозрачная, застывшая в момент полного удовлетворения.
Должно быть, он сейчас находится рядом со своей умершей женой, которая, как цветок, раскачивается в его памяти и вышивает ему медуз на носовых платках. Должно быть, он гладит ее волосы и пытается удержать ее красоту. Но прежде чем посвататься к ней, он должен найти крошечные скелеты ста двадцати неизвестных радиолярий. Геккель того и гляди утонет в своих воспоминаниях. Я колеблюсь, стоит ли его спасать. Здесь, снаружи, даже море одиноко. Оно захлебывается самим собой и ощущает удары моих весел в лучшем случае как легкую щекотку. Я тружусь изо всех сил, но берега пока не видно. Все выше становятся волны, преграждающие мне путь. Я вспоминаю об очаровательной речке Заале, прорывающей ходы в известняковых плоскогорьях вокруг Иены. Я тоскую по иенскому ветру и по большому закрытому порталу университета, в который он с разбега ударяется и пытается проникнуть внутрь. Город раскачивается над морем, как мирно дрожащая фата-моргана, а мои руки покрываются волдырями.
Геккель хрипит. О лодку ударил шквал, разбил лежащий на ее носу водолазный колокол Геккеля и разбудил его. Он рассеянно лезет в карман костюма, вытаскивает оттуда альбом для эскизов и, все еще лежа, перелистывает его страницы, на которых акварелью запечатлены его прошлые путешествия. Моря и горы, гроты и скалы, кораллы, вулканы, облака. Ландшафты, в которых не живут люди. Геккель прислоняется к стенке лодки, вытаскивает рисовальные принадлежности и набрасывает эскиз своей следующей картины странствий. Он начинает рисовать блеклой серо-голубой краской, которой закрашивает весь лист. Ожидая, когда высохнет фон, он смотрит вверх. Вокруг нас громоздится море. Геккель смешивает грязную белизну для полосок пены и осторожно наносит их крапинками на волны по ветру, как он это видит перед собой. Потом исследует коробку с красками, прикасается кисточкой к красному цвету — гор, желтому — пустынь, зеленому — джунглей и смешивает их на своей ладони в пятно цвета глины.
Много раз окунает он кисточку в эту маленькую лужицу, пока в середине листа не всплывает земля. Я нагибаюсь вперед: Геккель рисует остров. Это возвышение, на котором прорастают травы и стоит пальма. В это намеченное общими чертами убежище он помещает фигуры, которые движутся по кругу с раскинутыми руками.
На лодку брызжет пена. Геккель низко склонился над картиной, защищая ее. Ветер фыркает. Он вламывается в лодку, как рассерженный дворник, выметает осколки и мертвых животных за борт, принимается на пробу и за нас, чтобы выяснить, насколько мы тяжелы. Он развеивает верхушки водяных валов. Качурки, которые носятся вокруг нас со свистом, как нервное облако, крутят в воздухе сальто.
Ветер начинает возбуждаться всерьез. Он задирает Геккеля, заставляет его подняться из изогнутого положения и дает ему в ухо, справа и слева. У меня он выхватывает из рук уключины и разбивает ненужный руль. Море грохочет, белое от гнева.
Геккель пытается что-то крикнуть мне, но сквозь стену брызг и пены я с трудом различаю очертания нашей лодки. Я цепляюсь за скамью, и мое колено наталкивается на оставшуюся часть нашего снаряжения — раздавленный Геккелем микроскоп, и тут я чувствую, что меня кто-то трогает за плечо. Лицо Геккеля приближается к моему. На нем шляпа. Он сохраняет самообладание. Ныряем, говорит он и, схватив меня за ворот, прыгает за борт.
В одно мгновение мир успокаивается. Он — это нежная воронка, куда тянет меня Геккель всей тяжестью своей научной репутации. Корпус лодки, беззвучно подпрыгивая, удаляется от нас к небу. Нас обволакивают плотные сумерки. И хотя мы их не видим, мы знаем, что, пока мы падаем сквозь океан, вокруг нас кружатся бесчисленные инфузории. Косяк серебристых сардин уносится прочь и неподвижными глазами смотрит, как мы скользим во мрак. Геккель, первый рухнувший в воду, все время чуть ниже меня.
Время идет.
Чем глубже мы опускаемся, тем настойчивее протягивает к нам вода из темноты свои руки и со всех сторон сдавливает легкие. Если бы это было возможно, мы бы, вероятно, повернули обратно, но из объятий моря уже не вырваться. Потом мы оказываемся на дне.
Геккель, упавший на ноги, держит в руках качурку, через которую протянул фитиль и поджег его. В его свете мы видим: прямо перед нами лежит трансатлантический телефонный кабель. Он заскорузл от налипшей жизни. Мы медленно поднимаемся по нему вверх. Геккель гасит птичью лампу, чтобы лучше сориентироваться. В неопределенной близости от нас теперь мерцает свет, напоминающий окно, за закрытыми шторами которого кто-то ждет и вышивает. Туда-то и держит путь Геккель, решив основательно исследовать малюток, которые с парусом из студня пересекают весь океан, но погибают на земле.
А потом мы оказываемся перед Виллой Медуза, Берггассе, 7. Через открытую дверь мы проникаем вовнутрь. Геккель снимает шляпу и кладет ее на полку гардероба, спугнув тем самым косяк маленьких рыбок. Кафельные плитки сплошь покрыты кремнистыми скелетами — ноздреватыми колючими шарами, которые ломаются под нашими подошвами. Геккель приглашает меня в салон. Я осторожно проскальзываю внутрь: меня встречает здесь эхо столетий. Гете и Дарвин смотрят на нас сверху вниз и обмениваются поверх наших голов гипсово-белым бормотанием. На почетном месте в комнате уже наполовину отслоившиеся от потолка длинные щупальца сифонофоры. Геккель тащит меня дальше в столовую. Ротовые лопасти сцифоидной медузы простираются над витринами, заполненными грамотами и медалями, а на стенах висят написанные Геккелем картины о его путешествиях. Моря, горы, пустыни, джунгли. В одном из углов комнаты высится родословное древо человечества. Вверху, где древо упирается в потолок, по его кроне ползет Homo sapiens. Геккель погружается в раздумья, а в это время я за его спиной проникаю в спальню. Я почти ожидаю увидеть там его мертвую жену. Но там стоит лишь кровать в форме медузы-корнерота, чье гибкое беспозвоночное тело он назвал именем умершей. Кровать шевелится, как будто дышит. Прошлое имеет привкус соли.
Геккель входит следом за мной и силой тащит меня прочь. Он хочет показать мне свой рабочий кабинет на верхнем этаже. И поэтому мы воспаряем по лестнице наверх, мимо бюстов и безлюдных ландшафтов, мимо кратеров, кораллов, гротов и облаков. Мы прикасаемся к расшитым медузами носовым платкам, поднимаем их и отпускаем обратно в темноту.
В кабинете лежат книги, чьи страницы начинают медленно переворачиваться, когда мы приближаемся к ним. Справа и слева к письменному столу прислонились пара костылей. Геккель садится. Его борода побелела. Сцифоидная медуза Periphylla mirabilis завивает над ним кольцами свои хорошо сохранившиеся щупальца, завязанные узлами в форме гирлянд, и раскрывает свой розовый плавучий колокол, в котором ее рот и половые железы видны так ясно, как будто творению заглянули под юбку.
Геккель не поднимает глаз. Он изучает свое собственное лицо. В руках он держит маску: слепок с сомкнутыми веками. Он долго разглядывает отпечаток вечного сна, свой след, запечатленный в гипсе.
Матросы второго класса
В 9000 году до н. э. происходит ужасное — на Землю из космоса обрушивается сжатое каменное тело. Астрономы и астрологи, углубленные в расчеты судеб, замечают его только тогда, когда оно уже пробивает воздушную оболочку Земли. Они стоят с раскрытыми ртами и высоко поднятыми руками, освещенные вспыхнувшим камнем, который стремительно падает в Атлантический океан, и вскоре после этого обнаруживают, что на них надвигается стена воды. Их континент исчезает, как будто его не было никогда.
Спустя 10 983 года трое мужчин сидят за столом и подкрепляются деловым завтраком. Они помешивают ложечками в дымящихся чашках, а в комнате время от времени распахивается дверца и кукует кукушка. Никто из них не оглядывается на деревянный ящик, из которого выскакивает и требовательно кричит птица. Они тихо беседуют, составляют планы, едят толстые куски ветчины. Их страсть отдана философствованию. Тому, о чем можно лишь догадываться. Тому, что было бы, если… Гипотезе ad futurum. Комбинаторика, надежды, туманообразные облака. Весеннее утро, окрашенное криками кукушки. Мужчины жуют. С набитыми ртами они оценивают варианты, в том числе и совершенно невероятные, не забывая при этом отдать должное классической реальности обильного завтрака.
Эвальд Ноннеман срезает ножом верхушку яйца.
— Многое уже на дне, но не все, — говорит он.
— Давайте еще раз рассмотрим следы того, что осталось, — говорит Дитрих Трампер и усмехается.
Александр Хилл не говорит ничего. Трое философов прихлебывают кофе. Трампер всегда в пути к границам непознанного, он всегда там, где мышление формирует новые цепочки создания добавленной стоимости. Он готов к любому рискованному предприятию. Ноннеман — трезвый фантаст, в его компетенции практические вещи. Аспирант Хилл, молодой и пока что никому не известный, лежа на софе, грезит об их проекте.
Он видит камни со смытыми водой лицами; лестницы, которые поднимаются вверх и обрываются в никуда; циклопическую архитектуру, населенную морскими рачками. Он чувствует, что маленькие бинокли из великой дали пристально следят за ним, он чувствует, что они изучают его с отчаянным напряжением, — чувствует их смутную просьбу найти их. Потом он увидел картину гибели. Отблеск скалы на поднятых руках. Люди замирали и превращались в камень: во время драки, во время сбора урожая, при строительстве кораблей, во время военной подготовки. Он видел трибуны, ставшие ненужными за одну-единственную секунду, утонувшие и разлагавшиеся в непроходимом иле. Астрологи и астрономы остались без дела из-за непредсказуемости будущего. Мертвые животные колыхались на жертвенных алтарях. Улыбки богов растрескивались на стенах бывших храмов. Хилл думает о грандиозном куске времени, внезапно вырванном из контекста; потом об амнезии, такой же огромной, как исчезнувшая масса Земли, на которой живут все без исключения бесплодные утопии. Хилла лихорадило. Он попал под дождь и промочил ноги. Сейчас он лежал на софе и дрожал, окруженный грезами. Перед его взором раскрывалась история болезни человечества. Он видел далекую страну, чьи обычаи казались ему на удивление хорошо знакомыми: там тоже люди жестоко мучили друг друга.
Страна эта называлась Атлантида.
Кукушка прокуковала уже много раз. Трампер, Хилл и Ноннеман откусывали бутерброды, жевали и глотали, и у каждого из них лежала на коленях стопка книг, которую они перелистывали жирными пальцами в поисках нужного места.
Хилл начинает с главного свидетеля — Платона: «От моря и примерно до середины острова простиралась равнина…»
Ноннеман цитирует Гераклита: «Уходи! Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: столь глубока ее мера».
Трампер после долгого раздумья добавляет свой собственный тезис: «Фантазия — как коррозия: она разрастается».
Ноннеман задумчиво передвигает подъяичник. Он воткнул ложку в наполовину съеденное яйцо как мачту. И пока он путешествует со своим подъяичником по столу, Хилл начинает экскурс в свое детство. Он рассказывает, что возил по полу жестянки от «ОМО» как свой первый корабль. Как он во время первого фрахта двигался между детской комнатой, передней, гостиной, спальней, кухней, ванной. Он рассказывает о носовом платке, взятом из грязного белья, который служил ему парусом, и о веселом придуманном ветре, веющем в комнатах.
— Мы уже давно сорим на паркет, — неожиданно говорит Трампер. — Давайте выйдем в море, — кричит он, заглушая кукушку, — наконец-то выйдем в море из узкогрудой гавани дней!
— Успокойтесь, — говорит Ноннеман.
— Если что и нужно, — кричит Трампер, — так это мужество!
— Если что и нужно, — возражает Ноннеман, — так это моя океанская яхта «Дельта-30»: три отдельные каюты, две душевые, большая кают-компания, парус «Форли», цельная парусина, тиковая палуба, дизель «Леман» 90 л.с., радар, автопилот, два эхолота, надувной спасательный плотик, электрическое отопление.
Хилл и Трампер притихли. Даже без криков кукушки они знали, что час пробил. Их разглагольствования должны на сей раз завершиться коллективным плаванием.
— Однако «Дельта-30» должна быть переоборудована, чтобы сгодиться для наших поисков, — заключает Ноннеман. — Необходимо найти еще место для библиотеки.
И, не закончив завтрак, они разворачивают среди отодвинутых в стороны тарелок и нарезанных колбас три морские карты и начинают водить пальцами по линиям глубин, местам, где найдены остатки кораблекрушений, и прочим опасным местам.
Они видят уже исследованную территорию. Все находится там, где положено. Мир подобен хорошо наполненной сетке для покупок. Однако они предчувствуют, что между ячейками сетки на самом дне находится еще не открытое, некая вытесненная со своего места реальность, которую они проецируют на воду. Они старательно склоняются над морскими картами. При этом Хилл расплескивает на одну из них капельку кофе, и она расплывается зловещим пятном. Аспирант Хилл в шутку как бы окаменевает с нарочито воздетыми кверху руками. Остальные двое толкают его в бока.
— Я предлагаю, — говорит он и указывает на пятно кофе, — пересечь Среднеатлантический хребет. Мы исследуем тезис Платона об Атлантиде именно там, где она погребена, — в центре океана. Будем искать пропавший континент там. Если что и требуется, — говорит он, — так это наше отплытие.
Трампер и Ноннеман переглядываются.
— Многое уже на дне, но, возможно, не все, — говорит Ноннеман.
— Мы обязательно обнаружим следы, — говорит Дитрих Трампер и усмехается.
Спустя 10 984 года после того, как Небо преподнесло Земле космический урок, Дитрих Трампер, Александер Хилл и Эвальд Ноннеман исчезают, направляясь к своим догадкам и кое-что оставив рядом с немытой посудой. Об их дальнейшей судьбе много судачат. Называется она — Атлантида. Именно этот фрагмент из позднего Платона, этот отрывочный, спорный вахтенный журнал гибели! Философское Сообщество полагает, что без вести пропавшие потерпели кораблекрушение. Так обстоят дела с проектами, лишенными малейшего здравого человеческого смысла. С момента их отплытия об этих троих никто больше ничего не слышал.
Никто не подозревает, что я, сидя вечерами за своим рабочим столом и наблюдая, как солнце опускается сначала в раскрытые руки телевизионных антенн, а потом за крыши домов, иногда улавливаю радиограммы «Дельты-30». Через шумы и хрипы до меня доносятся обрывки разговоров. Трампер, Хилл и Ноннеман, судя по всему, пребывают далеко отсюда. И хотя эфир искажает голоса, я все же могу различить, кто из них говорит, и веду записи, чтобы предъявить их в один прекрасный день Сообществу, которое считает погибшим любого, кто столь наивен. Оно просто замалчивает их. Однако же трое философов в обществе отважно хлопающего на ветру паруса «Форли» прыскают со смеху.
— Расслабьтесь, — кричит Ноннеман, — дальше пойдем на автопилоте! Ветер и волны, солнце всходит и заходит, в настоящее время здесь нет ничего, что нужно наблюдать или доказывать. Коллега Хилл, развлеките нас, пожалуйста, вашими историями!
— Из детства человечества или из моего собственного? — спрашивает Хилл.
— Все равно, — разрешают Трампер и Ноннеман.
— Итак, я составляю пустые жестянки из-под моющего средства «ОМО», — начинает Хилл, — воображаю, что это корабль, и пускаюсь в мое первое торговое плавание. Весеннее солнце освещает отплытие. Полосатые обои моей детской комнаты с прикрепленной на них картинкой из календаря, изображающей поднятый разводной мост, прощаются со мной. Я не забыл их и по сей день. Мой корабль, как уже было сказано, состоит из перевернутых жестянок, на верху одной из них написано «ОМО». Дует толстощекий ветер. Он раздувает носовой платок, который выглядит как топсель, и вот я уже в передней, маневрирую в ее маленьком фарватере и слышу доносящийся из кухни стук посуды. Перед носом моего корабля сверкают серебристые рыбки. Сбоку по борту приближается гардероб, на котором болтаются вздернутые пираты; потом подставка для зонтиков, в которой скопившиеся зонты острыми носами роют сокровища. Большие лодки — отцовские и материнские туфли — стоят на якоре, ржаво-коричневые, серьезные. Впереди по правому борту сели на мель напольные часы. Они посылают крики кукушки, как призывы о помощи, а их тяжелые еловые шишки на лот-линиях опускаются в фарватер. Мне удается незаметно пересечь кухню. На всех парусах я проплываю мимо гремящей посуды, потом начинаю тихонько напевать от радости, что первые мили позади и передо мной открытое море. «ОМО», покачиваясь, переплывает через порог, и вот мы уже в гостиной.
— Очень хорошо! — говорят Трампер и Ноннеман. Их последующие комментарии тонут в далеких шумах.
Сидя за письменным столом, я вижу, как солнце опускается в расставленные руки телевизионных антенн. Вверх поднимаются запахи подгоревшего мяса и вареного картофеля. Всепроникающее удовольствие посылает дымовые сигналы. А Трампер, Хилл и Ноннеман, — что они делают там, на рейде, на пустой водной поверхности? Голос Трампера еще раз вышелушивается из шума.
— Чтобы приблизиться к нашей цели, — говорит он, — какие книги вы взяли с собой в судовую библиотеку?
— Все те, в которых философия отдыхает, — отвечает Ноннеман. Они прыскают со смеху.
— Insula Atlantis! — меж тем продолжает Хилл. — Разрушенный и покрытый забвением остров! Но круги! Все, что падает в воду, образует круги; волнообразные воспоминания, которые бьются о берег и щекочут спящий материк.
— Успокойтесь, Хилл! — говорит Ноннеман. — Вы что, уже видите, как остров вашей мечты всплывает и, отбрасывая тень, качается в океане? Вы видите его зыбкие очертания, реки, берущие там начало, гору, стоящую в его середине, каменные остатки громадных дворцов и общественных сооружений? Вы что, считаете Азорские острова оставшимся кончиком носа пропавшего континента? Я же вижу, что мы на мели и ничего не видим.
— А я, — говорит Хилл, тяжело дыша от обиды, — до сих пор вижу направленные на меня издалека бинокли.
— Успокойтесь, — смягчает обстановку Трампер. — Самое главное, что мы не подвержены морской болезни. Посмотрите лучше на этих веселых дельфинов, как они выпрыгивают из глубины, чтобы перекувырнуться перед нами. Посмотрите лучше…
На этом месте передача опять прерывается. Солнце готово опуститься за крыши домов. Со всех сторон в палисадники возвращается армада тружеников, предвкушающих выходные. У каждого под мышкой портфель с прочитанными утренними газетами: Экономика. Политика. Спорт. Разное.
— В гостиной, — продолжает докладывать Хилл, — «ОМО» плавает в безопасных водах. Я держу курс мимо подставки для газет к двум креслам, которые возвышаются, широко расставив ноги, и ждут всегда на одном и том же месте. По будням они стоят на маленьких пластиковых тарелочках, чтобы не оставлять на полу вмятин. Потом я высаживаюсь на берег: на одно из тех мягких сидений, на которых когда-то сидели отец и мать и принимали в свои раскрытые руки мои первые шаги. С тех пор эти кресла стоят здесь незыблемо. Они терпеливо ожидают на краю моих воспоминаний, поставленные на пластиковые подставки, как на смешные спасательные плотики, и исчезают во все более отдаляющемся времени. Я взбираюсь на мягкие сиденья и поднимаю флаг: она не постоянна, она улетучивается, эта жизнь.
Трампер и Ноннеман одобрительно ворчат. Потом Ноннеман бормочет что-то по поводу корректировки курса. Мол, иначе не удастся продвинуться дальше к цели. «Дельта-30» не должна болтаться и зависеть от случайностей, а должна быть нацелена на результат.
— Уважаемый коллега Хилл, — говорит он, — за это время я смог свыкнуться с вашими фантазиями, а именно с необходимостью экскурсии в подводную топологию Азорского архипелага. Мы должны были переоснастить «Дельту-30», чтобы наше пребывание здесь было обоснованным. Мы должны были составить точный каталог пиков, впадин, пропастей и вершин — короче, материалов по данной теме. То, что нас интересует, может оказаться горной формацией, лежащей в глубине прямо под нашим килем.
— Что мы, собственно, ищем — кусок суши или истину? — спрашивает Хилл.
— Безразлично, — вмешивается Трампер. — В любом случае нам не нужны пробы пород, чтобы выяснить, что находится под нашим килем: смытые водой лица; лестницы, которые поднимаются вверх и обрушиваются в никуда; циклопические массивы, населенные морскими рачками. А где-то между ними растрескиваются улыбки богов.
— Именно так! — говорит Хилл.
— И вот еще что, — говорит Трампер. — Мне сегодня приснился сон: ко мне по водам пришел Платон. Вы, как дети, сказал он, всегда все начинаете сначала. Ваши вопросы относительно Атлантиды доказывают, что вы все еще ничего не понимаете.
— Хо-хо! — иронизирует Ноннеман. — Позвольте напомнить вам некоторые из глупейших ответов: наш коллега, психолог, чье имя вылетело у меня из головы, утверждает, что Атлантида — это великая галлюцинация, так сказать, мифологический кусок балласта, который, как мираж, проникает в сознание. Где много сенсаций, там много денег. Психоаналитики, как известно, разглагольствуют о драме талантливого острова. И даже метеорологам есть что сказать: мнимый континент был не что иное, как область плохой погоды; низко висящие облака напоминают дворцы и горы. Вывод: каждый старый анекдот находит своего слушателя. Только нас, путешествующих с ясным сознанием, а именно — с философскими головами на плечах, никто не считает способными найти ответ.
Снаружи смеркается. Отовсюду в палисадники проникают блеклые отражения новостей. Политики трясут друг другу руки. Спортсмены перепрыгивают через барьеры. Акции поднимаются, чтобы не падать. Я сижу без света. Передо мной лежит исписанный в темноте лист бумаги с водяными знаками. Когда его изготовляли, на нем изобразили парусник, который я вижу, когда держу лист против окна и мерцающих сквозь него отблесков новостей. Корабль светло поднимается с бумаги, представленный в легком движении. На его такелаже ползают три крошечных матроса.
Трампер, Хилл и Ноннеман уже так давно остаются за горизонтом ожидания, что их изображают в книгах не как пропавших, а как утонувших. Но они не погибли. Несмотря на некоторые атмосферные помехи, они диктуют мне по радио свою историю, уносимые в неизвестность ветром и дизелем Лемана в 90 л.с.
— Бортовая программа! — требует Ноннеман.
— Ну, Хилл, как дела с «ОМО»? — спрашивает Трампер.
— Мой корабль доставляет меня к сторожевой вышке, — говорит Хилл, — и оттуда я вижу, как на краю коврика в гостиной усыхают два забытых кресла.
Некоторое время я не слышу ничего, кроме шуршания. Трампер прерывает паузу:
— Платон посетил меня во сне, чтобы сообщить: Атлантида — это термин для обозначения конца света. Однако одновременно это всего лишь эпизод. Он считает, что я должен вглядеться в пустую поверхность воды. Я должен посмотреть на звезды и представить себе, что одна из них, тяжело вздохнув, покидает свою орбиту. Что она падает на Землю и обрушивает тот остров, на котором, как и повсюду, люди жестоко мучают друг друга, в пропасть мифа. Что море смыкается на этом месте, как если бы там ничего никогда не было. И верю ли я в то, что пропавший без вести остров всплывет опять, как утопленник? Я долго лежал в своей каюте, — говорит Трампер. — Луна прокатилась по небу и скрылась за горизонтом. Вода оставалась все той же, то есть бесконечной. Днем у нее цвет разбавленной гущи, по ночам же она становится как чернила в чернильнице. Она лежит, покрыв завесою тайны то, что мы ищем. Я мысленно написал тайное письмо утонувшим. «Вы вырвали у нас кусок времени. Верните его нам обратно».
— Прекрасно, прекрасно, прекрасно! — говорят Хилл и Ноннеман.
Ноннеман добавляет с подтекстом, что так как здесь на рейде все равно ничего другого нет, можно продолжить путь, рассказывая истории.
— Мы делаем приблизительно три узла, — говорит он, — мы движемся вперед.
Трампер громко кашляет. Хилл услышал в словах Ноннемана приглашение и не заставил просить себя дважды.
— Я остановился на коврике, — подчеркивает он.
— Пожалуйста, — говорит Ноннеман.
— «ОМО», — продолжает Хилл, — приближается теперь к обтрепанному краю знакомого мира. Оно тянет по дну невод. В нем я впоследствии найду детали: еловые шишки из свинца, туфли ржаво-коричневого цвета, полосатые обои. Многое из пойманного всего лишь схемы, они меняют свой образ, если пристально вглядываться в них, как пятна, в которых видишь все новые и новые лица. Невод тянется по небу утонувшей местности. На ней детские площадки с крутящимися барабанами и ребенком, который иногда там играет. Отец и мать широко раскрывают руки, когда их ребенок мчится вперед на крутящемся барабане и растет сантиметр за сантиметром. Под конец он видит, как родители становятся все меньше, как они соприкасаются с горизонтом и медленно исчезают. Я стою у руля «ОМО» и приказываю сам себе придерживаться курса. Носовой платок наполняется комнатным ветром.
— Эй, там дельфины! — слышу я голос Трампера. — Посмотрите, как они крутятся вокруг себя! Как они кувыркаются перед нами!
Я сижу за письменным столом и фиксирую услышанное, ощущая при этом, как из глубин поднимается веселье. Сообщество, с его кухонной латынью, в конце концов опубликовало бюллетень, в котором оно лишает Дитриха Трампера и Эвальда Ноннемана in absentia права на преподавание.
— Помните ли вы, Ноннеман, — слышу я вопрос Трампера, — как во время делового завтрака нам удалась дефиниция человека? Как мы назвали его трехсекундным зверьком? Три секунды для вдоха и выдоха, три секунды связного восприятия, три секунды настоящего времени. Я полагаю, что речь идет о материале, который слишком преходящ, чтобы связывать воспоминания воедино. Я считаю, что знание сокрыто в оболочке Земли.
— И я всегда говорил то же самое или нечто подобное, — бурчит Ноннеман.
— Да, мой дорогой, — говорит Трампер, — в оболочке Земли. Там оно спит, там оно меняет свое положение во время сна, там оно остается недоступным для наших рассуждений. Единственные, у которых мы можем что-либо выяснить, это обработанные людьми камни. Они — как свидетели, стоящие на побережьях с открытыми ртами и с жалобным напряжением разглядывающие нас. Может быть, они рассказывают об Атлантиде?
— Ах, Трампер, — говорит Ноннеман, — «Границ души тебе не отыскать, по какому бы пути ты ни пошел: столь глубока ее мера».
— Ах, Ноннеман, — говорит Трампер, — «Фантазия — как коррозия: она разрастается».
Они смеются.
Хилл, напуганный старческой безысходностью, распространяющейся на борту, фыркает, что и он со своей стороны хотел бы что-нибудь еще пережить.
— Вы еще успеете, — кричат Трампер и Ноннеман.
Все остальное на океанской яхте «Дельта-30», будь то угроза или предсказание, было проглочено радиомолчанием. Снаружи, перед моим окном дрейфует армада тружеников, предвкушающих выходные, молча проплывая мимо на своих портфелях. На небе сияют созвездия. Ночь, задержав дыхание, ныряет, чтобы попасть в комнаты за задвинутыми шторами. Там она находит смытые водой лица, раскрытые во сне рты, домашних животных, которые грезят, вытянув лапы.
— Здесь!.. — внезапно рычит Хилл так громко, что перед моим письменным столом лопаются оконные стекла.
Я слышу шуршание лихорадочно сворачиваемых морских карт, проклятия и попытки определения местонахождения.
«От моря и примерно до середины острова…» — кряхтит Хилл.
Ноннеман отдает отрывочные приказы в делающиеся все более мощными помехи.
Трампер, судя по всему, ничего не делает. От него не исходит ни звука.
Между стен моей комнаты блуждает призрак никогда до конца не постигаемой истины.
— Хо-хо! — опять кричит Ноннеман.
Падающая звезда вспыхивает и гаснет, прежде чем я успеваю сосчитать до трех. Через накопленный тысячелетиями шум эфира доносится кукование кукушки.
Шельф
Здесь на сушу наступает море. Сопротивляясь ему, она с силой швыряет в него последнюю гальку, но в конце концов смиряется. Здесь расположен Вессовилль. Чайки пронзительно кричат, сидя на дымовых трубах. Их белые крики разрезают напряженную тишину, обрубают воздушные канаты, удерживающие на привязи тихо покачивающийся город, и подталкивают его в сторону вздымающихся волн. Чайки кричат, запрокинув головы. Они стоят на крышах, дымовых трубах и фигурных украшениях носов кораблей, эти стойкие спутники приливов и отливов, всегда готовые взлететь и, почти не взмахивая крыльями, парить над серыми домами. Лишь трепет их маховых крыльев выдает, как сильно они напрягаются, чтобы ветер не сдвинул их с места. Потом они приземляются, падая вниз на крыши, или исчезают, когда меняют угол крыла и отдаются на волю ветра — он их тут же уносит прочь.
Дома в Вессовилле стоят группами, сутуло наклонившись вперед. Их роднят столетия и камень, из которого все они сделаны. Пустые места между ними заполняют гортензии. Они цветут. Кустарники в унисон поднимают вверх шары своих крупных голубых украшений и сохраняют их, безмолвных, не имеющих запаха, на своих отяжелевших ветках вплоть до глубокой осени, как свидетельство наступления лета. Иногда среди цветущих шаров запутываются бабочки, но, разочаровавшись, сразу улетают прочь. Гортензии, всегда неподвижные, лишь слегка покачивающиеся под ударами ветра, стоят прямо, не прислоняясь ни к одной из окружающих их стен. Их голубоватые шары одеревенели изнутри. Они точно подходят к оставленному для них пространству; они наполняют его окаймляющей красотой; они раскрашивают дни Вессовилля, уединившегося на нашей протоке Млечного Пути.
На колокольне бьют часы. Приземистая башня задержалась среди домов, на полпути между небом и землей — короткий толстый указательный палец, который постепенно окаменел, двадцать четыре часа подряд высекая искры из времени. Церковь мрачно давит на освященную землю. Она такая же серая, как и дома вокруг нее, возможно, даже более серая, чем они. Только циферблат ее часов выделяется белым цветом на общем фоне. Большая зубчатая передача работает не останавливаясь. Ее части сцепляются друг с другом; она приводит в движение привод и стрелки, и, вращаясь, они подталкивают тени над площадью перед башней, эти безмятежно улетающие мгновения.
Потом в Вессовилле наступает вечер. В пустой церкви начинают играть на органе прелюдию. Сначала она пробуждает басы, покрывает стертые камни мрачным основным тоном, который ложится прежде всего на врезанные в пол надгробные плиты. Умершие исчезают, некоторые, однако, остаются в виде полурельефов: толстый мужчина в фуфайке; сломанный посередине фюзилер с выпученными глазами насекомого; женщина, у ног которой уверенно сидит собачка. Все они мертвы. Прочный камень охраняет их тела, их забытые лики, которые высечены из ледникового валуна — хранителя смерти, и под защитой церкви не ветшают, омываемые прелюдией, откладывающей на них отдельные звуки, а потом взмывающей над ними вверх, к горней радости. Поднимаясь и распространяясь вширь, она достигает скамей в церкви.
Лежащие на них сборники церковных песнопений охраняют те простые мелодии, стимулировать развитие которых, собственно, и призван орган. Но сейчас он погребает под собой простоту, и его звуки гулко разносятся по церкви, наполняя ее полифонией. Все сильнее ударяется музыка о стены и колонны, ломается, смешивается с собой самой, через ступени проникает в алтарную часть вплоть до рядов стульев на клиросе, где целая толпа вырезанных из дерева лиц равнодушно следит за приливами и отливами потоков музыки, которые не в состоянии сдвинуть ее с места. Эти грубые лица изображены на подлокотниках и откидывающихся сиденьях; собрание забавностей, застывших за алтарем.
Подслушивающий человек вытягивает свое огромное ухо в космос. Виноградарь выдавливает сок. Высокомерие смотрится в зеркало, которое ему протягивает дьявол. Нищие угрожают друг другу, скалят свои кривые зубы и поднимают костыли. Денежный кошель проглатывает своего владельца. Монах убегает на вращающемся шаре. Согнувшийся до земли крестьянин тащит домой снопы. Лицо, вдоль которого пролегла трещина, делящая его на добрую и разгневанную половины, смотрит в будущее. Две сирены с загнутыми рыбьими хвостами заманивают моряков. Шут, смеясь, завязывает узлом свои конечности — и немеет, как и вся остальная резьба, перед прелюдией, которая старается понять его, истолковывая при этом его смех, как выражение испорченности, как оскал бездны, слабо освещенной обманчивым фонарем, который раскачивается перед ней на петле из плоти.
Прелюдия пытается привести в приподнятое настроение хотя бы церковную мебель, однако кафедра, пюпитр, подсвечники и исповедальня уже настолько насытились ее звучанием, что больше не в состоянии приходить в экстаз. Бушующие звуки ударяются друг о друга, быстро пролетая над ними.
Тем временем в боковом продольном нефе мраморный мужчина опускается на колени. Его освещают последние лучи солнца. Они изменяют его позу; бормочущие губы, казалось, начинают колебаться, не высказать ли некое желание, хотя он давно застыл в молитве. Он сломал руки. Его колени покоятся на мраморной подушке. Он молится за себя, за лежащие в темноте кости, которые он оставил после себя. Скорбь вытягивает его тело по диагонали: он смотрит с саркофага вверх к своду потолка, где его безутешный взгляд упирается в звезды. Вокруг колен этого белоснежного мужчины пенится прелюдия. Она бросается во все стороны, включает один за другим регистры, настойчиво заполняет каждый угол, проглатывает последние лучи солнца. Она уже добралась до показателей уровня воды, записанных на доске для псалмов, прикрепленной к одной из колонн: 702,1; 289,1; 157,4.
Отзвучали:
«Прежде, чем зайдет солнце, я хочу размыслить о прошедшем дне. Время, оно спешит прочь; в руках у нас не остается ничего».
«Твоя сущность глубока, как море. Ни один человек не может постигнуть ее».
«Человек не знает ничего о своем сроке. Но Ты, какой Ты есть, пребываешь в годах, не имеющих конца».
Прелюдия перекрывает молчание. На волнах ее звуков начинают раскачиваться корабли, свисающие с поперечных балок. Спасающие от великих бед шпангоуты, планки и мачты слились так, что возник миниатюрный флот, в чьих парусах собирается пыль. Здесь все в порядке; все это пузатая, благодарно уменьшенная действительность. Вотивные корабли уже готовы выйти в море на волнах раскачивающихся звуков, но органная музыка внезапно прерывается. Во время паузы в помещении звучит эхо.
Подслушивающий человек вытягивает свое огромное ухо в космос. Зубчатая передача часов продолжает работать. Фюзилер пристально смотрит своими выпученными глазами насекомого. Окаменевшая вода струится на купель. Потом робко возникает тема фуги, тихо посвистывая, будто кто-то бредет сквозь черноту. Чтобы придать самой себе бодрости, она становится громче, звуки повышаются, зовут — пока не откликается второй голос, потом третий. Они бурлят и перекрещиваются друг с другом в общем антифонном пении. Церковь снова наполняется мощью. В ней звучат голоса органа. Остановить их вздувающийся поток невозможно, он уже коснулся мадонны с лунным серпом, изображенной над алтарем. Мадонна поставила ногу на небесное тело между его поднятыми вверх рогами. Она ступает вниз на землю с покорного спутника, не глядя на него. У ее груди обнаженный младенец, а на голове — корона из звезд. Перед ней, привыкшей повелевать стихиями, звуковой поток бессилен. Она спускается вниз, устремив глаза вверх. Фуга беспрерывно повторяет свою тему, навязывая ее непонятливому сосуду, называющемуся церковью, так что там, где главный неф перекрещивается с поперечным, внутри башни, органная проповедь достигает купола. Сначала она прикасается к своду, под конец — к ключевому замковому камню. Это окаменелость, на которой видны отпечатки плавников: нежные и прозрачные, они когда-то были рулевым органами, но потом отмерли. Здесь же они сохранились.
Я больше не слышу ни звука.
Гостиная веры затоплена. Иисус, благодатная рыба, начинает плавать.
Вессовилль погружается в сумерки.
Наверху на колокольне неподвижно висят два колокола. В одном из углов возникает легкий трепет, будто кто-то вскочил в испуге во время прерванного сна, будто приглушенно лопнула капля. Колокольня покрыта белым пометом. На стенах вырезаны инициалы. Люди разглядывают местность сквозь деревянные ламели окон. Отсюда, с этого продуваемого всеми ветрами наблюдательного пункта, кажется, что город с его окрестностями сползает в море. И прежде чем спуститься обратно к домам и гортензиям, они пили, курили и, смеясь, закручивали узлом свои конечности.
На шпиле башни, на неистово поднятом вверх мече, которым архангел Михаил убивает дракона, кричит чайка. Почти совсем стемнело. Лишь немногие дома и улицы освещены шаровидными лампами. Залитые желтым светом, они выныривают из ночи, как реликты исчезнувшего поселения.
У всех домов есть имена. Они начертаны на стенах рядом с закрытыми лавками и дверями. Стрелка на башенных часах церкви незаметно продвигается вперед. Тьма поглотила и указанное на почтовом ящике время выемки писем, и памятник павшим воинам, вокруг которого низко подрезанные деревья растопыривают свои обрубки. Где-то среди стен вытекает из земли самая короткая река страны. Она скользит позади домов и вливается в море. Река называется «Безголовая женщина».
Улицы затихли. Они осторожно извиваются во сне. Ни светофоры, ни рекламные щиты не перекрывают их движение; лишь несколько картонных фигурок приветствуют вас на углах и призывают остаться:
Подмигивающий повар что-то размешивает в своей кастрюльке. За вытертой грифельной доской возвышается юноша. Через одну руку у него полотенце, другая поднята многообещающим жестом: большой и указательный пальцы, соприкасаясь, образуют букву «О», а над ней, как три восклицательных знака, три остальных пальца. Белый зельц танцует среди цветов. Трехногая свинья в переднике подает свиные ножки. Сельди взлетают на воздух.
Улыбки на картоне переживают и дни, и ночи. В одной из немногих витрин Вессовилля, освещенных мерцанием уличных фонарей, деликатесы ожидают, когда пройдет срок их годности. Законсервированные и вложенные в стеклянные банки, они отливают желтоватым цветом. На выстроенные рядами банки наклеены этикетки, на которых от руки написано одно и то же, будто это повторяющиеся в школьных тетрадях упражнения.
В следующей витрине за стеклом расположились скобяные изделия. Ножницы, вертела, мышеловки, совки для мусора, лейки, дверные молотки, ножи, магниты, улавливающие пыль, формы для кексов, солнечные часы, вешалки, воронки, подставки для бутылок и флюгеры в виде петухов заполняют все пространство вплоть до последнего уголка, вздымаются тяжелой волной и наталкиваются, крепко сцепившись друг с другом, на дамбу из стекла, где застывают в причудливых позах — арестанты выгоды, которые в своей тюрьме вынуждены разыгрывать комедию. Между товарами разбросаны ценники. Это слегка портит удовольствие от спектакля, но вещи проявляют железную выдержку.
Третья витрина заполнена покрытыми пылью старинными вещами. Календарь с окошечками для чисел показывает прошедший день. Ветхие ширмы коротают время в сложенном состоянии. Кораллы растут вокруг пепельницы, сделанной в виде перевернувшейся на спину медузы. Белая голова из стиропора упала с цоколя и вместе с надетым на нее водолазным шлемом присоединилась ко всему этому домашнему барахлу, попавшему сюда после распродажи имущества. Вышитая подушка желает «Доброго утра». Зеркала стоят друг против друга и, испытывая от этого головокружение, отражаются друг в друге. На рельефе лежащей между ними банки для печенья из позолоченной жести изображена, судя по всему, счастливая семья: люди стоят в центре своей комнаты. Там, где они находятся, пол провалился от тяжести, они сгрудились на его самой нижней точке и склонились над грубо вытесанным столом. Возможно, это мать со своими детьми, которая только что вытерла руки о фартук и сложила их перед грудью. На заднем плане соленья. Дрова, тлеющие в камине. На переднем плане на полу кувшин. В центре сконцентрировалась тайна близости, теплой и безликой. На рельефе штампованной жести проступают потаенные желания. Банка для печенья демонстрирует фантастические усилия матери, которая охраняет своих детей, скрывая от них, что человек одинок, как голая мачта в океане, которая слушает волны и видит звезды. Фигурки столпились вокруг стола. В глубочайшей тишине под ними проваливается пол. Но его поверхность еще хранит обещания: фартук матери, кувшин, камин. Дети берутся за руки. За их спинами открытая дверь в сад: цветущие кусты гортензий пристально смотрят в комнату.
Пришедшая ночь постепенно охватывает весь Вессовилль. Она обрамляет чернотой выложенные в витринах товары и неоновый свет, горящий в пустой телефонной будке.
Все улицы — и неосвещенные, и с шаровидными лампами, и та, где памятник павшим воинам, и та, на которой церковь, и та, что соприкасается с детской площадкой, — все встречаются на набережной.
Там дома отступают назад, и ветер овевает освободившееся пространство. Море бьется о поросшие водорослями камни. Оно убаюкивает ламинарию, чьи длинные размахивающие руки сонно приветствуют вас. Полукругом стоят садки, в которых выловленная и брошенная добыча сверкает брюшками, вздрагивает и ловит ртом воздух. Корабли, покрытые раковистым известняком, легли набок. Разорванные сети образуют огромную кучу. На одном из парапетов висит в ставшей никому не нужной готовности спасательный круг, и сквозь его силуэт в форме буквы «О» уже смотрит луна. Желтая и старая, она движется вверх. Она слегка приподнимает море и переносит его на сушу, где оно начинает размывать ее. Оно поднимается к парапету набережной. Оно перекатывает гальку, отшлифованные куски которой лежат здесь, будто выплюнутые изо рта, не желающего учиться говорить. Оно поднимает ламинарию из ее постели. Оно заполняет стоящие полукругом забытые садки. Детская площадка заполняется водой. Памятник павшим воинам начинает ржаветь под натиском неминуемого забвения. Михаил, победитель дракона, сражается на шпиле церковной башни с ожившим врагом.
Картонные фигуры — в поварском колпаке и с завязанным фартуком — и прыгающие селедки улыбаются совершенно напрасно. В витражах плавно движутся освобожденные этикетки, на которых отдельные слова истекают кровью; ценники без товаров; голова из стиропора; отбракованный календарь с окошками для чисел. В телефонной будке мигает и гаснет неоновый свет.
На кладбище, рядом с церковью лежат, покрытые илистой землей, белые кости композитора. Его надгробный памятник — окаменевший корабль. Сам он стоит на коленях внутри церкви, человек из мрамора на саркофаге. Его окутывает плотная достоверность хода времени, которая распространяется повсюду, в том числе и среди домов, каждый из которых носит свое имя. Далеко отсюда, уже за пределами видимости, безмолвно опускаются на воду чайки. Иногда одна из них вдруг взлетает вверх, а гортензии в это время пускают корни и тонут в Вессовилле-су-мер, городе под водой.
Залив
На пути к Луне внезапно возникла невесомость. Чтобы передвигаться, мы засовываем ноги под кожаные ремни, пришитые на расстоянии шага друг от друга, а руки — в висящие над нашими головами петли, как будто едем на трамвае. Мышь, которую мы взяли с собой, бегала по периметру своей клетки. Наш космический корабль совершал свой полет. Снаружи все было черным. Это был момент осмысления нашего положения: если бы мы теперь смогли увидеть себя со стороны, нас напугала бы эта маленькая запаянная капсула, которая со свистом стремительно двигалась через пустоту, но в то же время казалось, что она стоит на месте.
— Молчание — это не золото, — сказал Профессор. Он первый из нас привык к невесомости и передвигался, засовывая ноги под кожаные ремни, снедаемый любопытством и желанием не упустить ни секунды из этого полета. Он пытался раззадорить и нас, но мы, безмолвные и невесомые, лежали, пристегнувшись к своим ложементам, и уже мечтали о возвращении назад. Только Профессор, наконец сбежавший из своего пропитанного нуждой жилища, был в восторге, что его мечта сбылась. Слишком долго он заполнял свой открытый всем ветрам дом пожелтевшими газетными вырезками, где он фигурировал с пророчески указывающим на космос пальцем; слишком долго он ночами, вместо того чтобы спать, крутил стоящий рядом с его кроватью лунный глобус. При обследовании небесного тела с помощью телескопа ему открылось: на Луне есть следы внеземной цивилизации! Да ведь это золотое дно! Золотые жилы!
Когда Инженер, который иногда навещал Профессора, чтобы подсунуть ему куриную ножку и бутылку «Шпетлезе» урожая 27-го года, а потом с трудом выдерживал, пока Профессор благоговейно пил вино из треснувшего бокала, услышал об этом, он понял, что наконец нашел обоснованный довод, которого ему не хватало для постройки давно запланированного космического корабля. Над его проектами и расчетами много раз курился дым дорогих сигар, но за неимением на Луне устойчивой экономической конъюнктуры средства до сих пор отсутствовали. А отныне они потекут рекой. Теперь Инженер сможет отправить в будущее крошечные ремни для ног и петли для рук своих самодельных моделей. Убегая, он твердо заверил Профессора, что его ни в коем случае не забудут взять с собой, если только все удастся и ракета полетит.
Остатками хлеба и куриной ножки Профессор накормил тогда мышь, составлявшую ему компанию в чулане его гипотез. Он не имел никакого представления о том, когда замершая ракета выскользнет из ангара и под восторженные приветствия тысяч людей опустится в бассейн, чтобы оттуда стартовать в небо.
Ночь, в которую ракета наконец должна была подняться в воздух, была застенчиво серой, издалека освещенной прожекторами. Ждали, когда появится Луна. Ее появление должно было показать бесчисленным провожающим цель полета.
В то время как мы расхаживали внутри капсулы и мерзли, несмотря на наши толстые шерстяные куртки, массы проводили время с задранными вверх головами, раскачиваясь за оцеплением.
Потом появилась Луна. Мы должны были лечь на наши ложементы и закрепить ремни. Начался обратный отсчет времени. Как на школьной доске, все крупнее, выныривала цифра за цифрой. Все было черным и пустым; существовали только эти безумные гигантские цифры, которые все сильнее давили нам на грудь. Мы сжали кулаки. Прежде чем потерять сознание при цифре «ноль», мы увидели, что Инженер перевел стартовый рычаг до конца вниз.
— Молчание — это не золото, — повторил Профессор. Он бы с удовольствием завязал сейчас разговор, потому что ему постепенно стало жутко в этой безмолвной капсуле, в которой двигалась только секундная стрелка наших бортовых часов. Профессор впервые заметил, что она заканчивается острым серпом. Он попытался сообразить, на что она похожа, но так и не смог вспомнить. Тогда он наклонился над Прекрасной Дамой. Ее лицо было круглым и белым. Она пришла на старт в мужских брюках и рубашке с галстуком, и когда взобралась по веревочной лестнице к входному люку, толпы провожающих приветствовали ее особенно бурно. Профессор взял ее руку, чтобы пощупать пульс. Его встревожило, что она все еще спала, в то время как остальные по крайней мере приоткрыли глаза. Тут его совершенно неожиданно отодвинул в сторону Инженер. Он склонился над Прекрасной Дамой. Ее мерцающее лицо было круглым и белым. Она находилась на борту, потому что хотела снять на Луне фильм, и на настойчивые просьбы Инженера не подвергать свою жизнь опасности ответила покачиванием белокурой головки и улыбкой, и не успел он опомниться, как она уже обворожила его и парализовала его волю. После этого она еще раз пришла к нему в бюро, где осторожно дотронулась до рассчитанной им кривой полета.
Он приложил ухо к ее сердцу. Оно билось еле слышно. Когда он обернулся за помощью, то вместо Профессора увидел за своей спиной Второго Инженера, который уставился на него, выпятив вперед нижнюю челюсть. Прекрасная Дама была его невестой.
— Манометр! — вскричал Профессор на другой стороне капсулы, потому что наконец сообразил, что именно напоминала ему заканчивающаяся острым серпом секундная стрелка бортовых часов. Инженер и Второй Инженер неподвижно стояли друг напротив друга, пока Прекрасная Дама не открыла глаза. Она не подозревала, что Инженер уже однажды из-за нее полностью обезглавил цветущее домашнее растение, срезая, погрузившись в свои мысли, его метелки до тех пор, пока от них ничего не осталось.
— Сюда! — закричал Профессор с другой стороны капсулы.
Мы столпились около ложемента Шпиона. Он вынудил нас взять его с собой угрозами, о чем Инженер благополучно умолчал. Шпион лежал, уставившись на пол, будто умер. Профессор надеялся, что так оно и есть, и уже потирал руки от радости, но тут мужчина зашевелился, его глаза приняли осмысленное выражение, а к носу и лбу опять приклеилась жирная прядь волос. Итак, мы были в полном составе.
— Mare Tranquillitatis[5], — пробормотал Инженер.
Мы впервые поймали его на том, что он выдал нам запланированное для посадки на Луне место до того, как мы прибыли туда. В действительности же мы летели через Ничто и пытались сохранить самообладание. Мы развернули космический корабль в другую позицию, открыли шторки и посмотрели наружу. Что, собственно, мы увидели, понять было трудно. На неопределенном расстоянии парили клочки материи. Равнодушная чернота порождала скопления звезд, темные туманности, звездные фейерверки. Они вспыхивали и угасали. Мы отступили на шаг назад. Возможно, было ошибкой отважиться вступать на Млечный Путь. Растянувшиеся туманности в верхней части нашего иллюминатора напоминали нам проносящихся мимо животных, когда те уже исчезли, но все еще остаются перед внутренним взором. Мы были твердо уверены, что мы здесь одни.
— Лючия? — жалобно вскричал Профессор. Он искал мышь, которую взял с собой в космос из своего вопиющего о беспросветной нужде жилища. По-видимому, ей удалось открыть дверцу своей маленькой проволочной клетки и отправиться на экскурсию по кораблю. По старой привычке Профессор нагнулся, разыскивая ее где-то между нашими ботинками, но Лючия, сбитая с толку и почти сошедшая с ума, вдруг пролетела мимо наших голов. Шпион поймал ее в воздухе.
— Комета, — сказал он Профессору, возвращая ему мышь, которую держал за хвост. Профессор был вынужден поблагодарить его, а потом сунул проволочную клетку под мышку, чтобы снова не потерять Лючию.
Согласно расчетам Инженера, мы были именно там, где и должны были быть, а именно между Землей и Луной. Сила притяжения Земли постепенно ослабевала, а Луны — усиливалась. Инженер рассматривал нашу траекторию как контррельс, по которому капсула, начав двигаться, скользила вперед, к великой радости всех участников полета, сопровождаемая справа и слева сверкающими звездами. Разумеется, по выражению наших лиц он видел, что нам очень хотелось бы почувствовать под ногами твердую почву. Он повернул рычаг регулирования силы тяжести, так что мы разом ощутили свой нормальный вес и смогли прогуливаться по ракете, больше не используя кожаные ремни. Бортовые часы тикали. Шпион бросился на свою лежанку, погруженный в мрачные раздумья. Прекрасная Дама, утешая, покачивала голову Второго Инженера на своих коленях. Инженер принялся делать записи царапающим карандашом.
— Тревога! — закричал Профессор, покинувший центр корабля, чтобы слегка последить за порядком. Когда мы подбежали к нему, то увидели, что он указывает на один из наших космических скафандров, стоящих до сих пор в углу и в чьем темном забрале мы все теперь отражались. Космический скафандр шевелился. Казалось, в нем забилось сердце и он пытается сделать свои первые шаги. Мы отпрянули назад. Он поднял руку. Потом пошатнулся, упал на нас, и из него выпал обессиленный Мальчик, которого Инженер сразу же узнал: это был сын его консьержки. Встряхнув его как следует, мы вернули «зайца» к жизни, и когда он, одетый в короткие штанишки, сияя от радости, представился нам, стало ясно, что вот теперь мы действительно в полном составе.
Наше окно заполнила Луна. Она выглядела почти как новая родина; созданная из света и тени, она покачивалась перед нами, как кормящая мать с лицом рассеянно глядящей Мадонны. Уже можно было легко угадать кратер Тихо Браге, из которого расходились гигантские лучеобразные жилы. Обрамленное горными цепями «Юры», «Альпов» и «Апеннин», раскинулось вдали Море Дождей. В Океане Бурь поблескивал прищурившийся от смеха глаз кратера Коперник. Море Спокойствия, Mare Tranquillitatis, окруженное Морем Изобилия и Морем Нектара, ожидало нашего прибытия.
Инженер сбоку наблюдал за Прекрасной Дамой. Он хорошо помнил, что на ней было белое платье, когда Второй Инженер и она объявили ему о своей помолвке. Вот тогда он и решил ускорить строительство ракеты, чего бы это ни стоило. Теперь он летел на Луну, Прекрасная Дама была рядом с ним, одновременно близкая и недоступная, как и прежде. На какой-то момент им завладела мысль намеренно разбить капсулу при посадке на Луну, но когда он увидел Профессора, как вкопанного стоящего у окна, то одумался.
Профессор поднял клетку высоко вверх и показал Лючии то, что он до сих пор видел только в телескоп: мир внеземной цивилизации. Он узнавал каналы и равнины, слитки золота, следы разрушения и таинственные темные области, чьи очертания напоминали ему куриную ножку, когда он был еще на Земле. Инженер приказал опять опустить шторки. Он хотел избавить нас от зрелища приближающихся к нам мертвых камней, но Профессор больше не обращал внимания ни на какие человеческие приказы и незамедлительно поднял шторки вверх, чтобы ничего не пропустить. Когда цепочки кратеров с ужасающей быстротой стали разбегаться под нами в разные стороны, потому что Инженер повернул ракету на курс, параллельный поверхности Луны, и высматривал место для посадки, на горизонте постепенно начала заходить Земля.
— О Боже, — закричал Второй Инженер. Он умолял нас повернуть обратно. На его измученном лице отчетливо проступила опустошенность, которую мы не смогли бы заполнить никакими обещаниями. Он уже видел себя, скрючившегося в холодной пыли лунной бухты, подбородок прижат к коленям, как у мумии, лежавшей там тысячу лет. Прекрасная Дама безуспешно пыталась успокоить его своими объятиями, а Мальчик, старавшийся быть полезным, сделал стойку на голове и запел песню о счастье первопроходцев, но и у него ничего не вышло. Против возникшей паники пришлось применить грубую силу, и в возникшей свалке на полу оказались он, Инженер и Прекрасная Дама, в то время как наша капсула продолжала лететь вперед, не управляемая никем. И лишь Профессора, как и прежде стоявшего у окна, ничуть не беспокоило усложнение ситуации на борту. Он выкрикивал названия проплывавших мимо кратеров, как имена добрых старых знакомых, радуясь, что видит их в добром здравии. Мимо него прошло и то, что Лючия, воспользовавшаяся суматохой для возобновления путешествия в космосе, тем временем перегрызла кабельную сеть нашего космического корабля. Придя в ярость от возможности крушения ракеты непосредственно перед целью, Шпион отодвинул жирную прядь со лба и начал передвигать наугад рычаги посадки и управления, и в тот момент, когда Профессор выкрикнул: «Море Спокойствия!» — потянул рычаг наверх. Все, кто в нашем корабле еще находился на ногах, упали на пол.
Наша ракета рывками провалилась в пропасть, пока не остановилась окончательно, и на борту воцарилась великая тишина.
Мы совершили посадку.
Инженер пришел в себя первым. С разбитой во время борьбы и кровоточащей бровью, он пытался сориентироваться в пространстве. Эта копошащаяся куча людей была его командой. Этот проникающий снаружи свет был Луной. Это путешествие в местность, где не было ни дорог, ни горячей еды, было его жизнью. Мы медленно приходили в себя. Второй Инженер продолжал свои стенания с того момента, когда его прервали: он поклялся нам, что не выйдет из ракеты.
Мы пока еще не знали, сможем ли дышать на Луне, поэтому взяли с собой водолазные костюмы, которые подобно неповоротливой армии ожидали приказа к бою в выделенном для них отсеке корабля. Когда мы вопросительно оглядели друг друга, то заметили, что Профессора среди нас нет. Тут же встал Мальчик и стал трясти дверь, за которой лежали костюмы: Профессор блокировал ее с другой стороны. Шпион зарычал от ярости. При мысли о том, что Профессор раньше него стал разгуливать по Луне, уничтожая важные улики, он, до сих пор вялый, яростно вскипел: решив во что бы то ни стало взять эту часть космоса под свой контроль, он призвал Второго Инженера открыть заблокированную дверь. Мы, оставшиеся, прилипли к окну. Перед нами простиралась холмистая песчаная местность, на которой то тут, то там возвышались пики гор. Небо было равномерно покрыто звездами. В игре света и отбрасываемой скалами тени мы пытались разглядеть нашего приятеля, но увиденная картина не оставляла никаких сомнений. Это был покинутый спутник Земли.
И одновременно мы обнаружили Профессора: он втиснулся в один из наших скафандров, спустился по веревочной лестнице вниз и таким образом стал первым человеком на Луне. Мы предположили, что он громко разговаривал сам с собой, потому что окошко в его шлеме запотевало изнутри все сильнее и сильнее. Он сделал пару нерешительных шагов. Свинцовые подошвы, которые мы осторожности ради прикрепили к костюмам вместо обуви, оставляли первые исторические отпечатки на Луне. Профессор жестикулировал. Он все время поднимал руку вверх и запрокидывал голову. Сначала мы подумали, что он от радости сошел с ума, но потом поняли, что он пытался зажечь спички, чтобы выяснить наличие кислорода в атмосфере. Из-за запотевшего стекла скафандра он почти не видел того, что мы уже разглядели: спички горели! В конце концов он сорвал шлем с головы. Его голос взвился ввысь и достиг нашего иллюминатора, но что он кричал, мы не поняли. Потом он поднял странную палочку, которая лежала рядом с ним, и споткнулся. Это выглядело так, будто палочка силой потащила его вперед, прямиком к горам, ограничивавшим нашу видимость.
Профессор становился все меньше и меньше и пропал за горизонтом прежде, чем Второму Инженеру удалось взломать заблокированную дверь. Теперь мы все смогли ступить на Луну. Один за другим мы спустились вниз по веревочной лестнице и поразились тому, что наш увязнувший в песке космический корабль лежал на Луне, как положенный на бок утюг. Инженер, Прекрасная Дама и Мальчик взобрались на ближайший холм, откуда Инженер через бинокль стал озабоченно следить за Профессором. Шпион предложил разыскать его и вернуть обратно. Отправившись по следам Профессора, он быстро, как и тот, пропал из поля зрения.
Второй Инженер и Мальчик начали подкапывать капсулу, чтобы подготовить ее к возвращению на Землю. Прекрасная Дама наладила свою кинокамеру и начала снимать.
Инженер вернулся в корабль. Там он притаился в полумраке, чтобы из одного из иллюминаторов незаметно наблюдать за Прекрасной Дамой — как она, грациозно встав за своим штативом, охватывает камерой местность. Она наводила объектив на вихри, закручивающие кучи песка, на острые как иглы горные пики; на пустыню, однообразие которой нарушалось следами возбужденных ног. Она сняла Море Спокойствия. Потом направила камеру на космический корабль. Инженер отпрянул от иллюминатора и начал исследовать нашу капсулу на предмет возможных повреждений. Когда он обернулся, услышав шум, Прекрасная Дама стояла перед ним. Бледная как полотно, она молча подошла к нему, дотронулась до его раненого виска, достала платок из кармана брюк и наложила повязку. Инженер тоже не произнес ни слова. Они посмотрели друг другу в глаза, и между ними как бы появился контррельс, по которому стала скользить, к радости обоих, капсула уверенности, сопровождаемая сияющими звездами.
— На помощь! — закричал Мальчик.
Второй Инженер лежал под кораблем, засыпанный песчаным оползнем. Когда прибежавшие туда Прекрасная Дама, Инженер и Мальчик откопали его, когда он, сжавшийся в комок, наконец был извлечен на свет божий, Прекрасная Дама прижала его к своей груди. Инженер влез обратно на борт. Мальчик последовал за ним.
Меж тем на горизонте появилась фигура, при приближении к нам становившаяся все крупнее и крупнее. Она возвращалась по следам, уходящим в горы, к нашему космическому кораблю, то исчезая среди холмов, то возникая опять; она спешила вперед, как преследуемый человек, спешащий к защитной хижине в горах. Когда фигура приблизилась к нам на расстояние слышимости, Прекрасная Дама узнала в ней Шпиона, правда, в разорванной одежде и с взъерошенными волосами, торчащими во все стороны.
— Где Профессор? — спросила Прекрасная Дама.
— Он мертв, — ответил Шпион. Он следовал за ним, пока его следы не затерялись среди скал; после этого он наудачу наткнулся на первую цепь гор и пересек ее, все время окликая Профессора и прислушиваясь, что, как он утверждал, в царившей там странной атмосфере было достаточно неприятно. Наконец, на другой стороне горной цепи начался спуск вниз, и, к своему удивлению, он увидел в лежащей перед ним гигантской котловине гейзеры. Посередине гейзерного поля, ведомый волшебной палочкой, прыгал Профессор.
— Palus Somnii: Болото Мечты! — торжественно прокричал ему Профессор, когда он подошел к нему достаточно близко, чтобы понять, что тот кричит. Вокруг них раздавались ужасные вздохи гейзеров. Необъяснимым образом на котловину падал какой-то металлический отсвет. Вдруг Профессор поднял вспыхивающую искрами волшебную палочку высоко вверх и указал ею на какое-то место на верхнем краю кратера.
— О боже! — закричал он. — Они здесь!
Шпион увидел сияние, но не понял, что́ это было, возможно, корона искрящейся волшебной палочки, и тут Профессор закричал в сильном возбуждении: «Их космические корабли наблюдают за нами! Вы что, не видите?» В конце концов Профессор начал что-то шептать, потом со стоном упал на колени, потерял равновесие, и прежде чем Шпион смог прийти ему на помощь, соскользнул в один из гейзеров и с головой ушел на дно.
Второй Инженер внимательно смерил Шпиона долгим взглядом, как будто подгонял ему по мерке новый костюм. Под звездным куполом, натянутым над нами, возникло опасное молчание. Второй Инженер сжал кулаки, но — мы даже не сообразили, как это произошло — на него уставилось дуло пистолета. Шпион впервые за время нашего путешествия засмеялся и полез, продолжая целиться во Второго Инженера, вверх по веревочной лестнице к люку, чтобы убить Инженера, находящегося внутри корабля. Когда он был уже почти наверху, Мальчик открыл изнутри дверь, потому что захотел нам что-то сообщить. Она ударила Шпиона по лбу, и тот рухнул без сознания вниз в песок, принявший удар упавшего тела на себя, но при этом его пальцы вывернулись, и из пистолета раздался выстрел, пронзивший Шпиона прямо в сердце.
Таким образом, мы должны были оставить на Луне уже двух наших пассажиров, но то, что нам собирался сказать Мальчик, ужаснуло нас еще больше.
— Наш космический корабль попортился, — сказал он.
Подошел Инженер, чтобы объяснить нам положение дел. Много раз натужно откашливаясь, он сказал наконец, что Лючия не покинула глубоко осевший в песок корабль, как можно было предположить, а использовала время нашей посадки для того, чтобы устроить короткое замыкание в жизненно важном кабеле на борту. Один из нас должен добровольно отказаться от возвращения, потому что теперь капсула не сможет выдержать всех. Он предлагает следующее: он сам и Второй Инженер кинут жребий, кто из них двоих, запасясь продуктами, останется здесь и будет ждать, когда его спасет следующая экспедиция на Луну.
Второй Инженер, охваченный дурными предчувствиями, задрожал всем телом. Прекрасная Дама обломила головки спичек для жребия; Мальчик принес из капсулы аспидную доску, чтобы записать результат. На мгновение в открытом люке показался нос Лючии. А потом Инженер вытащил самую короткую.
Пока мы ставили ему в одной из бухт Mare Tranquillitatis палатку и стаскивали туда ящики с продовольствием и с бутылками «Шпетлезе» урожая 27-го года, он держался в стороне от нас. Он подошел по пыли к краю кратера и ударил по застывшей поверхности камня. Хотя ему теперь принадлежало все небесное тело целиком, ему казалось, что он заперт в комнате и нет никакой возможности дать о себе знать, хоть кричи, хоть плачь. Далеко от него парил голубой мех сурка, на котором он учился ходить и на который падал пепел, дождем сыпавшийся на его модели и расчеты. Потом он услышал, как за его спиной поднимается капсула.
Медленно и не поднимая глаз, он направился к лагерю. Пустыня, казалось, за это время стала еще огромней, потому что ему на путь назад понадобилось значительно больше времени. Ему стало неспокойно. Он уже боялся, что заблудился, пока за одной из скал не блеснула стойка палатки. Когда он достиг своего нового пристанища, у него вырвался крик.
Его колени стали ватными и подкосились: раскрыв руки и покачивая белокурой головкой, его ждала Прекрасная Дама.
А в это время управляемый мною корабль летел обратно на Землю, но еще долго не мог достигнуть зоны ее притяжения.
Лот
76º 22′ северной широты? 78°03′ северной широты? До какого места идти? На 76°22′ эхо-шумы быстро фиксируют изменение глубины от 2000 до 500 саженей. Подводные горы. («Рассеченный рельеф дна, причудливый как лунный кратер».) Плавание над вершинами высотой 2700 метров, на которых никто никогда не будет стоять. На них водяные столбы. На 78°03′ паковый лед, как сомкнутый покров, температура под ним 0,2°. Приборы показывают нижнюю сторону торосов: белые, уходящие до сорока метров в глубь мо́ря облака. Скользя среди них, он дрейфует над небом на 80° северной широты. («Атомный реактор проделывает свою работу спокойно и величественно. Мир твердой веры — веры в приборы, в физические законы и в Бога».)
Идти дальше? Куда? Как найти иголку в океане, гибридную мечту, не оставившую никаких следов? Во время странствий по безымянным и неисследованным областям помогают бортовое отопление, безрассудная смелость и патриотизм. Машины от напряжения вибрируют. Металлическая обшивка выдерживает наружное давление. Холодные факты угрожающе преграждают путь, но между ними есть полыньи. С тех пор как дважды прокричала подводная сирена, с тех пор как перископ в последний раз показал солнечное утро, курс в меняющейся глубине диктует постоянная бдительность, потому что проходимость — это система переплетенных, соединяющихся труб. Подо льдом фарватеры. Если не будет выхода, придется применить торпеды. («Все ясно. Сейчас надо идти вперед, только вперед».) Необходимо слушать только гудение машин. Завоевывать со средней скоростью 7,6 узла, спрятавшись под поверхностью, на которой бури точат замерзшие ножи. Их порывы наносят там наверху горы обломков. Огромные блоки льда со стоном скрепляются насмерть, громоздятся вверх и застывают. Потом снова начинаются процессы сжатия, отчего поверхность разрывается в других местах и размеры бедствия увеличиваются. Здесь, внизу, навигационные приборы сверкают и гудят при неизменной температуре.
На 81°09’ загадочная тень. Она появляется на экране телевизора, но исчезает так быстро, что не удается ее идентифицировать. Пеленгатор не показывает ничего, кроме тянущегося на многие квадратные километры льда: крышка над миром; блокада.
Задание гласит: пройти насквозь. На рассчитанном месте шапки долой! Поднять под водой флаг! Десять секунд стоять смирно! После возвращения с глубины будете награждены орденом, чья пятизубчатая звезда засияет на груди; пентаграмма из металла; ее нужно носить на ленте, как руку на перевязи после выигранной битвы; магический знак для изгнания демона невозможности. Украшенная грудь противится смерти иначе, чем пустая.
На 82°01′ вторая неопознанная тень. Запаянным в безоконное пространство трудно воссоздать картину. На сей раз тень не пропадает, а остается на постоянном расстоянии, следует за всеми изменениями курса и маневрами, не допуская сближения. Она сто семь метров в длину, имеет неотчетливые очертания кита. Снова и снова пеленгатор, не понимая ее сути, обследует ее. Меж тем паковый лед становится все толще, вынуждает опускаться все ниже и ниже и сужает фарватер до ширины туннеля. Эхолот определяет, что нижний край льда находится сначала на расстоянии трех, потом двух метров до дна, здесь глубоководное горное плато. До дна осталось только пять метров. В этой тревожной ситуации тень опять приближается. На экране она быстро растет. Ложиться в дрейф и приготовить торпеды к бою!
Она пропадает. Она исчезла.
Последующее определение позиции не удается. Система гироскопов выходит из строя. Магнитная компасная стрелка непрерывно вибрирует, дрожа, как руки старой женщины. Приборы охвачены головокружением: они играют в ужасную рулетку долготы. Ежесекундно они ставят на иную истину. Продвижение вперед может означать движение по кругу. Ничто больше не поддается расчетам. Навигация сталкивается со случайностью, с опустевшим пространством, где каждое решение может быть последним. Машины останавливаются. Картушки компасов дрожат. Известные стороны света превратились в тупики опасности и дисциплинированного страха. Всплытие невозможно. Лед цельный и толстый. Куда? Куда вести? Потом все проходит.
На 83°20′ приборы единодушно показывают: координаты Полюса Недоступности. Наверху, на паковом льду, труднее всего достигаемый пункт, самые удаленные места среди замерзших удаленных мест. Черный крест на карте. Та ось, вокруг которой ничего не вращается, наоборот, все застывает. Невидимая ось, достигающая морского дна, пробуравливающая и фиксирующая в важнейший момент лед и воду, планктон и металлическую обшивку. Шапки долой! Поднять под водой флаг! Десять секунд стоять смирно!
Секунды бегут. Экран, обозревающий окрестности, строит отражение. Я вижу сигнатуру 1958 года. Похожая на выброшенного на берег кита, она тенью лежит на дне. Ее очертания совпадают со значительно затянувшимся моментом. Она прозрачна и одновременно недоступна. Это «Наутилус», mobilis in mobili, «подвижный в подвижной среде», так гласит девиз, который украшает каждую часть его бортового сервиза. Но он зажат в расщелину подводного горного хребта и устало накренился в сторону. Его прочный 107-метровой длины корпус раскрывается в продольном разрезе. Подкосные соединения и полости, боковые и горизонтальные рули, системы обеспечения, цистерны погружения, балластные и уравнительные цистерны — выцветшее тщеславие, окруженное памятью океана, хранящего и забывающего незваных гостей. Едва не исчезнувший бесследно, однако он здесь: «Наутилус». С разбитым перископом он ждет, чтобы его вернули к жизни.
Незадолго до того, как он сошел со стапелей, сквозь тысячеглазую тишину пролетела бутылка шампанского. Она разбилась о корпус. Этот кадр показали во всех странах. Затем «Наутилус» погрузился в новую эпоху. Одна из тарелок бортового сервиза скользит по другой и падает вниз. Перевернувшийся текст является девизом. Слова mobilis in mobili, падая со стола в офицерской кают-компании, расправляют свои затекшие ноги и бесшумно встают. Грязная посуда складывается на полу в стопки. Бутылка шампанского, на которой больше нет этикетки, парит среди столовых приборов вокруг своей оси. («Наутилус выполнит задачу, которая уже давно является мечтой человечества».) Торопливо отодвинутые стулья повалились набок. В командирском отсеке разложены карты, на которых курс, прямой как стрела, прерывается и становится волнистым. Другие карты демонстрируют предыдущие атаки на предназначенную для завоевания местность. Судьбы на отмеченных штрихами, пунктиром или штрихпунктиром путях: сани, дрейфующие суда, пропавшие без вести шары, совершившие аварийную посадку самолеты. Не тронутый хаосом этих знаков Морзе — покрытых корками льда точек и тире, движущихся в белизне, — «Наутилус» направляет свой курс на полюс. Он не оставляет никаких следов. Ничего, что тонет во все уменьшающихся интервалах, тащится вперед, а потом развеивается.
У «Наутилуса» безграничная выдержка. Вызовы принимает тайно. Обеспеченный кислородом, пресной водой, теплом и светом, он под музыку преодолевает громадные трудности, чтобы в один прекрасный момент найти полынью и послать как торжественную радиограмму три зашифрованных слова. Это была Холодная Война.
Секунды бегут. В середине корпуса лодки спит реактор. Его экранированные щиты безупречны. Графитовые стержни, глубоко засунутые в его нутро, дозируют мощность расщепления ядра. По проводам она добирается до машинного отделения, где приводит в движение «Наутилус», охваченный азартом кругосветного плавания. А теперь он лежит на боку, как в момент слабости. Некоторые из его швов лопнули, однако такое впечатление, что он остановился здесь ненадолго и вскоре двинется дальше. В реакторе дремлют резервы. Припасы на борту. В командном пункте корабля собирается информация. «Наутилус» рассеянно прощупывает окружающую обстановку и размышляет, куда он попал, исследует местность, которая превращает его в наглядное пособие. Его перископ, мало способствуя познанию, зажат в выходной позиции. Вокруг командного пункта планктон. На картах, показывающих пути путешественников, расплываются и исчезают штрихпунктирные линии. Корабли дрейфуют в Ничто; сани ломаются; самолеты разбиваются; один шар сморщивается у горизонта и не возвращается. Полюс Недоступности остается черным крестом Севера — коварная игла, выросшая в середине пустого континента, которая притягивает, как магнит, вовлекает в азартную игру и заставляет все поставить на одну карту.
Кают-компания завалена раскрытыми покерными картами. Партии не закончены.
Монеты скатились и лежат кучей на самой нижней точке пола. Автомат с кока-колой и музыкальный автомат стоят друг напротив друга, прижавшись кнопками, будто люди, утешающие друг друга. Музыкальный автомат работает. Он изучает магазин и отбрасывает одну пластинку за другой, пытаясь найти нужную музыку. То, от чего он отказывается, — это песни о платинового цвета холмах и скачущих верхом мужчинах, накрашенных красным сердцах и самостоятельно построенной жизни из дерева. В конце концов он выбирает Дорис Дей. Его поворачивающийся звукосниматель надавливает снизу вращающиеся бороздки. Kai serrah?[6] — приглушенно звучит затерянный голос. Он распространяется по кают-компании, не получая ответа. Автомат с кока-колой измученно прислушивается, но не выдает на-гора ни одной из своих бутылок. Наполовину возвышаясь над краем стола, на блюде для торта лежит нарезанный полярный пирог, на глазури которого видны остатки флага. В нем утонули свечи. Звуковые волны пересекают его и спешат прочь. Песня об определенной неопределенности звучит легко и гладко. Музыкальный автомат мерцает изнутри, освещает кнопки и черный диск, который вращается вокруг все той же оси. «Whatever will be, will be»[7], — поет Дорис Дей. Ее голос долетает до капитанской каюты. («Говорит командир. Это будет необычайно интересное плавание».) Койка и шкаф остались на своих местах. Они крепко привинчены к полу. Форменный бушлат, размахивая рукавами, медленно и бесцельно парит в прибранной каюте между койкой и шкафом. На стене висит фотография супруги президента, запечатленной в тот момент, когда она освящала «Наутилус». Фотография поймала ее слегка кривую улыбку. Она напряженно пьет шампанское, стоя напротив гигантского носа корабля в тот момент, когда он уже начинает отплывать, ничем больше не удерживаемый.
«Наутилус» прошел под водой больше 20 000 миль. Девиз «Подвижный в подвижной среде» написан и на двери библиотеки. Этот салон охраняет знания, упавшие с полок и громоздящиеся приключенческими штабелями, которые при малейшем смешении центра тяжести обрушиваются и погребают под собой все. Измотанные кресла для читателей потрясенно прислоняются к стене. В одном из задних углов виднеется бортовой иллюминатор размером выше человеческого роста. Бархатный занавес, скрывающий его, отодвинут в сторону, и спектакль, который некому смотреть, показывает одну за другой похожие на гравюры сцены, как злые воспоминания, давящие на оконные стекла. Вооруженные водолазы со свинцовыми котурнами на ногах продираются через лес фукусовых водорослей и медуз. Руины затопленного континента крошатся во тьме. Огромный спрут пристально разглядывает «Наутилус», ощупывает его пляшущими руками метровой длины и прикрепляет свои присоски к слабо связанной гирлянде входных люков. Потом иллюминатор затуманивает выброс черных чернил.
Секунды проходят. Они находятся во взвешенном состоянии. Они совершают небольшой рейс, топчутся на одном месте, двигаясь медленно, насколько возможно, тщательно уравновешивают вес и водоизмещение посредством незаметных маневров рулей глубины. Они окружены новой эпохой, наполняющей их слепой уверенностью. Когда не будет другого выхода, будут задействованы торпеды. Они ждут в носу корабля перед трубами торпедных аппаратов, готовые к действию. Они хотят выбраться из тесноты, в которую заключены, на свободу, но вынуждены угрожающе бездельничать, а в это время на них поселяются водоросли-заложники и покрывают их зеленоватым мерцанием. Водоросли начинают селиться и на защитном кожухе реактора. Эти изменения регистрируются в центре управления. («Никто не произносил ни слова и не двигался».) «Наутилус» направлен в опасную даль, но мужество не оставляет его. Этим он обязан своему духовному отцу, адмиралу Риковеру, который, пылая холодным азартом, поднялся по лестнице, ведущей к реактору. Ступенька за ступенькой, преодолевал он путь наверх, пока не посмотрел в широкоугольный объектив истории: многозначительно вытянутая яйцевидная голова на крошечных, широко расставленных ногах. Вокруг него стальная спираль, баллон со сжатым газом, который он осматривает.
Адмирал бесстрастно придает прогрессу свои черты. Он стоит на лестнице, которую объектив так вытягивает в высоту, что никто уже не в состоянии увидеть оба ее конца. В нем прочно укоренилась идея неуязвимости. Она владеет им. Он видит, как моллюск наутилус скользит через океан, этакое хищное головоногое, чье мягкое тело заключено во многокамерную спиралевидную раковину. Он видит перед собой эту раковину, превращенную в бокал из перламутра. Он наполнен шампанским и осушен за его здоровье. Он знает, что́ нужно скомбинировать: выносливость ныряющего кита, защитный панцирь моллюска и обороноспособность военно-морского флота. Широко открытая диафрагма фотоаппарата бесстрастно фиксирует его ничего не выражающее лицо в центре реактора.
83°20′ Ледяное безмолвие. На пироге, глазурь которого украшена флагом, потрескивая, гаснет свеча. Машины приглушены. Kai serrah? Whatever will be, will be… На Полюсе Недоступности молятся за отечество. В распахнувшемся зрачке экрана ультразвукового локатора отражается объект длиной 107 метров. Он хорошо сохранился. Океан препарировал гибридную мечту. («Все ясно. Теперь нужно идти вперед, всегда только вперед».)
«Наутилус» слегка качнулся, как будто его толкнули. Оцепенение постепенно проходит. Машины и компасы пробуждаются. Сооружение начинает двигаться. После 1830 морских миль подо льдом ждет пентаграмма из металла, которую следует носить на ленте, как руку в повязке после выигранной битвы. Теперь необходимо только найти полынью, чтобы всплыть и послать триумфальную радиограмму. («Мир твердой веры — веры в приборы, в физические законы и в Бога».)
Эхолот работает вдоль нижней стороны массивных блоков, сигнализирует о расстоянии между ними и задумчиво рисует картину странствующих теней. Он исследует и дно. Оно удаляется все дальше, круто понижаясь в неизведанное. («Рассеченный рельеф дна, причудливый, как лунный кратер».) «Наутилус», подвижный в подвижной среде, скользит через океан.
Своему духовному отцу он передаст в качестве подарка кусок льда, который тотчас растает, когда тот протянет к нему руку.
Водород
Вот они — стоят втроем на палубе шхуны, качающейся в ясных, по вечерам окрашенных в табачный цвет водах Шпицбергена, и курят трубки. Перед ними пустынные просторы. Это инженер Август Соломон Андре, физик Нильс Стриндберг и Кнут Френкель, по призванию солдат. Трое мертвых, чьи копии улыбаются в камеру. Шхуна покоится в вечернем штиле, слегка накренившись на левый борт, потому что те трое, стоя там рядом друг с другом, прислонились к поручням. Их судьба, как убитый медведь, уже обозначается за их плечами — невидимая, но тяжелая. Андре опустил глаза и повернул голову к своим спутникам. Действительно ли он улыбается? Мне не удается уловить его взгляд. Нильс Стриндберг и Кнут Френкель придвинулись друг к другу. Они стоят полуобнявшись, уверенно кивают головой в сторону Андре, потом смотрят прямо, навстречу тому, что их ожидает. Покрытые снегом горы оформляют картину прибытия. Защитой от холода им служат шерстяные шарфы и шапки, множество одетых один на другой пуловеров и теплые куртки. Outdoor — фантазеры anno 1897, у которых нет ничего, кроме мужества. Андре обращается к двум остальным, он говорит, что хотя их и считают сумасшедшими, весь мир вскоре последует их примеру. Стриндберг и Френкель кивают. Андре отворачивается и с большим интересом смотрит на нос шхуны. Я перематываю пленку назад и заставляю его еще раз повернуть голову. Только тогда, когда он проделывает это в замедленном темпе, когда можно рассмотреть движение его головы кадр за кадром, я вижу в затемненном, недодержанном при проявлении пленки отпечатке его лица то мгновение, в котором отразилось предчувствие. Андре мерзнет. Его пронизывает холод, бесцеремонно господствующий в пустынных просторах. Между складками его лба блестят кристаллики льда. Я опять прокручиваю пленку назад. Он встает, вынимает кисет с табаком и раскуривает трубку. А за его спиной над сверкающим горизонтом Шпицбергена висит солнце.
Трое на шхуне постепенно становятся силуэтами. Их тихо укачивает начинающаяся зыбь. Они ныряют носом в по-мужски немногословное предвкушение радости. «Скорее бы это произошло», — пишет Стриндберг своей невесте, запечатывает письмо и вручает его времени, которое передаст его в созданный в их честь музей героев.
Потом они бросают якорь и вступают на землю. Крупная галька изумленно хрустит под человеческими шагами. Их принимает бухта, готовая столетиями охранять их наследие. Здесь не растет ничего, но вскоре появляется стена из ящиков, которые они выгружают на землю и складывают штабелями. Они строят опорную базу. С помощью досок и гвоздей из пустоты возникает временное жилище. Они заползают внутрь и мгновенно проваливаются в сон. Довольный, становящийся все громче и громче храп заполняет пустыню. Андре видит во сне, как он снова и снова отодвигает в сторону стул у своего письменного стола в патентном ведомстве, встает и уходит навсегда. Стриндбергу удается эксперимент, где был преодолен закон инерции. Френкель сияет, окруженный толпой очаровательных девушек, желающих отпраздновать с ним его подвиги. У побережья темнеет шхуна. Полуночное солнце охраняет спящих и окружающие их штабелями ящики, оберегает их, как свет ночника, который зажжен, чтобы трое маленьких детей ничего не боялись.
Утром из родных мест приходят канонерка и грузовое судно и привозят дополнительный материал.
Альфред Нобель и король прислали свои последние пожелания успеха. Гравий на берегу хрустит под ногами снующих помощников громче, чем в те правремена, когда он был сюда заброшен. На лицах помощников, под фуражками, отражается историческая важность момента. Их ноги глубоко проваливаются в гравий, потому что они тоннами доставляют на сушу цивилизацию. Вершина острова превращается в лагерь, в котором, славы и чести ради, пилят, строгают и бьют молотками, пьют и поют. Над горами возникает купол из шума и крика. Андре, Стриндберг и Френкель стоят, побледнев, среди толпы, иногда их отодвигают в сторону. Потом они проводят экспертизу сделанного: круглый ангар, отправная точка их путешествия, готов.
Теперь они уже все вместе несут вялую оболочку к этой стартовой площадке. Материал, который они несут, это шелк, изготовленный далеко от Шпицбергена, там, где всегда тепло, где тутовые шелкопряды отбираются так тщательно, пока не остаются только те гусеницы, которые цветом отдаленно напоминают увиденную издали гору. Гусеницы начинают окукливаться. Окукливание продолжается неделю, а то и все десять дней. Потом личинки убивают горячим воздухом и разматывают кокон, ту самую нить длиной чуть ли не четыре тысячи метров, которую гусеницы выдавили из себя, чтобы создать из нее оболочку для своего дальнейшего воскрешения. Кокон разматывают, доставляют на веретенах на ткацкие фабрики. Вытканные из нитей шелковые полотнища сшивают и пропитывают олифой. Ткань, спряденная из пустых, претерпевших метаморфозу обиталищ бабочек, была погружена на корабль и отправлена морем. И вот она лежит здесь грудой, окрашенная в цвет увиденной издали горы.
Трое пионеров впервые ощупывают оболочку специально для них сконструированного воздушного шара, который должен, проделав путь в 1200 километров, доставить их к Северному полюсу. Оболочка нежная на ощупь и в то же время выносливая. Ее прочность — это прочность личинки бабочки, привыкшей противостоять незначительным испытаниям между ветвями тутового дерева. О бо́льших испытаниях она не знает ничего.
Солнце холодно смотрит на эту сцену. Андре, Стриндберг и Френкель дуют на голые руки, согревая их теплым дыханием. Вокруг стеной стоят покрытые снегом вершины, а помощники опять уплетают за обе щеки, пьют и поют. Они строят дощатый помост. Они забивают в его пол болты. Изо ртов пионеров, когда они раздают указания, вырываются струйки пара. Мимо них в прибрежных водах, тихо сверкая, проплывают льдины.
Все последующие дни посвящены воздушному шару. При помощи железных стружек и серной кислоты запускается газовая машина; пять тысяч кубометров водорода устремляются в расширяющуюся оболочку, герметичность которой постоянно проверяется. На нее еще раз наносят слой олифы. Шар, которому Андре, Стриндберг и Френкель дали название «Орел», висит на канатах, прикрепленных к земле мощными болтами, и хочет вырваться прочь. На него повесили венок из мешков с балластом. На нем висит также корзина, в которой могут поместиться трое мужчин и три тонны оборудования. Все готово к старту.
Теперь следует выждать. Постоянный ветер, от которого «Орел» защищен ангаром, дует, к сожалению, не с юга. Как долго будет это продолжаться? Неделю, а может быть, и все десять дней?
«Скорее бы это произошло», — пишет Стриндберг своей невесте. Ветер, который должен прийти с юга, чтобы нести шар на север, дует в другую сторону и отбрасывает их от цели, будто хочет вернуть их назад, домой. Они ждут. Предупреждение, что воздушные потоки на Шпицбергене непостоянны, они проигнорировали еще до отплытия.
Френкель чистит ружье. Андре свистит в маленький металлический капитанский свисток наперегонки с морем, шум которого доносится до их базового лагеря. Герои хлебают суп. Помощникам льют водку. Все вместе играют в карты на сдвинутых ящиках, на которые бросают свои козыри. Из валяющихся вокруг карт Стриндберг строит домики, затем дует на них, и они разваливаются. Время остановилось в лагере на отдых и никак не может принять решение — двигаться ли ему дальше. Время — это лишь греза на цепочке для часов. Ночами, похожими на остановившиеся дни, мужчины подолгу лежат без сна, с открытыми глазами. Они ждут упорно и терпеливо.
Через десять дней ветер меняется. Подняв вверх смоченные слюной указательные пальцы, Андре, Стриндберг и Френкель танцуют на гравии перед воздушным шаром. Южный ветер, сила пять-шесть метров в секунду. Час героев пробил.
Помощники суетятся, подготавливая старт. Андре, Стриндберг и Френкель залезают в корзину, устраиваются в уже слегка покачивающейся гондоле и выкрикивают прощальные слова. Помощники ослабляют канаты. Надутый энтузиазмом шар совершает первый метр подъема. Три тонны оборудования и трое мужчин теряют почву под ногами; тихо, но непрерывно покачиваясь, начинают они вознесение на небо. Вся картина выдержана в голубых тонах. Я переключаю на замедленный темп. Мгновения рывками переходят одно в другое: история медлит в нерешительности. Кажется, что нечто тяжелое судорожно вцепилось в корзину воздушного шара и бессильно умоляет вернуться обратно. Что-то повисло на одной из шелковых нитей. Помощники слишком заняты, чтобы это заметить. Они крутят канаты. Дощатый ангар все еще загораживает пионерам обзор. Лицо Андре над высокоподнятым воротником похоже на лицо лунатика. Потом канаты отвязывают. Все поднимают шапки над головой и медленно крутят ими в воздухе, очерчивая спирали.
Что оставляют после себя Андре, Стриндберг и Френкель? Ржавеющие болты. Железную стружку. Деревянные доски с криво вбитыми в них гвоздями. Защищающие от ветра дырявые щиты.
Помощники стоят на берегу Шпицбергена и видят призрак водорода: на голубом небе материализуется голубой шар, прекраснейшее воплощение индивидуализма. Это явление дает им новый импульс. Оно воодушевляет. Я запоминаю его как дрожащий памятник, который буквально через пять минут станет для меня единственно верным воспроизведением события и поэтому никогда не изглаживается из памяти.
В действительности же старт «Орла» — полный провал. Буксирные канаты, которые должны были помогать в управлении шаром, обрываются, частично остаются на берегу и затрудняют его движение, так что неправильно отрегулированные маневренные паруса направляют шар не вперед, а вниз. Андре, Стиндберг и Френкель лихорадочно убирают их. Потом выбрасывают за борт двести килограммов балласта, топят в море то, что им явно мешает. Только тогда шар приходит в себя и начинает подниматься, причем неудержимо: вместо запланированной высоты в пятьдесят метров он набирает шестьсот метров. Помощники все еще стоят на берегу, наблюдая, как он становится все меньше и меньше и, наконец, исчезает.
На лицах Андре, Стриндберга и Френкеля, заключенных в плетеную корзину, отражается историческая важность момента. Френкель прижимает к лицу секстант и устанавливает, что полет происходит точно по курсу в северо-восточном направлении. Стриндберг регистрирует постоянный свист избыточного давления: драгоценный газ, слишком сильно нагретый солнцем, расширяется и улетучивается. Андре, притворяющийся, что ничего подобного не слышит, взбирается вверх по канатам, соединяющим гондолу с шаром, и озирается вокруг. «Все безмолвно и тихо, — записывает Стриндберг. — Слышны только тихий шум моря с юго-востока и свист воздуха в вентиле».
Арктика ярко блестит. К ее пустоте пришито украшение — аппликация из шелка.
Море лежит почти неподвижно. Оно здесь еще огромнее, чем где бы то ни было. Водители шара видят море сверху и рисуют в своем воображении, что будет, если придется двигаться вперед там внизу. Море становится все более вязким, сначала кашеобразным, потом чешуйчатым, пока наконец не превращается в такую густую массу, которую ничем не размешать.
Андре, Стриндберг и Френкель поигрывают в карманах своих брюк долларами и рублями, вертят их и согревают в ладонях. Они взяли деньги с собой, чтобы после покорения Северного полюса купить на другой стороне света французское или крымское шампанское и торжественно чокнуться. Монеты приглушенно звенят, а шар стремится к своей цели.
Через несколько часов они покачиваются уже над плотными ледяными полями. Далеко внизу под ними бежит белый медведь. Он устрашающе встает на дыбы, затем некоторое время следует за шаром, как за убегающей добычей, потом останавливается и долго смотрит ему вслед. «Наше счастье, что он не попытался забраться к нам наверх», — шутит Андре в своей записной книжке. Троица не замечает, что судьба уже плутовски приблизилась к ним в обманчивом образе. После десятичасового полета они преодолели пятую часть пути до Северного полюса и чрезвычайно рады этому, потому что, если так пойдет и дальше, они достигнут его через пару дней. Андре опять свистит в капитанский свисток, Стриндберг набивает свой курительный прибор пряным шеком, Френкель протирает защитные очки, и вдруг ветер в мгновение ока утихает.
Он утихает без малейшего предупреждения, просто так, будто забыл о героях.
Они смотрят друг на друга. Возможно, это всего лишь временное затишье, пауза в истории, которая вскоре продолжится. Они ожидают окончания штиля. Пока они ждут, со всех сторон наползают изморось и туман, которые вскоре полностью обволакивают шар, скрывают их неудачу и делают ее еще горше. Шар промокает насквозь. Он очень быстро превращается в оболочку из льда. Под своей тяжестью он «проваливается», оседает все ближе к земле, в конце концов ударяется об нее, теряет при сотрясении часть своего тяжелого балласта и снова слегка поднимается вверх — пока вновь образовавшаяся изморось опять не пригибает его к земле. Постоянным штемпелеванием пакового льда называет Стриндберг в своих записях эту муку, вызвавшую у него приступ морской болезни. Их гондола, уже обжитое временное жилище, в течение двух дней раскачивается между небом и землей, что полностью выбивает из голов мысли о французском и крымском шампанском.
Никто из них не произносит больше ни слова. Каждый замыкается в себе. Туман простирается между ними, ползает вдоль призрачных коридоров, из которых они на ощупь ищут выход.
Спустя шестьдесят восемь часов после старта Андре поднимает руку, чтобы подтащить буксирные канаты и совершить вынужденную посадку. Я ловлю это мгновение. «Орел» приземляется, гондола опрокидывается, груз высыпается за борт. Оболочка шара нежно ложится на лед и сворачивается. Я снова и снова проигрываю для себя, как протекали эти последние секунды, когда фантасмагория должна была закончиться. Гондола опрокидывается. Оболочка шара ложится на лед и сворачивается. Несмотря на кинотрюки, несмотря на лженити и царапины, прыгающие по изображению пика крушения, чтобы придать ему достоверность документа, мое предчувствие верно, оно обдает меня холодом: это смерть.
Андре, Стриндберг и Френкель находятся на расстоянии 800 километров от Северного полюса и 400 километров от Шпицбергена. Выгрузив на лед все свое оборудование, они посылают двух почтовых голубей с новейшими сообщениями для «Вечернего листка». Голуби исчезают в тумане и никуда не прилетают. Френкель устанавливает штатив кассетного фотоаппарата и снимает своих спутников перед рухнувшим «Орлом». В приливе гордости Андре втыкает в землю шведский флаг. Еще никому не удалось достигнуть Северного полюса. Хотя местность пустынна, вместе с флагом путешественники уже не одиноки. Они сидят, согнувшись, в своей палатке и совещаются, что им делать дальше — ждать ли спасения или пробиваться на восток к Земле Франца-Иосифа, где полярный исследователь Нансен оставил склад продовольствия. Лето в Арктике длится не дольше мгновения; они не имеют права на ошибку. Они должны еще раз обдумать ситуацию. Трое мужчин забираются в спальные мешки рядом с беззвучно и мягко хлопающим на ветру шелком, который порой вздувается, будто живой, будто вновь исполняется желание нести их на себе дальше, и мрачно размышляют.
На следующее утро туман рассеивается. Они грузят свои пожитки на сани и в лодку, которую ставят на полозья, и отправляются в путь. Их цель — Земля Франца-Иосифа, 450 километров в восточном направлении.
Арктика встречает их скрипом и ярким блеском.
Перед тремя мужчинами расстилается чистый лист, готовый рассказывать потомкам из поколения в поколение историю их безрассудства. Марш начинается уверенно. На небе сияют клочья облаков, внизу под ними скользят по льду сани и лодка. Единственный шум — это звук равномерных шагов. Время от времени чье-нибудь слово. Корректура курса, если стрелка компаса отклоняется от востока. Руки в теплых рукавицах, ноги в сапогах, голова под защитой шапки и шарфа. Продовольствия достаточно, чтобы при нормальном суточном переходе благополучно дойти до намеченной цели.
Потом, когда стремление выжить уже становится привычным, поверхность под ногами внезапно проваливается: без всяких предупреждений во льду появляются трещины. Андре, Стриндберг и Френкель перепрыгивают через них, иногда в самый последний момент уходя от опасности. Дорога рушится под их ногами. Лед превращается в воду, потом она снова коварно покрывается тонким слоем льда, который тут же ломается. Каждый шаг непредсказуем. Они понимают, что должны все время перебираться со льдины на льдину, что белая поверхность — это мозаика, каждая составная часть которой в любой момент готова отвалиться от других.
Они поочередно перетаскивают лодку и идут дальше, устало и осторожно. Их лица и ладони растрескались. Вероятно, в них поселилось сомнение, скрываемое бурно растущими бородами. Когда они по вечерам разбивают лагерь на одной из льдин, они не уверены, что, проснувшись, окажутся по-прежнему вместе. Но они твердо верят в победу человеческого духа: они доберутся до Земли Франца-Иосифа еще до наступления зимы. Они все время движутся, эти три черные точки, под которыми в огромном, но незаметном круговороте дрейфуют ледяные пластины Арктики.
Через несколько недель пеленг приводит их в шоковое состояние: они почти не приблизились к цели. Это загадка. От ужаса они заползают в свои спальные мешки. Оказывается, это был бег на месте. В то время, когда они мучительно пробивались вперед, под ними вращался ледяной крутящийся барабан, как будто их марш был развлечением на детской площадке. Впервые мужчинам, лежащим в спальных мешках, не захотелось вставать. Они впервые почувствовали, что их время кристаллизуется и начинает втягивать их в себя.
Потом Андре берет себя в руки. Ведь сегодня день рождения короля! Вскоре он уже готов танцевать вместе с остальными двумя, по-медвежьи неловко переступая ногами, задирая их вверх и обнимаясь с товарищами. Вот они все вместе на пленке, неприкаянные души величиной в тридцать сантиметров, на искусственном снегу. На них сквозь дымку смотрит призрачное солнце. «Настроение прекрасное! — записывает Андре в свой дневник. — Мы подняли шведский флаг и закончили день праздничной едой, тост за короля, крики „ура“ и национальный гимн».
Длинный полярный день все еще одаривает яркостью. У троих все еще есть надежда — и пища, которую они руками запихивают в рот. Более дюжины белых медведей один за другим попали под дула их ружей. Теперь они жадно глотают охотничью добычу в зажаренном или вареном виде, в виде супа или кровяных пончиков. В день рождения короля они пробуют сырые почки с солью. «Мы их больше не жарим, потому что у них вкус устриц», — записывает Андре. Все трое привыкают к сырому мясу, в котором водятся заключенные в капсулы трихинеллы, круглые черви, ослабляющие их организмы изнутри и предрешающие их конец. Во время праздника в честь дня рождения короля Андре, Стриндберг и Френкель смеются как сумасшедшие, как будто судьба, известная своими неожиданными жестокими набегами, рассказывает им сказки.
Они обустраиваются на своей плывущей на юг льдине. Может быть, она причалит где-нибудь там, где им придут на помощь. Я вижу их в безбрежной голубизне на их белом пятне: крошечные, стоящие против света фигурки, облокотившиеся на ружья как на скипетры. На своей льдине они построили хижину из льда и назвали ее «Домашний очаг». Они обдумывают свое положение. «Возможно, — рассуждает Андре в своем дневнике, — мы не сможем выдержать эту ситуацию: жить вместе одной жизнью и умереть вместе одной смертью». Перед отъездом Стриндберг прилепил на свой карманный календарь раскрашенную от руки переводную картинку. На ней изображен летящий воздушный шар, украшенный вымпелами и парусами. «К сожалению, я не могу последовать за тобой», — гласит надпись внизу. Все трое неподвижно сидят на плывущей льдине и видят, как дни становятся все короче. Внезапно льдина раскалывается посередине. Их ледяная хижина обрушивается, развалины «Домашнего очага» расплываются в разные стороны; отчаявшиеся Андре, Стриндберг и Френкель вылавливают из воды остатки своего скарба и перетаскивают в лодку.
Они гребут вперед наугад, туда, откуда исходит сияние суши. На последнем дыхании они добираются до небольшого островка Коитёя — «Белого острова». Плетутся по скалистому пляжу. Здесь, одни-одинешеньки, они разобьют палатку и почти не будут покидать ее. В дневнике Андре больше нет целых предложений, только обрывки фраз: тяжелая погода; хруст и скрип ломающегося в море льда, лежать вытянувшись — нет причин вставать. Мир так уменьшился в размерах, что помещается в каждой из трех голов. Они грезят о комнатах своего детства; они вспоминают милые сердцу часы; темные гардины; ангела-хранителя на обочине дороги; чепец матери; курящего трубку отца, указывающего рукой на глобус и тома своей энциклопедии. Однажды они увидели родителей, проплывающих мимо них на плоту и скорбно кивающих головой.
18 октября в 7 часов 5 минут утра Стриндберг пишет в своем карманном календаре: Домой. Потом умирает первым. Записи Андре и Френкеля тоже обрываются на этом месте. Без комментариев хоронят они труп под грудой камней, с переводной картинкой летящего шара на груди. Теперь развитие событий не остановить. Удаленные на расстояние 500 километров по воздуху от их стартовой площадки на Шпицбергене, Стриндберг, Френкель и Андре погибают из-за малодушия и трихинеллеза. Актеры пытаются имитировать это умирание, но в том, что они изображают, нет правды о пропавших без вести.
Я мотаю пленку дальше.
Лишь тридцать два года спустя охотники на тюленей находят остатки экспедиции. Рассыпанные частички; маленькие, чуждые окружающему ландшафту возвышения; законсервированные льдом тела. Охотники на тюленей стоят перед раскрытой страницей истории, перед подстрочным примечанием, которое — чтобы все смогли прочитать его — написано брайлеровским шрифтом. Они робко бродят среди отдельных фактов, дотрагиваются до них, собирают и спасают. Стриндберг все еще лежит под грудой камней. Френкель и Андре умерли вместе в спальном мешке. Они не оголодали, не замерзли, потому что у них был еще достаточный запас топлива и уложенного в бочку мяса. Все, что оставалось от их пожитков в течение тридцати двух лет, зиму за зимой перерывали и разбрасывали голодные медведи.
Головы и руки Андре и Френкеля, которые непокрытыми торчали из спального мешка, медведи сожрали. Сани валялись вверх полозьями и указывали ими на небо. Лагерь казался таким жалким и несчастным, что отойди на несколько шагов в сторону, и его уже не увидишь.
Останки перевозят в родной город Андре для организации там выставки. Изготавливают восковую фигуру и впрягают в сани, которые он два с половиной месяца тащил по льду Арктики. В витрине собираются вещи путешественников: продырявленный дневник Андре; карманный календарь Стриндберга; платок Френкеля с любовно вышитой монограммой; капитанский свисток; нож, инкрустированный сердцем на рукоятке; фигурка свиньи — символа удачи; якорь и крест из металла; русские и американские монеты; защитные очки Френкеля; трубочка с опиумными таблетками; хронометр; медальон Стриндберга с локоном и поясным портретом невесты. И ящичный аппарат, чьи экспонирующиеся пластинки вырезали и навечно заморозили куски времени: пригоршню хрупких мгновений, очертания людей в середине полярного моря.
На первой фотографии, снятой вскоре после крушения, один из троих стоит возле рухнувшей корзины и канатов и выглядит не как побежденный, а скорее как спортсмен, только что взявший высоту. Черная оболочка шара испещрена белыми пятнами — повреждениями на стеклянной пластинке, которые на моментальном снимке из прошлого кажутся роковой констатацией положения дел. Потом потерпевшие крушение упаковывают свои вещи, отведя взгляд от камеры. Они ставят лодку на лед. На горизонте темный знак: падающий свет зачернил пластинку точно между силуэтами двух погибших, которые сейчас пытаются выжить. Один из них, не поднимая головы, пишет дневник. Второй стоит спиной к подошедшему. Разбита аварийная палатка. Это форпост. Рядом с ней реет шведский флаг. Нильс Стриндберг просит своих спутников несколько секунд постоять спокойно. На последней фотографии Август Соломон Андре и Кнут Френкель угрюмо уставились на временный стол в Арктике, в опущенных руках бинокли. Вероятно, они обдумывают фатальные последствия своего падения. Они ошиблись в расчетах. Их лица белые, почти стертые.
Что же осталось? Изображения этих лиц; лед; пустота, на расстоянии в 7000 световых лет от нас образовавшаяся из водородного газа Туманность Орла; удаленная на 8000 световых лет Туманность Песочных Часов, в перетянутой середине вращающихся газовых шлейфов которой находится что-то похожее на глаз.
Дрейф
До свидания! Сильным пинком ноги я оттолкнула их от набережной, и плот, раскачиваясь, взял курс на прибрежное течение. Сначала он неуклюже крутился вокруг своей оси, потом течение приняло его к себе, упорядочило его движение и убаюкало в своем потоке. Дрейфующие люди медленно поплыли параллельно берегу. С этого момента родители стали жить на плоту. Он имел очертания их жилища. Плот — это контур их квартиры, выпиленной из дерева и спущенной на воду, хорошо знакомый им мир, несущий их на себе. Два волнистых попугайчика точат клювики о раковину каракатицы и щебечут. Мать склоняется к ним, чтобы произнести «замзаладим-бамба-заладу-заладим». Они молча выслушивают ее, повернув головки набок, а потом снова начинают точить клювики. Отец пододвигает на место сахарницу с песком. Она стояла не там, где ей положено. На плоту все должно находиться в равновесии.
Добрый морской воздух обвивает родителей, вдувает в них кислород, не сбивая их с толку, бродит среди их жизненных понятий, установившихся раз и навсегда, по меблированной основе, на которой родители обустроились на остаток своих дней. Деловитость и небрежность, как старые растрескавшиеся комоды, стоят у них поперек пути. Это легко пылящиеся предметы, которые следуют за ними в любое место, придавая ему уют, но, с другой стороны, мешая им.
Отец разгуливает взад и вперед. Мать думает о пустяках. Мимо них на расстоянии слышимости тянется побережье: портовые сооружения; серые штаги; грузы, поднимаемые лебедкой вверх; тень на стене, отброшенная рабочими-строителями. Склады обрамляют заасфальтированные залежные поля. По асфальту катятся кабины без прицепов, за рулем мужчины, которые, сквернословя, разговаривают сами с собой. На ветру раскачиваются пустые крюки. Выгруженные товары ждут, когда их заберут. «Пожалуйста, положите свои покупки на транспортер», — говорит мать, будто разгадывает движущийся кроссворд.
Над плотом неподвижно парят чайки, которые никак не могут решить, что им делать: то ли повернуть обратно, то ли дождаться, когда им что-нибудь перепадет. Мать ищет зачерствевший хлеб, чтобы бросить его им. Забившиеся в угол клетки попугайчики с подозрением наблюдают за тем, что происходит над их головами, и испражняются.
Отец выкрикивает большие числа, потому что невдалеке по фарватеру движется грузовое судно, и он определяет его точный брутто-регистровый тоннаж. Он называет числа и надеется на дискуссию, обращаясь к матери и волнистым попугайчикам, но так как они рассеянно кивают головами и не возражают, он поправляет себя сам. Он еще раз называет числа, и теперь все в порядке.
Когда грузовое судно раскачивает плот в взболтанном кильватере, это выглядит так, будто два человека, стоя у борта, кивают друг другу в полном единодушии и понимании.
Иногда светит солнце, иной раз идет дождь. Изгнание — невеселая штука. И хотя у родителей всегда есть в запасе анекдоты, они похожи, к сожалению, на зачерствевший хлеб, о который никто больше не желает ломать зубы. Но если их все же рассказывают, то слушают их, и то краем уха, лишь чайки, парящие над плотом. Они пронзительно хохочут, куски хлеба, доставшегося им, падают вниз и рикошетом отскакивают от балдахина птичьей клетки, под которым нервно прячутся волнистые попугайчики. Мать утешает комнатных птичек. Она просовывает палец между прутьями и поглаживает их скрытые под перьями тонкие, как спички, шейки. «Заладу-заладим», — бормочет она, чтобы придать себе бодрости. Изгнание — невеселая штука. «Можно это использовать как телефон?» — спросила она под конец и показала на пульт управления видеомагнитофона. После чего была изгнана. Отец еще некоторое время с помощью собранного им набора инструментов боролся против выдворения, но потом тоже смирился. Свои инструменты он взял с собой, потому что мир все время приходит в негодность, поэтому по крайней мере свое домашнее хозяйство нужно содержать в порядке — чтобы жизнь продолжалась.
Не откладывая дела в долгий ящик, отец принимается склеивать рюмку для яйца. Мать крепко держит его за ноги. Она раздумывает, как высвободить одну руку, потому что хочет собрать инструменты, валяющиеся между столом и кроватью. Отец с таким ожесточением вжимает оба осколка подъяичника друг в друга, что у него начинается головокружение. Прерывисто дыша, он подает матери знак, чтобы она выпрямила его из согнутого положения. В изнеможении они смотрят друг на друга. Они знают, что подверглись проверке.
На побережье теперь тысячи окон, и все они смотрят на море. На всех фасадах застыла одинаковая тоска. Из-за любого окна может кто-нибудь выглянуть, облокотившись на подоконник. «Насладись моментом!» — написано на тысячах листков гостиничных календарей. Дома стоят тесно друг к другу, взявшись под руку. Все они замыслены для одной цели — быть единым фронтом отдыха перед возможным закатом. Однако у них застывший взгляд, потому что они уже давно безработные. Приморский курорт имеет заброшенный вид. Над его набережной летает мусор послесезонья, причем сезона как такового и не было. Немногие гуляющие запутываются в летящих пакетах, использованных картонных тарелках, в безнадежности. Море устало лижет их обувь, потом отступается. Соль просачивается в трещины и продолжает свое разрушительное дело. Хотя морской курорт болен изнутри, он великодушно предлагает желающим пристань, на которой круглые сутки безостановочно крутится сверкающая карусель, играет музыка, продаются лотерейные билеты и надувные сердца, а на картонных тарелках — закуски. Родители проплывают через запах сосисок. Подняв головы кверху, они видят над собой сверкающую карусель. В ее кружащихся кабинках никого нет. Музыка тоже без перерыва вращается вокруг одной и той же темы, обыгрывает ее, стараясь не повторяться, и обольщает плывущих на плоту родителей, которым делается от нее так хорошо на душе, что они задумываются о так называемых вечных ценностях жизни. Потом музыка постепенно становится все тише и тише. Маленькие черные рыбаки стоят на пристани и суют удилища в металлически-серую воду. За спиной родителей поднимается вверх надувное сердце.
«Голод — плохой повар!» — трубит отец, в то время как мать нарезает кусочками колбасу на столе, поднимающемся вверх с помощью вращения ручки, и пробует ее, чтобы утолить непреодолимое желание. Отец предпочитает то, что льется и пьется, потому что истинным моряком он считает себя только тогда, когда побережье расплывается перед его глазами.
Оба страдают от недостатка движения. Проснувшись, они лежа вращают ногами, растягивают уголки губ, поднимают и опускают плечи, крутят головой, хлопают над ней в ладоши, трясут руками, а потом бегают на месте. После чего начинается день. Волнистые попугайчики порхают с палочки на палочку и щебечут.
Приморский курорт мужественно изображает светского человека, взявшегося проводить родителей как можно дальше. Он простирается вдоль до той зоны, где в телефонных будках лишь болты и обрывки проволоки напоминают о том, что здесь когда-то были телефоны. За границей курорта начинаются бедные муниципальные дома. Там нет ни души — кроме одного мужчины, верхняя часть туловища которого полностью засунута под капот его машины, снаружи торчат только ноги. Несколько косулей, сделанных из стали, пасутся на голом лугу. Маленькие окна, напоминающие прищуренные глаза, направлены на море, от которого они, впрочем, ожидают так же мало, как и от остальных сторон света.
Постепенно приближается киоск. Какой-то мальчик становится на цыпочки и требует три упаковки боеприпасов. «Ку-ку!» — печально зовет его мать и кивает. Он смотрит вслед плоту. Сжав кулаки в карманах брюк, он смотрит, как плот покачивается в прибрежном течении, как на определенном расстоянии родители становятся похожими на спаренную стелу, на янусоподобное божество с двумя головами — мужской и женской. Божество имеет угол обзора в 360°, однако изменить ничего не может. Потом плот исчезает из поля зрения. Глазея на камни и стреляя в разоренные телефонные будки, мальчик идет домой.
Между отцом и матерью крепко стоят на своих местах деловитость и небрежность, эти два старых растрескавшихся комода. Они охраняют сентенции, которые в любое время, светит ли солнце, идет ли дождь, могут быть извлечены на свет божий, и несмотря на то, что давно превратились в банальность, подходят к любому случаю. Иногда мать чинит разорвавшееся, иной раз отец что-нибудь приводит в порядок. Они весело помогают друг другу в уборке. Что один начнет, то другой закончит. Мысленно.
Мать связывает волосы. Отец скрещивает руки и кладет их на живот. Плот движется вперед. Даже в приданом есть вещи, которые следует хранить вечно. «Красная капуста всего лишь капуста, а подвенечное платье — это подвенечное платье», — говорит мать, сует ноги в резиновые сапоги и идет ухаживать за крошечным огородом, где выращивает капусту и редиску. Она проводит в земле маленькие канавки, куда высыпает содержимое пакетика с семенами. Пикирует взошедшие молодые растения. Выдергивает сорняки и относит их попугайчикам. Дети обходятся нам дорого, но не ценят этого; растения и животные радуются всему, что мы им даем, — таково мнение родителей. После садовых работ мать расцветает, потому как у нее появляется причина поухаживать за собой: некоторое время ничего не слышно, кроме легкого шороха рук, в которые втирается крем.
Когда приморский курорт окончательно исчезает из виду, на пути родителей возникают пляжи. Мелкое море наталкивается на плоскую землю. На ветру бьются вокруг самих себя флажки, запрещающие купаться. Монады с решительным видом, но бесцельно бродят параллельно воде; чаще всего это мужчина, женщина и собака, которые почти не общаются друг с другом, глядя на пену, которая плещется рядом с ними. Они совершают прогулку: черные точки, которые то отдаляются друг от друга, то снова сближаются, иногда наклоняются, чтобы поднять что-то и тут же выбросить прочь; обычные изображения в видоискателе, которые родители оценивают со знанием дела, глядя со стороны моря. На гигантской светло-коричневой сцене распадаются на песок замки. Дети безуспешно строят дамбы. Вооружившись совками и ведрами, они неустанно борются с тем, что в конце концов их поглотит. Родители одобрительно улыбаются на своем плоту, когда видят, что дамбы все же удается построить. Для них любой ребенок — это дитя, с которым произошло несчастье. Набившее шишки дитя, неудачливое дитя, похожее на них — состарившихся детей. Когда-нибудь ребенок выпилит из дерева жилище своим родителям и отправит плавать в прибрежных водах, как игрушку. Он перестанет строить дамбы и вместо этого будет с решительным видом бесцельно бродить параллельно воде вдоль набегающей и откатывающейся назад пены, время от времени нагибаясь за тем или иным и тут же отбрасывая находку прочь.
Созрев для отдыха, отец и мать поглядывают на море. Рядом с ними брызгаются в своих ванночках волнистые попугайчики. Они окунают головки в воду, смачивают спинки и трясут перышками до тех пор, пока с них не стечет вся влага. Эту процедуру они повторяют много раз. Потом повисают вниз головками на прутьях своей клетки, расправляют крылышки и, оставаясь на месте, начинают в дикой истерике пронзительно кричать, вероятно пытаясь в искаженной форме произнести слово «замзаладим», которое никак у них не получается. Они судорожно размахивают крылышками, украшенными волнообразными узорами. По воздуху плавает пух. Родители ловят его кончиками пальцев. Они надеются, что припадок у их комнатных птиц вскоре закончится. У отца появляется желание свернуть им шеи, потому что от них только дерьмо и больше ничего. Мать вздыхает. Она всегда в напряжении: у отца — электростимулятор сердца. Когда попугайчики начинают свои сумасшедшие игры, равновесию на плоту приходит конец. Родителей охватывает паника, разрушается их размеренная, дисциплинированная жизнь, их извечное соревнование, кто из них умрет первым. Вытаращив черные глаза, птицы пристально смотрят на пустое море. Тихие размышления родителей о том, кто первым уйдет из жизни, прерывает пауза, заполненная криками. Вздрагивая и подпрыгивая, производя обманные маневры и безуспешно пытаясь взлететь, попугайчики мечутся в своей клетке, приобретенные матерью, захотевшей иметь их рядом с собой, как крылатые слова. Их необъяснимое буйство взвихривает песок на полу клетки. Мать удрученно наблюдает за отцом, который положил руку на грудь и прерывисто дышит. «У каждой зверушки свои игрушки», — пытается она успокоить отца. «От некоторых — как от козла молока», — парирует он в ответ. Плот начинает раскачиваться, потому что мать бегает по нему и ищет корзинку для рукоделия, причем ее волнение побуждает попугайчиков к новым крикам. Мать украдкой бросает взгляд на побережье, не видит ли там кто-нибудь, что семейные дела на плоту идут вкривь и вкось. Потом находит, что искала: она размахивает ею же вышитой скатертью, как штандартом победы. «Не так все и страшно», — кричит она. «Примите мои поздравления! — фыркает отец. — Это было всего лишь легкое порхание по воздуху». Мать подходит к нему со скатертью в руках, где она еще задолго до свадьбы вышила максиму: «Красная капуста всего лишь капуста», показывает отцу ее еще раз, как транспарант с лозунгом, и набрасывает скатерть на птичью клетку. Во мгновение ока воцаряется тишина.
Течение трется спиной о берег и ненадолго прихватывает с собой родителей. Подплыв поближе, они видят, как из труб поднимается дым, во все стороны крутятся флюгеры, изображающие петухов, дребезжат, несясь навстречу друг другу, автомобили. Они видят старые деревья и парусники. Зеленеющие луга. В живописных местах, как предполагают родители, царит счастье жизни. Не обращая внимания на них, оно занимается там своими аферами, накапливается и спит за дорожными щитами. Если родители чувствуют себя в живописных местах особенно хорошо, они всегда вынимают пробку из пустой бутылки, выпитой отцом, засовывают в нее сообща заполненный лотерейный билет и бросают бутылку в воду. Потом опять восхищаются старыми деревьями, корни которых уходят в Прошлое, а ветви простираются в Сегодня, и парусниками, стоящими на якоре, их приглушенно звенящими мачтами. Живописное место обычно предлагает уютные уголки и чересчур затейливый перезвон колоколов. Из его труб столбом поднимается дым. Люди приветствуют друг друга, непрестанно приподнимая шляпы. Такое впечатление, что в них запрятана сильно натянутая часовая пружина, которую постоянно подкручивают. Мать никак не может наглядеться на эту красоту. Она причитает, что ей срочно нужен театральный бинокль. Когда отцу хочется ее утешить, он нажимает пальцем на кончик ее носа и восклицает: «Мое косоглазое счастье!» А течение опять отступает от побережья, буксирует плот дальше, в легкий поднимающийся туман.
Мать лежит с высоко поднятыми ногами. У нее болезнь сосудов. Отец тоже многое не может себе позволить, лишь какую-нибудь ерунду. Он склеивает сломанные спички, накладывает на них шины и показывает матери, как идет процесс выздоровления. Покашливая, она сплетает руки на животе. Родители пребывают в задумчивом настроении, что означает, что они пьют кофе и молчат. Море плещется о край их жилища. Оно топорщится, как плохо натянутый ковер. Родители привыкли к этому состоянию; они должны с этим жить. Море — привлекательная вещь, если глядеть на него с суши. В своей глубине оно прячет затопленные отходы и отраву, при этом его металлически-серое лицо остается непроницаемым. Изо дня в день его плеск убаюкивает родителей и морочит им головы, что они в любое время могут рассчитывать на самый крупный выигрыш в лотерее. Отец скрывает зевоту за поднесенной ко рту чашкой кофе. Мать крутит сахарницу с песком вокруг ее оси. Мысли у обоих короткие и обрывочные. Отец с удовольствием занялся бы газетой с ее автомобилями, футболом, международными катастрофами. У матери болят ноги. Она завидует неподвижному полету чаек.
Туман сгущается. Теперь уже не поймешь, что происходит на побережье. Смутно, будто через матовое стекло, родители видят группу мужчин, которые выкачивают воду из моря. Мужчины возятся со шлангами: они направляют их в одно и то же место, поливая четырехногий предмет, на котором танцует пламя. Возможно, это добровольный пожарный отряд тушит учебный пожар на столе.
Пока родители пытаются понять, что происходит на берегу, прямо перед ними выныривает огромный пароход. Он так громко гудит в сирену, что они от ужаса опрокидывают сахарницу. Пароход возникает из тумана совершенно неожиданно. Отца и мать отделяли от внезапной гибели лишь миллиметры. Все зашаталось. Даже вышитая матерью скатерть скатилась с птичьей клетки. Пароход, совершавший круиз, не имел никакого представления о существах, устроившихся прямо на поверхности моря. Его черный нос проплывает мимо плота. Отцу, у которого в прямом смысле слова закачалась под ногами почва, который, чтобы не упасть, хватается за первое попавшееся и при этом удерживает мать, уже не приходит в голову вслух выяснять брутто-регистровый тоннаж корабля. Вместо этого родители погружаются в молчание. Они дрожат. А потом к ним приходят воспоминания: прыгающие вверх рыбки, которые резвятся в фарватере проносящихся мимо возможностей. Они взлетают в воздух и иногда падают на пол плота, где им суждено издохнуть, если мать их тут же не бросит обратно в воду. У одной из рыбок под плавником портфель, у другой во рту большая кухонная ложка.
Отец видит себя идущим на работу в толпе таких же, как он, отштампованных по одному образу и подобию людей. Прямые как свечи и строгие, они похожи на темный отчеканенный сгусток усердия. Мать видит, как она поднимает половник, сует эту обжигающую ложку в суп и десятилетиями помешивает и помешивает его. Она угрюмо выбрасывает эти дергающиеся, хватающие ртом воздух тела воспоминаний за борт, обратно туда, откуда они появились.
День медленно клонится к закату. Далеко в море еще можно различить буровые вышки, платформы, стоящие в воде на ходулях и добывающие нефть, необходимую любой цивилизации. Это форпосты побережья. Стабильно работающие круглый год, они служат для родителей ориентиром. Сейчас вокруг них сгущается туман.
Перед наступлением сумерек мать еще раз отправляется в свой сад. На земле и овощах сверкает роса. Сорняки опять подросли. Мать вырывает их и оставляет на грядках. Размышляет, какой кочан красной капусты уже следует срезать. В конце концов срезает самый большой и сует под мышку. Сад пытается удержать ее, повиснув на резиновых сапогах тяжелыми мокрыми комьями земли, но мать остается здесь только до тех пор, пока есть какая-нибудь работа, а потом разворачивается и уходит. По дороге она теряет комья, разочарованно отваливающиеся от ее сапог. Большой кочан красной капусты она несет в руках с гордостью садовода, и чтобы им можно было любоваться, кладет его на верх более высокого из двух комодов, как будто хочет сохранить навечно. Она садится и рассматривает его. Некоторое время от матери не исходит ни звука, кроме шороха двух рук, в которые втирается крем.
Волнистые попугайчики точат клювики о раковину каракатицы и чистят перышки. Они протягивают через клювы каждый ствол пера в отдельности, а затем снова сцепляют его со всеми остальными.
Отец настраивает спутниковую тарелку. Похожая на надутый парус, она мерцает в сумерках. Он регулирует ее до тех пор, пока изображение не становится четким, потом откидывается назад и расслабляется в отблеске телевизора. Он благодушно следит за серийным убийцей, чьи деяния прерываются рекламой. «Сейчас придет комиссар Хаммер», — восклицает он, когда на экране возникает маленький мальчик, требующий три упаковки боеприпасов. В телевизоре судьба, хватающая свои жертвы за шиворот, перехитряет даже дорожные щиты. Она составляет строгие цепи взаимообусловленных событий. Она не щадит никого и ничего. Явно удовлетворенный увиденным, отец зовет мать. «Под каждой крышей свои мыши», — комментирует она, коротко взглянув на экран, и уходит. Волнистые попугайчики клюют раскачивающееся круглое зеркальце, которое подвешено в клетке и показывает им их собственные головы. «Зимзаладим-бамба-заладу-заладим», — говорит один из них, но ни мать, ни отец не слышат этих слов из-за треска выстрелов, раздающихся на телеэкране.
Туман рассеивается. Матери чудится, что впереди на берегу стоит фосфоресцирующее голубоватым светом овечье стадо, а в центре его возвышается черный обелиск: пастух. Она озадаченно смотрит на это явление. Она протирает глаза, но ничего не меняется. Только тогда, когда мнимые овцы при ближайшем рассмотрении начинают пульсировать как включенные телевизоры, а черный обелиск посылать через море прожекторные сигналы, мать понимает, что ошиблась.
На разочарование она реагирует тихим пением.
«Когда промчался год, зимзаладим-бамба-заладу-заладам, когда промчался год…» — поет она строчку из полузабытой детской песенки.
Родители устали. Они оба зевают. На их лицах жизнь давно уже начала лепить маску, но их души, карданно засунутые в мешок с костями, все еще пытаются сохранить на плоту равновесие. Родители чистят зубы, везде гасят свет, оставив только ходовые огни, и отправляются на покой.
Ночь движется вперед. Засунув головки под крылья, спят в своей клетке попугайчики. Вышитая скатерть оберегает их сон. Погребенные под двумя огромными белыми пуховыми одеялами, лежат родители и пересчитывают ушедшие дни. Пока они считают, течение все дальше и дальше уходит от побережья и забирает с собой плот в открытое море. Ходовые огни постепенно уменьшаются, потом их поглощает тьма.
Наносная земля
В 6.15 утра в спальне сорокатрехлетней Жанны Д. пищит будильник. Не сопротивляясь, она садится и быстро надевает подготовленные заранее тапочки. Она раздвигает шторы, открывает окна. Снаружи город, черноватый блок массивно нарезанных кубов, из недр которого проникает наружу шум движущихся автомобилей. Он ложится гранью перед этим окном, не касаясь его. Расчесывая волосы, Жанна Д. смотрит в зеркало комода. Она надевает через голову утренний халат и застегивается. Идет в ванную. Когда она включает свет и начинает мыть руки, ее лицо отражается в умывальнике: заспанное, отсутствующе качающееся. Она выключает свет и покидает ванную.
В 6.24 Жанна Д. пересекает темную переднюю. Она идет в кухню. Зажигает там свет, наливает в чайник воду, ставит его на огонь. Потом возвращается в переднюю. Она отодвигает в сторону занавеску, за которой находится гардероб, наклоняется, поднимает с полу мужские туфли, несет их в кухню, зажимает туфли под мышкой, одновременно доставая из шкафчика под мойкой старую газету и принадлежности для чистки обуви, расстилает газету на одном из кухонных стульев и ставит на нее туфли. Она сует тряпку в баночку с кремом для обуви, засовывает вторую руку сначала в одну, потом в другую туфлю, намазывает их кремом и начищает до блеска. Убирает принадлежности для чистки обуви и относит туфли обратно в переднюю. Из шкафа для продуктов она достает банку с кофе и кофемолку, пересыпает в нее зерна и мелет их. Высокий ноющий шум смешивается со свистом чайника. Жанна Д. заваривает кофе в термосе. Когда он готов, она отливает его в чашку и отпивает глоток.
В 6.37 утра она идет через переднюю в гостиную. В полутьме зажигает там газовую печку. Осматривает белье своего 16-летнего сына, спящего на раскладном кресле, сортирует и относит часть его в корзину для белья в ванную комнату. В спальне она включает свет, открывает шкаф для одежды, вынимает из него свежее белье, закрывает шкаф, выключает свет, идет в гостиную и кладет отобранное на стопку вещей сына. Раздвигает шторы и будит его. Потом накрывает для него на кухне завтрак.
Ее сын, еще в пижаме, в 6.55 утра приходит в кухню и садится за накрытый стол. Ты вымыл руки? — спрашивает она. Он кивает. Стоя, она наливает ему кофе в чашку, а потом в термос, чтобы он взял его с собой в школу. Он намазывает себе хлеб джемом, ест и пьет.
В 7.27 овдовевшая Жанна Д. между гардеробом и дверью в квартиру завязывает сыну шарф и целует его на прощание.
В спальне стоит раскрытая супружеская постель. Шум автомобилей за окном становится все громче. На туалетном столике фотография, отражающая в черно-белом цвете прошлое Жанны Д. Щетки и расчески располагаются в нужном порядке. Штора слегка колышется от сквозняка.
В 8.19 утра Жанна Д. моет посуду после завтрака и оставшуюся со вчерашнего вечера. В юбке, блузке и вязаной кофте, с завязанным фартуком стоит она перед мойкой. Посуда звякает, плотно одна к другой ставится в сушку и начинает блестеть. Когда все готово, Жанна Д. сливает грязную воду, трет мойку губкой, вытирает столешницу мокрой тряпкой, которую она вырезала из оставшейся от мужа рубашки, полощет тряпку и вешает ее на кран, чтобы она высохла. Она идет в гостиную и складывает пижаму своего сына, разглаживает постельное белье и превращает постель, издающую при этом жалобный звук, опять в кресло. Перед ним она ставит отодвинутый до этого в сторону журнальный столик. В спальне она складывает свою ночную рубашку, встряхивает постельное белье, застилает кровать, постепенно расправляя тяжелое дневное покрывало. Она закрывает окно и задергивает гардину, которая еще короткое время колышется, пока не успокаивается. В кухне она развязывает фартук и достает сетку из продуктового шкафа. Потом опять отдергивает занавеску гардероба, снимает с вешалки легкое пальто, надевает его, повязывает на голову платок и покидает квартиру. На лестнице она ждет лифт, открывает снаружи его решетку и спускается на нем на три этажа вниз. Проходя через площадку первого этажа, она останавливается перед почтовым ящиком, открывает его, находит там письмо, которое, не распечатав, сует в карман.
В 9.30 утра Жанна Д. выходит на улицу. Пригоршня птиц, брошенная в воздух, сверкает на солнце. Деревья, одетые в зелень, раскачивают на своих ветвях полуготовые гнезда. Автофургоны, сигналя, проносятся мимо друг друга, за рулями — мужчины, которым для взаимопонимания достаточно всего лишь указательного пальца, который они на мгновение поднимают над рулем. Светофоры работают в такт, показывают по очереди то раскрытые руки, то согнутые локти. Владельцы лавок выходят к своим магазинам и крутят вниз маркизы, чтобы защитить от слишком сильного солнца свои товары в витринах. Шаги Жанны Д. стучат по тротуару. Она отбрасывает равномерно движущуюся рядом с ней тень. На ее руке висит пустая авоська.
Город, в котором она живет, расположился на побережье, как бы случайно там остановившись и оставшись навсегда. Ни один человек не бросает взгляда на море. Это неудобопроходимая местность. Это истощившиеся земли, которые, чтобы напомнить о себе, посылают в город качурок и соленые бризы; но и те, и другие развеиваются.
Неизменны здесь раскрученные маркизы, светофоры, работающие в такт, полки, наполненные товарами. Неизменны пожелания доброго дня, произносимые владельцами лавок, их оазисы улыбок, где Жанна Д. роняет несколько слов.
Она покупает сетку картошки. Потом заходит в мясную лавку и через некоторое время выходит оттуда с почти до отказа наполненной сумкой. Не хватает теперь только зеленого лука, яиц, вермишели, джема. Чтобы найти недостающее, она проходит еще две улицы и попадает в лавку, владелица которой неподвижно сидит в задней комнате, поджидая клиентов.
— Как дела? — спрашивает хозяйка.
— Хорошо, — отвечает Жанна Д.
Она поднимает сетку с продуктами на стойку и открывает ее, чтобы улыбающаяся женщина смогла уложить туда продукты. Жанна Д. туже затягивает свой платок, который слегка развязался. Она отправляется домой. На ее руке висит сетка, полная продуктов. Ее шаги стучат по тротуару.
В 11.03 утра она достает покупки из сетки и кладет их на кухонный стол. Открывает шкаф для продуктов и ставит туда джем и вермишель. Сетку картошки она относит на балкон перед кухней. Зеленый лук, еще завернутый в газету, она кладет в стороне на подоконник. Вытирает руки. С шумом переставляет один из скрипучих стульев на кафель перед столом, открывает ящик со столовыми приборами, достает оттуда вилку, закрывает ящик, отодвигает стул. Из посудного шкафа она берет глубокую тарелку, из холодильника — молоко, из шкафа с продуктами муку и соль. Когда все ингредиенты на столе, она перевязывается фартуком. Она разбивает два яйца на краешке тарелки, выливает их содержимое в тарелку, добавляет туда немного молока и соли и так долго взбивает массу вилкой, что она становится равномерно окрашенной и начинает пениться. Рядом с тарелкой она насыпает на стол кучку муки. Потом распаковывает то, что принесла от мясника: большие и маленькие куски телячьего филе. Поочередно обмакивает их сначала во взбитые яйца, а потом обваливает в муке. Она достает еще две тарелки из посудного шкафа, кладет филе на одну из них, вторую использует как крышку и ставит панированное мясо в холодильник. Под конец устраняет остатки кляра. Она смывает с тарелки остатки яиц, смахивает муку через край стола в руку и высыпает ее обратно в пакет. Она убирает пакет с яйцами, муку и соль. Она вытирает стол влажной тряпочкой, которую вырезала из оставшейся от мужа рубашки. Моет руки.
В 11.50 утра Жанна Д. сидит за кухонным столом и ест двойной бутерброд. Запивает его глотком кофе, который наливает себе из термоса. Во время еды она смотрит прямо перед собой. Она глядит на стену кухни.
В 12.00 у дверей квартиры раздается звонок. Жанна Д. идет через переднюю, включает свет и открывает. Соседка вручает ей детский конверт с младенцем и прощается с ней, чтобы спокойно пойти за покупками. Жанна Д. несет ребенка в гостиную, кладет конверт на стол, заглядывает внутрь и возвращается в кухню.
Она ставит посуду в шкафы. Потом идет в гостиную, держа в руке метелку для смахивания пыли. Одну за другой она вынимает из горки фарфоровые вещицы, смахивает с них пыль и осторожно ставит на место: собаки, целующиеся пары, декоративные тарелки. Пыль висит в воздухе над комнатой и рассеивается в ней заново. Младенец гугукает.
В 13.08 в дверь квартиры опять звонят. Соседка забирает своего ребенка. Она рассказывает Жанне Д., стоящей в дверях со скрещенными руками, что она не знала, что ей приготовить, поэтому потребовала у мясника, чтобы он ей дал то же самое, что купила стоящая перед ней в очереди женщина.
— А что у вас сегодня? — спрашивает соседка.
— Телячье филе, — отвечает Жанна Д.
Солнечный луч лежит в гостиной на журнальном столике и раскладном кресле, он ползет по суповой миске на стеклянном столике, дотрагивается до написанного маслом пейзажа на стене, согревает обеспыленный фарфор.
В 13.40 Жанна Д. сидит за кухонным столом и разрезает ножом письмо, которое утром достала из почтового ящика. Читает его. В нем много страниц. Прочитав письмо, она вкладывает его обратно в конверт. Она кладет его в свою сумку, которую прячет за занавеску гардероба. Она идет в спальню, открывает шкаф, снимает с вешалки куртку сына. Она заворачивает куртку в оберточную бумагу, сует в пластиковый пакет пару туфель, снова надевает пальто, повязывает платок и, забрав вещи, выходит из квартиры.
В 14.12 ей в лицо дует соленый бриз. Свободно свисающие кружева платка внезапно начинают развеваться, оберточная бумага надувается ветром как передний парус.
Шаги Жанны Д. стучат по тротуару. Она идет по главной проезжей улице, мимо припаркованных автомобилей и остановившихся часов в парке, мимо смотрящих вдаль манекенов в витринах, мимо банкоматов, перед которыми стоят в ожидании маленькие очереди. Она сворачивает в боковую улицу. В сапожной лавке ее приветствует владелец.
— Как дела у вашего сына? Радует ли он вас? — спрашивает он.
— Я не знаю, что бы я делала без него, — отвечает Жанна Д.
Она ставит на стол принесенные с собой туфли сына. Сапожник должен заменить на них подошвы. Лежа на столе, они в какой-то момент выглядят потерянными. Потом он их берет и ставит на полку к остальной обуви. При этом он смотрит вслед Жанне Д., которая опять выходит на улицу. Она несет упакованную куртку сына через руку и толкает дверь галантерейной лавки. Она показывает продавщице куртку, для которой нужно купить недостающую пуговицу, Между маленькими золотыми корабельными штурвалами, пришитыми в ряд, зияет пустое место.
Жанна Д. и продавщица галантерейных товаров роются в ящике, полном пуговиц, но нужную не находят. Во второй лавке ее тоже ждет неудача. В третьей она решает купить шесть новых пуговиц, чтобы заменить целый ряд на новый.
Она теперь в той части города, которую знает не очень хорошо. Небо заволоклось облаками. Посредине безлюдной площади стоит обязательный памятник павшим воинам, над которым сильно обрезанные деревья раскидывают свои обрубки. Жанна Д. пересекает площадь и направляется к кафе. Она входит внутрь, садится за столик в углу, заказывает кофе и, пока пьет его, смотрит прямо перед собой. Она снимает с головы платок, но остается в пальто. Кельнер прислонился к буфетной стойке и курит. В заднем углу помещения из громкоговорителя доносятся смутные воспоминания. Kai serrah? Whatever will be, will be. Кельнер гасит в пепельнице после длинной последней затяжки свою сигарету. Ставит на место стул, вытирает столики, смахивает себе в руку монеты со стола, берет со стола чашку и опускает ее в помои. Жанна Д. ушла.
В 15.57 она поднимается в лифте с зеркалом внутри на три этажа вверх. Она избегает собственного взгляда. Открывает дверь в квартиру.
В 16.05 Жанна Д. идет в спальню, достает из шкафа полотенце и расстилает его на покрывале кровати.
В 16.10 она сидит за кухонным столом и заполняет тетрадь записей домашних расходов. Каждую заполненную строчку она сверяет с чеком, прежде чем присоединить его к стопке. После подведения итогов она кладет квитанции в тетрадь, захлопывает ее, вставая, отодвигает стул, выдвигает ящик со столовыми приборами, кладет в него тетрадь и снова задвигает его. Она снимает вязаную кофту и вешает ее на кухонный стул.
В 16.29 раздается звонок в дверь квартиры. Жанна Д. включает свет в передней, открывает пожилому господину, протягивает руки, чтобы взять его шляпу и пальто, и вешает их в гардероб за занавеской. Мужчина идет вслед за ней в спальню. Прежде чем закрыть дверь в спальне, она выключает свет в передней.
В 16.43 дверь спальни снова открывается. Жанна Д. включает свет в передней и идет вместе с гостем к гардеробу. Она протягивает ему его пальто и шляпу. Пока она ждет со сложенными руками, он вытаскивает портмоне из внутреннего кармана своего пальто и дает ей банкноту.
— До свидания, — говорит он.
Когда мужчина уходит, она выключает свет в передней. Идет в гостиную, снимает крышку супницы на стол и бросает в нее банкноту. Потом она возвращается в спальню, снова раздвигает шторы, открывает окно, снимает разложенное полотенце с покрывала и относит его в корзину для грязного белья в ванную комнату.
В 17.01 Жанна Д. садится на корточки в пустую ванну, намыливает все тело рукавичкой для мытья, споласкивает рукавичку и смывает ею мыло. Надев снова нижнюю и верхнюю юбки, она сыплет в ванну чистящий порошок, моет ее тряпочкой, которую вырезала из оставшейся от мужа рубашки. Она идет в спальню, закрывает окно и задергивает шторы.
В 17.23 она приносит с балкона сетку картошки, вынимает из нее восемь картофелин, а сетку кладет обратно. Расстилает на кухонном столе кусок газеты. Чистит картофелины. Моет их, разрезает на четыре части, ставит на плиту. С подоконника берет перья зеленого лука, чистит их и мелко нарезает. Потом идет в гостиную, загибает половину вышитой дорожки, лежащей на стеклянном столе, отодвигает чуть в сторону супницу, накрывает освободившуюся поверхность пластиковой скатертью и ставит на нее столовые приборы, стаканы и бутылку солодового пива. Она идет в кухню, достает из холодильника панированное телячье филе, разогревает в сковородке жир и жарит филе. Она помешивает лук, добавляет воду, ложку сметаны и щепотку пряностей. Сливает воду с картофеля.
В 18.00 в дверь квартиры звонят. Сын Жанны Д. возвращается домой. Она протягивает руки, помогает ему снять пальто, шарф и обувь и укладывает все это в гардероб за занавеской. Сын быстро надевает домашние туфли, берет свою сумку и идет в гостиную. Жанна Д. идет в кухню, чтобы перевернуть телячье филе. Когда она входит в гостиную с двумя полными тарелками лукового супа, ее сын сидит в раскладном кресле и читает книгу. Он встает, садится за обеденный стол, кладет раскрытую книгу рядом с тарелкой, берет ложку и, читая, ест суп. Жанна Д. дует на суп, потому что он очень горячий. Оба съедают все до дна. Она берет глубокие тарелки и уносит их в кухню. Единственный звук, раздающийся в комнате, — это шум перелистываемых страниц. Потом Жанна Д. приносит две тарелки с телячьим филе и картофелем. Она наливает солодовое пиво в оба бокала. Ножи разрезают мясо, вилки разминают картофель, приборы скребут по тарелкам; легкий звон бокалов; рты жуют и глотают. За головой Жанны Д. периодически проникает в гостиную беловатое мерцание обманчивого света. Они приходят откуда-то из сумерек, эти Эльмовы огни световой рекламы, чье отражение колышется на фарфоре в горке.
— Пожалуйста, не читай, когда ешь, — говорит она.
Сын кладет книгу раскрытыми страницами вниз. Жанна Д. читает название: «20 000 миль под водой». Сын не до конца съедает свою тарелку. Жанна Д. заканчивает обед чуть позднее его. Она собирает посуду и относит ее в кухню. Когда она возвращается, у нее в руках ее сумочка.
— Нам пришло письмо от тети Фелиции, — говорит она. Она открывает сумочку, достает письмо и читает его сыну вслух. «Твой муж умер шесть лет назад, ты должна опять выйти замуж, здесь все утопает в снегу», — пишет тетя Фелиция.
В 19.14 Жанна Д. сидит вместе с сыном за столом в гостиной. Пластиковая скатерть снята, вышитая дорожка расправлена, и супница опять на месте. Сын делает домашние задания. На коленях у Жанны Д. его куртка, она отпарывает пять пуговиц, которые были когда-то золотыми штурвалами, и пришивает шесть недавно купленных.
В кухне из не до конца закрытого крана в раковину капает вода. Струйки воды бегут по грязной посуде, оставляют следы на сухой. В поисках места для ночлега на улице кружатся все время меняющие очертания стаи птиц, которые отражаются в оконных стеклах.
В 20.05 Жанна Д. проверяет своего сына. Он читает наизусть стихотворение Бодлера:
Моя весна была зловещим ураганом, Пронзенным кое-где сверкающим лучом: В саду разрушенном не быть плодам румяным — В нем льет осенний дождь и не смолкает гром. Душа исполнена осенних созерцаний; Лопатой, граблями я, не жалея сил, Спешу собрать земли размоченные ткани, Где воды жадные изрыли ряд могил. О, новые цветы, невиданные грезы, В земле размоченной и рыхлой, как песок, Вам не дано впитать животворящий сок! Все внятней времени смертельные угрозы: О горе! Впившись в грудь, вливая в сердце мрак, Высасывая кровь, растет и крепнет Враг![8]В 20.05 Жанна Д. вяжет пуловер. Одновременно она заглядывает в лежащую перед ней на столе раскрытую газету. Ее сын сидит в раскладном кресле и читает. По радио тихо звучит музыка. Жанна Д. периодически встает и прикладывает переднюю часть пуловера, который вяжет, к груди сына, чтобы убедиться, подходит ли она. Потом опять садится за стол в гостиной. Над ее головой на фарфоровых собачках, целующихся парах, декоративных тарелках изредка играют блики света. Когда она узнает песню, исполняемую по радио, то какое-то время подпевает вполголоса.
В 21.28 она кладет вязанье в корзинку для рукоделия и запирает ее в горке. Ее сын встал. Вместе с ним она отставляет в сторону журнальный столик и торшер. Они раскладывают для сна кресло, пружины которого издают при этом жалобные звуки. Жанна Д. закрывает кран газовой плиты и ждет, когда она погаснет.
В 21.45 она сидит в спальне перед туалетным столиком и отсутствующими движениями расчесывает волосы. На ней ночная рубашка и тапочки.
На столике стоит фотография, где в черно-белом цвете изображено ее прошлое. Она быстро проскальзывает в халат, застегивает его и снова идет в гостиную, где ее сын читает, лежа в постели. Она целует его на ночь. Когда она стоит в дверях, он говорит:
— Если бы я был женщиной, я бы мог заниматься любовью только с теми, в кого влюблен.
— То, что ты называешь «заниматься любовью», — говорит Жанна Д., — ничего не означает — это всего лишь деталь.
Потом она опять в спальне. Она снимает халат, садится на краешек супружеской постели, сбрасывает тапочки с ног, ложится и натягивает на тело одеяло. Она берет будильник, чтобы поставить на подъем. Циферблат приближается к ней. Тиканье часов становится все громче. Оно поднимается до стаккато старой женщины, которая в затемненной комнате выбивает пыль мокрыми платками.
Сны не приходят. Ночь показывает те же цифры, что и день, но в отличие от него фосфоресцируя. Вялые руки лежат на подушках. Ноги слегка вздрагивают перед отходом ко сну.
Чернота.
Чернота с отпечатками увиденного в ней.
Стая птиц, образующая надо мною карман, внезапно выворачивается наружу.
От автора
Рассказ «Залив» имеет отношение к немому фильму Фрица Ланга «Женщина на Луне» (Германия, 1929. Сценарий Теи фон Харбоу).
Рассказ «Наносная земля» навеян сюжетом фильма «Жанна Дильман. Брюссель, Набережная Коммерции, 23» (Режиссер Шанталь Аккерман, Бельгия, 1975).
Примечания
1
большие доски (лат.). — Примеч. пер.
(обратно)2
Богородице, Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою (лат.). — Примеч. пер.
(обратно)3
Мираж (лат.). — Примеч. пер.
(обратно)4
морские птицы размером с галку из семейства буревестниковых.
(обратно)5
Море Спокойствия (лат.).
(обратно)6
Что будет? (искаж. фр.)
(обратно)7
Что будет, то будет (англ.).
(обратно)8
Ш. Бодлер. «Враг» / Цветы зла и стихотворения в прозе (Пер. Эллиса). — Томск: Водолей, 1993.
(обратно)

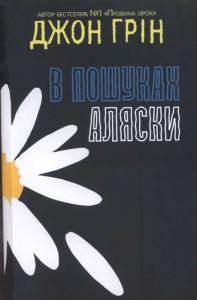







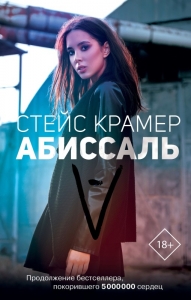
Комментарии к книге «Шпагат счастья», Патриция Гёрг
Всего 0 комментариев