Борис Минаев Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х
Информация от издательства
Борис Минаев
Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х: роман в рассказах / Борис Дорианович Минаев. – М.: Время, 2018. – (Самое время!)
ISBN 978-5-9691-1715-0
«Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х» – новая книга известного российского писателя Бориса Минаева. «Жизнь любой женщины – это практически всегда остросюжетный, эпический, великий роман», – считает автор. В данном случае под одной обложкой собраны двадцать три истории из жизни молодых женщин, каждая из которых – воистину героиня своего времени. Того времени, когда начался великий разлом двух эпох и когда сформировался характер целого поколения.
© Б. Минаев, 2018
© Состав, оформление, «Время», 2018
Библиотека всемирной литературы
Елена Шульцбергер, русская, 24 лет, студентка Всесоюзного института культуры, член ВЛКСМ с 1976 года, как-то раз потеряла книгу – сочинения Франсуа Рабле в серии «Библиотека всемирной литературы».
По всей видимости, оставила она ее на скамейке возле 302-й аудитории во время зимней сессии на своем факультете режиссуры народных театров и массовых мероприятий, будучи в полуобморочном состоянии. В книге (а это был толстый том, таким убить можно) имелись: сам текст про Гаргантюа и Пантагрюэля в переводе Любимова, а также сложная и большая вводная статья, научные комментарии, красивая суперобложка и милые картинки внутри на двух цветных вкладках. Теперь, когда она думала обо всем этом, ей становилось физически нехорошо.
Шульцбергер сразу узнала, что на черном рынке такая книга стоит «от шестидесяти рублей». Но в принципе купить можно. Просто надо быть готовым к тому, что попросят все восемьдесят. И тогда нужно торговаться. Ну как торговаться, вот просто твердо сказать: извините, но таких денег у меня нет, резко повернуться и решительно идти к метро. И вот тогда они могут догнать и предложить семьдесят, и можно будет спустить сначала до шестидесяти пяти, а потом и до шестидесяти.
Все эти советы она выслушала по телефону, сухо сказала в ответ «спасибо» и медленно положила трубку. Потом к горлу подступила волна, и Лена, долго ей сопротивляясь, пила воду, стакан за стаканом, а затем наконец начала рыдать. Рыдала она больше часа, пока не заснула.
Лена получала на работе семьдесят рублей в месяц, да еще с вычетами, и о каких шестидесяти-восьмидесяти рублях можно было вообще говорить?… Откуда взять такую сумму на одну книгу?… Она просто не представляла себе.
Она вообще не знала до этого момента, что такая книга может стоить восемьдесят рублей (не букинистическая, не дореволюционная, не манускрипт средних веков, просто книга из подписного издания номиналом три рубля сорок пять копеек).
Ну хорошо, «Мастер и Маргарита», знаменитый черный томик Ахматовой или синий Пастернака в «Большой библиотеке поэта», предположим, да, теоретически, мог стоить – на черном рынке и восемьдесят, и сто, это она понимала, но это был предмет культа, драгоценность, бриллиант в домашней библиотеке, но почему Рабле, автор-гуманист эпохи Возрождения? Ну извините, ну пятнадцать. Ну хорошо, двадцать. Ну ладно, двадцать пять. Это еще можно как-то собрать, одолжить…
Однако ей назвали именно такую цифру.
Вдруг Лена подумала – а может, это шутка? Или ее просто разыгрывают?
Она снова набрала знакомый номер и спросила:
– Валер, а это точно? Ну, я имею в виду, вот все эти цифры…
Эти данные Шульцбергер получила от Валеры Семеняки, парня из далекой деревни в Харьковской области, который очень рано почувствовал необыкновенную любовь к книгам (не к каким-то конкретным, а к книгам вообще) и переехал в Москву, чтобы заняться ими по-настоящему.
Про книги он знал буквально все и порой, в дни наиболее удачных сделок, бывал сказочно богат, водил девушек в кафе «Молодежное» на улице Горького и поил их шампанским. Это был целый ритуал. Они называли это «день книголюба».
– Лен, ну что я тебя, обманывать, что ли, буду? – обиженно пробасил Семеняка и снова стал объяснять про рыночную стоимость и про то, что торговаться – это не стыдно, а наоборот, таким образом ты даешь продавцу почувствовать свое уважение.
Лена снова повесила трубку и долго смотрела перед собой, на портрет Есенина, висевший на стене с голубенькими обоями.
И потом уже позвонила мне.
Мы дружили с Шульцбергер полтора года, с тех пор как встретились на закрытом просмотре фильма Тарковского «Зеркало» во ВГИКе (как мы туда попали, я уже и не помню). С ней было всегда интересно, но как только она ощущала какие-то неправильные посылы с моей стороны, то тут же надувалась и становилась очень сварливой.
Не то чтобы я чего-то терпеливо ждал, просто не хотелось ничего менять. С ней было уютно и весело временами. Да и встречались мы не то чтобы очень часто – это совершенно не утомляло.
Но в тот день она задала вопрос, который явно не вписывался в наши отношения.
– Послушай… – сказала она, тяжело дыша. – А ты можешь меня спасти?
– Господи, да что с тобой случилось?
– Понимаешь… я потеряла книгу, – сказала она, и тогда я непроизвольно расхохотался.
Как оказалось, я тоже имел отношение к этой истории, потому что книгу она брала у моего друга Сени, когда мы были у него на дне рождения.
Сеня был очень милый, добродушный, серьезный и положительный мальчик из МАИ, с которым мы шесть лет учились в одном классе.
Он торжественно подвел нас к отцовской библиотеке и указал на полный комплект «всемирки».
– Видите? – сказал он. – Вчера получили последний том.
Исландские саги, Песня о Роланде… Сервантес.
Сеня проводил пальцами по глянцевым корешкам суперобложек, и на лице его отражалось физическое наслаждение.
– Ой! – вдруг сказала Лена Шульцбергер, которая впервые на моей памяти выпила два бокала красного вина и сильно захмелела. – А мне как раз очень нужен Рабле!
По добрейшему лицу Сени пробежала легкая тень.
– Да? Действительно? – переспросил он. – Но только, Леночка, ты верни в полной сохранности, пожалуйста. Лучше, кстати, дома суперобложку снять. А то в сумке растреплется. И обернуть в бумагу или в газету. Вот. Ну и, конечно, не потеряй. А на сколько ты возьмешь?
Отступать было поздно, и Ленка затараторила, что всего на две-три недели, пока не сдаст зарубежку, а то в факультетской библиотеке есть только в старом переводе Пяста, а им в старом переводе Пяста читать не велели, там с купюрами, и что она, конечно, обязательно вернет в целости и сохранности, будет сдувать пылинки, и вообще она так благодарна, что даже не знает, как выразить свою благодарность, что прозвучало уже почти неприлично. Сеня хмыкнул и сказал, что сейчас запишет на карточку – все книги, которые он давал читать, записывались им на специальные карточки: кому дал, на сколько и специальные примечания – «для сдачи экзамена», например, это он записал по поводу Шульцбергер и, расставаясь с книгой, любовно погладил по обложке, заглянул внутрь и, удовлетворенный, вручил том Рабле пьяной девушке, как кольцо с бриллиантом.
Все это настолько мне не понравилось уже тогда, во время дня рожденья, что я хотел сказать Ленке, что лучше бы она передумала.
Но она делала все это с такой очаровательной дурацкой манерой девушки, которая попробовала алкоголь чуть ли не впервые в жизни, что я быстро обо всем забыл, да и сам, честно говоря, был в очень хорошем настроении, мне казалось совершенно очевидным, что она пошла в гости со мной к моим друзьям, как моя девушка, и это требовало осмысления, да бог с ней, с этой книгой, нет, все в этот вечер получилось удачно…
И я, разумеется, забыл про свои дурацкие опасения, а через три дня она позвонила и страшным голосом рассказала всю эту историю.
Я встретился с Семенякой и спросил, какие могут быть вообще варианты. Ну в принципе. Теоретически.
– А никаких, – лениво ответил он. – Ну, если б это была «Песня о Роланде». Или какой-нибудь том, знаешь, типа: «Николай Некрасов. Поэмы», тогда да. Двугривенный, и все дела. И замену можно найти. Но Рабле…
– А что в нем такого, в этом Рабле? – разозлился я. – В этом Гаргантюа и Пантагрюэле?
– Сам не понимаешь? – угрюмо спросил меня Семеняка.
Я упорно пожал плечами.
– Ну они же там это… сношаются, – сказал он с мягкой украинской улыбкой. – Какают, писают, жрут… И все это весело, а не стыдно. И все на благо человека, все во имя человека. Как в программе партии. Где еще такие книжки есть, где их издают? Только на английском языке, наверное.
Ну странно, по-прежнему отказывался верить я, как будто сам Семеняка мог скостить цену, в романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» тоже много сексуальных сцен. Нет, это другое, поморщился Семеняка. Это совсем другое, это советский стиль, инда взопрело и все такое. Это тоже ценится, конечно, я за Иванова бы отдал, наверное, четвертак, а то и тридцатку. Но это другое. Да ты почитай Бахтина, сказал он, там все написано. Карнавальная культура, все такое. Могу дать, у меня есть. Потом он предложил пойти выпить кофе.
Мы пошли в факультетский буфет, встали за круглые столики и стали медленно тянуть кофейный напиток «Свежесть».
– Да, я помню, – сказал я, – карнавальная культура, все дела, но слушай, Валер, мне девушку надо спасать.
– А чего спасать-то? – удивился он. – Просто не звоните ему, и все, этому Сене. Может, забудет.
– Да нет, Сеня все на карточки записывает…
– Ах это, – Валера улыбнулся с понимающим выражением лица. – Ну скажи, украли. Сумку вырвали. Хулиганы, бандиты. То, се.
– Это нехорошо, – сказал я и набухал в напиток «Свежесть» четыре ложки сахара, иначе пить было невозможно. – Беду накликаешь. И потом, ты знаешь, вроде логично идти в отказ, но это будет хуже. Сейчас цель – избавить девушку от мучений. Предложить план. А вот таким образом мы ей этих мучений только добавляем. Она не умеет врать. Она хорошая.
– Понятно, – задумчиво сказал Семеняка. – Непростая ситуация.
Шульцбергер между тем звонила мне каждый вечер.
– Ты обещал меня спасти, – твердо говорила она. – Помнишь?
– Спасу, – говорил я. – Не дрейфь. Все будет хорошо.
– А что ты делаешь для моего спасения? – настаивала она. – Какой у тебя есть план?
– У меня есть план А, – говорил я.
– А план Б? – продолжала настаивать она.
В ее голосе ощущался легкий нервический смешок.
А мне, честно говоря, было совершенно не до смеха.
В Шульцбергер как будто вселился какой-то демон. Она нашла центральную городскую библиотеку, где такой же Рабле находился в свободном доступе, и ходила туда каждый день по вечерам (библиотека работала до восьми). Она вынашивала план похищения (!), изучала расположение залов, коридоров, книжного хранилища и еще обсуждала все это безумие со мной.
– Но ты послушай, – говорила она по телефону задушенным голосом. – Смотри, ты приходишь, записываешься, мы вместе сидим, занимаемся, часов до семи, потом ты, предположим, падаешь на пол и изображаешь, что у тебя эпилептический припадок, ну знаешь, как у Достоевского, стиральный порошок я тебе дам, напихаешь перед этим в рот, начнешь биться, пускать слюни, они все станут орать, тебя откачивать, вызывать милицию, в этот момент я тихо проскользну в хранилище, возьму книгу и убегу, а ты тоже потом…
– Что?
– Встанешь и убежишь.
– Но ведь нас найдут и посадят в тюрьму.
– За Франсуа Рабле?
– Какая чушь, – говорил я. Мне и самому становилось страшно. Грабить учреждение культуры я был как-то совершенно не готов.
Тогда Лена стала много говорить о творчестве Рабле, великого французского гуманиста. Ты знаешь, я поняла, что он великий гуманист, говорила она, как будто находясь в легком бреду или под действием легких наркотиков, вот все эти пиписьки, пуканье, сплошное и бесконечное пуканье, это все очень поэтично, переваривание, пищеварение, другие физиологические отправления, ведь тогда все были очень набожные, да? – это же было невозможно, говорить в книге о таких вещах, да и вообще этот праздник человеческого тела, я все понимаю, но читать мне это неприятно, знаешь, самое обидное, что мне по-прежнему неприятно все это читать… Я сижу, читаю, читаю, как дура, и плачу, начинаю рыдать с любого места, как будто это мелодрама или роман Этель Лилиан Войнич «Овод», сцена казни. Ужасно.
Причем все это в устаревшем переводе Пяста.
Наконец она уговорила меня подойти к зданию центральной городской библиотеки имени Некрасова в момент закрытия. Мы должны были изучить, когда ее закрывают и ставят на сигнализацию.
Стоял чудесный октябрьский вечер.
Я до сих пор хорошо помню эту советскую Москву перед наступлением заморозков – когда сгущается вечером воздух и в нем висит последнее тепло, мягкий свет падает с багрового, какого-то невероятно зловещего неба, и скользят по улице Горького усталые машины, черные «Волги», «Жигули», грузовики, накрытые брезентом, а у тебя сердце сжимается от непонятной боли.
Такими вечерами я мог ходить по городу пешком сколько угодно, часами, а тут приходилось стоять и мерзнуть с Шульцбергер, которая сошла с ума.
Наконец я уговорил ее сделать перерыв и зайти в кафе «Лира».
Никогда никаких девушек я не водил ни в какое кафе «Лира», там было нереально дорого и противно.
Но в данном случае было необходимо хоть что-то придумать.
На втором этаже кафе «Лира» было страшно накурено и почему-то совершенно пусто, как будто какая-то пьяная компания ушла отсюда только что. Подошел хмурый официант и внимательно на меня посмотрел, объявив, что из горячих блюд есть только ромштекс, а из спиртных напитков – коньяк.
– Я не могу коньяк, – растерянно шепнула Шульцбергер.
Мне показалось, что официант хочет, чтобы мы как можно скорей покинули заведение.
– А коктейли у вас есть? – спросил я.
– Есть, – неохотно подтвердил официант. – «Полярное сияние», «Звездопад», «Ласточка». Вы какой предпочитаете?
Тогда я заказал «Полярное сияние», это была смесь шампанского с ликером шартрез.
Шульцбергер я решил его на всякий случай не давать.
Она смотрела на меня молча, готовая в любую минуту разрыдаться.
– Что же делать? – прошептала она громко.
Я выпил залпом «Полярное сияние», и вдруг сразу стало так хорошо, что я даже удивился.
– Лена, – сказал я, – на самом деле горькая правда состоит в том, что плана Б у меня нет, надо реализовывать план А. Он очень простой: мы подарим Сене хорошую дорогую книгу, но не очень дорогую, а просто хорошую, и во всем ему признаемся, как наш друг он должен понять и простить, это будет, как визит к зубному врачу, но если ты настроишься и перестанешь трястись, я тебе помогу и все будет хорошо. Все равно я должен в этом участвовать, потому что с меня все началось, ты не одна в этом мире, и уж тем более это не самая важная проблема в твоей жизни, поэтому давай гулять по бульварам и представлять, как мы будем говорить с Сеней, и даже веселиться. Это будет весело, правда, – уныло добавил я, потому что на ее лице появилось выражение, которое я давно изучил.
Это было выражение тупого еврейского упорства.
– Нет, – твердо сказала она, – я хочу ограбить библиотеку.
– Ладно, – решительно сказал я.
Мы расплатились и вышли из кафе «Лира», чтобы больше никогда туда не возвращаться. Мы стояли напротив библиотеки Некрасова и изучали лица выходящих из нее последних посетителей. Вечер сгустился, настала осенняя холодная ночь, зажглись фонари, из подъезда вышел служитель и странно на нас посмотрел, но нам было все равно, мы ржали во весь голос, представляя себе ограбление библиотеки.
Странным образом мой коктейль «Полярное сияние» оказался внутри Шульцбергер, хотя она его даже не попробовала. Она хохотала как дурная, а потом резко остановилась, сказав: «Пошли!»
Мы подошли к библиотеке со двора, Лена нащупала на земле здоровый обломок кирпича, выбрала окно и замахнулась всерьез. Мне пришлось принять решительные меры, я взял ее за руку с кирпичом, другой прижал к себе и поцеловал в губы.
Кирпич упал мне на ногу, стало очень больно, она плакала и смеялась одновременно, потом опять надулась.
– Неужели ты думаешь, – прошипела она, – что я все это придумала, чтобы тебя соблазнить? Ты ошибаешься, дорогой мой, я просто потеряла книгу, и меня это мучает…
– Меня тоже, – сказал я, и мы расстались в тот вечер.
Я начал медленно обзванивать знакомых. Книги, с которыми люди могли расстаться (о том, чтобы продать по черному курсу, не было даже речи), были все очень разные, иногда даже просто хорошие: например, мне предлагали Ремарка, «Три товарища», в хорошем, качественном, не макулатурном варианте, предлагали Апдайка, «Кролик» и «Кентавр» в одном томе, предлагали Луи Буссенара, дореволюционный справочник по гинекологии, Хемингуэя – «Праздник, который всегда с тобой» и «Прощай, оружие», один парень предложил три тома из собрания сочинений Сталина, предлагали очень старые издания Аксенова и четырехтомник Есенина без одного (последнего) тома, но «там, правда, только проза, письма, это все равно никому не нужно», я все записывал и обещал перезвонить.
Прошла неделя, а потом другая. Решение не находилось.
Однажды я от нечего делать взял с полки своего Рабле в переводе Пяста, это была очень старая, разорванная по мягкому тканевому корешку книга с очень смешными иллюстрациями и с черно-белой, уклончивой, но ясно намекающей на суть дела графикой.
Понятно, что это была книжка старая, в плохом состоянии, не имеющая никакой рыночной цены, изданная в «Детгизе», текст с купюрами, все самое интересное пропущено, но зато мы меняем одного Рабле на другого, в этом есть хоть какой-то смысл! Неожиданно я понял, что это единственный вариант.
Я приехал к Шульцбергер и начал тихо ее уговаривать.
– Это невозможно, – кричала она, – это неприлично, это выглядит так, как будто мы украли у него книгу, я со стыда сгорю, неужели ты не понимаешь?
Шульцбергер была настолько чиста и настолько щепетильна, что раньше я даже не мог себе представить этой проблемы в полном объеме.
– Лена, – сказал я осторожно, – скажи, пожалуйста, ну а вот если бы, предположим, тебе бы очень захотелось писать, ты бы смогла зайти в кустики, ну где-то вот во дворе или в скверике в нашем?
Она медленно покраснела.
– Наверное, нет, – печально сказала она.
– Ну и что бы ты делала?
– Наверное, умерла бы…
Она смотрела на меня так ясно и прямо, что я начал медленно краснеть. Мне стало ужасно стыдно – и за этот кирпичный поцелуй, и за то, что вот уже целую неделю я думаю о том, как буду лежать в ее постели и думать о прочитанных книгах, но, как оказалось, ничего этого не будет и быть не может.
– Помоги мне, пожалуйста, – прошептала она.
Сеня встретил нас с неприятным лицом. Казалось, что он все уже понял. Но вообще-то это чужая собственность, прошептал он мне в коридоре громким недовольным шепотом.
Да, прошептал я в ответ, но это удивительная девушка, она очень переживает.
Сеня задумался.
Он долго поил нас чаем, вертел в руках Рабле в переводе Пяста и наконец сказал с облегчением: ну ладно, я скажу папе, что вас ограбили, – и вдруг легко, радостно засмеялся.
На улице Шульцбергер прижалась ко мне плечом, крепко взяла за руку и поцеловала в щеку.
Лена, сказал я, как жаль.
Мне тоже, сказала она.
Рабле я иногда перечитываю…
Я не знаю, честно говоря, почему эти книги – тогда – так дорого стоили. Что в них было такого, что люди отдавали за них жизнь, честь и целое состояние.
Но память о том, как это было, кажется мне достойной того, чтобы ее сохранить. Хотя бы ради Лены Шульцбергер и соленого вкуса ее губ.
Очки
Это началось летом. А кончилось осенью.
Мне тогда было шестнадцать, а ей двадцать четыре. Конечно, именно эта разница поднимала наши отношения на какую-то небывалую высоту.
Мы много гуляли, разговаривали, звонили друг другу по телефону, иногда целовались. Все было хорошо.
С другой стороны, и для меня, и для нее все это было не очень просто. Именно в силу цифр, которые тогда казались пугающими. Она, например, очень боялась, что если моя мама что-то узнает, то обязательно позвонит или напишет жалобу в партком, и тогда ее обязательно исключат из партии (она была членом партии), уволят с работы и посадят в тюрьму, где она будет выпускать стенгазету.
Не раз я представлял себе, как секретарь парткома, суровый лысый мужчина в очках, в клетчатом пиджаке и с усталым лицом, вызывает ее к себе в кабинет, просит сесть, она ничего не понимает, он придвигает ей письмо через полированный стол и говорит сухо и коротко: прочтите, Светлана Игоревна. И тут она начинает рыдать.
Каждый раз, когда я брал ее за руку или прижимал к себе, она шептала мне: ты помнишь, о чем я тебя просила?
Имелось в виду – никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах ничего не говорить моей маме.
Этот шепот дико возбуждал, не по содержанию, а по форме (губы прижимались к моему уху, громкий шепот, короткий смешок), но я послушно кивал – да, да, не бойся.
Этот ее страх был для меня совершенно загадочным. Ну во-первых, с какой стати я должен был говорить об этом маме? Во-вторых, с моей точки зрения, мама ни за что не позвонила бы в партком. Моя мама вовсе не была членом партии. Скорее, моя мама даже обрадовалась бы таким обстоятельствам.
Но и мне тоже было иногда страшно. Многое непонятно. Очень важные вопросы так и оставались без ответа.
Могу ли я, например, обнимать ее на улице? Стоять с ней в подъезде? Целоваться в метро? Я не знал, что и кому я должен про нее говорить.
Непонятно, впрочем, было и многое другое.
Например, у нее слишком часто менялось настроение. Иногда она неожиданно плакала. Иногда вдруг бурно веселилась и сильно смущала меня этим.
Кроме того, она слишком много работала. Писала по ночам очень длинные и с моей точки зрения немного тяжеловесные статьи. А днем ходила на службу.
Все это время, с начала лета и до конца осени, я знал про нее буквально все. Я знал ее расписание на завтра и даже на послезавтра. Знал, где живет ее первый муж и где живет второй муж, и примерно представлял, где живет третий, хотя мимо вот именно этого дома меня никогда не водили, он был какой-то невесомый, ненадежный, несуществующий – и дом, и муж. Я знал темы всех ее статей и читал их в рукописи. Я ходил вместе с ней на интервью, дожидаясь в подъезде. Час, два, три, не имело значения. Я знал, когда она уезжает в командировку и когда возвращается, сколько денег ей выдали в бухгалтерии, и сколько она должна, и сколько останется до получки. Я знал тему ее очередного партсобрания. Вместе с ней я забирал рукопись у автора, осенние туфли из ремонта, посылку с грецкими орехами и вареньем от мамы с Киевского вокзала, вместе с ней отдавал прочитанные книги, забывал зонтик и возвращался за ним обратно в редакцию в дождливый день. А дождливых дней становилось все больше и больше.
Я еще не знал тогда, что это станет моей кармой. Все последующие за ней девушки – словно повинуясь той, самой первой, матрице – станут таскать меня за собой повсюду. Как чемодан без ручки, который носить неудобно, а выбросить жалко. Сколько часов я провел в этих бесконечных бессмысленных перемещениях из точки А в точку Б, знакомясь с незнакомцами, сопровождая несуществующие отношения и переживая внутри себя нелепые страсти.
Однажды она как-то пошла к своей преподавательнице по немецкому языку, «просто попить чайку», как она сказала. Я намекнул, что готов подождать ее. «Не знаю, – сухо ответила она. – Это займет не меньше часа сорока пяти минут». По всей видимости, она, кроме благородной цели навестить старушку, решила взять у нее еще один урок или даже целый курс, хотя давно закончила институт. Я пожал плечами. Дверь хлопнула, и я остался один в подъезде.
…Это был старый дом у Патриарших прудов.
У меня не было книжки, и я начал просто смотреть в окно. Окно выходило во двор. Сырой синеватый вечер тяжело опускался на Москву. Было довольно холодно, там, на улице. Я прижался лбом к оконному стеклу. И поджал колени к подбородку.
Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.
Вместо того чтобы спокойно лежать на чьем-то диване в одних носках и курить, я сидел тут, в пустом подъезде, на подоконнике, понимая всю нелепость этого занятия. Но оно меня увлекало.
Я смотрел, как сгущается воздух. Как дети чертят мелом на асфальте разные фигуры. Как зажигаются окна. Я хотел, чтобы она удивилась, увидев меня тут вновь.
Она снимала однокомнатную квартиру в северном районе Москвы. У черта на рогах. Туда можно было добраться только на автобусе от «Белорусской». До ее остановки автобус ехал двадцать пять минут. Плюс ожидание. Плюс давка. Обратно к метро ехать тоже было не особенно приятно. Тем более поздней осенью.
Москва в ту пору была довольно темным городом. Иногда, конечно, маячили какие-то слабо освещенные буквы: «Слава КПСС», или «Навстречу Великому Октябрю», или «Мир. Труд. Май». Но слишком много электроэнергии на эту ерунду тогда никто не тратил. Многие лампочки были неисправны, и содержание слов становилось загадочным и даже мистическим. Лампочки мигали в ночи как бы сами по себе, отдельно от смысла. Никаких сияющих во тьме огромных реклам, никаких огромных источников искусственного света – торговых центров, или крытых рынков, или платных парковок – еще просто не существовало.
Слабый свет в салоне одинокого автобуса порой был единственным подвижным огоньком на всей улице, не считая фонарей, которые горели совсем уж тускло.
В небе над Москвой еще можно было увидеть звезды.
В такое позднее время из темноты внезапно выдвигались совсем неожиданные лица. Граждане заходили в автобус и настороженно озирались.
Чаще всего это были просто усталые люди. Иногда люди, ищущие приключений по пьяному делу. Иногда – довольно одинокие в этом темном городе парочки.
На последних я смотрел с затаенной завистью. Они ласково прижимались друг к другу. Им было доступно то, что не было доступно мне. Для них было просто и понятно то, что было сложно и загадочно для меня.
Например, я никогда не мог пригласить ее в кино. Это было совсем, ну никак невозможно.
– А как ты себе это представляешь? – спрашивала она. – Идет взрослая тетя с таким малышом, и плюс к тому он еще все время к ней пристает.
– Ну а если я, предположим, твой брат? – тупо спрашивал я.
– Нет, знаешь, наших людей на такой мякине не проведешь! – вспыхивала она. А потом вдруг, сменив интонацию, жалобно просила: – Не мучай меня, ладно?
Домой она меня к себе не пускала. Как правило.
Мы часами гуляли на ее скучном бульваре имени какого-то великого советского генерала, сидели на скамейках, покупали хлеб в магазине, а если приходили вечером гости, то она посылала меня за вином – стоять в очереди вместе с алкоголиками.
Один раз даже послала сдавать белье в прачечную.
Но постепенно дни становились холоднее, и ей пришлось изменить политику.
Она стала читать мне свои статьи вслух.
Вообще для нее это был необычайно важный момент. Он был важнее всех ее мужей, важней подруг и друзей, и уж конечно важней меня, иногда важней настроения и здоровья, а иногда даже важней коммунизма – в который она верила как в торжество нравственного самосовершенствования и большой духовной работы (а не как в лозунги очередного съезда партии).
…Она очень хотела писать большие статьи в газету.
И она писала их, исступленно, по ночам, потому что днем она работала референтом в том же отделе, в котором хотела стать «разъездным» корреспондентом, а вечером у нее были дела, и одним из этих дел обязательно был я.
Поэтому, когда дни стали холоднее и я стал чаще попадать в ее однокомнатную квартиру, она начала использовать меня как первого слушателя. Вряд ли ей было важно именно мое мнение, но читать свои статьи вслух она считала необходимым. Вернее, фрагменты статей. Она проверяла эти фрагменты на слух.
Она так и писала – фрагментами, заполняя серые или желтые страницы писчей бумаги, которую я носил из редакции целыми тяжелыми сумками, – писала огромными замысловатыми каракулями. Каждый такой фрагмент был по десять-двадцать страниц. Потом из него получался абзац, ну или два абзаца.
Я, например, хорошо помню фрагмент про участкового милиционера. Этот милиционер взял шефство над девочкой из своего микрорайона, когда она сбежала из дома и стала ночевать в подвалах.
Это была хорошая девочка, которая даже писала стихи, но она больше не могла видеть свою пьяную мать, или пьяного отца, а может быть их обоих вместе, и вообще эта девочка была романтиком и стремилась к свободе, поэтому в школу ходить перестала, но участковый милиционер быстро ее нашел и буквально спас от хулиганов, от жизни в подвалах и от падения в пропасть. Он ходил вместе с ней по всем предприятиям своего микрорайона: столовым, прачечным, заводам и фабрикам, ателье и комбинатам бытового обслуживания – и устраивал ее на работу. Бюрократы устраивать на работу эту несовершеннолетнюю девочку не хотели, но участковый милиционер упорно обращался в партийные организации и комитеты комсомола, даже дошел до райкома, писал письма (вот так одно из писем попало в редакцию), он был, безусловно, человеком коммунистического будущего, хотя при этом довольно простым парнем, и наконец его стали подозревать в том, что его мотивы не совсем чисты, сначала на него написали анонимку, потом уволили, потом восстановили через суд, потом он уволился сам, и вот теперь они часто встречались и разговаривали – этот милиционер и эта девочка.
– Послушай! – сказала она и подняла на меня глаза поверх очков.
Ее глаза в этот момент сверкали. Эти рабочие, «домашние» очки были совершенно простые, обычные, как мне казалось, в такой тонкой железной оправе, но на самом деле они были тоже остро модные и заказать такую оправу можно было только по блату, в специальной блатной «Оптике» на Нижней Масловке, но об этом я узнал позднее, уже от другой девушки, а тогда я этого не знал и просто отметил про себя, что лицо ее в этих очках становится совершенно другим, более ясным и отчетливым, прорисованным и тонким, я лучше могу ее рассмотреть, и от этого пристального рассматривания мне становится жарко и душно.
– Послушай! – говорила она, подняв руку вверх и не отрывая глаз от написанного. – Только вот этот кусочек.
Слова звучали как музыка. Я слушал эту историю про одинокого милиционера, про одинокую девочку, и мне становилось тепло и светло.
– Но чего-то не хватает. Чего-то не хватает.
– А чего? – недоумевал я.
– Нужен какой-то ударный момент.
– Ты думаешь?
– Ну вот послушай… «Осень. Хлещет холодный дождь. Мокрые листья прилипают к асфальту. Кажется, что в это время года все одинокие люди еще более одиноки, чем всегда. Но я знаю, что где-то там живет человек, который ждет меня у окна, читая книгу под лампой с зеленым абажуром…»
Я выходил на улицу с горящим лицом и некоторое время просто стоял, вглядываясь в темноту.
Однажды она читала мне даже тезисы своего выступления на открытом партийном собрании. Ее попросили выступить как молодого коммуниста. Остро и неожиданно.
– Ну послушай! – сказала она и подняла руку. – «Для нас, молодых коммунистов, это не просто красивая идея, абстрактная мечта, не просто система взглядов или научная теория. Коммунизм – это прежде всего тот нравственный идеал…»
Однажды во время чтения я просто снял с нее очки и привлек к себе.
Она этого совершенно не ожидала.
– Положи куда-нибудь, чтобы не разбились, – прошептала она.
И я положил их в нагрудный карман куртки. Была у меня такая синяя куртка от индийского джинсового костюма.
Куртку я потом снял.
– Выключи свет, я тебя стесняюсь, – прошептала она.
С улицы в однокомнатную квартиру проникал слабый свет фонарей.
Потом я снял рубашку.
– От твоей кожи пахнет парным молоком, как от теленка, – насмешливо прошептала она.
Я пожал плечами.
Резко зазвонил телефон. Она вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами по полу. Я вежливо закрыл глаза.
Она долго сидела на стуле и разговаривала, завернувшись в занавеску.
Потом положила трубку и глухо сказала:
– Тебе пора домой. Слышишь? Мне надо работать.
Я быстро оделся, попрощался и тихо закрыл за собой дверь. Она уже сидела за столом и писала. А может быть, только делала вид…
Уже войдя в метро, бросив пятак и спустившись по эскалатору, я зачем-то сунул руку в нагрудный карман куртки.
Остановился. Минуту подумал и поехал назад.
Я не мог оставить эти очки у себя. Даже до завтра. Не из-за мамы. Какая ерунда. Нет, я просто знал, что она всю ночь будет писать статью.
Я хотел вернуться, но только из-за очков.
Было часов восемь. Я прикинул – полчаса туда. Потом обратно еще час. Нормально, успею даже до одиннадцати.
В ту пору я иногда приходил домой под утро, и ничего, как-то жил.
Иногда она спрашивала меня:
– Слушай, а у тебя же, наверное, есть домашние задания, уроки какие-то… Когда ты все это успеваешь?
Я ответил, что не успеваю.
– Ну и ладно! – весело отмахнулась она. – Подготовишься экстерном. Сейчас все так делают. Нынешняя школа слишком консервативна. В ней не учат мыслить. А тебе это совершенно необходимо.
– Почему? – удивился я.
– Ну ты иногда бываешь, знаешь… слишком прямолинейным, – засмеялась она чему-то своему.
В общем, путь предстоял не близкий. Туда, обратно. А сколько еще там? – задумался я.
Умные люди всегда ходили с книгой, а я нет. У меня не было удобной сумки или рюкзака, куда можно было бы положить книгу, поэтому, шляясь, я вечно придумывал разные истории, воображал себе невесть что. Как ни странно, я довольно часто ощущал себя (в этих фантазиях) в ситуации «последнего слова», то есть в моей туманной голове не возникало четкого сюжета, а возникал лишь последний, то есть самый последний момент, как бы перед смертью, или перед казнью, или перед выходом в открытый космос, или перед последним боем, когда я должен попрощаться со всем миром и вообще как-то кому-то объяснить, что я об этом обо всем думаю.
Почему я должен был так рано умереть, мне было неизвестно, но «последнее слово» складывалось в голове легко и незаметно.
«Я ухожу, – думал я в автобусе, пытаясь протиснуться куда-то ближе к середине, – я ухожу, чтобы вам всем, оставшимся, жилось светлее и, может быть, легче. Я ухожу не с тяжелым чувством своей ненужности, нет. Я ухожу, чтобы когда-нибудь вернуться…»
Прижавшись горячим лицом к стеклу, я повторял про себя эту чушь и пытался понять, где же сюжет, который объяснит мне смысл «последнего слова», и почему оно так важно, и кто его слушает.
Вдоль московских улиц стояли деревья.
Их было много. Везде.
Желтые листья, которые вскоре должны были облететь, падали на крышу автобуса, на асфальт, на тротуар. Город двигался мне навстречу, темнея. Я ехал к ней, чтобы отдать очки.
Войдя в знакомый двор, я остановился.
Что делать дальше, я не знал, вернее плохо себе представлял. Как вежливый человек я не хотел возвращаться после того, как меня попросили уйти.
Кроме того, я боялся, что буду неправильно понят. Да и сам я боялся что-то неправильно понять.
Честно говоря, мне хотелось оставить все как есть. Ровно в том же положении, в каком мы расстались.
Мне не хотелось продвигаться дальше. Я смутно понимал, что она этого тоже не очень хочет.
Тем не менее очки должны были быть возвращены.
Я подпрыгнул и сорвал с дерева кисть красной рябины. В темнеющем дворе пацаны играли в «собачку». Двое бросали мяч друг другу, а один пытался его поймать.
Я схватил одного малого за рукав, когда он побежал за мячом в кусты. У него было испуганное лицо, когда я взял его за плечо. Я ведь был большой взрослый парень.
– Знаешь двенадцатую квартиру? – просто спросил я.
– Да, – честно ответил малый.
– Отдашь? – и я сунул ему гроздь рябины вместе с очками.
– Отдам! – заорал он и понесся в ее подъезд.
Я еще постоял за углом, посмотрел, как он выходит обратно. Выходил он пустой. Ну то есть без очков.
– Ну как? Ты удивилась? – спросил я ее, позвонив ночью из-под одеяла, чтобы мама не слышала.
– Ужасно, – почти заплакала она.
– Что ужасно? – удивился я.
– Я была в старых разбитых очках, с одним стеклом… В каком-то ужасном халате. Взрослая тетка. Представляешь, что он подумал?
– Кто? – не понял я.
– Ну кто, твой мальчик! Кто-кто… Дед Пихто! – не выдержала она и повесила трубку.
…Когда это все-таки случилось и я добился своего, она спросила меня:
– Ну что, ты доволен? Ты выполнил то, что хотел?
Я не знал, что сказать. Кто знает, чего я хотел? Может быть, я хотел только произнести свое «последнее слово»? А может быть, я хотел стать настоящим коммунистом, не по форме, а по содержанию? А может быть, я хотел, чтобы эта осень длилась немного подольше, не как всегда? Ну хотя бы чуть-чуть…
Я надел рубашку и подошел к окну.
Это и была та грусть, от которой невозможно избавиться никогда. Придя однажды, она уже не уходит.
– Наверное, – тупо ответил я. – Наверное, да.
Платформа Турист
Танечка Милорадова (член ВЛКСМ с 1974 г., студентка заочного отделения Института культуры, армянка) никогда не увлекалась никаким пением вообще.
Она любила классическую музыку (Бетховен, сонаты № 14, 15, 27, 32 в исполнении Святослава Рихтера и Глена Гульда, «Багатели» того же автора, «Карнавал» Шумана, некоторые вещи Прокофьева и Скрябина в исполнении Софроницкого), она любила литературу (Цветаева, Ахматова, Пастернак, Илья Эренбург – «Хулио Хуренито» и другие ранние его вещи, Томас Манн – «Волшебная гора»), она любила красоту природы, хорошее вино, но когда некоторые ее друзья стали бесконечно бренчать на гитаре и мычать эту песенную лирику, ей пришлось глубоко задуматься.
Все это, конечно, ей претило и было даже неприятно.
Ну Окуджава. Да и то, прямо скажем, далеко не все. «Из окон корочкой несет поджаристой» – это что, пародия на дворовые песни?
Ну кое-что из Галича, но его толком никто из них не знал и петь не умел.
Уже начиная с Визбора начинались вопросы. Все эти «Кожаные куртки» она просто на дух не переносила. Не говоря уж о таких современных хитах, как «Ежик резиновый с дырочкой в правом боку». Это было просто за пределами добра и зла.
Поэтому когда ей предложили идти на «кустовой слет КСП», она, конечно, сильно удивилась.
Но тут, правда, у противоборствующей стороны были свои сильные аргументы.
– У тебя же есть хорошая палатка, правильно? – сказала Ивлева по телефону.
– Ну и что? – сопротивлялась Танечка. – Она, во-первых, родительская. Еще неизвестно, отдадут ли они.
– Отдадут. Если ты пойдешь, то отдадут, – уверенно сказала Ивлева.
Было понятно, что на палатку у всей их компании большие виды.
– Ну а что же мне делать? – тревожно спросила Милорадова. – Ну если я не могу все это слушать? Мне это неинтересно, понимаешь?
– Давай так… – спокойно сказала Ивлева. – Если тебе не понравится, я побреюсь налысо. Кстати, давно хотела попробовать…
– Скажи, а что такое «кустовой слет»? – подумав, робко спросила Танечка. – И вообще где все это будет происходить?
– Наш куст называется «Разгуляй», – торопливо объяснила Ивлева. – Место для слета еще не выбрали. Я тебе позвоню!
И повесила трубку.
Танечка посидела с трубкой, которая издавала тревожные короткие гудки. Телефон стоял на особой белой тумбочке в коридоре, чтобы всем было удобно. Она сидела на стуле и долго, даже положив трубку на место, не хотела с него вставать.
Нужно было принимать какое-то решение.
Нельзя сказать, что ее мир был слишком герметичным. Ну скажем, она как-то ездила на «картошку», от работы. Долго тряслись по разбитым дорогам, приехали в какой-то колхоз под Егорьевском, собирали картошку в жестяные ведра, спина заболела, но, пожалуй, все это было весело. Потом жгли костер, мужчины пили водку, неприлично шутили, женщины хохотали, она была одета тепло, в резиновых сапогах шерстяные носки, под курткой свитер, на голове шапочка, на руках старые перчатки, максимум неудобства – это когда надо было пойти в кусты пописать, но тут женщины сообразили, договорились, куда идти, кто стоит на стреме, как-то все это совершенно было спокойно и легко, она тоже выпила белого кислого вина половину стакана, вдруг откуда ни возьмись появилось солнце, она посмотрела на это бесконечное поле, на этот желтый лес, вспомнила стихи Пушкина, все это оказалось, в общем и целом, совсем неплохо. Ночевки, к счастью, никакой не предполагалось.
Или все эти субботники, открытые партсобрания – она работала в огромном научно-исследовательском институте, здесь такого добра было много, но все эти ритуалы были настолько проверены, даже тщательно выверены, что ни у кого не возникало вопросов: а зачем я здесь, что я здесь делаю? Всегда находились люди, которые четко все объясняли – работаем здесь два часа, эту хрень переносим оттуда сюда, а эту отсюда туда, сидим два часа, слушаем докладчика, выбираем президиум, голосуем за постановление, пропускать нельзя, чтобы не подвести Ивана Степановича, он хороший человек, а то кворума не будет.
И все было понятно!
…Ну а тут?
Вообще с этой поющей компанией ее познакомил мальчик Сережа Григорян, абсолютно русский армянин, который после этого внезапно от компании отвалился, оставив ее как бы в заложниках, а сам занялся чем-то совершенно другим – то ли йогой, то ли подпольным ивритом.
Но сказать «Нет, я к вам больше не приду» она почему-то никак не могла.
Здесь что-то ее держало, и вот теперь это непонятное «что-то» подвергалось большой, серьезной, фундаментальной проверке.
В компанию входило, наверное, человек десять. Хотя на квартире у Ивлевой (там была основная база) появлялись далеко не все сразу. Не было такого, чтобы эти люди собирались по обычным человеческим поводам – день рождения, Новый год, ноябрьские или майские праздники – как правило, в эти моменты все были как раз «на слете». А возвращаясь оттуда, всегда много рассказывали, хохотали, изображали в лицах, но эти рассказы Танечка совсем не любила, чувствовала себя чужой и всегда хотела пораньше уйти.
Очень часто они собирались по будням, звонили, например, и приглашали на вторник. Почему вторник, откуда вторник, кому удобно во вторник, она не понимала.
Как правило, говорили мало, в основном «распевались» или «репетировали», а проще сказать – бесконечно пели, пели хором, самые разные песни. Как человек может выучить столько песен, она не знала, это было неизвестное науке явление, но иногда Танечка даже пыталась подтягивать, иначе сидеть было скучно.
Наверное, в этом ее жалком «подтягивании» и было все дело, тут и располагалось это «что-то», чему теперь надлежало пройти проверку – потому что, попав один раз в эпицентр хорового пения, человек уже не мог оттуда выйти, в этом была какая-то магия – сидеть в центре звука, и она как культурный человек пыталась в этом разобраться.
Конечно, это было похоже на секту.
Да.
Но еще это были стихи и музыка. Может быть, не самые лучшие в мире стихи и не самая лучшая в мире музыка. Но иногда возникало такое пронзительное чувство, что она буквально сдерживалась, чтобы не расплакаться.
Ну и кроме того – Танечка не боялась себе в этом признаться – в этой компании (и прилегающих к ней кругах общения) были хорошие мальчики. Спокойные, доброжелательные, ироничные, разные по характеру, но какие-то симпатичные при любом варианте. Многие умели играть на гитаре, что тоже им шло. Мужчине вообще идет, когда он что-то делает руками, даже вот такое…
Ну и Ивлева.
Ивлева была очень резкой, но почему-то совсем Танечку не раздражала. Ее шутки Милорадову всегда смешили (ну вот как с этой идеей – постричься налысо), она умела интеллигентно ругаться матом, что Танечку просто завораживало, ну и многое другое. Ивлева умела быть «своим парнем», не теряя при этом присущего ей женского очарования.
Ивлева была какой-то машиной, производящей и сами события жизни, и необходимую для них энергию.
В Танечке все это пока не проснулось, и непонятно было, проснется или нет. Поэтому Ивлева была ее теоретическим курсом какой-то «другой жизни».
И вот теперь настала пора первого практического занятия.
Они приехали на станцию Турист днем – кажется, в час дня. На платформу высыпало сразу человек двести. Столько похожего, даже практически одинакового народу, да еще с гитарами, Танечка еще в жизни не видела. Пассажиры в электричке смотрели на них испуганно, просили громко не петь, кто-то попытался выставить их из вагона в тамбур, кто-то, наоборот, настойчиво лез знакомиться и общаться: какие, мол, хорошие ребята, не хулиганы.
В любом случае это была невероятно огромная толпа, которая Милорадову слегка пугала. Шли долго, растянувшись по проселку, как какая-то армия. Редкие проезжающие грузовики сигналили.
Небо между тем темнело и не предвещало ничего хорошего. Стояла вторая половина октября. Тревожное время, когда у Танечки всегда было не очень веселое настроение. «Куда я иду?» – спрашивала она себя и не могла найти ответа, ей было неудобно в сапогах, которые ей сразу натерли ноги, поскольку, кроме картошки, она ни разу их нигде не носила, а тут надо было пройти целых три километра, в этой неприятной брезентовой штормовке, от рюкзака болела спина, но главное, болело сердце, – словом, практические занятия пока не предвещали ничего хорошего.
Но постепенно она втянулась…
Большое небо в окрестностях платформы Турист, как писал поэт, «осенью дышало», но в этом не было привычного ей осеннего одиночества, ведь оно дышало для всех этих людей, которых становилось все больше и больше – колонна растянулась километра на два, а когда они наконец миновали перелесок и вышли к поляне, Танечка просто ахнула. Это было просто невероятно.
«Поляна» (так называла ее Ивлева) представляла собой гладкое, ровное как доска огромное поле с вытоптанной мелкой травой, с редким кустарником, а по обе стороны от поля поднимались небольшие пригорки, за одним из пригорков текла мелкая, спрятавшаяся в кустиках река, и все это пространство, на сколько было видно, оказалось усыпано людьми.
Люди ставили палатки, тянулись за водой с бидонами и ведрами, разжигали костры, сколачивали из бревен и досок сцену, уже, конечно, пели, настраивали гитары, она оглянулась – вокруг было несколько тысяч таких же, как она, ну или почти таких же, гавриков. По дороге ей попадались какие-то очень близкие, ну прямо до боли близкие лица, в некоторых девочках, растерянно и вместе с тем благодарно и восторженно бредущих в этой толпе, она почти узнавала собственное отражение, – то было переживание, равного которому она потом долгие годы не знала, а может, такого больше уже никогда и не было.
– Ладно, – командным голосом сказала Ивлева, – ставим палатку здесь, рядом со штабной. Танечка, пойдем за хворостом.
Ребята остановились, развернули ее палатку и начали вбивать колышки, она с интересом смотрела, как это делается, но Ивлева увлекла ее за собой. А ребята пошли рубить лапник – еловые ветки.
Лапник был, оказывается, нужен вовсе не для костра, костер будет общий, лапник был нужен, чтобы на нем спать! Это ее удивило.
– Как спать? – спросила она. – На земле, что ли?
– Ну а на чем? – засмеялась Ивлева. – Смешная ты, Танька. Конечно, на земле. Сверху лапник. Потом надувной матрас. Потом мешок. А ты как думала?
Она думала, что идет в цивилизованный поход, где все, в общем и целом, предусмотрено предыдущими поколениями людей, но оказалось, что «простудить придатки» или какие-то другие внутренние органы на слете КСП можно легко – если заранее не позаботиться о том, чтобы рядом с тобой оказались опытные туристы.
– Но тебе повезло! – на подъеме закончила Ивлева. – Рядом с тобой есть такие люди! Проблема-то в другом…
– В чем? – спросила Милорадова.
– Мои худшие предположения, к сожалению, подтвердились… – торжественно сказала Ивлева. – Он будет спать в нашей палатке.
– Кто? – опешив, спросила Таня.
– Леша Бирман, кто! – недовольно ответила Ивлева. – Я же тебе все рассказывала.
Действительно, с ее слов Таня знала о сложных переживаниях Бирмана по поводу его пассии – красивой девушки Оли Семеновой, которая прекрасно играла на гитаре и пела сильным низким голосом («контральто», думала Милорадова про себя). Впрочем, прервала она ход своих мыслей, Бирман ей не настолько интересен.
– А что случилось-то?
– Ну я же тебе рассказывала… У них там все очень сложно…
– А что сложно-то?
– Ну что-что, я не знаю что, это их личное дело. Но спать он будет у нас! Такие были последние известия.
Пособирав таким образом хворост еще с полчаса и поговорив о нелегкой женской доле, они вернулись назад.
Слет был устроен следующим образом – большая сцена, где ночью ожидался основной концерт, и несколько малых, где «кустовые слеты» выдвигали своих лауреатов и представителей.
Радиофицирована была только одна, основная.
Кустовые сцены довольствовались «живым звуком». Звук и безо всякого усиления разносился по лесу хорошо, чисто, как будто они пели в церкви.
Бросили куртки, сели на траву. Мальчики услужливо принесли маленькие какие-то то ли доски, то ли пни, быстро сделали удобные сиденья.
Слушали всякие песни, Танечка сделала над собой усилие и вся превратилась в слух. Тут, на «Разгуляе», выступали какие-то знаменитые группы из МАИ, МИФИ, МФТИ (пели они, конечно, довольно красиво), подруга Ивлева по-прежнему была в большом возбуждении, здесь вообще все было очень ярко и необычно и совсем не то, чего она ожидала, тем не менее она никак не могла избавиться от мысли, что еще кто-то, кроме них с Ивлевой, будет ночью спать в их палатке.
Наконец, когда в «кустовом» концерте образовалась пауза, она неуверенно и тревожно задала свой главный вопрос – а как технически это возможно?
Ивлева засмеялась.
– Ну ты что, дура? Придет со своим спальником, завернется, вот и все. Будет храпеть – вилы в бок. А ты что, боишься, что тебя изнасилуют?
Она обиделась и замолчала.
Началась подготовка к большому концерту.
Они с Ивлевой пошли вдоль поляны, Ивлева искала знакомые лица, все время говорила: подожди, я сейчас, – и ненадолго исчезала. Кругом звенели гитары, орали незнакомые голоса, у Милорадовой совсем закружилась голова, и довольно скоро она почувствовала себя, как Пьер Безухов в сцене Бородинского сражения. Невероятная однородность, пульсирующая энергия и странная взвинченная доброжелательность этой огромной массы людей ее завораживала, и голова кружилась все больше.
Наконец Ивлева нашла то, что искала, – «палатку с Вадимом Егоровым» – и повела ее слушать эту песенную знаменитость, но по дороге Танечка как-то отстала, затерялась и теперь стояла одна, не зная, что делать. Кто-то дернул ее за руку и повел к костру.
– Ты кто? – спросил ее весело какой-то бородатый парень в очках, свитере и огромных охотничьих сапогах.
– Я из «Разгуляя», – смиренно ответила она.
– А, конкуренты! Хочешь водки?
Она испуганно кивнула.
Все почему-то захохотали.
– Борь, ты давай осторожней, тут этот ходит, из райкома, выливают водку, слышь, – крикнул кто-то.
– Я ему вылью… – грозно сказал Боря, присел, охотничьи сапоги у него при этом смешно оттопырились, и начал как-то ласково нацеживать в граненый стакан мутную жидкость.
– Только учти, Разгуляй, это не водка, а самогон. Сначала выдохни.
Она послушно выдохнула, обожгла рот самогоном, после чего потеряла ориентацию в пространстве как-то очень уж сразу и очнулась на берегу реки Истры с тем же Борей, который бережно держал ее за руку и что-то горячо объяснял.
– Пойми, это… Это… – говорил он. – Это нужно понять сейчас, сегодня, не завтра, не послезавтра.
– Что это?
– Ну я же тебе говорю… – обиженно сказал он. – Ты что, не слышишь? Я тебя специально сюда отвел, чтобы без стукачей. Наши песни – это песни протеста! Понимаешь, протеста! Как у Виктора Хары! А эти песни – да их в телевизоре можно исполнять. В «Утренней почте». Поэтому мы и решили, что не допустим.
– Чего не допустим? – опять не поняла она, преданно глядя в его бороду.
– А вот увидишь… – сурово ответил Боря и повел ее обратно.
Все-таки какую-то часть его объяснений она пропустила, и это было обидно.
У костра уже сидела Ивлева и терпеливо ее ждала.
– Познакомилась? – весело сказала она. – Ну ты, конечно, Милорадова, даешь. Ну самых ненормальных тут нашла. Ну вот просто самых.
Сравнение с Бородинской битвой Танечку между тем по-прежнему не отпускало. «Но с кем же битва? – задумалась она. – Где враг?»
Постепенно поляна – и все это человеческое варево на ней, вся эта бесформенная толпа – приобрели другие черты. Раздались призывные крики, люди торопились, сбивались в кучи, по кучам разбегались деловитые ребята, раздавая какие-то палки. Уже совсем cтемнело, часов девять или десять, Танечке стало как-то страшно. Они с Ивлевой тоже построились куда-то, и она наконец спросила:
– Мы куда-то идем?
– Да, к большой сцене…
– А она где?
– Она у реки, там, где излучина, помнишь?
И Милорадова вспомнила, что, когда они тянулись от станции, она увидела, что большую сцену строят не на самой поляне, а у поворота реки, за маленьким пригорком, на котором, наверное, будет удобно сидеть, получается как бы амфитеатр, а за рекой начинается большое поле, за которым виднеется большой лес.
Наконец началось движение.
Люди подняли над головой таинственные палки и стали их зажигать.
– Это что, факельное шествие? – прошептала Танечка.
– Да! – раздраженно сказала Ивлева. – Сама не видишь?
Факельные шествия она видела только в документальных и художественных фильмах про ку-клукс-клан. Это было как-то совсем не из той оперы.
Но в это время стройный хор голосов грянул песню.
Поднявший меч на наш союз…Ивлева сразу подхватила:
Достоин будет худшей кары…Танечка радостно запела тоже, эту песню она все-таки успела выучить.
И я за жизнь его тогда… Не дам и самой ломаной гитары… —резко и мощно развил тему мужской хор, оказавшийся где-то неподалеку и как будто ждавший своего часа, будто засадный полк.
Песня взлетела над поляной и сверху, как луна, осветила идущих:
Пускай безумный наш султан Сулит дорогу нам к острогу…Таня шептала одними губами:
Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья.Петь во весь голос совершенно не было сил. Мурашки бежали по спине. Абсолютное чувство счастья поразило ее бедное сердце. Это было настолько прекрасно – все эти несколько тысяч голосов, при свете факелов в ночи поющих эту песню, что она почти плакала и не могла петь громко.
…Возьмемся за руки, ей-богу…Конечно, в этом был протест, да еще какой! Это был мощный, могучий, торжественный протест! Протест, подумала она, против самых разных вещей – против ужаса одиночества (в ее случае), против подстерегающих катастроф и бед (в случае Ивлевой), против безумия и болезни, но главное – против покорности. Нельзя быть такой покорной, подумала она, как я, они поют об этом! Но что же я могу сделать, верней, что я должна сделать?
Впрочем, думать об этом долго она не могла, просто не успела, потому что песня кончилась.
Это продолжалось всего несколько минут, дальше шли с факелами молча, и она постепенно отдышалась от волнения и от быстрого шага.
Яркие события между тем все никак не кончались.
Концерт начался очень хорошо, с песни Окуджавы «Сумерки, природа, флейты голос нервный, позднее катанье…», ее пела мужская группа «Облака», которую торжественно объявили со сцены в микрофон, это была «премьера абсолютно новой песни», которую «Булат Шалвович разрешил нам здесь попробовать». Пели хорошо, играли на гитаре еще лучше («Это Костромин играет», – покровительственно объявила Ивлева), песня была потрясающая и очень соответствовала ее настроению. Все это было для нее немного чересчур, она опять начала уплывать, одна песня следовала за другой, как вдруг на сцене появилось двое ребят, высокий, с длинным хайром, с гитарой, у которой был странный длинный гриф, и маленький, который стучал на бонгах и пел, играли они какие-то детские песни, довольно профессионально, но сразу вокруг начались свистки, негодующие выкрики, она сразу догадалась, что это о них говорил давешний Боря с самогоном, это была группа «Последний шанс», их тут все называли «последний шнапс», как презрительно объяснила ей Ивлева, Танечке тоже показалось, что эти двое крайне напряжены, очень кривляются, очень картинно ведут себя, совсем не по-каэсповски (можно ли так сказать? Нет, по-каэспешному), и вот они запели очередную детскую песню про ворону:
И напялила корону На такую же ворону… Ха-ха-ха-ха…В это время кто-то рубанул топором по электрокабелю, и стало тихо и совсем темно.
Эта страшная темнота и тишина опустились на поляну в одну секунду.
– Эй! – крикнул кто-то. – Вы че?
То, что рубанули топором по кабелю, она узнала уже потом, в этот момент ей показалось, что это просто техника не сработала, но темнота была полной, люди опять стали зажигать факелы, свечи, снова вполголоса напевать «Поднявший меч», обстановка была мрачной, тревожной, и она подумала, что больше не хочет тут сидеть, но одна, без Ивлевой, идти не может, потому что заблудится.
И все-таки она решила идти.
Ивлева равнодушно пожала плечами, пропустить такой важный концерт она не могла. Иди прямо, потом тропа повернет направо. Потом увидишь свою палатку, она желтая.
Таня повторяла это про себя, пока шла: прямо, направо, желтая. Больше всего она боялась, что цвет своей палатки в темноте она не различит.
Но когда она повернула, как сказала Ивлева, по протоптанной тропе направо – сзади, во-первых, раздался звук и возобновился концерт, стало не так страшно, во-вторых, тут тоже был свет – какой-то тусклый, отраженный от прожекторов на концерте, от костров, ну и в-третьих…
В-третьих, она оказалась как бы за кулисами, в той «внутренней части» слета КСП, о котором даже не догадывалась: многие ни на какой концерт не пошли, предпочитая простые человеческие радости – сидели у костра, ели, пили вино, обнимали девушек, целовались, даже играли в какие-то игры… Кидали при свете костра бадминтонные воланы, пинали мяч.
Это ее немного успокоило. И палатку она легко нашла.
Палатка была застегнута, значит, пустая, она смело вжикнула «молнией», отворила вход и залезла внутрь, внезапно натолкнувшись на чьи-то ноги.
– Кто тут? – испуганно спросил хриплый мужской голос. – А… это ты, – сказал Леша Бирман. – Тебя, наверное, Ивлева предупредила, что я тут у вас переночую. Ничего? Я уже заснул, извини.
Такого подвоха Милорадова, конечно, никак не ожидала.
– Ну а мне что делать? – капризно сказала она – и сама поразилась своей интонации, своему голосу. – Мне же тоже нужно как-то устроиться, переодеться, ты об этом не подумал, Леш?
Он встал и молча вылез из палатки. Лежал он, как стало видно, в свитере и штанах.
Сапоги надел уже там, на земле.
Помолчали.
– Але… – высунулась из палатки Милорадова. – А чего ты не на концерте?
– А чего ты не спишь? – ответил он не очень дружелюбно. – Ты же хотела устроиться, переодеться?
– Мне холодно, – честно призналась она. – Без Ивлевой я не засну. Давай лучше поговорим.
Ей очень хотелось спросить: «А что, у вас с Олей какие-то проблемы?», но она, разумеется, на это не решилась. Еще больше хотелось спросить, а вот как это бывает, на слетах, когда люди залезают друг другу в спальник в таких тяжелых антисанитарных условиях, и что они там делают, тем более что находятся в палатке не одни, но и об этом спрашивать тоже было как-то не с руки. Тогда она задала единственный пришедший в голову вопрос: видел ли он, что произошло на главной сцене?
– Видел, конечно, – сказал он. – Кабель перерубили, ты в курсе? Глупость все это, «Последний шанс» – хорошие ребята. Зачем их обижать, не пойму. Они же все равно узнают.
Танечка была потрясена.
– Как перерубили, топором? Зачем?
– Ну зачем-зачем, – улыбнулся он. – Есть настоящие революционеры. А есть ненастоящие. Вот нужно доказать, что мы – настоящие, а они нет.
– Революционеры? – робко спросила она. – То есть?
– Да ты не бойся, Тань, – успокоил он ее. – Я не провокатор, ничего такого. Никакого свержения существующего строя не предполагается. Это просто песни. Но для тебя они, например, как революция. Я же вижу.
– А для тебя? – упрямо спросила она.
– А для меня – нет. Это очень ограниченная, узкая сфера жизни. Слишком узкая, чтобы на что-то повлиять. Но здесь приятно. Ребята хорошие. Ну вот поэтому я хожу.
На что он хотел бы повлиять, она спросить не решилась.
К костру неожиданно подвалил Саша Российский, человек со странной фамилией, у него были невероятно голубые, почти прозрачные большие глаза и тонкие, немного брезгливые губы. Ивлева заранее предупредила, что он, возможно, придет и будет ее домогаться (не тебя, а меня! – важно сказала она), то есть лезть в палатку, ссылаясь на то, что ему «негде спать».
– Гони! – сказала она и посмотрела в глаза ошалевшей Милорадовой твердо и честно.
Российский взял гитару и начал петь Галича.
– Мы похоронены где-то под Нарвой… Под Нарвой… Под Нарвой… Мы были и нет…
– Так и лежим, как шагали, попарно… – задумчиво подхватил Бирман.
Пел Российский очень хорошо, а говорил мало. Ждал, видимо, Ивлеву, берег красноречие.
– Саш, извини, – осмелела Милорадова. – У нас в палатке только три места. Мне очень неприятно тебе это говорить, но это правда.
Российский засмеялся, но от костра не ушел.
Потом Российский начал читать стихи.
Пролитую слезу Из будущего привезу, Вставлю ее в колечко. Будешь гулять одна, Надевай его на Безымянный, конечно. Ах, у других мужья, Перстеньки из рыжья, Серьги из перламутра. А у меня слеза — Жидкая бирюза, Просыхает под утро.Читал он отрывисто и сурово, как будто сам прошел лагеря, ссылку, пережил другие тяжелые невзгоды или еще только собирался.
В этот момент подошла Ивлева и, увидев всю компанию, тяжело вздохнула, послала Лешу Бирмана за самогоном (самогон, как потом выяснилось, был из того же источника: «Это Борька, он всегда пораньше приезжает, заходит в соседнюю деревню и покупает», – объяснил Леша), потом достали какие-то бутерброды, начали жарить сосиски, пировать…
Потом пели все новые и новые песни, а Таня смотрела на звезды и тихо, бессмысленно, просто повторяя слова при повторах, подпевала им.
Ничего уже не соображая.
Запомнила она только один момент. Когда часа в три ночи стало уже совсем холодно, Бирман неожиданно ей сказал: слушай, ну ты не стесняйся, двигайся ближе, больная ты нам не нужна, мы ж за тебя отвечаем, ты новичок, – и накинул ей на плечи какое-то одеяло, и придвинулся ближе, и обнял за плечи, и она, почувствовав его тепло, совсем разомлела.
Российский, который тоже обнимал Ивлеву за плечи, повел себя хорошо, в палатку не полез, ушел, ближе к пяти они втроем уютно устроились, она обняла Ивлеву и мгновенно вырубилась.
Рано утром Милорадова выползла из палатки, собираясь сходить на речку, прополоскать рот и спать дальше.
Настроение было настолько хорошее, что она даже сама себе удивилась.
Через поле, через горизонт уже проникал серебряный чистый свет. «Это, наверное, часов восемь, что ли?» – рассеянно подумала она.
Около речки, когда она уже шла назад, умывшись и прополоскав рот, Милорадова заметила Бирмана и Олю-контральто, которая стояла, прижавшись лбом к его широкой груди, и страстно молчала. Подумав секунду, Танечка прокралась в палатку, натянула свитер, Ивлева дрыхла как ребенок, и пошла пешком к станции. Одна.
«Больше все равно ничего не будет», – повторяла она про себя, как заклинание.
«Больше ничего все равно…»
Ни на какие другие слеты Танечка больше не ездила, хотя с Ивлевой долго еще продолжала дружить. На «репетициях» и «распеваниях» тоже не появлялась.
Палатку ей вернули в целости и сохранности, но позднее обнаружилось, что в одном месте ее все-таки чуть-чуть прожгли, и папа долго помнил об этом.
Да, она больше никогда не ходила на слеты КСП, но в 1995 году, уже живя в Торонто и прочтя в русскоязычной газете, что «Канадское объединение клуба самодеятельной песни приглашает принять участие в ежегодном конкурсе», помчалась в ближайший молл, купила палатку, кеды, свитер, термос, тяжелые штаны, колбаски для гриля, три литра воды, взяла с собой десятилетнего сына и на машине рванула по указанному адресу, в лес, за тридцать километров.
Это было такое специальное место, огороженное, прибранное, чистое, с мангалами для барбекю, с большой удобной радиофицированной сценой, словом, ничем не напомнившее ей платформу «Турист». Ну вот просто ничем.
Но там ей тоже очень понравилось.
Не поле перейти
Марине Честик (русская, член ВЛКСМ с 1980 г.) отчим привез из рейса маленькую детскую дубленку и белую шапочку, которая ей очень шла. Зимой она ходила в дубленке всегда, даже выносить мусор. Дубленка вообще была первой вещью, в которой она почувствовала себя так хорошо, что иногда выбегала из дома просто чтобы пройтись по району.
Но даже эта дубленка не могла ее уберечь от пронзительного ветра, который буквально прожигал лицо (хоть она и пыталась закрываться воротником). Дело в том, что между микрорайоном и школой был пустырь – огромное поле с линией электропередач. Вот по нему и нужно было пройти по дороге в школу. Это было особенно неприятно ранним утром, в полной темноте, холодной зимой.
Когда позже она узнала поговорку «Жизнь прожить – не поле перейти», она сразу вспомнила про этот пустырь – дикий, бессмысленный; правда, летом на нем росли красивые цветы – кашка, львиный зев, иван-да-марья и прочее, но лето в Ленинграде было совсем коротким, а в другое время это был просто пустой кусок земли – огромный, необъятный, и там всегда был этот ветер в лицо, злой, колючий, ледяной ветер. До школы она порой добиралась вся в слезах – и от тоски, и от того, что просто слезились глаза.
На проспект Кондратьева в кооперативную квартиру они переехали с мамой и отчимом, когда Марине было, наверное, лет одиннадцать.
До того, как мама вышла замуж за боцмана дальнего плавания – это было забавно, что он именно не капитан, а боцман дальнего плавания, – они жили в коммуналке, в полуподвале, и там все дети болели легочными заболеваниями, стены были сырые, и дети заболевали – кто туберкулезом, кто чем-то еще. Существовала детская легенда, что двоюродная бабушка, которая когда-то работала прислугой – то есть не была прислугой, а именно работала прислугой, тогда так говорили – у знаменитого ленинградского актера, он играл Ленина, еще в 1930-е годы, что вот она-то, эта бабушка, и уберегла Марину Честик от туберкулеза или от другого легочного заболевания, потому что семья актера, игравшего Ленина еще в 1930-е годы, так с ней сдружилась, что разрешала привозить на дачу в Комарово свою внучку на целый месяц, и там Марина дышала сосной, пила козье молоко, хорошо питалась, и вот так бабушка спасла внучку, это была почти что сказка, как у Андерсена или Шарля Перро, но она прекрасно помнила это Комарово и слегка напряженные лица взрослых, когда она о чем-то их просила, хотя ей было всего три года и помнить об этом, по идее, она никак не могла.
Боцман дальнего плавания был добрый человек, он для Марины ничего не жалел, как-то привез удивительные разноцветные джинсы, весь класс ей завидовал из-за этих джинсов, доставленных прямо по морю, кажется, из самой Германии. Он привозил жвачку, настоящую, вкусную, как конфеты, и сильно тянучую, – на нее можно было выменять все что угодно. И Марина это ценила.
Особенно было важно, когда отчим привез целое джинсовое платье на пуговичках, это была вещь, в которой она впервые запомнила себя; разноцветные джинсы, батник, дубленка – все это тоже было очень нарядно и празднично, но в этом джинсовом платье она наконец стала взрослой девушкой, смотрела на себя и не узнавала – вот такой это был подарок.
Привозил он, конечно, и маме много вещей – и вообще дом был «полная чаша»: машина «Жигули», кооперативная квартира, дача под Сестрорецком, подарки и непрерывные улучшения жизни, маленькие, бытовые, но важные.
Единственное, что действительно отравляло Марине жизнь там, на проспекте Кондратьева, – вот это поле, необъятное, снежное и ровное как доска, с аккуратной вытоптанной тропинкой и с линией гудящих электропередач, которое каждый день надо было переходить, чтобы попасть в школу.
Но постепенно она привыкла.
Да, конечно, были в школе и проблемы – она любила Васильева, а Васильев любил Лиду Хейфец, и это было мучительно больно, но зато по этому поводу родилось много стихов и песен (она писала стихи и песни), ну или, скажем, когда приставали школьные хулиганы и однажды прилепили ей жвачку (ею же обмененную наверняка) к ее длинным волосам и пришлось выстригать целую прядь и ходить так, но она хулиганов не боялась и не придавала им никакого значения – между ними стояла как будто прочная стеклянная стена, она дружила с хорошими ребятами, юными археологами, они часто собирались, в том числе и у них на квартире, мама не протестовала, отчим часто был в рейсе, – ребята пели песни под гитару, обсуждали прочитанное.
А после десятого класса случилось вот что – мама неожиданно умерла.
Это было так: Марине позвонил дядя Женя, мамин двоюродный брат, и попросил приехать. Она как раз сдавала вступительные.
– Поживи пока у нас, – мягко сказал он. – Хотя бы несколько дней, ты же знаешь, мама в больнице, а тебе надо готовиться, что-то есть, пить… Ты не против?
Она была совершенно не против, перевезла на такси свои книжки, на ночь аккуратно почистила зубы, легла спать в неплохом, хотя и немного тревожном (поскольку во время экзаменов) настроении, – а в четыре утра вдруг вскочила от странного толчка в сердце. Все еще спали.
В шесть утра, еле дождавшись автобусов, она вышла из дома и поехала в больницу, и дежурный врач, который был не в курсе, что она не в курсе, сразу ей все сказал, и она упала на пол, потеряв сознание.
Экзамены она сдала, но с этого момента началась ее другая жизнь.
Вначале она пожила у дяди Жени с тетей Светой (пока сдавала экзамены и потом еще несколько недель), но потом, конечно, переехала опять на Кондратьева.
А еще через год она вновь оказалась в коммуналке. Отчим о ней заботился, жалел, даже опять привозил какие-то вещи, оставлял деньги на еду, но в рейсе, оказавшемся в этот раз необычайно длинным, быстро сошелся с буфетчицей, которая кормила команду.
Когда Марина Честик впервые об этом узнала, он как-то вспыхнул, быстро посмотрел на нее и сказал: «Я тебя не обижу, не бойся». И действительно, не обидел, обменяв ее долю в своей кооперативной квартире на комнату в коммуналке, где обитала буфетчица с сыном. Получился родственный обмен. Тогда пол-Ленинграда жили в коммуналках, да и сейчас в принципе живут, некоторые расселили, превратили в новые дворцы, но еще далеко не все.
А тогда она оказалась в квартире с двумя бабушками-блокадницами и еще с одним мужчиной-соседом.
Мужчина был невероятно чистоплотный, после работы он все время сидел в ванной и что-то стирал в тазике, одинокий человек, он просто обстирывал сам себя, что для мужчины, наверное, не так-то просто, и, может, по ходу дела полюбил это занятие, но тогда она этого не понимала и про себя называла его «мужчина-енот».
Мужчина-енот был страшно тихий и страшно незаметный, а вот бабушки – нет, они не были незаметными.
Потом, когда они узнали, что с ней стряслось, они, конечно, стали жалеть, любить – но поначалу смотрели на новую соседку с поджатыми губами и строго раз в четыре дня заставляли «дежурить по квартире», то есть брать ведро, швабру и тряпку – и мыть пол, драить до блеска поверхности на кухне, ставить мышеловки (что было особенно непереносимо), чистить унитаз и ванну.
Ничего этого она делать никогда не умела, пришлось учиться за один день.
Бабушки ходили за ней, пока она пласталась по полу с тряпкой, и указывали пальцем на недостаточно хорошо вымытые места, объясняли, что никакой химией у них тут пользоваться не положено и жирную плиту нужно оттирать просто железным ершиком с песком, ну и так далее.
Она в те дни как-то очень много думала об отце – настоящем, родном, о котором знала всегда и которого помнила хорошо. Он умер еще за несколько лет до мамы, как-то очень сразу после того, как они развелись, а развелись они, как была уверена Марина Честик, из-за нее.
Ну в частности, из-за того, что однажды, когда папа сидел дома с ней, маленькой, он решил пойти купить разливного пива в ларек, взял ее на руки и уронил на трамвайные рельсы.
Она была уверена, что мама развелась с ним из-за этого, и теперь, когда ей раз в четыре дня приходилось дежурить по большой квартире под руководством бабушек-блокадниц, она вспоминала этот момент, верней, пыталась вспомнить, и в голове возникали различные гипотезы – ну хорошо, ну вот он пошел вместе с ней за пивом, чтобы не оставлять дома одну, он был немного выпивши, но ведь она могла бы не проситься к нему на ручки, как это делала всегда, ведь ей было уже четыре года, она была толстая взрослая девочка, и если бы этого не случилось, родители бы не развелись, и он бы остался сейчас жив и приехал к ней сюда.
Хорошо, думала она дальше, но даже если вот он пошел вместе с ней за пивом, и он был выпивши, и она попросилась на ручки, но вот можно же было не тянуться, не вытягиваться в струнку, чтобы увидеть, как трамвай поворачивает на углу, и тогда бы он, державший в другой руке трехлитровую пустую банку, не уронил бы свою дочь на трамвайные рельсы, и не было бы этого скандала, и родители бы не развелись, и он бы остался жив и сейчас приехал к ней сюда.
Она была уже взрослая и прекрасно понимала, что у папы, хоть он и был красивым мужчиной, любившим маму, талантливым инженером, имелись в жизни серьезные проблемы, и не только с алкоголем, она понимала, что у мамы тоже, хотя она любила папу, наверное, тоже были серьезные проблемы с папой, и все случилось не то чтобы прямо вот из-за этого, но она снова и снова думала, что да, хорошо, хорошо, ну вот он держал банку в другой руке, она вытянулась в струнку и все такое, но ведь можно же было не пихать его в грудь, не отталкиваться от него, когда он сильно перехватил ее свободной рукой, сильно сжал этой рукой за ноги, пониже колен, ведь можно было не проявлять этого безумного непокорства, и тогда он бы не уронил ее на трамвайные рельсы, и она начинала безудержно молча рыдать, размазывая тряпкой этот грязный, навсегда, навеки уже грязный пол…
Но главная проблема, конечно, была совсем не в этом. Главная проблема была в том, что у нее банально не хватало денег, просто на еду и просто на проезд.
Первое время это было тяжело, но потом стало как-то ничего – ну, например, иногда случались такие дни, что совсем голяк, и она думала – ехать ли в университет на трамвае или лучше купить мороженое, и спокойно выбирала мороженое, и шла сорок минут по любимым питерским улицам, ни о чем не переживая и зная, что в конце пути она будет вознаграждена, да еще как.
Сложнее было зимой, потому что выяснилось, что в ее гардеробе отсутствует зимнее пальто – из той детской дубленки и белой шапочки она давно выросла, а новое почему-то не приобрела, или куда-то все эти вещи неожиданно делись, она не помнила, но в какой-то момент она очутилась в этой коммуналке на Петроградской одна и ровно с тем количеством вещей, которое унесла с собой, возвращаться на проспект Кондратьева и говорить с буфетчицей не хотелось, и тогда она научилась ходить зимой в толстом свитере под легким осенним пальто и в кедах, надетых на толстые шерстяные носки.
Она страшно мерзла, но почему-то не простужалась.
Бывало худо и с едой, но и тут какой-то выход нашелся, иногда, конечно, это был просто рабоче-крестьянский кефир с белой булкой, но тогда в магазинах все-таки кое-что было, и она научилась покупать дешевые консервы и даже устраивала себе пир – свежей капусты в магазинах, предположим, не продавалось или продавалась исключительно страшная, гнилая, но зато была цветная, замороженная, венгерской фирмы «Хортекс», стоила она нормально, и ее можно было обжарить в сухарях и подать на стол вместе с жареными сосисками – это было уже баловство, но довольно дешевое. Более частым лакомством (если были деньги) была вареная картошка с тушенкой, тут уже она иногда сама угощала блокадниц, и они учили ее, как правильно чистить картошку, тонко срезая кожуру. Сколько она себя помнила, люди старшего поколения всегда учили ее этой важной премудрости, даже когда ей было лет, предположим, десять.
Блокадницы также научили ее варить крупу, например пшенку (пшенка в магазине пока была, гречки уже не было) – с луком и поджаренной морковкой, да и вообще, так учили они ее, – пока в магазине есть хлеб, все это совершенно не страшно.
Увидев в очередной раз, как она готовит сама себе, блокадницы наконец решили поинтересоваться ее семейным положением, и тут началась эпоха взаимопомощи, они даже плакали, глядя на ее «худые мослы», и постоянно предлагали какого-то то ли сала, то ли еще чего-то такого, чего она отродясь не ела, кажется жареной селедки. Иногда, впрочем, ела, потому что была голодна.
А иногда есть было просто совсем нечего, и она жевала остатки хлеба, думая о том, что бояться ничего не надо, на факультете стрельнет у кого-то рубль и проживет на него еще три дня, а там посмотрим, – и с этой мыслью спокойно засыпала. Она уже знала, что пить воду на голодный желудок нельзя, курить тоже, надо думать, – и она думала.
При этом, когда появились первые деньги, со стипендии, она сразу стала ездить в университет на такси. Потому что постоянно опаздывала и было неудобно перед преподавателями.
«Вот как так получается, что денег на еду нет, а на такси ездить приходится?» – говорила иногда сама себе Марина Честик, но в общем это почему-то не сильно ее удивляло.
Тема с мытьем полов имела, конечно, продолжение.
К счастью, она умела задавать людям вопросы – простые, имеющие непосредственное отношение к делу вопросы, и люди всегда очень ценили это ее качество – так, в частности, оказавшись однажды с двумя рублями за десять дней до стипендии и понимая, что занять будет вообще не у кого, она спросила у первой попавшейся знакомой, не знает ли она, как поступают здесь люди, которые оказались без денег вообще, ну вот просто даже до такой степени, что не только запасные трусы, но и булку купить не на что, и подруга сразу все поняла, на следующий день подошла и сказала, что на биофаке требуется ночная уборщица, работа в вечернее время, шестьдесят три рубля в месяц, короче, тебе подходит.
Она мыла полы на биофаке, действительно, буквально в глубокой ночи, перетирая тряпкой скелеты, пробирки с заспиртованными младенцами, книги великих мыслителей прошлого, потом работала дворником у себя на Петроградской, скребла асфальт огромной лопатой, подметала пыль, потом давала еду животным в ленинградском зоопарке, думая по ночам, сквозь слипающиеся от усталости глаза, о том, что старая тигрица смотрит на нее немного странно при кормежке, и жизнь уже не казалась пустой и бессмысленной, она снова приобрела какой-то вкус и оттенок спелой сливы.
Такого оттенка – цвета спелой сливы – был ее единственный свитер, который служил ей основной одеждой, он был ее талисманом и ее доспехами, мужской свитер грубой вязки, на два размера больше, его оставил ей одноклассник, когда она как-то замерзла как цуцик во время байдарочного похода, и вот теперь вместе с вельветовыми джинсами (спасибо, боцман дальнего плавания, хотя бы за это) он ее спасал и от холода, и от чего-то еще более плохого – от этого треклятого сиротства, когда ты одеваешься хуже всех, не потому что страшна и нелепа, а потому что так сложились обстоятельства.
Нет! Она не одевалась хуже всех. Возможно, она одевалась лучше всех.
Она покупала театральную тушь на Невском и долго, тщательно наносила ее вокруг глаз – в результате в темном зеркале старого платяного шкафа, оставшегося в наследство, видимо, от жертв революции и большого террора, появлялась какая-то женщина с драматическим лицом и одетая притом с необычайным вкусом – этот хипповский мужской свитер, вельветовые джинсы, эти кеды…
Свитер в результате некоторых манипуляций, правда, стал несколько короче, чем был изначально, но по-прежнему был мужской, грубой вязки, огромный – но теперь между вельветовыми джинсами и свитером, особенно когда она наклонялась, всегда возникала узкая полоска спины. Это было не очень удобно в лютые холода, но зато она связала себе из оставшейся шерсти варежки без пальцев, и, второе, от этой узкой полоски спины некоторые люди буквально не могли оторвать взгляд.
Среди некоторых оказался один, звали его Володя Ерошкин, который не мог оторвать вообще, и вскоре они проводили уже довольно много времени вместе.
Иногда она шла пешком по Невскому, в своих кедах, надетых на шерстяные носки, и в осеннем пальто, заходила в какой-нибудь кафетерий погреться, брала «кофейный напиток» со сгущенкой за десять копеек, грела руки о граненый стакан и напряженно думала – зачем? Зачем с ней все это случилось? К чему ведет эта цепь событий, этих нелепых жестоких случайностей? Ведь кто-то же знает ответ на этот вопрос?
Но она не знала.
Мама совсем не хотела, чтобы она поступала на филологический, – «потеряешь год», горестно говорила она, ей казалось, что без блата туда поступить невозможно, но Марина все-таки поступила – сдав последний экзамен на пятерку, возможно именно потому, что преподаватели знали о ее внезапном горе, – и теперь яростно изучала романо-германскую литературу; после огромного дня, который начинался в шесть утра с метлы и лопаты, после занятий и сумбурной дневной жизни, после вечерней смены дворника, после сытной картошки и тушенки она начинала читать «Старшую и младшую Эдду», наслаждаясь слогом исландских саг, а чтобы не вырубиться мгновенно, жевала булку, как Иван-дурак в сказке о сивке-бурке, именно булку, а не шоколадки, потому что на шоколадки денег все-таки не было.
На факультете иногда вдруг так хотелось есть, что просто не могу, некоторые девчонки шли обедать в ближайший ресторан, там давали комплексные обеды по рубль восемьдесят, а они с подругами отправлялись в пельменную и брали порцию за двадцать восемь копеек и тот же стакан кофейного напитка со сгущенным молоком за десять, хлеб бесплатно.
Сидели долго, обсуждая перспективы, да и вообще всякую всячину.
Одна третьекурсница вышла замуж за известного на весь Ленинград режиссера-документалиста, старше ее лет на тридцать, а то и на сорок, Марина не могла понять, как такое возможно, а что ты не понимаешь, горячились подруги, ну это же другая жизнь, ну что значит другая, другие возможности, ну кому мы нужны, ну кто тебя возьмет на интересную работу, главное же не деньги, не шмотки и все такое, а настоящая работа – подруги смотрели на нее придирчиво, но с интересом, было видно, что они оценивают ее способности оседлать своего сивку-бурку, и оценивают вполне положительно, ей иногда говорили в порыве откровенности: «знаешь, а ты интересная», – но у нее уже был сивка-бурка, Володя уже заполнил целиком ее жизнь, без остатка, и она сама не понимала, как это случилось.
В зоопарк он устроился вместе с ней, кормить животных, она сначала думала, что ему тоже остро нужны деньги, а что такого, даже у домашних мальчиков бывают серьезные потребности, потом она поняла, что дело в ней, он хотел, чтобы ей не было так тяжело, и впервые за годы ощутила тепло в груди, почти расплакалась, но просто взяла его за грязный рукав спецовки и прижалась крепче. Володя пропадал у нее и днями и ночами, это началось еще на Кондратьева, когда боцман был в рейсе и скрывал свою преступную связь с буфетчицей, иногда они, дойдя, как учил поэт, до самой сути, долго лежали под одеялом и смеялись от радости, не очень хорошо представляя, что делать дальше, им было по восемнадцать, и такая неосведомленность была им простительна, иногда они просто сидели спина к спине и читали книги, варили какую-нибудь еду, типа макароны с сыром. Почуяв неладное, с ней решила познакомиться Володина мама, она привезла с собой сырую курицу, чтобы мальчик что-нибудь «съел нормальное», но сырая курица была, конечно, лишь поводом, предстояло первое знакомство, Марина пристально взглянула в зеркало, свитер по-прежнему сидел хорошо, она взяла театральную тушь и решила сделать макияж по особому случаю более тщательно, мама чуть не упала в обморок, когда ее увидела: девочка с совершенно черными глазами и длинными волосами курила, картинно сидя на столе. Но потом они подружились, и Марина вместе с Володей стала ездить к маме на блины. Выяснилось, кстати, что Володин дом не так уж благоустроен и крепок, как могло показаться по отпрыску, – папа давно уже жил не там, пропадал в каких-то зарубежных командировках, что-то преподавал, словом, это был распадающийся брак, но это не очень афишировалось, чтобы опять же не травмировать мальчика, поэтому папа приехал на Кондратьева отдельно. Марина ему очень понравилась, он долго говорил с ней о старшей и младшей Эдде, о Роланде, о перспективах, как она их себе представляет в нашей стране, – наступает время перемен, загадочно говорил он, что он имел в виду, она тогда не поняла. В подарок он оставил им огромную яркую коробку, в которой оказались презервативы, это была какая-то специальная подарочная серия, все они были ярких цветов – красного, желтого, сиреневого, как с ними поступить, они пока еще толком не знали, то есть знали, но чисто теоретически. И тогда они для прикола пошли в ванную и стали наполнять презервативы водой, они покачивали над наполнявшейся ванной этими огромными шарами, наполняли их и наполняли, оказалось, что шары получаются дико огромные и готовы выдержать какое угодно количество воды, они не лопались до последнего, когда уже держать было тяжело, а потом раздавался страшный оглушительный шум. Они плескались и хохотали, как сумасшедшие, что с ними надо делать, с этими изделиями, они научились потом, не сразу, а тогда казалось, что это такая игрушка, – коробка была гигантская, штук, наверное, на триста.
Прошло целых два года, пока Володя окончательно не переехал к ней на Петроградскую, все-таки они были еще детьми и слушались родителей, – но потом снова началась совсем другая жизнь.
В одной большой ленинградской газете потребовался корректор, это была все-таки уже интеллектуальная работа, и стоила она хотя бы немного дороже, чем работа уборщицы, корректор работал в вечернюю смену, и после учебы Марина теперь летела в Дом печати, где были симпатичные люди, вечно пившие чай и растворимый кофе, в комнате всегда стоял запах свежих гранок, – и вот эти бесконечные абзацы, которые она стала учиться вычитывать.
«Благодаря последовательной и активной внешней политике социалистических стран, решительным действиям всех миролюбивых сил удалось заметно оздоровить международные отношения на основе принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Эти позитивные перемены укрепляют надежды народов и молодежи на лучшее будущее, отвечают их коренным жизненным интересам…
В то же время, когда обостряется противоборство вокруг дальнейших перспектив разрядки, когда активизировались ее противники, тем более важны массовые выступления молодежи за мир и безопасность народов, за ликвидацию очагов военной напряженности, против происков империализма и реакции».
– Ну вот скажи… – говорила она ночью Володе. – Ну вот, например, этот кусочек. Ты четко понимаешь его смысл?
– А зачем? – пожимал он плечами.
– Ну я-то должна понимать! Если я не буду понимать, то не смогу заметить ошибку! И меня уволят. И перестанут платить эти девяносто восемь рублей, на которые мы живем. Нет? Непонятно?
– Ну чего ты горячишься? – обнимал он ее. – Да никто не заметит этой ошибки!
– Нет! – вспыхивала она. – Нет! Ты не прав… Есть люди, которые этот текст писали – понимаешь, сидели на какой-нибудь госдаче, писали, получали за это какие-нибудь, я не знаю, плюшки или другие знаки отличия… И они точно этот текст прочитают насквозь, на просвет, каждую букву проштудируют!
– А разве вам такое не в готовом виде присылают? – удивлялся он.
– Дурачок ты… Нам присылают тассовку, понимаешь ты это или нет… Это такая длинная колбаса, рулон бумаги. И с нее уже набирает наборщик! У каждого наборщика свой линотип. И черт его знает, чего он там понабирает, а мне отвечать.
– Господи, – удивлялся он, – какая допотопная система.
– А больше тебя ничего не удивляет?
– Нет, – пожимал он плечами. – Ты про стиль? Ну так это вечная история. Это вечность. Партия и правительство – они вечны, как Кощей бессмертный. Понимаешь?
Вот такие веселые разговоры они вели, но и эти разговоры не оставляли в ее душе ощущения окончательного ответа на заданные вопросы. Ну хорошо, она ничего не понимает в политике. Но в русском языке она понимает!
Как может обостряться «противоборство вокруг дальнейших перспектив»? Как можно делать подряд столько одинаковых согласований в одной фразе: «международные отношения на основе принципов мирного сосуществования государств с различным общественным строем» – ну это же бред.
Нет. Она этого не понимала.
Это было выше (или ниже) ее понимания.
Постепенно эти длинные паучьи фразы, которые обхватывают твой мозг как паутина, стали ей сниться, – а она прочитывала каждую из них десятки раз, силясь понять смысл и не пропустить ошибку. Опытная Марья Петровна учила ее ставить едва заметные черточки вокруг опорных слов, чтобы не потерять общую картину падежей и согласований, но Марина – снова и снова – не понимала, какие слова в этой галиматье опорные, а какие нет.
Страх ошибки проник в ее душу и стал казаться неотвратимой перспективой.
Ее уволят со скандалом, с волчьим билетом, а возможно еще и арестуют.
Между тем работу в редакции она постепенно полюбила. Там были свои плюсы. Этот вечный чай в корректорской или растворимый кофе с печеньем – он был каким-то очень уютным занятием, он создавал ложное ощущение домашнего тепла, от которого она отвыкла. Рядом грохотали линотипы, крутилась ротационная машина, ходили чумазые наборщики с шилом в руках, бегали взмыленные корреспонденты, а она просто сидела и читала. Или пила чай или растворимый кофе.
Были и другие плюсы – например, давали иногда какие-то заказы, и, например, она отдавала гречку, которую так и не приучилась есть, своим блокадницам, а те освобождали ее от дежурства по квартире. Да и вообще ей хотелось им помочь. Ей всем хотелось помочь. Однажды была распродажа, продавали чешские красные туфли, она впервые в жизни смогла наконец купить себе что-то вместо кед, и тут ее попросила подруга с факультета купить ей тоже, дала денег, и она купила две пары.
Ее тут же вызвали в первый отдел и наорали.
– Ты комсомолка или нет? Ты понимаешь, что это спекуляция! Я тебя в следующий раз за такое поганой метлой из корректорской выгоню! – орала заведующая первым отделом, и ответить ей было ничего нельзя, Марина это понимала и просто стояла и молча плакала.
Как-то раз ее вызвал заведующий отделом писем, морали и права Виталий Иванович и предложил перейти к нему в учетчицы писем. Она была счастлива. Теперь ей не нужно было выпутываться каждый день из этой адской, страшной паутины слов.
Она регистрировала письма, делала пометки на сопроводиловках, вела статистику, подкалывала типовые бланки с ответами, а однажды напросилась у Виталия Ивановича в командировку – в недалекое Колпино, писать об ученых, потом ее заметки стали больше и увереннее (ну ведь не зря же она писала стихи и песни и ходила в литературный кружок во Дворец пионеров!), а еще через два года, уже во время перестройки, она писала о марше политзаключенных и их детей, была такая акция на Невском проспекте, и там она написала, что когда-нибудь Коммунистической партии предстоит держать ответ за свои преступления, и к этому суду истории надо готовиться уже сейчас.
– Ты что, офигела? – спросил ее Виталий Иванович, спокойно вычеркивая этот абзац.
– А что, разве неправда? – с вызовом переспросила она.
А потом ей все-таки пришлось еще один раз приехать на проспект Кондратьева – оказывается, ее согласие на обмен оформлено неправильно и нужно написать его заново. Боцман был спокоен, буфетчица крайне приветлива и приглашала в гости, ну что ж ты у нас совсем не бываешь, совсем не бываешь. Марина выглянула в окно и увидела это поле. Огромное и, как всегда, засыпанное белым снегом. Теперь тропинок стало больше. Они были как заячьи следы – и вели совершенно в разные стороны.
А потом был стройотряд на пятом курсе, Казахстан, коровник, который они там строили, кирпичи, раствор, мозоли, жара, болели руки, но она знала, что вечером у костра они будут пить вино и она прижмется к плечу Ерошкина, и это тоже была какая-то отдельная, очень короткая и очень яркая жизнь, она уже знала, что сможет спокойно и безо всяких усилий (почти безо всяких) принять форму этой жизни и прожить ее без лишнего напряжения, а потом было много всякого, яркого и серого, она сбилась со счета – сколько же жизней ей удалось прожить, маленьких и больших, но, может быть, эти разноцветные шары, которые они наполняли с Ерошкиным водой и хохотали в ванной, – они были важнее городов и стран, и даже некоторых людей, и даже некоторых эпох, в них было нечто такое, нечто такое, нечто такое…
Когда через много лет мы с ней неожиданно выпили и разговорились (она в ту пору жила уже в Москве и некоторое время работала со мной в одной редакции) и она вдруг рассказала мне про это бесконечное, белое снежное поле, я осторожно спросил ее:
– Ну, так ты перешла? Смогла?
Она сначала пожала плечами, а потом рассердилась.
– Ты меня о чем спрашиваешь вообще: в чем смысл жизни? – резко спросила Марина Честик, допивая стакан вина.
– Ну в принципе да…
И тогда она перевела разговор на другое.
«Оптика» на Масловке
Настя Иванова, русская, 1959 г.р., член ВЛКСМ, брюнетка с бледной кожей и красивыми, как бы слегка туманными серыми глазами, страдала врожденной близорукостью, которая у нее развивалась стремительно, достигнув к шестнадцати годам уже минус девяти – при этом она ненавидела, как и все девочки ее возраста, носить очки.
Ненавидела она их носить до такой степени, что когда мама посылала ее во двор с мусорным ведром (они жили на последнем этаже блочной пятиэтажки на Самаркандском бульваре) – Настя Иванова поступала так: в полутемной парадной, спустившись на первый этаж, она снимала с носа проклятые очки, открывала ключом почтовый ящик (мама просила заодно его проверить), опускала туда очки и выходила из дома. Потом она проходила по памяти три подъезда, поворачивала направо, туда, где в глубине, под деревьями, стояли мусорные баки, практически в кромешной тьме переворачивала дурно пахнущее ведро, оглядывалась в поисках знакомых и, не найдя таковых, также по памяти шла обратно, снова на ощупь открывала дверь подъезда, всовывала ключик в скважину, распахивала почтовый ящик, доставала очки, нацепляла их на нос и бежала вверх по лестнице.
Да, это были ее три минуты глупой свободы от очков – но выходить во двор в очках было выше ее сил.
Надо ли говорить о том, что когда она шла в школу и утром выходила из дома, она точно так же снимала очки и снова шла наугад? Это «наугад» превратилось у нее в целый образ жизни – потому что в очках жить было решительно невозможно. Они ее портили.
Они скрывали все – и бледную кожу, и черты лица, и туманные серые глаза, и вообще делали ее какой-то дурой.
Так, например, она научилась распознавать номера автобусов по каким-то одним ей известным сочетаниям непонятных бликов и штрихов – на их остановке было три автобусных маршрута, из них только один нужный, 206-й, и вот она садилась в него всегда безошибочно, определяя без очков его номер, хотя блики и штрихи выстраивались в загадочную картинку в зависимости от погоды и других неожиданных факторов.
Когда к ней приближался какой-нибудь человек – в школе, или во дворе, или на улице, она волновалась, потому что могла узнать его только совсем вблизи, и было совершенно непонятно, с какой вестью эта зыбкая фигура, ритмично колышущаяся в тумане, подходит к ней: с доброй, злой или нейтральной?
Это ее внутреннее волнение было постоянным. Люди вокруг нее были неузнаваемы до того момента, пока не подходили к ней близко-близко или не кричали знакомым голосом: «Привет, Иванова!»
Очки она надевала, лишь когда читала книгу или смотрела кино. На уроках она сидела в очках только во время письменных работ.
Зная об этой ее ужасной привычке, мама сердилась на нее и даже порой повышала голос:
– Ну как ты не понимаешь: врачи говорят, что если ты не будешь носить очки постоянно, то не сможешь улучшить зрение! Ты не сможешь родить! Ты не сможешь работать! Сколько денег и времени мы угрохали на это лечение, можешь ты понять или нет, Настя?
И верно, сил и времени на лечение близорукости было потрачено немало. Были поставлены на ноги все родственники и знакомые, найдены «лучшие специалисты», проведена куча исследований, эти специалисты с умным видом подолгу разговаривали с мамой, рассовывая при этом пятерки и трешки по карманам белых халатов, Настю заставляли делать массу упражнений, укрепляющих «глазные мышцы», это было неприятно и даже больно поворачивать зрачки туда и сюда сотни раз, на ночь и среди дня, но главное – ей снова и снова выписывали очки и требовали носить их не снимая, самое главное – не снимая! – что было совершенно невозможно, невероятно и немыслимо…
Правда, случались и неожиданно приятные моменты. Особенно ей нравились лечебные процедуры с книгой – когда ее заставляли читать подолгу, раз в полчаса сменяя очки со специальными линзами. Она хорошо помнила, как читала в поликлинике Сетона-Томпсона, читала час, полтора, это было волшебно. Иногда ей закапывали в глаза, когда проводили исследования глазного дна, – мир совсем расплывался, и можно было не идти в школу, это тоже было неплохо…
В институте Гельмгольца, куда они ездили с мамой до «Лермонтовской», приходилось ждать часами, томиться в очереди, она сидела с книжкой и посматривала по сторонам: вокруг тоже сидели и ждали несчастные старики и старухи, все в очках, недовольно переругиваясь, рассказывая о своих ужасных страданиях, это были люди с ее точки зрения совсем уже старые, невыносимо больные, и образ человека в очках навсегда связался у нее в голове с этой старостью, с бессилием и слабостью, поэтому она уверенно шла сквозь этот неясный мир без очков. Да, он был опасен, туманен, порой неразличим, но он был свеж и радостен. Она выучила наизусть свои маршруты в метро, поскольку указателей читать не могла: где поворачивать, сколько шагов идти до лестницы, на какой эскалатор садиться – да, она выучила все это, красный и зеленый глаз светофора обманчиво мерцал вдали, лица прохожих проплывали, как корабли береговой охраны, безымянные троллейбусы шуршали мимо, неразличимые улицы ждали ее, и в этом даже что-то было. Иногда, совершенно случайно, вдруг, надевая очки посреди улицы, она с ужасом отмечала про себя липкие взгляды взрослых мужиков, которые то и дело стремились приблизиться, черные от копоти стены домов и уродливые бетонные заборы, а на их фоне усталых, как будто измочаленных, несвежих людей. О нет, этот мир в своем нерезком состоянии был гораздо лучше! И она пыталась проскользнуть внутрь него так, чтобы нигде не удариться и не споткнуться, и ей это вполне удавалось.
Все изменилось в тот день, когда папа пришел с работы и взволнованным голосом сообщил, что «проблема, кажется, решена», что он «нашел одну женщину», «очень милую» (естественно), которая поможет с оправами, и Настя наконец сможет носить очки.
Сначала она не поверила и вообще хотела пресечь весь этот ненужный разговор, ограничивающий ее свободу, как вдруг папа жестом фокусника достал из портфеля несколько оправ и разложил их на столе. Вот это Италия, сказал он, это ГДР, чуть подешевле, это Югославия, выбирай. Неверной рукой Настя примерила очки и, подойдя к зеркалу, обомлела.
Конечно, очки были с простыми стеклами, туда еще нужно было «ставить оптику», но и невооруженным взглядом Настя видела, как они изменили ее лицо.
Тогда как раз были в моде очки с огромными оправами, и эти невероятно изящные, плавные, естественные формы, как оказалось, ей очень шли – да и вообще тут не было никакого сравнения с тем, что продавалось в обычной «Оптике», это были не оправы, а почти произведения искусства, причем в каждой было что-то свое, волнующее, непохожее, и она не сразу поняла, какие ей идут, а какие нет.
Стоили эти оправы, правда, бешеных денег – что-то такое от двенадцати до восемнадцати рублей, она просто ахнула, но потом подумала, что, наверное, надо в конце концов соглашаться.
Так в их жизни появилась Татьяна Сергеевна – волшебная женщина, скромная, улыбчивая, совершенно спокойная, ни сном ни духом не выдававшая своего волнения в тот момент, когда Настя оставляла у нее на столе – как правило, в конверте – деньги, совершенно другие, чем было означено в ценниках обычных, то есть советских, очков.
Сначала Татьяна Сергеевна работала в Первой аптеке на улице 25-го Октября, а потом из центра переехала подальше, в большую и просторную «Оптику» на Нижней Масловке, которая в то время еще не была частью адского третьего транспортного кольца, а была обычной, тихой московской улицей – по ней ходили трамваи, ее перебегали пешеходы, посреди нее чинно стоял бульвар, где сонные с утра люди меланхолично гуляли с собаками, и, попадая на нее со своего Самаркандского бульвара, Иванова даже несколько завидовала тому, как живут москвичи на этой счастливой улице.
Теперь, когда появились эта «Оптика» на Масловке и Татьяна Сергеевна в своем синеватом халатике, в жизни Насти Ивановой начался какой-то новый этап. Сначала она это не очень осознавала – было просто некогда все это осознавать. Нужно было поступать на вечерний, брать какие-то справки, сдавать экзамены экстерном, готовиться с репетиторами – и то, что новые красивые очки постоянно были на ее лице, воспринималось как-то естественно – ну а как же без них?
Эта первая оправа вообще была совершенно волшебной, она упросила папу выбрать самые дорогие, итальянские, очки – с огромными стеклами, которые по ее просьбе сделали дымчатыми, с плавным изгибом красноватой дужки, с какими-то невероятными золочеными клепками, она не хотела с ними расставаться даже ночью и порой долго лежала, читая учебник, просто чтобы чувствовать их на себе. Мама тоже была счастлива.
В этот же момент случился – как-то сразу – ее первый и второй серьезный роман в жизни: это были два друга, Синявин и Кудряшов. Один был по натуре аристократ и из «хорошей семьи», ироничный парень с внимательным взглядом, второй из семьи более «рабоче-крестьянской», как говорил папа, но невероятно хорош собой, высокий, спортсмен, добрый и с чистой душой, как говорила мама. Оба они перестали быть ее одноклассниками, когда она перешла в вечернюю школу на Маяковке, чтобы сдавать экзамены экстерном, но отношения не прерывались. Кстати, способствовала и погода – весна. Впервые она сходила с мальчиком вдвоем в кафе, кажется это был Синявин, и вообще Москва открылась ей новыми красками – оказалось, что это очень праздничный город, и четкие очертания ничуть его не испортили.
Особенно она любила (теперь) этот плавный переход от многолюдной Пушкинской площади вниз к проспекту Маркса, когда тебя грозно и торжественно со всех сторон обступали огромные сталинские дома, пространство очищалось и как будто катилось вниз, к кремлевским башням, воздух становился более ясным и свежим, и казалось, что в нем проступает какое-то другое будущее, дразнящее и горькое. Взявшись за руку с Синявиным, она не раз проходила этот маршрут, иногда думая о том, не снять ли по старой привычке очки, чтобы ощутить этот мир прежним – влажным и туманным, пугающим и радостным в своей неразличимости, острым и печальным, оттого что она не может его до конца увидеть, и каждый раз она отказывалась от этой мысли, аккуратно снимая очки лишь в тех случаях, когда Синявин властным и очень взрослым движением привлекал ее к себе, чтобы поцеловать. Куда девать очки при этом, она не знала, поэтому иногда просто засовывала их в верхний карман его куртки, что каждый раз вызывало его здоровый смех.
Она улыбалась.
– Ну а куда я их дену?
Потом выяснилось, что у Синявина одновременно был бурный роман с ее одноклассницей, и начались долгие, надрывные отношения с Кудряшовым, который часто стал приезжать к ней домой «с новыми записями» и тревожно сидеть на кухне, выпивая один стакан чая за другим. Записи она, конечно, слушала, записи были хорошие – «Пинк Флойд», «Йез», «Везе Рипорт» и так далее, – но была начеку, потому что ситуация складывалась какая-то нелепая. Очки, конечно, ей приходилось снимать, потому что отпускать Кудряшова совсем просто так было бы, конечно, тоже немилосердно.
В этих случаях она аккуратно клала их на книжную полку, которая висела как раз рядом с креслом и диваном, где они с Кудряшовым располагались (то там, то там).
В эти моменты домашний мир вновь обретал прежнее качество – неясности, где-то там, очень далеко, тикали стенные часы, туманное пятно на еще более туманной стене, который час – непонятно, и в этом было что-то хорошее. Тревога, которую она чувствовала всегда, каждую секунду, с самого раннего детства, уходила куда-то глубоко внутрь, она не пряталась теперь в каждой детали, в каждой черточке бытия – в уголках книг, в крае стола, в рисунке паркета, нет, тревога, когда Настя снимала очки, становилась просто частью ее самой, и с этой горькой тревогой она раскрывала губы, но очень осторожно, уступая спортивному натиску.
Впоследствии выяснилось, что в этот волнующий момент окончания школы вообще все встречались со всеми, это ее совершенно не возмущало, в это выпускное лето почти все происходящее казалось ей правильным, значительным и ярким, но ситуация изменилась осенью, когда стало холодно и дождливо и она все-таки поступила, хотя и с одной тройкой, на вечернее отделение и одновременно стала работать в одном пресс-центре секретарем, потому что нужно было иметь свои деньги и зарабатывать «в том числе и на очки», как сказала мама.
Действительно, очки были дорогие, но одной пары, конечно, ей не могло хватить.
Добрейшая Татьяна Сергеевна объяснила ей, что нужны отдельные очки для чтения, да и вообще, сказала она, внимательно и с улыбкой глядя ей в глаза, ты же не носишь одно платье все время, правда? Очки – это такая же вещь, женский аксессуар, они должны быть на разные случаи жизни, ну как минимум две оправы, а то и три.
Ну да.
Сначала она купила вторую пару в тонкой стальной оправе с каплевидными большими линзами, «как у Джона Леннона», тогда и они тоже были в моде, и решила, что это будут как раз ее очки для чтения; правда, они ее делали какой-то беззащитной, и что-то, конечно, в этой усиленной беззащитности было, но вообще-то беззащитность – это не для улицы, а, наверное, все-таки для домашнего употребления.
Потом она вставила в те самые первые очки линзы-хамелеоны, которые темнели на солнце, и это была очередная революция в ее жизни – она не просто выглядела в этих своих новых очках прекрасно, так еще эти новейшие (тоже довольно дорогие, рублей по пять каждая) линзы, великое изобретение человечества, скрывали сам факт ее близорукости, которой она по-прежнему, по детской привычке, стеснялась и не хотела, чтобы каждый встречный об этом знал, – получалось, что она просто идет по улице в модных темных очках, что было еще более эффектно.
И тогда ей потребовалась еще одна пара, оправа, может быть, не такая большая, не на пол-лица – Татьяна Сергеевна долго подбирала, но подобрала оригинальную оправу, как она говорила, витые дужки в виде змейки, странные полукруглые линзы, синеватый отлив, все красиво, но немножко холодно.
Какие очки в какой день надевать – Настя, честно говоря, не знала. Все-таки ей больше нравились те, первые. В них ее лицо было нежнее. Мягче. Но и эти, вторые, пусть тоже будут – они, предположим, больше подходили к каким-нибудь ярким брюкам, которых у нее, правда, пока не было.
Словом, жизнь ее сильно изменилась благодаря этой «Оптике» на Масловке – теперь она видела каждого человека ясно и понимала, зачем и с какой целью он к ней подходит.
Входя в царство Татьяны Сергеевны – в эту самую «Оптику», Настя каждый раз испытывала очень сложное чувство. С одной стороны, чувство жалости к тем простым людям, которые вертели в руках обычные советские, дешевые оправы (а они были выставлены на витринах во множестве и все были похожи одна на другую), – это были люди, которые привыкли к такой жизни, смирились с этим положением вещей, и она их не понимала, но, конечно, жалела за это безвыходное положение и угнетенное существование. С другой стороны, еще одним чувством в этой прохладной, просторной и скучной «Оптике» был страх, некоторое волнение перед самой процедурой.
Дело в том, что привыкала она к новым очкам всегда долго и мучительно. Иногда три дня. Иногда неделю. Татьяна Сергеевна ее ласково каждый раз предупреждала, что будет трудно, придется привыкать, но каждый раз это было довольно тяжело. Кружилась голова, в транспорте слегка тошнило, читать в новых очках было вообще невозможно, мир снова становился нерезким и загадочным.
…Именно в таком состоянии Настя Иванова в марте 1980 года отправилась в мастерскую художника.
В пресс-центре одного научно-исследовательского института, куда она устроилась сразу после школы, Настя проработала недолго. Вскоре ее однокурсник и близкий товарищ Валентинов, с которым когда-то тоже намечался роман (кстати, абсолютно, полностью близорукий человек, как и она), – устроил ее работать в редакцию детского журнала.
В этом всесоюзном детском журнале она отвечала на детские письма, выслушивала начальственные истерики, смеялась шуткам, делилась новостями и сплетнями, которых в любой редакции всегда немало. Но был в этой новой жизни еще один момент, который ее необычайно привлекал.
Этот журнал был цветной и иллюстрированный, все 64 полосы печатались новым офсетным способом, к каждой странице прилагался цветной оригинал – «картинка», и потому в редакции всегда бывали художники.
Много художников.
Один из них, Василий Трубников, пригласил как-то Настю Иванову к себе в мастерскую, «на сейшен», как он сказал, да ты не стесняйся, это же мастерская, там все демократично.
Мастерская находилась на Верхней Масловке, и она, направляясь по указанному адресу (сам Трубников побежал вперед закупать сухое вино и «кое-какую закуску»), решила по дороге зайти в свою «Оптику», поскольку Татьяна Сергеевна давно уже приглашала забрать очки с новыми линзами.
Это были те самые «оригинальные» очки, которые она носить пока не решалась, в том числе и потому, что линзы к ним были подобраны не совсем удачные, «наши», а нужны были какие-то другие, «не наши».
Приглашение от художника Трубникова поступило как-то внезапно, да и вообще она волновалась, ведь пригласили ее одну из всего многочисленного женского коллектива – кстати, а почему? Да и одета она была в тот день совсем не празднично, да и многое вообще хотелось бы подправить в плане прически и прочих мелочей… И вот, повинуясь какому-то неясному порыву, она зашла в «Оптику» и забрала эти новые очки, решив их сразу надеть.
Но самое главное – и об этом не раз потом Настя вспоминала со смехом, но вместе с тем и с раскаянием, – что свои старые очки она оставила почему-то в «Оптике», то ли для какого-то мелкого ремонта, то ли просто забыла.
Последствия этого шага были, конечно, ужасны. Если первые сто шагов она прошла в какой-то эйфории, не замечая ничего вокруг, то дальше у нее резко закружилась голова, и она, решив не рисковать и не попадать под трамвай, их просто сняла и пошла дальше по своей старой системе – наугад.
…Самое поразительное, что отсутствия очков никто не заметил.
Помещение поразило ее своими размерами. Потолки уходили куда-то ввысь, как в храме. Сколько там было метров, непонятно, она даже из любопытства спросила, но это лишь вызвало новый взрыв хохота – никто точно не знал. Выросшая на улице Большая Коммунистическая в старом дореволюционном доме – Настя Иванова, конечно, представляла себе, что такое бывает, но привычные 2.30 в их квартире на Самаркандском делали в ее глазах – притом глазах, лишенных резкости восприятия и точных пределов, – эту мастерскую каким-то волшебным местом для волшебных людей.
И да, это действительно было так.
Мастерская была настолько высока, что в ней имелся даже второй этаж, «антресоли», куда следовало добираться по узкой лесенке. Настя попробовала, опасаясь рухнуть, но все получилось. Там, на антресолях, имелся рабочий кабинет – стол, стул, диван и даже какая-то «дверь в заднюю комнату», куда она не решилась заглядывать, вообще все здесь было настолько интересно, что ей периодически хотелось надеть очки, но вместо этого она прибегала к известному способу всех близоруких людей – щурила один глаз, помогая себе пальцем и превращая глаз в такую щелочку, сквозь которую хоть что-то еще было видно. Так она смогла разглядеть гостей, здесь были все знакомые ей художники и куча незнакомых, а также практически весь отдел писем всесоюзного детского журнала, а также практически весь отдел комвоспитания. Художники были разные – молодые и старые, бородатые и безбородые. Еще она разглядела несусветную пыль на огромных окнах до потолка, разглядела штабеля холстов, уложенные вдоль стен, а также скульптурные работы – Владимир Ильич Ленин в разных видах, два Брежнева и макет станции метро «Савеловская», которая еще не была построена, а только лишь проектировалась. Трубников увлеченно резал вареную колбасу и открывал банки со шпротами и сайрой – оказывается, у него сегодня день рождения! Это было встречено присутствующими с огромным энтузиазмом, криками и поцелуями, однако подарка никто не принес, поэтому всем девушкам велели показать художественный номер, но до этого, слава богу, еще не дошло, другие художники ушли за водкой, и в паузе Трубников начал показывать ей свои работы.
Наверное, это был самый мучительный для нее момент того вечера. Он доставал холсты и один за другим демонстрировал ей, ставил их на стул и долго, искренне, медленно подбирая честные простые слова, объяснял их происхождение, замысел и композицию. Ей было жутко неловко, Трубников был человеком довольно взрослым, с биографией, и было заметно по его взволнованному голосу, что именно до нее, Насти Ивановой, ему важно донести содержание работ, и даже, как внезапно подумала она, все остальное, весь этот «день рождения», с толпой собравшихся внезапно гостей, был тоже ради этого.
Но дело в том, что она не видела буквально ничего, складывая из цветовых пятен и глухого голоса какие-то свои, только ей понятные впечатления. Ну это так, соцреализм, конечно, но все же, видишь, я тут немного в мистику ударился, – он коротко засмеялся, из чего она сделала вывод, что это колхозный пейзаж, где на первом плане церковь и, возможно, какая-то птица, издали похожая на ангела. Ну это женский портрет, говорил он, ожидая реакции. Здорово, шептала Настя, он радостно смеялся, «поработать еще над ним нужно, немного фигуру прописать». И так продолжалось полчаса, пока наконец не вернулись гонцы с водкой и не раздался в прихожей звонкий женский смех.
Потом все как-то завертелось, и стало немного полегче. Настя не всегда угадывала говорящего, и ей опять приходилось прижимать пальцем уголок глаза, чтобы сделать щелочку и попытаться разглядеть, что это за таинственный незнакомец, который иногда, впрочем, оказывался вполне себе знакомым.
Из-за того, что она мало что видела, гул голосов в ее голове становился все громче, это было абстрактное сонмище звуков, из которых порой доносился радостный хохот. И впрямь становилось все веселее и веселее, художники обычно рассказывали анекдоты на одну и ту же тему – о том, как делали «Ильича» или другую «наглядную агитацию», в их рассказах тема разрасталась и приобретала совсем фантасмагорический оттенок: известный анекдот про Ленина с двумя кепками, одной на голове, другой в руке, обрастал все новыми подробностями, сидящий Ленин, как оказалось, стоил значительно дороже, мелькали баснословные цифры – пять тысяч, десять тысяч, Ленин с тремя руками, Ленин с половым членом, потому что если встать к нему вот так, на девяносто градусов, то все будет видно, раскосый Ильич в Казахстане и Киргизии, Ленин и Крупская, грудь у Крупской на Тургеневском бульваре, которая оказалась слишком велика, и ей пришлось делать накидку, новый взрыв хохота. Постепенно все сползало в игривую плоскость, пошли шутки над Михалычем, это был художественный редактор всесоюзного детского журнала, шутки были над его ослабленным состоянием, слишком много сил отдал производству, девушки сначала отказывались понимать фривольные намеки, но пришлось объяснить, что у Михалыча новая девушка, – и то ли от вина, то ли от того, что у нее в связи с непривычной оптикой закружилась голова, Насте стало плохо и захотелось уйти.
Но уйти не получилось.
Как будто специально для нее, разговор про Ильича вдруг притих, начались спокойные разговоры о знакомых, кто в какой командировке, кто занят офортами, кто рисует мультфильм, и она вдруг подумала, что в этой компании ей намного легче, чем в любой другой, потому что здесь настоящие люди, не какие-то придуманные в литературе персонажи, как в ее редакции, не измусоленные жизнью, как на улице, а живые – жаль, что она не может взглянуть на них с благодарностью. Дальше течение вечера совсем оторвалось от ее сознания, кто-то включил магнитофон, кто-то пошел на кухню кипятить чай, Трубников с другим художником, Юрой Баренцевым, огромным бородачом в грубошерстном свитере с огромными руками, спорили о Солженицыне, которого они называли Солжем. И вдруг она очнулась, когда ее уже перенесли на какую-то кровать неизвестно где, и кто-то жарким шепотом спросил, как она себя чувствует, бережно потрогал ей лоб. Она не узнала голос, попробовала посмотреть сквозь щелочку, это тоже не помогло, и тогда Настя громко спросила:
– Простите, а вы кто?
Повисла пауза, после чего девчонки непроизвольно прыснули, вслед за ними захохотали художники, и все опять собралось в какую-то единую гармоничную картину.
Возможно, этот вопрос спас ее от какой-то неприятной сцены, возможно, он просто разрядил обстановку, но после этого все как-то стало тихо и нежно, Настя, отсмеявшись над собой и над другими, смотрела в огромный невероятный потолок, вдыхала резкие запахи масляной краски и думала о том, что этот нерезкий мир все-таки лучше резкого, но с ним ей пора расставаться навсегда, а то вот так случайно выйдешь сослепу замуж, и что тогда делать?
Эта мысль показалась ей смешной.
И грустной.
В этот момент в мастерскую к Трубникову зашел я, мы столкнулись с Настей в дверях, в прихожей, я пришел, она уходила, она узнала меня по голосу, на лице застыла дрожащая улыбка человека, который вежливо и покорно улыбается всем, потому что с трудом различает лица и голоса, я спросил ее, не надо ли проводить, но она ответила твердым отказом.
Настя в этот вечер вышла из знаменитого дома на Верхней Масловке, не совсем понимая, куда ей идти. Сверху над крышей дома горели в ночи огромные буквы: СЛАВА КПСС.
И она вздохнула с облегчением.
Все было хорошо.
Теория упругости
1
Зимой тоже нужно было в чем-то ходить…
Настя Гордон (русская, член ВЛКСМ с 1980 г., не замужем, младший лаборант научной библиотеки Московского института стали и сплавов) осознала эту простую мысль еще в сентябре. И она, эта мысль, пронзила ее своим лютым холодом и свинцовой неизбежностью.
Дело в том, что ее любимое синее пальто окончательно пришло в упадок. В упадок пальто приходило долго, это было очень хорошее пальто, короткое, сильно приталенное, с длинными вертикальными карманами, оранжевыми огромными пуговицами и главное – с небольшим коричневым меховым воротником, который ей был очень к лицу. Она носила его без шапки, только в тридцатиградусный мороз натягивала небольшой вязаный шлем, который ее не украшал, а лишь подчеркивал временный характер этого положения, когда волосы приходилось обуздывать.
Но дело в том, что мама достала (именно достала, а не просто купила) это пальто еще в десятом классе, и с тех пор уже много воды утекло. Насте очень не хотелось с ним расставаться, в этом пальто она была хороша и вместе с тем выглядела открыто, просто и естественно. Однако все хорошее когда-нибудь кончается, кончилось и это пальто, верней кончилась эпоха этого пальто, что, в сущности, было гораздо важней: ведь в этом пальто она пережила все самое главное – роман с Бородаевым, параллельный как бы роман с Петровым, выпускные экзамены, поступление на факультет, работу в пресс-центре Гидрометеоцентра СССР, первую зарплату и первый длинный страстный поцелуй, ну и другие важные события менее крупного масштаба. Например, первую встречу Нового года без родителей, всякие там концерты, театры, премьеры фильмов и так далее, и так далее.
Рабочих концепций было три.
Первая: сшить новое.
Пальто, в отличие от платья, можно было сшить только в ателье, мама заставила ее вместе съездить куда-то на Красносельскую, они долго разговаривали там с какими-то унылыми, замученными жизнью тетками, тетки совали ей в руки какие-то отрезы, показывали выкройки. «Но мех вы сами», «мех мы не можем», – повторили они раз двадцать или тридцать. «Ну а какой мех, кролик, что ли?» – скучно думала Настя, и ей совершенно не хотелось ни ездить сюда, на Красносельскую, на примерки, ни искать этот дурацкий мех типа крашеной кошки или несчастного кролика, ни вообще отдавать приличные деньги этим старорежимным теткам, чья молодость прошла в эпоху позднего сталинизма.
Нет.
Вторая концепция была веселее – найти удачную шубу в комиссионке. Было понятно, что это непредсказуемо, раз, и дорого, два. Но и комиссионки были разные, и шубы тоже: говорят, иногда люди срочно расстаются с такими сокровищами, что даже не совсем понятно, как можно по доброй воле отдать в чужие руки столь великую красоту. И было еще интересно, чисто теоретически, как они вообще живут, эти люди, у которых такое есть, ну какие, например, у них бывают осенние сапоги или там сумки… Однако все поездки по комиссионкам кончились вообще ничем.
Все было нереально дорого, а что-то приличное и не слишком «богатое» стоило примерно от тысячи рублей, любой скромный, короткий, но хороший выделанный мех начинался с немыслимых высот: «хорошее, но приличное всегда стоит дороже», важно объяснила мама. Никаких этих чернобурок или лисиц ей было даром не нужно, убитые животные уже тогда смущали воображение, мама даже стала звонить знакомым стоматологам (стоматологи всегда в курсе всего), а также спрашивала у подруг на старой и на новой работе, нет ли каких-то «своих людей» в комиссионке, поскольку было уже понятно, что что-то стоящее может находиться лишь где-то в подсобке и не выставляется наружу. Но все их титанические усилия были тщетны.
Наконец в комиссионке на метро «Аэропорт» она присмотрела шубу из светло-серой цигейки, короткую, легкую, нормальную, ничего особенного, но в ней все-таки что-то было – однако когда она пришла домой и назвала цифру, папа сразу грустно сказал: «Таких денег, к сожалению, нет». Они с мамой ушли совещаться в спальню, потом мама вышла и тоже грустно покачала головой, а папа весь вечер был какой-то нервный: ставил то одну пластинку с джазом, то другую, будто хотел сам себя убедить в том, что счастье не в деньгах, или как там это говорится…
И тогда созрел вариант номер три: дубленка.
Дубленку можно было, в отличие от хорошей шубы, просто купить с рук.
Однако же октябрь незаметно кончился, и наступил ноябрь.
Задули холодные ветры, посыпался первый снежок, на лужах появилась наледь, а она продолжала ходить в коротком «детском» темно-синем пальто с темно-рыжим воротником и в ботиночках, потому что к новым замшевым сапогам ей просто нечего было надеть.
И в этот критический момент, когда даже вставать по утрам от этих мыслей стало как-то тяжело, добрые люди неожиданно рассказали ей про деревню Мотоль. Известие о том, что там делают замечательные дубленки и покупать их здесь в Москве (в два раза дороже) просто бессмысленно, а лучше поехать за ними прямо туда, в Брестскую область, – отнюдь не застало ее врасплох.
Чтобы приобрести что-то подходящее к замшевым сапогам, она была уже готова на все. На какие-то просто подвиги. Ну например, она представляла себе так: вот подходит к ней в очередной комиссионке какой-нибудь грузин, предлагает подходящую дубленку, но чтобы «обсудить цену», зовет ее в ресторан. Понятно, что идти туда нельзя, но ради дубленки она готова была уже и на это. Грузин, правда, никак не подходил, хотя она уже довольно ясно представляла весь этот ужас. Но, может, и слава богу, что не подходил, все как-то образуется, Настя Гордон в это искренне верила.
Когда она пришла домой с новостью о деревне Мотоль, папа сначала ничего не понял – если это фабрика, с ней можно списаться, и вообще у него в Белоруссии есть знакомые геологи, они помогут.
– Пап, ты не понял… – терпеливо сказала Настя. – Это не фабрика. Это местные жители делают дубленки для себя и на продажу. Просто если ехать туда самим, будет нормально стоить. А билеты дешевые, вся поездка может обойтись в каких-нибудь двадцать рублей, я узнавала.
– Нормально – это сколько? – с вызовом спросила мама.
– Нет, ну я понял, – торопливо сказал папа. – Надо, значит надо… Ну триста рублей, четыреста, да?
– Вероятно, – сказала Настя и покраснела.
– Что же, ты одна туда собралась? – тяжело спросила мама.
– Пока да… – пожала плечами Настя.
– «Пока» – это как? В поезде попутчиков найдешь?
Чтобы тоже не раздражаться, Настя поблагодарила за ужин и тихо ушла в свою комнату, оставив родителей шушукаться на кухне.
Ночью она долго не могла заснуть, мысли были разные, тяжелые, но какие-то другие – в них появилась надежда. Причем впервые в жизни Настя преодолевала подобный кризис сама, без помощи родителей. Ну то есть как, с помощью, конечно, но только с материальной. Обычно все эти «кризисы» довольно легко разрешала мама – всегда находились какие-то неожиданные «вещи с рук», какие-то странные тети, о которых она раньше никогда не слышала, ну кроме того мама шила, мама вязала, мама доставала обувь во время распродаж на работе, но тут и она спасовала перед острейшей проблемой зимней одежды.
Это было неожиданное ощущение – да, она стала взрослой и теперь будет решать эти проблемы и зарабатывать на них сама. Деньги на дубленку она, например, родителям тоже постепенно отдаст. Будет отдавать… ну хорошо, по двадцать рублей в месяц.
Настя удовлетворенно вздохнула и повернулась на другой бок.
На другом боку ждали ее другие мысли – тоже тяжелые, но тяжелые как-то иначе.
Ведь сколько на самом деле стоит эта дубленка у работящих белорусских крестьян, она фактически не знала. Говорили, что можно купить за двести-триста рублей, но правда ли это? Ну предположим, она не может стоить, как болгарская фабричная дубленка в комиссионном магазине, тысячу сто или тысячу двести рублей. Но даже если она стоит вполовину меньше – то есть рублей пятьсот, таких денег ей все равно родители не дадут. Что же тогда делать? Может ли она, например, попросить на работе в кассе взаимопомощи?
Никогда раньше ей не приходило в голову брать в долг такие крупные суммы денег.
Но тут она решила, что спросит.
Это была ее вторая работа. К сожалению, не очень удачная. Она таскала на тележке книги в сырые необъятные подвалы Института стали и сплавов, причем книжки эти были неинтересные совсем – какие-то сложные учебники по теории упругости, сопромат, математика, органическая химия и так далее, она даже все это запомнить не могла, приличных художественных книг тут не было вовсе, все они были в так называемом «профессорском зале», куда у нее даже не было доступа – по ее удостоверению туда не пускали вообще.
Мужчины в библиотеке не работали, никакие, и поэтому тетки тут были вечно раздраженные собой и друг другом.
Иногда по профсоюзной линии бывали, правда, некие «заказы» (гречка, зеленый горошек, венгерские куры), путевки в санаторий, пахучие лесные елки к Новому году, билеты в театр и дефицитные латышские духи «Дзинтарс» – в общем, все как везде, но на нее это не распространялось, она работала тут всего два месяца и даже не рассчитывала на эти профсоюзные сокровища, над которыми в душе потешалась – надо же, и из-за этого кипят такие страсти! Единственной привилегией этой работы были бардовские и поэтические вечера – Юрий Левитанский, Давид Самойлов, Булат Окуджава, поэты величиной поменьше, но тоже хорошие, весь этот абонемент устраивал тоже бард и одновременно профессор по сопромату Берковский, его песни она знала и иногда видела в коридоре или в очереди в столовую его надменный нос и высокие брови. И на эти вечера она дважды приглашала своих знакомых – один раз Петрова, с которым был как бы роман, и один раз Бородаева.
Однако «касса взаимопомощи» у них определенно была, она это знала точно, поскольку сдавала туда по три рубля каждую зарплату.
На следующий день она подошла к Валентине Васильевне, заведующей абонементом, и спросила: сколько она может оттуда взять?
Та посмотрела как-то не очень приятно, но потом отвела взгляд и вздохнула.
– Ну конечно, ты можешь, – спокойно сказала она. – Ты же сдаешь туда деньги. Сколько тебе нужно? Впрочем, нет, это не важно, все равно не более пятидесяти рублей.
…Весь этот разговор Насте был крайне неприятен, особенно с учетом того, что про кассу взаимопомощи она узнала в первый же рабочий день и в таких выражениях, что сразу почувствовала себя обязанной, хотя «дело это сугубо добровольное», «мы никого заставить не можем», но было сказано это так, что она поняла: с трешкой ежемесячно придется расставаться в любом случае, иначе сочтут за скрягу.
А это было бы нехорошо.
Десятого у них была зарплата, Настя, как и все, пошла в бухгалтерию и получила на руки свои 87 рублей 45 копеек – это с учетом налогов, такова была ее скромная мзда за эти бесконечные дни в сырых подвалах с железной тележкой и с учебниками по теории упругости.
Странно, подумала она мимоходом, что ее не допускают в читальный зал или абонемент, к студентам и аспирантам. Только в хранилище. Есть в этом какой-то зловещий замысел. Может быть, они завидуют ее молодости и хотят, чтобы она заболела чахоткой, эти библиотечные ведьмы?
Впрочем, и среди библиотекарш были добрые сердобольные тетушки и симпатичные моложавые дамы, просто каждый вновь прибывший, наверное, должен пройти через это чистилище, через эти бесконечные сырые коридоры, кончавшиеся, как и положено в советских учреждениях, огромным серьезным бомбоубежищем. Из подвала книги поднимались на специальном лифте, со скрежетом и стуком, как в больнице или морге. А потом приходилось толкать тележку.
Так вот, десятого она получила свои деньги, мысленно отсчитала оттуда двадцать рублей на дорогу, десять на непредвиденные расходы, м-да, еще бы до зарплаты дожить, но главное не это, главное – само приключение, деревня Мотоль, о господи, как же она хотела уже увидеть эту волшебную деревню, где трудолюбивые белорусские крестьяне производят такие чудесные вещи, потом она кивнула Валентине Васильевне и пошла вслед за ней в отдел кадров, где в специальном сейфе хранились все общественные деньги из кассы взаимопомощи.
Кадровичка с очень сложной прической (и сильным запахом духов «Дзинтарс») оказалась дамой словоохотливой – пятьдесят рублей, а на что, а куда, а как? – и вдруг, услышав про дубленку, она немного посуровела и хмуро сказала:
– А ты уверена, что сможешь проработать у нас еще десять месяцев?
– Я все верну! – спокойно сказала Настя Гордон, взяла деньги из рук немного смущенной дамы со сложной прической, расписалась в амбарной книге, повернулась и гордо вышла, хотя коленки ее слегка дрожали.
Теперь, вместе с папиными деньгами и еще с остатками зарплаты, у нее было на руках больше трехсот рублей(!), таких денег она, честно говоря, вообще никогда в руках не держала.
И пока она с нетерпением ждала положенных семнадцати ноль-ноль, чтобы покинуть свою библиотеку, ей вдруг позвонила на работу мама и сказала:
– Настя! Бери два билета! Тетя Галя тоже хочет дубленку!
Ее охватил какой-то невероятный раж, она ринулась на Комсомольскую площадь, в кассы предварительной продажи – покупать билеты в Брест, туда и обратно.
Но между двумя этими событиями – походом в кассу взаимопомощи и поездкой за билетами – Настя еще успела позвонить мне.
– Привет, – сказала она и замолчала.
Я почему-то сразу понял, что звонит она не просто так и не чтобы позвать на творческий вечер Юрия Кузнецова или Петра Вегина (были тогда такие известные поэты).
– Что-то случилось? – осторожно спросил я.
– Да… – наконец выдохнула она. – Ты можешь занять мне немного денег? Рублей сорок…
Я понял, что вопрос серьезный, и в течение дня собрал необходимую сумму.
Мы встретились в метро.
– Все нормально у тебя? – спросил я. – Зачем такая спешка?
Она рассказала, и я чуть не расхохотался. (Но, к счастью, сумел сохранить серьезное выражение.)
Сама затея показалась мне необычайно авантюрной.
Настя смотрела на меня недовольно, и я в очередной раз ею залюбовался.
2
Потом Гордон ехала в метро с пылающими щеками и взором, устремленным в свое недалекое будущее. Вот она – на двенадцатое ноября – возьмет два билета в плацкартный вагон. Вот она – тринадцатого ноября – приедет в деревню Мотоль. Вот она – предположим, пятнадцатого ноября (придется взять отгул на работе) – вернется из этой Мотоли. И у нее уже будет дубленка!
Неужели все это правда?
На Комсомольской площади было невероятно неуютно в это время года, как, впрочем, и в любое другое. Здесь ходили толпы внутренне неустроенных людей, которым вскоре надлежало уезжать, отправляться, передвигаться, сниматься, ехать, трястись, стремиться – в надежде, что там, куда они едут, все будет с ними хорошо или хотя бы неплохо и что там им придется жить в гостинице или снимать угол, но хотя бы с минимальными удобствами, – словом, это были люди невероятно встревоженные, даже опечаленные, и Насте Гордон вместе с тетей Галей вскоре предстояло присоединиться к этой тревожной и печальной армии. Но ее, честно говоря, это совершенно не взволновало. Ура! Мы едем!
В день отъезда рано утром пошел снег, и это показалось ей добрым предзнаменованием.
Встретились с тетей Галей прямо у вагона. Вошли, поднявшись с чемоданами по высоким ступенькам. Настя медленно сняла свое старое синее пальто, аккуратно его сложила и сунула на верхнюю полку под подушку. В пальто были деньги. Сколько денег везла тетя Галя, она, если честно, даже не знала, да и не хотела знать, чтобы не пугаться еще больше.
Рядом с ними ехали до Бреста моряк-подводник и его миловидная жена, что тоже показалось хорошим предзнаменованием.
Настя забралась на верхнюю полку, придавила головой свои четыреста рублей, посмотрела в окно, на проплывающие мимо платформы, станции, разнообразные строения, и сладко заснула…
Вдруг она проснулась от страшных мыслей о том, что у нее украли деньги. Но нет, их не украли.
Тогда она стала думать, что, наверное, все это какая-то ерунда. Что она ничего не знает и с теми людьми, которые сами были в этой Мотоли, она не говорила, что вообще она еще маленькая и глупая и, вместо того чтобы слушаться старших, еще тащит за собой несчастную тетю Галю, которой, наверное, ничего не надо, а мама просто умолила за Настей присматривать.
Она повернулась на живот и стала смотреть в окно.
Плыли бесконечные снежные поля, мелькали деревья, фонари, домики.
Ей всегда было весело, когда она смотрела из окна поезда. В этот момент ее всегда будто подхватывала легкая волна, и настроение становилось совсем другим.
Бдительно пересчитав наличные мысли и чувства, Настя вдруг поняла, что внутри нее нарастает уверенность, что все правильно. Приключение так приключение. Поездка так поездка. Ну сколько можно сидеть в сыром подвале? Ну сколько можно мерзнуть на улице в старом пальто? Мечты не всегда сбываются, но если ничего не делать, то и в целом жизнь пройдет зря.
Моряк-подводник внизу по-мужски сурово всхрапнул, и она улыбнулась ему во сне.
Проснулась утром, почистила зубы в грязноватом туалете, попила жидкий чай.
– Ну что? – весело спросила тетя Галя. – Мы с тобой похожи на золотоискательниц?
Они договорились, еще стоя на перроне, никому ни о чем не рассказывать по дороге, чтобы не заподозрили, что они везут большие деньги. Говорить надо, что едут к родственникам.
На Настю изо всех сил надвигались эта неведомая, загадочная и чудесная Мотоль. Само слово было смешным. Нелепым, но добрым. Слово ее радовало, и она уже с нетерпением ждала встречи – хотела узнать, как там все выглядит, в этой деревне Мотоль.
В Бресте пересаживались на электричку, таскали чемоданы, брали билет, потом еще ехали на электричке два часа, тетя Галя читала книжку, а Настя среди хмурых и тяжелых людей пристально смотрела в окно.
Теперь деревья двигались гораздо медленнее, и она начала понимать, что земля здесь другая, и деревья не похожи, и дома, и даже люди говорят как-то иначе. Мягко, и слова не всегда ясны. Электричка остановилась, и они вышли.
Это была действительно огромная деревня, с большими домами и высокими заборами (еще были при них ворота, с резьбой, они ее даже как-то поразили своей красотой), из труб везде валил прямой дым, лаяли собаки, и они с тетей Галей медленно, как во сне, двигались по длинной улице, притом уже начинало ощутимо темнеть.
– Как бы нам на улице не заночевать! – озабоченно сказала тетя Галя и смело отворила первую попавшуюся калитку.
Через пару минут она с крыльца помахала ей рукой, и Настя Гордон поволоклась со своим чемоданом в дом.
В доме на них смотрели во все глаза. Речь была вполне русская, но опять такая… как бы совсем мягкая и как бы слегка уклончивая.
– Ну что? Мы у вас первые такие сумасшедшие тетки из Москвы? – очень бодро спросила тетя Галя хозяйку, которая сидела на табурете у кухонного стола в безрукавке на овечьем меху. Сидела в несколько напряженной позе, сложив руки перед собой, но улыбалась.
– Да я не знаю… – улыбнулась она. – Кажись, были и из Москвы. К нам много кто бывает.
Потом она принялась рисовать план деревни.
Рисовала она легко, синим химическим карандашом, слегка его послюнявив его при этом.
– Вот тут вы переночуете, девки. За рубль. Там хозяйка всегда комнату сдает. А потом вот сюда с утра пойдете, сейчас-то уже темно, конечно, совсем темно, вот в эту избу, и спросите про тулупчики. Не бойтеся. Хозяйка добрая. И там и там. У меня просто места нет, я бы вас бесплатно положила. Но не могу.
С песнями и шутками (чтобы не идти в мрачном молчании в темноте) они добрались до темной избы, практически разбудили хозяйку Надю, договорились, спросили, где туалет, и пошли на двор.
В глубине двора стояло одинокое строение и отбрасывало тень на снег – из-за яркой луны. Это было так необычно, что Настя не хотела торопиться. Тетя Галя ждала возле крыльца и курила.
Тропинка показалась длинной. Ночь была тихой, такой тихой, что Настя даже улыбнулась. Вдалеке темнел лес, но вся деревня была еще в огнях – где-то смеялись женщины, тихо играла мелодия по радио, это был мир чужих, но понятных ей звуков, которые почему-то источали странный покой.
Само же одинокое строение оказалось удивительно чистым и даже с лампочкой внутри.
«Наверное, здесь живут какие-то совершенно другие люди, – вдруг торопливо подумала Настя. – Поймут ли они нас?»
Хозяйка была немногословна.
– Сейчас, девки, не сезон, – твердо сказала она. – Их раньше шьют, тулупчики. Летом или в сентябре. Сейчас уже все сшили и все продали. Может, для себя что-то оставили, но я не знаю.
– А чем тулупчики от дубленок отличаются? – храбро спросила тетя Галя.
– Да я не знаю… – вдруг улыбнулась хозяйка. – Наверное, выделкой. Наши-то погрубее будут. Но я правда не знаю…
Они легли спать.
В глубине дома тихо шушукались женщины – хозяйка и ее сестра. Они пытались утихомирить и уложить маленьких детей, которые взволновались из-за присутствия двух непонятных теть, да еще из самой Москвы.
– Удивительная нынче жизнь! – шепотом сказала Галя. – Куда-то мы с тобой поехали… Куда, зачем? За дубленками! В наши годы даже и мечтать о таком не могли.
Настя, конечно, разволновалась. Не хотелось, чтобы поездка была напрасной.
Но она по-прежнему верила.
Рано утром их разбудили на завтрак – это была обычная яичница, но из своих, домашних яиц «из-под курицы», таких волшебных яиц она потом не ела еще много лет, желтки были оранжевые и не растекались по сковороде, были плотными и аппетитными, было ужасно вкусно. Быстро расплатившись с хозяйкой, они осторожно пошли по улице, по рисунку химическим карандашом, им смотрели вслед женщины, лаяли собаки, бежали дети, но они шли и шли, мимо почты и детского сада, по дороге на всякий случай заходили в одну избу, другую, везде разводили руками – все продали, девки, или выносили какие-то рыжие, твердые, тяжеленные тулупы, нисколько не походившие на дубленки.
Так они шли и шли, пока наконец не нашли отмеченный на самодельной карте дом – он был огромный, просторный, тоже чистый и очень уютный.
Там все были в тулупчиках – хозяин, дочка хозяйки и сама хозяйка.
Им послушно вынесли «то, что осталось» (дубленки действительно продавали в сентябре, хозяева подтвердили, Настя чуть-чуть расстроилась, но по-прежнему упрямо верила). Того, что осталось, было немного – три тулупа, два очень теплые, на овечьем меху, но маленькие, они ей не подходили, а тете Гале не понравились.
Третий тулуп появился последним и выплыл как бы внезапно и случайно – увидев, как изменились от огорчения их московские лица, девочка внезапно удалилась в глубину дома и принесла еще один.
Хозяин слегка посуровел.
– Христина! – кашлянув, сказал он. – Это ж тебе на совершеннолетие подарок.
Настя медленно начала разворачивать эту вещь. Странное чувство охватило ее. Ей показалось, что она где-то уже ее видела. Она быстро сняла свое детское пальто и примерила. Тулупчик был сшит как будто бы прямо на нее. Невероятно легкий. Темно-коричневый (а не рыжий!), с лохматым забавным кудрявым воротником молодого овечьего меха. С деревянными (!) большими пуговицами, с нарядными витыми красными длинными петлями, которые эти пуговицы перетягивали. Это был настоящий хипповский народный стиль, только зимний. Казалось, что это просто невозможно – таких красивых дубленок она не видела даже в Москве.
– Это что? – недоверчиво спросила тетя Галя.
– Это не на продажу, извините нас… – сурово ответил хозяин. – Ты зачем принесла, Христина? Извините. Это мы для дочки шили. На день рождения.
– Вас как зовут? – мягко спросила тетя Галя.
– Василь… – смущенно отвернувшись, ответил хозяин.
– А по отчеству?
– Миколаевич…
– Василий Николаевич! – твердым учительским голосом сказала тетя Галя. – Ну неужели же вы нас отправите домой, в Москву, буквально ни с чем?
Хозяин развел руками. Лицо его было по-прежнему суровым. Хозяйка внимательно на него смотрела, не роняя ни слова.
Так прошло около минуты.
– Да отдай им, тата… – застенчиво сказала дочка. – Я еще в старом похожу. Оно еще хорошее. А им нужно…
Лицо у хозяина дрогнуло. Он внимательно посмотрел на дочь, потом на Настю.
– Похожи вы трошки… – неожиданно сказал Василь Миколаевич.
И верно, они были похожи.
Христина была рослая, крупная и сразу потащила их гулять, пока «мамо» накрывала на стол к чаю.
Они шли по улице втроем, и Христина весело рассказывала: как тут гуляют, особенно летом, весело и с песнями, как играют свадьбы, как к ней уже сватался один старый мужик, но ей еще рано, она отказала…
– Ух ты! – сказала тетя Галя. – А разве это можно?
– Можно! – сказала Христина и покраснела. – Надо просто справку в сельсовете взять, что я согласная. У нас так бывает иногда. Но я не хочу. Он некрасивый!
Им стало весело.
По улице шумно проехал грузовик.
Сверкало солнце. Огромное невероятное солнце.
– Ну, нам пора… – неохотно сказала Христина. – Мама, наверное, уже ждет вас чай пить.
Хозяин пригласил тетю Галю как старшую в другую комнату для переговоров. Настя сначала чинно сидела, пила чай с пирогом, пирог был с калиной, вкуснейший, и еще один пирог, с грибами, и тоже вкуснейший, какая-то сказка братьев Гримм, но тут она вдруг поняла, о чем идет речь в соседней комнате, решительно встала и зашла в ту комнату, склонив голову, чтобы не удариться о низкую притолоку.
– Шестьсот рублей просит! – горестно сказала тетя Галя, увидев ее. – Что делать?
– А ты можешь мне занять? – твердо спросила Настя.
– А сколько?
Они с тетей Галей пошушукались.
– Скинете полтинник? – твердо спросила тетя Галя как старшая.
– Ну что ж с вами делать… – опять развел руками Василь. Разводил руками он как-то очень красиво, хотелось сразу на все соглашаться.
Они отсчитали деньги и облегченно вздохнули.
Стали опять пить чай с пирогами.
«Мамо» вздыхала.
– Мы ж для тебя делали… – с упреком сказала она дочери, хотя было уже поздно. – Тата старался. Так старался. Такая красивая вещь.
– Очень красивая! – горячо подтвердила Настя. – Но вы же еще сделаете! А я такую больше нигде не найду.
– Она ж на выданье у нас. Школу заканчивает.. – грустно сказала мама. – Но вы носите. Носите, да. Вспоминайте нас. Пусть и у вас все будет хорошо.
Плакать вместе со всеми Настя Гордон не стала. Она просто взяла дубленку и пошла к зеркалу.
Зеркало пришлось передвинуть к окну, в горнице было темновато.
Дубленка подошла идеально.
Лицо было слегка красное.
– Что это со мной? – спросила она тетю Галю. – Почему я так покраснела, ты не знаешь?
– От счастья… – смеясь, ответила та.
Христина застенчиво топталась рядом.
– Вам идет, – шепнула она. – Я сразу поняла.
На московский поезд они в этот день, конечно, уже опоздали. Настя не помнила, как они провели этот вечер, наверное, просто гуляли по деревне, настолько ей хотелось уже в Москву, все показать маме и папе.
Да и вообще. Не только им.
Утром они как в тумане метались по Мотоли в поисках второй дубленки, для тети Гали, наконец нашли, жесткую, твердую, огненно-рыжую, по ее размеру (Галя была совсем маленькая, даже тщедушная, и здесь с этим были, конечно, проблемы), – и потратили все оставшиеся деньги, до рубля. Дубленку тетя Галя потом не носила, но, кажется, покупателя на нее нашла.
В поезде Настя читала книгу и думала.
Кстати, именно в это время я пережил один из самых острых своих кризисов идентичности, как сказали бы сейчас психотерапевты. Но тогда я такого определения не знал и просто много сидел дома и тупо смотрел в стенку. Мама часто просила меня отоварить продуктовые заказы, талоны на которые им выдавали на работе. Я стоял в особом отделе огромного сорокового гастронома, возле здания КГБ, и терпеливо ждал своей очереди. Густой запах советской жизни, который царил в этом отделе и в этой очереди, иногда сводил меня с ума. Чуть-чуть пахло подгнившей картошкой, мокрыми опилками, которые рассыпали по полу в советских магазинах зимой, чтобы не было жидкой грязи, пахло дефицитными сосисками, пахло конфетами вразвес, пахло кожурой от апельсинов, мы стояли и понуро ждали момента, чтобы предъявить свои бумаги с блеклыми печатями, которые уносили в подсобку и приносили оттуда набор: гречка, шпроты, зеленый лук, сосиски или колбаса сухая, полукопченая.
Однажды я попросил Настю постоять вместе со мной. Просто так. Мы с ней откуда-то возвращались.
Она была в своей дубленке. И рыжей лисьей шапке.
В магазине в это время милиционеры начали проверку документов – дело в том, что шла борьба с «нарушениями дисциплины», и людей, которые в обеденный перерыв оказывались в магазине, стали штрафовать. Но сначала была долгая процедура выяснения личности.
Ко мне подошел дружинник и попросил предъявить документы.
– Он в газете работает! – весело сказала Настя. – У него скользящий график.
Дружинник смутился, но не хотел признавать свое поражение.
– А вы, девушка? – ласково спросил он.
– А я в журнале.
– У вас тоже скользящий график?
– У меня больничный, – твердо сказала она.
И, тихо потоптавшись рядом, дружинник все-таки отвалил.
Мы вышли из магазина. Я прижимал к груди бумажные пакеты.
– Слушай, Настя! – сказал я вдруг. – А как ты думаешь, все это кончится когда-нибудь?
– Что «это»? – не поняла она.
– Ну вот это… – я кивнул на окружавшую нас площадь имени Дзержинского, на гастроном, на тень дружинника, маячившую где-то там.
– Откуда я знаю… Но, Лева, знаешь что, жизнь… Жизнь – она такая, упругая… Ты не переживай так сильно, ладно?
Ей было уже пора, и она, кивнув, пошла в другую сторону.
А я со своими пакетами – к метро.
Уже подходя к стеклянным дверям, я все-таки обернулся.
Пошел снег.
Она шла сквозь снег в своей новой дубленке и рыжей шапке, и это было прекрасно.
Случай в командировке
Люся Финкельштейн, 1959 г.р., член ВЛКСМ с 1974 года, еврейка, из семьи служащих, после школы устроилась работать в одну газету. Вернее, сначала она поступила в институт, но, поскольку денег было мало, Люся устроилась в газету «на договор», ведь людей там вечно не хватало, заполнять каждый божий день четыре огромные полосы (формата А2) идеологически выдержанными материалами было очень непросто. Ей достался «сельский отдел», как они говорили, – а на самом деле отдел комсомольских организаций Подмосковья, и она часто ездила по области в командировки; Егорьевск и Коломна, Луховицы и Зарайск стали ей практически родными, не говоря уж о прекрасном городе Подольске, но вот как-то летом она взяла командировку не от своей газеты, а от «Пионерской правды» и поехала в Дагестан.
Это, конечно, было совсем другое дело. Песчаный пляж, старый город, крепость, зелень садов, Каспийское море, фрукты, красота.
Секретарь горкома комсомола, вежливый симпатичный парень, когда они прощались, предложил «приезжать просто так», и она почему-то это запомнила.
А в августе они с подругой Николаевой решили поехать в Крым. На две недели. В отпуск.
С деньгами проблем не было – она немного подзаработала и немного подкопила, с жильем тоже – был адрес и телефон, который надыбала Николаева, и они даже с этой хозяйкой в Гурзуфе заранее созвонились, с гардеробом вроде тоже был относительный порядок, имелись даже шорты, были темные очки, был новый купальник – в общем, было все, кроме билетов.
Вот с билетами обнаружилась действительно аховая проблема.
На самолете лететь было им слишком дорого, в бюджет они в таком случае не влезали, а на поезд они вовремя не подсуетились, спохватились поздно, всего лишь за две недели.
– Да вы что, девчонки! – просто сказала кассирша в предварительных кассах у трех вокзалов, когда они отстояли всю очередь. – Какой Крым, вы чего? Месяц назад уже как корова языком слизала. Даже и не думайте.
– Ну пожалуйста, пожалуйста, сделай что-нибудь… – отойдя от кассы, заканючила Николаева, – ты же идеологический работник, а я что, я простая секретарша, я на море хочу, ну пожалуйста.
– Иди ты на фиг, простая секретарша! – рассердилась Финкельштейн.
Но думать действительно пришлось, билетов ни на какое южное, да и на северное (то есть в Прибалтику) направление – в обычных кассах на август месяц просто не было.
Можно было, конечно, ехать к бабушке в Малаховку помогать собирать клубнику, но и клубника уже отошла.
Тогда она позвонила Егору, он недавно перешел в солидную партийную газету, ходил на работу в костюме, с дипломатом, когда она встретила его в таком виде на улице, честно говоря, с трудом не расхохоталась.
– Спаси меня! – сказала она Егору по телефону. – Достань бронь, ну пожалуйста.
– Где же я тебе ее возьму? – неприятно удивился он. – Мне ж тогда командировку нужно подписывать, без командировочного бронь не дадут.
– Ну придумай, придумай что-нибудь… – тупо заканючила она, как тогда в кассах канючила Николаева, а потом грубо сказала: – И вообще, Егор. Я тебя столько раз выручала!
Это была чистая правда. Пить Егор по молодости лет не умел, а не втянуться в это дело в «одной газете» было невозможно, поэтому ей очень часто приходилось на дежурстве присматривать за его заметками, сокращать хвосты, даже проверять какие-то факты, звонить в какие-то страшные заводские парткомы, пока он тихо посапывал за своим столом во время дежурства по отделу рабочей молодежи. А столы у них стояли рядом. Жалела его, дура, а он теперь бронь достать не может.
– Ладно, – немного подумав, сурово сказал Егор. – Приходи завтра в обеденный перерыв. В час дня.
Редакция, где он теперь работал, поразила ее партийным лоском. Ходили на высоких каблуках бонтонные секретарши вот с такими ногами, разносили по кабинетам чай на подносе под белой салфеточкой тетеньки в фартуках, бегали курьеры, на полу лежали ковры, стены обиты деревянными панелями – из дуба, наверное, хрен его разберет.
Егор вышел из кабинета ответственного секретаря какой-то совершенно чужой, видно было, что ему исключительно неприятна вот вся эта ложь, весь этот обман, это шкурничество, несовместимое с высоким званием советского журналиста, но потом он тихо оглянулся, ухмыльнулся, подмигнул ей и сказал:
– С тебя бутылка портвейна, Финкельштейн!
Уф, слава богу, подумала она, все-таки и здесь работают не деревянные чурбаки.
– Ладно, – легкомысленно сказала Люся, – крымского тебе привезу. «Черный доктор».
Чмокнула в щечку в знак благодарности и спустилась на лифте на первый этаж, где работали специальные железнодорожные кассы.
С самого начала ее неприятно удивила немаленькая очередь таких же, как она, людей с бронью. Бронь причем была у всех разная, у кого министерская, у кого цековская, у кого редакционная.
Стоять – так она прикинула – надо было часа полтора, может быть даже два. Ничего себе, август месяц.
Неожиданно вышел такой же, как Егор, молодой болван в костюме и при галстуке и громко воскликнул:
– Товарищи! А вы что, все в командировку?
«Конечно, в командировку», солидно закивали все.
Болван приуныл и воскликнул:
– Господи боже ж ты мой!
Слава богу, у нее с собой была книжка: «Богач, бедняк», подшивка из «Иностранки» семьдесят второго (?) года, и она неплохо провела время, но когда наконец подошла ее очередь, миловидная ухоженная кассирша что-то там проверила и вдруг сказала:
– А на эти числа вообще нет билетов, девушка. Даже по брони. На раньше есть… А на позже нет.
– Что же мне делать? – растерялась Финкельштейн. – Посоветуйте, пожалуйста.
– Ну я же сказала, – как-то очень быстро рассвирепела кассирша. – Брать на раньше. Или переоформлять бронь на другие числа.
Тогда Финкельштейн (уже в полном отчаянии, с одной стороны, и в какой-то прострации, с другой) всунула голову глубоко в окошко, чтобы никто ничего не слышал, и просто спросила:
– А куда вообще билеты есть? На юг?
Кассирша слегка побледнела, холодно усмехнулась и сказала:
– В направлении Черного моря имеются в наличии билеты на город Махачкала. Брать будете?
И Финкельштейн обреченно кивнула.
Вот в этот момент она и вспомнила того приятного молодого человека из горкома комсомола по имени, кажется, Магомед.
Вечером она позвонила подруге Николаевой.
– Куда ты взяла? – присвистнула она. – Да ты че? Меня мама на Кавказ не пустит!
– Во-первых, – сказала Финкельштейн, – нас будут встречать на самом высоком уровне. Во-вторых, мы возьмем Васечку.
Собственно, идея взять Васечку и стала, как теперь модно говорить, главным драйвером этой поездки.
Они встретились втроем на военном совете и обсудили ситуацию.
– А че, прикольно… – лениво сказал Васечка. Он учился на психфаке, был по виду тихим очкариком, но в компаниях вел себя очень хорошо, никогда не подводил, да и вообще, несмотря на какую-то тягучую неразрешимость их взаимоотношений с Николаевой, всегда был готов, что называется, подставить плечо.
Мужчина был найден, и теперь нужно было покупать третий билет, но с этим они справились неожиданно легко – оказывается, у отца Васечки тоже был блат в кассах.
– Главное, не дрейфьте, девки, – сказал Васечка и поправил очки жестом интеллигента Валерия из «Неуловимых мстителей».
– Да ладно вам! – горячо сказала Финкельштейн. – Я завтра позвоню Магомеду, и мы все точно узнаем. Но одно я уже знаю: кавказское гостеприимство нам обеспечено!
На следующий день, когда все из конторы уже слиняли и она осталась одна в редакционном кабинете, Финкельштейн с трудом нашла фамилию Магомеда в своем блокноте, затем по цековскому справочнику выяснила телефон дагестанского обкома – и стала звонить.
Это заняло не очень много времени.
Вскоре Магомед был на проводе.
– В отпуск хотите к нам приехать? – немного удивленно спросил он. – С подругой?
– И с ее братом, – торопливо добавила Финкельштейн.
– А, ну конечно, конечно! – радушно сказал Магомед. – Все сделаем, вы даже не сомневайтесь. Билеты-то у вас есть?
– Устроите нам путевочку в какой-нибудь пансионат? – чуть игриво, удивляясь самой себе, спросила Люся.
– Ну о чем вы говорите, – было прямо-таки слышно, как Магомед (фамилия у него была почему-то русская – Сергеев) улыбается на том конце телефонного провода, в своем далеком и прекрасном Дагестане. – Конечно, все сделаем. Вы мне позвоните дня за три, я все подтвержу.
– А наши паспортные данные вам не нужны? – почему-то Люсе вдруг стало как-то тоскливо от мысли, что все уже бесповоротно решено.
– Что? Паспортные данные? Нет-нет, не надо, все на месте устроим. Вы, главное, приезжайте, отдохнете у нас, наберетесь сил.
Ехали весело.
Всю дорогу хохотали как бешеные, прилипали к окнам как дети, загипнотизированные проносящимся видом великой русской равнины, с аппетитом ели в вагоне-ресторане, потом крепко спали, на радость кавказской бабушке, которая ехала к внуку и поначалу их шумной компании очень испугалась.
Утром в окне поезда пошли уже горы, в середине дня блеснуло в расщелине море, красота и покой охватили душу Финкельштейн.
…С вокзала поехали прямо в горком.
Вообще Магомед Сергеев (секретарь горкома по идеологии) показался ей каким-то немного другим, чем при первой встрече. Он был как-то крепче, шире в плечах, волосатее, она обратила внимание на его остро модные желтые туфли с длинными носами, белоснежную рубашку и золотые коронки – то есть на то, на что не обратила внимание тогда, когда приезжала по делу.
Он был спокоен, по-прежнему вежлив и очень радушен.
– Ой, здравствуйте, мои московские гости! – сказал Магомед Сергеев. – А я вам уже машину заказал.
Выяснилось, что пансионат «Энергетик», находящийся в предгорье, – это настоящая жемчужина Дагестана, там удивительная природа, фантастические пейзажи, целебный воздух, минеральная вода и форель плавает прямо в пруду.
– Вы, кстати, фотоаппарат захватили? – спросил Магомед. – Нет? Хотите, я вам туда привезу? Вы вообще фотографировать умеете? Как же так, журналисты, а фотоаппарат забыли. Там такие виды, просто закачаешься.
– Магомед, скажите… – спросила Финкельштейн. – А сколько я вам буду должна за путевки? А то мы как-то все время уходим от этой темы.
Повисла неловкая пауза.
Магомед отвел глаза, потом широко улыбнулся и ответил:
– Да вы не беспокойтесь! Я сейчас не помню, если честно… Ну, там не должно быть очень дорого. Обычно стоит, как везде. Сейчас вы поедете на машине прямо туда и там на месте все узнаете.
Дорога была невероятно красивая. Финкельштейн даже зажмурилась от счастья, хотя в голове немного шумело после поезда. Водитель довез их прямо до домика (здесь домики «коттеджного типа», как сказал Магомед, а не общий корпус, что тоже было приятно), помог выгрузить вещи, и они пошли по территории осматривать окрестности. По дороге Финкельштейн, как старшая в группе и вообще чувствуя себя ответственной, решила найти бухгалтерию (или что-то вроде этого), чтобы прояснить все же вопрос с путевками.
Но никакой бухгалтерии тут не было, и они побрели в парк.
Там они посмотрели на горную речку, на беседку с минеральной водой («Павильон № 1», как гласила надпись на табличке), на скульптуру горного козла, на огромное дерево, к которому нужно было прислоняться на счастье, по восточной традиции, и наконец, уже немного голодные, вернулись к домику, чтобы жить самостоятельно дальше и искать столовую.
Но жить самостоятельно дальше и искать столовую им не пришлось. У дверей домика коттеджного типа стояла черная «Волга» с Магомедом. Он лучезарно улыбался и курил «Кэмел».
Сначала Магомед поселил Васечку в отдельный домик как брата, потом они вместе вернулись, и Магомед предложил отужинать в хорошей компании.
– Тут сегодня один мой большой друг отмечает день рождения, – просто и человечно сказал Магомед. – Я, собственно, к нему приехал. Но он узнал про вас и очень, очень просит вас быть его гостями. Если вы не придете, он ужасно обидится. Я вас тоже очень прошу. Это очень хороший человек, правда.
Николаева нахмурилась.
– Я вообще-то не одета для такого мероприятия, – капризно сказала она. – И потом, можно мы хоть минут двадцать отдохнем?
– Конечно, конечно! – просиял Магомед. – Я за вами зайду.
Снова собрали военный совет.
– Ну а че… – Васечка расслабленно пожал плечами. – Это же Кавказ. Ничего такого не вижу. И потом, давайте хоть раз шашлыка-то поедим!
Но по дороге Люся Финкельштейн опять пристала к Магомеду как к ответственному лицу с вопросом о путевках.
Его реакция, если честно, ей совсем не понравилась.
– Люся, давайте потом, а? – резко сказал он. – Ну сейчас совсем не до этого!
Войдя в какой-то дворик рядом с каким-то домиком, они просто ахнули.
Длинный стол, стоящий в тени деревьев и покрытый белой скатертью, ломился от яств, по-другому даже и не скажешь.
Черная икра, осетры, которых, видимо, вылавливали прямо тут, в пруду, свежая зелень и роскошные помидоры горкой, балык, суджук, сациви, фрукты, лепешки, наконец сам шашлык.
Они забыли обо всем и шагнули под сень листвы.
Хозяином стола был солидный мужчина, как оказалось, директор трансформаторного завода, которому и принадлежал весь этот пансионат «Энергетик». Это был необычайно интеллигентный, вежливый человек, который сразу усадил их за стол, не навязывался с разговорами, а только угощал и наливал. Правда, Люсю Финкельштейн смутили еще две вещи (помимо отсутствующих путевок): то, что за столом, по сути дела, кроме них не было никаких гостей вообще, зато обслуживающего персонала, который возился с шашлыками, наливал напитки, уносил и приносил тарелки, было целых пять человек: две женщины и трое мужчин.
И еще ее смущало какое-то нелепое, навязчивое сходство с фильмом «Кавказская пленница», она тихо сказала об этом Николаевой, и та начала хихикать, чем вызвала острое неудовольствие Магомеда.
– Дорогой Афанасий Магомедович! – сказал он, цыкнув на подруг. – Мы очень рады оказаться сегодня, в этот знаменательный день…
Люся, выпив знаменитого дагестанского коньяка, решила не частить, все-таки напиток не простой. А вот Васечке сразу налили полный фужер, и он на жаре довольно быстро закосел, стал со всеми обниматься, а потом заснул.
Постепенно появились за столом и другие солидные мужчины, церемония шла своим чередом, но ни в Николаеву, ни в Финкельштейн больше уже ничего не влезало, Люся просто засыпала на ходу, вежливо поблагодарила хозяев и наконец встала.
– Я вас провожу! – вскинулся Магомед.
Он вежливо взял под руку Васечку, сначала отвел его в «домик для брата», а потом пошел провожать их.
Было уже довольно темно.
В темноте таинственно и скромно блестели фонари на территории пансионата. Ласково шумела горная речка. Немного подвывали какие-то дикие животные.
– Как красиво! – сказала Финкельштейн. – Магомед, скажите, а сколько все-таки это стоит?
У Магомеда заблестели глаза.
– Давайте завтра, все завтра… – сказал он.
В этот момент Николаева куда-то исчезла. Люся никак не могла взять в толк, где она, спросила об этом Магомеда, он пожал плечами, может в туалет пошла, и открыл дверь в их коттедж, где она хотела сразу рухнуть, даже не зажигая света, но рухнуть не пришлось.
Под настольной лампой у стола сидел директор трансформаторного завода и ласково улыбался.
– Пришла? – сказал он и немедленно попытался схватить ее за грудь.
Борьба была недолгой.
Финкельштейн, слава богу, была не робкого десятка, да и физически крепкая девушка – она резко пхнула Афанасия Магомедовича в грудь и попыталась закричать, но он зажал ей рот потной ладонью.
На столе лежала ее книга – «Богач, бедняк», подшивка из «Иностранки», 1972 (?) года, недочитанная ею в железнодорожной кассе, и она стала лупить его по башке, причем сильно.
Он отскочил.
– Ты что, дура, с ума сошла? – спросил он довольно зло.
И в этот момент на Люсю Финкельштейн снизошло какое-то наитие. Часто (в течение своей дальнейшей жизни) она вспоминала этот момент и думала о том, что же помогло ей тогда найти единственно правильные слова.
А слова были такие.
– Партбилет положишь, сволочь! – сказала она тихо, и директор трансформаторного завода вдруг отступил куда-то в тень, от волшебного круга настольной лампы, так, чтобы его лицо было не очень видно.
Но несмотря на эту самую тень, она видела, какая борьба отражается на его крупном, как бы высеченном из камня профиле, как теряет он свою крупность и каменность и становится постепенно толстым и испуганным.
Афанасий Магомедович еще немного подумал и вышел, хлопнув дверью.
В тишине комнаты гулко бухало у нее в висках.
Выглянув в окно, Финкельштейн перебежала в «домик для брата». Там сидели испуганная Николаева и ничего не понимающий Васечка.
– Кошмар! – веско сказал Васечка. – Что ж это такое, а?
– Ты ж говорила, тебя встречать будут на высоком уровне, – язвительно прошипела Николаева.
– Давай претензии потом, – ответила Люся. – Сначала решим, что делать.
Но делать было особенно нечего. Выбираться из пансионата в темноте было практически нереально и даже опасно.
Васечка плечом сдвинул шкаф и забаррикадировал дверь.
Потом он стал искать, чем защищаться. Защищаться было решительно нечем, в домике не было даже вилок.
Тогда он взял в руки стул и встал у окна.
– Живым не дамся! – прохрипел он, и обе подруги неожиданно рассмеялись.
Впрочем, это была действительно тяжелая ночь.
Часа в три кто-то из двоих хозяев «Энергетика» вернулся и начал колотить в дверь. Они не открывали, прижавшись друг к другу.
Так прошел еще час.
Когда закричали петухи, послышался шум отъезжающей машины.
– Пора! – шепнул Васечка.
За пять минут они покидали вещи в чемоданы и ринулись к выходу. На шоссе они нашли остановку и дождались утреннего автобуса. Женщины, которые в шесть утра ехали на работу, смотрели на них недоверчиво и даже немного осуждающе, но без особого интереса.
В автобусе они выяснили, где можно еще остановиться, и поехали в другой пансионат, не такой хороший, но тоже ничего, как объяснил им водитель автобуса.
Там они легко устроились, заплатили за путевки и прожили прекрасные две недели.
За все эти две недели с ними больше ничего опасного не приключилось. Напротив, народ кругом был исключительно доброжелателен к гостям из Москвы, гостеприимен и радушен, но без лишней назойливости.
Неприятный эпизод они решили оставить в категории глупых и случайных.
Никто их в Дагестане больше не искал, ни с угрозами, ни с извинениями.
Накатать жалобу на т. М. Сергеева, расписать во всех подробностях этот кошмар Финкельштейн решила совершенно твердо, но по возвращении в столицу почему-то передумала, слишком много было насущных дел.
Васечка тоже об этом никогда не вспоминал. Видимо, ему было не очень приятно вспоминать пережитый тогда страх.
Он все-таки женился на Николаевой, и они прожили немало счастливых лет, пока – уже в 90-е годы – он не стал очень много зарабатывать и у него от этого слегка не поехала крыша, что привело к некоторым изменениям в их личной жизни, хотя официально они все равно не разводились.
Финкельштейн постепенно росла, доросла до заведующего отделом, потом родила девочку, а потом стала брать работу на дом, редактировала переводные рукописи для одного издательства, много на этом не заработаешь, но машину она все-таки себе купила и ездила каждое лето с девочкой в Крым, но не на машине, а на поезде, причем билеты покупала всегда заранее.
Когда Финкельштейн с Николаевой встречались и по старой памяти весело надирались, употребляя за один вечер три-четыре бутылки сухого вина, они порой – увидев, например, меня или какого-то другого персонажа, который казался им смешным и нелепым, вдруг замирали и кричали хором страшными голосами:
– Партбилет положишь, сволочь!
И потом долго ржали, совершенно счастливые.
А люди улыбались, глядя на них и не понимая, почему так по-детски смеются эти две уже почти совсем взрослые женщины.
Сумка из магазина «Охотник»
Нюша Линдер, русская, из семьи служащих, член ВЛКСМ с 1974 года, проживающая в городе Москве на улице Маши Порываевой, однажды решила креститься в православную веру.
Мама Нюши Линдер сначала сделала вид, что ничего страшного не происходит: ну, креститься так креститься, в конце концов, многие взрослые, вполне интеллигентные люди в городе Москве тайком ходили в церковь и даже принимали у себя на дому священников – и ничего, не умерли вроде бы пока, она даже привела в пример какую-то далекую, не известную Нюше семью, где мать семейства вообще отправилась в Оптину пустынь одна и чуть ли не пешком… Но потом мама замолчала, печально глядя Нюше в глаза, и произнесла загадочную фразу: «Ну что ж, видимо, папе придется попрощаться с работой…»
Потом она шумно вздохнула и, сказав: «Ладно, я с ним поговорю», встала с кресла и вышла из комнаты.
И стало тихо.
Эта внезапно наступившая в квартире тишина была для Нюши значительно страшнее любых скандалов. Скандалы, связанные, как правило, с какими-то мелкими ее проступками, были как раз совсем не страшны – но когда родители вдруг замолкали, переставая с ней разговаривать, это означало, что они переживают случившееся, ищут выход, и вот тогда она чувствовала жуткий стыд, и страшное чувство вины обрушивалось на нее.
Нюша сказала им об этом – что она верит в Бога, – когда ей было всего лишь пять лет. Это случилось с ней на даче. Тогда, на даче, она вдруг проснулась ночью и подумала, что тоже умрет.
Умрет, как, наверное, умирают все люди.
Это было так страшно, что сначала ей было трудно дышать, а потом жутко похолодели руки и ноги. Она не могла кричать, хотя родители спали в соседней комнате, верней на застекленной веранде, не могла их позвать, эта секунда все длилась и длилась, она с ужасом рассматривала в темноте знакомые предметы – шкаф, письменный стол, настенные старые часы, потом фантазия подсказала ей дальнейший ход событий – сначала комната освещается неярким утренним светом, потом начинается легкий шум на улице, потом входит мама, чтобы позвать ее на завтрак, и сначала она не понимает, а потом вдруг начинает видеть, что Нюша не дышит, потом мама трогает ее, потом кричит, потом сразу начинаются похороны, ее одевают в какое-то черное платье или коричневое, школьное, одевают, как куклу, потому что она уже не шевелится, и чтобы как-то остановить эти страшные картины, Нюша вдруг подумала, что это не может произойти, потому что Бог есть.
Бог есть. Да. Бог есть.
Эти два слова внезапно помогли ей справиться со страхом.
Она не спала почти до рассвета, думая о Боге.
Утром она встала и за завтраком рассказала об этом родителям.
Потом шаг за шагом они продвигались с мамой по этому пути, преодолевая то одно, то другое сложное препятствие. Сначала были просто разговоры о Боге, о том, почему в их семье не верят в Бога, нет, почему же, сказала мама, в нашей семье верят в Бога, но в церковь не ходят, так получилось, потом были разговоры о том, почему об этом нельзя говорить в школе, потом были разговоры о том, кто такие атеисты, «нет, это не те, кто не верит в Бога, это те, кто верит, что Бога нет, это просто такая вера, понимаешь?» – сказала мама. Потом были разговоры о том, можно ли верить в Бога, не читая Библию, потом появилась и сама Библия – крошечная карманная книга в зеленой коленкоровой обложке, которую баптисты раздают советским морякам при отплытии из иностранных портов, там были буквы на современном русском языке и замечательная почти прозрачная папиросная бумага – ее принесла мама и торжественно подарила на день рождения, Нюша такую легкую тонкую бумагу видела впервые, потом она много лет читала эту библию, по одной главе перед сном каждый день, думая над каждой строчкой, потом она научилась говорить об этом с папой, папа брал с полки художественные альбомы, открывал картины и разговаривал с ней о сюжетах, она не понимала, почему все эти люди, посещающие музеи, ничего об этих сюжетах не знают и вообще не понимают, кто тут изображен, папа в ответ на ее вопросы пожимал плечами и молча улыбался…
Одним словом, за прошедшие годы все сложные препятствия были постепенно преодолены.
Но в данном случае препятствие было очень большое. Оно было большим настолько, что Нюша потеряла самообладание и все же заплакала. Мама не хотела вести ее в церковь. Она боялась.
У них была домработница Оля, которая жила в коммуналке и приходила к ним два раза в неделю убираться и «помогать по хозяйству». Оля стирала, иногда ходила в магазин, сама она была из Рязани – это была простая женщина, но в то же время и «почти член семьи», так вот, Оля случайно узнала от мамы, что «Нюша хочет креститься» и поэтому плачет, она долго не могла взять в толк, в чем проблема и почему нельзя просто пойти в церковь и «все это сделать». Вот я же крещеная, сказала она, и что такого, меня мать крестила, а мою мать – ее мать. Пришлось маме пойти на кухню и сделать чай, мама аккуратно нарезала эклер и подала на стол, сели втроем, помолчали, случай был особый, нужно было наконец окончательно разобраться – ну как почему, сурово сказала мама, будут неприятности, у папы будут неприятности, у дедушки будут неприятности, он вообще у нас очень ответственный работник, без пяти минут союзный пенсионер, а вы в школе-то не говорите! – воскликнула Оля, зачем им знать, вот и все! – Оля, укоризненно сказала мама, ну ты-то взрослый человек, ну почему я тебе должна объяснять простые вещи: если человек приходит в церковь креститься, венчаться, его записывают, вот и все, отправляют его данные в милицию, в КГБ, я не знаю, куда там, но отправляют, это известные вещи, я сто раз ей говорила, она может ходить в церковь, и она ходит, но если она будет креститься, у папы будут неприятности, и у дедушки тоже, ну это же понятно, мы же не вчера родились, мы знаем, в какой стране живем, Оля потрясенно молчала, надо же, сказала она, а я ничего этого не знала, потом она вдруг шумно отхлебнула чай и радостно воскликнула: слушайте, а давайте мы покрестим ее у нас, в Рязани! У нас этого ничего нет, я точно знаю! У нас одни бабки в церковь ходят, там никого не переписывают. У нас это просто… Я там священника знаю, он точно не перепишет.
Нюша смотрела на маму, а мама – на нее.
Поездка в Рязань созревала долго, в январе о ней начали говорить, и только в конце марта папа сказал, что пусть едет в конце концов, если так загорелось, было понятно, что отговорить Нюшу уже не удастся, она даже в школе уже не могла сосредоточиться ни на чем, сидела и представляла себе эту далекую Рязань, она вся виделась ей в куполах церквей, тихие деревянные домики и все такое, ехать в Рязань вдруг захотела и ее подруга Лена Кожемякина. Мама долго и наедине говорила с Леной, сидя на кухне. Нюша ждала итогов разговора в другой комнате, тяжело дыша от волнения: а знают ли родители, а как они относятся, но подруга Кожемякина была тверда и непреклонна, как сталь, все знают, ничего не боятся, а вы позвоните сами, если хотите, но мама звонить не стала, не боятся так не боятся, ей казалось, что Кожемякина просто заразилась от ее дочери – даже не самой идеей поверить в Бога или что-то там такое, а этой безумной страстью поехать в Рязань, скрыться в этой земле обетованной, и в последний день мама не выдержала, и тоже заразилась, и взяла третий билет, и села в поезд вместе с ними, кроме того, с ними ехала и домработница Оля. Вся эта компания с чемоданами, конечно, выглядела очень странно, и папа, вызвав им такси по телефону, не мог сдержать улыбки, пусть и тревожной. Маму он поцеловал, а Нюшу не стал, сказав ей, чтобы вела себя «нормально», с Олей сухо попрощался, Кожемякиной просто кивнул. Мама по-прежнему страшно боялась, и хотя теперь – когда она ехала с девочками сама – ей было гораздо спокойнее, на душе у нее по-прежнему кошки скребли. В какой-то момент мамин характер все-таки дал себя знать, они пошли в вагон-ресторан и решили немного выпить и закусить. Оля осталась в купе сторожить вещи.
Ей они тоже принесли коньяка в граненом стакане, но Оля пить не стала – коньяк так и остался стоять на столе, слегка подрагивая и переливаясь коричневым цветом в железнодорожной ночи. На верхних полках лежали Кожемякина с Нюшей и не спали, глядя на огни, до шести утра.
Гостиница, которую заказала мама, была жуткая, в ней были невероятно длинные коридоры с пыльной ковровой дорожкой, скрипучая мебель, адский буфет с котлетами – пока искали, где позавтракать, прошло время, и Оля сказала, что сегодня, может быть, уже идти не стоит, лучше завтра рано с утра, она за ними зайдет от родственников, и лучше натощак, платки не забудьте, но мама сказала, что целый день в ожидании – это для нее слишком, и они собрались и пошли по указанному адресу.
Шли вчетвером по улице, молча и сосредоточенно.
Нюша искоса посматривала на маму. Мама была как всегда хороша, яркая, красивая, очень молодая, в шикарных замшевых сапогах фиолетового цвета, привезенных папой из Италии, в бежевом плаще на молнии, в небрежно накинутом на длинные волосы цветастом платке – но лицо у нее было растерянным, очень растерянным, что-то было совсем не так в этом лице, и Нюшу буквально кольнуло в сердце, она даже замедлила шаг, ей стало до безумия жалко маму, но было уже поздно…
Идти было не близко, минут двадцать, и за это время в душе у Нюши все перевернулось – теперь она видела всю эту ситуацию ясно и отчетливо: из-за ее безумного, просто безумного упрямства все эти люди – мама, Оля, подруга Кожемякина – отправились в это путешествие, неудобное, невероятное, немыслимое, все они здесь, чтобы не оставлять ее одну перед этой проблемой, но что это за проблема – она и сама не знала, и другим не могла бы объяснить.
Внезапно взгляд ее упал на ягдташ – так называлась кожаная охотничья сумка, которую мама покупала вместе с ней в магазине «Охотник» на Каланчевской улице, сумка была необычайной красоты – из выделанной легкой кожи, с накладными кармашками, кучей отделений, ремешками и железными кольцами, красной сеткой внутри, маленький ягдташ стоил 3 рубля 50 копеек, а большой ягдташ 7 рублей – мама объяснила ей тогда, что нормальной женской сумки в городе Москве все равно не купишь, а вот эта вещь – она замечательная и «смотрится прекрасно».
Мама покупала ягдташ подруге на день рождения, а ей велела выбирать – большой или маленький. Продавец, солидный немногословный мужчина, торговавший в основном дорогими ружьями и патронами, смотрел на них спокойно, вежливо, но безо всякого интереса, который можно было бы предположить при виде двух дамочек, молодой и постарше, вдруг залетевших в это царство мужских страстей, – но он уже все знал и все понимал: маленькие партии ягдташей разлетались за какие-то несколько дней, он спокойно ждал, пока Нюша выберет модель, большую или маленькую, она вертела в руках это чудо чудное, диво дивное – и не могла выбрать: все было так красиво, так модно, так замечательно, что ей даже не верилось, только было неудобно, ягдташ был очень дорогой, может быть, все-таки сэкономить мамины деньги? – берите большой, наконец сказал немногословный мужчина, туда и книги влезают, и тетради, проверено уже, – она кивнула и с пылающими щеками сама пошла пробивать чек в кассу.
Мама купила для подруги тоже большой, они вышли из магазина «Охотник», взволнованные событием, и мама сказала: вот, я тебе говорила, Нюша, не нужно, чтобы было обязательно дорогое, супермодное, но лучше, чтобы было необычное… Не как у всех.
Благодаря маме она научилась вязать и связала себе несколько вещей не как у всех – длинные хипповские пончо, такие накидки, кофты с очень длинными рукавами, даже юбку спиралью.
«Не как все» – это был ее естественный выбор.
В их пятиэтажке, в трехкомнатной кооперативной квартире, собирались сотрудники маминого института, иногда приходило человек по тридцать, громко разговаривали, курили, танцевали, рассказывали анекдоты, хохотали, настежь открывали балконную дверь даже зимой, она любила эти вечера, хотя потом оставалась гора посуды, которую она мыла вместе с мамой, но это были блестящие, веселые, красивые люди, и от их разговоров у нее порой просто кружилась голова. Мама с папой отдельно решали вопрос: «можно ли все говорить при Нюше?», решили, что да, она уже взрослая, что можно, ей было всего четырнадцать, и это был невероятный повод для гордости, «но только, пожалуйста, ни слова в школе, ни слова». Поэтому она знала все, она знала, что они посылают в лагерь Синявскому деньги и продукты, знала, что все они подписали письмо в защиту Вайнштока, когда того уволили из института. Она читала «Архипелаг» на такой же папиросной бумаге, как Библия, и «Хронику текущих событий», отпечатанную на машинке, а когда Вайншток собрался уезжать и «сидел в отказе», они собирали ему деньги на отъезд для всей семьи, потому что собравшиеся покинуть СССР по еврейской линии должны были, по решению Политбюро, выплатить «деньги за образование» и деньги пришлось собирать, а это были какие-то несметные тысячи рублей, скидывались всей Москвой, и она тоже все это знала.
Каждое событие в жизни родителей она воспринимала как свое, личное, более того, как главное, и когда она рассказала маме, что Варвара Семеновна, завуч, классный руководитель и учитель литературы, их бьет, то есть стучит по затылкам, орет на уроках, обзывая их распустившимися свиньями, проститутками и мерзавцами, мама, задыхаясь от негодования, сказала ей: «Ты не должна их бояться, понимаешь? Мы не должны их бояться!»
Папа, он был талантливым художником, участвовал в выставках, продавал свои работы в художественном салоне, смотрел на всю эту компанию немного со стороны, соблюдал дистанцию, но тем не менее этот выведенный мамой, не специально, не в виде догмата, а просто для жизни, – закон – «не-будь-как-все-и-мы-не-должны-их-бояться» он свято соблюдал и в своей, глубоко закрытой для посторонних творческой жизни, не брал заказы на художественном комбинате, всех этих юбилейных Лениных и «партия-наш-рулевой для заводоуправления номер 13», обходился без этого, а значит, тоже жил «не как все», повинуясь этому закону, который в Нюшиной голове назывался не иначе как «мамин закон», то есть закон, который изобрела и сформулировала мама.
Мы не должны их бояться…
И вот теперь мама шла вместе с ней в эту рязанскую церковь, хотя ей было это очень трудно и тяжело – но шла, в своих замшевых сапогах и плаще на молнии, шла, без тени упрека, но с очень растерянным выражением на лице, и Нюше на самом деле захотелось ее обнять и заплакать.
Но она не могла.
Никаких «куполов церквей» в Рязани, конечно же, не было (кроме Кремля), это был обычный город, только чужой и неестественно хмурый, зато вскоре по ходу их движения обнаружились «домики», которые она так часто представляла себе. Вокруг домиков росли деревья, на заборах сидели кошки, и от сердца как-то отлегло.
– Скоро уже дойдем, – сказала Оля. И зачем-то прибавила: – Отец Михаил хороший человек.
Мама вздохнула и решила покурить.
Они остановились.
– Это тоже грех, – несмело сказала Оля.
– Оль! Я тебя прошу! – ответила мама, нестрого, но внятно.
…В церкви было крайне малолюдно, но шла служба – пел хор из двух человек, два высоких женских голоса выводили непонятные слова. Священник махал кадилом, кадило странно позвякивало, сверху, от высокого купола, показалось Нюше, шел свет – какой-то не такой, и она подняла глаза и долго молчала, пока ее не подтолкнула в плечо Оля, мол, надо идти, и они подошли с подругой Кожемякиной к отцу Михаилу, который крайне удивленно смотрел на них, машинально благословляя.
Наконец подошла и мама.
– Здравствуйте, – сказала она и улыбнулась.
– Доброго здравия, – вежливо ответил он и поклонился.
– Вот… Приехали мы к вам из Москвы. Креститься. Моя дочь и ее подруга. Это Нюша, а это Лена. Примете нас?
Мама сказала это очень хорошо, просто, естественно, но почему-то Нюше в этот момент стадо стыдно, ей показалось, что мама таким же голосом попросила бы за нее и в других местах – в какой-нибудь поликлинике, в магазине каком-нибудь, по самой что ни на есть неотложной надобности, и голос ее звучал бы в этот момент так же хорошо, просто и естественно – так, что не откажешь.
– Что ж… – подумав немного, ответил отец Михаил. – Дело хорошее. Но почему же из Москвы? В Москве вроде бы тоже приходы есть и священники.
Возникла тяжелая пауза. Мама покраснела. Оля что-то быстро и горячо зашептала на ухо отцу Михаилу, неловко взяв его за рукав рясы, он ее, видимо, действительно помнил и не сопротивлялся.
Лицо у него было широкое и несколько жестковатое. Борода начала седеть, а глаза из-под кустистых бровей глядели пронзительно.
Он молчал и ждал, что скажет мама.
– Ну… понимаете… – сказала она. – Если у моего отца или у ее отца на работе узнают, будут большие неприятности. У нас в Москве это… не поощряется.
– У вас отец член партии? – быстро спросил он.
Она кивнула.
– А звать вас как, простите?
– Елена Васильевна, – еще больше покраснела она.
– А дочь ваша, значит, Елена Васильевна, в Бога уверовала?
– И она, и подруга ее.
Он опять помолчал.
Потом что-то прошептал себе под нос, перекрестился и сказал:
– Знаете что я вам скажу? Отказывать вам с моей стороны было бы, конечно, немилосердно. Да и я же вижу, что женщина вы умная, благородная. Приехали вы издалека, из хороших побуждений, и все такое. Но понимаете ли, какое дело… Если даже я войду… так сказать, в ваше положение. Ну вот поймите меня сами. Вы вроде и креститься хотите, и в то же время – чтобы это осталось как бы в тайне. Как будто делаете что-то нехорошее, постыдное. Ну как вот мне к этому относиться? Получается, что я как бы грех ваш, что ли, перед кем-то покрываю?
Мама растерялась.
Несколько секунд все молчали.
– Я не знаю… – просто сказала мама. – Как скажете, так и будет.
Он тяжело вздохнул.
– Ну хорошо… – сказал отец Михаил, глядя сначала куда-то в сторону, а потом на маму. – Приходите завтра, примерно в десять утра. И рубашки белые вам нужны, не забудьте.
Посмотрев на маму каким-то совершенно другим уже взглядом, более легким и светлым, он вдруг сказал:
– У вас-то рубашка есть, Елена Васильевна? Белая, крестильная?
– У меня? – удивилась мама.
– А что? Вы-то что ж, креститься не собираетесь?
– Я?
– Ну знаете что, – сказал отец Михаил с легкой улыбкой. – Так я все-таки не согласен. Или давайте все вместе, или никак.
Они вышли из церкви, и мама вдруг куда-то пошла, отдельно от них, недалеко отойдя от дороги, взяла снега в руки, сняв перед этим перчатки, и похлопала этим снегом себя по щекам.
– Ну Нюша… Ну девочка… – сказала она и вдруг рассмеялась.
В восемь утра Оля осторожно постучала в дверь и вошла в номер. Мама уже была одета, а они с Кожемякиной еще лежали.
В руках у Оли был сверток – в газетке, перевязанный веревочкой.
Она развернула его и показала три белые нательные рубашечки – простые, белые, не новые, но стираные и поглаженные.
– Ну а где вы тут достанете? – просто сказала она. – В магазине? У нас магазины знаете какие?
Мама велела им быстро вставать и мерить рубашки. Сама ушла в ванную.
– Как влитая! – доносился оттуда ее голос. – Спасибо тебе, Олечка! Ты наша спасительница.
Хорошее настроение у мамы сохранялось почти весь этот волшебный день. Она шутила, смеялась, обращала их внимание на то, что сегодня впервые чуть ли не за месяц выглянуло солнце, и это хороший знак, от нее вдруг запахло духами, и вообще она была очень красива, несмотря на то что сменила свой шелковый батник с розовыми цветами по бледно-зеленому фону на простую белую рубашку.
Пожалуй, был только один момент, когда она несколько посуровела и осунулась, – когда Оля шепотом ей объяснила, что нужно «снять чулки» и встать ногами в таз с водой.
Ничего этого мама не знала.
Она села на какой-то стульчик, отвернувшись от всех, и стала деловито снимать колготки, что было нелегко в переполненной церкви (на сей раз она была переполнена).
Вид мамы, снимающей прямо при всех колготки, потряс Нюшу и Кожемякину.
Все-таки она была уже взрослой женщиной, а они-то девчонки, на них никто и внимания даже не обратил, хотя им пришлось делать примерно то же.
Нюше казалось, что в церкви наступила какая-то грозовая тишина, когда мама наконец, справившись с этим делом, аккуратно положила колготки и спокойно встала со стула.
Вообще Нюша мало что запомнила, кроме этого момента, – восприятие было настолько обостренным, что она чувствовала себя как в тумане, на какой-то другой планете, а подруга Кожемякина, напротив, внимательно смотрела вокруг и все старалась запомнить.
…И вот она встала ногами в этот огромный таз, и на голову ей пролилась жидкость, и стало свежо и ясно, и над ней произнесли молитву, и нарекли ее Анной, и дали ей именинный день, день ангела, и Оля (крестная мать) ходила вокруг с книгой и что-то приговаривала, постоянно путая слова, и тут все кончилось, и нужно было уходить, что было даже как-то обидно.
Она помнила, как поцеловала свой крестик и в этот момент подумала, что все это так и должно быть и Бог действительно есть, не зря она Его позвала тогда, на даче, когда ей было пять лет.
Когда они уже пришли в себя, и опять надели колготки, и стали даже как будто прежними, и вышли на улицу, отец Михаил вдруг выскочил их проводить.
– Елена Васильевна! – окликнул он. – Нюша! Лена!
Они подошли, он снова всех перекрестил, дыша морозным мартовским паром.
– Ну вы… приезжайте. И, конечно, найдите в Москве батюшку, это обязательно. Понимаете, обычно ведь люди готовятся, постятся, читают книги, изучают, так сказать, историю вопроса. У нас с вами это… несколько по-другому получилось. Немного вдруг. Но… раз такое дело.
– Спасибо! – тихо сказала Нюша.
– Я никогда вас не забуду, отец! – сказала мама.
И тут покраснел он.
– Ну что вы, что вы…
– А ты тоже приходи, дочь… – строго обратился он к Оле. – Не забывай. Теперь на тебе духовный долг.
Еще раз перекрестив их всех, он закрыл за собой тяжелую дверь. И они оказались на улице.
– Ну что, ты теперь другой человек? – спросила ее мама в поезде. И улыбнулась. Она не ждала ответа.
Позднее, когда я познакомился и подружился с Нюшей Линдер, она рассказала мне еще один случай из своей жизни. Это у нас будет ну что-то вроде эпилога, что ли.
– Понимаешь, – сказала она, – несколько долгих лет я жила как в тумане, было очень тяжело, ну потому что я просто не знала, а что же теперь я должна делать, да, я читала Библию, но священника по-прежнему не было, ни исповеди, ни причастия. И вот меня очень мучила эта мысль о грехе, понимаешь?
Я кивнул.
– Вот был такой случай. Мы с Петей, это был мой мальчик, поехали куда-то, на какую-то встречу, с каким-то преподавателем, и я почему-то должна была ехать вместе с ним, и на обратном пути мы попали под страшный ливень, я вымокла до нитки, и вот мы зашли к нему, в родительскую квартиру, в Новых Черемушках, родители были на даче, я все с себя сняла, надела какой-то чужой халат и стала гладить платье, чтобы оно скорей высохло. И тут раздается поворот ключа в двери! Они приехали!
А я в халате его мамы…
Ты не представляешь, конечно, все было очень мило, меня поили чаем, успокаивали, но я все никак не могла остановиться, я рыдала, рыдала, я не могла остановиться, мне было так обидно, ведь ничего не было, понимаешь, вообще ничего, но был грех, я постоянно думала, что живу во грехе, что это страшнее всего, что я крещеная, а живу без исповеди и без причастия, во грехе… И вроде все было хорошо, но я никак не могла избавиться от этой мысли. И тогда…
Нюша курила и смотрела на меня.
– Да ладно, что ты… – сказал тогда я, боясь, что она и сейчас заплачет.
– Да… – сказала она. – И тогда я пошла в первую попавшуюся церковь. Просто шла по улице и зашла. Вот так было. Вот так. А потом я вышла замуж, пошли дети, и я воцерковилась. Да.
…Мы в тот день попрощались, она пошла к себе домой, а я к себе. Нюша шла по улице спокойно, чуть семеня, и смотрела себе под ноги. Сколько я ее помнил, она всегда носила эту иссиня-черную челку, нависающую над прозрачными серыми глазами.
А я смотрел вслед ей и думал про то, что Бог есть. Вот тот самый, который тогда на даче. Во всех других я почему-то не верю.
Груша с Центрального рынка
Однажды, когда я в какой-то очередной раз предложил Ире «просто погулять по центру», она вдруг попросила меня прийти к Центральному статическому управлению СССР.
– А это где? – очень удивился я.
Она объяснила.
– А зачем мы туда идем? Что-то будем считать?
– Там есть одно место. Я просто хочу тебе его показать, – уклончиво сказала Ира.
О том, что это здание проектировал великий скульптор Корбюзье, она мне рассказала уже на месте. Мне хотелось спросить, кто это, но я не стал.
Как-то сразу поразил сад.
Да-да, во дворе Центрального статистического управления СССР, этого фанатично-прямоугольного здания постройки 30-х годов ХХ века, с облицовкой сиренево-фиолетового оттенка, тогда еще простодушно цвели белые низкие яблони. Акация, вишня, жасмин, то есть чубушник, стелящиеся папоротники, ну и прочие растения.
Их было так много, что я просто ахнул и сел в аккуратно подстриженную траву возле металлического забора.
Она тоже села и медленно достала термос.
Нас сразу стало не видно с улицы.
– Ничего себе, – только и посмел сказать я.
Она молча улыбалась.
– Иногда мы с ребятами здесь пьем вино, – скромно сказала Ира.
Я понял, что речь идет о скейтбордистах. Героических людях, постоянно ломающих себе то руку, то ногу.
Авессаломова Ирина, 22 года, маленькая блондинка с пухлыми щеками и слишком узкими бедрами. По-моему, никогда я не видел ее в юбке. Хотя нет, одно время была у нее какая-то такая длинная, до пят почти, скрывавшая ноги и болтавшаяся кое-как, похожая на рабочую одежду, она носила ее с кедами и белыми носками.
Еще у нее было серьезное увлечение – Ира каталась на скейтборде.
Доски в Москве еще только появились. «Фирменные» стоили каких-то немереных денег: девяносто рублей, сто, сто пятьдесят. Многие поэтому делали самодельные. Такие самокаты без ручки.
Но все говорили – скейтборд. Или просто – скейт.
Ире дали в редакции такое задание – написать о новом увлечении молодежи.
Она пошла, добыла старую доску (фирменную, но б/у) и стала проводить с этой «молодежью» целые вечера напролет.
Она сидела в приемных покоях травмпунктов и больниц, иногда целыми сутками. Носила домашние пирожки. Книги, газеты. Брала на поруки из милиции. Писала письма по месту работы на редакционном бланке.
Меня все это раздражало.
Ее всегда тянуло к молодым здоровым балбесам, которые были моложе ее на несколько лет.
Вина я с собой, конечно, никакого не взял.
Я же не знал, что тут будет такое место.
Мы еще немного помолчали.
Я попытался положить свою ладонь на ее ладонь с невротически обстриженными до самых корней ногтями. Руку она убрала, даже не посмотрев в мою сторону. Кусала травинку и о чем-то думала.
Тогда я просто лег на спину и расслабился. Надо мной висел какой-то первый сумасшедший летний жук и скромно жужжал. Было слышно, как иногда проезжают машины. В субботу утром Москва была совершенно пустой.
Я закрыл глаза, и радужные пятна заскользили перед моим лицом – сквозь веки. Яблоневые цветы кружились от ветра и создавали в голове кутерьму. Я тихо уплывал.
Открыв глаза, я увидел, что Авессаломова насмешливо щурится.
«Зачем вообще эти дурацкие поцелуи? – раздраженно подумал я. – Кому они нужны? Это же прошлый век…»
Здесь были не только плодовые деревья, конечно. Покачиваясь на тонких ножках, шелестели странные голубые цветы. Возможно, это были флоксы, а возможно, фуксии.
И еще что-то росло, и еще, и еще…
Это было похоже на маленькую волшебную дверь в стене. Не зря же она меня сюда привела.
Я приподнялся и положил голову на согнутую в локте руку.
– Ты часто сюда приходишь? – спросил я ревниво.
Она засмеялась.
Выросший в блочных домах, в спальных районах, я всегда мечтал о девушке, которая жила бы в центре Москвы. Я знал, что Авессаломова живет на бульваре, в минуте ходьбы от Центрального статистического управления СССР. И надеялся, что потом мы зайдем к ней, ну может быть на полчаса. Ведь могут же быть у ее мамы какие-то дела в субботу?
Но Ира не хотела отсюда уходить.
Эта девушка была полна героизма, хотя сама, может быть, не осознавала этого.
Когда я думаю о том, как она отчаянно пыталась спасти разных людей, мне порой становится больно. Заслуживали ли мы (мы все) того, чтобы нас спасали? Конечно же нет. Никто этого не заслуживает. По крайней мере, из мужчин.
Первыми, на кого стал простираться этот ее болезненный героизм, были ребята из ее двора – совершенно жуткая потомственная шпана Цветного бульвара, поскольку здесь с 1930-х годов, а то и раньше, селилось всякое московское отребье, внутри этих тихих двориков вокруг Сретенки располагалось, как ни странно, глубочайшее московское дно: старые блатные, просто настоящие убийцы, воры всех мастей, дешевые проститутки (еще тех, былинных сталинских лет), густо накрашенные и пьяные с самого утра, вообще люди, не знающие пощады, у которых была какая-то совсем уж своя мораль. Именно они устроили после войны в прилегающей к Сретенке Марьиной Роще и в далеких Сокольниках огромную воровскую республику, все они уходили из жизни легко, харкая кровью, оставляя в этих дворах следы своей первобытной культуры, – и они, эти следы, вообще-то никуда не девались вплоть до 80-х годов, а то и позже. Здесь нельзя было оставаться одному в темноте, здесь обязательно были дворовые банды, правда теперь они состояли уже не из здоровых мужиков, как после войны, а из ребят двенадцати-тринадцати лет. Они попадались на смешных преступлениях, которых настоящие воры уже не совершали: залезали в открытые форточки самых обычных квартир, грабили табачные ларьки, в которых нечего было взять, кроме спичек и сигарет, они избивали одноклассников, требуя денег, и все это им не сходило с рук, нет – их быстро ловили, их ставили на учет, их сажали.
Так вот, эта девушка, учившаяся на юридическом факультете университета, самоотверженно спасала их в милиции, она приходила в отделение и начинала дружить с милиционерами, ласково разговаривать с ними. Она находила дежурного офицера, предъявляла свой студенческий билет и редакционное удостоверение и пыталась спасти этих маленьких подонков от заслуженной кары. Похожая на большого ребенка Авессаломова часами сидела в этих голых тоскливых помещениях ради одного только разговора с каким-нибудь капитаном, бесконечно ждала, читая книжку, голодная, не евшая с утра, и подпитывалась только этим своим героизмом. Эти дурные дети с плохими наклонностями – все они были ее братьями, гномиками из сказки, они курили с шести лет, пили водку с восьми, пытались стать мужчинами с двенадцати, так было надо, они знали, что так надо, и она, которая помнила, как играла с ними в штандер или «Сыщик, ищи вора», сразу становилась им матерью и сестрой. Зачем, я никогда не мог этого понять, я думал об этом ночами напролет, почему они, а не я, и смог придумать только одно – эти игры во дворе, в раннем детстве, в них было все дело, она была похожа на их сверстницу, на мальчика, и они охотно ее брали, даже в футбол, они считали ее за ровню, и это были единственные на всей земле люди, которые не пытались ее учить, говорить с ней снисходительно, которые не считали ее испорченным экземпляром нормальной женской особи, ей было это настолько важно, что, впервые замолвив слово перед суровым милиционером за одного из них, она вдруг ощутила в себе прилив крови, такой нешуточный адреналин, что ей стало жарко.
Теперь она на небе, там не нужен героизм, по крайней мере я так думаю, и вот, когда я смотрю внутрь себя, мне кажется, что я целую ее желтые пальцы, пропитанные никотином, и вся она пропитана никотином, с ней невозможно целоваться, но я этого хочу, и это остается со мной навсегда, как будто она улетела в космос, а я остался здесь, мне тогда казалось, что я знаю все ее неврозы, буквально все, гораздо лучше других людей, а это был человек, сотканный из неврозов, из мании преследования, из навязчивых идей и навязчивых движений, когда она яростно чесала затылок, я понимал, что это не просто так, – и весь ее героизм, он тоже был невротического характера…
Как-то раз она пришла на свидание с палочкой и в гипсе. Катаясь на скейте, она подвернула или вывихнула стопу. Увидев ее, я сначала расхохотался, а потом испуганно спросил, зачем же она пришла.
– Я не могла тебе позвонить, – гордо сказала она. – Чтобы ты не ждал меня напрасно!
Мобильные телефоны изобрели десять лет спустя, уличные автоматы вечно не работали – и порой часто бывало так, что друзья просто звонили в дверь, чтобы что-то тебе сообщить.
Авессаломова тут же села в такси и быстро уехала. Это был героизм чистой воды, и тогда я впервые задумался о его природе.
В те годы я часто встречал героических людей. Но это были люди другого типа – серьезные бородатые мужчины, ходившие в дальние походы, или женщины, которым некуда было девать огромную материнскую энергию, это были такие фабрики добра, рядом с которыми и стоять-то неловко, святые люди, энтузиасты. В ее случае и близко не было никакой фабрики, ей бы самой кто-нибудь помог, поддержал, откуда там было взяться избыточному материнскому теплу – Авессаломову саму невозможно было согреть, внутри нее бушевал ледяной ветер, настолько все было тяжело: ну, например, мать, которая однажды увидела, как она с мальчишками курит, а потом она пришла домой и от нее пахло вином, все стало совсем плохо, все сложилось в одну картинку, приходилось врать матери в промышленных количествах, это оказалось легче, чем она думала, – и это накапливалось, и она грызла свои пальцы и смотрела в сторону, когда я пытался с ней об этом поговорить. Этот дворовый портвейн, который в результате ее убил, потому что она посадила печень еще в раннем возрасте, ее мать, которая не понимала, что это за существо – не девочка и не мальчик, матери было невдомек, что на свет родились андрогины, другие люди, идущие по лезвию бритвы, я тоже этого еще не знал тогда, в 80-е, но я никак не мог остановиться, взять себя в руки, и часто пытался понять – а в чем же причина?
Наверное, причина была во мне.
Мне очень хотелось что-то ей подарить. Что-то такое, что бы запомнилось надолго, навсегда.
Так вот, как-то раз она мне сказала, что ей нравится античная драма – Софокл, Эсхил…
Это было изящно, и я пошел в букинист. Там античная драма шла по двадцать пять рублей, это была официальная цена, и я задумался, откуда взять такие деньги. День рождения у нее был зимой, кажется 8 января. Стоял трескучий мороз. Я долго перебирал, у кого можно занять, и потом стал пересчитывать все имеющиеся в наличии деньги.
Потом пошел на Центральный рынок.
Я закрыл за собой грязную стеклянную дверь и вошел в это полутемное, как мне показалось, пространство, с очень тусклым светом, кругом стояли грузины, узбеки. Это был один из старейших рынков нашего города, многие уже позакрывались к тому моменту, продавать было особо нечего, но этот – нет, он все-таки работал, и вот я увидел невероятные кисти зимнего винограда, мандарины, нежные, солнечного легкого цвета, почувствовал запах солений… Уходить не хотелось, и было страшно спросить, сколько чего стоит. Я увидел тогда эту грушу и шагнул к ней, она была огромна, красива, нежна, она светилась и сама была похожа на Авессаломову, если ее, конечно, избавить от комплексов, груша стоила почти пять рублей, не за килограмм, а сама по себе, потому что сама по себе она весила чуть ли не полкило. Я отсчитал все до копейки, оставалось только на метро, взял в руки – пакетов и пакетиков еще не было, мне аккуратно и осторожно завернули грушу в старую газету, потом еще в одну, я положил ее в сумку и пошел в редакцию.
Иру в редакции поздравили, подарили цветочки, всемером мы выпили бутылку советского шампанского, она была страшно рада.
Но со мной в этот вечер она никуда не хотела идти. Мама попросила ее купить какого-нибудь мяса на ужин. Ирка, сказал я, ну где ты сейчас купишь мяса, в нашем гастрономе нет мяса. Не знаю, сказала она, тогда котлет каких-нибудь. Ну ты иди, мне надо.
Огромными хлопьями падал снег. Было очень красиво смотреть на этот снег под фонарем.
Я тебе подарок принес, сказал я.
И достал грушу.
Она поднесла ее к глазам.
Хорошо, прошептала Авессаломова, я отнесу ее маме.
Я пожал плечами, повернулся и пошел.
Позднее она мне сказала, что груша ее поразила.
Такую грушу в те годы нельзя было купить в Москве. Только на Центральном рынке.
Но я был рад, что она отнесла эту грушу домой. В сущности, а чего бы я хотел? Чтобы она проглотила ее при мне, аппетитно слизывая сладкий сок с пальцев с обрезанными ногтями? Господи, какая ерунда.
Был только один день в нашей с ней короткой жизни, когда я был счастлив, около десяти минут, – тот день, когда мы сидели у забора Центрального статистического управления СССР, верней она сидела, а я лежал и думал о том, что Авессаломова очень большая, что она заполнила собой весь мой мир, как большой воздушный шар заполняет маленькую квартиру и уже не пролезает ни в дверь, ни в окно.
Мне казалось, что в этот момент и ей со мной было хорошо.
Умерла она лет через пятнадцать. К тому времени мы уже не общались, она была тяжело больна, но продолжала ездить в командировки и кого-то спасать. Ее хорошо знали в Генеральной прокуратуре, в Верховном суде, а она знала тонкости советского судопроизводства лучше любого адвоката и умела писать длинные, аккуратные, содержательные письма, после которых режим содержания могли облегчить, дело послать на пересмотр, а апелляцию принять.
Единственные в этой системе, с кем у нее всегда были контры, – это бывшие советские милиционеры.
Говорят, что именно они в тот день отравили ее специальной паленой водкой, и она умерла.
Отказали почки.
Я помню, как-то раз она приходила на работу со скейтбордом.
Я вышел ее проводить, чтобы посмотреть. Никогда не видел, как она это делает.
– Ну давай, – кивнул я.
Она улыбнулась и достала доску из огромной сумки, на которой было написано: «Олимпиада-80».
И поехала от меня по улице Правды, упрямо наклонив голову и объезжая редких прохожих.
…Такого платинового оттенка
Оля Рогачева (член ВЛКСМ с 1974 г.) пообещала Валерии Голубевой (член ВЛКСМ с 1975 г.), что сошьет ей платье «такого как бы платинового оттенка».
Вообще о Рогачевой было известно, что она какие-то вещи придумывает на ходу. И потом долго на них настаивает. Это было свойство ее характера, но, несмотря на это, никто ей не ставил в вину эти милые беспочвенные фантазии и все продолжали ее любить.
Однако это платье платинового оттенка почему-то не давало Голубевой покоя.
Она о нем много думала во сне и наяву. Черт его знает почему, но в рассказе Рогачевой ее зацепили какие-то детали – она почему-то ясно представляла себе эту «пожилую портниху, которая шьет на дому», и у нее «случайно» оказался какой-то такой отрез из роскошной ткани, и что она готова сшить «за недорого», и что Голубева «умрет», когда увидит, и вообще все это станет началом какой-то новой жизни, в которой она проснется как королева, а не как золушка.
Короче говоря, Валерия стала видеть платье во сне, но совершенно отдельно от себя – платье было живое, оно ходило, разговаривало, знакомилось с мужчинами, и это было даже как-то неприятно, потому что на самом деле Лера знала, что платье уже ей принадлежит и разговаривать само по себе не имеет права, не может, потому что она за него заплатила.
Вообще у Рогачевой было много таких разных историй удивительного свойства и содержания. Например, у нее был «роман с Гребенщиковым», наверное, как и у многих московских девушек в то время, он к ней довольно часто приезжал из Ленинграда, приходил всегда очень поздно, приносил дорогой коньяк, был человеком грубым и невоспитанным, но она терпела его хамство, потому что очень любила его песни.
– Хочешь, я тебя с ним познакомлю? – часто спрашивала она Голубеву.
Но Голубева не хотела…
Однажды Рогачева рассказала очень ярко и в живых подробностях историю своего случайного знакомства с Владимиром Высоцким – она возвращалась одна с концерта ансамбля народной музыки под управлением Владимира Назарова «Карнавал» (там у нее был знакомый музыкант, он играл на африканских бонгах) в киноконцертном зале «Россия», и вот она вошла в метро, уже около часа ночи, на площади Ногина, и вдруг к ней обратился какой-то мужик. Он стал ей рассказывать какую-то околесицу, ну просто нести всякий вздор, на который она даже не обратила внимания, – что он музыкант, что он очень устал, и что у нее очень красивые глаза, и что он очень нуждается в женском внимании, потому что жизнь его трудна и в чем-то даже непоправима, но она даже не посмотрела в его сторону, потому что «слышала такое уже сотни раз», и тут он другим голосом, немного иронично сказал:
– Девушка, ну вы хоть на меня посмотрите.
– Зачем мне на вас смотреть? – не поворачивая головы, ответила она.
– А вы все-таки посмотрите, – очень настойчиво сказал он, и она повернула голову и увидела улыбающегося Высоцкого.
Дальше он кого-то встретил и не поехал ее провожать, но это было уже не важно.
– А он был с гитарой? – нервно спросила Голубева.
Оля честно подумала.
– Не помню… – задумчиво сказала она. – Не обратила внимания. А что?
Все это было бы ничего и даже забавно, но вот это «платье такого платинового оттенка» вдруг совершенно расстроило их отношения.
Голубевой совершенно не хотелось про него слушать, а история между тем обрастала все новыми подробностями.
Обсуждалась, например, фурнитура. К этому платью была нужна очень дорогая фурнитура, а ее совершенно негде было достать в Москве.
– Ну понимаешь, там сзади будет… – и Рогачева начинала объяснять ей про петли, крючки, пуговицы, причем с такими подробностями, как будто оно было уже перед ней. Кстати, она сама умела шить, и очень хорошо.
Лере уже совершенно не хотелось про него слушать, про это платье, как вдруг однажды Рогачева сказала:
– На следующей неделе примерка!
Они долго договаривались о том, как пойдут к портнихе, во сколько, у какого метро встречаться, нужен ли задаток, какой замечательный сын у Марии Генриховны (так звали портниху), какая она вообще старорежимная замечательная тетка, что Лера получит удовольствие от самого процесса, что про деньги думать пока рано, там можно частями, и вообще Рогачева поможет, потому что она сама без ума от этого платья, и вдруг в последний день, когда Голубева уже начала по-настоящему волноваться, выяснилось, что портниха сломала ногу.
Голубева вежливо похмыкала, выразила сочувствие, но к разговору этому больше не возвращалась.
Потом портниха медленно выздоравливала, потом у нее была реабилитация, потом она уехала на дачу, все это было довольно мучительно…
Наступила осень, в Москве была неприятная, но правильная осенняя погода – сырой ветер, дождь, небо в тучах и противное настроение. Встречались они довольно часто, просто гуляя по центру, иногда заходили куда-то съесть мороженое и выпить кофе, и однажды Рогачева решила сделать признание.
– Слушай, я не знаю, зачем я это тебе говорю… Наверное, это эгоизм. Но мне так будет легче. В общем, я сделала аборт.
Голубева ахнула и поперхнулась кофе.
– От кого? – спросила она.
– Ну от него… – пожала плечами Рогачева. – От кого же еще.
Голубева тупо молчала, и тогда ей пришлось сказать самой.
– От Боба. Гребенщикова. Ну я же тебе говорила…
Этот момент Голубева запомнила очень хорошо.
Она вдруг увидела себя и ее как бы со стороны. Рогачева сняла плащ и сидела в своем любимом красном свитере. Волосы у нее были яркого золотистого цвета, глаза синие, все как положено натуральной блондинке, щеки от уличного холода раскраснелись. Лере Голубевой очень хотелось сейчас сказать ей: «Ну что ты делаешь, остановись…» – но она, конечно, не смогла.
Глаза у Рогачевой были полны какого-то нездешнего света, они переливались огнем, по лицу бегала улыбка страдания или счастья, это был настолько красивый, полный внутреннего огня человек, что устоять перед ним было невозможно.
Голубева вздохнула и выслушала всю историю до конца.
Однако после этого они стали встречаться гораздо реже. Какое-то время Голубева болела сама, потом заболела Рогачева, потом у нее начались отношения с мальчиком, которого Голубева когда-то, на первом курсе, любила, обсуждать такие вещи было не в ее характере, отношения плавно сходили на нет, как вдруг Оля позвонила и предложила встретиться «по очень важному делу».
Они встретились в кафе на Горького, в «этажерке».
– Слушай… – сказала Рогачева и разжала кулак. – Там у нее лежали сильно смятые и оттого еще более невероятные четыре сиреневые бумажки по двадцать пять рублей.
Помолчали. Рогачева внимательно смотрела на Голубеву.
– Ну что ты молчишь, ничего не спрашиваешь… – тихо сказала она.
– А про что спрашивать? Я не понимаю, – ответила Голубева.
– Слушай, я позвонила Марии Генриховне. Она сказала, что тот отрез по-прежнему у нее. Я знаю, что у тебя нет денег, и вот решила тебе занять. Ведь ты же очень хотела это платье, правда?
От неожиданности Голубева заплакала.
– Послушай… – всхлипнула она. – Зачем ты мне это говоришь… опять?
Рогачева густо покраснела.
– Ты что? – от неожиданности она даже лишилась голоса. – Ты не веришь, что ли? Ну хорошо, ладно, – вдруг она что-то решила и быстрым движением спрятала деньги. – Я сама тебе это платье сошью, поняла?
И выскочила прочь. На улицу Горького.
Лера Голубева медленно шла к метро. Падал снег крупными хлопьями, она размазывала варежкой слезы по щекам и думала о Рогачевой.
Вдруг ее слезы исчезли.
Она вспомнила, как в пятом классе ей один мальчик рассказывал, что битлы приезжали в Москву, и их не пустили дальше аэропорта, и тогда они дали концерт прямо там, в аэропорту.
Потом этот же мальчик рассказывал ей, что его отец работал где-то в Африке, в Ливии, кажется, и привез оттуда шпионскую ручку, которая могла стрелять. Другой мальчик рассказывал ей, что его отец видел на улице Гагарина, потому что Гагарин не умер, как рассказывали по телевизору, а готовится к полету на Марс. Чья-то тетя строила луноход, и потому у них все тарелки в доме были из космического материала, их можно было не мыть, потому что они сами становились чистыми, кто-то три дня не мог выйти из тундры и видел инопланетян. Она вдруг поняла, что все эти люди вокруг, вот что идут сейчас рядом с ней, довольно близко знали Аллу Пугачеву, возможно, учились с ней в одном классе, и в этом нет ничего необычного, потому что Алла Пугачева – самый простой человек из Подмосковья, одна девочка рассказывала ей, как родители ее одноклассника пригласили в гости Высоцкого и Марину Влади, а они пришли к ним в гости в этот момент, детей за стол, конечно, не приглашали, они смотрели на них в замочную скважину из детской комнаты… Словом, тут каждый нес в себе какую-то загадку, например она, Голубева, – она лишилась сегодня платья такого платинового оттенка, а в сущности, этим платьем платинового оттенка была вся их жизнь, все эти неосуществимые мечты, планы, страдания, истории и анекдоты.
Все вокруг вообще было такого платинового оттенка, как волосы у Рогачевой.
Вскоре они снова встретились как ни в чем не бывало. И продолжали ходить друг к другу в гости.
Еще через пару лет Рогачева вдруг позвонила и сказала, что ее двухлетний сын, он взял большие ножницы и изрезал в куски это платье, такого платинового оттенка, которое она для Голубевой уже почти что сшила.
– Представляешь? Я два дня рыдала.
– Вот черт… – сказала Голубева легко. – Так я его и не увижу…
И они обе весело засмеялись.
Когда Рогачева неожиданно умерла, на отпевание в церковь пришло довольно много людей, в основном мужчины, они стояли молча и друг друга разглядывали.
У гроба стояли ее выросшие дети, мальчик и девочка, невероятно красивые, очень похожие друг на друга. Первый муж, их отец. И еще Голубева.
Плакать она больше не могла.
…Голубева вспомнила еще такой момент, когда Рогачева купила им обеим билеты на ансамбль народной музыки Назарова в киноконцертный зал «Россия», у нее там тогда работал знакомый, играл на африканских бонгах, и вот они пошли.
Потом она вышла на остановке и вздохнула.
Вокруг, вдоль всей улицы и всех домов, лежали огромные сугробы, под фонарями они искрились, и этот снег… он был такого платинового оттенка.
Точно такого же, как то платье.
Джозеф
Слухи о Джозефе распространялись по Москве с какой-то удивительной скоростью. Сидел он сначала в стекляшке около метро «Краснопресненская» (где трамвайный круг), в обычной, как говорится, районной парикмахерской. Потом перебрался к Никитским воротам. Была там крошечная парикмахерская, в которой Оля Богачевская (член ВЛКСМ с 1978 г., русская, из семьи служащих) и познакомилась с Джозефом.
В первый момент Джозеф ее просто потряс.
Он стриг только женщин и делал это каким-то магическим образом, производя на них глубочайшее впечатление, и впечатление это, надо заметить, потом долго не проходило (помимо самой прически).
Он и сам был странный, в цветном шейном платке, с огромной гривой волос, золотой цепочкой на запястье, свободный и как бы не совсем отсюда, не из этого мира.
На тумбочке возле его кресла всегда большой стопкой лежали западные журналы – яркие, до боли прекрасные, они по-другому пахли, чем советская полиграфическая продукция, были напечатаны на принципиально другой бумаге, и содержание было, конечно, тоже шокирующим – такие прически и макияжи никто здесь в Москве вообще не видел, но Джозеф обещал сделать «даже лучше», и в этом его обещании было нечто большее, чем просто правильное обращение к клиенту. Нет, это было обещание чего-то другого в принципе, о чем ты еще могла не знать и даже не догадываться.
А он это тебе уже обещал.
Впрочем, нельзя сказать, что до него в той советской Москве не было хороших женских парикмахеров. Богатые и знаменитые дамы ходили в «Чародейку» на Новом Арбате, кое-кто стриг на дому, но это все был высший круг, светское общество, там были свои приоритеты и цены, и попасть туда было трудно, да и незачем. Оля как-то осенью зашла в «Чародейку», и до сих пор ей становилось жарко и душно, когда она вспоминала, как на нее посмотрели эти дамы в очереди, как они были обуты и одеты, все в итальянских сапогах, все в дорогих пальто, нет, извините, ходите сами в этот гадюшник, да вообще-то дело было даже не в этом. «Чародейка» – это был совок, только привилегированный, нет, ей тут было не место, и она вышла на Калининский проспект и вздохнула полной грудью с явным облегчением.
Джозеф оказался другим – он был человек с московской улицы, он был свой и для своих, доступен и прост, и он был настоящий мастер, нет, он был не только настоящий мастер, он был человек из будущего – Оля была в этом совершенно уверена!
Познакомила ее с Джозефом подруга Петрова.
– Пошли вместе! – однажды сказала она, когда в очередной раз рассказывала о Джозефе, а Оля смотрела на нее с затаенной завистью.
Это было по-настоящему щедро.
– Только ты сначала молчи, – сказала Петрова. – И ничего не говори, даже если очень захочется. Пока я тебя не познакомлю…
– Это кто? – спросил Джозеф грубовато, когда они пришли вдвоем, и кивнул на Олю.
– Да это так… Подождет меня просто, – неразборчиво сказала Петрова, и Оля густо покраснела.
Потом она делала вид, что сидит, скучает, а на самом деле впитывала в себя все происходящее с какой-то удвоенной силой, от отчаяния, что Джозеф ее не возьмет.
Конечно же, она рассматривала журналы, конечно, кидала взгляды на этот умопомрачительный шейный платок, но и слушала тоже – ее поражал сам тон Джозефа, небрежно-дружеский, царапающий и вместе с тем необыкновенно тактичный.
– Ну че? – насмешливо сказал он Петровой, когда та села в кресло. – Как жизнь? Небось любовники замучили?
Та молча хихикнула и смущенно посмотрела из зеркала на Олю Богачевскую.
Потом они заговорили о какой-то ерунде, о тряпках, о погоде, она потеряла нить и лишь пристально рассматривала все эти волшебные пузырьки и флакончики, которые ровными рядами стояли на парикмахерском столике у Джозефа. Все эти названия ей были совершенно не знакомы.
«Привозит откуда-то! – догадалась она. – Он иностранец! Не русский, точно».
Эта мысль была настолько интересной, что она погрузилась в нее целиком. Как вдруг по обрывкам разговора Оля догадалась, что речь идет именно о ней.
– Послушай… – говорила Петрова вполголоса, но так, что все было слышно. – Ну… у нее проблемы в личной жизни… Ну ты же понимаешь… Надо помочь…
Сердце у Богачевской стало ощутимо стучать и бухать, она вспыхнула, отвернулась и стала смотреть в окно пылающим взором. Ненавидеть она должна или обожать Петрову в этот момент, честно говоря, Оля не знала.
В окне между тем ровно ничего не происходило. По тротуару шла дама в резиновых сапогах, одетая в длинный плащ-болонью. Проехал троллейбус и облил ее. Старая, давно закрытая церковь осветилась вдруг ровным солнечным светом.
– Ну ладно! – громко сказал Джозеф. – Знаешь анекдот: легче один раз согласиться, чем сто раз отказать? Вот так с тобой всегда. Давай подсохни. А вы, девушка, идите сюда. Вас как звать?
Потом она поняла, что то было настоящее чудо – Джозеф никогда не принимал без записи.
Наконец она увидела его вблизи – в большом зеркале. Он был яркий, от него приятно пахло, но главное – по его лицу все время скользила улыбка. Она то вспыхивала, то угасала вновь, то есть именно скользила, становясь разной в каждую следующую секунду, и это немного пугало.
Он долго задумчиво смотрел на нее, потом схватил за волосы и стянул их в пучок.
На Олю в зеркало смотрела девочка с испуганными, полными слез глазами, которую ей стало очень жалко.
– Слушай, давай шею откроем, а? – спросил Джозеф задумчиво. – Тебе пойдет. У тебя шея в принципе высокая. Глаза большие. Давай?
Она кивнула, сглотнув от страха. И он тут же достал ножницы и стал резать.
…Оля сразу поняла, что влюбляться в Джозефа глупо – «да он вообще голубой, ты че», легкомысленно сказала Петрова, когда они подходили к Никитским воротам, «но это, конечно, неточно», торопливо добавила она. Впрочем, точно или неточно – но влюбиться в него было невозможно, это она сразу почувствовала, и вовсе не потому, что в нем не было мужского, мужского было хоть отбавляй – нет, просто это был бог.
Бог из другого мира.
В бога влюбляться было, конечно, нельзя.
Когда он сделал ей эту сумасшедшую скобочку и даже чуть-чуть подбрил затылок, как у солдата, она просто задохнулась от счастья. И вышла из этой крошечной парикмахерской вот такая, задохнувшаяся. Петрова, конечно, терпеливо ее дожидалась.
– До зарплаты-то доживешь? – немного ядовито спросила она.
Джозеф стоил, конечно, каких-то немереных денег. («Таких денег не бывает», как говорил покойный дедушка, когда ему предлагали купить по блату какой-нибудь югославский сервант.) Но Оля Богачевская заплатила их не просто без колебаний, но даже с радостью.
В дальнейшем, правда, эта радость стала немного меньше, Богачевская быстро привыкала к хорошему, причем Джозеф мог сказать по-разному, иногда по-божески – восемь рублей, иногда вдруг десять или космические двенадцать, а то и пятнадцать. Короче говоря, она твердо поняла, что нужно иметь твердые два червонца, когда идешь на Никитскую, а такие деньги ей, конечно, приходилось с трудом выкраивать из бюджета.
С деньгами у Богачевской было, прямо сказать, не очень – мать болела, не работала, Оля трудилась в огромной, немного нелепой, как бы полунаучной конторе, где таких, как она, было, как в базарный день за пучок пятачок, и поэтому честные сто двадцать рублей – это максимум, на что она могла рассчитывать, ни о каких квартальных премиях или премиальных не приходилось даже мечтать, поэтому выкраивать на Джозефа удавалось максимум раз в два месяца – впрочем, и этого было достаточно, чтобы почувствовать себя другим человеком. Основная сложность была в другом – к Джозефу было совсем непросто записаться. Нужно было обязательно звонить, договариваться заранее – где-то там у него в углу стоял раздолбанный допотопный телефон, и он еще не всегда подходил, если был очень занят, словом, это была целая история. Записываться нужно было за три недели, иногда за месяц, за полтора, прийти просто так, с бухты-барахты было никак нельзя, никакой живой очереди Джозеф не терпел, впрочем, были клиенты – и клиенты, и иногда вдруг в эту тихую маленькую затхлую парикмахерскую влетало какое-то чудо в перьях и истошно вопило:
– Джозеф! Я не могу! Прости! Это вопрос жизни и смерти! Мне нужно сейчас! Сейчас, понимаешь!
Он улыбался, усаживал, даже приносил чаю или кофе, и чудо в перьях дожидалось своей очереди час, два, три, сколько было нужно – Оля Богачевская смотрела на этих особых клиенток через зеркало с непередаваемым чувством – зависти, восторга, тайной муки – ну что, что в них было такого, что Джозеф, сам Джозеф выделял их из особого круга? Да ничего. Нет, они не были богаты или знамениты (хотя и знаменитые тут тоже порой попадались). Просто у них была вера в себя. Ну вот какая-то обычная человеческая, даже будничная уверенность, что все получится, что ей не откажут…
А у Богачевской такой веры не было. И уверенности тоже.
Дозванивалась Оля Джозефу с работы порой часами. Наконец он подходил и деловито ворковал: привет, дорогая, привет, ну как твое ничего, да я-то что, у меня, ты знаешь, какие дела, с утра до вечера навожу красоту на женский пол, так, давай, знаешь, ну вот после двадцатого, нет? Ой-ой, как все запущено… Ну хорошо, когда тебе надо, ну а можешь в десять утра? Ну а в час? Ну у тебя же есть обеденный перерыв?
Обеденный перерыв у нее, конечно, был – в этом огромном здании в Электрическом переулке, где располагалась их полунаучная контора (до революции там были не то меблированные комнаты, не то тюрьма), вообще царила довольно расслабленная, даже раздолбайская атмосфера. Царила она благодаря, скорее всего, шефу, директору института, который вечно торчал в зарубежных командировках, чаще всего в капстранах, приезжал оттуда благодушный и довольный и сразу мчался дальше на семинар, конференцию, симпозиум: в Ереван, Минск, Тбилиси и так далее. Человек он был рыхлый, вальяжный, Оля Богачевская видела его всего один раз, когда он зашел в столовую для простых сотрудников с кем-то поболтать, кстати, это было целое событие, все немного примолкли и минуты две жевали просто молча, прислушиваясь к разговору, который вели шеф и какая-то бледная женщина. Однако передать бразды правления, все эти шифры и коды, поставить на хозяйство какого-нибудь крепкого зама шеф как бы забывал, а на самом деле не забывал, а просто не хотел, звериная интуиция подсказывала ему, что этого делать не надо, и в результате никто ни от кого не требовал приходить ровно к восьми. И все-таки исчезнуть из института на целых полдня Оля в силу своего жалкого статуса не имела права…
Но и пропустить визит к Джозефу тоже было никак невозможно.
Джозеф был ее календарем жизни, по нему она отсчитывала важные события, годовые циклы, подъемы и спады, свои настроения и порывы – словом, все.
Необходимость Джозефа она чувствовала как-то заранее – по накапливающемуся раздражению от мелочей, от тесной духоты метро, от безнадежности мыслей – значит, было пора.
Джозеф означал приближение Нового года и даже Пасхи – она с подругами каждый год выбиралась на ночное богослужение в Коломенском, означал наступление лета и зимы, он вытаскивал ее из депрессии и давал силы жить – действительно как бог.
…Особенно важным для нее был момент с Левашовым, когда Джозеф, сам того не зная, просто спас ее жизнь от окончательного падения в бездну.
Левашов был ее начальник отдела, которому она сдавала работу, который разрешал ей брать отгулы и порой прикрывал глаза на ее отлучки во время рабочего дня.
Это был женатый человек сорока лет, с маленьким брюшком, спокойный и задумчивый, с двумя детьми, неглупый и в общем почти вполне свой, – но у него был только один недостаток: он любил класть на нее руки.
Впервые это случилось на картошке. Они поехали на двух автобусах в Нарофоминский район, где под дождем собирали картошку в грязные жестяные ведра и потом ссыпали в мешки. Дождь для октября был обычным явлением, но он был не сильный, не густой, почти добрый и после обеда вдруг кончился, блеснуло солнце, стало очень хорошо, они своим отделом раскинули скатерть, вывалили туда вареные яйца, помидоры, баклажанную икру в банках, нарезанную вареную колбасу, выпили водки, и бабы стали хохотать, а потом запели, и в этот момент Левашов вдруг как бы ненароком положил руку ей на плечо.
Богачевская оцепенела.
Грубо отдергивать плечо было как-то не очень тактично, и поэтому она выждала для порядка секунд двадцать и встала как бы оправиться, застегнуть куртку, выразительно на него посмотрела и отсела в другое место.
Левашов густо покраснел и криво ухмыльнулся.
Как ей показалось, никто этого вообще не заметил.
Он не извинился, не подошел к ней, ничего не сказал.
Но после этого случая он стал смотреть на нее более пристально и, подписывая заявление на отгул или хладнокровно кивая в ответ на просьбу отпустить с работы на полчаса раньше – вдруг мельком, на секунду, возвращал на лицо ту самую кривую ухмылку…
Однажды, когда она показывала работу, он подошел к ее столу, наклонился и вновь положил руку на ее плечо – как бы случайно, по-дружески. Опять при всех.
Она не выдержала, хлопнула дверью и побежала в туалет. Все тетки смотрели на нее осуждающе.
Во время обеденного перерыва он сел в столовой вместе с ней.
Дождался, пока случайные соседи доедят и уйдут, и веско сказал:
– Оль, ты больше так не делай. Проблемы создаешь.
– Я создаю?
– Ну а кто? – он опять ухмыльнулся, и она вдруг вспомнила, как он был тогда одет, на картошке – в коричневой куртке с капюшоном, на молнии, и в дурацкой лыжной красной шапочке.
Она не могла заснуть и думала почти до пяти.
Ну а что у нее, в сущности, в жизни было?
Ну вот этот институт, в бывшей тюрьме или меблированных комнатах, с огромными бесконечными коридорами – двери, двери, люди, бесконечные незнакомые люди, соцсоревнование, обязательства к 7 ноября, стенгазета к 8 марта, собрания, столовая, зарплата – ее первая работа, ее основа жизни, заполняющая чуть ли не все время. Работа не плохая, не хорошая, она обычная, даже лучше других (в некоторых почтовых ящиках люди приходят к 7.30, за минутное опоздание – штраф) – менять ее на что-то такое же как минимум глупо. По крайней мере сейчас.
Вечернее отделение – там она учится, сдает экзамены, слушает лекции, читает книги в библиотеке, ест мороженое или бутерброды, единственное, что ее там напрягает, – это обилие таких же, как она, особ женского пола, одетых и выглядящих примерно одинаково: усталых и полных одиночества существ, которых никто не ждет у дверей после окончания занятий (чтобы не погрешить против истины, кое-кого иногда все-таки ждали, например, я пару раз ждал как раз Богачевскую), но ничего в этом страшного нет – оказаться среди подобных себе.
Иногда ее приглашала подруга Петрова к себе на вечеринки, на «сейшены», как она их называла, там основу контингента составляли мужчины в солидном возрасте – «известные журналисты», в основном спортивные или фотокорреспонденты, это были очень сильно пьющие, довольно пожилые люди, и хотя все они проявляли к ней живой интерес, чувствовала она себя среди них неуютно.
Таким образом, если спокойно и честно подвергнуть инвентаризации все то, что она имела на данный момент, – Левашов как раз был довольно интересным сюжетом. Его тупая, почти животная уверенность в том, что она должна быть благодарна и даже рада его «знакам внимания», честно говоря, сильно отличала его от всех окружающих. Он ухаживал за ней именно лениво, равнодушно – и по идее именно это должно было заставить ее взволноваться, взбеситься, может быть даже влюбиться.
Но она не могла.
Богачевскую вновь охватила смертельная тоска, и тогда она решила срочно записаться к Джозефу.
Она дозванивалась до него ровно час и умоляющим голосом попросилась на следующую неделю, на среду. Страшно недовольный, он нашел время в середине рабочего дня.
В этот день на десять утра было назначено открытое партсобрание в огромном актовом зале. Для всего института. Явка была обязательна.
Женщины удивленно вспоминали, что последний раз такое случалось, когда умер Брежнев, но сейчас вроде бы никто не умер. Тогда что?..
Собрание – это было надолго, она страшно нервничала и боялась опоздать к Джозефу. У дверей стояла кадровичка, уйти было вообще нельзя.
Говорили притом почему-то о дисциплине.
О дисциплине говорили часто, начиная с пионерского детства, Оля Богачевская к этому привыкла и никак не могла взять в толк, в чем повод – собирать добрую тысячу людей в огромном актовом зале, чтобы поговорить о дисциплине.
Наконец что-то до нее начало доходить. «Самовольные прогулы», «неоправданные отлучки во время рабочего дня», «партия делает все возможное», «идя навстречу пожеланиям трудящихся, изменен график работы магазинов и предприятий бытового обслуживания», «халатность и тунеядство»…
– Друзья! – проникновенно сказал парторг на исходе второго часа заседания. – Ну мы все с вами понимаем: тунеядцы, все эти неработающие трутни, паразиты на теле нашего общества – это огромная социальная проблема, но партия с этим как-нибудь справится. У нас в коллективе, слава богу, таких нет, мы все трудящиеся люди (в зале взволнованно зашумели). Но у нас другая проблема – некоторые привыкли решать свои личные ситуации в рабочее время! Вот, понимаешь, выбросили кофточки в магазине, давай наперегонки бежать! А там хоть трава не расти. (В зале снова загудели, но уже недовольно, жидко.) Поликлиника, ремонт обуви, парикмахерская (Богачевская крупно вздрогнула) – это не повод для прогула. Есть обеденный перерыв!
«Если я опоздаю к Джозефу, – напряженно думала Богачевская, – случится что-то очень плохое. Может быть, я даже умру».
Но она не опоздала.
Она успевала!
Богачевская летела к остановке, догоняя троллейбус, и потом радостно смотрела на уплывающую улицу из окна общественного транспорта – вперед, вперед!
…Войдя в родную парикмахерскую, она сразу увидела молодого мордатого дружинника в красной повязке на рукаве, и сердце ее упало. Рядом стоял неприметный человек в штатском и очень пристально смотрел на нее.
– Здравствуйте, девушка! – спокойно сказал дружинник. – Паспорт предъявите, пожалуйста.
Она села и сделала вид, что полезла в сумку.
– Я в отгуле! Я официально оформила отгул! – вдруг страшно закричала женщина из другой очереди, к другому парикмахеру, не к Джозефу. – Что вы ко мне пристали?
– Женщина… – терпеливо сказал дружинник. – Да что ж вы так волнуетесь… Ну мы все проверим. Все выясним. Отделение рядом, в пяти минутах. Займет у вас полчаса. Ну вы поймите, мы же просто проверяем, мы же не звери.
Тетка заплакала.
Человек в штатском тем временем направился к Оле.
– Девушка, паспорт предъявляем… – спокойно сказал он.
– Дома оставила… – глухим, не своим голосом ответила она и сама удивилась, что голос вообще-то совсем не ее – чужой голос.
– Так… Вы учитесь, работаете?
– Учусь! – сказала она и стала рыться в сумке в поисках студенческого.
– А что не на занятиях? – лениво осведомился штатский.
Она молча сунула ему под нос «корочку».
– Так… – сухо отреагировал он. – Вечернее отделение. Что же вы, получается, нигде не работаете?
Все это время она смотрела в спину Джозефу.
Спина его была напряжена. Но при этом он занимался делом. Вернее, заканчивал им заниматься. В конце он всегда делал такую странную вещь – окончательную укладку руками – без фена и расчески, как другие мастера – а затем распрыскивал укрепляющий гель. Эти его последние движения, когда он брал волосы и придавал им последнюю, самую последнюю форму, – казались ей совершенно гениальными, хотя она никогда так не говорила. Так вот, в этот момент он как раз делал эти последние движения руками. Было видно, что и его клиентка, которую, видимо, товарищи уже проверили, страшно хочет покинуть помещение.
Оля подвинулась и увидела в зеркале его лицо – Джозеф был зол. Было ясно, что если сейчас она не сядет в это кресло, он не будет ничего ждать и позовет другую – хотя бы из той очереди, которая «не его». Ему было все равно. Поворачиваться лицом к «этим» он не хотел.
– Девушка, так вы что, нигде не работаете? – опять с интересом спросил проверяющий.
– В данный момент нет… – сказала Оля. – Я ищу работу. Я только-только поступила.
– А… – широко улыбаясь и сверкая зубами, ответил он.
Все это время дружинник наливал воду в стакан, поил плачущую даму и просил ее успокоиться и пройти в отделение.
– Иван Иваныч… – сказал он штатскому. – Проводите гражданку. Гражданочка, ну я вас умоляю, это пять минут!
Каким-то наметанным глазом они оба определили, что именно эту женщину можно сломать.
Продолжая всхлипывать, она встала и пошла следом за штатским.
Оле было главное, чтобы штатский ушел. Его она действительно боялась. Толстомордого с красной повязкой – нет.
Толстомордый проводил взглядом уходящую процессию и обратился к Оле.
– Так, у вас там что? Паспорта нет? – устало спросил он.
Джозеф наконец освободился. Клиентка ушла.
Он смотрел на нее через зеркало и ждал.
Оля приблизилась к дружиннику и тихо, очень тихо сказала прямо ему в лицо, подойдя настолько близко, насколько смогла:
– Послушайте! Я сейчас сяду в это кресло. И вы ничего с этим не сможете сделать. Я должна сегодня сесть в это кресло. А потом выполняйте свой долг, если хотите.
Он даже отшатнулся и посмотрел на нее недоверчиво.
– А… ну ладно, – только и сумел вымолвить дружинник, тупо сел рядом и стал ждать.
Джозеф стриг ее в этот раз долго, очень долго. Когда он в первый раз с ней пошутил, она не выдержала и заплакала. Тихо. По щекам потекли две медленные, очень медленные слезы.
– Ты че? – удивился он. Потом наклонился и шепнул: – Пошли они на хер, слушай. Они мизинца твоего не стоят.
– Кто? – как-то автоматически переспросила она.
– Ну кто-кто… Вот эти… – шепнул он и засмеялся.
И она засмеялась тоже.
Штатский не возвращался. Через пятнадцать минут дружинник ушел следом за ним, строго посмотрев на нее.
– Я вернусь! – сказал он.
Еще через пять минут Джозеф сказал:
– Не вернутся, не бойся. Сиди спокойно. – И снова добавил: – Пошли они на хер.
Еще через полчаса, когда все было кончено, он сказал:
– Дорогая, сегодня с тебя по прейскуранту.
И улыбнулся в последний раз.
Она заплатила два пятьдесят за «модельную стрижку», и что он с ней в итоге сделал, она так и не поняла, но это было так хорошо, что даже как-то невероятно. Она вышла на улицу Герцена и посмотрела на свое отражение в темном стекле.
Перед ней стояла стройная девушка с гордой независимой улыбкой. Правда, хотелось разглядеть ее получше, потому что черты ее лица немного расплывались в витрине.
Она расправила плечи и пошла в институт.
Оля вышла из здания в шесть пятнадцать, как обычно, и увидела Левашова. Он стоял и курил, дожидаясь ее.
Она подошла сама.
– Анатолий Евгеньевич, – сказала Богачевская и посмотрела ему в глаза, – ну вы же взрослый человек, сами все понимаете.
Он вспыхнул, отвернулся и заспешил к «Белорусской».
Ей даже стало его жалко, но ненадолго.
Ход событий
Полина Вайнштейн (1960 г. р.) выросла в старом деревянном доме в районе Марьиной Рощи. Дом у них там был многонаселенный, он стоял за забором в саду, кривые старые яблони окружали его, зимой и летом на веревках висело огромное количество стираного белья: полотенца, простыни, наволочки, ночные рубашки, мужские сорочки, платья, носки, трусы, лифчики, нужно было наклоняться, когда проходишь под веревками, чтобы мокро не мазнуло по лицу, из дома же всегда вкусно пахло супом, куриным бульоном, постными щами, там жили в основном родственники, дальние и близкие, между ними были довольно сложные отношения, но ее тут все любили, всегда, она переходила из рук в руки, ей совали конфеты, ее ставили на стол или на стул, заставляли разговаривать, петь песни. В саду осенью она собирала в траве яблоки, лежалые, с бочком, и ела, предварительно потерев о рукав, – даже не верилось, что такая жизнь текла себе спокойно почти в центре Москвы. Ну хорошо, ладно – не в центре, а на окраине, но очень близко от центра, пешком можно было дойти до Центрального дома советской армии, ЦДСА, там был парк, пруд с лебедями, и открытая эстрада, и танцы по вечерам, рядом звенели трамваи и было очень многолюдно. В темноте светились огоньки мужских сигарет, папа брал ее на руки, и они шли к остановке, она прижималась к нему, рядом молча шла мама…
Затем они переехали на Лосиный остров, в панельную пятиэтажку – это был совсем новый район, сообщение отсюда с Москвой было сложное, только на электричке. Правда, ходил автобус от ВДНХ, раз в час, но «ненадежный», мог быть так переполнен, что не влезешь даже на подножку, – словом, они спешили на электричку, если им надо было «в Москву», по вечерам станция в бледном свете фонарей становилась загадочной и даже немного страшной, родители ее всегда встречали, если она возвращалась в темное время суток, ходили слухи о пропавших девушках, взрослые об этом при ней не говорили, но она все равно все знала, как и все окрестные дети. Она смотрела с ужасом на этот дремучий лес, но все-таки здесь ей нравилось, это был ее район, ее жизнь, здесь она пошла в школу, а главное, в хор «Весна», все ее подруги тоже ходили в хор «Весна»: Бах, Шуберт, Перголези, «Стабат матер», «То березка, то рябина», однажды они даже выступали в консерватории, Полина не пропускала занятий, занималась сольфеджио, берегла горло, в те минуты, когда они пели, она казалась себе птицей, которая парит там, в вышине. Хормейстер ее выделял, ожидались гастроли детского хора «Весна» в Европе, в лучших залах, это был известный коллектив, она разучивала сольные партии, летела как на крыльях в это низкорослое помещение, в котором располагался их певческий рай: бетонные блоки, два этажа, низкие окна, здесь когда-то был детсад, но, войдя сюда, ты сразу оказывался внутри волшебной коробочки – в одной комнате распевались, в другой настраивали рояль, бегали совсем уж мелкие первоклашки, иногда одетые очень смешно: мальчики в черных пиджачках, белых сорочках, с бабочкой, девочки в пушистых платьях с блестками; на стенах висели фотографии хора во время прошлых гастролей, раздавались голоса Александра Васильевича и его помощницы Светланы – мягкие, но звучные и требовательные.
Она забиралась по скамейкам на свой ряд и ждала взмаха палочкой.
С каждым годом микрорайон в районе Лосиноостровской становился все более родным и многонаселенным, ряды белых пятиэтажек обрастали кустами и саженцами, клумбами и лавочками, она знала, кто где живет, она могла бы идти в школу с закрытыми глазами – словом, она прорастала, как прорастает капризное деревце на дачном участке, сначала первые побеги, потом листочки, потом корни, потом немного ввысь, потом ствол становится толще и прочнее.
…Но в этот момент родился брат, и отцу дали новую трехкомнатную квартиру.
Верней, так – отцу была положена трехкомнатная квартира, им в исполкоме сразу выдали смотровой ордер и сурово сказали, что если он откажется, то на следующий ордер можно будет рассчитывать максимум через год. Или два.
И он сразу согласился. Жить с двумя детьми в однокомнатной им с мамой было тяжело.
Так она покинула это место, и кончилась эта музыка, и началась совсем другая.
Свет в их новом доме на Дорожной улице уже был, а газ еще не подвели, поэтому в квартире было холодно, грелись электроплиткой (на которой постоянно что-то кипятилось) и масляным обогревателем. Электроплитка стояла в углу, на полу. Брата укутывали, как какой-нибудь куль, он смешно пищал изнутри этих одеял, просил есть, на электроплитке грели воду, чтобы потом греть в ней молоко, все было очень сложно и даже весело, но ее это веселье не радовало, она вспоминала звуки рояля, когда распевался хор, и эту малоэтажную постройку в конце тенистой улицы, куда она бежала каждый день, но ведь детство такая вещь – есть необратимость, и ты в нее встраиваешься, в эту необратимость, так или иначе, она тоже стала встраиваться. Жилая квартира в их подъезде была пока только одна, то есть они въехали в новый дом первыми. Подъезд пугал своей пустотой и холодным мраком, она старалась скорей добраться до дверей и нажать на звонок, одна комната из трех еще была совсем нежилая, но именно туда родители поставили телевизор, и вот, для того чтобы его посмотреть, она надевала пальто, шапку, обувь, шарф и шла в пустую комнату с инеем, замерзающим на окнах. Выключала свет и упрямо сидела одна перед мерцающим в темноте голубым экраном, ото рта шел пар, она дышала на руки, чтобы согреть пальцы.
Мебели тоже не было, но постепенно она появилась – сервант, стулья, стол, «горка».
Сначала ей казалось, что их забросили, как космический десант, на другую планету, – вокруг была белая пустыня до горизонта, снежное поле с тонкими черными линиями тропинок, с разрушенными деревнями. Восточное Чертаново еще только строилось, ходили важные землемеры, огромные экскаваторы рыли котлованы, ездили колоннами грузовики, ревели бульдозеры, но в целом микрорайон был еще почти на бумаге – в бывших деревнях еще дымились печки, жителей не успели переселить. Хотя в основном вместо жилых домов уже были разбитые окна, пустые глазницы домов, остатки жизни, колокольня старой церкви и еще деревья, много деревьев – поздней весной, когда они зацвели, Полина обалдела от всех этих белых цветов, бесконечного, до горизонта, яблоневого сада, ей казалось, белое сменилось белым, но не холодным, а цветущим и шумным. Постепенно в их доме появлялись соседи и соседские дети, с ними она бегала по этим яблоневым садам, перешагивая через упавшие заборы, разбирая хлам на пепелищах родовых гнезд, где валялись и полусгнившие игрушки, и разорванные семейные фотографии.
Так, кстати, было по всей Москве – деревянные дома сносили от Марьиной Рощи до Чертанова, от Преображенки до Мещанских улиц, их район строили конкретно для рабочих ЗИЛа, гигантского автозавода, в новый дом на Дорожной переезжали семьи из бывших рабочих общежитий и из разрушенных окрестных деревень: Покровское, Аннино, Мосстройпуть. Первого сентября Полина пошла в новую школу – и поняла, что чертановские дети – они какие-то совсем другие: мальчики вели себя солидно, как маленькие мужички, от них по-другому пахло – табаком, неухоженным бытом, в школьной столовой они сметали еду за одну секунду, завидовали бутербродам, которые она приносила из дома, после школы дрались, играли в пристенок, отбирали мелочь у малышей, они смотрели на нее странно, постоянно плевались, хрипло ругались матом, курили и выпивали, хохотали звучно над анекдотами, смысла которых она не понимала, мгновенно исчезали, завидев учительницу и оставляя Полину всегда одну на заплеванной площадке с окурками. Она делала вид, что ей все это интересно, послушно стояла рядом, послушно улыбалась непонятным анекдотам, она встроилась. Кругом был другой мир, яблоневые сады скоро снесли бульдозером, поставили башенные краны, сплошным потоком пошли бетономешалки, грузовики, автобусы с рабочими, все это было похоже на сражение, кругом были огромные, в человеческий рост траншеи, осенью залитые водой почти на полметра, – по ним прокладывали трубы, провода, здесь они играли, в резиновых сапогах и поролоновых куртках, взбирались по шатким временным лестницам на новые бетонные этажи, сидели на бетонных панелях, сложенных в штабеля, руками и лопатками вырывали в траншеях землянки и норы, прыгали по шатким мосткам.
Их девятиэтажный дом был немыслимо длинным, двадцать подъездов, настолько длинным, что в его дворе построили целых три школы – для детей рабочих ЗИЛа, переселенных сюда из своих мрачных общежитий, теперь у всех были отдельные квартиры, с пропиской, они стали москвичами. Изначально это были в основном люди, которых переселяли в Москву «по разнарядке», по комсомольскому призыву, по лимиту, из полупустых ивановских, владимирских, костромских, калужских, орловских деревень, во дворе вечерами стоял гомон голосов, хозяйки выходили во двор, как на деревенскую улицу, чтобы обсудить новости, дети – чтобы поиграть, мужики – чтобы покурить, отец Полины проходил сквозь них всегда немного бледный, отчужденный, хотя и пытался здороваться, но ему мало отвечали, иногда кивали, не признавали за своего, но отцу было все равно, он чудом, почти мгновенно получил трехкомнатную, мало кто мог этим похвастаться среди его знакомых.
…И вдруг она услышала про «гуманитарные классы», она даже не помнила, кто это сказал, это была не учительница, нет, не мама и не папа, слова залетели в нее случайно, как какие-то птицы, возможно, о «гуманитарных классах» говорили тетки на остановке автобуса, возможно, незнакомые учителя на перемене, но она это запомнила и вдруг сказала маме и папе, что после восьмого класса больше не останется в этой школе, что хочет учиться в «гуманитарном классе». Это что еще такое, резко спросил папа, но мама сделала знак рукой, и он послушно замолчал, мама тоже выслушала ее молча, кивала, задавала необидные вопросы, это был ее первый настоящий бунт, потом таких было еще несколько. Но мама сразу все поняла, встала на ее сторону, телефон к ним в квартиру поставили буквально за месяц до этого, очень удачное совпадение, и мама стала звонить, выяснять, наводить справки, да, такие школы в Москве действительно были, их было всего несколько на весь этот огромный город, в основном в центре – ближайшая на «Октябрьской», туда теоретически можно было ездить девочке в четырнадцать лет, мама собралась с духом, вдвоем они поехали на «Октябрьскую». В гуманитарный класс был очень жесткий отбор, туда стремились со всех концов Москвы. Но мама обладала удивительным даром нравиться всем людям, а не только мужчинам, она сделала глубокий вдох, накрасила губы, одна вошла в кабинет, нашла нужные слова, просидела у Марины Александровны, директора школы, целых сорок минут, и Полина была принята. Она летала, как на крыльях, как если бы опять ходила в хор, она прощалась, даже с нежностью, с этими маленькими мужичками из класса, и они прощались с ней нежно, сплевывая и ругаясь матом, но нежно, девчонки плакали: приезжай, звони, хотя они жили в одном доме, в одном дворе, она шла по своей Дорожной улице, где по-прежнему пахло битумом, варом, строительной едкой пылью, где больше не было яблоневых садов, и думала о том, что ее ждет – не «Стабат матер», но что-то другое, что-то другое.
Тогда девушки с тринадцати до тридцати лет носили только супер-мини, юбки до середины бедра, абсолютно все, невзирая ни на что: ни на погоду, ни на особенности телосложения, это была не просто мода, так было принято, по-другому не одевались, потому что по-другому было стыдно, она потом вспоминала эти времена, пересматривая фотографии, некоторые фильмы, и не могла понять, как это уживалось с абсолютно пуританской моралью, советской жизнью – но было именно так. А ехать нужно было на автобусе до «Варшавской», потом до «Павелецкой», потом по кольцу до «Октябрьской», потом на троллейбусе еще две остановки, если троллейбус не приходил, бегом по Ленинскому проспекту – и все это в «часы пик». Вставала теперь она в начале седьмого, в шесть тридцать самое позднее, чтобы почистить зубы, собраться и выскочить из дома – в темноте, под слегка светлеющим небом. И в результате ее, четырнадцатилетнюю, в душном, потном, невероятно забитом людьми вагоне, в салоне автобуса каждое утро хватали мужские руки, в ухо шептали гнусности, она выходила раздавленная, почти изнасилованная – и все равно со всех ног бежала на урок, чтобы не опоздать. Говорить об этом с кем-либо было стыдно – все эти мужики были вполне взрослые люди, а она была еще ребенком.
Так продолжалось примерно год. Повзрослев, она поняла, что нужно смотреть в глаза, шипеть и даже орать – тогда они отставали, трусили. Но целый год она проходила через эту Голгофу каждое утро – ради новой школы.
Учителем литературы у них был некто Пузырев, перешедший из знаменитой второй физматшколы, где сняли директора, завели пару уголовных дел за самиздат, где было много евреев и среди учителей, и среди детей и легенда о которой до сих пор живет в городе Москве. Так вот, о Пузыреве стали доходить разные слухи, еще когда он у них не появился, слухи были и пугающие, и прекрасные – он был страшный, грозный, странный, но с ним было интересно, все подтвердилось на двести процентов, опаздывать к Пузыреву было нельзя, вообще ни на одну минуту, он закрывал дверь на швабру, а если опоздавший начинал колотиться, назначался штраф. Штраф был дикий, невообразимый, например, нужно было написать письменную работу на десять страниц (!) и составить список из тридцати (!) неопределенно-личных местоимений – нечто, некто, некоторый, кое-где, кое-что, кому-либо, она сидела в ночи, под светом настольной лампы, засыпая, падала лбом на тетрадь, снова вздрагивала и писала. Опаздывать к Пузыреву было смертельно, но когда он задавал им читать «Исповедь» Толстого и просил раскрыть главную тему, да нет, просто когда он начинал говорить, и спрашивать, и внимательно слушать – класс замирал, было так тихо, что они различали, как постукивают старенькие ручные часы на запястье у Пузырева.
Но он болел, это было очевидно.
Его урок всегда ставили первым, так он сам просил, это было его условие, их кабинет был на последнем, четвертом этаже, она взбегала по огромной высокой лестнице, боясь опоздать, задыхаясь, но первое, что она видела, – серое, раздавленное, больное лицо Пузырева. Возможно, он просил назначать его урок на самое раннее утро (8.30), потому что плохо спал, приходил с похмелья, с тяжелой, раскалывающейся головой, тер виски, глотал таблетки, вдруг кричал, если кто-то отвечал невпопад, с мутными, тяжелыми, устремленными в себя глазами, но с каждой минутой глаза становились яснее и голос звонче, он загорался и зажигал их всех, хотя на задних партах девчонки все равно шептались, что от него плохо пахнет, рубашка выбивается из-под ремня, ширинка расстегнута, в бороде крошки.
Но она сидела за первой партой, потому что была страшно близорука, и была практически влюблена в Пузырева, он тоже хвалил ее сочинения: «ты правильно ставишь акценты». В дискуссиях, которые составляли главное содержание уроков Пузырева, она участия почти не принимала, ей претили банальности, общие места, однако для всех эти удивительные часы, когда можно было говорить, свободно говорить обо всем, лишь изредка возвращаясь к искомому Толстому или Достоевскому, были слаще меда, слаще сладкой ваты в парке культуры и отдыха. И они говорили взахлеб, о маленьком человеке, о сверхчеловеке, а она смотрела на Пузырева и думала о том, что он пережил что-то страшное, возможно, это было связано со второй школой, а возможно, с чем-то еще, с какой-то женщиной или с каким-то предательством (или с предательством женщины), ей грезились эти сюжеты, но она гнала их прочь, было ясно, что он не оправился до конца и, возможно, уже не оправится. Так и вышло, им глухо сказали, что Пузырева не будет «по состоянию здоровья», его заменил другой учитель, через полгода они с девочками встретили его на улице, он шел как-то слишком прямо, с трудом, медленно, руки очень тряслись, лицо было перекошено каким-то удивленным детским выражением, возможно, это был инсульт или приступ гипертонии – словом, снаряд, долетевший оттуда, с тех полей сражений, о которых они ничего не знали. Подойти к нему – в таком состоянии – они не решились, да и он бы смутился, он все-таки был мужчина, орел, герой, ему было бы стыдно.
В конце десятого класса их, как ни странно, стали часто снимать с уроков и выгонять на Ленинский проспект, чтобы встречать делегации. Это была правительственная трасса, из Внукова-2 машины ехали прямо в Кремль: то Ричард Никсон, то Ким Ир Сен, то руководитель Анголы товарищ Антонио Агостиньо Нето, то руководитель Польши товарищ Эдвард Герек, и каждый раз их встречали на Ленинском проспекте представители трудовой Москвы – такая была хорошая добрая советская традиция, с флажками, букетиками гвоздик, плакатами «Мы за мир», «Добро пожаловать!», их десятый класс (тогда это был выпускной) из школы выгоняли тоже, для массовости, и они выходили на Ленинский проспект, стояли в заднем ряду, смотрели на угрюмые затылки встречающих, да, но все-таки люди получали на службе законный отгул, машина проедет, и все, можно идти в магазин, домой, рабочий день, считай, закончился еще до обеда. Все эти взрослые дела им были неинтересны, лимузины и сопровождающих милиционеров-мотоциклистов в белых крагах ее одноклассники провожали спокойным взглядом, в разговоры не вслушивались, цветы и плакаты выбрасывали в ближайшем дворе – это были их дворы, их пространство, и они тут чувствовали себя абсолютно защищенными.
Приближались выпускные экзамены, прохладная выпускная весна рождала ощущение нелепой грусти – о чем грустить? – о школе? – но они грустили, за два года они не успели узнать друг друга и теперь не могли наговориться всласть. Ходили друг к другу в гости, покупали какой-нибудь лимонад и дешевые пирожные, а иногда даже шампанское, мальчики пытались организовать свой вокально-инструментальный ансамбль, девочки в пику им – свой, девчачий, сидели, придумывали название, Полину прочили в «музыкальные руководители», в солисты, но ничего из этого не получилось…
В этот момент они подружились с Александровой и начали разговаривать – Полина никогда ни с кем так много не говорила в жизни, это было что-то ненормальное, какой-то спусковой крючок, как оказалось, она может без конца, часами говорить с другим человеком, это очень примиряло с собой, наконец-то она почувствовала облегчение от этой тяжести, которая всегда была у нее внутри, с тех пор как она переехала на Дорожную улицу, несмотря на то что с Александровой они были совсем разными людьми, они с каким-то даже страхом поначалу и с веселым восторгом потом вываливали друг на друга абсолютно все, Полина описывала ей свои ощущения от мокрого красного флага, бьющегося на ветру, от покалеченной трехногой кошки, встреченной во дворе, от странного запаха, идущего из глубины парка, как будто там родился дракон, от жесткого солнечного света из окна, от которого болит голова, и Александрова ее понимала, да, это примиряло с собой, этот найденный наконец язык, язык для одного человека, нет, для двух людей, с этим языком теперь можно было жить, жить очень долго.
На выпускной мама заказала ей у портнихи платье бирюзового цвета, платье было душное, из кримплена, но очень красивое, приталенное, рукава-воланы, короткое. Тогда пол-Москвы одевалось у портних: в магазине «Ткани» стояли очереди, отрезы с тканями были в каждом втором домашнем бельевом шкафу, шить было нормально, шили и сами, много, но чаще что-то серьезное заказывали домашним портным или в ателье, шили по выкройкам из журналов – «Урода» (польский журнал), «Силуэт» (эстонский), все девочки одевались в платья, юбки, жакеты, которые могли бы носить тридцати-сорокалетние женщины, они приезжали к тете Любе, портниха жила далеко, на «Войковской», оттуда еще на автобусе, в темной двухкомнатной квартирке, заваленной тканями, нитками, выкройками, она кормила на это шитье целую семью, себя и двоих детей, времени не было ни минуты, тетя Люба предлагала выкройки, придвигала то один журнал, то другой, Полина Вайнштейн смотрела на рисунки, все это было дамистое, тяжелое, пышное, строгое, взрослое, но она послушно кивала, щупала бирюзовый кримплен, понимала, что ей будет жарко от шампанского, от музыки, от этого кримплена, от этой выпускной ночи, дурацкой, с тортами и фруктами, но только бы скорей.
Папа был против, чтобы она подавала документы на филфак, – скажи мне, кем ты будешь работать, тяжело говорил он, когда они сидели за ужином или за вечерним чаем, чем ты будешь зарабатывать себе на жизнь, или ты думаешь вечно находиться в зависимости от семьи?
У мамы был другой страх, что без блата в МГУ поступить вообще невозможно, действительно, ее завалили на сочинении и она в первый год не поступила.
Весь август она старалась приходить домой поздно вечером, продолжала сидеть в библиотеках, хотя уже было совершенно незачем, шататься по паркам, тратила последние деньги, ела мороженое в летних кафешках или просто ездила по кольцевой.
Было непонятно, что же делать дальше, утром она лежала в постели подолгу, вставать не хотелось вообще.
Но мама всегда умела найти выход – она нашла ей работу, в Радиокомитете на улице Качалова, в детской редакции. Первые недели она ходила по этим коридорам, как зачарованная.
Полина работала курьером: возила пакеты, коробки, бумаги на Пятницкую, в радиокомитет – с улицы Качалова, из дома звукозаписи, где располагалась детская редакция. Но главное, ей разрешили сидеть на всех записях – и «Пионерской зорьки», и «Радионяни», и «Сказки за сказкой», однажды она увидела Марию Бабанову, по коридору медленно шла старушка, слегка опираясь на палочку, и вдруг она заговорила звонким детским голосом, это было чудо, и Полине почему-то подумалось, что знать или видеть изнанку чуда – не так уж просто.
Постепенно она вошла в ритм, дни стали похожи один на другой, первую половину она моталась между Качалова и Пятницкой, потом обедала в столовой, поглядывая по сторонам, секретарши, сидевшие с ней за одним столом, шепотом обсуждали семейную жизнь знаменитостей, которые с подносиками проходили рядом, – Успенского и Заходера, Самойлова и Лившица, Винокура и самого Николая Владимировича Литвинова. Вечером Полина бежала на запись, хотя могла бы спокойно идти домой, перезаписывали неудачные дубли, пили чай, ругались из-за пустяков, бархатные, нежные голоса, которые, если закрыть глаза, по-прежнему звучали музыкой, распадались на молекулы, на интонации, на отдельные звуки. Она никак не могла собрать это вместе – зачем, зачем, зачем она здесь, что она тут делает, но тут же сладкая невесомость, неопределенность времени поглощала ее, в этих кабинетах, в этих студиях все было так легко, так необязательно, так спокойно, что она поддавалась.
Постепенно на нее обратили внимание веселые молодые люди из «Пионерской зорьки», каждое утро они выпускали в эфир двадцатиминутную передачу с бодрыми песнями, детскими письмами, «сюжетами» – в такой-то школе создали музей фронтовой славы, пятый «Б» взял шефство над верблюдом в зоопарке, тра-ля-ля, тра-ля-ля. Послушай, сказал однажды Валерий Иванович, не хочешь попробовать? Она взяла магнитофон, долго разбиралась, как включать, как выключать, и, невероятно волнуясь, потащила магнитофон на задание: там нужно было описать в «звуковых картинках» жизнь городского пионерского лагеря при каком-то парке культуры и отдыха, магнитофон был дико тяжелый, она долго ехала, с пересадками на автобусе, потом сидела в окружении детей и вожатых, каких-то теток с завода, и слушала всякий бред про комплексные планы и соревнование отрядов, за забором парка с воем проносились грузовики, рядом опять была стройка, она жутко боялась, что запись испорчена, что на нее будут орать, но пленку в тот же вечер взяли в работу: передачу делали с колес, быстро склеили, получилось неплохо. Наутро она слушала свой голос по радио, мучительно краснея, и мама внимательно на нее смотрела. Но ей не захотелось «выходить в эфир» – ей больше нравилось смотреть из-за стеклянной стены, как записывали сказки или какие-нибудь викторины. На нее порой внимательно посматривал Владимир Винокур, заменивший в «Радионяне» уехавшего в Израиль Левенбука, намечалось прямо-таки знакомство. Валерий Иванович из «Пионерской зорьки» однажды попросил ее сходить за тортом, у заместителя главного редактора был юбилей: все купили, а тортик забыли. Она помчалась в гастроном на площади Восстания, сжимая в кармане три рубля, вернулась, когда все уже кончилось, но к чаю как раз успела, и когда она шла, уже в полумраке, в десятом часу вечера, по коридору, с ней вдруг что-то случилось – она встала как вкопанная.
Это было очень сильное чувство. Она не могла идти и почти не могла дышать.
Полина вдруг поняла, что может остаться здесь навсегда, что все так и думают: и мама, и ее подруга, устроившая ее сюда, и Николай Владимирович Литвинов, и тетки-секретарши, и Валерий Иванович, и товарищ Винокур, – все они думают, что она хочет быть такой, как они, слиться с ними, раствориться в этих коридорах, в этих студиях, но она – она не знает, зачем она здесь!
Она позвонила маме и, рыдая, сообщила ей о своем желании уволиться немедленно. Мама бросила трубку.
Первые годы на филфаке университета ей все нравилось (а она поступила сама, без блата, упорно готовилась весь год) – лекции Тахо-Годи, Михаила Панова, здесь иногда читали лекции кумиры целого поколения – Лотман, Сергей Аверинцев. Она хорошо помнила последнюю перед окончательным отъездом, историческую лекцию Якобсона – народ висел на люстрах, было невозможно дышать, огромная аудитория была переполнена, как если бы выступал Ленин на съезде РКСМ в 1918 году.
Кельтский язык как дополнительный, летние экспедиции, студенческий театр, она ставила свое произношение, слушала кельтскую музыку, пыталась переводить Толкиена. Вскоре она познакомилась с Василенко.
Василенко теоретически был ее идеалом – молодой аспирант, необычайно талантливый, влюбленный в структурализм, сыплющий именами иностранных авторов, которых еще не переводили на русский язык, чернобородый, с длинными пальцами, яркий, целеустремленный, он как-то сразу ее выделил, давал интересные задания, но у него был один серьезный недостаток – он вообще не умел остановиться. Подхватив ее в коридоре, он мог говорить час, два, три – они вместе шли на улицу, в университетскую столовую, входили в метро, а он все говорил и говорил. Она не уставала, нет, но хотелось подумать, переварить, что-то освежить в памяти, разложить по полочкам, выработать свое отношение – для этого он не оставлял ей времени. Теория событий была его звездой, верой и любовью: фоновое событие, зашифрованное событие, внутреннее событие, внешнее событие, ложное событие, отложенное событие, цепи событий, орбиты событий. Ему нужен был собеседник, а не просто академическая среда, собеседник, который бы жил в такт с его теорией, и она старалась поймать этот такт, ездила с ним в Тарту, сидела на семинарах, приходила к нему домой, чтобы разобрать последние конспекты с английского, всегда рядом были еще два-три студента, но это были переменные числа, постоянным числом была она, ей хотелось понять, что же в его собственной жизни является событием, но то, что он был так невесом и воздушен, ее как раз устраивало – ей бы не хотелось сталкивать два плана реальности, пусть событие будет зашифрованным, пусть, пусть все продлится, продолжится, обретет плотность.
Ошибкой Василенко было то, что он впустил в свой круг эту «идеологическую шпану», как она их про себя называла, это были их общие знакомые с Александровой, никак не связанные с наукой люди, молодые непризнанные писатели, еще ничего не успевшие написать, но уже выпускавшие самиздат. Увидев девушку, настолько увлеченную высоким, они немедленно ей дали перепечатывать номер журнала «Лики» – сами-то они проводили вечера исключительно за вином, продолжая до хрипоты спорить о политике, о теории событий, о советской власти, а она теперь ночами, отложив дипломную работу, сидела и стучала на машинке:
«Начало 88-го года – начало новой полосы в моей жизни. Во-первых, реализовалась сложившаяся уже готовность вступить в открытую политическую деятельность (сознательно употребляю это слишком сильное в данном случае выражение). Во-вторых, мои соседи по подъезду (они уже в США) дали мне послушать две большие бобины «Аквариума» (поздновато, конечно, но что поделаешь). За полтора года оба события получили свое развитие… Я давно уже не мог назвать себя социалистом, перестал считать себя и антикоммунистом, миновали всплески увлеченности сперва еврейским, а потом и русским национализмом. Смысл перестройки сформулировался так: все настолько плохо, что выход в любое нетоталитарное состояние, будь это хоть диктатура типа чилийской, уже является выходом»[1].
Я помню, как у Василенко на кухне, где Полина Вайнштейн сидела и с бешеной скоростью перепечатывала номер журнала «Лики», и все орали, даже, я бы сказал, истошно вопили, вдруг наступила мертвая тишина – потому что стало понятно, что кончились все сигареты. А была уже глубокая ночь. Предложили ехать в Шереметьево-2, но и на это не было денег.
Тогда Полина молча встала, достала из сумочки талоны на водку и пошла к соседу, алкоголику-слесарю с завода «Знамя труда», разбудила его звонком в дверь и обменяла талоны на несколько пачек сигарет «Дымок».
Рано утром она уже варила геркулесовую кашу, пока мы все спали. Помню, я проснулся раньше других, вошел на кухню и спросил, чем могу помочь.
– Не знаю, – равнодушно отозвалась она. – Ну можно, например, выбросить мусор.
Я взял ведро и вышел из подъезда в прохладный, хмурый, захламленный и в то же время чем-то до дрожи прекрасный московский двор.
В 1989 году она впервые пошла на митинг вместе с папой. Это было так.
Ельцин съездил в Америку, и про него показали разоблачительную передачу по телевидению. Отец сказал: вот подонки, просто настоящие подонки, и вдруг ее как будто прорвало. Впервые за много лет они с отцом могли говорить легко и свободно, сразу находя слова и совпадая друг с другом до деталей.
Он всегда был против ее филологии, ее увлечения языком, он не понимал, что это такое вообще, ужины протекали в тяжелом молчании, в вялых разговорах, мама никак не могла их примирить, и вдруг он заговорил, и она была так счастлива, что он думает с ней одинаково, хотя бы о Ельцине!
– Послушай, – вдруг сказал он. – Ты пойдешь на митинг в Лужниках? Тогда найди еще четырех человек.
– Каких четырех человек? – не поняла она.
Папа был активистом, активисты должны были звонить еще по пяти телефонам, следующие еще по пяти, такая была система оповещения, работала она нормально, на митинги в Лужниках и на Манежную выходили сотни тысяч москвичей. В ближайшее воскресенье они пошли вместе с отцом в Лужники, там было действительно море народу, люди сидели на железнодорожной насыпи, забирались на деревья, чтобы лучше видеть, вся набережная была усеяна людьми с плакатами, которые они поднимали над головой. Тут же продавали значки: «Борис, ты прав!». Радостно смеясь, она купила сразу два. Выступали Гдлян и Иванов, Сахаров и Юрий Афанасьев, Аркадий Мурашев и Татьяна Заславская, звучали тревожные, но прекрасные голоса, папа взял ее за руку, и она опять была счастлива. Этот пятнистый свет, осенний косой свет, река в бликах, тревожные, яркие голоса, папа, который стоит рядом, – наконец все совпало.
19 августа 1991 года я встретил ее – просто на улице. Полина расклеивала листовки.
– Ты что тут делаешь? – удивился я.
Она показала мне пачку листовок с обращением Ельцина, Хасбулатова и Силаева.
– Ничего себе. И что, ты это раздаешь?
– Нет, почему раздаю. Вот клей. Вот деревья, заборы, двери, столбы. Хочешь вместе?
– Да нет, – сказал я. – Я не могу сейчас. Я очень спешу, извини.
– Ну смотри, – она тряхнула головой.
У нее были очень светлые глаза в этот момент. Как-то светлей, чем обычно.
– Приходи к Белому дому, – сказала она на прощание.
Поздно вечером я пришел туда, стал искать Полину, облазил все вокруг, но ее нигде не было. Люди сидели у костра, слушали радио, ели тушенку ножом из банки.
– Садись, братан, – сказал кто-то. – В ногах правды нет.
Я сел и уставился в огонь.
– Как вы думаете, сегодня штурм будет? – спросил меня кто-то из темноты.
Монеты
Когда я прохожу мимо деревянных панелей в вестибюле станции метро «Белорусская»-кольцевая – там, где раньше были уютные, теплые будки с телефонами-автоматами, – то всегда как-то вздрагиваю. Хотя будок этих уже давно нет, но старый рефлекс остался… Как правило, увидев эти самые будки, я почти всегда шел к окошечку кассы, протягивал гривенник и униженно спрашивал у кассирши: «Простите, не разменяете… ну это, чтобы с двумя копейками?»
Звонить девушкам я любил именно из метро, особенно с «Белорусской».
Иногда я специально менял маршрут и заезжал туда, или на «Киевскую», на «Смоленскую» (там тоже были такие «телефонные пункты»). Заезжал специально, чтобы позвонить из такой вот полутемной деревянной будки.
Да. Это продолжалось несколько лет. И это было ужасно.
Через какое-то время я наконец усвоил, что часто-часто звонить девушке, доставать ее своими чувствами, вести с ней бесконечные и нелепые разговоры по полчаса, а то и по часу – это глупо, недостойно, жестоко, нетактично и самое главное – бессмысленно. Все другие подобные эпизоды я стараюсь стереть из своей памяти, но этот – нет, этот стирать я не хочу. Может быть, именно потому, что, в отличие от других, он как-то тесно связан с этими деревянными уютными телефонными будками в московском метро. О будках этих я очень жалею. От них остались вот только эти деревянные панели, да и те скоро отдерут при очередном московском благоустройстве.
Попадая в этот душный, тесный, полутемный мир, я ощущал всегда какой-то удивительный, даже щемящий восторг. Не могу объяснить этого чувства. Да. Я как будто попадал в коридор – из которого можно было выйти в мою будущую жизнь.
А я еще не знал, какой она будет, эта самая будущая жизнь. И, чувствуя ее присутствие в этой телефонной будке, волновался.
Я почему-то знал, что звоню самому себе.
Вспоминая сейчас эту девушку, Лизу Багромову (член ВЛКСМ с 1975 г.), я понимаю, что ничего о ней толком сказать не могу. Я смутно помню, что она училась в 13-й спецшколе с немецким уклоном, во дворе гостиницы «Пекин». Что познакомились мы с ней в юношеской библиотеке имени Светлова во время сдачи выпускных экзаменов. Что она вроде бы училась потом в институте иностранных языков и якшалась со всякими «международниками» – была такая московская тусовка: дети дипломатов, журналистов, ездивших за границу, сотрудников ЦК, переводчиков, хотя, возможно, все это лишь мои домыслы. Просто в те годы в Москве люди, имевшие по профессии дело с иностранным языком, практически все друг друга знали. И даже их дети в большинстве случаев друг друга знали тоже.
Но… кроме этого, я не знаю о Лизе Багромовой ничего. Я не знаю, где она потом работала. Вышла ли она потом замуж. Покинула ли она нашу великую родину в конце концов или нет. Я только знаю, что тогда ей не было до меня никакого дела.
Сейчас, когда появились мобильные телефоны, все это происходит как-то совершенно по-другому. А тогда девушка не могла проигнорировать ваш звонок, не могла заблокировать ваш номер, не могла написать вам эсэмэс: «не звони мне больше, пожалуйста, никогда» и так далее, и тому подобное…. Сейчас все вообще происходит иначе.
Ну а тогда…
Тогда было вот что – в квартире раздавался громкий, оглушительный, дребезжащий звук, и ничего нельзя было с этим сделать. Звонки были механические, громкие, тревожные, заполняющие все окружающее пространство, и не ответить было просто нельзя. Можно было только снять трубку и положить ее на столик, чтобы раздавались короткие гудки. Потом положить на телефон подушку. Ну вот что-то такое. Но это уже в самом крайнем случае.
Поэтому, когда я звонил, я почти точно знал, что, если Лиза дома, она снимет трубку.
Она обязательно ее снимет.
Но иногда мы с ней встречались. Один раз на «Маяковской», внизу на платформе, где очень шумно, я подарил ей маленькую елочку на Новый год, кажется это было 30 декабря, до этого в телефонном разговоре она вдруг обмолвилась, что не знает, где купить елку, это был страшный дефицит, а я достал (на работе). Потом я купил ей на Центральном рынке два больших граната и выдал их за привезенные из Ташкента. Подарок ей очень понравился, и она была добра в тот вечер, говорила подруге с гордостью: вот, смотри, он привез их из Ташкента, подруга смотрела на меня каким-то странным взглядом. А однажды я сопровождал ее на Центральный телеграф, где она отправляла денежный перевод любимому человеку.
Каждый раз это сопровождалось корректной, но суровой речью о том, что шансов у меня никаких и пора перестать тратить свое и ее время зря.
Это была, конечно, чистая правда.
Но я никак не мог перестать, хотя все это понимал прекрасно.
Очень ясно помню, как и когда это было, потому что за пару дней мне позвонил Витя Лавров и предложил почитать одну книгу.
– Я не понял, Вить, – сказал я. – А зачем ты хочешь, чтобы я прочел эту книгу?
– Мне нужно с тобой о ней поговорить!
– А… Ну хорошо.
– Да, но я не могу выносить ее из дома.
– То есть ты хочешь, чтобы я приехал к тебе надолго?
Витя задумался. Видимо, этот момент ему самому в голову как-то не приходил…
– Ну да, – неуверенно сказал он. – Конечно хочу. У меня раскладушка даже есть. Ты умеешь спать на раскладушке?
– В принципе да! Жди.
Жил Витя далеко, в Беляеве. Я помню, что долго ждал автобус и приехал к Вите довольно злой. К счастью, дома была его добрейшая мама, она была крайне довольна, что к Вите приехал «старый друг», пожарила нам картофельных котлет, сварила сосисок, открыла банку зеленого горошка, и мы славно поели.
Витя был одним из первых встреченных мной в жизни людей, которые вообще не любили выходить из дома. Никуда и никогда. Это были очень редкие, буквально единичные экземпляры, все-таки, на мой взгляд, торчать дома безвылазно довольно затруднительно для любого человека, ну а вот Вите это удавалось легко. Ему только иногда нужно было продлевать справку об инвалидности, которую ему соорудила мама. Она испугалась, что Витю забреют в армию (ни в какой институт он, конечно, категорически поступать не хотел), а у нее была знакомая в НИИ труда, и вот она оформила ему такую справку, что он якобы на заводе ударился головой и потерял память.
Даже по тем временам это была серьезная экзотика – частичная амнезия, но головой Витя удариться действительно мог, он даже и дома иногда ею довольно больно ударялся. По большому счету, его мама была абсолютно права и ни на йоту не отступала от правды жизни. Просто она не знала, что после этой справки Витя перестанет выходить из дома вообще.
Теперь он даже за хлебом в булочную ходил редко, а книги ему приносили на дом знакомые девушки.
– Так! – сказал он торжественно, закрыв за мной дверь в свою комнату. – Лева! Ты должен прочитать эту книгу. Если не прочитаешь, знай, что мы больше не сможем с тобой общаться.
– Потрясающе, – сказал я. – Давай ее скорей сюда.
Дрожащими руками он распаковал свою драгоценность, завернутую в газету «Труд», и положил передо мной на стол, предварительно сдунув невидимую пыль.
Это был Карлос Кастанеда.
Честно говоря, я совершенно не помню, как эта книжка называлась. Ну что-то вроде «Путешествия туда и обратно». Я пробовал потом, через много лет, найти ее в интернете, но не смог. Там не было того названия даже и близко. Хотя текстов Кастанеды в интернете миллион – но этой почему-то нет. Ее название зачем-то изменили.
Помню только, что книжка была про каких-то индейцев.
– Ладно, читай! – благоговейным голосом сказал Витя и вышел из комнаты.
Я пролистал первые несколько страниц и придвинулся ближе к подоконнику. Квартира Витиной мамы находилась на последнем этаже. Это было не очень удобно: например, во время ливня потолок отсыревал, а потом трескался. Зато здесь очень хорошо было видно небо. Небо из окна Витиной квартиры было огромным. Сейчас оно имело зловещий оттенок – зеленоватый, иссиня-черный, с багровым краем, источающее какой-то огромный смысл.
Я приезжал в то время к Вите довольно часто – потому что мне было у него уютно, во-первых, и потому что из его окна хорошо было видно это небо.
А мама Вити была рада, потому что ее волновала «способность Вити к социализации», как она интеллигентно выражалась.
И вообще она была очень добра ко мне.
– Бутерброд с сыром хочешь? – сказала она, заглянув осторожно в дверь.
– Да! – радостно сказал я и поплелся на кухню.
Витя сидел на табуретке, поджав ноги.
Он умел так делать.
– Ну что? – спросил он меня, пытливо заглядывая в глаза.
– Сильная вещь! Но язык непростой.
– Да ты что! – обиделся он. – Проще не бывает!
Я быстро прожевал бутерброд и снова вернулся к окну. Мне не хотелось читать Кастанеду.
Я машинально подвигал Витины книги на столе и мгновенно нашел «Технологию власти» Авторханова, открыл ее и вдруг увлекся.
Вообще у Вити такого добра хватало. На полке были разложены стопочки фотокопий с абсолютно слепым, неразличимым текстом совершенно разных трудов – то вдруг полная стенограмма восемнадцатого съезда ВКП(б), то неизданные статьи Бахтина, то Фрейд, то «Доктор Живаго». Больше всего меня изумила статья о повседневной жизни колхозников – зачем это?
Витя много читал – а что еще делать, если безвылазно сидишь дома? Я же читать не то чтобы не любил, но читал слишком медленно. Часто отвлекался.
Я больше любил, приехав к нему, смотреть на небо – именно там я старался прочесть что-нибудь про свою жизнь.
Ну вот сейчас, в частности, про эту Багромову.
Откуда она вообще взялась и почему от нее так больно?
Читать про свою жизнь не очень получалось, буквы не складывались в слова, слова – в предложения, я смотрел на кучевые и перистые облака, и моя жизнь казалась мне пустой. Лишенной какого-то важного смысла.
Но небо из Витиного окна было лучше и красивей всего, что я видел вокруг.
Вообще мама Вити Лаврова, от которой папа Вити Лаврова ушел давным-давно, жила очень скромно, в обычном доме, в одном из самых унылых микрорайонов Москвы, ходила на унылую работу в какой-то НИИ, но я твердо знал, что не стоит доверять первому впечатлению – ведь эта женщина родила и вырастила, а теперь еще и жила в одной квартире с таким необыкновенным, просто сказочным человеком, как Витя.
Полки шкафов у него в комнате были завалены немыслимым количеством литературы, сам он был невероятно странным чуваком, и сейчас он предлагал мне разделить с ним самую невероятную из всех книг, которые только могли быть на свете, это я сразу понял.
Но мне все равно не хотелось ее читать. Мне нужно было поговорить.
– Вить, – осторожно сказал я, – а что вот делать, если ты звонишь, звонишь человеку, а он ни фига?
– Послать его подальше, – спокойно сказал Лавров.
У него таких проблем никогда не было. Женщины приходили к нему сами и оставались надолго. Вероятно, они ценили его глубокий ум.
– Ну понятно… – сказал я скучно. – А еще какой-нибудь совет можешь дать?
– Прочитай Кастанеду, – терпеливо сказал он. – Ну а вообще попробуй ее пригласить куда-нибудь, что ли. Если ты на это способен.
– Куда, например? – обрадовался я.
– Ну я не знаю. Хотя бы в зоопарк.
Всю ночь я провел за чтением «Технологии власти» и созерцанием беляевского неба. Стояло лето, и небо не гасло совсем, оно просто темнело, потом наливалось новым светом, потом оно подсовывало мне луну, я читал про Сталина и его приспешников и думал, что все-таки жить стоит.
Это чувство я тогда запомнил. Я вдруг понял, что это чувство стоит запомнить.
Утром, довольно рано, из вестибюля станции метро «Белорусская» я позвонил Багромовой и пригласил ее в зоопарк.
– Куда-куда? – засмеялась она.
– В зоопарк, – упрямо повторил я, мучительно краснея. – Посмотрим львов, жирафов. Покормим орлов.
– А чем их кормят? – вдруг спросила она.
– Мясом… – ответил я, не задумываясь.
– И все? А как же витамины?
– Не знаю.
– Слушай, Лева, – сказала Багромова, – это все очень интересно, но я предлагаю тебе совсем другую идею. У моей подруги завтра день рождения. Она меня пригласила. Ты сможешь со мной пойти?
– Куда? – тупо спросил я.
– К подруге… – терпеливо сказала Багромова. – Завтра. На день рождения.
Неожиданно я понял, что на день рождения к подруге не очень прилично идти одной, без молодого человека.
– Ладно… – сказал я, мысленно примериваясь к своему новому статусу. – Я смогу.
В портфеле у меня лежала книга «Технология власти». Я выпросил эту книгу у Вити, потому что мне очень хотелось ее дочитать.
– Ну смотри, старик! – сказал он на прощанье, когда мы расставались рано утром. – Смотри вообще! Тут тебе не дедушка Фрейд. Тут дела посерьезнее будут. Не показывай, пожалуйста, ее никому.
Витя не просыпался так рано никогда. А мне надо было успеть к десяти.
Из Беляева.
Поэтому смотрел он тревожно, подслеповато, и было ощущение, что мы прощаемся навсегда.
Весь день мне было не до Авторханова.
И выложить из портфеля я его просто забыл.
А на следующий день мы с Багромовой пошли на день рождения к подруге… Она с тортом, а я с портфелем.
Мы встретились на «Маяковской» и торжественно поехали на Речной вокзал.
Оттуда нужно было добираться еще на троллейбусе.
– Далеко живет девушка, – осторожно промолвил я.
– Тебе что-то не нравится? – резко спросила Лиза, и я замолк.
Вообще ситуация была какая-то дурацкая.
На мой взгляд.
Но все как-то быстро разрешилось, к моему удивлению.
– Это Лева. Он молодой журналист, – чинно сказала Багромова, и все почему-то сразу заулыбались.
Подругу ее звали Женя.
Там была мама Жени, совсем молодая еще женщина, которая стала цепко меня рассматривать, куча парней, какие-то еще другие подруги, салат оливье, красная икра, шампанское, горячее из утки, запеченной с яблоками, огромный длинный стол, и у меня скоро закружилась голова от столь новых и ярких впечатлений.
Я как-то совершенно не знал, как мне себя вести, и много ел. Багромова в какой-то момент залезла с ногами на диван, стала прыгать и кидаться во всех подушками. Я залюбовался. Ей это очень шло. Но потом включили музыку, и я пошел курить на лестничную площадку. Танцевать мне здесь ни с кем не хотелось, а с Багромовой вдруг стал танцевать совершенно другой человек.
Неожиданно выяснилось, что время быстро приближается к часу ночи (мы с Лизой приехали в гости поздно).
– Тебе, наверное, домой пора? – спросила она ласково, встретив меня в коридоре.
Я давно ждал этого вопроса. Хотелось, конечно, проводить ее до дома. В этом виделся весь смысл этого дурацкого вечера. То есть в том, что мы вместе поедем от «Речного вокзала» до «Маяковской». А потом я буду провожать ее до самого подъезда. В этот момент мне казалось, что я дождался главного момента вечера и все только начинается.
Но я, к сожалению, ошибался.
Стояла поздняя весна.
На улице было совсем тепло. Так действительно бывает весной: еще с утра ты кутаешься от холода, и хлюпаешь носом, и пока добежишь до метро, весь продрогнешь, как вдруг вечером выйдешь на улицу – и в теплом мерцающем воздухе растворяются капли дождя, фонари светят рассеянным светом, и очень хочется идти пешком.
– У тебя деньги есть? – неожиданно спросила Лиза Багромова.
– По-моему, есть, – сказал я и машинально достал кошелек.
– Просто на метро ты уже опоздал.
– Я? А ты?
– Ну, уже поздно, и мне предложили остаться.
– Тебе?
– Конечно мне! – раздраженно сказала она. – Я Женю с первого класса знаю, а тебя тут видят в первый раз. Или ты думал, что нам постелят вместе?
– Нет, я так не думал. Просто я думал, что мы вместе поедем домой.
Выяснилось, что денег у меня с собой – рубль с копейками.
– Ну это, конечно, мало… – скучно сказала Лиза. – На такси тебе не хватит. А у меня лишних нет. Ладно, стой жди троллейбуса. Вдруг повезет.
– А если не повезет? – упрямо сказал я. Мне не хотелось ее отпускать просто так.
– Ну а о чем ты думал? – жестко спросила она. – Ты же взрослый человек, Лева! Ладно, пока!
И она пошла к своей подруге Жене. Ночевать.
Я шел по Ленинградскому шоссе в каком-то странном настроении. Никогда ни до, ни после не доводилось мне совершать по Москве столь долгий ночной путь. Все троллейбусы и автобусы куда-то вдруг исчезли, как будто их и не было никогда. Машины тоже пошли спать. В тени деревьев – а они уже пустили первую листву, – да и вообще в тени было идти довольно страшно, и я в какой-то момент просто вышел на освещенную середину улицы и пошел прямо по разделительной полосе. Но скорее всего я это сделал уже позже, в районе «Войковской», когда внезапно нахлынувшая на меня эйфория достигла апогея.
По улице Юбилейной я сначала достиг моста, верней авторазвязки, и долго думал, куда поворачивать. Когда надумал, на меня пахнуло свежестью парка, с которого, как известно москвичам, начинается Речной вокзал. На клумбах еще не было цветов, но они уже дышали – семена пробивались к свету. В кустах шевелились какие-то тени. Мимо угрюмо пробежала длинная стая бродячих собак, не обращая на меня никакого внимания. «Если я погибну сегодня ночью, это будет смерть от любви», – подумал я и отчего-то хихикнул.
Мимо медленно проехала милицейская машина, и я внезапно вспомнил, что держу в руках портфель, в котором находится запрещенная к ввозу в СССР литература. Придется молчать, как Зоя Космодемьянская на допросе, подумал я.
В детстве мы часто спрашивали друг друга: «А вот если бы тебя пытали немцы, как Зою Космодемьянскую, ты бы смог?»
Я всегда честно отвечал: «Нет».
Уже тогда над Москвой было очень светлое небо, но звезды были еще видны. С каждым шагом я становился почему-то все более счастлив.
На подходе к «Войковской» меня все-таки остановил какой-то скучающий гаишник на мотоцикле.
– Что так поздно, молодой человек? – спросил он, козырнув и проверив документы.
– От девушки возвращаюсь, товарищ капитан! – честно сказал я.
– А! – улыбнулся он и медленно, очень красиво отъехал.
Из ближайшего автомата я позвонил Лаврову.
– Ты чего, Лева, совсем? – спросил он меня. – Поздно уже. Второй час.
– Не, Лавров, слушай, тут вот какая история. Я сейчас нахожусь в начале Ленинградского проспекта…
– Где ты находишься? – заинтересовался он.
– Ну… я тут был на одном дне рождения… и у меня, короче, не осталось денег на такси… и короче, я тут, а книга у меня с собой.
– Какая книга? – всполошился Лавров, и было слышно, как он резко встает, надевает рубашку и просовывает ноги в тапочки. – Какая книга? Я тебе дал Кастанеду? – уточнил он вопрос.
– Нет, «Технология власти»…
– А, эта… – расслабился мой друг и зевнул.
– Слушай, ну а что делать, если меня милиция остановит?
– Да никто тебя не остановит.
– А если вдруг, то что говорить? Я просто не знаю, у меня нет опыта в таких делах.
– Вообще из дома лучше не выносить, я же тебе говорил, – снова скучно зевнул Лавров. – Ну это, конечно, неприятная история будет. Скажи, что это… ну, нашел на улице и типа не знал, что это такое вообще. И тупо придерживайся этой версии. Про меня только не говори, ладно? – добавил он.
– Может, ее того… испачкать? – вдруг сказал я. – Если я ее на улице нашел. Так версия будет правдоподобней.
– Я тебе испачкаю, гад, – сказал Лавров и повесил трубку.
Но тут мне захотелось позвонить Лаврову еще раз. Откуда у меня было столько двушек в этот вечер, ума не приложу. Наверное, запасся заранее. Ведь я шел на ответственное свидание.
– Слушай, Лавров, – сказал я. – В общем, она меня выгнала. Сказала, что остается ночевать у подруги, а я чтоб шел… ну, в общем, домой. Такие дела. Что мне теперь делать?
– Не жлобствовать… – сказал он веско. – Может, она была не в настроении. Или ты повел себя не как настоящий человек, который звучит гордо. Откуда я знаю. Забудь. И больше мне сегодня не звони.
В этот момент надо мной пролетела большая черная птица. Я вздрогнул. Птицы в это время суток должны были спать, да и вообще никаких птиц в Москве в это время года я давно уже не видел – ну голуби, мокрые воробьи, иногда вороны. Но ночью?
В этот момент я решил отдохнуть и прислонился к стене сталинского дома на улице Горького.
Невозможно было вообще поверить, что это она – улица Горького.
Было тихо, пусто, легкий туман окутывал троллейбусные провода, взглядом я искал горящие окна и, помню, все-таки нашел одно, стал думать – кто в нем, что с ним, может быть человек страдает или болеет, а может быть у него просто бессонница, а может быть он пишет роман и у него ничего не получается, а может быть он собирается в путь – в командировку или просто на работу. Этот полный, глубокий сон ночной Москвы меня просто потряс, я чувствовал себя, как на другой планете, я шел по середине абсолютно пустой улицы Горького, как по коридору своей квартиры, и мне было как-то очень хорошо в этом городе, он был весь мой, я легко чувствовал в нем свое будущее, и оно меня вполне устраивало – эти сдвинувшиеся стены были родными, как в детстве, когда я вставал ночью и шел в туалет, я трогал рукой стены, и они помогали мне не упасть, в этой кромешной темноте, в этом светлеющем воздухе просто стояло мое будущее, мне становилось все лучше и лучше, я очень легко думал обо всем, странно только было, что я проходил сейчас буквально рядом с домом Лизы Багромовой, а ее там не было, и я подумал, что в моем будущем ее все-таки нет – нет совсем.
Я помню, как мы с ней отправляли денежный перевод с Центрального телеграфа. Сначала она проверила, нет ли ей писем или посылок, ничего не было, тогда она обиженно поджала губы и пошла отправлять деньги, долго там что-то писала. Я сидел в центре зала на массивной деревянной скамье и смотрел вокруг.
Это было огромное помещение, и потолок был не то что высокий, он был огромный, как в церкви, как в Исаакиевском соборе, не хватало только маятника Фуко, люди вокруг все были немного как будто согнуты своей заботой, все были как бы немного сутулы – заполняя бланки, проверяя телеграммы, ожидая вызова в телефонную кабину, чтобы позвонить во Владивосток или в Париж. Теперь я понял, почему она любила сюда заходить: это было невыносимо грустное место, храм разлуки, и ей это было чем-то приятно. Наконец она села рядом и спросила меня:
– Зачем ты за мной ходишь, а? Тебе делать нечего?
– Не знаю, – сказал я. – А что, нельзя?
– Да нет, это твое дело… – отвернулась она.
Поворачивая с Горького на Тверской бульвар, я встретил еще одного человека.
Он был адски пьян, но твердо стоял на ногах.
– Курить есть? – преградил он мне дорогу.
Я дал ему сигарету и спички.
– Куда идешь?
– Домой, – устало ответил я.
– Послушай… – неожиданно сказал он. – Вот я… я могу тебя арестовать… Но мне нужны деньги.
– У меня есть рубль… – просто сказал я. – Могу одолжить…
– Одолжить? – криво улыбнулся он. – Вот ты какой… ну давай.
Он долго смотрел на мой бумажный рубль и тяжело дышал.
– Слышь, парень… – сказал он. – А у тебя че в портфеле? Наркотики?
Я молчал.
– Ну вот чего мне с тобой делать, а? Ну вот скажи… Неохота будущее твое ломать. Понимаешь меня?
– Понимаю… – сказал я.
– Ладно, иди! – он резко махнул рукой и зашатался. – Иди!
Я перешел улицу и шагнул в тень деревьев. Потом оглянулся. Человек все так же стоял и чего-то ждал.
У меня тряслось все – колени, руки и в животе.
Было очень неприятно.
Начиная с Никитских ворот – здесь я повернул направо и пошел к площади Восстания – появились первые машины и редкие прохожие. Я понемногу успокоился.
Время снова cтало двигаться, дышать.
– Пойми… – говорила мне Лиза. – Ну вот представь, ты сидишь дома, читаешь, может, или просто так, думаешь, и вдруг резкий звонок. Ты думаешь: кто это? Может, что-то случилось? И вот ты идешь и думаешь – а кто это звонит? А это ты.
Трудно сказать, что в ней было такого. Может быть, именно голос. Голос в трубке. Он был какой-то другой, не такой, как у всех.
– Это очень странно… – говорила она. – Мне все говорят про голос. Голос, голос…
Я звонил ей еще много раз. Меня опять обволакивал ее голос, обещавший что-то, чего не могло быть в принципе, ее угрюмость, ее шуточки, колкости, это неприятное молчание, потом тяжесть придавливала наш разговор к земле, и я бросал трубку в страшном раздражении, но не на нее – на себя.
И каждый раз, когда я звонил ей снова, в моей голове возникал странный коридор, по которому я иду вперед, как по ночной улице Горького. А в конце светофор и поворот в правильном направлении. Если повезет…
Но никогда в жизни не было больше так светло и пусто, как в ту ночь. И кстати…
В кармане в этот момент я сжимал последнюю двушку.
Но звонить никому не стал. Было слишком рано. Около пяти часов утра.
В отказе
Когда Лера Кислова (русская, член ВЛКСМ с 1978 г., студентка вечернего отделения Московского полиграфического института) думала, с чего же все это началось, она всегда вспоминала ту майскую поездку в Загорск.
Да, это была совершенно чудесная поездка, когда они всем седьмым классом «А» отправились осматривать музеи, древние храмы и другие достопримечательности этого старинного русского города, но, увы, получилось все не совсем так, как было намечено.
Леру Кислову и двух ее подружек (Чухлову и Саркисян) прямо с вокзала Маргарита Семеновна решила отправить домой – во-первых, ей не понравились их слишком короткие юбки и то, что они накрасили губы, во-вторых, они взяли с собой лимонад и конфеты и ели их уже по дороге, что было строжайше запрещено, а в-третьих, опоздали на десять минут. Маргарита Семеновна решила проявить педагогическую волю и жестко, безо всяких разговоров послала их к родителям: мол, «подумайте на досуге», но девочки домой не поехали, совершенно ее не испугались, взяли билеты и просто сели в другой вагон.
Это разъярило Маргариту Семеновну до крайней степени, однако на том дело не кончилось – пока класс чинно слушал экскурсовода, они втроем лазали по башням и стенам, жрали в три горла мороженое и жареные пирожки и наконец на обратном пути увидели из окна электрички реку, вышли на какой-то станции, стали кататься на лодке, и прокатались до позднего вечера, аж до девяти часов.
Когда они оказались на Ярославском вокзале, уже в полной темноте, Кислова сообразила, что они малость перегуляли, но было уже поздно – родители встретили с поджатыми губами, «я даже не знаю, что из тебя вырастет», сказал папа горько и пошел в свою комнату слушать радиоприемник, а мама сразу села за телефон и стала обзванивать Маргариту Семеновну и других родителей, которые страшно переполошились, когда в числе вернувшихся не обнаружили трех девочек, и тут-то и началась паника, усугубленная слегка напуганной, но несломленной Маргаритой Семеновной, которая, разумеется, подбавила жару.
К тому же Лена Саркисян, одна из подружек, поднявших бунт, упала с лодки в реку, к счастью, там было неглубоко, но ее одежда до конца не просохла, поэтому, когда они вернулись домой, Саркисян кашляла, и родители окончательно обозлились и стали искать виноватых. Виноватой оказались Лера с Чухловой, Саркисян же была их жертвой, невинным агнцем, на том и порешили.
Однако последней каплей, переполнившей чашу всеобщего терпения, стала общешкольная линейка, на которой Маргарита Семеновна дрожащим от волнения голосом говорила об ответственности за жизнь друзей, о святом долге дружбы, и в этот момент Чухлова скроила такую рожу, что Лера непроизвольно засмеялась, и тогда Маргарита Семеновна побелела, взяла ее за руку и вывела с линейки прямо в кабинет директора.
Там она орала примерно полчаса.
Потом она позвонила матери на работу.
Потом мама разговаривала с ней два часа, иногда плакала и иногда тоже орала.
Потом стала плакать сама Лера.
Из школы ее, конечно, не отчислили, как обещали, но членство в пионерской организации имени В. И. Ленина было приостановлено на целых два месяца.
Вот так это и началось…
Потом были и другие важные события, сыгравшие определенную роль в ее жизни: например, когда Саркисян не взяли в поездку в Чехословакию в девятом классе из-за «очень плохого поведения», Лера тоже отказалась ехать из солидарности, и в результате Саркисян поехала, а она нет, потому что мама Саркисян «все-таки договорилась». Или, например, когда она влепила пощечину сыну кагэбэшника Бабченко, который обозвал ее нехорошим словом, и он ударил ее в ответ, и они подрались, повалились на пол, покатились, расцарапывая друг другу лица, и весь класс их разнимал, или когда она села за парту к Иванову, который написал заметку в «Московский комсомолец» о том, что их класс не дружный, потому что они не навестили в больнице учительницу, у которой случился инфаркт, а они просто не знали, где она лежит, и все в классе ему объявили бойкот, никто с ним не разговаривал, а она взяла и пересела к нему за парту, Иванов смотрел на нее молча, не понимая, что нужно делать в такой ситуации, а она гордо сидела, чувствуя напряженной спиной, как все ее ненавидят, ну и так далее, и так далее, и так далее…
При этом ее постоянно куда-то не брали или пытались не взять: в комсомольцы ее сначала категорически не брали, пока не вмешался отец и не пошел к директору, «а то бы не видать ей института как своих ушей», в Чехословакию ее не взяли, в Полиграфический институт ее не взяли, первые ее рисунки, которые она нарисовала для журнала «Пионер» тушью к рассказу писателя Баблояна, тоже не взяли, причем с какой-то очень обидной формулировкой, но она как-то не очень обо всем этом переживала: было очевидно, что возьмут все равно, возьмут обязательно, мир звенел и расступался перед нею, как волшебный лес, когда она вспоминала те времена, то сразу представляла себе эти камзолы из тонкого вельвета «а ля Мик Джаггер», темно-синий и бордовый, с огромными блестящими пуговицами, которые она сама сшила по картинке из журнала «Роллинг Стоун» и в которых была, конечно, чудо как хороша – и это были не субъективные, а вполне объективные данные, потому что вокруг нее, куда бы она ни приходила, постоянно крутились красивые взрослые мужчины: журналисты, редакторы, фотокорреспонденты, и из этих ежевечерних приглашений на «просмотры», на вернисажи, на премьеры надо еще было как-то выбирать, что было крайне непросто – хотелось ведь после школы буквально всюду. Правда, замуж она в первый раз сходила как-то крайне неудачно, но это было уже все равно… Жизнь на этом не закончилась.
В 1983 году она поехала в мае в Коктебель, почему-то одна, и на вокзале ее сразу зацепили какие-то молодые ребята, Боря, Миша, Володя, все как на подбор с густыми черными бородами, страшно веселые и сразу ей чем-то понравившиеся. Они быстро определили ее к «правильной хозяйке», пригласили вместе столоваться, потом пригласили пить разливное вино, и она как-то легко и плавно вписалась в эту компанию, тем более что компания эта ее, конечно, мгновенно поразила.
Таких людей она раньше вообще не видела.
Это были «отказники», или, как они говорили, «сидевшие в отказе» (они всегда говорили «сидит в отказе», но никогда – «отказник»), и это значило, что человеку, подавшему документы на выезд к родственникам в Израиль, отказали «компетентные органы».
Про евреев она до этого вообще имела не очень ясное представление, в основном из народного фольклора, которого всегда было хоть отбавляй – и в школе, и на троллейбусной остановке, но она как-то не прислушивалась и не интересовалась, да и дома эта тема тоже как-то не очень была популярна, хотя про какого-то дедушку Матвея она всегда знала твердо, но отец никогда вообще не говорил об этом и даже пресекал любые попытки, потом она узнала почему – в годы войны бабушка, оказавшись на оккупированной территории, пережила жуткий страх, она-то была русская, а вот мальчик был еврей по отцу, и это надо было скрывать, в том числе и от немца, доброго немца, который был у них в доме на постое, ее страх каким-то образом передался отцу еще в младенческом возрасте, говорить об этом у них дома было вообще нельзя, ну, собственно, она до поры до времени и желания такого не испытывала.
В Коктебеле она узнала много для себя нового – что отказывают без объяснения причин, хотя по закону объяснять причины обязаны, при этом железно увольняют с работы, исключают из партии и комсомола, отчисляют из института, что на хлеб насущный «отказники» зарабатывают разными способами – либо грубой физической работой, разгружают вагоны например, нанимаются истопниками, – либо находят что-то совсем уж экзотическое, служат натурщиками в Суриковке, все они были ребята молодые, физически развитые, и она вполне себе представляла эту натуру, в общем, это была веселая, отчаянная, партизанская жизнь, которая ее с самого начала как-то очень заинтересовала.
Все они учили иврит. Все они помогали знакомым «сделать вызов» – сразу предложили и ей тоже. Лера подумала и согласилась. Это оказалось удивительно легко, она пришла домой и попросила папу найти дедушкино свидетельство о рождении, папа совершенно не удивился, молча пошел и стал рыться в старом коричневом портфеле с документами, советскому человеку постоянно требовались какие-то справки и свидетельства, папа даже не спросил зачем, она переписала свидетельство аккуратным почерком (как учили) и отнесла его в голландское посольство, тоже как учили.
«Вызов» пришел заказным письмом через пару месяцев, но документы она пока решила не подавать, а еще через пару месяцев пришла от евреев «помощь» в виде джинсовой куртки слишком большого размера и огромных, невероятно крепких, каких-то вечных просто солдатских ботинок (ровно на ее размер), все это она тут же продала, выручив неплохие по тем временам восемьдесят рублей, на этом ее отношения с еврейским государством на данном этапе закончились, а вот с мировым сионизмом – совсем нет.
Лере Кисловой трудно было бы описать этот мир в двух словах – он был очень разный, конечно, но если рассмотреть основной его покрой, он был сшит как будто бы на нее, на ее характер, на ее отношения с людьми – мир отказников был легкий и вместе с тем удивительно бесстрашный, надежный и вместе с тем опасный, полный игры и превращений и вместе с тем совсем честный и правдивый. Здесь вещи всегда назывались своими именами – и это было приятно, здесь не понижали голос, а если и понижали, то в каких-то уж совсем особых случаях. Ну например…
Первое время подпольные занятия по ивриту вел знаменитый Щаранский, приходя на квартиру, он вел себя как настоящий Джеймс Бонд или Владимир Ильич Ленин в августе 1917 года – «хвоста нет», сообщал он важно девушкам и юношам, затем брал с кровати самую большую подушку и накрывал ею телефон, затем аккуратно выглядывал в окно и наконец окончательно объявлял: все, можно, и они открывали свои конспекты.
Потом ивриту учил Михаил Некрасов, в Товарищеском переулке, она хорошо помнила этот адрес, для нее он был как маленькая нарисованная дверь на стене у Буратино, ведущая в другой мир. Посылки из Израиля с «еврейской помощью» она получала на Главпочтамте, причем на другую фамилию – Белопольскую (фамилия деда), просто показав свидетельство о рождении отца и свое. И ей все выдавали. Она не уставала удивляться чудесам этого нового мира, открывшегося тогда, в Коктебеле, и еще тому, как легко и просто она туда забрела, в общем-то совершенно случайно и навсегда (так ей казалось), в отличие от пыльного мира советских редакций, куда она перед этим долго и упорно шла, не понимая, что этот мир – не ее.
Где-то там, в самом дальнем уголке этого пыльного мира советских редакций, уместился и я. Как и многие журналисты моего поколения, я помнил Леру Кислову молодой и блестящей, с каким-то фантастическим обаянием, в ее морщинке у левой губы, в ее мерцающих глазах и, конечно, в ее вельветовых жакетах а-ля Мик Джаггер, которые она шила себе сама, таилось что-то такое, от чего хотелось крепко задуматься – о том, почему мир так несовершенен и почему такие девушки всегда проходят мимо, лишь на секунду остановившись и помахав тебе ручкой. Но это было банально и пошло, и я об этом молчал и с Лерой старался просто дружить.
Да, это были свободные люди, Боря, Володя, Миша и многие другие, они не боялись говорить обо всем, читать все – читали, конечно, адову тучу тамиздата. Особенно она запомнила, как на какой-то квартире всю ночь вместе со всеми читала на белом экране книгу Авторханова «Технология власти» на фотопленке, слепую копию, но на детском проекторе для диафильмов все прекрасно получалось, лампа подсвечивала и укрупняла текст, только если кто-то не успевал жадно и быстро проглотить страницу, как она, то приходилось ждать; впрочем, и это было весело и сопровождалось разными шутками про то, у кого какая скорость. Эта волшебная ночь с чтением запрещенной книги вдесятером (или их было даже больше?) осталась в памяти как изысканное, острое, но уже вполне ожидаемое удовольствие. Но и не только книги – юное, порой глупое бесстрашие касалось всего. Они не боялись пить «все что горит», курить марихуану, ну и, наконец, по праздникам ходили «на горку» возле хоральной синагоги на улице Архипова…
Это хождение «на горку» поначалу вызывало вопросы – она же не религиозная еврейка, хотя и учит иврит, что ей там делать?
Но ее позвали на Архипова так весело и настолько искренне, без какой-то задней мысли, что она сразу согласилась.
Народ возле хоральной синагоги собирался по праздникам – Йом Кипур, Песах, да и просто по субботам… Она-то думала, что по всей Москве наберется таких сумасшедших, как она и ее компания, ну человек двадцать, хорошо, пятьдесят, сто, а здесь приходило сразу триста, иногда под полтыщи, были, конечно, и старики, все в черном, со строгими лицами, но в основном молодежь, люди двадцати с лишним лет, такие же, как ее компания, «отказники». Это были молодые, умные, ироничные люди, когда-то учившиеся в технических вузах, они спокойно относились к религии – просто все очень хотели уехать из Союза.
Перспективы их были туманными – многим родители не подписали «согласия», что автоматически закрывало право на выезд, но это их не смущало, у них была цель, у них была система координат, и вот это, конечно, ее поражало больше всего: что одного этого достаточно, чтобы быть спокойным и счастливым, – иметь систему координат. На горке, впрочем, никто политических разговоров не вел – пили сухое вино, танцевали и пели еврейские песни, шумели, смеялись, нигде больше в Москве она не чувствовала никогда такой легкой, прозрачной атмосферы, атмосферы счастья и единения – многие из этих молодых парней и девушек были в довольно отчаянном положении, работать было негде, жить не на что, перспектив никаких, но они держались вместе, знали, что им не дадут пропасть, их всех поддерживала какая-то невидимая сила, и чтобы ощутить эту силу, они, собственно, и приходили на горку.
Попасть на горку (то есть к синагоге) было на самом деле непросто – милиция ставила кордоны выше и ниже по улице Архипова, проверяя у всех паспорта и медленно, аккуратно записывая данные, однако они (их компания) умудрялись как-то прорываться, через соседние дворы, сквозные парадные (тогда еще такие были), перемахивая через какие-то стены и чуть ли не проползая под бдительным оком дружинников.
Постепенно она узнала многих и ее узнали многие – братство расширялось, об отъезде, как ей казалось тогда, мечтали тысячи людей, а может и десятки, и даже сотни тысяч в Союзе, но до «отказа» добирались самые дерзкие… а дальше за этой границей, то есть за ситуацией «отказа», наступало чистилище – разрыв с родителями, иногда полный, окончательный, поиск своего угла – селились в каких-то очень странных квартирах, иногда брошенных, без света и отопления, в домах, ожидавших капремонта, иногда в «дворницких» (дворникам предоставляли временную, «служебную», но тем не менее отдельную квартиру), иногда на чьих-то дачах, оставшихся в наследство… Такой, например, была знаменитая дача Фила в Опалихе – туда приезжали целыми компаниями, оставались на несколько дней, собственно, других источников существования у Фила, который даже зимой ходил в шлепанцах на босу ногу, не было – как тогда говорили, он «кормился с гостей», был временным хозяином этой двухэтажной старой дачи под соснами, на которой начинались и заканчивались многие романы, отношения, браки, на которой кипели споры, жаркие споры о будущем и прошлом, и в воздухе стояла густая смесь табака, алкогольных паров и запаха молодости…
В понятие «чистилища» входило многое – обыски на квартирах, вызовы в ОВИР, отношения с участковыми, бдительно проверявшими своих «отказников», где живут, на какие средства, не ведут ли асоциальный образ жизни, в понятие «чистилища» входила конспирация, цепочка услуг, передача денег, книг, посылок, огромная сеть взаимопомощи, которая только и помогала выстоять этим людям, которым в СССР просто не на что было рассчитывать, в понятие «чистилища» входила и целая система искушений или испытаний – нужно же было как-то жить, содержать семью, если она была, и кто-то приторговывал еврейской «помощью», кто-то сдавал книги в букинист, кто-то ездил по деревням в поисках икон…
Но ее личное чистилище (хотя она и вовсе не была «в отказе») оказалось совершенно другим.
Среди новых ее знакомых как-то раз образовалась Дуся Штейн – у нее был роман с Пьером, человеком из французского посольства, он работал каким-то третьим замом культурного атташе и одновременно – почему-то одновременно – помогал советским евреям, они с Дусей жили гражданским браком в дипломатическом доме на Селезневке, и у них частенько собиралась целая компания, там были интересные люди, не только «отказники», но в основном они, через Пьера частенько передавали «помощь», ту, что не доходила по почте, например лекарства, с ним советовались по разным сложным делам, связанным с оформлением виз, билетов и прочее, словом, как-то вдруг она туда зачастила, и было из-за чего – во-первых, квартира большая, совсем просторная и даже немного пустая, что в случае с большой и даже огромной компанией всегда очень удобно, во-вторых, в гостях у Дуси и Пьера всегда было много новых открытий – таким веселым открытием стали видеокассеты с эротикой (фильм «Эмманюэль», первая, вторая и третья части) или даже шипучий аспирин, когда она заболела (никогда до этого ничего подобного не видела), «Кока-кола», да и всякое другое, разве все запомнишь, – словом, приходить туда было приятно. Хочешь ночуй, хочешь не ночуй…
Родители в этот момент уже как-то совсем обмякли, ослабли, и хотя все эти ее связи с мировым сионизмом воспринимались ими с ужасом и ее неоднократно спрашивали, хочет ли она поломать им жизнь навсегда, – но вот то, где она ночует и на что живет, уже не вызывало такого жгучего интереса.
Через пару месяцев после приятного знакомства с Пьером и Дусей ей позвонил по домашнему телефону человек, который представился как «Алексей Иванович» и сказал, что он работает в комитете государственной безопасности и «очень хочет встретиться».
– А если я не хочу с вами встречаться? – медленно спросила она.
Он совершенно не удивился.
– Тогда я пришлю вам повестку. Выбирайте.
– Подумаю, – сказала она и хотела повесить трубку.
– Тогда я позвоню вам завтра, – как-то очень профессионально успел закончить разговор «Алексей Иванович» и повесил трубку сам.
Лера позвонила знакомому адвокату по фамилии Римский (он иногда вел диссидентские дела, и она дружила с его дочерью) и попросила срочно встретиться. Римский был довольно мрачен. Они зашли в кафе на улице Горького, он закурил, выслушал ее и сказал:
– Ничего страшного. Иди.
– Ну то есть как это «ничего страшного»? – удивилась она.
– Ну понимаешь… если ты им специально нужна, то они тебя все равно достанут. А если не специально, а так… Ничего, отобьешься. Ты же умная, – сказал Римский, похлопал ее по щеке, улыбнулся ободряюще, щедро расплатился за кофе и вышел вон. А она продолжала сидеть, не в силах согнать с лица дурацкую улыбку, и пыталась успокоиться, чтобы в животе не так крутило.
Наконец вечером позвонил Алексей Иванович, которого она про себя уже стала звать просто так, без кавычек, и просто сказал:
– Ну часиков в одиннадцать тогда приходите… Лубянка, дом двенадцать. В бюро пропусков я вас буду ждать.
Утром она долго ходила вокруг Лубянки и вспоминала брошюру «Как вести себя на допросе», которую тогда все они читали. В брошюре все было в общем просто и понятно: бумаг не подписывать, фамилий не называть и очень, очень не торопиться говорить «да» на любой вопрос, даже самый безобидный. Но от этого в животе крутило еще больше.
Без пяти одиннадцать она открыла тяжелую дверь по указанному адресу и вошла в бюро пропусков.
Здесь было полно народа. Стояли какие-то испуганные тетки, суетились какие-то молодые люди, кого-то выкрикивали, кто-то кого-то искал, она растерялась и минут десять стояла, не зная, что вообще делать (спрашивать «Алексея Ивановича»? – но это как-то глупо). Наконец из толпы выделился неброский человек и тихим вежливым голосом ее позвал:
– Валерия Дмитриевна? Здравствуйте. Вы, наверное, меня ждете, извините, пожалуйста…
Они долго шли в какой-то кабинетик, потом пришли – крошечный, с окном во двор, совершенно обшарпанный, безо всяких признаков хозяйской жизни – портретов, картинок на стене, предметов на столе, чашек или графинов, – «комната для допросов», догадалась она, в ней расположились и начали разговор.
Разговор был совсем странный.
Алексей Иванович был сухой, невзрачный мужчина, с залысинами, но с очень правильной литературной речью, совсем неприметно одетый, и единственной его важной внешней особенностью, по которой его даже можно было запомнить, была манера говорить – очень медленно и очень тихо.
Он начал разговор о выставке «Москва – Париж» в Пушкинском музее, буквально с восторгом – Брак, Пикассо, вы были, были, надеюсь? – спрашивал он ее, конечно была, отвечала Валерия Дмитриевна (теперь ее звали так) важно, и он принялся рассуждать о кубизме, говорить о картине «Герника», да, это потрясающая вещь, но, понимаете, ранний Пикассо, он как-то больше… ну вот… проникает в сердце, вы согласны со мной?
– А вы знаете, что Пастернак встречался с Пикассо в Париже? Во время конгресса антифашистов? Нет, вы не знали об этом? – торжествующе воскликнул он. – Конечно, еще до войны! О, это было очень интересно…
На исходе первого часа она сама спросила:
– Алексей Иванович, а, собственно…
– Ну да, ну да, извините… – как бы смутился он. – Давайте перейдем к делу.
И перешел.
– Валерия Дмитриевна, не стану скрывать, что нам очень нужна ваша помощь.
– В чем? – как бы удивилась она.
– Мы знаем, что у вас много знакомых, вы много общаетесь с людьми. И это очень хорошо. Ну и вот, среди них есть люди, которые нас очень интересуют… Скажу даже точнее, чтобы вы хорошо меня поняли, среди них есть иностранные граждане, граждане иностранных государств, которые нас очень интересуют…
– Вы кого-то конкретно имеете в виду?
– Да. Конкретно.
– А кого?
И вдруг Алексей Иванович отвел глаза – на секунду, буквально на секунду, и потом так же неторопливо вернулся к теме.
– Ну вы сами подумайте, кого я могу иметь в виду.
– Не знаю!
– Ну как же так, Валерия Дмитриевна, ну вы подумайте, вы же умный человек, образованный, творческий, много общаетесь с людьми, как мы уже выяснили…
– Не знаю, Алексей Иванович, ну честное слово. У меня очень много знакомых иностранцев!
– Да, и это хорошо. Но вы все-таки подумайте.
Она все время ждала, что он спросит про Пьера. А он все не спрашивал.
И тогда она поняла – Пьер был дипломатом, и по каким-то причинам, только «конторе» ведомым, Алексей Иванович не хотел или не мог первым назвать его имя.
Вот в чем была эта игра!
Поняв общий смысл, она быстро научилась правилам.
У нее были часики, простые, советские, фирмы «Заря», она посмотрела на них, выйдя с Лубянки, – разговор продолжался ровно семь часов.
Провела она их, собственно, как во сне – Алексей Иванович умудрялся все время кружить вокруг одного и того же места, не переступая указанной черты, не называя имен, но постоянно припугивая и поддавливая на Валерию Дмитриевну со свойственной ему ловкостью.
Это был какой-то гоголевский «Вий». И она боялась, что это жуткое полуслепое существо сейчас откроет веки и она больше не сможет сопротивляться.
Когда они оба уставали, он вновь начинал говорить о Пикассо, о выставках, кинофильмах, цитировать Пастернака, и это было хуже всего. Иногда он предлагал закурить, и это было все-таки по человечески. Когда он в открытую начинал давить, прибегая к каким-то ветхозаветным штампам, это ее даже трогало.
– Валерия Дмитриевна, ну почему, почему вы не хотите нам помочь? Помочь государству, помочь стране?
– Ну я бы, может, и хотела, – отвечала она. – Но как? Я не понимаю, о ком вы говорите.
– Ну как не понимаете! – горестно всплескивал он руками.
– Ну вот так не понимаю.
– Ну Валерия Дмитриевна!
– Ну Алексей Иванович!
– Покурим?
– Давайте…
Однако к концу четвертого часа в голосе Алексея Ивановича появились другие нотки. Он тоже устал.
Во-первых, «припугивание» приобрело несколько иной характер – он вдруг начал, как бы между прочим, вытаскивать какие-то детали ее биографии: где, в каком году она была в отпуске, в каком году мама перевелась с одной работы на другую, на какие курсы по рисунку она ходила, где сейчас учатся ее школьные подруги – получалось, что он знает о ней не просто все, а буквально все, он называл имена ее друзей, одно за другим, и голос его становился все тише и все медленнее.
Потом он сказал ей такую вещь:
– Понимаете, Валерия Дмитриевна, дело-то в том, что если вы окончательно откажетесь от сотрудничества, последствия для вас будут, ну мягко говоря, не очень хорошими. Вы никогда не сможете выехать за границу… Вообще не сможете. Даже в Болгарию. Вы отдаете себе в этом отчет?
– Отдаю, – сказала она.
– Хорошо, что отдаете. Вы не сможете устроиться на желанную работу, ну то есть на ту работу, к которой вы стремитесь.
– Понятно.
– Ну и это еще не все.
Потом он сказал вещь совсем страшную и нехорошую: да, понятно, что, выйдя от меня, вы будете говорить друзьям, что ничего не сказали, никого не выдали, но понимаете, я вам как опытный человек говорю: вам никто не поверит. Это бессмысленно. Вам. Никто. Не поверит.
Он говорил уже почти шепотом, видимо у него было что-то со связками, ей даже опять стало его жалко.
…Когда она вышла с Лубянки, было совсем темно. Как тогда, на Ярославском вокзале, после поездки в Загорск.
Римский должен был ждать ее на Тургеневском бульваре, где-то рядом с памятником Крупской, на своих «жигулях». Она прищурилась и обнаружила его смутную слегка ссутуленную фигуру в салоне машины.
Захлопнула дверь.
Машина резко рванула с места.
– Куда? – спросила она устало, и он неопределенно махнул рукой. Оказалось, что адвокат Римский, многоопытный и поднаторевший в общении с КГБ, был настолько напуган, что отвез ее на МКАД, припарковал машину, заставил выйти практически в лес и стал спрашивать – спрашивал полчаса, потом в ответ на ее встречные вопросы раздраженно пожал плечами и быстро отвез домой.
Первое, что она сделала наутро, – помчалась к знакомым иностранцам. Их, собственно, было всего два.
Сначала она встретилась на улице с Дусей и Пьером.
– Они против тебя роют! – сказала она. – Понял? Я не знаю ничего, но это точно…
Он молча пожал ей руку, и больше она у них никогда не появлялась.
Вторым иностранцем был ее лучший друг на факультете – поляк Гжегож, она ему сказала, что ее вызывали в КГБ, он важно кивнул и просто перестал с ней общаться.
За границу потом она все-таки выехать смогла.
Лет через восемь.
…Сидя на даче в Кратове с маленькой дочкой Таней, Лера Кислова часто вспоминала две вещи, связанные с этим периодом.
Первое – это лицо мамы, когда она сказала, что никогда не подпишет ей никакого согласия на выезд. Она хорошо помнила, что в этом документе должны были быть такие слова: «Материальных и иных претензий не имею».
– Никогда! Ты слышишь… – сказала мама. – Никогда!
Глаза ее были полны слез и отчаяния.
– Ну хорошо, хорошо, – сказала Лера. – Давай позже поговорим.
И второй момент – это «на горке», где она бывала-то, собственно, несколько раз, но запомнила все это как один счастливый, растянутый во времени, волшебный миг – всю эту веселую и свободную, пляшущую и поющую посреди угрюмой Москвы толпу.
Ей никогда не хотелось отсюда уходить, даже если звали в гости, гулять, на свидание или еще куда-то, по еще более важным делам. Она бы так тут сидела и сидела. Всегда. Вечно.
Как-то раз они расположились на каком-то заборчике возле улицы Архипова во дворе, с кем-то из ребят (с Володей, кажется), и вдруг, подняв свои мерцающие глаза к небу, она сказала:
– Умереть бы сейчас. Да?
И в этом не было никакой горечи.
Комната на Соколе
В этой комнате Маша Тараканова (1959 г.р.) жила около года, и я вместе с ней.
Это была комната в так называемом доме «Дворянское гнездо», еще такие дома обычно называют в Москве «генеральскими», поскольку тогда, как правило, в них действительно проживало некоторое количество генералов – они подъезжали к подъезду с большой помпой, в черных «Волгах» с водителем-военнослужащим, иногда с адъютантом, и весь дом знал благодаря прислуге, когда генеральша поехала на этой машине на рынок, в какую школу пошла у них любимая внучка и где они отдыхают летом на море.
Это вот тоже был такой дом – прямо возле метро «Сокол», а еще он был знаменит тем, что в его подвале нашел приют авангардистский оперный театр чудака Покровского, никаких билетов в этот маленький подвал никогда не было, зайдя однажды в его скучную пустую кассу и прочтя на дверях: «Театр на гастролях», я махнул рукой на это соседство.
Так вот, в этом доме была комната, которую мы нашли с Таракановой просто по объявлению, в приложении к газете «Вечерняя Москва», оно (приложение) печатало такие объявления: типа продам щенков кавказской овчарки недорого, сниму квартиру или комнату на длительный срок, ну и я дал объявление, съездив на станцию метро «Улица 1905 года», там был пункт приема, заплатил, кажется, три семьдесят, чтобы объявление печатали четыре недели подряд, и все получилось, нам позвонили, и мы приехали по указанному адресу.
Комната была очень приличная, метров двадцать, в огромной двухкомнатной квартире, которая, наверное, была не самой большой в этом сталинском доме, но нам она показалась просто огромной. Там в другой комнате жила старуха Маргарита Игоревна. Старуха уже почти не ходила и вообще была слегка не в себе, нас об этом предупредили заранее – вероятно, родственники просто хотели, чтобы в случае чего было кому вызвать «скорую», или просто не знали, что делать с этой жилплощадью, старуха была сварлива, несносна и ни на какие размены, видимо, не соглашалась, а тут хоть шерсти клок – сорок рублей в месяц, которые мы платили за эту комнату в коммуналке, это все-таки серьезные были деньги.
То была первая наша с Таракановой совместная жилплощадь, мы были крайне молоды, глупы, нам очень нравилось расположение, дом стоял просто рядом с метро, в десяти метрах, полно магазинов, и даже свой придворный театр имелся, хотя и закрытый на вечные гастроли, но это ничего – зачем нам опера, мы и сами умели петь.
Поэтому никакая старуха нас с Таракановой не смущала, вернее смущала, но в меру.
Старуха вставала с постели только в туалет или на кухню. Вот эти минуты, конечно, были самыми тяжелыми – дело для нее было трудное, мы это переживали как будто бы вместе с ней, каждый стук костыля (она передвигалась на костылях), каждый стон, каждый скрип стула, ну и все прочее. Жизнь в нашей квартире в эти моменты замирала, мы, затаив дыхание, ждали, все ли кончится благополучно.
Иногда я даже подходил к дверям уборной и спрашивал:
– Все в порядке, Маргарита Игоревна?
Но ответа, как правило, не было.
Из окна открывался вид во двор. Это был обычный большой московский двор, во дворе сталинского дома, с большими деревьями, асфальтовыми дорожками, детской площадкой, и когда я входил в него после работы, как правило уже в темноте, меня охватывало странное чувство – мне казалось, что я вхожу на кладбище или в какой-то готический заброшенный замок, где из каждого угла могут выйти привидения.
Огромный дом, с десятью подъездами, пожарными лестницами, необъятными подвалами, массой служебных помещений, где помещались жэк, детская поликлиника и какие-то странные конторы, с аббревиатурами на дверях типа РЖМКНС № 10, но я не пытался раскрыть их смысл, я хотел скорей миновать этот чужой мне двор, для которого я тоже был чужим, и скорей войти в нашу с Машей комнату, где располагался наш семейный очаг.
Маше сразу здесь не понравилось, она говорила, что на всем лежит какой-то дикий слой пыли, въевшаяся копоть, ничего невозможно отмыть, ни на кухне, ни в коридоре, все ветхое, все старое, ее от этого просто мутит, – но вскоре мы привезли на кухню нашу посуду, кое-что тайком выбросили, многое пропылесосили, частично отмыли, и стало как-то веселее.
– Зато! – говорил я ей, когда мы лежали вдвоем, обнявшись, и чутко прислушивались к звукам из соседней комнаты. – Зато ты посмотри, какая тут лепнина, это же сказка, а двери с цветными стеклами, а коридоры, а потолки в три метра?
– Ну да, да… – шептала она. – Только мне все равно страшно.
Страшно было и мне.
Ночью, когда старуха вставала с постели и шла в туалет, я просыпался резко и чутко прислушивался ко всем звукам. В туалет она ходила безумно долго, по полчаса, иногда по часу, стонала, разговаривала, стучала костылем, опять стонала, наливала воду, что-то роняла, раздавались какие-то безумные, в тишине ночи грохочущие звуки, и казалось, что сейчас она, как привидение, войдет в нашу комнату и спросит: «Так. А вы что здесь делаете?» И глаза у нее при этом будут сиять зеленым огнем.
Слава богу, Тараканова спала очень крепко, и когда я будил ее, не в силах больше выносить этот звуковой триллер, она мычала и шептала недовольным спросонья голосом:
– Спи, балда.
И от этих ее слов мне почему-то становилось очень спокойно, и я засыпал.
Впрочем, иногда эти вставания Маргариты Игоревны (ночные или вечерние) действовали и на ее психику.
– Слушай, – говорила Тараканова. – А если она вдруг умрет? Давай съедем отсюда. Я так больше не могу.
Тут во мне просыпался рациональный человек, и я строгим шепотом отвечал Таракановой:
– Ты сначала другую комнату найди.
И действительно, найти подходящую комнату в то время в Москве было непросто. А больше сорока рублей мы платить просто не могли.
Как-то раз нам действительно пришлось вызывать неотложку Маргарите Игоревне. В коридоре на тумбочке лежал «тревожный» телефон родственников, написанный аккуратным почерком на каком-то листке, вырванном из блокнота, но вот я не помню, чтобы мы туда звонили, этим родственникам. А неотложка как-то раз приезжала.
А вот что я хорошо помню, так это неожиданно завязавшиеся наши с Маргаритой Игоревной личные отношения.
Однажды я шел среди бела дня по коридору с чайником или чашкой в руках и чуть не уронил чайник или чашку, потому что из-за ее двери раздался протяжный стон или крик:
– Помогите! По-мо-ги-те!
Я быстро поставил посуду на кухонный стол и осторожно приоткрыл дверь. Маргарита Игоревна сидела на подушках и внимательно смотрела на меня. Она была в ночной рубашке, но сверху накинула вязаную кофту, то есть – ждала.
– Вас как зовут? – строго спросила она.
– Меня? – опешил я. Почему-то мне казалось, что она уже не раз звала меня по имени. Я назвался.
– А почему такое антисоветское странное имя?
Я опять не знал, что сказать, – почему же странное? И почему антисоветское?
– Но поймите! – вдруг громко воскликнула Маргарита Игоревна. – Лев – так звали Троцкого! Кто ваши родители?
Я пожал плечами и стал объяснять.
– Так вот, – не дослушала она. – Вы им объясните, что имя все-таки антисоветское. Троцкий был врагом партии!
Мы немного помолчали.
Я переживал услышанное.
– Кем вы работаете? – снова резко спросила она меня.
– Журналистом.
– А вы читали резолюцию Восемнадцатого съезда партии?
– Маргарита Игоревна… – жалобно спросил я. – Может, вам водички принести?
– Не заговаривайте мне зубы, – резко сказала она. При этом рука ее потянулась куда-то под одеяло и затем вновь вылезла. В ладони Маргарита Игоревна держала два рубля бумажками и целую горсть мелочи.
– Вот что… – сказала она решительно. – Идите в угловой гастроном, купите мне две бутылки портвейна. Потом мы с вами поговорим.
– Ты куда? – испуганно спросила меня Тараканова, когда я в коридоре начал торопливо надевать ботинки и куртку.
– Да так… – уклончиво ответил я. – Кое-что купить попросила. Хлеб, масло, там кое-что по мелочи.
– А… – недоверчиво протянула Тараканова. – Ну иди…
Выйдя на Ленинградский проспект, я долго стоял, соображая, где же тут угловой гастроном. Он был на другой стороне проспекта, а мы покупали все, что нужно, в магазине «Кулинария», который был прямо в нашем доме, и еще в маленьком магазинчике «Продукты», который был чуть дальше.
До углового «Гастронома» нужно было добираться по длинному и жутко мрачному подземному переходу. Был сырой и морозный московский вечер, противно шумела Ленинградка, огни, окна, фонари, чужие неприятные люди и я, идущий за каким-то портвейном для совершенно чужой, не знакомой мне старухи.
Мысль о смерти вновь догнала меня: а вдруг она умрет от этого? Такая старая, разве ей можно, – но, подумав, я решил, что должен выполнить последнее желание старого большевика (большевички), в конце концов она это заслужила, строя новый мир.
Я послушно отстоял небольшую очередь, легко выбрал марку портвейна, сейчас уже не помню, что это было – не самого дорогого, чтобы хватило на две бутылки, поплелся обратно, вошел в квартиру, аккуратно поставил сумку под вешалку, вошел в комнату и выдал Маргарите Игоревне сдачу и портвейн.
– Спасибо вам, Лев… – спокойно сказала она. – Так вот, на Восемнадцатом съезде партии оппортунизм Троцкого был окончательно квалифицирован как предательство. Он предал партию, понимаете?
Внимательно посмотрев на меня, она добавила:
– Но вы знаете, он был человек со вкусом! – и хрипло засмеялась. – Писал о поэзии… В частности, о Есенине. Но зато потом, потом… Ладно, мы об этом с вами еще поговорим.
Не прошло и пяти минут, как она закричала вновь:
– Лев, зайдите ко мне!
Я зашел, уже даже не зная, что и думать. Она протянула мне пустую бутылку.
– Возьмите, – сказала она. – Не хочу, чтобы оставались следы. И учтите, если вы хотите здесь жить, ну вы понимаете… Это должно оставаться между нами!
Я тупо понес бутылку в нашу комнату.
– Это еще что? – неприязненно сказала Тараканова.
Пришлось объяснять.
– Ты что, с ума сошел?
– Не знаю… – задумчиво сказал я.
Иногда она просила меня купить хлеб, но чаще – портвейн. Постепенно у меня в комнате скопилась целая батарея бутылок. Маргарита Игоревна пила не то чтобы много, но регулярно.
А я… Я постепенно привыкал к такой жизни.
Эта квартира обладала одним интересным свойством – она постепенно засасывала в себя. Днем здесь царил некоторый полумрак – может быть, из-за обилия мебели и старых вещей, свет как-то скрадывался в углах, в картинах на стене, абажурах, книжных полках, коврах, шкафах, антресолях, посуде, все поверхности были чем-то заставлены – это были фарфоровые слоники, старые гребни, шкатулки, пожелтевшие газеты, я садился в растрескавшееся кожаное кресло и мог часами, тупо глядя перед собой, сидеть в каком-то сладком или полугорьком забытьи, пока Тараканова не приходила с работы.
… Когда она приходила с работы, начиналась совсем другая жизнь. Она немедленно шла на кухню и начинала что-то жарить, варить, чистить, посылала меня выбросить мусор, сбегать за хлебом, открыть консервную банку, потом отнести в комнату тарелки и вилки (мы ужинали в своей комнате), потом торжественно вносила еду на подносе, и мы начинали трапезу.
Я смотрел на Тараканову завороженным взглядом, на ее фартук, оранжевый свитерок с вырезом, на ее тапочки и юбку, на ее глаза и волосы – не понимая, как в одном человеке может быть столько жизни, настолько много, что даже сладкая пыльная смерть, которая явно обитала в этой квартире и проникала в поры твоего тела незаметно и по одному микрону в час, отступала и съеживалась. Когда мы заканчивали ужин, Маргарита Игоревна просыпалась и развивала свою вечернюю активность.
Иногда опять из ее комнаты раздавался призывный вой:
– Помогите! По-мо-ги-те!
Тараканова вздыхала, а я скорбно отправлялся за портвейном.
В сущности, этот портвейн был важной частью моего и ее существования, вслед за ним начинались рассказы, вернее, нет, это были не рассказы, из Маргариты Игоревны начинали как будто бы сыпаться отдельные фразы, загадочные и маловразумительные, но интересные, как сыплется иногда железная стружка или картофель из прыгающего на проселке грузовика.
– Знаете, что мне сказал однажды Бухарин? – загадочно спрашивала она, и я застывал с новыми мятыми рублями и горстью мелочи в кулаке, зная, что обязательно должен дослушать рассказ до конца. – Он сказал: нужно разоружиться перед партией! Понимаете?
Я послушно кивал и отправлялся в угловой гастроном.
К сожалению, в то время я не мог достойно ответить Маргарите Игоревне и поучаствовать в беседе, например я очень плохо представлял себе, кто такой Бухарин, я знал, конечно, что его расстреляли как немецкого или английского шпиона и что это явный бред, но этого было очень мало, чтобы поддержать наш разговор.
Но этого и не требовалось.
– Я член партии с 1912 года! – однажды сказала она.
Я не знал, что делать, аплодировать может быть, и просто уважительно покачал головой. Возвращаясь обратно уже с портвейном, я подумал, что, наверное, никакой реакции и не требовалось, главное, чтобы был слушатель.
– А вы знаете, что Ягода был родственником Горького? – хитро прищурившись, спросила она меня.
Я хотел было спросить, кто такой Ягода, но не стал – постепенно вспомнил, что это был какой-то чекист.
– Нет, вы не знаете… – удовлетворенно сказала она. – Просто он был очень влюблен в его невестку, Горького. Очень влюблен. И все об этом знали. Все знали… – промолвила она, уже засыпая.
Конечно, меня крайне беспокоили регулярные дозы портвейна, которые употребляла наша квартирная хозяйка. Мне приходилось сдавать пустые бутылки, чего я вообще никогда в жизни не делал. С другой стороны, не могли не восхищать тот внутренний огонь и беззаветная преданность идеалам, которые она при этом проявляла. Тараканова смотрела на это философски.
– Ты, – говорила она, жаря оладьи на кухне, – соучастник преступления. Придет следователь, сделают вскрытие, обнаружат следы алкоголя. Начнут думать, искать. Ага, вот кто, оказывается, спаивал члена партии с 1912 года! Понимаешь это?
– Ну она же нас с квартиры выгонит… Если я не буду потакать ее слабостям, – вяло оправдывался я.
– Ну да, так и скажешь. А тебе скажут: а вот мы считаем, что вы вошли в преступный сговор с родственниками и хотели завладеть ее имуществом. И ты что тогда?
Надо сказать, что удивительное это соседство терпел я не только потому, что мне нравились этот огромный мрачный дом с его мифами и легендами, метро «Сокол» и общий колорит здешней жизни. На севере Москвы, особенно на северо-западе, вообще обитают сплошь привидения и духи, такие уж это места. Нет. Меня привлекало в этой квартире и то, что Тараканова постепенно тут привыкала и становилась чуть более счастливой, чем обычно.
Иногда к нам приходили друзья и подруги, Маргарита Игоревна как бы против этого не возражала, лишь слегка увеличивая после этих посещений количество портвейна.
Тараканова жарила на кухне маленькие оладьи, иногда обычные, иногда кабачковые для гостей, жарили мы тут и капустные котлеты, причем не из кулинарии, а собственноручные, в угловом гастрономе я научился находить мойву горячего копчения – словом, было весело.
Под конец вечера Тараканова с подругой Ивановой иногда пели вдвоем звонкими голосами:
– Куда ж мы уходим, когда над землею бушует весна-а-а?
Ну а я им подыгрывал на гитаре.
Мне кажется, в этот момент Маргарита Игоревна тоже слушала нас из-за стенки.
Но вот однажды случилась неприятность – Тараканова разбила слоников. Причем всех. Слоники, как и положено, стояли на комоде, целых семь штук, мал мала меньше, красивые, фарфоровые, сейчас таких днем с огнем не найдешь, короче, она почему-то дернула за салфеточку, пытаясь устроить все как-то получше, покрасивей, во время очередной уборки, и слоники покатились. Это было ужасно. Тараканова рыдала, вернее душила рыдания, чтобы не услышала Маргарита Игоревна. Всю ночь она не спала, а утром послала меня в ближайшую мастерскую по ремонту бытовых приборов (бытовые приборы-то тут при чем? – не понял я, но она только замахала руками), где мне сказали, что склеивать бесполезно, умерла так умерла.
Когда я это ей сказал, она отвернулась и замолчала на несколько часов.
Ночью я решил, что буду ее утешать. Так и сказал, мол, давай я тебя утешу. Но она приподнялась на локте и внятно сказала:
– А можно не сейчас?
Наутро все повторилось опять, и я надулся.
– Послушай, – сказала она, перед тем как уходить на работу, в свое издательство. – Я тебе это уже говорила и вынуждена опять сказать. Я в таких ситуациях чувствую себя абсолютно одинокой и беззащитной. Ты ничем не можешь мне помочь. Ты никак не можешь меня защитить. Понимаешь? Поэтому подожди. Не лезь ко мне.
– Выходи за меня замуж! – вдруг сказал я. – Тогда все будет как-то легче переживать, мне кажется, – все эти жизненные трудности и серьезные невзгоды.
– Отстань, – мягко сказала она, надела плащ и вышла.
Настроение Таракановой день ото дня ухудшалось.
Вскоре она стала уже мрачнее тучи.
Когда я попытался выяснить детали, ничего вразумительного она не сказала.
Теперь, когда она уходила на работу, я подолгу сидел в растрескавшемся кожаном кресле, смотрел на огромный абажур, свисавший над круглым столом, на копию картины Васнецова «Три богатыря» в золоченой богатой раме, на скромный бюст Ленина, глядевший на меня из-за темноватого стекла шкапчика, в котором было столько старого барахла, что я зарекся туда залезать, на всю эту пыльную роскошь прошлого, на всю эту засасывавшую меня трясину чужой жизни, давно прошедшей и разбившейся навсегда, на все эти 30-е годы, и 40-е годы, и 50-е годы, на весь этот пейзаж нашей жизни, где нам было с Таракановой так хорошо, как может быть хорошо только двум любовникам, убежавшим от родных и близких в далекую страну, где их никто не достанет, и вот однажды, находясь в этой прострации и повинуясь внезапному чувству, я вышел в коридор, постучал к Маргарите Игоревне и переступил порог ее комнаты.
Она посмотрела удивленно, потому что по своей воле я никогда сюда не заходил.
– Маргарита Игоревна, – сказал я робко, – а что бы вы сделали, если бы потеряли партийную кассу?
Она подумала секунду и ответила четко и ясно:
– Отнесла бы в райком партии письменное заявление, что ее украли, и справку из милиции!
Потрясенный глубиной и простотой сказанного, я постоял, поклонился и вышел.
Вечером я рассказал об этом Таракановой, она недоверчиво покачала головой, но по лицу ее пронеслось что-то вроде свежего ветерка.
А еще через пару недель Маргариту Игоревну увезли по «скорой».
Мы не видели этого, потому что ездили к родителям отмечать ноябрьские праздники.
Пришли хмурые родственники, осмотрели квартиру, сказали, что Маргарита Игоревна уехала «на месяц, на два, мы пока не знаем», взяли деньги за два месяца вперед и ушли.
Мы прожили эти два месяца в полном блаженстве и покое – никто не ходил по ночам, не стонал, не рассказывал о правом уклоне и о левом уклоне, об эсерах и троцкистах, никто не просил меня стоять в очередях за портвейном, никто не пугал нас ночами.
Стало хорошо, пусто, тихо.
Но скучно.
Я вдруг понял, что без Маргариты Игоревны эта квартира стала довольно нежилой.
Когда второй месяц подходил к концу, приехали родственники и вежливо попросили нас собрать вещи.
Они сказали, что Маргарита Игоревна умерла.
…Вместе с Таракановой мы больше никогда никакую жилплощадь не снимали.
Вата гигроскопическая
1
Анжелика Щеглова, член ВЛКСМ с 1975 г., русская, не замужем, студентка вечернего отделения филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, поняла, что беременна, где-то в мае.
Причем выяснено это было путем всяких народных примет (точь-в-точь как в фильме «Москва слезам не верит») – на дне рождения у подруги Голубевой она съела сразу полбанки соленых огурцов и полсковородки жареной картошки и была легко изобличена именинницей. Врач в районной поликлинике все подтвердил и спокойно ее спросил, а какой срок.
Анжелика тяжело задумалась.
Она никак не могла вспомнить конкретную дату, то ли это было 1 апреля (когда отмечали всей группой в ДАСе на улице Шверника день рождения великого русского писателя Н.В. Гоголя), то ли пару недель спустя, словом, это был короткий роман, совершенно не в ее духе, и она не только не планировала с этим человеком что-то серьезное обсуждать, ставить его перед лицом каких-то обязательств, но даже сама мысль об этом повергала ее в липкий ужас.
Анжелика назвала условное 10-е апреля (совершенно не будучи в нем уверена), медленно надела в гардеробе плащ, медленно вышла на улицу и неудержимо разрыдалась.
Пришлось сесть на лавочку и как-то привести себя в норму.
Вокруг текла регулярная жизнь, звенели трамваи, орали дети из колясок вокруг женской консультации, угрюмо волоклись куда-то случайные люди, Москва напитывалась воздухом мая, прокапал небольшой дождь, как капельница выздоравливающему, – и вот только она одна чувствовала себя как будто в ледяном вакууме, за стеклянной стеной, откуда ее никто не видел, не слышал и не понимал.
У них все было хорошо или по крайней мере нормально, и только у нее одной – очень, очень плохо.
Она тогда ничего не почувствовала к этому Коле, кроме легкой благодарности – за то, что он проявил к ней хотя бы вот такой, конкретный, чисто мужской интерес, но совершенно не собиралась с ним встречаться дальше. Но он как-то очень ловко нашел в ДАСе пустую комнату, какого-то отсутствующего коменданта, у нее кружилась голова, ей было плохо, он ее туда отвел, а дальше она уже не помнила, почему и как. Просто что-то начало происходить, и она подумала – да ладно, пусть все идет как идет.
Не было острых ощущений, ни плохих, ни хороших, Коля вел себя вежливо, был даже вдохновлен своим быстрым успехом, упорно звонил, звал на свидание, она опять пришла, и опять они оказались в ДАСе (комендант, что ли, в отпуск у них на этаже уехал, холодно подумала она, у них там небось очередь на эту комнату), но во второй раз она выяснила уже более отчетливо, что продолжать эти встречи совсем не хочет.
В тот майский день из поликлиники она добралась до дома с трудом.
Пришла, зачем-то разделась, совсем, до трусов, и стала разглядывать себя в зеркало. Впервые в жизни ей от самой себя стало противно, и она отвернулась.
Хотелось есть, но родители уехали на дачу, и еды в холодильнике не было. Подруга Голубева между тем ей тут же позвонила.
– Ну что? – голосом, полным лицемерной тревоги, спросила она.
– Что «что»? – раздраженно ответила Анжелика.
– Ты к врачу-то ходила?
Она помолчала.
– Ну да, в общем, все плохо…
– Да ладно! – страстно задохнулась Голубева.
Дальше они разговаривали уже целый час, причем говорила в основном одна Голубева, которая требовала привлечь мерзавца к ответу, может быть даже к суду, пыталась взять с Анжелики торжественное обещание, что она с ним «жестко поговорит», потом вдруг сама начала всхлипывать, потом трагическим шепотом спрашивала, что же она теперь собирается делать, к концу часа Анжелика уже была совершенно измучена и просто повесила трубку.
«Действительно, что же я теперь собираюсь делать?» – заторможенно подумала она и наконец уснула, не выключив свет.
Проснулась она в шесть утра, выключила вчерашний свет, оделась и пошла гулять. В переполненном автобусе хмурые люди ехали на работу, но на самой Большой Чертановской улице, где она тогда жила, почти никого не было. Бетонные (грязно-белые в обычной жизни) панели домов отсвечивали на солнце каким-то нелепым для себя золотистым оттенком. Деревья во дворах шумели холодной молодой листвой – был легкий ветер, градусов пятнадцать. На нее пахнуло какой-то странной свежестью, и она внезапно все поняла.
Конечно, она не будет оставлять этого ребенка!
Да, дура, да, нелепая идиотка, но все-таки не преступница, чтобы за один нелепый вечер нести пожизненное наказание. Не имеет она права делать этого ребенка несчастным на всю его длинную жизнь. Это очень страшно, но это ее выбор.
Анжелике стало необычайно легко.
Прошли нелепые мысли о том, а как же теперь сдавать сессию и вообще учиться. Прошел страх перед грядущим разговором с матерью (обойдемся без нее, вот где главная опасность, все женщины с определенного возраста страстно мечтают стать бабушками, обрести новую идентичность, все остальное для них не важно, ну ладно, ничего, что-нибудь она придумает, например мама опять уедет на дачу, у нее же там огромные огородные работы, ничего не заметит, не успеет заметить). Вообще постепенно, под влиянием этого принятого решения, прошел весь этот липкий ужас – перед жалостью подруг, перед презрением мира, перед чувством собственной вины и потерянности, чувством, что она не такая как все, что она обречена, напротив, вернулось злое и насмешливое чувство собственного «я» – да, я такая.
Ну я такая, да.
А вы идите все на хер.
Еле дождалась девяти утра, уставившись на будильник, раньше звонить не хотела, подруга любила поспать, и позвонила Голубевой.
– Ты только молчи, никому не говори, ладно? – сказала сразу. – А то я тебя прокляну. Навсегда.
– Обидеть хочешь? – спросонок спросила Голубева. – Ну так что решила-то?
Щеглова путано, но упрямо проговорила свою версию дальнейших событий.
– Ну это не так просто, как ты думаешь… – спросонья промямлила Голубева и громко зевнула. – Слушай, а ты вообще это… одна там, что ли, дома? Давай я к тебе сейчас приеду?
– Приезжай, – слабым от подступающих внезапно слез голосом ответила Щеглова.
– Ладно.
В десять утра они уже были с Голубевой в поликлинике, отстояли очередь, Голубева осталась сидеть в коридоре, она вошла в кабинет к тому же врачу, районному гинекологу, одна.
Врач подняла на нее глаза, выслушала и несколько секунд внимательно молча смотрела.
– Ты с кем пришла? – неожиданно спросила она.
– С подругой.
– А мать у тебя где?
– На даче.
– Ну ясно… В общем так, девочка, ты ко мне с подругой больше не приходи. Если ты хочешь от меня направление, приходи с матерью. Мы вообще-то на аборт просто так не посылаем, это целая история, обследование, врачебная комиссия и так далее. Без матери я и пальцем не шевельну. И главное, даже не вздумай…
Но Щеглова уже закрыла за собой дверь, не дослушав.
Возле поликлиники был кафетерий с пластиковыми столами и железными стульями, с развеселой пионерской мозаикой на стене, от только что вымытого пола неприятно пахло хлоркой, но ей было все равно. Она заказала себе кофе со сгущенкой и песочный коржик за десять копеек. Подруга Голубева смотрела на нее круглыми от страха рыжими глазами, а потом начала рассказывать то, о чем ее попросили. Рассказывала довольно долго.
Сначала Щеглова слушала молча, а потом встала и попросила у буфетчицы в кафетерии ручку и бумажную салфетку.
Стала записывать.
Первый способ поразил ее своей нелепой простотой.
Дома Анжелика, как учила ее подруга Голубева, забралась на стул и стала спрыгивать босыми ногами на пол. Она даже сняла трусы, почему-то думала, что кровь пойдет сразу, но она все не шла и не шла. Было больно, но она продолжала прыгать. Со стороны это было похоже на какие-то соревнования. Потом ей стало казаться, что она сошла с ума. Потом, чтобы увеличить силу удара, она забралась на кухонный стол. Ногам было очень больно. Она боялась, что сейчас что-то вывихнет и сломает, какую-то кость, да и вообще устала. Через некоторое время соседи постучали в батарею. Тогда она вышла во двор, было уже около десяти вечера, и стала искать, откуда бы повыше спрыгнуть. Нашла деревянную трухлявую доску, забралась по ней на бетонный забор и спрыгнула оттуда еще пару раз. Какой-то пацан, спешивший мимо на велосипеде, взглянул на нее удивленно. Потом она попыталась залезть на дерево, еще выше, но у нее, слава богу, не получилось. Пора было возвращаться домой.
Но и дома она не оставила своих стараний.
Сначала Щеглова налила в эмалированный таз кипяток и кинула туда для верности еще несколько горчичников. Опустила ноги и, скуля от боли, продержала несколько минут. Ноги распухли, стали красными, она страшно вспотела.
Легла на кровать. Но кровотечения по-прежнему не намечалось. «Может, это происходит не сразу? – подумала она. – А пока надо просто лечь спать?» Но спать ей было страшно. Тогда она налила горячей воды в ванну, добавила марганцовки и пролежала в ней еще час, периодически добавляя кипятка.
Вышла из ванной она какая-то розовая и скользкая.
Время шло к двум часам ночи.
Тогда она наконец легла и стала думать: может быть, просто повеситься? Или выпрыгнуть из окна? К чему все эти премудрости?
Итак, Щеглова лежала в темноте, распаренная, разгоряченная и по-прежнему беременная, возносясь над своей постылой жизнью, как легкий дух, и обозревая ее с высоты птичьего полета.
Все было плохо, но в этом «плохо» было что-то важное, только она никак не могла понять – что.
Нелепое и даже в чем-то постыдное соитие с мальчиком Колей вдруг преобразило ее жизнь. Теперь она была вынуждена решать, по сути дела, огромные вопросы бытия. Как бы наравне с господом богом. Эта мысль показалась ей смешной, она улыбнулась в слезах, перевернулась на другой бок и заснула.
Однако проснулась она в очень плохом настроении и, бегло просмотрев мятую салфетку с наспех записанными рецептами спасения, поехала прямиком на Битцевский ипподром.
Там она долго шла вдоль деревьев и вдоль забора, долго искала какого-то главного человека, а когда нашла, не могла себя взять в руки. Наконец он понял, чего она от него хочет.
– У нас сейчас свободных лошадей нет, – сухо сказал он. – Да и вообще это так не делается. Нужна справка от врача, что вы можете заниматься верховой ездой…
– А можно все-таки я попробую? – несмело сказала Щеглова. – Я так давно об этом мечтала…
– Когда попробуете? – не понял главный.
– Сегодня, завтра, послезавтра… Я не знаю, но если можно, то поскорей.
– А почему такая спешка? – неприятно удивился он.
Она покраснела, молча повернулась и пошла назад – долго шла мимо забора и смотрела на веселых людей, идущих по дорожкам парка, многие были с детьми.
История с лошадями показалась ей самым заманчивым, даже изящным выходом, но и тут ей не повезло.
Вечером она сделала раствор марганцовки и с отвращением его выпила.
Легла. Всю ночь ее мучили жжение в животе и какие-то скользкие кошмары.
«Так и умереть недолго, – подумала Щеглова. – Безо всякого суицида».
Меж тем родители должны были приехать с дачи со дня на день. Положение усугублялось.
Тогда подруга Голубева начала обзванивать разных людей и нашла наконец знакомого врача.
Она продиктовала телефон, сказала, что, черт побери, займет ей денег, и велела звонить «прямо сейчас».
Анжелика Щеглова вышла на балкон и посмотрела сверху на свой родной город. Родной город с ее восемнадцатого этажа представлял собой одинаковые кубики серо-белых домов с бесконечными рядами горящих окон. Это было абсолютно безжизненное, тяжелое и ровное пространство, похожее на мертвый космос, лишь внизу, в самом низу, у земли, где были люди, доносились какие-то крики, звучала музыка, шелестел ветер – то есть различалась некая жизнь. Внутри у Щегловой все опустилось, руки и ноги были холодными от страха.
Она вернулась в комнату и, понимая, что родители могут вот-вот приехать, набрала нужный номер.
Врач задал несколько вопросов, помолчал, потом вежливо попросил ее приехать в субботу, в его дежурство, прямо в отделение, часиков в пять. Звали его Евгений Борисович.
Больница была в районе метро «Семеновская», у черта на рогах, и там еще на трамвае нужно было ехать пять остановок.
Всю неделю она провела как робот – улыбалась приехавшим наконец родителям, маме и папе, вежливо и радушно разговаривала с ними, завтракала, ужинала и обедала, читала книги в читальном зале, ходила на занятия, меж тем в голове у нее стучало только одно – Семеновская, Семеновская, Семеновская, Евгений Борисович, здравствуйте, я та самая, которая вам звонила, а, это вы, проходите, пожалуйста. И так бесконечно.
В пятницу, накануне визита, она вдруг задумалась о том, что вообще не очень понимает, зачем люди живут. Что вообще в этом хорошего.
Какой все-таки смысл.
День был жаркий. Больница была тихая, красно-кирпичная, вся в зелени. Она опять бесконечно шла вдоль какого-то бетонного забора, искала нужный корпус, спрашивала у санитарок, ей казалось, что они глядят на нее рентгеновским взглядом, проникая в ее мысли насквозь, но было уже все равно.
– Да ты не бойся… – сразу и как-то по домашнему сказал Евгений Борисович. – Бывает и хуже. Садись в кресло.
Потом, после осмотра, кивнул, небрежно взял деньги и повел в операционную.
Перед тем как она разделась, он сказал:
– Послушай, ты это, вот что… После операции я могу тебе разрешить у нас полежать, но, понимаешь, максимум часа два. А потом тебе надо будет ехать домой. Дома есть взрослые?
– Но они не знают, – честно сказала она.
– Не важно. Короче, если будет что-то – температура поднимется и все такое, ты мне сразу звони. И учти, после наркоза будет тяжело ехать далеко на общественном транспорте. Забрать тебя некому?
– Некому, – кивнула она.
Он молча повел ее в операционную, и там она легла на стол…
Вошла сестра, пожилая, брезгливо ее осмотрела, наконец ей ввели какой-то укол, наркоз был, конечно, странный, она такого совсем не ожидала, не было отключения, не было никакого сна, ни кошмарного, никакого, Евгений Борисович что-то ее спрашивал, она что-то ему отвечала, пожилая сестра смотрела все так же брезгливо, в окно светило солнце, и ее мучила мысль, почему же она не засыпает и когда все начнется, потом она вдруг открыла глаза и обнаружила себя одну в палате.
Зашел Евгений Борисович.
– Повезло тебе, что лето. Народу мало. Ты как?
– Я давно лежу? – слабо спросила она.
– Недавно. Часа полтора. Слушай, все должно быть нормально, но если что, ты сразу звони. Сейчас сестра придет. Она у нас строгая, но добрая, ты не обижайся. Проводит тебя немного.
– Какие ж вы девки, странные, – сказала сестра, когда принесла ее обувь и другие вещи. – Ну а если бы осложнения? Ну а если что не так пойдет?
Анжелика молча встала.
Сестра молча сунула ей в руки упаковку ваты гигроскопической.
Стоило все это удовольствие сорок рублей. На прощание Евгений Борисович даже ее приобнял.
– Ты учти, если кому-то скажешь, меня могут посадить, – просто сказал он. – Все на доверии.
…Еще Евгений Борисович сказал, что она очень ругалась матом. Это было единственное светлое пятно. Она шла до остановки трамвая, еле передвигая ноги, и улыбалась про себя, представляя эти свои слова.
Дома она сказала матери, что была в кино с подругой и очень устала.
– Ты чего такая бледная? – встревожилась мать. – У тебя все хорошо?
– Просто к сессии много готовлюсь, – сказала Щеглова и вошла в свою комнату.
– Анжела! – крикнула мать из кухни. – Я тебе совсем забыла сказать, тебе подруга звонила, ну эта, с простой фамилией. Лена…
– Голубева?
– Ну да! Слушай, а ты не можешь мне немного помочь?
Она пошла на кухню.
До полвторого ночи они перебирали какие-то ранние грибы. Потом варили и потом рассовывали отвар по кастрюлям.
Это было как в аду. Щеглова думала, что упадет, но не упала.
Утром мама еще попросила ее помыть пол в комнатах.
Все было в порядке.
2
За этой самой ватой гигроскопической я отправлялся сразу, как только видел ее в аптеке. Ну предположим, заходил в аптеку и видел очередь, не очень большую, человек на десять, на пятнадцать. Сразу становилось понятно, что – вот, «выбросили вату». Ее всегда покупали по многу, при продаже ограничений на вату, слава богу, не делали – и вот я, купив какой-нибудь аспирин в бумажной упаковке, уже торопясь, уже понимая дальнейший ход своих действий, бежал к своему подъезду, поднимался на лифте, открывал дверь ключом и громко спрашивал с порога:
– Слушай, тебе вата нужна?
Как правило, она отвечала:
– Конечно нужна, а ты что, в аптеке ее видел? Беги скорей!
– Ну так сколько тебе нужно? – уже слегка раздражаясь, отвечал я. – Десять, двадцать упаковок?
– Ну десять…
Я брал деньги (рублей пять, вообще одна упаковка ваты стоила недорого, копеек сорок, кажется; обычно вся имевшаяся в доме наличность лежала в какой-нибудь книжке, среди страниц, или в старой стеклянной конфетнице на комоде) – и бежал обратно в аптеку занимать очередь.
– Можно десять? – говорил я тихо, подходя к прилавку и оказываясь с усталой продавщицей лицом к лицу. Она смотрела на меня внимательно, как будто тревожное послание от Щегловой через меня передавалось и ей.
– Сейчас посмотрю, сколько осталось, подождите…
Я радостно запихивал в сумку десять белых круглых рулонов ваты гигроскопической и под ругань озверевшей очереди пробирался к выходу.
Почему этой ваты вечно не хватало русским женщинам, я не знаю. И с тех пор как появились эти импортные прокладки, я об этом даже не задумывался. Вообще об этих самых гигиенических изделиях ходили в 80-е целые легенды. Рассказывали, что они тонкие, легкие, одноразовые, очень удобные и вдобавок хорошо пахнут. В эту легенду трудновато верилось, потому что у советских женщин на эту тему был очень тяжелый и горький опыт: приходилось изгаляться всеми способами, стирать какие-то тряпочки, да лучше даже не говорить, и все это на строительстве БАМа, на освоении целины, в тюрьмах и лагерях, во время Великой Отечественной войны, на стройках коммунизма, в командировках, геологических экспедициях, и так далее и тому подобное.
Я помню какой-то случайно подхваченный разговор, уже гораздо позже, в 90-е годы, насчет того, что если «ничего этого опять не будет, надо точно уезжать», ну или брать Кремль штурмом, типа возврат к прошлому невозможен.
Не знаю, возможен он или невозможен, но я помню этот страх залететь и ожидание критических дней очень хорошо.
Вообще осмыслить эти самые «критические дни» во всем их метафизическом величии я никогда до конца не мог. Ну не хватало мне какой-то силы духа или, может быть, полета мысли, не знаю. В эти самые «дни» у нас с Щегловой бывали, как правило, какие-то большие межличностные проблемы. У нее очень часто сильно болела голова, она раздражалась, а если я начинал вдруг огрызаться, она плакала и говорила, что я тупица и бревно.
Подступающие к женщинам из космоса «приливы» для меня всегда были неразрешимой загадкой бытия – кто вообще их придумал и зачем? Я лежал в темноте рядом с ней (когда она после долгой ссоры наконец засыпала) и думал о том, что есть во всем этом, конечно, какая-то высшая истина, но какая? – может быть, такая, что хотя бы в эти несколько дней она на законном основании может не допускать моих грязных домогательств. И наверное, думал я, эти дни нужны именно для того, чтобы я окончательно понял – насколько я ее люблю и насколько сильно меня волнует ее конкретное физическое существование.
Во сне она тихо дышала, вокруг нее было какое-то облако, и оно светилось. Это облако можно было потрогать рукой, а свечение – увидеть невооруженным взглядом.
В сущности, мне было больше ничего и не нужно.
Водитель автобуса «Интурист»
В школе объявили субботник, на который было можно прийти без школьной формы, – и сразу стало понятно, что это некоторая проблема.
Для Виктории Таль (1961 г. р., русская, член ВЛКСМ с 1978 г.) выбор был такой: один батник у нее был желтый, бледного лимонного цвета, а второй – «с клубничкой», красные ягоды и зеленые листья на чистом белом фоне. Оба батника мама привезла из Польши, и Вика еще никуда до этого их не надевала.
Джинсы (тоже польские) в наличии также имелись, и практически в новом состоянии.
Она долго думала и примеряла, стоя перед зеркалом.
Решила, что желтый.
Задание на субботнике было такое – генеральная уборка класса, коридора и туалета. Стоя в своем новом батнике с грязной тряпкой у доски, Вика поймала себя на мысли, что налицо некоторый абсурд, но, с другой стороны, все девчонки пришли сегодня в чем-то ярком и нарядном, впервые они увидели друг друга без школьной формы, это было как первое свидание с абсолютно не знакомыми людьми. Всех поразило, какую алую помаду нанесла на губы Петрова, в какой короткой юбке пришла Алиева, ну и так далее. Викин лимонный батник на этом фоне был, мягко скажем, не самым большим откровением.
Этот субботник был в апреле, стояла в Москве в том году такая мягкая, теплая, свежая весна, в мае им всем предстоял последний звонок, в июне выпускной вечер, – и весь этот день, с тряпками и ведрами, был для их класса чем-то вроде генеральной репетиции, они даже не хотели потом расходиться, мальчики сбегали за вином, но у всех были дела, планы, все это было как-то неожиданно, ни о чем заранее не договорились и никуда не пошли, но смотрели друг на друга удивленными, смеющимися глазами – как будто увидели в первый раз.
Когда она сдала экзамены на вечернее, мама предложила ей поработать.
Дело в том, что после напряженных занятий с репетиторами, экзаменов, всей этой нервотрепки новая жизнь оказалась какой-то чересчур свободной или даже пустой. Она могла ходить на лекции дневного отделения, а могла не ходить. До вечера все равно оставалось полно времени, и она, занявшись самообразованием, три раза посетила Третьяковку и два – Пушкинский музей. Иногда просто ходила по улицам, был еще сентябрь, совсем не холодно.
Мама, почувствовав ее слегка неустойчивое настроение, близкое к депрессии, предложила пойти поработать. В музее как раз освободилось место «под декрет» – одна беременная ушла рожать, и появилась вакансия ровно на один год.
…Музей располагался в старой церкви рядом с Останкинским дворцом – это была когда-то церковь Живоначальной Троицы, с высоким крыльцом, которое вело в летний храм, и с зимним храмом в нижнем цокольном этаже – все это сейчас были отдано под администрацию музея, в алтаре стояли огромные длинные столы, которые иногда, в праздники, накрывали под легкий фуршет, на хорах – высоченные застекленные шкафы с подшивками дореволюционных журналов, в сущности, это и была ее работа: составлять карточки для каталога; в первые сентябрьские дни, когда еще не топили, здесь было очень зябко, а потом, когда заработали батареи, стало жарко, она смотрела вверх – взгляд упирался в высокий, какой-то хрустальный купол, почти как в космос, она могла иногда сидеть так, задрав голову, часами, фресок почти никаких не сохранилось, все было плотно заштукатурено, лишь в одном месте выглядывал кусочек какой-то картины – можно было угадать хвост змея и голову святого с раскосыми черными глазами.
На первую зарплату (ей заплатили 57 рублей 30 копеек) она купила торт «Отелло» в ресторане гостиницы «Будапешт», потом ехала с ним на Ярославский вокзал, мама с бабушкой ждали ее на станции Пушкино, очень взволнованные, она задержалась на два часа (!), как они с возмущением ей сказали. Но торт съели с удовольствием.
А потом наступили долгие проливные дожди.
Весь этот отрезок жизни – от субботника в нарядном лимонном батнике до торта «Отелло» – она как будто чего-то не понимала, находясь в каком-то смятении. Все эти месяцы были праздничными, светлыми – потому что она неудержимо становилась взрослой. И Виктория Таль, разумеется, чего-то все время ждала. Не то чтобы она ждала чего-то конкретного – просто ей казалось, что сквозь привычные вещи вдруг проступит что-то новое, другое. Сквозь этот воздух – синеватый, сырой, горький московский воздух. Сквозь привычные лица людей. Сквозь дома и унылые проспекты. Что она наконец разглядит там свою жизнь.
А этот момент все никак не наступал и не наступал.
А потом пошли эти ужасные дожди.
День за днем.
В этот момент вдруг опять возник Илюша Чекалов. Он появился еще год назад, поздней осенью, когда пришел вместе с мамиными друзьями и родственниками на пироги.
Несколько раз в год, чаще на праздники, но иногда и вовсе без повода, мама с бабушкой пекли эти дрожжевые вкуснейшие пироги в невероятном количестве – с сыром, с зеленью, с мясным фаршем, с гречкой и жареным луком, разные, – и все знали, что это нельзя пропустить. Всегда было весело, шумно, но в этот раз, кроме взрослых, пришел еще и Илюша, он был с какими-то мамиными друзьями, он весь вечер угрюмо молчал и пристально смотрел на нее.
Реплику он подал лишь однажды. Когда кто-то процитировал Канта к чему-то про звездное небо над головой, он поднял голову и угрюмо сказал:
– Это неправда, он так не говорил.
Все зашикали, засмеялись насчет того, что Илюша перфекционист (тогда она впервые услышала это слово), что общий смысл передан верно, он важно кивнул и снова стал испепелять ее взглядом, но она уже знала, что смотреть в данном случае следует только в другую сторону, на других людей.
И вот после этого он начал ей звонить.
Он звонил всегда днем, когда она возвращалась из школы. И сначала эти звонки ее очень злили, настолько, что она несколько раз предлагала ему прекратить это делать, он солидно соглашался, не звонил неделю, а потом начинал опять.
Он совершенно, вообще не умел общаться.
После первого вопроса о погоде или об уроках (тоже совершенно идиотского) он мог, например, спросить, читала ли она «Август 1914-го» Солженицына.
– А тебе не говорили, что это нельзя обсуждать по телефону? – вспыхивала она. «Август» она, к сожалению, еще не читала.
– Это очень важно тебе прочесть. Именно сейчас.
– А ты читал «Созвездие Козлотура»? – спрашивала она в ответ.
– А вот это можно и не читать…
– А, ну да… Тебе лучше знать, что можно не читать, а что нельзя.
– Да, мне кажется, я это лучше знаю.
– Ну хорошо. Тогда я не очень подхожу тебе как собеседник, – говорила она и вешала трубку.
Но осенью все как-то изменилось. Если весной и летом ей не хотелось тратить на него время и нервы, то осенью, когда начались эти бесконечные дожди и она устроилась на работу, его голос стал казаться ей более теплым, и они решили наконец встретиться.
Он был ее старше на два года.
Большая голова, и сам очень большой, смотревший всегда искоса или исподлобья, ходивший, как птица журавль, большими шагами, он дарил цветы, приносил книги, звал в гости, смотрел, как и тогда, неподвижным гипнотическим взглядом и немного пугал ее.
Но он был… мягкий.
Причем – только для нее. Для всех остальных он был жесткий, неудобный, колючий, невыносимый, нетерпимый, это было сразу понятно, и только для нее – мягкий. И он мог говорить только о книгах. Правда, иногда о вещах, которые не продавались тогда в магазинах. Для них он делал исключение. Их он тоже ценил, это были почти как произведения искусства – американские сигареты, бутылки с незнакомыми напитками, пластинки. Мог долго рассматривать. Любоваться. «Предметы материальной культуры», как он говорил.
Но это было уже потом, когда они познакомились ближе.
А тогда он поразил ее вопросом: были ли у нее до него «взрослые мужчины»?
Она хотела поиздеваться и посмеяться, но вопрос неожиданно попал в точку. Она не знала, как ответить. Просто отфутболила: не твое дело.
А дело было такое.
Мама работала в музее на Варварке, Вика Таль часто к ней приходила, особенно на Пасху – купола, звон, иностранцы, конная милиция, толпа возбужденных людей и очень красивая служба, она входила в церковь с замиранием сердца, это никак не вписывалось в окружающую жизнь и было невероятно – вот все эти свечи, пение на хорах, алые одежды, молодые мальчики-алтарники, которые выносили хоругви на улицу, и толпа со свечками, тихая и торжественная, направлялась туда же, в прохладную, темную, бесконечную апрельскую ночь, а иногда она приезжала просто днем, в будни или выходные, чтобы посмотреть на что-то другое, и вот тогда-то этот человек к ней и подошел и спросил: не хочет ли она прокатиться на его автобусе с иностранцами?
Это был сорокалетний (примерно) мужчина по имени Дима, с густой шевелюрой, уже слегка подернутой сединой, с резкими скулами, запавшими глазами, высокий и внимательный.
Маме она, разумеется, ничего не сказала.
Автобус «Интуриста» был, конечно, вообще не похож ни на какие другие автобусы. Он был чистый, свежий, красивый, и главное, вот что самое главное, в нем был другой запах. Это поражало ее больше всего. Он ездил по тем же самым улицам, он состоял из тех же, в сущности, молекул – мотор, колеса, кожа, пластик, – но при этом, судя по запаху, он был космическим кораблем.
Дима ей не звонил, он просто говорил – приходи тогда-то туда-то, сажал в автобус, и они ездили, иногда очень далеко, в Суздаль или Сергиев Посад, но в основном по Москве, она сидела на месте экскурсовода, сразу за водителем, Дима смотрел на нее в зеркало заднего вида и улыбался. Он ничего не хотел, ни о чем не просил – просто смотрел в зеркало заднего вида и улыбался.
Ей нравилось, что у них такие серьезные отношения.
Единственное, что их омрачало, – это ее вранье. Он спросил, сколько ей лет, и она, не покраснев, не задумавшись, тут же сказала – восемнадцать. А ей еще и шестнадцати не было.
Это было стыдно, мучительно, она просыпалась иногда ночью от стыда и чуть ли не плакала. Зачем она ему наврала?
Он тогда кивнул – значит, поверил?
Он дарил ей простые подарки: шоколадку, шарфик, она их прятала где-то дома, не сильно беспокоясь, но и не трогая, ей не хотелось их носить или их есть, эти подарки, это было что-то чужое, хотя и красивое, а вот ездить на автобусе «Интурист» по Москве или за город ей нравилось. Дима просил ее только об одном: не разговаривать с иностранцами. Вообще. Никогда. Но однажды она нарушила запрет, это было в Звенигороде – он куда-то отошел по своим водительским делам, с какой-то путевкой, а она, чтобы размять ноги, вышла из автобуса, и к ней тут же подскочил парень, англичанин кажется, начал задавать вопросы, она что-то отвечала по-английски, Дима скоро вернулся и, увидев их, слегка покраснел, а потом, когда они остались одни, сказал глухо:
– Я же тебя просил не разговаривать с ними. Это моя единственная просьба, пойми.
Она не знала, что ему отвечать.
– У меня будут неприятности, – сказал он. – Ты понимаешь? Это опасно.
Но ездить на автобусе она не перестала. Так и сидела на месте экскурсовода, рядом с водителем, и смотрела на проплывающую мимо Москву.
В этих поездках был один момент – именно поэтому эти поездки были и тяжелыми, и приятными одновременно, даже прекрасными, – момент состоял в том, что она чувствовала, безо всяких прикосновений, его нежность, его внимание, его интерес, скованный, робкий, странный, но интерес.
И еще это была ее тайна. Тайна для всех.
Но вдруг все прекратилось. Однажды она заболела и не пришла. И все прекратилось. Она почувствовала и облегчение, и горечь.
Поэтому она не знала, как ответить на вопрос Илюши Чекалова, были ли в ее жизни взрослые мужчины до него или нет.
Ответить, что не считает его взрослым мужчиной (что было бы правдой), – так она не хотела, это было обидно, рассказывать про водителя автобуса тоже не хотела, довольно глупая и нелепая история, слава богу, как она теперь понимала, ничем не закончившаяся, и поэтому ответа у нее не находилось.
Были ли у нее взрослые мужчины? И были, и не были.
Илюша встречал ее возле дома утром, каждый день, и провожал до работы. Именно так. После работы она мчалась в университет, боялась опоздать, а утром он смиренно ждал ее на остановке, и они вместе ехали в Останкино.
Однажды он принес ей «Архипелаг ГУЛАГ».
– Бабушке лучше не показывать, – прибавил он, передавая книгу, завернутую в газету.
Но поскольку они спали с бабушкой в одной комнате, та сразу нашла «Архипелаг» на тумбочке и тоже стала читать.
Последствия были самыми ужасными – бабушка читала всю ночь, и у нее случился сердечный приступ.
В семь утра вызвали неотложку. Приехал молодой умный врач, сделал укол, кардиограмму, померил давление.
Потом спросил:
– А что случилось-то?
Все как-то замялись. Мама сидела в ночной рубашке и накинутом сверху халате.
– Вы поссорились? – еще раз спросил врач. – Я же вижу, у вашей мамы был сильный стресс.
Вика Таль стала лихорадочно вспоминать, где именно в данный момент находится книга. Потом оказалось, что она лежала у бабушки под подушкой и в любой момент могла вывалиться.
– Вам нельзя волноваться, понимаете меня? – еще раз вдумчиво сказал врач, внимательно глядя бабушке в глаза.
Когда они остались с мамой вдвоем на кухне, она не выдержала и стала истерически смеяться.
– Господи! – сказала мама, пытаясь отхлебнуть холодный чай из чашки. – Господи…
Каждый день Чекалов провожал ее до Останкинского пруда, где продавали горячие пончики в таком маленьком деревянном ларьке.
Здесь они прощались до завтра.
Каждый раз по дороге на работу он или грустно молчал, или рассказывал об очередной книжке.
Ей было его жалко.
– Давай купим пончиков, – однажды предложила она.
– Вообще-то я не хочу, но давай… – согласился Илюша, и они купили грамм триста.
Она стала есть, и он вдруг улыбнулся.
– На работу не опоздаешь? – спросил он, осторожно откусив.
– Ничего, они подождут.
Этот водитель автобуса, Дима, он тоже так на нее смотрел. Или нет, он смотрел по-другому, очень осторожно. Она вдруг подумала – а что же это значит, когда в твоей жизни появляется человек, который привязан к тебе вот этой невидимой ниткой? Это и тяжело, и хорошо, и горько, и легко, это как-то – все сразу.
Они поцеловались, и он уехал – с пончиками в руках.
Глупо улыбался, глядя с задней площадки трамвая через стекло.
Она забиралась «на антресоли», как говорили сотрудники музея, а на самом деле это были церковные хоры, своим ключом открывала книжный шкаф, доставала подшивку, писала карточки и весь день напряженно думала о том, что ей предстоит.
В том, что это ей предстоит, не было никаких сомнений. Вопрос был только в том, когда настанет этот день. От самой этой мысли ей было страшно, но хорошо.
Иногда она думала – а если бы это случилось с водителем автобуса «Интурист»?
Нет, это не могло случиться с водителем автобуса «Интурист». Да, он был по-настоящему взрослый, да, он все знал, да, это было бы как в кино – но это было бы плохо. Очень плохо.
Но вот интересно – а почему он даже не попробовал? Боялся, что она обманула его с возрастом? Боялся еще чего-то? Жены?
Ну и слава богу, почему-то сердилась она. Слава богу.
Теперь они шли к этому дню какими-то очень медленными шагами. Он специально принес ей «Дар» Набокова – там они тоже идут к этому дню очень медленными шагами.
Было не важно, что происходит вокруг, они просто стояли и молчали, постепенно замерзая, – например, на Большом Каменном мосту, напротив Кремля.
– Вот там сидел усатый, – однажды сказал он.
– Сталин? – переспросила она.
Он кивнул и задумался.
– Даже странно, почему его никто не убил.
– А ты думаешь, могли?
– Я бы убил… – сказал он.
Этот разговор она как-то очень запомнила.
Их предупредили в учебной части во время первого же семестра – отчислят, если они будут пропускать занятия, безо всяких разговоров, отчислят сразу, а старостой группы назначили великовозрастную, как ей показалось, крупную даму, она аккуратно переписывала всех на каждом семинаре, пропускать важные лекции Вика Таль тоже не решалась, и вот Илюша с напряженной спиной часами стоял около памятника Ломоносова и курил. А потом он провожал ее домой.
Это были единственные их часы, когда они могли просто идти рядом.
Она заранее звонила маме из телефона-автомата и предупреждала, что задержится на факультете, посидит в библиотеке, потому что дома «у нее таких книг нет».
– До каких же часов работает твоя библиотека? – однажды едко спросила мама.
Она уклончиво ответила, что по-разному, но мама больше с этим не приставала.
Теперь везде – и дома, и на работе, и главным образом на факультете – ей было так скучно, муторно, пусто, уныло, что она просто не понимала, как бы она теперь обходилась без Илюши, без этой смешной крупной головы, подрагивающего в язвительной улыбке рта и этих сверлящих ее глаз.
Иногда они, конечно, ходили в кафе на улице Горького, пили шампанское, по одному бокалу, или в гости к его друзьям, каждый такой выход в свет был приятным, интересным, но у нее совсем не было для этого времени. Она просто не понимала, где ей его взять, это время. А может, это было и не нужно?
Их обволакивал какой-то кокон, в котором ей было так спокойно, так тепло и легко, что она не замечала ни этих ливней, ни пронизывающего ветра, ничего, ни потом этой угрюмой нахохлившейся предновогодней Москвы, которая вся была дико напряжена в предвкушении нелепого праздника, погружена в свои дурные заботы и в поиски банальных подарков.
Он, конечно, подарил ей на Новый год книгу – стихи Цветаевой.
Она знала, что это стоит очень дорого…
– Нет-нет, – неуклюже попытался соврать он. – У меня было две.
Она даже попыталась обидеться.
– Ах, две!..
Но посмотрела на него и поняла, что он врет.
Наконец однажды они замерзли до такой степени, переходя через Каменный мост и любуясь «домиком Сталина», что она взяла его за руку, втащила в свой подъезд, а потом и домой. Было уже одиннадцать, мама вообще-то уходила на работу рано и не всегда дожидалась ее вечером: или была уже в халате, или даже кричала из своей спальни: «Вика, я уже легла!»; бабушка вообще засыпала часов в девять, так ей казалось; но тут все домашние как чувствовали, у дверей встретил почетный караул, Илюшу все, конечно же, прекрасно помнили.
– Здравствуй, Илюша! – сказала мама.
– Вы были в библиотеке? – спросила бабушка.
Они с мамой непроизвольно засмеялись.
Илюшу стали отогревать, даже предложили принять горячую ванну, он спокойно отказался, потом извлекли остатки пирогов, конфеты, варенье, он опять отказался, но от яичницы отказаться уже не смог.
Яичница с луком, вкусная неимоверно, Илюша сидел слегка обалдевший, но в общем и целом был счастлив.
И она была счастлива тоже.
Теперь… не нужно было бесконечно идти, бесконечно ждать, бесконечно мерзнуть, бесконечно мокнуть, бесконечно держать руками этот теплый воздушный мерцающий кокон, который их окружал везде, всегда, и теперь можно было просто сидеть на кухне и пить чай, сидеть в своей комнате и разговаривать – правда, бабушка была начеку и все время дома.
И все-таки они каждый день, как упрямые солдатики, шли к своему дню, к этому дню победы, про который они ни слова не говорили, но о котором оба знали.
Постепенно подходил к концу «декретный год» той сотрудницы, на место которой Вику взяли в музей, она уже привыкла к этому месту, хотя работа была пустяковая, не бей лежачего, никаких перспектив, но все-таки это была ее первая работа, и она была как-то связана с Илюшей. Вика стала обращать внимание на то, на что не обращала раньше, – как тут все устроено, в этой бывшей церкви, это было пространство, полное какой-то волшебной пустоты, в пустоте было все дело, ты делал шаг и не понимал даже, куда он ведет, все продолжалось бесконечно, она смотрела вниз, где сидели сотрудники за столами с настольными лампами, и казалось, что в углах прячется выжитая, вышибленная отсюда красота.
У нее на работе образовались подруги, одна из них собиралась замуж и пригласила ее на свадьбу. Свадьба была невероятная – азербайджанская свадьба на сто пятьдесят человек в ресторане гостиницы «Украина». Вика пришла с десятью рублями, как велела мама (и с набором полотенец), но вообще была несколько потрясена и даже чуть не забыла про десять рублей; слава богу, потом вспомнила и отдала, не подруге Гале, конечно, а распорядителю, пожилому усатому дядьке; потрясена она была обилием еды, вина, людей, вообще грандиозным масштабом происходящего. Никак не могла сопоставить все это с собой.
Когда она выпила, то вдруг вспомнила, как в школе они обсуждали такую тему: «Светка Лаврова вышла замуж», а Светка, как потом выяснилось, даже и не думала «выходить замуж», а просто лишилась невинности, они даже не знали, как это назвать, – и назвали какими-то привычными детскими словами. Она пила вино и улыбалась этому воспоминанию. Вот что, оказывается, такое – «выйти замуж». Жареный молочный поросенок. На заказ.
Она смотрела на Галю, на жениха, молодого застенчивого парня, на этот сонм гостей, на зажаренного молодого поросенка с пучком зелени в носу, и не понимала – что все это такое и имеет ли это отношение к тому, что ей когда-нибудь предстоит сделать. Нет, было очевидно, что – не имеет.
Когда все это случилось наконец и пришлось делать все эти глупости – застирывать простыни и полотенца в чужой квартире, потом сушить и гладить, потом идти домой на подгибающихся ногах, утешая Илюшу, что «все хорошо», – она вдруг ощутила, как давно, как бесконечно давно она ждала этого дня – чтобы это наконец развязалось у нее внутри. Развязалось, раскрылось, распустилось, чтобы растворилось в ней это напряжение, это волнение, эта неизвестность – все это, копившееся, как оказалось, с того дня, когда она впервые зашла в салон автобуса «Интурист».
С «чужой квартирой», а вернее с комнатой в коммуналке, все получилось очень удачно, не зря она так долго ждала, – родители Илюши съехались с бабушкой, а комната, где-то на Старой Басманной, в коммуналке, где жили еще четыре соседа, на время осталась бесхозной, соседи Илюшу знали, он часто к бабушке приходил, и вопросов не возникало, вообще в этом коридоре можно было раствориться, растеряться, настолько здесь были высокие потолки и ненужные просторы.
Они запирались в этой захламленной, полуразрушенной после переезда комнате и забывали обо всем.
Она понимала, что «вышла замуж» еще совсем по-детски, как Светка Лаврова, но ей не это казалось важным, – лежа с Илюшей под одеялом, она впервые ощущала себя как абсолютно свободный человек. Все встало на свои места, и все казалось нужным и осмысленным, включая разные глупости, без которых тоже в жизни не обойтись.
Одной такой глупостью был неожиданный визит Илюшиного папы на старую квартиру – он вдруг начал пытаться открыть дверь своим ключом, и они не знали, что делать.
Он сидел на кровати, накинув рубашку, готовый встретить отца с раздражением и гневом, Вика тоже не знала, что делать, и натянула простыню на голову. Но Илюша оставил ключ в двери. Папа повозился минуты три, потом постоял еще минуту и ушел.
В апреле ей нужно было пройти диспансеризацию. По каким-то уже забытым таинственным советским причинам она не могла уклониться, и все эти анализы и флюорографии были неизбежны.
В этом момент она вдруг поняла, что одновременно ее будут осматривать.
Поняла это она примерно за три недели до визита к врачам.
Каждый день она разговаривала с ними со всеми в уме.
Она не знала, что им говорить.
Не ваше дело?
Нет, наше, милочка, скажут они.
Да и вообще. И вообще.
То, что открылось в ней, – вот это удивительное, странное чувство незаполненной пустоты, как у них на работе, в бывшей церкви, – это было только ее и ничье больше. Зачем ей с кем-то этим делиться? Последние три дня она просто не могла заснуть.
Засыпала, конечно, под утро, но потом просыпалась с тяжелой, мутной, больной головой и бежала на работу.
Опаздывала, конечно.
Злилась на себя.
Слава богу, в какой-то из дней она встретилась с Илюшей.
– Ты что? – спросил он. – Что-то с мамой, с бабушкой?
Она призналась.
– Странно… – улыбнулся он. – Какое их дело? У нас есть такой закон, что нельзя?
– Конечно нет! – вспыхнула она. – Зря я тебе сказала, извини.
Накануне этого пыточного визита он позвонил ей и сказал, что должен кое-что отдать. С трудом и раздражением она выкроила полчаса.
Встретились на той же остановке, в Останкине, на трамвайном кругу.
– Вот смотри… – сказал он.
Он принес ей тяжелое бронзовое обручальное кольцо.
– Что это? – не поняла Вика Таль.
– Примерь.
– Это для чего?
– Ну примерь.
В холодном, только освободившемся ото льда пруду плавали утки. Звенели трамваи. Небо вдруг стало бледным, а потом голубым. Дул жуткий неприятный ветер.
– Они ничего тебе не скажут. Они увидят у тебя кольцо и все поймут.
Она заплакала.
– По-моему, это глупо, – сказала она сквозь слезы.
– А по-моему, нет.
И действительно, в женскую консультацию она пошла совершенно спокойно, и, наверное, поэтому ее ни о чем не спросили.
Она по-прежнему была совершенно свободным человеком.
На стриту (On the street)
Перед московской Олимпиадой 1980 года по домам стали ходить участковые милиционеры со списками. Проверяли, во-первых, имевших судимость. Затем тунеядцев, а также прочие «нежелательные элементы» – то есть тех, кто побывал в вытрезвителе, проходил принудительное лечение в ЛТП, имел вызовы «для беседы» в прокуратуру или, не дай бог, на Лубянку, ну и так далее. Алкоголиков, бомжей, проституток, диссидентов и других подозрительных товарищей (под это определение могли попасть поклонники эзотерических учений, йоги, маги, экстрасенсы, сыроеды, да и просто представители всяческих меньшинств, например геи и лесбиянки) – короче говоря, всех их срочно отправляли за 101-й километр, прочь из города, во внесудебном порядке и строго по предписанию. То есть не планируя в принципе сильно препятствовать их возвращению в родные пенаты, когда праздник мира и спорта наконец закончится. Конечно, подобных «нежелательных» в пуританской Москве тех лет было немного. Наверное, тысяч десять на огромный город. Ерунда, в сущности.
А вот подростков в Москве было много.
Они тоже попадали в группу риска, и их тоже не должно было быть в летней олимпийской Москве.
Если школа не могла решить эту проблему своими силами, родители должны были подписать протокол о проведенной беседе и взять на себя хотя бы устное обязательство (тогда участковый отмечал это в книжечке), что их чадо во время Олимпиады куда-нибудь отправится, ну не за 101-й километр, конечно, но все же куда-то подальше: в летний лагерь, на деревню к бабушке, в Крым по путевке.
Рите Бондаренко (1964 г. р.) в этот год московской Олимпиады исполнилось аккурат шестнадцать лет, и она также попала под предписание.
В конце мая к ним в класс (а настроение у класса было уже лихое, весеннее) вдруг заявилась завуч Нинель Васильевна и сказала, что в июле все они поедут в летний лагерь в Молдавию, на сбор вишни. И что поехать должны все, а кто с родителями планирует отдых в другом месте, пусть принесет из дома письменное заявление от папы или мамы. Никто никогда такую роскошь им раньше не предлагал.
– А Олимпиада? – вдруг громко спросила Рита Бондаренко. – Это же праздник спорта, Нинель Васильевна! Это же бывает один раз в жизни.
Завуч вдруг немного смутилась.
– По телевизору посмотришь, Бондаренко… – пробурчала она себе под нос, а потом добавила чуть громче: – А ты что, билеты, что ли, купила на соревнования?
– Нет! – ответила Бондаренко храбро. – Не купила! Но я из принципа.
– Ах, из принципа… – улыбнулась завуч. – Ну так вот, из принципа ты уже ничего не купишь, все билеты проданы (что, кстати, была неправда). А стране нужно помочь с урожаем сельскохозяйственных культур. То есть с вишней.
Вообще завуч была не дура и расписала им лагерь во всех красках: фрукты можно есть бесплатно и до отвала, работа не тяжелая, условия хорошие, горячая вода, душ, нормальный туалет, по вечерам концерты и дискотеки и с собой в Москву можно привезти спелой молдавской вишни «до десяти килограммов».
В принципе так оно все и оказалось, без обмана, этой самой вишни Бондаренко наелась на целую жизнь, губы и пальцы потом были синеватого оттенка, не отмывались от въевшегося сока еще месяца два, мальчишки доставали в деревнях домашнее вино, и ночью у костра они его пили из жестяных кружек, было весело, но в конце смены она немного накосячила, переела какого-то там местного кислого молока, и понос продолжался целые сутки, лагерный врач испугался, дал справку и отправил домой раньше срока, таким образом она застала два последних дня Олимпиады, хотя билет ей купили только по паспорту с московской пропиской (паспорт она, слава богу, уже получила, а то бы и Олимпиады никакой не увидела).
Она приехала в тихую, пустую Москву и даже как-то слегка онемела.
Улицы бороздили непонятные новенькие автобусы с иностранными туристами, в магазинах продавали неведомые колбасные изделия, кругом установили какие-то автоматы с пепси-колой, на перекрестках дежурили странные дружинники в одинаковых модных куртках, коротко стриженые, румяные, с цепким спокойным взглядом, немного похожие на овчарок, а оставшийся в городе народ просто бредил спортом, который ей лично был совершенно не интересен.
С ужасом она узнала, что только что умер Высоцкий, и пошла на Ваганьково, но туда не пускали те же самые дружинники, требовали какой-то пропуск, она ничего не поняла, повернулась и поехала домой.
Ничего загадочного в этой московской тишине и пустоте для нее уже не было, все объяснил третьегодник Савушкин, был у них в классе такой персонаж, солидный мужчина с усиками, восемнадцати, что ли, лет, посматривавший на них, шестнадцатилетних щенков, с некоторой снисходительностью и, по его собственным словам, оказывавший разные услуги настоящим московским ворам в районе трех вокзалов. Иногда там требовалось отвезти куда-то срочно какие-то сумки, иногда раздобыть ночью бухло, иногда кому-то позвонить. За все это Савушкин получал большие по меркам девятого класса деньги, мечтая когда-нибудь по-настоящему разбогатеть. К девушкам он относился преувеличенно вежливо, по-взрослому.
Выйдя в пустой город вечером после приезда, она немедленно встретила его на районе, и он рассказал ей, куда, в сущности, все подевались.
– Пацанов по летним лагерям распихали, кого постарше – за 101-й километр. Не поедешь если, оштрафуют и все равно вышлют. Такая фигня, – озабоченно сказал он.
– А тебя? – ласково спросила Бондаренко. – Ты-то как здесь, Петруша?
– А я человек призывного возраста! – широко улыбнулся он. – Я скоро пойду родине служить! Да и вообще у меня в милиции много знакомых.
Помолчали.
– Мороженого хочешь? – спросил Савушкин. – Сейчас.
В это удивительное лето в Москве не было проблем с мороженым и газировкой – всего было навалом и без очереди.
Пока Петюша ходил за пломбиром, Бондаренко несколько призадумалась. Как только она попала в эту школу на Усачевке, сразу начала дружить со шпаной. Дружить не со шпаной ей было совершенно не интересно. Да и шпана в этой школе была очень симпатичная – мальчики приносили в школу тайком кассетники с рок-музыкой, прогуливали уроки, курили, во дворе распивали на всех одну бутылку вина – какая же это шпана? Это просто была ее компания, вызывавшая тем не менее жуткую ненависть у школьных училок, которых она подозревала в очень сложных сексуально-психологических проблемах, выражавшихся в этом беспрерывном потоке истерик по любому поводу.
Да, она любила дружить со шпаной и делала это с наслаждением, но тем летом в Москве оставался только Савушкин, а он не входил в компанию ее мальчиков, он был взрослый тихий человек, который вел себя в школе очень аккуратно, при том что все догадывались про его довольно темные дела.
Входить с ним в слишком тесные отношения она не хотела, хотя провожал он ее из школы довольно часто.
С Савушкиным ей, впрочем, тоже иногда было интересно. Он знал про этот город буквально все.
Например, он знал все про проходящих мимо людей.
– Вон девки в общежитие пошли, – сообщал он Рите совершенно не нужную ей информацию, и она вдруг поворачивалась и смотрела на усталых после смены штукатуров-лимитчиц, а они оборачивались и с тем же интересом смотрели на нее, московскую фифу.
Про проезжающий троллейбус он знал, что тот идет в парк, про пролегающие на их пути дворы – куда можно «спокойно заходить», а где «будет небезопасно», он одинаково церемонно и подолгу здоровался со старушками, бредущими в магазин с авоськами, и с совсем мелкими мальчишками, которые стукали мячом об стену дома, вечно передавая через них приветы каким-то дядям Гришам и тетям Машам. Это был какой-то гений места, дух города, проникавший в сквозные парадные, поднимавшийся на крышу по пожарной лестнице, покупавший свежий хлеб в булочной с черного хода, прямо из лотка.
Однако ей, Рите Бондаренко, совсем не светило провести остаток лета в его обществе, при всем хорошем к Савушкину отношении. И вот она (пока он ходил за мороженым) впервые в жизни задумалась о том, что ей срочно нужно сменить локацию.
Родители давно были на даче, вишню бабушка частично сварила, частично употребила на приготовление какой-то наливки и теперь сидела одна в душной квартире и скучала.
– Бабушка! – сказала Рита вечером, уже с некоторым трудом оторвавшись от Савушкина, который предложил ей назавтра показать тайную жизнь трех вокзалов. – А давай сошьем мне брюки?
Бабушка оторвалась от телевизора и с сомнением спросила:
– Это какие? Модные, что ли?
– Максимально модные! – ответила Бондаренко, внутренне ликуя. Всегда у них было взаимопонимание, с первых лет, даже с первых месяцев ее жизни.
Узкие-узкие брюки, при этом расклешенные так широко, как не каждая юбка бывает расклешена, в которых было даже немного трудно ходить и которые победно шуршали при быстром шаге, были сшиты за рекордные три дня – они были ярко прострочены, в них были накладные карманчики и шнурочки, и через три дня Рита надела давно припасенную простую белую блузку, эти умопомрачительные клеша и отправилась прямиком на Пушкинскую площадь.
Именно в то душное и пасмурное олимпийское лето Бондаренко стала здесь своей.
«Стрит» открыл ей двери в свой внутренний мир, в закулисье улицы Горького, о котором она раньше только слышала всякие рассказы, открыл легко и без утайки, как будто именно к этому она и шла всю свою трудную подростковую жизнь.
«Стрит» начинался у Белорусского вокзала и простирался вниз до самого конца – до помпезных сталинских домов у Центрального телеграфа и Манежки.
Это было то самое историческое место, на котором тусовались еще стиляги поздних сталинских лет, дети дипломатов и торговых работников, но теперь оно стало совершенно другим – более демократичным, открытым, прозрачным и… обволакивающим.
Впрочем, об этом она судить не могла – она была здесь новичком, она просто сидела возле памятника Пушкину на гранитном парапете и слушала подругу Хейфец, которая уже давно была здесь своей.
– Ты просто сиди и жди… – сказала ей подруга Хейфец в первый же вечер. – Оно само начнется, ты не бойся. Просто сиди, наблюдай за людьми.
И точно, через час, когда у нее открылся так называемый третий глаз, она стала все понимать – там были люди, которые куда-то действительно шли, и были люди, которые на стриту просто жили. Или обитали, как звери в лесу. Можно было сказать и так, и так.
Обитание на стриту было задачей непростой. Здесь выживал не каждый, а только терпеливый, настойчивый и бесстрашный. И очень, очень упорный.
Здесь было несколько основных племен. Ей очень повезло, что ее не втянуло, не забрало к себе никакое из них.
Среди основных племен было племя утюгов. Они получили это название по своему занятию – целый день утюги утюжили стрит, целенаправленно отыскивая иностранцев и предлагая им взаимовыгодный чейндж. Это были крепкие, очень тщательно и порой довольно дорого одетые молодые люди с неторопливой речью, циничные, но веселые, еще их отличал крайне здоровый цвет лица – на улице они проводили большую часть своего времени. Тусовались утюги в кафе «Лира», рядом с магазином «Наташа», заказывая себе дорогие коктейли и порой приводя туда девушек. Но в принципе работу и личную жизнь они строго разделяли.
Бондаренко с Хейфец утюгов недолюбливали, это были в каком-то смысле их классовые враги – богатые, важные, алчные, но все же иногда приходилось общаться, все на стриту друг друга знали, знакомиться или нет, это зависело от настроения – обычно они с Хейфец смотрели друг на друга выжидающе, и одной этой секунды, одного хлопка ресницами им хватало, чтобы принять общее решение: бойкот, молчание, «отвали» или – снисходительное «привет».
Утюги сочиняли о себе легенды, как состоятельным людям им было крайне важно создать реноме. В частности, утюги любили рассказывать, как «мой друг женился на финке и уехал в Штаты», послушать их, так у них там каждый третий женился на финке, получил загранпаспорт и зажил как король. Другой частью их общей легенды были невероятно хитроумные и сложные способы отвертеться от «расстрельной статьи»: валюта, золото, торговля иконами; все на стриту прекрасно знали, что утюги торгуют жвачкой, продают грошовые комсомольские значки с Лениным, что их потолок – это батник и джинсы, что за это даже не сажают, но они все равно приводили девчонок в «Лиру» и рассказывали о том, сколько они заплатили ментам за Лешу, чтобы он не получил расстрельную статью.
Другим совершенно для Риты невозможным, хотя внешне куда более легким и приятным племенем были аски – люди, которые на стриту занимались тем, что выпрашивали деньги у прохожих, рассказывая при этом разные истории. Причем если утюги были все как на подбор, одного примерно возраста, стриглись у одних и тех же парикмахеров, ходили в джинсовых или чаще кожаных куртках-битловках, остроносых ботинках, то аски были совершенно разные, среди них встречались люди заслуженные, даже пожилые, они начинали разговор с далеких университетских времен, рассказывали про любимых преподавателей, говорили о сложных вещах, вроде лекций Мамардашвили, потом намекали на свой трудный жизненный путь, специальное отделение в институте Сербского или что-то такое и, сияя благородной лысиной или тряхнув гривой седых волос, просили денег на банку бразильского кофе или «второй том собрания сочинений Мережковского», то есть сразу пятерку или десятку. Столько, конечно, не давали, но рубль, бывало, одалживали даже с поклоном.
Молодые аски в основном перебивались простыми историями, фальшивым прибалтийским акцентом, «парни, мы приехали из Эстонии, плохо говорим по-русским, помогите собрать денег на обратный билет». Провинциалы, гости Москвы, довольно часто покупались на эту классическую, глупую легенду всех асков, в силу того, что завсегдатаи стрита были, разумеется, одеты не как все советские люди. Советские люди, конечно, никогда так не одевались. И не в силу имущественных различий, а по стилистическим причинам. И аски довольно часто сходили за заблудившихся прибалтов, им давали деньги с улыбкой и без особого осуждения.
Бондаренко никогда не интересовалась, сколько же можно собрать вот так, целый день выпрашивая мелкие деньги у прохожих на стриту, но ей было очевидно, что, в отличие от промысла утюгов, это, конечно, никакой не бизнес, а скорее искусство, причем даже искусство для искусства.
Аски порой немного перемешивались с хиппи – но хиппи, торчавшие на стриту (торчали они в основном на Пушке, то есть у памятника Пушкину, или на «плешке», то есть у памятника Юрию Долгорукому, или в «трубе», то есть в подземном переходе между Долгоруким и Моссоветом), были племенем наиболее замкнутым, герметичным и мало кого к себе подпускали.
Хиппи тусовались в основном в «этажерке» – стоячем кафетерии возле кафе «Московское», и там на втором этаже, за стаканом кофейной бурды со сгущенкой и коржиком за десять копеек – они проводили порой целый день, особенно зимой, в медленных разговорах, а то и в полном молчании. Бондаренко не очень часто появлялась в «этажерке», поскольку хиппи, которые тут тусовались, находящиеся в прострации или под воздействием каких-то веществ (а веществами она никогда не интересовалась), были, в общем, неважными собеседниками, но среди них были два персонажа, которых она буквально любила и видеть которых она хотела всегда.
Первым был хиппи по имени Реклама, это был невероятно харизматичный человек, красивый и яркий, даже смотреть на него было одно удовольствие – невозможно словами описать то, с каким изяществом он носил все, от нелепой лыжной шапочки и старой солдатской шинели зимой – до умопомрачительных рубашек-балахонов летом, поверх которых всегда болтался его особый джинсовый ксивник – бережно вышитый мешочек для паспорта, который у всех у них должен был находиться при себе всегда: милиция хиппов не любила и документы проверяла часто.
Реклама был вечно пьян, но никогда не терял вдохновения – его восклицания разряжали напряженное метафизическое молчание, которое обычно царило в «этажерке».
– Вперед, на штурм Зимнего! – восклицал он иногда, как правило ближе к вечеру, и его товарищи замирали, в их сумеречном сознании это была почти крамола, ты что, Реклама, нас заметут, гундосили они, а Бондаренко тихо хихикала.
Реклама говорил на удивительном языке, который она пыталась фиксировать в своем блокноте (остальные посетители «этажерки» неодобрительно на это смотрели); так вот, этот штурм Зимнего был у него эквивалентом самых разных вещей – от примитивного похода за водкой до приключения, которое могло продолжаться несколько дней и вбирать в свой сценарий десятки персонажей.
…Жизнь на стриту для всех племен была, конечно, лишь парадной, внешней частью существования, за пределами светового дня начинались куда более таинственные сюжеты.
Однажды Реклама, с которым она любила поговорить о книгах, причем не важно о каких, слушать его всегда было одно удовольствие, – повел ее на так называемую «блатхату», вот тогда она и узнала, что в Москве, в старых переулках, существуют брошенные дома или необжитые комнаты в коммуналках (как правило, это были так называемые «вторые» комнаты, которые нищие старухи сдавали таким компаниям за небольшие деньги или услуги) – и там свободно обитают целые колонии московских «детей цветов».
Она с Рекламой пришла в Козицкий переулок, и там в старом дореволюционном доме во дворе, на пятом этаже оказалась его резиденция – огромная комната в коммуналке с бесконечными коридорами и темной кухней, с запахом мышей, со стенами, которые были обклеены газетами сороковых годов (по времени предыдущего ремонта). В углу комнаты стояла электроплитка со сковородкой, на ней кто-то разогревал тушенку, в другом углу был пыльный матрас, на который бережно накинуто почти детское одеяльце. Одеяльце скрывало серую от времени и употребления простыню, матрас был отгорожен от остальной комнаты какой-то ветхой этажеркой. Выяснилось, что здесь ночуют почти пятнадцать человек, включая каких-то девушек.
– Ну вот… Вот здесь мы и проводим свой немного странный досуг, – церемонно сказал Реклама. – Разделишь ли ты его с нами?
Было видно, что он немного взволнован тем, что она согласилась принять его приглашение, – идти было, правда, совсем недалеко, «блатхата» располагалась в непосредственной близости от Пушки.
Рита оглянулась на портрет Джона Леннона на стене, поймала удивленный взгляд какой-то девушки.
Содержание этого досуга ей было в общем и целом понятно, оставаться здесь не хотелось, но и обижать Рекламу тоже было как-то неудобно.
Было видно, что здесь он вовсе никакой не «вождь коммуны», напротив, то, что он привел постороннего человека, вызвало некоторое смущение, если не возмущение, – но и эти свои чувства хиппи выражали настолько тихо и застенчиво, что ей это даже стало смешно.
– Реклама, – вдруг спросила она, – скажи, а почему вас не трогают?
Реклама сел на подоконник, а ей предложил единственную табуретку.
– Не знаю, – просто ответил он. – Наверное, мы им пока не нужны.
– Что значит «пока»? – не поняла Бондаренко.
– Я не знаю, – ответил он. – Мы, наверное, в радужной зоне.
– Что это значит?
– Ну когда ты смотришь на радугу, ты же не видишь, что внутри нее.
– Не понимаю.
Но это действительно так и было…
Милиция смотрела на хиппи свирепым, холодным, ненавидящим взглядом, но почему-то терпела, до той поры, пока они не устраивали больших общемосковских событий. Тогда уже брали нещадно, жестко допрашивали всех.
Одним из таких общемосковских событий был «концерт памяти Джона Леннона», который хиппи решили провести в годовщину его нелепой смерти.
По Москве распространился слух, что концерт будет на Ленгорах и играть будут «Машина времени» и другие группы.
Бондаренко запомнила, как они с подругой Хейфец выпрыгнули из семнадцатого троллейбуса и натолкнулись на очень вежливого молодого человека, который их сразу спросил:
– Вы на концерт, девушки?
Они радостно (отметив про себя удивительную для хиппи степень организации) ответили, что да, да, на концерт, конечно же на концерт, и вежливый молодой человек сказал:
– Тогда вам сюда, – и показал на какую-то кучку граждан, стоявших в сторонке.
Так Рита впервые попала в отделение милиции, где ее долго допрашивали какие-то люди, которые с ухмылкой отказывались называться и показывать удостоверение.
На все вопросы они с подругой Хейфец отвечали одинаково:
– Нам сказал один мальчик на улице, – об этом они договорились заранее, и через несколько часов их отпустили.
На самом деле о концерте им, конечно же, рассказал Реклама, кто же еще?
…Вторым человеком, ради которого она иногда посещала «этажерку», был Колпак.
Колпак, как бы это сказать поточнее, был другом и наперсником Рекламы и почти всегда находился с ним рядом. Но, в отличие от своего товарища, он был одинок и молчалив, хотя при этом невероятно отзывчив, мил и добродушен и выполнял любые просьбы.
В кармане у него всегда сидела большая белая ручная крыса, благодаря которой он стал знаменитостью на стриту, – как скоро поняла Бондаренко, это и был его единственный друг.
Крыса сопровождала Колпака во всех его мытарствах – а родители частенько отправляли его то в одну психушку, то в другую, то в один интернат, то в другой, и Колпак не расставался с Крысой, а Крыса не расставалась с Колпаком, вылезая из кармана и садясь ему на плечо, она всегда вызывала оживление, смех и одобрительные возгласы, и какой бы мрачной ни была очередная «блатхата», и какой бы тяжкой ни была атмосфера в «этажерке» (хотя порой и здесь звучали шутки и смех) – Крыса и Колпак всегда умели сделать так, чтобы у людей стало чуточку светлей на душе.
– Колпак, – спрашивала Бондаренко, – чем же ты ее кормишь?
– Ч-чем бог послал… – отвечал Колпак. Говорил он, немного заикаясь, дергая головой, но лицо его освещала при этом необычайно добрая улыбка.
– А она вообще не страдает в одиночестве? – игриво спрашивала Бондаренко, намекая на девственность Колпака, о которой тут все знали.
– П-почему в одиночестве? У нее есть я, – отвечал Колпак, и Бондаренко в этот момент становилось ужасно стыдно.
Хиппи нравились ей тем, что не строили из себя никого другого, не рассказывали нелепых историй, не врали, не важничали, их скромность была выдающейся, как и сам их «тип служения», то есть это она сформулировала для себя потом, когда покинула стрит навсегда, – они были как монахи, но только наоборот.
Что значило это «наоборот», она и сама не могла бы себе объяснить, но эта формулировка ее устраивала – объяснять ее было бы бесполезно.
Слава богу, что она в свое время не связалась с ними, никогда не видела этих сеансов любви, когда все по кругу со всеми, никогда не варила темный настой, не кипятила всякую гадость в ржавой от времени ложке, не лежала часами, открыв глаза и видя в потолке дыру времени, – нет, все это ей было не известно, не знакомо и не нужно, но Реклама, которого она все-таки отличала от всех обитателей «этажерки», говорил ей, что он все равно ее ждет в гости и все равно она для них станет своей.
Когда-нибудь.
– Возможно, Реклама, возможно, – отвечала она загадочно.
Больше всего на стриту ей все-таки нравились отдельные экземпляры, которые не принадлежали ни к какому племени, отдельные, как она или Хейфец, именно они-то и делали стрит крайне своеобразным местом, не похожим ни на какие другие места, – именно эти люди одевались и выглядели наиболее странно и вели себя совсем непредсказуемо.
Взять, к примеру, Шапокляк, девушку неопределенных двадцати с лишним лет, – она ходила в мужской шляпе с обрезанными полями, длинной юбке в пол (юбка в неизменный синий цветочек) и, начиная с осени, в грубом мужском свитере и кедах (а летом она уезжала в Коктебель). Конечно, на шее у нее болтался ксивник, а на запястьях – фенечки, то есть цветные нитки, колокольчики и прочие загадочные вещи.
Отдельность Шапокляк была очевидна всем – она приходила и молчала, не говорила почти никогда ни слова, курила, потом уходила со стрита с очередным «человеком», как она их называла, чтобы назавтра появиться снова.
По сути, это была какая-то молчаливая душа этого места, с глазами, полными философского безразличия, и с улыбкой, полной внутренней иронии. Иногда Бондаренко всерьез думала, что Шапокляк не человек, а действительно образ чего-то более серьезного: возможно, она приходила на стрит, чтобы за всеми ними присматривать, а возможно, напротив, чтобы покупать их души, одну за другой.
Бондаренко пробовала к ней подходить, но напрасно – обронив два-три ничего не значащих слова, Шапокляк переходила в другую точку, где точно так же ничего не делала, курила и наблюдала, чтобы уйти в одиннадцать или двенадцать с очередным «человеком». Возможно, очень высокую Бондаренко Шапокляк притягивала еще и своей кукольной миниатюрностью, совершенно неожиданной в такой харизматичной личности.
Более всего привлекали всеобщее внимание так называемые «артисты». Тех, кто и вправду что-то делал – играл на гитаре, пел, рисовал, писал, – на стриту очень уважали, но быстро раскалывали: если человек слишком много говорил о том, как репетирует с Гребенщиковым ночами новый альбом, над ним начинали подшучивать и даже издеваться, но были такие персонажи, которые стояли твердо и не отступали от своей легенды, рассказывая все новые и новые детали, при этом все знали, что это полная туфта, – таких, если честно, не любили и старались избегать.
По стриту разгуливали «кинорежиссеры» в поисках девушек школьного возраста, зрелые дамы в поисках кавалеров, менты и чекисты, присматривающие за шлюхами, подъезжавшими к «Интуристу» в такси, таксисты, торговавшие водкой, дворники, торговавшие всем, в том числе пустыми «блатхатами», продавцы из Елисеевского, торговавшие вырезкой, сухой колбасой и дорогими французскими коньяками, театральные жучки, то есть спекулянты билетами, клакеры из Большого театра, иностранцы, топтуны, следившие за иностранцами, но среди всей этой разноцветной, пестрой, дурно пахнущей толпы характеров и типов не было ни одного персонажа, который так волновал бы ее, как волновала Шапокляк – почти безмолвная, тихая и притягательная.
Она навсегда стала для Риты иконой стиля: да, одеваться можно бедно, но шикарно, – но дело, конечно, не в этом, просто это была Джоконда с улицы Горького, иначе не скажешь.
Однажды они с Хейфец обнаружили, что вот уже полчаса за ними неотступно следуют два утюга, причем следуют, внимательно разглядывая их и обсуждая вполголоса.
Вот хамы.
Неожиданно повернувшись, чтобы как бы рассмотреть в витрине новые поступления в магазине «Наташа», они увидели там четкое отражение своих преследователей, нашли их не такими уж мерзкими, а переглянувшись и синхронно хлопнув ресницами, позволили им с собой познакомиться. Проведя всего час с новыми друзьями, Сашей и Димой, Хейфец с Бондаренко так же неожиданно согласились поехать к ним «на дачу в Мамонтовку», которую парни вдвоем снимали, и хотя это было чистым безумием, поездка удалась. Рита с Димой стали вместе жить, и однажды он привел ее в старый купеческий дом в Среднем Колобовском переулке и показал огромную квартиру, которую он присмотрел как «дворницкую», обязанности дворника выполнял, конечно, совсем другой человек, за определенные деньги, но в квартире им можно было теперь жить.
– Ну ты же хотела квартиру в центре? – настойчиво спросил он ее. – Хотела?
Она прожила в Колобовском четыре счастливых года и постепенно стала меньше появляться на стриту – стрит теперь был у нее дома.
Пани Броня, Петлюра, Герман Виноградов, художники и писатели – все они завертелись у них на Колобовском во второй половине восьмидесятых (кстати, однажды в этой квартире побывал и я). Она и не заметила, как это время вдруг кончилось, а когда заметила, было уже поздно – чего-то было уже не вернуть.
Но один момент той своей жизни она запомнила как-то очень сильно – это было летом, она появилась на Пушке часа в два или в три ночи, а ночи стояли удивительно светлые, ясные, теплые, она сидела на гранитном парапете и курила сигареты одну за другой.
В то время движение вообще замирало примерно в час после полуночи. Пушкинская площадь была совершенно пуста, милиционер в будке быстро засыпал, редко-редко пробегал какой-нибудь поздний пешеход, и она сидела и ждала, что кто-то сейчас появится. Она точно знала, что он появится, и вот он появился.
Это была женщина сорока примерно лет, она подошла и спросила, что Рита здесь делает.
– Жду… – честно ответила Бондаренко. – Вдруг кто-нибудь придет?
– А тогда… вы не хотите выпить кофе? – вдруг спросила женщина. – А то мне одной не хочется пить кофе. Я живу тут недалеко, на Бронной.
Встреча эта имела большие последствия, но запомнила ее Бондаренко так остро и сильно не из-за последствий – их было слишком много, и все разные, – а вот из-за этой минуты, когда она сидела на парапете одна, в середине летней ночи, и тихая площадь Пушкина как будто обняла ее и не отпускала.
В девяносто четвертом году Бондаренко как-то раз появилась в этих местах и попыталась выяснить у встретившихся людей, кто сейчас где, – это было грустно, потому что Реклама исчез, Колпак умер, бывшие утюги торговали на Арбате какой-то ерундой, «этажерку» переделали в дорогой бар, а шлюхи, напротив, сильно подешевели и стояли толпами в переулках в районе ТЮЗа, замерзшие и несчастные, их иногда пускали в театр погреться сердобольные гардеробщицы, никто больше не просил с прибалтийским акцентом денег у прохожих, хиппи перебрались в иные места, в основном по деревням, в городе им было больше не выжить…
Улицу переименовали.
Она постояла у магазина «Сыр», где теперь был не сыр, и медленно пошла к метро.
В девяностые годы Бондаренко покинула этот город практически навсегда, появляясь в нем лишь наездами, но однажды во время такого наезда ее потянуло на Усачевку, и она увидела возле метро Савушкина, обнялась с ним, и он пригласил ее в кафе, заказал два коктейля.
– Куда ты тогда исчезла? – удивился он.
Она пожала плечами.
– Так… Переехала. А ты как живешь? Где сейчас работаешь?
– Я-то? – улыбнулся Савушкин. – Я в милиции работаю. В общем, все примерно так же. А у тебя как дела?
Она не знала, что ему ответить.
– Как я рад тебя видеть, – сказал Савушкин задушевно. – Как я рад! Ты себе даже не представляешь.
Большие неприятности
На Дмитровском шоссе, у развилки, где 47-й троллейбус идет дальше, проезжая под мостом у платформы «Дмитровская», а другие маршруты поворачивают правей, на улицу Руставели, к общежитию Литинститута, короче, есть там один большой сталинский дом – по правой стороне (если ехать в область).
А незадолго до этого дома – неприметный такой поворот на 5-й Новодмитровский проезд.
Проезд этот, надо сказать, был когда-то известен всей культурной Москве – а именно потому, что начиная с 70-х годов ХХ века здесь было новое помещение издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Высилась над окружающим ландшафтом неприятная стеклобашня в двадцать этажей (так советские архитекторы представляли себе актуальные тенденции), причем совершенно отвратительная и снаружи, и внутри, и тем не менее в ней рождались и умирали самые разные творческие биографии.
…Но, впрочем, сейчас не о них речь.
Работал тут в 80-е годы и я – в скромном журнале «Вожатый», заведующим отделом эстетического воспитания, и в моем кабинете, в узкой комнате-пенале, в углу стояло старое пианино.
Пианино тут стояло не просто так, а потому что ко мне в отдел эстетического воспитания приходили разные авторы, в том числе и композиторы пионерских песен, они приносили свою творческую продукцию, так сказать, – свои клавиры, причем очень часто они эти свои творения сами пели, исполняли, и вот тогда-то в моем пенале собиралась вся редакция и с умными лицами их слушала.
Музыкальным редактором работал при мне сначала старенький композитор Иорданский, автор знаменитой песни «У дороги чибис», а потом еще другой композитор, тоже очень хороший, не буду называть его фамилии, чтобы он не обижался. Музыкальный редактор получал в месяц пятьдесят рублей за свой труд.
Музыкальные редакторы просматривали клавиры песен, иногда кое-что подправляли, какие-то ноты, что каждый раз приводило меня в восторг и некоторое изумление – как можно редактировать ноты, я не понимал, – и затем отдавали клавир уже для чистовой переписки.
Собственно, в этом и состояла моя работа. Конечно, помимо песен в разделе эстетического воспитания публиковались также фельетоны, очерки, композиции для агитбригады, загадки, шарады, веселые пионерские стихи и другие разножанровые произведения, но все-таки песни – они были важнее всего.
Без песни журнал выйти просто не мог. Песня печаталась в самом конце номера (журнал выходил ежемесячно), на очень почетном месте. Она подбиралась по сезону. Композиторы очень тщательно работали со словами. Написать песню для пионерского хора вообще было очень непросто, чисто технически. Таких композиторов на весь Советский Союз было раз-два и обчелся.
Поэтому когда ко мне в кабинет пришли композитор Аркадьев и поэт Свиридова (они были мужем и женой) и Свиридова запела слегка истошным голосом:
Траляля-ляляляля-траляляляля! В хорошем настроении мы едем в лагеря! —…я оказался, если честно, в слегка затруднительном положении. Я просто не знал, что делать. С одной стороны, это были заслуженные, уважаемые люди, с другой стороны, напечатать это я не мог.
Тогда я пошел к главному редактору, и он, устало махнув рукой, решил все мои проблемы.
– Да хрен с ним… – сказал Виктор Александрович, и клавир был принят.
Но иногда я уставал от этой ответственной работы и шел в буфет на восьмой этаж. Там работала буфетчицей такая Люся, немного потрепанная от своей непростой жизни женщина с глазами, подкрашенными ярко-синим цветом, она тут знала всех старожилов по именам, по особой просьбе варила им «двойной» или «тройной» кофе, при этом вся стойка перед кофе-машиной была у нее завалена горой отработанного бурого сырья, и было непонятно, куда она его девает и почему так долго хранит – не обратно же в машину засовывает?
Я сидел и порой по часу размышлял над этой проблемой, знакомых у меня тут сначала не было вообще никаких, но постепенно они образовались.
В частности, образовалась такая Даша (Дарья Сергеевна Смирнова, 1965 г. р., русская, из семьи служащих, член ВЛКСМ с 1980 г., секретарь главного редактора журнала «Комсомольская жизнь», учащаяся вечернего отделения МГПИ имени В. И. Ленина, серебряный медалист). Мы постепенно сблизились на почве этих долгих и грустных обедов, и я даже начал провожать ее после работы до метро. Метро было еще довольно далеко, станцию «Савеловская» только открыли, а «Дмитровскую» – пока даже не строили. Зачем я провожаю Дашу после работы до метро, я и сам, честно говоря, понять не мог, планов не было никаких.
Но вот постепенно это занятие меня увлекло.
Вообще, конечно, мне было о чем рассказать Даше по дороге к метро – каждый новый день в «Вожатом» приносил какие-то яркие впечатления.
Ну например, был у нас в здании такой местный сумасшедший по имени Женя, буфетчица Люся его бесплатно кормила из остатков, и он приходил сюда каждый день, шастая по этажам в поисках «сигареток». Курить тогда можно было прямо возле лифтов, это так и называлось «Место для курения» – стояла аккуратная пепельница на ножке, и сумасшедший Женя курил, не переставая, бычки он потом складывал в пустую сигаретную пачку, и если ему одалживали «сигареточку», он просил сразу еще две.
Входя ко мне, Женя аккуратно закрывал за собой дверь и начинал говорить. Говорил он очень быстро, теряя на ходу целые слова и некоторые звуки, и поэтому получалось у него примерно так:
– Добрый день, вы не знаете, сегодня айраран принесут выкобал чуки буду идти без меня пожалуйста…
Нет, не получается у меня отобразить эту чудную речь Жени на бумаге, но музыка была примерно такая, плюс его невероятно изящное произношение – с диким количеством шипящих, очень точными московскими ударениями и так далее. Я слушал его минуты три, потом он просил «сигареточку, пожалуйста» и аккуратно исчезал в коридоре, как будто растворялся в воздухе. Еще у Жени была такая странная привычка – он просил разменять, например, гривенник или пятачок «по копеечке», я послушно лез в кошелек или в ящик стола, куда часто засовывал мелочь, и долго искал. Взаймы он никогда не просил.
Однажды Женя пришел ко мне страшно взволнованный, и у него неожиданно прорезалась обычная русская речь. Как оказалось, в этот день он столкнулся с ужасным произволом. Произвол этот состоял вот в чем. Раньше Женя проходил в метро мимо турникета, ссыпая мелочь контролеру прямо в ладонь, по копейке, по две, а тут его взяли и не пустили, он устроил скандал, и тогда контролер важно объяснил ему новые правила. Женя сказал мне, что сейчас будет звонить прямо начальнику метрополитена, уселся верхом на мой рабочий стол и начал набирать какой-то номер. При этом он закурил, прямо в кабинете, потом наконец дозвонился и сказал важным голосом:
– Але! Але! Черт, не соединяют…
В этот момент зашел ответственный секретарь редакции Моисей Абрамович Ваксман, лауреат премии Ленинского комсомола за книгу «Рассказы о коммунистах» (милейший, прекраснейший человек), и неодобрительно на меня посмотрел.
– Ты зачем это ему позволяешь? – строго сказал он. – Он же совсем разбалуется.
Одет сумасшедший Женя всегда был в какие-то, честно говоря, лохмотья, то есть у него был единственный пиджак и единственные брюки, которые он заносил до такой степени, что они слегка просвечивали. Зимой он надевал еще шарф и перчатки. Пальто у него, по-моему, не было вообще. Хотя я могу ошибаться, возможно он оставлял его в гардеробе для посетителей, чтобы не смущать всех нас самим видом этого пальто.
Позднее пожилая машинистка Лида из «Комсомольской жизни» рассказала мне страшную историю о том, что Женя когда-то был выдающимся переводчиком-синхронистом с двенадцати языков, с адской скоростью делал рефераты по статьям из иностранной прессы, много зарабатывал на еженедельных обзорах для газеты «За рубежом» и так далее, служил в комитете молодежных организаций ЦК ВЛКСМ и вот-вот должен был получить допуск для выезда в капстраны. Но тут случилась беда – то ли он попал под машину, то ли кто-то из его близких, врать не буду, и Женя банально сошел с ума. Однако тут, в этом здании, буквально все, от машинисток до главных редакторов, помнили его выдающиеся способности и приятный характер и жалели нынешнего Женю, все-таки ассоциируя его с тем, прежним. И даже, говорят, иногда выписывали ему небольшие деньги по каким-то фиктивным договорам.
Все это я узнал потом, а тогда мне казалось, что я – это как раз тот единственный человек во всем огромном здании, с которым Женя мог хотя бы несколько минут разговаривать на своем птичьем, то ли вороньем, то ли воробьином, языке, причем иногда он заходил ко мне несколько раз в течение дня.
Откровенно говоря, делать мне в моем пустом кабинете с пианино было почти нечего, и я визитам Жени был даже рад.
Вообще в этом доме 12А было много всяких чудес. В приложении к журналу «Юный техник» (оно называлось «Юный изобретатель и рационализатор») гнездились разные не совсем нормальные люди, но уже другого рода. Здесь был особый шкаф для проектов вечного двигателя (мне когда-то его показывали, в смысле – показывали шкаф). Многие приносили свои чертежи космических ракет или новых видов стрелкового вооружения, проекты марсианских городов и так далее, хотя требовалось-то совсем другое – придумать, как вынуть из бутылки пробку без штопора, как вычистить ковер без порошка, ну и прочее в том же роде. В буфете я часто встречал этих изобретателей, их можно было узнать по круглым футлярам для чертежей (так называемым тубусам) и особому выражению лица – почти всегда это было оскорбленное величие.
Мы с Дашей Смирновой часто хихикали над ними, но в общем-то зря, это были совершенно особые люди, и если вы в коридоре вдруг проходили рядом с изобретателем, вас как будто ударяло током, до того они были заряжены космической энергией, о которой я тогда имел весьма смутное представление (да и сейчас, пожалуй, тоже).
Ко мне же ходили изобретатели совсем другого пошиба.
Например, часто ко мне ходил Мочалов, изобретатель шарад, ребусов и загадок. Он льстиво изгибался, когда проникал в мой кабинет, может быть потому, что ему хотелось заработать лишние десять рублей в месяц, возможно они имели для него критическое значение, а может эти чаемые им десять рублей были лишь малым подспорьем в непростой судьбе. Но я встречал его сурово, потому что понять ничего в его творчестве не мог и даже не пытался.
У меня в журнале уже был кроссворд, его каждый месяц сухо оставлял деловитый Цеплис в большом аккуратном белом конверте, он приходил очень рано, когда я еще просто спал дома, а не то чтобы даже ехал на работу, часов в девять, подсовывал под дверь (потом мне на стол перекладывала уборщица), и живого Цеплиса я никогда не видел – словом, одного кроссворда мне в этом жанре было вполне достаточно.
Однажды Мочалов вошел ко мне с торжествующим видом и предложил «новый тип загадки» – читатель должен был сложить буквы «в определенной последовательности», чтобы получить нужное слово, с помощью шифра…
– Морской козе пришел приказ от красных зорь.
Помню, я долго читал эту фразу и потом попросил оставить эту пухлую рукопись с рисунками недельки на две.
– Я должен подумать, – уныло сказал я.
Фразы эти, про морскую козу, конечно, я расшифровать тоже не мог, но до буфета их иногда доносил, и мы снова хихикали с Дашей Смирновой, поедая салат «Нежность» и куриный рассольник, примерно с двух до трех пополудни.
Еще на двадцатом этаже нашего волшебного здания было одно пространство, огромная рекреация, слегка пугающая своей пустотой, – туда, в этот пустой зал, по вечерам пускали платную секцию карате.
Это были суровые молодые люди в самодельных кимоно, которые им, скорее всего, шили мамы и бабушки, они босиком стояли в определенных позах и с криком «кья!» выбрасывали в воздух худые костяшки. Даша однажды специально осталась до восьми, чтобы на них посмотреть, и я вдруг понял, что испытываю некоторую ревность.
Это было странно, у меня к Даше ничего не было, так мне казалось, просто во всем здании у меня не завелось за целый год ни одного знакомого, ни одного друга – что было, конечно, странно для молодого человека, например братья Толстые из «Студенческого меридиана» регулярно устраивали массовые гульбища в цековском пансионате «Березка», большие многодневные пьянки, переходящие в целые оргии, и почему я в них ни разу не участвовал, бог весть; также сурово и истово пили художники в журналах «Мурзилка» или «Веселые картинки», я уж не говорю про литературных сотрудников журналов «Комсомольская жизнь» и «Молодой коммунист» – пили они и при сдаче номера, и в день рождения главного редактора и ответственного секретаря, и на Первое мая, и в день Всесоюзной пионерской организации, в эти праздничные дни в коридорах стоял густой запах привезенного из дома салата оливье и соленых огурцов, а раскрасневшиеся возбужденные дамы то и дело бегали с грязными тарелками в туалет. Только у одного меня так и не возникло никакой компании, возможно дело объяснялось тем, что я тогда вообще не пил, у меня от алкоголя сразу начиналась адская мигрень, просто раскалывалась голова, многочасовая пытка, выбивавшая меня из седла на целый день, а то и на весь следующий, это объяснялось банально, остеохондрозом в шейном отделе от бесконечного и бессмысленного сидения за письменным столом, но я тогда этого не знал, иногда утром я с трудом разлеплял глаза и шел на работу, и мне сразу было понятно, что голова сегодня будет болеть, по характерному покалыванию в висках, но объяснить этого другим людям я не умел, мне все время наливали коньяк под видом того, что «от него болеть не будет», и через час жевания всяческих салатов я просто вставал и уходил, сославшись на производственную необходимость. Долгое время Даша Смирнова была моим единственным собеседником на все эти огромные двадцать этажей «Молодой гвардии».
Однажды она пришла в буфет с мокрыми глазами.
– Что-то случилось? – осторожно спросил я.
– Да, – ответила она после паузы. – У меня большие неприятности.
– Что такое? Ты здорова?
– Не в этом дело.
Я был заинтригован.
– В общем так, я потеряла комсомольские взносы.
Мы мрачно помолчали. В паузе я решил быстро доесть салат «Нежность», чтобы потом уже не отвлекаться.
– Я вижу, тебе не до меня, – сухо сказала она. – Ты весь в каких-то мыслях.
– Ты что, ты что! – закричал я с набитым ртом. На нас оглянулись. – Это я так, просто разволновался немного.
– А… – так же сухо сказала она. – Тебе-то чего волноваться? Не ты же их потерял.
– Я за тебя волнуюсь, – сказал я, запивая салат «Нежность» компотом.
– А, ну да…
Снова возникла тяжелая пауза.
– Послушай, – осторожно сказал я. – Ну а что, это какая-то неподъемная сумма? Может быть, я все же могу тебе помочь?
– Не в этом дело, – опять сказала она загадочно.
– А сколько же человек в твоей… этой… организации?
– Семнадцать. Итого рубль семьдесят.
– Даш, прости, ну я не понимаю, – чуть ли не шепотом, очень бережно сказал я. – Ну да, это, конечно, серьезные деньги, но хочешь, я тебе на время одолжу?
Она вскочила и бросилась вон, мне пришлось догонять ее в коридоре.
Она ждала лифта, практически уже рыдая.
– Даш, прости, ну что я сделал? Объясни, наконец! – воскликнул я.
– Ты что, не понимаешь? – закричала она сквозь слезы. – Я потеряла не только взносы, но и ведомость!
– Давай погуляем! – неожиданно сказал я и сам себе удивился.
Мы спустились на первый этаж, прошли через вахтера на улицу и медленно направились вдоль железнодорожных путей. Дом 12А стоял прямо на Савеловской ветке, мимо него всегда проходили электрички, редкие пассажирские (Москва – Тверь) и товарняки с бесконечным грохотом.
Из разговора постепенно вырисовывалась зловещая картина моральной катастрофы.
Смирнова отвозила раз в месяц членские взносы на улицу Каретный ряд, в Свердловский райком ВЛКСМ, там она долго сидела в очереди, потом входила в кабинет, там инструктор райкома, невзрачная девушка, ставила ей на ведомость печать, ссыпая мелочь в специальный мешочек для денег, а потом запихивая мешочек в сейф.
Вся эта ежемесячная процедура почему-то приводила Смирнову в жуткий трепет.
Она ненавидела себя за то, что согласилась собирать эти взносы, но было уже поздно – и все-таки это было лучше, чем выступать на собраниях с докладом о международном положении.
– Лучше бы я ездила в подшефный детский дом! – орала Смирнова под адский шум товарного поезда. – Это гораздо более благородно! Зачем я вообще согласилась собирать эти взносы?
Стояла золотая осень, которая иногда ненадолго бывает в Москве – как если бы это были гастроли столичного театра в маленьком городе.
– Что же мне теперь делать, а? – твердила Смирнова снова и снова с небольшими перерывами.
Неподалеку от издательства был хлебозавод, который являлся достопримечательностью 5-го Новодмитровского проезда. В определенные часы он распространял вокруг очень вкусный запах свежего хлеба, и еще в нем был маленький магазинчик, вернее ларек, где можно было купить свежую булку городскую за семь или свежий батон за тринадцать копеек.
– Пойдем? – кивнул я в сторону хлебозавода.
Она нехотя согласилась. Мы перешли железнодорожные пути.
Хлебозавод представлял из себя огромное краснокирпичное здание сложной формы.
– Вам булку или батон? – равнодушно спросила продавщица.
– Давайте две булки, – неуверенно сказал я.
– А мне еще батон, я домой возьму, – добавила Даша.
С белым хлебом в руках мы торжественно пошли дальше.
Потом мы купили кефир, и теперь нам точно нужно было какое-то спокойное место, чтобы все обсудить.
Даша уверенно свернула с шумного Дмитровского шоссе – и мы вошли в тихий двор довольно большого сталинского дома, который, как я уже говорил, стоял справа, неподалеку от платформы «Дмитровская» (если ехать из центра в область).
– Я давно хотела рассказать тебе одну вещь, – загадочно сказала она. – В этом доме, на восьмом этаже, я, к сожалению, не знаю, в каком именно окне, – жила одна женщина. Она работала в нашем издательстве. Женщина была совершенно одинокая. И вот, уже выйдя на пенсию, она вдруг покончила с собой. Оказалось, что она всю жизнь любила главного редактора одного журнала, и вот этот самый редактор к ней сюда ходил много лет. А потом перестал. Представляешь? Мне папа об этом рассказывал.
– Тяжелая история, – сказал я. – А это точно было? Или это всего лишь красивая легенда?
– Что ж в ней красивого? – обиженно ответила она.
Теперь мы молча ели булку с кефиром, и я смотрел на Дашу. Она была маленькая, с жидкими волосами, не очень здоровой кожей и с большими, немного выпуклыми бесцветными глазами.
– Ну так что? – сказал я. – Мне пора возвращаться на работу. У тебя есть план?
– Есть, – сказала она, не глядя мне в глаза. – Я составлю новую ведомость, и ты распишешься за всех. Понял?
– Гениально, – сказал я угрюмо. – Такой обман действительно никто не заметит.
– Да тут вообще все обман… – вдруг выпалила она и осеклась.
Однако неприятности в этот день вовсе не закончились. Войдя к себе в кабинет, я обнаружил сумасшедшего Женю, который жег бумажки прямо за моим столом.
Кабинет я, как всегда, не запер на ключ, хотя он у меня был.
– Жень, ты что, охренел? – заорал я.
К счастью, он не успел сделать большой костер, но запах был ужасный. Горелые обрывки бумаги носились перед моим носом.
Женя залопотал что-то на своем вороньем или воробьином языке.
В этот момент зашел ответственный секретарь редакции Моисей Абрамович Ваксман, лауреат премии Ленинского комсомола за книгу «Рассказы о коммунистах» (милейший, прекраснейший человек), и стал густо ругаться матом.
Женя обиделся и аккуратно растворился в коридоре.
– Сейчас пожарники прибегут и устроят пожарную тревогу! – кричал Ваксман. – Я же тебе говорил неоднократно: запирай свой кабинет! Давай беги к Галке за сифоном!
Я помчался в приемную, принес сифон и залил весь этот ужас газированной водой.
И как раз в этот момент я понял, что именно сжег Женя на моем столе.
– Спасибо вам, Моисей Абрамович, – тихо сказал я. – Спасибо вам огромное, то есть очень большое. Я тут это… посижу немножко, приберу у себя на столе.
Он, по-прежнему вполголоса ругаясь, прикрыл за собой дверь.
Предчувствия меня не обманули. Женя сжег свежий клавир песни «Веселые огоньки», который как раз сегодня нужно было отдавать в печать.
Где-то через полчаса я собрался с духом, медленно встал и пошел в кабинет к главному редактору.
Это был тоже очень хороший человек, очень умный, с которым у меня были нежные доверительные отношения.
Я без утайки рассказал ему все, что случилось, и он долго смеялся.
Отсмеявшись, главный впал в философское настроение.
– Я помню отлично этого Женю, – сказал он, задумчиво глядя в окно. – Хороший был парень, когда работал в комитете молодежных организаций. Ну то есть он и сейчас как бы есть, но уже как бы не совсем тот… – тут он как-то замялся, закашлялся и внезапно спросил: – Ну так что с клавиром будем делать?
– В том-то и дело, – сказал я медленно и аккуратно. – Он обгорел, в общем-то, только по краю, но заново переписать уже не успеваем.
Главный машинально посмотрел на календарь и начал медленно краснеть.
– А в портфеле у тебя что-то есть, какой-то другой чистовой клавир?
– Нет, – сказал я. – В портфеле у меня ничего нет. Все вышло уже.
– Ну я же тебе говорил… – недовольно сказал главный. – Нужно иметь портфель!
Мы помолчали в тревожной тишине.
– А, ладно. Напечатаем на обложке пионерскую клятву! – вдруг решительно сказал он. – На фоне русского леса. А «Веселые огоньки» отложим пока, дадим в августовский номер. Скажем нашим авторам, что так более правильно в политическом отношении. Ферштейн?
– Яволь, – сказал я. – Еще раз извините, Виктор Александрович.
– Да ладно… – сказал он уже спокойным голосом. – Чего только в редакции не бывает. Рожают, умирают, сходят с ума… Это еще цветочки. Ладно, бывай, мне в контору пора.
(«Конторой» он в доверительных разговорах называл ЦК ВЛКСМ.)
Я закрыл глаза и представил себе эти золотые, эти вечные слова – «Я, юный пионер… перед лицом своих товарищей… торжественно клянусь: горячо любить свою Родину» – на фоне березок, елей, кленов, дубков, голубого неба и белых перистых облачков, и мне стало так легко, так спокойно на душе, что я совершенно перестал психовать.
Когда я вошел в кабинет, на столе разрывался телефон.
Это звонил Мочалов.
Своим скрипучим голосом он спросил:
– Извините, пожалуйста. Вы прочли мою рукопись?
Так. Раз тут у меня все горит, все пылает, подумал я отчетливо, надо немедленно отказать Мочалову, отказать раз и навсегда.
– Знаете… – решительно сказал я. – Как вам сказать… Это вообще интересно очень придумано, неожиданно… Я передал рукопись ответственному секретарю.
Слышно было, как на том конце провода он покраснел от удовольствия.
– Но… – сказал я, начав шарить по столу в поисках этой школьной тетради за две копейки в клеточку, с загадками и рисунками… – Но… Но…
Рукопись исчезла. На столе ее не было. По всей видимости, она тоже погибла в огне.
– Вы не могли бы мне перезвонить? – быстро сказал я. – Через пять минут.
И повесил трубку.
Дома, наскоро отужинав, я, как правило, садился писать свой роман в двух частях или какую-нибудь халтуру. Сейчас я находился между 14-й и 15-й страницами романа, иногда выходя на балкон, чтобы покурить и посмотреть на догорающее небо над Битцевским лесом. Когда небо окончательно догорело, я достал Дашину ведомость и склонился над ней.
Передо мной был список женских фамилий, рядом с которыми я должен был поставить невнятные закорючки.
Смирнова, Васильева, Гогуладзе, Ахметова…
Кто же все эти люди? Как они выглядят? Как сложится их судьба в дальнейшем? Тонкие они или толстые? Любят они кашу гречневую или пшенную? Есть ли у них родители? Живут ли они в далеком Фрязине или где-нибудь рядом со мной в Чертанове?
Наконец я не выдержал и позвонил Даше домой. Это, кстати, у нас с ней было впервые, я вдруг разволновался.
– Ты чего так поздно звонишь? – испуганно сказала она.
– Слушай, – сказал я торопливо. – Извини, я просто на секунду. Скажи, а вот эта Васильева, например, она кто? Кем работает?
Даша помолчала, а потом сухо ответила:
– Ты можешь ничего не делать.
И повесила трубку.
Мне не давала покоя вот эта Дашина фраза, которая ночью вдруг всплыла в голове, как какой-нибудь труп из реки в плохом детективе.
«Тут вообще всё обман».
Кого она имела в виду?
Того любовника пожилой секретарши, который к ней ходил, ходил, да и перестал?
А может быть, она имела в виду вообще все наше здание, все эти двадцать этажей сплошного вранья – всех этих поэтов-графоманов, недоучившихся журналистов, горе-изобретателей, умных и циничных главных редакторов, состарившихся секретарш или вот меня, автора композиции для пионерской агитбригады, редактора отдела эстетического воспитания?
Если честно, я часто думал о том, кому предназначаются эти наши песни для детского хора, которые мы печатаем в журнале каждый номер. Кто их аудитория, кто, так сказать, конечный потребитель нашей продукции? Часто я представлял себе стареньких женщин за пианино с одухотворенными лицами, руководительниц самодеятельных капелл, спелых, в самом соку пионервожатых в коротких юбках, незадачливых композиторов, которые работают в музыкальных школах, и конечно, конечно, я представлял детей, поющих на торжественных концертах эти самые «Веселые огоньки»…
Однако сейчас, под влиянием Даши, смысл всего этого, обычный, правильный смысл – все никак не находился.
Получалось, что все эти люди, включая меня, – врали искренне, беззастенчиво, но оставались при этом совершенно чистыми духом?
Ну да, получалось так. Но зачем?
Наконец я заснул.
Утро началось бодро. В приемной меня ждал Мочалов и пил воду из сифона.
– А я к вам! – радостно сказал он.
– Вы знаете… – бледнея и заикаясь пробормотал я, пропуская его в кабинет. – Тут такое дело…
– Я вам что хочу сказать, – перебил меня Мочалов. – Вы ту рукопись уничтожьте! Сожгите ее! Ладно? Ну или просто потом пойдите к ответственному секретарю и как бы между делом возьмите ее и выбросьте в мусорную корзину. Дело в том, что те загадки нового типа – я принес вам по ошибке. Вот новый вариант! Совсем новый! – и он торжествующе достал новую тетрадь в зеленой обложке за две копейки и стал читать с выражением:
– Морской козе пришел приказ от красных зорь…
«Ты заработал свои десять рублей, Мочалов», – со вздохом подумал я.
От этих мыслей мне стало вдруг стыдно, и я предложил ему еще чаю. Но он спешил в другую редакцию.
В этот момент мне позвонили, я обреченно поднял трубку. Это была Даша Смирнова.
– Слушай! – радостно сказала она. – А ты знаешь, как все кончилось? Мне позвонили из райкома! Представляешь?
– И что? – тупо спросил я.
– Ничего! – расхохоталась она. – Кто-то нашел мои взносы! Так что ты свободен. От всех обязательств.
Это прозвучало как-то не очень приятно.
– Слушай, Даш… – неуверенно сказал я. – А в буфет мы сегодня пойдем?
– Ладно, – смягчилась она. – Ладно, пойдем.
Трудно сказать, почему я так часто вспоминаю Женю, лауреата премии Ленинского комсомола Ваксмана, пожилую машинистку Лиду, которая печатала рукописи моих первых романов, пока не умерла, музыкального редактора Иорданского, Мочалова с его шарадами и загадками нового типа, Дашу Смирнову, свое расстроенное пианино в углу – ну почему?
Ни с кем из этих людей у меня не было глубокой человеческой любви или даже привязанности, но все вместе они представляли собой что-то такое, что казалось мне похожим на большой стеклянный шар, огромный стеклянный шар, в котором я жил тогда.
Жил легко и даже временами уютно.
Химия и жизнь
Яна Кораблева (член ВЛКСМ с 1976 г.) решила покрасить колготки в зеленый цвет. В связи с этим она позвала к себе домой подругу Чайлахян – для оказания моральной поддержки, ну и вообще.
– Ну а чего в зеленый-то вдруг? – угрюмо спросила подруга Чайлахян, выслушав ее. – Чего не в синий хотя бы?
– Ну не в зеленый, а в темно-зеленый, – сказала Кораблева терпеливо. – Понимаешь?
– Понимаю, – сказала Чайлахян. – А у тебя чего, краска есть?
Кораблева знала, что существуют в принципе такие «красители для ткани», но поскольку не знала, где их берут и сколько они стоят, решила обойтись народными средствами.
– Ладно, – сказала Чайлахян мрачно. – Тащи свою зеленку.
Зеленки у мамы был целый запас, поэтому с ней проблем никаких не было. Чайлахян и Кораблева водрузили тазик средних размеров на кухонный стол и вылили туда целый пузырек. Вода была теплой, умеренно-комнатной температуры, но в общем-то она вовсе не собиралась становиться сразу зеленой, зеленка плавала в ней как бы отдельно, такими облачками ядовитого цвета, смутно напоминающими учебные фильмы о химическом и бактериологическом оружии, которые им показывали однажды на гражданской обороне.
– Надо помешать, – сказала Чайлахян.
Она была крупная девочка, выше Кораблевой на целую голову, всегда ее защищала от хулиганов и вообще прониклась к ней с первого класса какой-то восточной нежностью. Но даже верную подругу Чайлахян замысел Кораблевой немного смущал.
Вообще – замечу я тут в скобках – все эти теории про то, что у красивых девушек всегда некрасивые подруги и так далее, – все это полный бред. Женщины иногда просто не могут жить друг без друга (хотя со временем эта привычка ослабевает) – а все остальное даже как-то не важно.
Они долго думали, чем мешать.
В принципе у мамы была такая палка в ванной, на предмет кипячения белья, ею она пользовалась не часто – обычная деревянная палка, толстая, полметра длины. Но использовать ее было страшно – палка мгновенно станет зеленой, и мама про все узнает.
– Давай лучше карандашами! – сказала Кораблева.
Чайлахян так же мрачно кивнула, и Кораблева пошла искать карандаши. Папин «кохинор» было жалко, и она долго рылась в столе в поисках чего-нибудь ненужного, пока не нашла пару огрызков за три копейки штука.
– Смотри пальцы туда не суй, потом не отмоешь, – сказала Чайлахян, и они начали размешивать зеленку в тазике.
Над кухней повис довольно резкий запах, и Чайлахян открыла окно. В окне грохотали дорожные работы.
– Ну и зачем это тебе? Вообще-то? – спросила Чайлахян, помешивая воду в тазике.
Яна задумалась.
Вообще идея выйти в город в черных ну или хотя бы в темных колготках давно не давала ей покоя.
Она даже не знала почему.
– Ну то есть ты хочешь, чтобы на тебя мужики оборачивались, приставали к тебе, да? – продолжала неприятный допрос Чайлахян.
– Ну в общем-то да, – честно призналась Кораблева.
– Ну тогда я умываю руки, – произнесла Чайлахян загадочную фразу, после чего спросила, нет ли чего-нибудь пожрать.
Зеленка все еще никак не хотела смешиваться с водой, а Кораблева уже почувствовала, что устала.
Они нарезали бутерброды с маслом и колбасой, сделали чай и молча поели, каждая обдумывая что-то свое.
– Смешалась, – сказала Чайлахян, меланхолически глядя в воду.
– Это что? – удивленно сказала Кораблева. – Это такая бледная вода?
– Это не вода, а раствор, – сказала Чайлахян. – Ну а ты чего хотела? Один пузырек на пять литров.
– Ну не на пять, а, наверное, на три.
Кораблева опять пошла в аптечку и вылила в тазик еще один пузырек. Зеленка опять медленно начала смешиваться с водой.
…Наконец наступил самый важный момент.
Вообще эластичные колготки, тем более гэдээровские (производства Германской Демократической Республики), были тогда на вес золота, стоили немереных двенадцать или даже пятнадцать рублей (на черном рынке, в туалете у Кузнецкого моста), да и в магазине недешево – семь восемьдесят, но достать их было не так-то просто, я прекрасно помню, как мои знакомые девушки буквально плакали, когда замечали спущенную петлю или если колготки, не дай бог, порвались. Это была целая трагедия.
– Не страшно тебе? – грубо спросила Чайлахян. – Вдруг испортишь?
– Ну в каком смысле испорчу? – раздраженно ответила Кораблева. – Нельзя будет носить?
– Ну да, нельзя.
– Понимаешь, – терпеливо сказала Кораблева. – Они все равно старые, ношеные. А я хочу подарить им новую жизнь!
– Ну валяй, – сказала Чайлахян, и Кораблева бросила колготки в тазик.
– Они должны вымачиваться минимум три часа, – сказала Кораблева, зачарованно глядя в зеленый раствор.
– А мама твоя когда с работы приходит?
– В шесть.
– Ну так значит, ты не успеешь, – сказала Чайлахян, которую в этот день обуял какой-то бес правдолюбия.
– Иди ты знаешь куда? – наконец разозлилась Кораблева. – Без тебя справлюсь.
Но Чайлахян не обиделась и не ушла.
– Знаешь что? – вдруг сказала Кораблева после непродолжительной, но тяжелой паузы. – А давай их на огонь поставим.
– Ты все перепутала, – сказала Чайлахян грустно, уже понимая, что ее правдолюбие – это тяжкий грех. – Варят джинсы. Ну или юбки джинсовые. Колготки отмачивают.
– Да иди ты! – опять сказала Кораблева и смело зажгла газовую плиту.
Через десять минут вода закипела.
Запахло чем-то совсем уж неприятным.
– Ну ты дура, что ли! – заорала Чайлахян страшным голосом. – Отравиться хочешь?
Они настежь открыли балконную дверь и подышали вместе. Выход на балкон был прямо с кухни. Здесь мама держала эмалированное ведро с квашеной капустой, старые кастрюли, пустые трехлитровые банки и прочие нужные в хозяйстве вещи.
Кораблева на самом деле не знала, как мама отнесется к этой ее затее. Похвалит или отругает. Закричит или засмеется. С мамой было всегда непонятно.
Перед приходом мамы они повесили колготки сушиться – прямо тут, на балконе, на бельевой веревке, защепили прищепками, и Чайлахян в последний раз оценила их нездоровый болезненный цвет.
– И охота тебе в таком? – пробурчала она, но, взглянув на выражение лица Кораблевой, попрощалась и сразу ушла.
А вечером пришла мама, колготки она заметила не сразу, но то, что с тазиком делали что-то непонятное, заметила сразу, темнело теперь рано, и цвет колготок она не определила, а когда вынесла их под электрический свет, то ахнула и долго хохотала.
Пока Кораблева делала уроки, мама снова замочила колготки и утром показала результат. Колготки были правильного темно-зеленого цвета.
– И охота тебе в таком? – повторила она вопрос Чайлахян, на что Кораблева только пожала плечами и пошла себе в школу.
В субботу (было всего два урока) они с Чайлахян купили лак для ногтей, выдавили туда два синих стержня для шариковых ручек и вместе покрасили ногти.
Ногти были почему-то черные, а не синие, как предполагалось.
Зато колготки темно-зеленые.
В метро на них смотрели, что не помешало им выйти на улицу Горького и пойти вверх – от проспекта Маркса к Пушкинской и Маяковской.
Эффект был оглушительный.
К Кораблевой в районе Пушкинской подошел мужчина в шикарной кожаной куртке, в джинсах и очках в тонкой золоченой оправе и вежливо сказал:
– Девушка, извините, можно отнять у вас ровно одну минуту?
– Да! – торжественно сказала Кораблева.
– Дело в том, – кашлянув, сказал мужчина, – что я работаю на студии Горького, и сейчас мы как раз приступаем к съемкам нового фильма – из жизни старшеклассников. У вас очень интересная фактура, не хотите попробоваться?
Кораблева молчала. Было страшно неудобно перед Чайлахян.
– Я подумаю, – важно сказала она.
– Хорошо, – быстро сказал кинорежиссер в кожаной куртке. – Оставьте мне тогда ваш телефон, я вам завтра позвоню, или, хотите, запишите мой?
– А в чем там сюжет? – неожиданно спросила Чайлахян.
Кинорежиссер как-то замялся.
– Слушайте, девчонки, – сказал он. – Ну неудобно как-то стоять на улице, обсуждать сценарий, да и сценария-то, честно говоря, пока нет, один синопсис.
– Один что? – спросила Чайлахян.
Режиссер засмеялся.
– Синопсис. Ну это так предварительная стадия сценария называется, не важно. Давайте зайдем в кафе, я вам все быстро расскажу, и вы уж тогда решите.
В кафе он быстро заказал мороженое по два шарика (Чайлахян взяла шоколадное и лимонное, а Кораблева клубничное и ванильное) и по бокалу шампанского.
Режиссер вел себя уверенно, он задавал короткие уточняющие вопросы – где они учатся, кем работают родители, скупо рассказал о сценарии – в школе ребята выпускают стенгазету, в которой критикуют своего классного руководителя, и у них начинаются неприятности, одного пытаются выгнать из школы, но за него вступается парторг, старый фронтовик… Потом они вместе едут на школьную практику в далекую казахскую степь, где спасают хлебное поле от пожара.
– Ну в общем вот такая история, – сказал режиссер и испытующе поглядел Кораблевой в глаза.
Чайлахян сказала, что ей надо в туалет.
Режиссер продолжал смотреть, но уже как-то очень грустно. У Кораблевой даже сжалось сердце.
– Знаешь, девочка, ты очень красивая… – задумчиво сказал он. Звали его Григорий Борисович. – А ты в каком классе-то учишься?
– В девятом, – несмело ответила Кораблева.
– Шестнадцать есть уже? А то там, знаешь, нам всякие ведомости надо составлять, финансовые документы. Паспорт нужен. Паспорт получила уже?
– Ну да, – соврала Кораблева и покраснела.
Помолчали.
– Короче, знаешь что… – быстро сказал он. – Тут такая ситуация, подруга твоя, я вижу, очень хочет в кино попасть, но, понимаешь, это будет немножко неправильная с моей стороны история – ну чего девчонке зря голову дурить? Как-то нам надо ее ласково отцепить, понимаешь?
Кораблева важно кивнула.
– Ну и короче, – продолжал режиссер, – давай так, я сейчас уйду, как бы мы ни о чем не договорились, и подожду тебя у памятника Пушкину. Идет? Но только ты мне свой телефончик оставь на всякий случай.
Когда Чайлахян вернулась из туалета, режиссер быстро расплатился и ушел, сославшись на срочные дела.
– Ну чего? – мрачно сказала Чайлахян. – Договорились с ним?
– Не знаю, – сказала Кораблева неопределенно. – Странный он какой-то. Ничего про себя не рассказал. Какие он фильмы хоть снимает? Может быть, они мне совсем не понравятся?
– Понравятся, – сказала Чайлахян. – Ты ж этого так хотела. Колготки вот покрасила.
– Ну да, – вздохнула Кораблева и потупила глаза.
Надо было на что-то решаться.
– Знаешь, Лен… – сказала вдруг Кораблева, когда они вышли на улицу. – Я что-то неважно себя чувствую. Голова как-то кружится. Поеду-ка я домой. А ты?
Кораблева очень надеялась, что Чайлахян, верная подруга и, можно сказать, оруженосец, решит ее проводить до дома в таком болезненном состоянии и встреча у памятника Пушкину как-то сама собой рассосется.
Но та подозрительно на нее посмотрела и вдруг сказала:
– Я? Нет, а я еще погуляю! Счастливо тебе!
Повернулась и пошла к Кремлю.
Медленными и неверными шагами подходила Кораблева к памятнику Пушкину. Сердце ее немного дрожало, и вместе с тем ему, сердцу, было очень интересно – что ж за режиссер такой, дожидается он ее или нет?
Он дожидался!
– Тебя как зовут? – спросил он ласково. – Напомни мне, пожалуйста.
– Яна… – сказала Кораблева. – А вас я помню как зовут. Вы Григорий Борисович. А какие фильмы вы снимали?
Режиссер опять слегка кашлянул и сказал:
– Ну че, тебе все перечислить? Пожалуйста. «Навстречу двадцать шестому съезду партии», ну это документалка такая, о сталеварах, – пояснил он. – Художественные: «Большая путина», ну это о моряках, «Генка, Ларик и Иван Иванович», ну вот это вот детский, последний.
– А там про что?
– А там про воспитателя детского сада. Ух, какая ты любознательная! Слушай… – неожиданно сказал Григорий Борисович. – А давай текст немного попробуем? А? Мне хочется понять, есть у тебя данные или нет.
Кораблева снова покраснела.
– Это как – «текст попробуем»?
Он достал из внутреннего кармана кожаной куртки листок бумаги с машинописным текстом, сложенный вчетверо. Она думала, что будет целая стопка, но нет, листок оказался один, какой-то сиротливый и очень замусоленный, как будто на нем ели или делали что-то еще.
Она вчиталась в текст.
«Лена (смотрит на ребят). Терентьев, скажи, разве ты не обещал, стоя вот здесь, на совете отряда, что будешь учиться только на “хорошо” и “отлично”? А ты, Маланьина, разве ты не обещала, что поможешь Терентьеву с учебой? Где же ваши слова? Неужели вам не стыдно смотреть нам прямо в глаза?»
Григорий Борисович тоже смотрел на нее испытующе, как Лена из синопсиса, прожигал взглядом, можно сказать.
– Мне кажется, я немного старовата для этой роли, – несмело сказала Кораблева.
– Ну… это мне решать! – сурово сказала режиссер. – Так что, будешь читать?
Кораблева вяло начала:
– «Терентьев, скажи, разве ты не обещал, стоя вот тут, на этом месте…» Ой, извините. Я ошиблась.
Григорий Борисович нервно оглянулся.
– Шумновато здесь. Слушай, а не хочешь порепетировать, поработать у меня в мастерской? Прослушивания уже скоро, надо тебе подготовиться. У меня есть мастерская, тут недалеко, на Пролетарском проспекте…
Кораблева слабо кивнула.
– Сейчас такси возьмем.
Он подошел к тротуару и, как-то нелепо размахивая листком с ролью, стал ловить мотор.
Но времена были не те. Такси так просто в Москве не ловились, тем более на Пушкинской.
Кто-то останавливался, но ехать на этот чертов Пролетарский проспект никто не хотел. Да и денег режиссер предлагал, видимо, не густо.
Кораблева стояла ни жива ни мертва. В висках у нее стучало. В голове действительно закружилось. Какое еще кино? Откуда кино? Да и кино ли?
Неожиданно режиссер подошел к ней и взял за руку.
– Поехали на метро! Тут четыре остановки!
– Нет… – вдруг сказала Кораблева. – На метро не хочу.
– Ишь ты какая… – криво ухмыльнулся режиссер. – А в кино сниматься хочешь? Там, брат, дисциплина.
Сделал вид, что снова ловит машину, и вдруг вернулся.
– Слушай, а тебе точно есть шестнадцать лет? У нас с этим строго…
Она вдруг побежала.
Ей показалось почему-то, что он будет ее догонять, поэтому бежала она очень долго, почти до Белорусского вокзала.
Там она остановилась, тяжело дыша.
К ней подошел какой-то парень в модных кроссовках «Адидас» и весело сказал:
– Девушка, у вас все в порядке? Что-то фигово выглядите.
Она отвернулась.
Всю дорогу домой Кораблева плакала. Неизвестно из-за чего. Просто так.
Но вечером ей позвонила Чайлахян и спросила, как успехи.
– Знаешь, – сказала Кораблева, – я решила отказаться от съемок. Ну на фиг мне сдалась эта пионерская организация? Я от нее в школе устала. И потом… Ну какая я вообще-то актриса?
– Ну да, – сказала Чайлахян. – Тут я тебя поддерживаю. И вообще хорошо, что ты дома. Знаешь, он мне не очень понравился, Григорий Борисович этот. Но у меня к тебе такой вопрос: а как ты думаешь, если я покрашу колготки марганцовкой в розовый – или лучше просто глубокий черный? Мне как будет лучше?
– Не знаю… – задумчиво ответила Яна Кораблева. – Не знаю, надо пробовать.
Глинтвейн
Лена Радлова, член ВЛКСМ c 1976 г., студентка вечернего отделения МГУ, русская, не замужем – поехала на Новый год в дом творчества Союза журналистов Москвы.
Путевка у нее была на семь дней, и вещей поэтому получилось немного. Но с другой стороны, и немало – не ходить же все время в одном и том же? Ко всему прочему, она взяла с собой лыжные ботинки – на базе, конечно, дадут, но какого-нибудь не того размера, так что лучше все-таки свои. Плюс красивый лыжный костюм. Вечернее платье – Новый год встречать нужно? Нужно. Кой-какие съестные припасы: колбаса сухая полбатона, банка сгущенки, банка шпрот, банка зеленого горошка. Ну и так далее.
Добираться ей пришлось от Речного вокзала на автобусе.
Слава богу, от остановки по лесу было идти каких-то метров двести, по лесной дорожке, утоптанной и вполне живописной, а то бы она этот чемодан вообще не дотащила. Попутчиков, как назло, не было. Да и как на них надеяться, на попутчиков, у них свои небось чемоданы и рюкзаки…
В лесу было так тихо, так красиво, что она даже немного обалдела от умиления. Потом увидела живую белку, села в сугроб. Ну бывает же такое прекрасное!
Впереди ее ждали целых семь зимних дней – живых, ярких, полных мерцающего снега и еще не совсем понятного ей счастья. И самое главное – вместе с ней ехала подруга Ермолаева. Она там будет не одна! К ней не будут безнаказанно клеиться всякие старички! Им вдвоем будет весело гулять в лесу!
Впрочем, с этим самым весельем, а вернее, с подготовкой к нему возникла некоторая техническая проблема – причем еще в Москве…
Дело в том, что к подруге Ермолаевой должен был приехать ее мальчик, Сережа. У Сережи была также сестра Оля, а у Оли тоже был друг – поэт Геннадий Рабинович. А к Радловой должен был приехать я. Итого получалось целых шесть человек.
Но свободные нравы дома творчества журналистов все это позволяли.
Там имелись милые уютные коттеджи с огромными окнами во всю стену, с застекленными верандами, места полно, там можно было даже танцевать, если принести с собой музыку, и всякой мебели было навалом – 1) кровать, 2) диван, 3) раскладное кресло, 4) ковер на полу – короче, спи не хочу. А номеров у них было забронировано целых два!
Папа Радловой (который, правда, с ними уже давно не жил) работал тогда в газете «Гудок». И, пользуясь своими многолетними связями в Союзе журналистов, взял им вдвоем с подругой Ермолаевой путевки. Папа приходил в Союз журналистов, как рассказывала мне Радлова, всегда с коробкой конфет, бутылкой шампанского и букетом под мышкой. Все это я представлял себе очень хорошо. Потому что однажды его там видел – со всем набором.
Когда я намекнул Радловой на несколько коррупционный характер этих отношений, она немного обиделась. «Ну а ты бы так смог?» – прямо спросила она меня.
Я стал думать о том, смогу ли я так – действительно – когда вырасту и окончательно заматерею. Вот будет у меня, к примеру, взрослая дочь. И вот попросит она меня достать ей, предположим, две путевки на Новый год – в дом творчества… Нет, я не смогу, пожалуй. А жаль.
Настроение сразу резко испортилось. Прекрасный мир дома творчества показался на миг чужим и враждебным. Но только на миг.
…Так вот, с предстоящим весельем у Радловой заранее обнаружились некоторые технические проблемы.
– Ну так чего, вино-то с собой брать, не брать? Или там купим? – деловито спросила подруга Ермолаева по телефону.
– Да ну, не бери! Конечно, там купим! – легкомысленно ответила Лена и повесила трубку.
На самом деле этому ответу предшествовала напряженная работа мысли. Ну хорошо, предположим, сколько может привезти с собой (а верней, на себе) подруга Ермолаева? Ну максимум одну бутылку, конечно. Это что, решение вопроса? Нет, это не решение вопроса. У нее у самой и так весь чемодан продуктами забит: горошек, шпроты, колбаса.
Наверное, надо было попросить, чтобы поэт Геннадий Рабинович вместе с мальчиком Сережей привезли с собой вина. Но она стеснялась. Кроме того, ну предположим, она перестанет стесняться. Но что же они привезут? Где же они найдут перед самым Новым годом хорошего красного сухого вина? А водку никто из них не пьет, может быть кроме одного Рабиновича, она была в этом совершенно уверена. И портвейн никто из них не пьет. Нет, это никак не годилось.
Не может же быть, чтобы в шикарной столовой дома творчества Союза журналистов не было хорошего сухого вина, подумала она и попыталась успокоиться.
Получив ключи от номера и войдя в него, Радлова разгрузила чемодан, придирчиво осмотрела мебель, повесила платья на стулья (вешалок тут почему-то не было) и, вздохнув, пошла в столовую. По дороге ей снова попалась белка, Лена присела на корточки и долго смотрела, как она там прыгает. По ветвям.
Потом уютная протоптанная тропинка привела ее в пустую холодную столовую.
Радлова долго ждала тут кого-нибудь.
Наконец вышла усталая подавальщица в белом бумажном кокошнике с намеком на костюм Снегурки.
Она внимательно выслушала вопрос Леночки, тяжело вздохнула, посмотрела на нее с жалостью и виновато сказала:
– К сожалению, ничем не могу вам помочь, девушка. Вина завезли очень мало. У нас будет новогодний ужин по заказу, вот только-только хватило. Следующий завоз – второго января.
– А скажите… – упавшим голосом сказала Радлова, – а мы же, мы можем тоже у вас столик заказать? Мы вот только сегодня заехали…
– А сколько вас? – осведомилась Снегурка.
– Шесть человек.
– Уже нет. И потом, вы же видите, вам все равно не хватит.
И действительно, на каждом столике стоял одинаковый набор – бутылка шампанского, бутылка водки и бутылка красного вина «Арбатское». Радлова знала, что это не очень хорошее вино. Но в данной тревожной ситуации и оно бы, пожалуй, сгодилось.
– Ну не знаю, – вслух прошептала Радлова. – Может, и хватило бы… Но водку я действительно не пью! – громко добавила она.
К тому же сидеть в холодной столовой дома творчества и отмечать Новый год с совершенно незнакомыми людьми ей совсем не улыбалось. Так что все к лучшему, утешала она себя. Но что же все-таки делать?
– А вы в Зеленоград успеете. Там до семи, – ласково сказала Снегурка и медленно, лениво зашагала обратно на кухню.
…Я приехал в дом творчества в пять. Было уже совсем темно.
– Послушай, – деловито сказала Радлова, – ты сейчас поедешь в Зеленоград и привезешь нам красного сухого вина. Любого. Если хорошего не будет, мы тогда глинтвейн из него сделаем.
– А хорошее, извини, это какое? – хмуро спросил я. Было понятно, что настроена Радлова решительно и сопротивляться ей уже бесполезно.
– Ну ты что, сам не знаешь? – неприятно удивилась Леночка. – Мукузани. Алазанская долина. Киндзмараули. В крайнем случае «Медвежья кровь». Или «Бычья».
– Медвежья или бычья?
– Решишь сам, – улыбнулась она. – У тебя вообще деньги есть? Возьми бутылок шесть. На всякий случай.
Я вышел из коттеджа, потуже натянув шапку-ушанку. Начинался сильный ветер.
Я вообще-то всегда очень любил вот такую новогоднюю метель.
В эти новые времена она случается все реже и реже. Ну или случается не тогда, когда надо. А тогда она была практически каждый Новый год. Выбежишь в магазин вечером 31-го – за майонезом, например, или за солью, – а там такое!..
Я ехал на автобусе в Зеленоград и напряженно думал: ну а что же делать, если там не будет сухого красного вина?
…В огромном зеленоградском универсаме почти не было народа. Какая-то женщина недоверчиво разглядывала упаковку с замороженной рыбой.
Решительным шагом я прошел в винный отдел.
Здесь было уже совсем пусто.
Не было не то что водки, или портвейна, или зеленых бутылок с белым сухим вином, не было даже сока яблочного с мякотью в трехлитровых банках.
Однако в углу прилавка уныло стояли в ряд какие-то странные бутылки, которых я раньше вообще никогда не видел. С простыми сероватыми этикетками. Наверное, их вынесли откуда-то из тайных складов только что.
– Это вообще что? – уточнил я у продавщицы.
– Это саперави. Ноль восемь литра, рубль тридцать цена. Сегодня завезли.
– Его пить-то можно? – недоверчиво спросил я. – А то меня женщины убьют.
– Не знаю… – грустно пожала плечами продавщица. – На вкус и цвет товарищей нет. Обычное сухое вино. Глинтвейн сварите в случае чего.
Я взял шесть бутылок и с тяжелым чувством недовыполненного долга поехал обратно в дом творчества.
Пока я ездил туда-сюда, в нашей комнате объявились долгожданные гости: подруга Ермолаева, мальчик Сережа, его сестра Оля и поэт Геннадий Рабинович.
Рабинович уже читал собравшимся свои стихи, а все пытались при этом что-то обсуждать. Рабинович не обижался и продолжал бубнить, глядя то в пол, то на Олю.
Я молча вынул из брезентового рюкзака все шесть бутылок и поставил их на простой белый столик, где Ермолаева заливала майонезом салат (в номерах дома творчества были такие крошечные угловые кухоньки с раковиной и полочкой на стене). В бутылках красиво блеснуло.
– Это что? – недовольно сказала Радлова.
– Саперави! – сказал я. – Из Грузии прям привезли. Ноль восемь литра в бутылке. Цена рубль тридцать.
– А пить-то его можно? – недоверчиво спросила подруга Ермолаева.
– Да ладно вам, в крайнем случае глинтвейн сделаете!
…О том, что они скорее всего будут делать глинтвейн из плохого или не очень хорошего вина, Радлова задумалась давно. Конечно, это был такой как бы резервный вариант, но все же она захватила рецепт, а верней, взяла его у мамы. Рецепт был следующий (она записала по телефону буквально слово в слово): «Греешь вино, не доводя до кипения. Туда цедру лимона, яблоко, гвоздика, корица, сахар или мед. Некоторые добавляют водку».
Рецепт у нее был заботливо сложен вдвое и хранился в заднем кармане джинсов, которые как раз сейчас были на ней.
– А сколько нужно для глинтвейна вина? – деловито спросила Ермолаева.
– Думаю, бутылки три, – сказала Лена, брезгливо окинув взглядом мою добычу. – Остальное оставим на завтра.
– А цедра лимона?
– Лева! – сказала Радлова повелительно. – Ты думал – что, девушки будут работать, а ты будешь расслабляться и ждать Нового года? Вот возьми бумажку и запиши.
1. Кастрюля (как для супа, можно большую, можно без крышки).
2. Лимон или несколько мандаринов.
3. Сахар (можно взять несколько кусочков или немного песка в кулечке).
4. Корица, гвоздика, любые специи, какие есть.
– Это где все взять? – осведомился я осторожно.
– Это в столовой все взять! Вот возьми рубль и отблагодари там.
Радлова выпихнула меня за дверь, и я оказался внутри большой прохладной застекленной веранды. Здесь было тихо и горел тусклый свет одинокой лампочки. Он таинственно освещал окружающий нас лес. Лес был совсем близко. Лапы елей покачивались и стряхивали с себя густые хлопья снега, даже целые шапки, как будто хотели остаться с непокрытой головой.
Хотя я терпеть не мог кого-то о чем-то просить, с кем-то договариваться и т. д., настроение все равно было отличное. До Нового года оставалось еще пять часов.
Я вышел на крыльцо, надел шапку и вздохнул полной грудью.
В густой темноте я с трудом нашел тропинку к столовой.
Столовая была освещена очень ярко, во всех окнах горел праздничный свет, а в холле, где находился гардероб с железными вешалками, стояла в углу маленькая елочка, обвешанная бедной мишурой и мигающими лампочками. В обеденном зале, еще пустом, было накрыто примерно десять или двенадцать круглых столиков, уже с приборами и тарелками.
Ко мне вышла, вероятно, та же самая усталая подавальщица в бумажном кокошнике с намеком на костюм Снегурки, что и к Радловой.
– Простите, а вы свободны? – спросил я.
– Вообще-то я занята, – недовольно сказала подавальщица и уже начала медленно разворачиваться, шаркая тапочками, но тут я спохватился:
– Ой, простите, пожалуйста! Тут к вам девушка намедни приходила за вином, так вот, мы купили в Зеленограде и хотим глинтвейн сварить, вы не могли бы нам немного помочь… – последнюю фразу я произносил уже очень тихо, ни на что не надеясь, и протянул записку прямо подавальщице в руки. Она молча взяла и сощурилась, читая.
– Пойдемте со мной, – сказала она сухо и отправилась на кухню.
У огромной плиты стояла веселая толстая повариха в чистом белом халате и нормальном поварском колпаке, безо всякого намека на костюм Снегурки, она колдовала над вторым блюдом типа бефстроганов.
– Люсь, чего? – крикнула она, глядя на меня.
– Глинтвейн хотят сварить! – ответила Снегурка и гулко загрохотала кастрюлями. Мне досталась хорошая эмалированная кастрюля, темно-зеленая, с небольшими выщерблинами по краям, с крышкой, литров, наверное, на пять…
– На, держи! – сказала Снегурка. Теперь я понял, почему они все орут. в кухне шумно гудела вытяжка. – Посуды-то хватит?
Несмотря на то что я испуганно кивнул (откуда я знал, хватит Радловой посуды или нет?), она сунула мне в руки пять фаянсовых белых тарелок и четыре тонких стакана.
– Лимона нет! – строго сказала она. – Мандарин могу дать! Пять штук! Ты меня понял?
Я закивал, потом осторожно поставил всю эту гору посуды на железную полку и достал рубль, на всякий случай повернувшись к поварихе спиной, чтобы моя взятка не была такой уж демонстративной.
– Ничего-ничего… – скромно сказала Снегурка и быстро спрятала рубль в карман. – Люся! У нас гвоздика есть, или корица, или там чего?
– В шкафу возьми! – не оборачиваясь, крикнула повариха.
Снегурка все так же медленно и спокойно пошла куда-то, где нашла вырванные из школьной тетрадки и сложенные вчетверо пожелтевшие листы бумаги, сделала два кулька, отсыпала мне туда несколько граммов сушеной гвоздики, щедро сыпанула корицы, выдала мандарины и целый пакет сахара на полкило.
– Счастливого вам Нового года, молодые люди! – улыбнулась она. – Кастрюлю только не сожгите!
Странное вообще это было место – дом творчества.
Впрочем, не успел я выйти из кухни, как настроение мое резко переменилось.
В столовую стремительно входила целая толпа людей, в основном молодые девушки и несколько мужчин. Все они были в разнообразных шапках, шубах, дубленках, засыпанных снегом, все смеялись и громко разговаривали. Я сразу почувствовал себя здесь лишним, как вдруг из толпы отделилось одно мощное тело и ринулось прямо ко мне.
Дело в том, что в моей жизни довольно часто возникают (и тогда возникали) люди, про которых я не то чтобы забыл, но, может быть, и не знал их никогда, или им случайно померещилось, что я их добрый знакомый. Но так или иначе ситуация, возникающая при этом, всегда ужасно мучила своей неловкостью. Внезапно происходил разговор с какой-то кучей неизвестных параметров, одним из которых было имя.
В данном случае это был именно такой человек – Человек с Бледным Лицом, я про себя назвал его именно так. Еще у него были рыжие волосы и очки в роговой оправе, дубленка, под ней приличный твидовый пиджак, круглый живот, массивный торс, но главным отличием было именно бледное лицо, оно отражало непроницаемость и внутреннюю силу, я бы даже сказал – неколебимое упорство его характера.
– Лева! – крикнул он мне еще издали. – Ты-то как здесь?
– Да так… – сказал я и пожал плечами. – В общем-то довольно случайно.
– В каком ты корпусе? – живо спросил меня человек с бледным лицом.
– В пятом… Или в шестом, я не помню, прости… – соврал я.
– Ну понятно… – он неопределенно покачал головой, как будто пока не зная, о чем бы еще спросить. – Слушай, а у них водка есть? – кивнул он головой в сторону кухни.
– Зайди в обеденный зал, там вроде стоит.
– Нет, это та, что на столе, – брезгливо сказал он. – А еще, на кухне, у них есть?
– Не знаю. Мы вообще-то глинтвейн будем варить.
– Глинтвейн – это сила! – уверенно сказал он. – Слушай, а у вас горячая вода в номере есть?
– Тоже не знаю, – сказал я, все более раздражаясь. – Вроде бы есть.
– Да… – неопределенно покачал он головой. – А у нас нет, представляешь? Неудобно, я же сюда с девушками приехал. Попросил нам номер поменять. Слушай, а ты не знаешь, тут на завтрак можно что-то дозаказать?
– Что именно? – тупо переспросил я.
– Ну не знаю… Фрукты, может быть. Яичницу с ветчиной. А то знаю я эти здешние завтраки…
Он даже не дождался моего ответа и сразу задал следующий вопрос:
– Слушай, а ты не знаешь, полотенца они меняют?
Я устало пожал плечами.
– Ну ясно. Хотя, в принципе, я же свои привез. Просто, понимаешь, мы на семь дней… А я же с девушками приехал… Слушай, а ты сколько за путевку платил?
– Понимаешь, старик… – отчетливо сказал я. – Я вообще-то не платил. Я тоже к девушке на Новый год приехал. Вот думаем глинтвейн сварить сейчас, понимаешь?
Тут он наконец заметил, что я стою с пятилитровой эмалированной кастрюлей, пакетом сахара, четырьмя тонкими стаканами и стопкой тарелок.
– Слушай, – радостно сказал он. – Вы же это… заходите к нам!
– Лучше вы к нам! – с облегчением сказал я, кивнул ему и вышел на улицу.
Глубоко вздохнув, я осторожно засеменил по дорожке, чтобы не поскользнуться и ничего не уронить.
Шел я медленно, потому что вдруг резко почувствовал, как хорошо тут, в лесу.
Но, подойдя к нашему домику, остановился как вкопанный.
На тускло освещенной веранде стоял высокий мальчик с очень длинными черными волосами, в белоснежном каратистском кимоно, прямо босиком, и делал медленные плавные движения, как в балете.
Я вошел на веранду и тупо уставился на него.
– Здрассьте! – сказал я, прижимая к груди свой набор для глинтвейна.
Он остановился, сделал вежливый молчаливый поклон и тоже улыбнулся.
– С наступающим! – наконец вымолвил он, и я почему-то понял, что надо отваливать.
Радлова, когда я открыл дверь, радостно закричала:
– Лева! Представляешь, кого я тут встретила? Тут Тимофеев, мой одноклассник, помнишь, я тебе о нем рассказывала? Он теперь занимается карате! Каратист! Господи боже ты мой!
– Это с которым ты целовалась? – сухо спросил я и начал с грохотом выгружать на стол посуду.
Лена Радлова училась когда-то в школе вечерней молодежи, была такая в Москве, конечно она называлась по-другому: «вечерняя школа рабочей молодежи», но у этой конкретно, возле гостиницы «Минск», была особая репутация, здесь принимали всех, с любыми справками, и учеба была дневная, сюда сдавали своих балбесов разные родители, но в основном из интеллигентной среды, поскольку всем, даже самым асоциальным элементам: всяким хиппи, художникам, начинающим диссидентам, рок-музыкантам, артистам, философам, – нужен был аттестат, потому что без аттестата не брали никуда вообще, и у всех, слава богу, были родители, которые искали выход, да, Москва могла приспособиться к любой ситуации, верней любые ситуации приспособить под себя, под свой широкий, слишком широкий нрав, – это я знал. И было главное правило – не отчаиваться и не обижаться, с первым у меня было не очень, иногда хотелось отчаяться, но обижаться я не любил, ну а на кого, положа руку на сердце, обижаться? – всегда же сам во всем виноват…
Об этой легендарной школе я знал только понаслышке от Радловой, которая уже три года как ее закончила, но вспоминала со слезами благодарности – и добрых учителей, и прекрасных учеников, их вечерние походы в кафе «Московское» и посиделки на крыше старого дома, долгие разговоры на лавочках – Тверской бульвар, желтые листья, горечь от маленьких костров…
– Да-да! – не обращая внимания на все мои ухмылки, закричала Радлова. – Я его узнала, я ему говорю: Серега, ты как здесь? А он стоит и только руками машет, представляешь?
– Ну ладно, – сказал я. – Вот тут все по списку. Мне надо погулять…
Действительно, очень хотелось погулять. Радлова строго пожала плечами и занялась глинтвейном.
А я вышел опять на веранду.
Одноклассник Тимофеев, босиком и в кимоно, занимался дыхательными упражнениями: он долго вдыхал в себя воздух, отчего грудь у него становилась буквально колесом, а потом шумно выдыхал, отчего стекла на веранде уже успели немного запотеть.
– Я вам не мешаю? – испуганно спросил он.
– А мы вам? – ответил я.
Тимофеев попросил меня постоять рядом, пока он совершает движения «лю», – тут нужно понимать, на какой высоте должен быть удар. Я встал рядом, и Тимофеев, ласково улыбаясь, начал махать пятками у меня перед носом. Хотя лампочка горела тускло, я отчетливо различал все пятна на розовых пятках каратиста и даже ощущал слабый, но запах, это было неприятно, но я терпел, сюрреалистическая картина меня завораживала – каратист в кимоно, а вокруг шумит русский лес и сказочный снег падает на сугробы. Тут вдруг в нашей комнате загрохотали кастрюли, и строгий голос Радловой крикнул:
– Лева, открывать бутылки Пушкин будет?
Я улыбнулся и попросил прощения.
– Заходите к нам, – вежливо сказал я однокласснику Тимофееву, – встретим вместе Новый год!
Тот радостно кивнул, и я вошел в комнату, чтобы помочь с глинтвейном.
Для того чтобы открыть бутылки с вином, тогда требовался достаточно острый нож – в бутылках не было пробок, горлышки облегала плотно пригнанная пластмасса.
– Погодите, – хмуро сказал поэт Геннадий Рабинович. – Не обязательно нож. Можно и по-другому…
Он чиркнул спичкой, и через несколько секунд в комнате запахло горелой пластмассой. Пластмасса обгорела с одной стороны, и Рабинович ловким движением сдернул ее с толстого горлышка.
– Ты что делаешь, Геннадий! – заорала Радлова. – А дышать нам как?
– Можно окно открыть! – спокойно сказал Рабинович и, никого не спрашивая, резко распахнул форточку.
В комнату ворвался зимний воздух.
– Лева, попроси у кого-нибудь нож, – лениво сказала Радлова. – Он нам все равно понадобится.
Несмотря на зимний воздух, в комнате противно пахло. Я надел тулуп и вышел.
На веранде уже не было никаких каратистов.
«Телевизор, что ли, включить? – лениво подумал я. – Вдруг он работает? Посмотрю передачу». Потом я опять глянул в лес, и захотелось туда, в темноту.
Как только я спрыгнул с крыльца на тропинку, на меня сразу налетела огромная овчарка. Она молча сбила меня с ног и начала тыкаться мордой в лицо.
Я не успел испугаться, потому что, во-первых, был весь в снегу, снег засыпался за шиворот, в рукава, в валенки, просто всюду, во-вторых, страшным голосом завизжала какая-то девушка, и собака трусливо отбежала куда-то прочь…
Чьи-то сильные руки быстро подняли меня из сугроба и ласково встряхнули. Это был давешний собеседник с бледным лицом, рядом с ним виновато жалась овчарка, которую била, но несильно, рукой в варежке девушка – она была в коротком пальто, из-под которого виднелись красивые ноги в синих шерстяных колготках.
– Альма, я тебе что сказала! Дрянь! – орала девушка в колготках.
– Ты живой, Лева? – спросил человек с бледным лицом, девушкой и собакой.
– Слушай, извини, я забыл, как тебя зовут, – пережив легкий стресс, я уже не так стеснялся, как раньше. – Давай опять познакомимся.
Мы церемонно представились: я сказал, что являюсь магистром глинтвейна, а человек с бледным лицом – что он Иван Дроздов, зиц-председатель. Я стал смутно вспоминать, что видел его в университете, но курсом старше.
Иван Дроздов вновь начал задавать свои жгучие, требующие немедленного ответа вопросы.
Но меня это уже не смущало.
– Скажи, Лева, – горячо спросил Дроздов, зиц-председатель, – веришь ли ты в настоящую любовь?
– Ванька, я на тебя сейчас собаку спущу! – заорала девчонка в синих колготках.
Я неуверенно пожал плечами.
– Вот и она не верит! – шумно вздохнул Дроздов, и сразу выяснилось, что за это не очень длинное время он успел выпить довольно сложный состав: шампанское, коньяк и что-то еще.
– Лева, а скажи, как ты думаешь, для чего мы вообще тут живем?
– Это трудный вопрос, – засмеялся я.
– Лева! – заорал Дроздов с бледным лицом. – Ну почему, почему я сразу понял, что ты хороший человек!
И он бросился меня обнимать.
Во время объятий он неожиданно шепнул:
– Слушай, а у вас случайно нет в корпусе пустого номера?
Я отрицательно, но с уважительным сожалением покачал головой – мол, увы, увы и увы, – и Дроздов с собакой и девушкой отправились дальше гулять.
Мне вдруг очень захотелось курить, и я решил вернуться за сигаретами.
Тут опять выскочил одноклассник Тимофеев, который поверх кимоно накинул какой-то ватник, а на босые ноги натянул валенки. Все это выглядело, конечно, очень мило. Теперь казалось, что каратист выскочил в своих белых одеяниях и валенках на босу ногу прямо из постели.
– Извините, – сказал он. – Вас, кажется, Лева зовут? Мне очень неудобно, вдруг я вас напугал?
– Да нет, вроде не напугали.
– Скажите, пожалуйста, – вдруг еще больше смутился каратист-одноклассник Тимофеев, – а у вас в номере горячая вода есть?
– Кажется, есть. А что?
– Нет, ничего, – смутился Тимофеев. – У нас просто нет, и вот я думаю, это везде или не везде?
– Видимо, не везде, – вежливо ответил я. – Душ вы можете и у нас принять. Вроде течет.
– Ой что вы, что вы! – покраснел каратист. – Я могу и холодной водой. Я вообще ведь для чего приехал сюда: чтобы бегать босиком и купаться в снегу. Прана, понимаете?
– Прана?
– Ну это… как бы вам это объяснить… это дух земли.
– Дух?
– Ну да, тут дело не в чистом закаливании, само по себе закаливание мало что дает, необходима прана. Если вы бегаете по земле босиком или купаетесь в снегу, на вас нисходит прана, и вы чувствуете новую ступень бытия.
– Понятно.
– Хотите, я вам книгу покажу по карате? – вдруг просительно сощурился Тимофеев. Что-то было в его интонации такое, что я не смог отказать.
В номере у Тимофеева было не очень светло. Просто это был такой номер – лампочка горела тускло, как на веранде, и только белый снег из окна освещал всю комнату неясным, тревожным полусветом. Я пододвинул к себе книгу и перевернул несколько страниц. Вдруг на разложенном диване обнаружилась девушка в толстом грубошерстном свитере, которая спала, накрыв голову подушкой.
– Спит, – блаженно улыбнулся Тимофеев, кивнув на девушку. – Вот уже пять часов спит.
– Все в порядке с ней? Или, может, заболела?
– Да нет, что вы… Просто у нее небольшая депрессия. Приняла к тому же супрастин. Ну и вот… Но она скоро проснется, не волнуйтесь. А вы не посмотрите, что у нас с водой? Почему-то у вас есть, а у нас нет, хотя номера соседние.
Я вошел в ванную и начал крутить вентиль. Открыл его до упора, пустил струю холодной, и через несколько минут вода забулькала, потом стала ржавой, а потом сразу теплой.
– О! Ура! – обрадовался каратист. – Хотите, я эту книгу вам почитать дам?
– Нет, – сказал я вежливо. – Спасибо. Я, наверное, воздержусь. А у вас ножа нет? Перочинного?
Вернувшись с ножом в наш номер, я застал такую картину.
Все пластмассовые пробки от всех шести бутылок были сожжены огнепоклонником Рабиновичем. Запах стоял просто ужасный. Все окна были открыты настежь. Рабинович в легкой рубашке продолжал читать стихи, согреваясь от внутреннего огня. Девчонки, накинув пальто, яростно резали колбасу и сыр.
– Лева! – свирепо заорала Ермолаева. – Ну тебя только за смертью посылать! Ну что такое, в конце-то концов? Он нам тут такое устроил!
– Да ничего страшного! – недовольно сказал Геннадий Рабинович. – Через полчаса вы буквально забудете об этом запахе. Все выветрится.
– Да уже выветрилось. А нож я принес. Просто меня каратист заговорил. Какой-то он у тебя… странный, – сказал я в сторону Радловой.
Та хмыкнула и продолжила резать колбасу, яростно сдувая челку со лба.
– Иди выброси, – сказала Ермолаева и дала мне в руки мусорное ведро.
– Куда?
– В мусорный бак.
Найти мусорный бак на территории дома творчества оказалось не так легко, особенно в темноте.
Я истоптал все дорожки, забрел к каким-то совсем темным нежилым корпусам, потом обнаружил забор, был облаян суровыми сторожевыми собаками в будке, залюбовался соснами, посчитал звезды, поскользнулся и упал в снег (второй раз за вечер!) и наконец зашел с заднего хода на спасительную кухню, где мне все показали, объяснили, куда идти с ведром, пожалели и живо поинтересовались процессом приготовления глинтвейна.
– Да не сделали еще! Но уже скоро!
Когда с мусором было покончено, я вернулся домой, неторопливо вымыл руки под ворчание девушек, которые теперь мудрили над сервировкой стола, и решил наконец покурить.
Найдя сигареты в сумке, я вышел на улицу.
Было тихо.
В коттеджах тускло блестели окна. В одном окне мерцали лампочки. Женщина наряжала елку. Конечно же, это была красиво одетая женщина, взрослая и прекрасная.
Я никак не мог надышаться этим воздухом, насмотреться на этот снег, а сигарета быстро кончалась.
Ладно, постою так.
На крыльцо вдруг вывалилась вся компания – Радлова, Ермолаева, поэт Рабинович, мальчик Сережа (который до этого просто лежал и читал книгу) и сестра Оля. Все громко смеялись и толкали друг друга.
Наконец выяснилось, что они нашли на веранде санки и теперь решают, кто кого должен везти.
Конечно, я повез Радлову и Ермолаеву.
Непонятно, как они уместились в эти детские санки вдвоем, но это был факт.
К счастью, когда мы миновали ближний лесок, дорога пошла с горки, и санки легко покатились.
Сейчас надо их опрокинуть и самому упасть, подумал я. Будем вместе валяться в снегу, романтика.
Но так не получилось. Рабинович умудрился поскользнуться и теперь, охая и чертыхаясь, пытался встать с коленок.
– Вот блин, – не выдержал он.
– Чего такое?
– Че-то болит. Может, вывих небольшой. Надо домой скорей, и льда. Или снега.
Теперь в санки посадили Рабиновича, и его повезли домой с гиканьем Радлова с Ермолаевой – санитарный поезд.
В номере каратист профессионально осмотрел ногу Рабиновича и сбегал за льдом, то есть просто отколупал его на улице от сосулек – местность он уже успел изучить.
– Да что ж такое, Рабинович! – орала Радлова. – Нам глинтвейн надо варить! А тут ты со своей ногой.
Вывих оказался небольшой. Рабинович даже мог ходить, но недалеко и осторожно.
Каратист-одноклассник Тимофеев тоскливо оглянулся вокруг себя.
– Хорошо тут у вас! – завистливо сказал он. – Глинтвейн варите, салат делаете, все дела.
Видимо, его подружка, медленно выходящая из депрессии, все еще спала беспробудным сном. А возможно, лекарство, которое она приняла, было не таким уж заурядным. А возможно, это было даже не лекарство.
– Ребят, а можно, я к вам приду? Новый год мы с ней встретим там, у себя, и потом я к вам приду? – умоляюще произнес Тимофеев.
…Ему, конечно, разрешили.
Наконец девицы приступили к самому главному. Радлова вылила в кастрюлю три бутылки вина, зажгла плиту и поставила кастрюлю на маленький огонь. Все восхищенно собрались кругом и смотрели на процесс.
Поэт Рабинович достал из кармана пальто привезенную из Москвы бутылку водки.
– Может, старый год проводим? – ласково сказал он.
Но Радлову и Ермолаеву нельзя было отвлечь от глинтвейна.
Раздался резкий запах горячего вина, и они стали бросать в кастрюлю все – дольки мандарина, корицу, гвоздику и жженный на ложке сахар. Радлова размешивала варево, иногда пробуя его, и при этом смешно дула на ложку.
Все тут же стали орать какие-то глупости.
Рабинович читал стихи.
В этот момент открылась дверь, и вошел Иван Дроздов с собакой и девушкой в синих колготках. Собака страшно залаяла, а девушка опять на нее страшно заорала. Здоровенная овчарка поджала хвост и быстро легла под стол. Дроздов начал руководить приготовлением глинтвейна.
– Девчонки! – громко и важно сказал он, не сняв даже дубленки. – Да что же вы делаете? Сахар добавляют потом! Сейчас водку!
Он взял бутылку и тупо вылил в кастрюлю почти половину. Стало тихо. Рабинович побледнел и сказал, что он не пьет сухого вина.
– Да ладно! – отмахнулся Дроздов. – Я еще потом достану. Главное – это правильный вкус.
Радлова же настолько остолбенела, что не могла даже говорить, не то что ругаться.
Еще до Нового года пришел каратист Тимофеев со своей слегка замедленной в движениях девушкой.
Он сразу залебезил и попросил накормить девушку салатом, «а то она целый день уже ничего не ест». Радлова недовольно отложила миску салата, и девушка с аппетитом, молча и сосредоточенно приступила к поглощению пищи.
Места в комнате стало уже не хватать.
Я выпил немного водки и окончательно обалдел.
Лица, руки, глаза, окна, двери и даже главные мгновения моей недолгой жизни – все весело кружилось перед глазами.
Мне хотелось немедленно лечь, но было стыдно перед Радловой.
– Послушайте, – сказал я, – сейчас самое подходящее время для Нового года. Потом будет уже хуже. Давайте встретим его сейчас. Куранты отсчитаем сами. Все равно телик не работает, я проверял. А часы врут. Какая разница? А? Давайте?
И вот тогда Радлова начала разливать глинтвейн.
Она делала это медленно, стараясь не пролить ни капли.
Все взяли свои посудины – кто чашку, кто стакан – и выскочили на улицу.
– Один! – сказал я тихо.
– Два! – заорали Радлова и подруга Ермолаева.
– Три! – поддержали их Иван Дроздов с девушкой и собакой.
– Ребят, подождите! Можно, я прочитаю стихи? – закричал поэт Геннадий Рабинович. – Все равно все понарошку, давайте сделаем паузу.
Его кинули в сугроб, и он неожиданно затих.
– Четыре! – заорали все хором, и громче всех – девушка под кайфом, которая пришла вместе с Тимофеевым.
– Пусть все у всех будет хорошо! Пять! – закричал я.
– Пусть у меня не будет депрессии! Шесть! – завизжала девушка, которая была с Тимофеевым.
– Пусть мне дадут черный пояс! Семь! – закричал Тимофеев.
– Мир во всем мире! Восемь!
– Всё, всё, хватит пожеланий! – крикнул из сугроба Рабинович.
– А как же вы? – спросил я Радлову и ее подругу Ермолаеву.
Девушки молчали, недоуменно глядя друг на друга.
– Глинтвейн остынет! – крикнула Радлова. – Считай!
– Девять! Десять! Одиннадцать! – закричали все хором.
– Стойте, стойте! – крикнули мужчина и женщина из соседнего номера. – Подождите нас!
К нам подбежали еще люди из других коттеджей. Но я уже махнул рукой.
– Двенадцать!
Начались крики ура, поцелуи – и я медленно, тихо и маленькими глотками выпил этот быстро остывающий глинтвейн. Ничего вкуснее в жизни я потом уже не пил. Нигде.
Небеса огнем объяты. Одинаковы с лица, Строй держа, идут солдаты. Строю нет и нет конца. Только вдруг правофланговый Наземь падает, плечом Задевая стол дубовый Под казенным кумачом. На глазах у нас хрустальный Разбивается графин, Что к нам путь проделал дальний Из космических глубин… —бубнил поэт Геннадий Рабинович[2].
Тимофеев и его девушка прикорнули на диванчике. Подруга Ермолаева и ее мальчик Сережа целовались в ванной (уже около часа). Иван Дроздов, зиц-председатель, с девушкой и собакой, пошел в номер к каратисту, предварительно строго спросив у меня, есть ли там горячая вода.
Оля слушала Рабиновича, как зачарованный странник.
– Пошли погуляем? – спросил я шепотом.
Мы вышли в лес с Леной Радловой и медленно побрели по тропинке, скрипя снегом.
– Ну что? – задал я свой самый глупый вопрос. – Как настроение?
– Я счастлива… – просто ответила Радлова. И без перехода добавила: – Только ты это, Лева, уезжай прямо с утра…
Я сделал вопросительное лицо.
– Ну видишь, тут все равно ночевать негде. Народа слишком много.
– Слушай, Лен. А если я не хочу?
– Ну мало ли, что ты не хочешь… Не порть мне настроения, пожалуйста.
И мы надолго замолчали.
– Ты какая-то слишком прямая, – сказал я, когда мы уже подходили к корпусу.
– Как доска?
– Нет. Как электрический провод, – сказал я и попытался ее обнять.
– Давай на веранде посидим, – тихо попросила она. – А то холодно, из носа течет.
– Ну ладно…
Мы вошли на веранду. Она села в кресло, а я на подлокотник.
Подлокотник мгновенно сломался.
Радлова захихикала.
– Не везет тебе сегодня…
Но она все же была настроена целоваться, это я понимал.
В этот момент в соседнем номере, где жили взрослые мужчина и женщина, женский голос отчаянно зарыдал. Рыдания были настоящие, не туфта, это я сразу понял и испугался.
– Ой… – сказала Радлова и отодвинулась.
Я замер. Я напряженно думал, что же означает этот момент в моей жизни. Почему именно сейчас эта женщина зарыдала.
А она продолжала рыдать и рыдать.
– Может, выпила лишнее? – спросил я шепотом..
– Да нет… – прошептала Радлова. – Это что-то не то.
– Постучаться?
– Да нет, погоди…
Мы сидели в темноте и слушали эти душераздирающие звуки.
Наконец парочка вышла на веранду. Мужчина молча закурил. Она продолжала всхлипывать.
Оба были в свитерах, но в тапочках на босу ногу.
Нас с Радловой они не заметили.
Наконец женщина дрожащим, звенящим, полным страсти и отчаяния голосом сказала:
– Знаешь что? Я тебя просто ненавижу.
Потом она вошла обратно в комнату и хлопнула дверью.
– Кошмар! – сказал мужчина и не пошел за ней.
Потом он увидел нас.
– Ребят, вы нас извините, пожалуйста… Тут такое дело…
– Извините вы нас. Мы тут случайно оказались, – сказал я примирительно.
Радлова враждебно молчала.
– Я ей ничего плохого в общем-то не сделал, это у нее просто нервы. Извините, что испортили вам Новый год. Ну вот… такие дела.
Он накинул какой-то ватник, что висел на веранде, сунул ноги в чужие валенки и зашагал куда-то в ночь.
– Я теперь целоваться не могу… – прошептала Радлова. – Извини…
– Пойдем свечку зажжем, – сказал я. Я знал, что Радлова привезла из дома свечи.
В номере вкусно пахло глинтвейном. Все спали.
Мы зажгли свечку и долго сидели над ней, просто взявшись за руки. Целоваться больше в эту ночь даже не пробовали.
Дача в Фирсановке
Вера Брезикайте (1962 г. р., русская, не замужем, из семьи военных, член ВЛКСМ с 1979 г.) родила первого ребенка по советским меркам довольно поздно, то есть в 28 лет, и в консультации ее сразу записали как «старородящую», что вызвало ее глубокое изумление (переходящее в сильный гнев).
Всем знакомым (ну почти всем) она об этом рассказывала с саркастическим смехом, однако на нее смотрели странно, советовали не волноваться и говорили, что вообще это «пустая формальность» и что обращать внимания не следует.
Ну не следует так не следует…
Рожала она тяжело, непросто рожала, хотя беременность переносила легко и с песней. Но девочка родилась здоровая, тяжелая (3670), так что все эти мучительные довольно часы: сильные схватки, угрюмство санитарок на следующий день, постродовая боль и тяжелое забытье после, а также другие сложные моменты – они как-то забылись, и осталось лишь ощущение, что «да, было непросто», но с другой стороны, просто и не должно было быть – чего ж тут простого?
…Когда ребенку исполнился год, задумались о том, что хватит сидеть в городе, надо выезжать «на природу».
Сережа поехал по Ленинградскому направлению, завернул в Фирсановку, где когда-то снимали дачу его родители, и нашел этот дом. Дом был большой, двухэтажный, зимний, с садом, теплым туалетом и водопроводом, дорогой, но они быстро нашли выход – снять его на две семьи, и не на лето, а на целый год.
Подруга Лена Коноплева тем летом тоже родила (мальчика) – и теперь тоже томилась в своем Теплом Стане, на девятом этаже блочного дома. Это была золотая идея – вдвоем легче, вдвоем дешевле, вдвоем веселее.
Главное – не ссориться.
…И они, конечно, не поссорились. Не поссорились ни разу: ни когда у ребенка Коноплевой пошла густая сыпь по всему телу и она ходила вся на нервах из угла в угол, не зная, как быть с врачом. Не поссорились и тогда, когда муж Брезикайте сильно выпил на дне рождения одноклассника и не привез обещанных бумажных подгузников (а обещал три коробки).
Ну, словом, были такие моменты, когда хотелось побыть одной и пережить случившееся.
Но их было мало.
Больше было как раз других моментов.
Поздний медленный завтрак на застекленной веранде, где было довольно холодно, выходили даже иногда в верхней одежде, подруга Коноплева где-то на чердаке нашла настоящий ватник, отстирала и щеголяла в нем – да, в верхней одежде, но при этом в тапочках на босу ногу и в ночных рубашках, растворимый кофе, медленные разговоры о том, как прошла ночь, что будет сегодня, и вот эти замерзшие деревья за стеклом – медленно оттаивающие ветки, выпускающая пар земля, запотевающее через час их медленного сидения оконное стекло, потом последние в этом сезоне снегири, скачущие в поисках семечек, они бросали им эти семечки прямо на землю, не имея нормальной кормушки (пластиковых бутылок тогда еще не было в ходу), ходьба по участку в резиновых сапогах, книги, а ты что читаешь, а я вот это…
Здесь было совсем другое время, чем в Москве, как будто стеклянное, серебряное как вода, до краев наполненное событиями. Переехали они, кстати, даже не дожидаясь лета, прямо в марте, как только нашли вариант.
Коноплева ей говорила:
– Ну вот смотри, Брезикайте… Сидела бы ты на даче одна. И думала: а че там мой муж делает? Правда ведь? А теперь ты сидишь со мной тут и ржешь все время. Даже и мыслей таких нет. Правда ведь?
Они смеялись, глядя друг на друга.
Медленно пили свой растворимый кофе.
И хотя они его берегли, он быстро кончался. А кофе в зернах в Москве давно пропал. Не говоря уж про Фирсановку.
Вообще пропадать стало многое.
Они иногда вспоминали подругу Шмелеву, которая успела родить троих, и теперь ей как многодетной матери полагались два, что ли, килограмма гречки в месяц, тушенка, зеленый горошек, еще там что-то – в специальном магазине, по удостоверению, а еще она могла по удостоверению брать что-то без очереди, то есть подходить прямо к продавщице и брать без очереди, но это было опасно – люди в магазинах были тогда настолько озверевшие, стоявшие, например, за сахарным песком часа по два, что могли запросто убить неизвестную наглую девку, совавшую им под нос какие-то свои бумажки на троих детей.
Один такой случай Шмелева рассказывала им, приехав на дачу в Фирсановку, погостить на пару-тройку дней, со всеми тремя своими детьми:
– Ну я, короче, подхожу к прилавку, говорю – я многодетная, дайте мне, пожалуйста, две пачки дрожжей (блины хотела делать) и муки три кило, тут выходит такая, ну знаешь, с белыми глазами совершенно: сука, у нас у самих двое, нарожала неизвестно от кого, я думаю, ну че, в глаза ей вцепиться, что ли, но, думаю, нет – я ж в магазин с детьми пришла, ну что они подумают?
– И чего? – затаив дыхание, спрашивала подруга Коноплева, которая очень тяжело переживала подобные рассказы.
– Ну че? Плюнула и пошла. А про себя думаю: да чтоб ты сдохла, тварь белоглазая.
– Не… – говорила Коноплева после некоторой отдышки. – Я бы так не оставила. Я бы милиционера вызвала, не знаю, еще кого-нибудь. Я мать, я в своем праве. Не, так нельзя.
– Ну вот вырастет твой, будешь с ним по магазинам ходить, тогда поглядим, – миролюбиво заканчивала разговор приехавшая в гости Шмелева.
Но вообще о такой ерунде старались не говорить, не портить настроение.
Гости – это ведь было целое событие в Фирсановке. К ним готовились, их ждали.
Привозил их, как правило, Миша Коноплев на родительских «Жигулях».
Думали, чем и как угостить, подать на стол, что первое блюдо, что второе. Чаще всего выручали ножки Буша, картошка с тушенкой, частик в томате, куда можно было накрошить первый зеленый лук, и получалось неплохо, соленая квашеная капуста с рынка.
Главное – купить водки и вина. Вот это было действительно сложно. Тут иногда помогали связи – у Миши были кое-где знакомые продавцы.
Мужья, конечно, приезжали к ним не каждый день.
Много работали, конечно, а бог его знает, чем они там занимались, в этой своей Москве, но в основном добывали продукты. Поскольку дети военную тушенку в круглых железных банках с маркировкой 60-х годов, а также частик в томате еще пока не ели, приходилось попотеть.
Мужья гоняли на родительских (мишиконоплевских) «Жигулях» по Москве, по рынкам и большим гастрономам, обзванивали знакомых, пытались отоварить талоны, договориться, достать, иногда это получалось, так, например, большим событием сезона стало приобретение югославского детского питания (пюре яблочное, овощная смесь, фруктовое пюре) из гуманитарной помощи, но за деньги – приобрели они, кажется, тогда то ли тридцать, то ли двадцать упаковок на двоих, по десять баночек в каждой упаковке, это было страшное богатство, о котором можно было только мечтать. На год запас! Таким же богатством стало приобретение детского «мясного пюре» (советского производства, но по лицензии), таких нежных баночек с легким, диетическим паштетом внутри, которое можно было добавлять в любую картошку, в любые овощи – и дети вдруг начинали есть то, что без мясного пюре нагло выплевывали, причем целясь в мамину грудь.
Однажды Коноплев и Сережа приволокли в Фирсановку двадцатилитровый бидон цельного молока. Коноплева даже заплакала – что я с ним буду делать? Парни испугались и уехали прочь, сославшись на дела. Коноплева и Вера разлили молоко по банкам, напихали черных корок, дождались, пока скисло, и потом целую ночь вдвоем через марлю отжимали домашний творог. Но молока все равно оставалось еще много, пошли на соседнюю дачу, там тоже жила молодая мамаша, богатая, но нелюдимая, и обменяли на шесть кило молодой картошки. Запасы были у всех без исключения: крупы, соль, мука, консервы, детское питание, овощи, без запасов было просто не выжить.
А вечером, поздним, наступало такое странное время: Вера Брезикайте бродила по дому и почти что разговаривала с ним. Это был настоящий генеральский или профессорский дом (она даже точно не знала какой), из другой эпохи, хозяева его были уже настолько стары и немощны, что не выезжали на дачу, а наследники по каким-то причинам отсутствовали, и он, этот старый дом, был, конечно, очень одинок и сам чувствовал свою ветхость и ненужность, но он был очень благодарен ей, и из каждого угла выглядывала его прежняя жизнь – собрания сочинений Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Лескова и Тургенева, изданные еще в сталинские годы, проржавевшие от времени кастрюли, блоки «Мальборо», привезенные из каких-то давних командировок, нынче набитые гвоздями и шурупами, не нужный никому самовар, пачки газет и журналов на чердаке, старые затхлые вещи, съеденные молью, благородная посуда с черными выщерблинками, картины неизвестных художников (природа, женский портрет, дорога, уходящая вдаль), и опять книги, книги, книги, пыльные, давно не читанные, а может быть и не читанные никем никогда книги.
Она открывала наугад: Николай Лесков – и ныряла в другой мир, еще более старый, еще более прежний:
«Едва писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания; но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов».
С Коноплевой у них была разная ситуация – та продолжала кормить грудью, а Вера перешла уже на искусственное, на подкормку, терла пюре из привозимой с рынка свеклы, морковки, репы, все это было невкусно и часто выплевывалось, но она все терла и терла (помогал детский мясной паштет в круглых баночках, с тех пор как он был привезен в Фирсановку), и поэтому режим у них был в общем-то разный, как бы ни старались они его совместить, многое не совпадало. Коноплева кормила мальчика грудью, порой по часу, даже больше, рано засыпала, чтобы ночью бодро встать и продолжать кормить, а Вера не засыпала долго, бродила по ночному дому, по двум его этажам, рассматривая углы, лампы, обои, вещи и книги, сидела на старых продавленных диванах и погружалась в глубокую тихую нирвану.
Она тоже была невероятно благодарна этому двухэтажному дому (как и он ей, так она чувствовала), он ее фактически спас – ведь невозможно было представить себя в этой мерзлой, отчаявшейся, запуганной Москве с маленьким ребенком сейчас.
Вечером она надевала резиновые сапоги, пальто, брала коляску и шла «на закат», одна или с Коноплевой. Каждый раз небо было разное: то наполненное багровым ярким нестерпимо тревожным светом, то сладко-розовое, умиротворенное, то разрезанное, как пирог, двигающимися перламутровыми облаками, и если даже над небом нависала осенняя мгла и ничего не было видно – все равно пробивался свет, ясный и торжественный, как месса, которую она никогда не слышала. Сырой холодный воздух, грязью облепленные сапоги и резиновые колеса детской коляски, в которой сидела ее девочка, мерзлые прутья кустов с налипшими на них почками, мостик, по которому обязательно надо было пройти, чтобы взобраться на пригорок, откуда была видна железная дорога с нестерпимо грустными электричками, проносящимися мимо с диким заунывным воем, – и, наконец, мерцающий вдали глаз семафора, застывающая мгла, деревня с зажженными окнами, палисадники, люди, настороженно оглядывающиеся в темноте, – она без этого всего не могла бы уже жить, это было ее ежевечернее переживание, похожее на молитву, и потом, когда Фирсановка кончилась навсегда, Вера часто вглядывалась в эту картинку, она по-прежнему стояла перед глазами во всех подробностях.
В сущности, она ходила на станцию как бы «встречать Сережу», телефона на даче не было, в поселке тоже был вечно сломан, – поэтому ходила она часто наугад, даже не зная зачем, он не обещал и не должен был, но она одевала ребенка и все равно шла, сорок минут туда и сорок обратно, к восьмичасовой электричке, чтобы увидеть редкую тихую толпу, бредущую от станции, и ощутить невыразимо сладкую грусть…
Но возвращаться было легко – ее ждал теплый светлый дом, полный голосов и любви, сияющий в темноте.
В туалете (туалет был в доме) она как-то нашла целую подшивку журнала «Time», это был привет из другого мира, откуда-то из 60-х, когда все эти «приветы» были так важны, так значимы, обозначали так много, а теперь это была просто крашеная бумага, пожелтевшие столбцы текста, она пробовала читать из интереса и бросила – все было настолько древним, забытым, нелепым, все эти непонятные американские реалии, оставалось лишь рассматривать картинки, рекламу. Тут она наткнулась на близкую для себя символику – рекламу чего-то детского, на картинке был карапуз с ярко-розовым румянцем во всю щеку, эти ярко-розовые пятна на щеках были ее кошмаром, Алена расчесывала щеки целыми днями, орала ночами, нейродермит, аллергия, врачи пожимали плечами, когда узнавали, что она бросила кормить грудью еще два месяца назад, «что ж вы хотите» – это была железная доктрина советской педиатрии, кормить столько, сколько сможете: год, полтора, прививки вовремя, молочные продукты только с кухни детского питания, никаких новшеств, никакой отсебятины, с этими врачами она перестала знаться вообще, посещая поликлиники только по крайней необходимости, приезжали из Москвы другие, платные врачи на Мишиных «Жигулях», подруга Коноплева все это не очень понимала, пожимала плечами, когда в карман платному педиатру Толе Волкову отправлялась очередная двадцатка, а что делать, этих баб из поликлиники она просто видеть не могла, с их запахом, с их поджатыми губами, с их вечной усталостью работников социальной медицины. Доктор должен помогать, а не карать, а они приходили порой, только чтобы выговаривать, осуждать, казнить…
– Да что ты мелешь, что ты придумываешь! – набрасывалась на нее Коноплева, когда опять заходил разговор об этом и опять нужен был Толя Волков. – Все это у тебя внутри, вся эта паника, от которой он якобы избавляет, избавься от нее сама!
Но она избавиться не могла, Алена расчесывала по ночам щеки до крови, и это было страшно.
А в мае вдруг начался съезд народных депутатов – она и не слышала ничего, сидя тут, в Фирсановке, про эти самые выборы, краем уха какие-то обрывки разговоров, и вдруг такое.
Она сразу приникла к радиоприемнику.
Это был старенький «Сокол», ловил он хорошо, стабильно, она тщательно вытирала старую клеенку на круглом столе, в мелкий цветочек, и дальше он звучал на застекленной веранде целый день с небольшими перерывами.
Кухня в этом огромном доме была, как ни странно, совсем маленькая, без окна. В ней «Сокол» принимал чуть похуже, но все-таки принимал. Поэтому готовить она старалась на веранде. Старую газету расстилала на клеенке, чистила на ней картошку. Пальцы были черные, кожура слезала осклизло, со скрипом.
«Нам нужно утвердить повестку дня и порядок работы Съезда. Хочу проинформировать народных депутатов СССР, Съезд, что вчера по вашему полномочию заседали представители групп народных депутатов СССР, 446 человек. Заседали в течение девяти часов и самым тщательным образом обсуждали эти вопросы для того, чтобы подготовить вам по ним предложения».
Если нужно было стоять у плиты, что-то варить, тушить, жарить, кипятить – прихватывала радиоприемник с собой. На кухне вечером свет был только от лампочки без абажура. Да и в дневное царил слабый полумрак.
«Народный депутат Андрей Дмитриевич Сахаров… Пожалуйста, Андрей Дмитриевич! Уважаемые народные депутаты… Кандидаты должны представить свою политическую платформу. Михаил Сергеевич Горбачев, который был родоначальником перестройки, с чьим именем связано начало процесса перестройки и руководство страной на протяжении четырех лет, должен сказать о том, что произошло в нашей стране за эти четыре года. Он должен сказать и о достижениях, и об ошибках, сказать об этом самокритично. И от этого тоже будет зависеть наша позиция».
Она резала овощи, варила, перемалывала в пюре, пробовала, добавляла чуть-чуть соли, снова пробовала, сдувала мокрые волосы со лба, перевязывала косынкой, помешивала ложкой и слушала, слушала, слушала, она вся превратилась в слух, это было самое интересное, что она слышала в своей жизни вообще, разбуди ее через двадцать лет и опять спроси, она бы ответила так же – это было самое интересное, что она слышала в своей жизни.
Коноплева ее в этом не поддерживала, иногда чутко, как-то хищно прислушивалась, раздраженно хмурилась, фыркала, говорила иногда безапелляционно:
– Ничего они не решат!
Тогда Брезикайте с Коноплевой ругались, но недолго, у детей был разный режим, и она спокойно слушала съезд опять одна – на кухне или на веранде, в крайнем случае уносила радио наверх, наконец Коноплева не выдержала и глубоко уже вечером, за чаем, просила:
– Ну что там, расскажи?
Пожимая плечами и волнуясь, что не донесет, расплескает по дороге, она начинала говорить, и тут выяснялось, однако, что она выучила наизусть уже десятки новых фамилий: Сахаров, ну это, предположим, была не новая, Ельцин, Собчак, Афанасьев, Попов, Мурашев, Ландсбергис, Гдлян, Иванов, Болдырев, Станкевич… Она произносила их и понимала, что эти фамилии не то чтобы музыкальны или символичны, нет, но они – как шифр не известного ей языка, и она учит его каждый день, как туземец или, наоборот, как англичанин в какой-нибудь Африке учит местный суахили.
Наступили жаркие дни (внезапно), в окна застекленной веранды бились майские жуки: тупо, громко, своими усатыми черными головами, тогда они распахнули створки окна, с трудом вырвав из пазов проржавевшие шпингалеты, и вдруг услышали, что точно так же этот самый съезд слушает весь поселок, голос выступающего (кажется, это был как раз Анатолий Собчак) разносился очень далеко, усиленный всеми телевизорами, всеми приемниками, и дальше еще открыты были двери всех машин, двери всех магазинов, где тоже звучало радио, люди превратились в слух, голос плыл над подмосковными лесами, над Москвой, над страной, над небом, и она задохнулась от какого-то детского, нелепого восторга, но тут же с собой справилась.
Ночью был такой случай, в сущности один из многих, когда к ним пришли из поселка какие-то парни, пьяные, это было очень страшно, парни гоготали, хрустели ветками на участке, что-то выясняли между собой, дети спали крепко, сладко, а они с Коноплевой, конечно, проснулись и шипели в темноте, спрашивая друг друга, зажигать ли им свет, было очень страшно, Коноплева говорила, что зажигать не нужно, что постоят и уйдут, а она говорила, что нужно, что они орут специально, чтобы понять, есть кто в доме или нет, и если решат, что нет, то пойдут ломать дверь, что это банда, которую нужно отогнать, тогда Коноплева зажгла керосиновую лампу и пошла на второй этаж за ружьем, в доме было ружье, мелкашка, без патронов, она встала у дверей наперевес, в ночной рубашке, резиновых сапогах, а Брезикайте открыла дверь, надела пальто, вышла на крыльцо и стала разговаривать, она сказала, что у них маленькие дети, мальчик и девочка, которые спят, и будить их не надо, что есть сигнализация и есть телефон, что приедут мужья, и один из них работает в Моссовете, в общем, несла крутой бред, парни сначала отвечали грубо, но потом Коноплева сообразила и стала зажигать свет во всех комнатах, дом был большой, и когда он засиял во тьме, они ушли, сказав в сердцах, что обязательно придут еще раз и поговорят с этими самыми мужьями, которые работают в Моссовете, по-хорошему, но все успокоилось, и только колени дрожали крупной дрожью, а Коноплева так просто стала растирать по щекам слезы, они достали бутылку водки, выпили по полстакана и не спали до утра, опасаясь новых визитов, но утром пенсионер дядя Миша их успокоил, сказав, что он все слышал, что парни не местные, и если они еще раз сунутся, их ребята прибьют, потому что ребята тут нормальные и своих в обиду не дадут.
Прошел день, и страх тоже как-то прошел.
В субботу приехал Сережа, они поужинали при свете керосиновой лампы (электричество отключили) и пошли спать, в темноте Вера рассказала ему всю историю, он вдруг рассмеялся, его насмешило, что Коноплева стояла с незаряженным ружьем наизготовку, ну ты понимаешь, что нас могли убить, ограбить, еще что-то сделать, тихо спросила она, он осекся, но улыбка продолжала кривить его лицо, наверное, это была психологическая реакция, но ей было наплевать.
– Что мне с тобой делать, Сереж? – спросила она, закрыв лицо руками. – Кто ты вообще? Какой-то дачный муж, приезжаешь раз в неделю, привозишь продукты, да и то в основном Миша их привозит, что здесь с нами будет, никому не известно…
Он обнял, стал утешать, повел себя правильно, не стал обижаться, хотя слова ее были несправедливы – этот дом оплачивал он, и деньги на еду тоже были его, и вообще без него ничего бы этого не было, жизнь стояла на нем, на его нежности, хоть и редкой, но она чувствовала себя покинутой, все было как-то очень эфемерно – она отдалялась от него с каждым днем этой дачной Фирсановки, уплывала, становилась пленницей этих бесконечных закатов, этих поздних завтраков, этих долгих книг, и только трезвая Коноплева возвращала ее к реальности, Вера всю ночь не спала, плакала и утром все ей рассказала.
– Ну и что? – сухо сказала Коноплева. – Ты меня тут одну хочешь бросить, что ли?
– Конечно, нет! – рассердилась она.
– Ну съезди, съезди, – смилостивилась Коноплева. – Потрахайся. Ты мне тут такая не нужна.
Она обиделась, потом засмеялась, потом позвала Сережу и объявила ему, что ей надо съездить в Москву, на работу, забрать оттуда справку, и она едет с ним в Москву, на один день, без Алены, с которой пока посидит подруга Коноплева.
– Ты понял? – сказала она строго.
Он сидел какой-то обалдевший, потом просиял.
Вечером этого дня, когда они пролежали в постели уже часов шесть и она уже больше не могла, в смысле лежать, да и он уже ничего не мог давно, она встала и пошла на кухню.
На кухне был, конечно, полный бардак, но это ладно, она зажгла свет, посмотрела на часы и вдруг подумала, что через час примерно Коноплева начнет купать детей перед сном.
Это был главный, самый любимый момент дня.
Она вдруг сейчас это поняла – что самый любимый.
Сначала долго грели воду. Пока грели – нагревалась и сама кухня, все-таки без окна воздух тут был сырой, тяжелый. В принципе в доме был душ, но такой старый, такой заржавленный, что купать детей там не рисковали. Мыли в тазу.
Таз ставили на пол.
Потом вливали кипяток, потом смешивали с холодной водой. Мыли волосы, дети терли глаза, орали, не давались, но их все равно мыли, потом вынимали, ставили на табуретку, накрывали большим махровым полотенцем, от них пахло чем-то таким, от чего замирало сердце, потом прижимали к себе и несли в постель. Да, и еще мыли грязные ноги, всегда грязные ноги.
Дети становились розовые, были похожи на ангелов, и она думала, что ради этих минут можно жить дальше.
Это была довольно короткая, но ясная мысль.
А теперь Коноплева моет их одна, по очереди.
Она взяла Сережины сигареты, нервно закурила, задумалась.
Он пришел попить водички.
– Ты чего?
– Пораньше завтра уеду, – мягко сказала она. – Волнуюсь сильно. Прости.
– А говорила, на два дня… – неопределенно сказал он. – А как же работа?
– Да хрен с ней. Не могу без Фирсановки, видишь.
– Чего ты Алену-то не взяла? – вдруг завелся он.
– Да ладно, Сереж… – прижалась она к нему. – Все же хорошо… Как солдат, домой на побывку съездила.
Он помолчал.
– Знаешь… – сказал он вдруг. – Не оформляют меня.
– Что-что? – не поняла она. – Как не оформляют?
Он играл в оркестре и должен был поехать на гастроли. Берлин, Прага, все дела. Летние гастроли. Об этом только и было разговора весь предыдущий год.
– Не оформляют.
– Но почему?
– Откуда я знаю? Потому что еврей. Потому что беспартийный. Потому что неблагонадежный. Потому что старшие товарищи не поручились. Потому что потому.
Она растерялась.
На его горе – а это было горе – она ответить ничем не могла. Поняла, как отдалилась за это время. За эти полгода.
Снова прижалась и снова поцеловала.
– Говнюки…
Он оттаял.
– Да ладно, – с некоторым трудом он улыбнулся. – Хоть бы у вас там все было хорошо.
Это было зимой, перед Новым годом (Новый год встречали весело, знатно встречали, Миша достал курицу и шампанское, дети орали благим матом, когда зажгли елку, скакали вокруг нее как бешеные, снег, луна, даже бенгальские огни на улице, воздух стоял в каком-то мареве, сиянии, даже странно было думать, что такое можно делать и в городе, в квартире – конечно нет).
А весной, где-то в апреле, Сережа с Коноплевым внезапно приехали в Фирсановку и привезли страшное известие: убили Ельцина.
– Как убили? – ахнула Брезикайте. – Когда убили?
– Подробностей пока нет, – сурово сказал Коноплев. – Мне знакомый позвонил, говорит, все точно, он в КГБ работает.
Ее душили слезы. Подруга смотрела отчужденно, отворачивалась.
Вера пошла куда-то вокруг дома.
Было так страшно, что она села на какое-то поваленное дерево, сжала виски ладонями.
Нет, не только его было жалко, было жалко себя, своих надежд. Вот того дня, когда они открыли окно на веранде и слушали вместе съезд.
Черт, черт, черт.
Ветер прошелестел сухими ветками. Так прошел час.
– Живой, живой! – заорала Коноплева. И стала ее обнимать. – Какая ж ты у меня дура, а? Какая ж ты дура…
Но лето принесло еще более мрачные вести – появились какие-то листовки о еврейских погромах.
И они вдруг решили уезжать.
Вначале она не верила, но все оказалось серьезно. Теперь это, оказывается, стало легко: оформить загранпаспорт.
Во время какого-то фестиваля Сережа познакомился с ребятами из немецкой театральной компании, им нужен был маленький оркестр, классический, для постановки «Короля Лира», и они его пригласили – русские музыканты были очень хорошие и стоили дешево, он играл все – классику, джаз, авангард, готов был жить в палатке, лишь бы отсюда.
Хоть чучелком, хоть тушкой.
Он повторял этот тупой анекдот долгими вечерами, сидя на той самой веранде и держа на коленях Алену.
Та преданно смотрела ему в глаза.
Три месяца, пока оформляли документы, прошли как в угаре. Билеты взяли на международный поезд – двое суток с Белорусского вокзала. Продавали все, что можно, покупали золото, икру, шубу, все, что можно было там продать. Она металась от родителей в Фирсановку, где преданная Коноплева сидела с двумя, сочувствуя всей душой.
…Мама купила ей шубу и лисью шапку за какие-то дикие 1500 рублей. Шубу пришлось как-то очень сложно доставать, через какую-то подругу детства. Отказники, которые сидели на чемоданах, а теперь раздумали уезжать, отдавали ей всякие вещи – для своих. Она записывала адреса, телефоны. Металась по Москве.
Наконец их погрузили в поезд.
Вера вышла на вокзале в Берлине. Было довольно тепло. Их встречали два типа, которые показались ей алкоголиками – в каких-то мятых, рваных джинсах, патлатые, нечесаные, от них разило перегаром. Она вышла в шубе и лисьей шапке, на высоких каблуках.
Их скарб сразу погрузили в микроавтобус.
Ехали долго, день и ночь.
Утром привезли в какую-то французскую деревню, где была резиденция оркестра.
И начались репетиции.
Это была совершенно бешеная жизнь: она разбирала и собирала декорации, таскала на себе тяжелые балки, продавала билеты, вела всю кассу, закупала продукты, кормила труппу, начала шить костюмы, помогать режиссеру, учила язык, переписывала пьесу для актеров, утешала Сережу, у которого «не шло», училась ездить на машине, возила детей в школу, господи, покупала марихуану, колесила вместе с театром по Австралии, смотрела на звезды, жила сегодняшним днем, уставала как лошадь, здесь не было друзей и подруг, здесь были люди, которые работали, и она привыкала жить среди них. Наконец однажды она обнаружила, что Алене исполнилось пять лет и она вообще не говорит на русском языке.
Она стала читать с ней русские книги (достала у знакомых в Париже), но это не помогало.
Сережа привык.
– А че мне там делать? – говорил он про Россию.
Наконец она решилась и позвонила подруге Коноплевой.
– Господи! – орала она. – Это ты? Неужели это ты?
Твердая, жесткая, прямая как доска Коноплева вдруг заплакала.
– Почему ты не звонишь? – рыдала она в трубку.
Они всласть наговорились, и Вера поехала обратно к своим шатрам (они жили в шатрах).
В Россию они с мужем вернулись через два года.
Дом в Фирсановке был заколочен, другой в этом месте они снимать не стали. Сережа сказал, что поищет на Киевском направлении.
Она осторожно открыла калитку, зашла в сад и посидела на крыльце.
Она любила тогда сидеть на крыльце.
Мысли отпускали, и на сердце становилось легко.
Ковбой Мальборо
Этот пакет подарил нам Рамиль – кажется, на Ленкин день рождения.
Это был шикарный новенький пакет с напечатанным на нем ковбоем. Ковбой был не просто какой-то там левый ковбой, каких много появилось потом, а реальный, настоящий, тот самый ковбой Мальборо, держащий коня под уздцы, в синеватой шляпе, причем у шляпы был ремешок, и ремешок аккуратно подпирал мощную челюсть, из-под полей шляпы выдвигался жесткий рот, слегка небритые щеки (а может, они были все-таки бритые?), ну и, конечно, джинсовая куртка с заклепками на карманах. За головой ковбоя Мальборо виднелись синие горы. За синими горами виднелось голубое небо.
Пакет был адски прочный и невероятно красивый.
Ленка смотрела на пакет с восхищением. И на Рамиля тоже.
Рамиль, который был как-то не очень уверен в подарке, застенчиво сказал:
– Ну короче, в хозяйстве пригодится!
Ленка обняла его и расцеловала от полноты чувств.
Пакет прослужил нам долгих шесть или семь лет.
Когда мы ехали с ним в метро – в первый и во второй год жизни пакета – мы чувствовали себя довольно гордо. Люди на нас смотрели с интересом и даже с некоторой ревностью. Никаких пластиковых пакетов, тем более вот таких, фирменных, в реальной жизни еще не существовало. Люди ими не пользовались просто так, для бытовых надобностей. Только для подарков и особых случаев.
Постепенно, правда, ковбой Мальборо тускнел и выцветал. Я с грустью смотрел в его некогда жесткие и образцово мужские черты лица.
«Вот так и я когда-нибудь потускнею, и никакая шляпа мне не поможет», – думал я.
Дело в том, что Ленка не хотела выбрасывать пакет, он был очень прочный и удобный. Поэтому она его стирала и потом мокрым приклеивала к кафельной плитке в ванной. Когда пакет просыхал, он шумно падал вниз, вновь становясь чистым и годным к употреблению.
А употребляли мы его так.
Я помню, как в 1986-м, кажется, году – я вез в нем то ли пять, то ли шесть килограммов черной смородины. Для этого мне пришлось съездить на рынок, в Кратово, а мы тогда летом жили на 42-м километре. Ленка предложила сгонять на велосипеде, но я решил, что такой огромный пакет, да еще с нежной ягодой, я на руле просто не довезу, а корзинки на багажнике у меня не было.
…Смородину у бабок я купил быстро.
А вот электричку ждал долго. На платформе стояли люди: девушки в летних платьях, мятые мужики с похмелья (почему-то таких всегда много на пригородных маршрутах), усталые военные, крепкие старички с рюкзаками и какими-то саженцами. Было жарко, хотелось кваса, зеленого салата, уйти в тень, развалиться на раскладушке, а я стоял как дурак с пакетом «Мальборо», набитым черной смородиной, и все на меня нехорошо косились.
Потом мы влезли в электричку – с некоторым трудом: в тамбуре стоял велосипедист, и к нему прижималась какая-то девушка в летнем платье, а он курил.
– Смотри, какой у него пакет хороший… – громким шепотом сказала она. – Я тоже такой хочу.
Велосипедист презрительно посмотрел на меня, и я покраснел.
Ленка в тот день впервые в жизни решила сварить варенье. Она взяла эмалированный таз, который уже частично облупился от многолетнего использования, купила в магазине три кило сахарного песку, поставила таз на плиту и начала варить ягоды на медленном огне. Постепенно кухня наполнилась запахом средневековой алхимической лаборатории. Было очень жарко, Ленка покраснела, со лба лил пот, она пила воду, пробовала варенье, облизывала губы и с ненужной частотой яростно помешивала свою ягодную алхимию поварешкой. А я любовался…
Это был первый опыт, женская инициация, прорыв в незнаемое, как писал Маяковский, я вышел на участок и посмотрел на сосны, которые в вышине качались от ветра. Там очень высокие сосны, на 42-м километре. Мало в моей жизни было таких счастливых, наполненных и вместе с тем абсолютно пустых моментов, пустых в том смысле, что для них ничего не нужно, они не пускают в себя ничего другого – это, разумеется, свойство абсолютной пустоты.
В другой раз я наполнил пакет «Мальборо» бумажными подгузниками производства целлюлозно-бумажной фабрики г. Кандалакша Карельской АССР.
Это было так.
Я сидел в редакции, когда в шесть часов позвонила Ленка и сказала напряженным голосом, что она обзвонила все магазины города Москвы и нашла подгузники в одном-единственном, на улице 1905 года, там как раз недавно открылся «Детский мир».
Эти самые подгузники начали производить только что, буквально год или полтора назад, при перестройке, это был наш дешевый и гигиеничный ответ вредным американским памперсам, производили их (экспериментальным образом) только в Кандалакше, и это был реальный дефицит.
До этого все просто шили подгузники из марли, которые нужно было каждый вечер исступленно стирать. Это была такая серьезная мужская работа – стирать подгузники по ночам.
Эти новые, горбачевские подгузники, такие же важные, как гласность или перестройка, не нужно было стирать – а нужно было выбрасывать или закапывать в землю. Помню эти гигантские ямы, которые мы с тестем рыли на 42-м километре.
Так вот, она позвонила в шесть вечера и напряженным голосом сказала, чтобы я все бросал и немедленно мчался на улицу 1905 года.
– Я не могу немедленно мчаться, – терпеливо сказал я ей. – Я занят.
– Знаешь… – тихо сказала Ленка. – Без них домой не приходи. Магазин до семи.
В трубке раздались короткие гудки. «Ладно, – вдруг подумал я. – Обойдутся и без меня. Слава богу, мой материал в номере не стоит». Я посмотрел на часы и медленно, тихо начал собираться.
На улицу 1905 года я решил добираться на общественном транспорте, а подгузники везти уже на такси.
…Мы с Ленкой еще успели пообщаться о том, сколько брать.
– Не знаю, – сказала она. – Привези сколько сможешь. Хоть пару пачек. Я больше так не могу, без них.
Я приехал в «Детский мир» без десяти семь.
В магазине было, как ни странно, довольно пусто.
Продавщица посмотрела на меня. Я так запыхался, пока бежал от метро, что она поняла всю серьезность моего положения.
– Вам сколько? – спросила продавщица, глядя на меня внимательно и строго.
– Не знаю, – честно ответил я.
– Думайте быстрее, – терпеливо сказала мне эта великая добрая женщина. – Я через десять минут закрываюсь.
Я пересчитал деньги.
– А сколько у вас есть? – спросил я.
Она вздохнула и пошла в подсобку пересчитывать ящики.
Ящики были легкие, картонные, какие-то невесомые. В каждом помещалось по двадцать упаковок. Одной упаковки хватало примерно на полнедели. Приближались майские праздники и потом лето, 42-й километр, с неудержимой скоростью.
– Три ящика осталось – сердобольно сказала она. – Все возьмете?
…Я вышел на черную апрельскую улицу и поймал такси.
– Шеф, – честно сказал я. – подгузники надо отвезти, на Аргуновскую. Три ящика.
– Большие ящики-то? – лениво спросил он. – На заднее сиденье влезут?
– Наверное… – сказал я. – Я сейчас, через три минуты…
Касса уже закрывалась. Я быстро рванул, выбил чек и начал переносить ящики. Они разваливались буквально у меня в руках. Я держал легкие, рвущиеся, белые упаковки грудью, плечом, лицом, подбородком, но все было бесполезно.
Тогда выпавшие упаковки я взял и запихал в пакет «Мальборо».
Он у меня как раз был с собой…
Вообще пакет «Мальборо» Ленка активно использовала сама примерно года два. И мне в общем-то не разрешала им пользоваться.
Ну, например, ей нужно было перевозить объемную вещь. Скажем, она хотела купить на день рождения рубашку – мне, Сане Рабину или тому же Рамилю, ну то есть близкому человеку. Она тогда ехала в магазин «Мужские сорочки» на Большой Чертановской улице, выбирала, платила рублей десять и гордо везла в пакете «Мальборо». Ну а в чем еще было это везти? Или она забирала пальто из химчистки. Ну не в руках же его тащить?
Однако через два года, когда прекрасное мужественное лицо на синем фоне гор и неба окончательно побледнело, пакет постепенно перешел в мои руки. Дело в том, что ковбой был какой-то невероятной прочности. Он не рвался вообще. Я не носил в нем, конечно, золотых слитков и металлических болванок, не было надобности. Но ведь разные случаи происходили…
Началось, например, такое время, когда в грузовиках или даже в легковушках стали развозить по московским дворам колхозную картошку. Раньше это было нельзя, а теперь стало можно.
Картошка была хорошая: липецкая, тамбовская, рязанская, но очень грязная.
Терпеливые мужики, которые приезжали на целый день, тихо курили, тихо отгружали и рекомендовали брать побольше, на всю зиму, – с интересом смотрели на наш московский пейзаж.
На эти зеленые дворы, на гуляющих малышей, на постепенно зажигающиеся окна.
Картошка тогда была главным продуктом. Особенно в семьях, где были маленькие дети, а таких семей было много.
Особенно это было актуально для нашей семьи, у нас было целых два маленьких ребенка, а к тому же доктор, домашний частный педиатр, есть продукты из магазина нам попросту запретил.
– Ну вот лучше вообще ничего там не покупайте, – просто сказал он. – Ну самые необходимые вещи: крупу там, не знаю, соль. Все остальное – лучше с рынка.
Это был красавец мужчина, высокий, косая сажень в плечах, черная борода, внимательный взгляд, когда-то он работал на «скорой», теперь в больнице, был неплохим диагностом (однажды услышал, как кашляет ребенок, когда разговаривал с Ленкой по телефону, и безошибочно поставил коклюш, «лающий кашель», сказал он), но самое главное – он мог часами разговаривать с нервными, обезумевшими молодыми мамашами, успокаивая их и давая порой бессмысленные, но такие важные для их внутреннего психологического тонуса советы, – поэтому теперь я часто-часто мотался на рынок, покупал всякую репку, морковку, свеколку, которую Ленка варила и перетирала часами, а дети ею с удовольствием прицельно плевались, тем не менее все равно покрываясь красными пятнами после каждой еды.
Так вот, картошка – именно рыночная – была нашим главным блюдом, нашим спасением, кладовой солнца, и без нее было никак не пережить зиму, даже взрослым, не говоря уж о детях.
Это был девяностый, кажется, год… Или девяносто первый.
А может, и какой-то другой.
Я увидел, возвращаясь с работы, этот грузовик с открытым бортом – и буквально побежал к подъезду.
– Ленка! – закричал я с порога. – Там картошку привезли! В грузовике! То ли из Рязани, то ли еще откуда. Они уезжают скоро. Говорят, в темноте уже стоять надоело. Берите типа тару и бегите. Сколько брать?
– Сколько сможешь унести… – сурово сказала Ленка.
– Тогда давай ведро какое-нибудь.
– Где я тебе его возьму? Мусорное мыть?
– Нет, а какого-нибудь… старого у нас нет?
Я выскочил на балкон и стал переворачивать все вверх дном: ржавые санки, лыжи, какие-то оставшиеся от прежних жильцов совершенно не нужные мне столярные инструменты…
Наконец она не выдержала и крикнула:
– «Мальборо» возьми!
– А где он? – заорал я.
– Там… в шкафчике на кухне.
Никогда я не забуду этот ноябрьский пронзительно холодный вечер, в нашем старом московском дворе, с этими унылыми облетевшими тополями, с последними мамашами на детской площадке, смерзшимися цветами в палисадниках под окнами, с этими рядами зажженных окон, дорогие мои москвичи, всегда они были мне утешением, странным утешением в этой печальной, одинокой, рассыпающейся на части реальности, – эти бедные, горькие московские окна.
И этого мужика, который взял моего «Мальборо», внимательно поглядел и сказал:
– Доверху сыпать? Выдержит?
– Выдержит! – гордо сказал я. И верно, влезло то ли восемь, то ли девять кило. Я сбегал пару раз (на больше денег не было, еще до зарплаты надо было дожить) – и счастливый вернулся домой.
– Ну герой! – сказала Ленка. – Добытчик!
И поцеловала меня в губы.
Но и тогда, даже тогда ковбой Мальборо не порвался, ручки его не истрепались, он вновь отправился в стирку и в сушку, и, хотя это было уже смешно, мы берегли его и не выбрасывали.
Позднее я видел, конечно, такие пакеты, и не раз, когда начал ездить за границу, в аэропортовских магазинах duty free – в эти пакеты russo turisto, я в их числе, сгружали бесконечное количество дорогого алкоголя: литровые бутылки виски, текилы, французского коньяка, австрийского шнапса, итальянского вермута, португальского портвейна, кофейных и яичных ликеров, сюда же запихивали невообразимое количество табачных блоков, по двадцать штук, я пробовал эти другие пакеты с ковбоем Мальборо, я вглядывался в знакомое лицо, я понимал, что именно отсюда был родом и наш родной, любимый пакет, но какое-то странное чувство не оставляло меня – наш тогдашний пакет, начала 80-х, он был как-то прочнее.
Он был значительно крепче и прочнее, он мог выдержать все что угодно – даже и золотые слитки, наверное, смог бы.
Я даже принюхивался к этим пакетам, даже смотрел их на просвет – нет, не то. Не та плотность. Не та прочность. Не тот коленкор.
Разные вещи в разные годы носил я в «ковбое Мальборо» – бухло из соседнего магазина, когда приходили гости, рукописи страниц на триста, колбасу и мясо, когда они появились, книжки, включая собрания сочинений, мне кажется, я носил в нем даже детские гантели по полтора кило, странные объемные подарки типа модели яхты 1:49 – словом, много чего еще, уже в те годы, когда кооперативная промышленность освоила этот вид продукции, появилось огромное разнообразие пакетов и маек с английскими надписями, боже, чего там только не было, от «Я – экзистенциалист» до «Послушай, спереди я тоже ничего», – но один груз запомнился мне особенно ярко, и, может быть, он был одним из последних в длинном ряду этих превращений.
Я возил ребенка из детского сада, каждый день, издалека, потому что детский сад был частный, дорогой, с английским языком и «развивающими заданиями», а также уроками «русской народной борьбы, которая появилась на тысячу лет раньше кунг-фу», и в конце этого пути мы так уставали, что всегда – всегда! – заходили в «Детский мир» на Щербаковской.
Я помню, что в детстве (своем детстве) всегда стоял напротив отдела детских игрушек в каком-то полном отупении. Мама спрашивала, чего я хочу, но я ничего здесь никогда не хотел. Мне ничего не нравилось, кроме солдатиков. В том «Детском мире» на Щербаковской, в который мы заходили с ребенком каждый день, после долгой дороги из частного детского сада, мне всегда хотелось купить все.
Шагающего робота за десять рублей, модели иностранных машинок, «скорую помощь», пластмассовые автоматы, я не знаю что еще, конечно же «Лего», оно только что появилось и стоило баснословно.
Все было очень яркое и очень иностранное. Это была та сказка, о которой, как выяснилось, я мечтал всю жизнь.
Мы стояли и смотрели в абсолютном экстазе, оба.
Но однажды ребенок не выдержал и сказал:
– Но, папа, мы должны здесь что-то купить.
И вот я помню, как медленно, аккуратно разворачиваю ковбоя Мальборо и начинаю ссыпать туда самые разнообразные вещи; например, мы загрузили туда три(!) комплекта объемных солдатиков – американских, или натовских, как тогда говорили, в пятнистых комбинезонах, с ранцами, пулеметами, одухотворенными лицами – ведь они сражались за дело мира. Туда же пошли и немецкие, вермахт, которые дранг нах остен.
Потом мы загрузили того самого шагающего робота, он еще сверкал лампочками и что-то говорил неприятным голосом на иностранном языке.
Я загрузил туда продукцию отечественных оборонных предприятий – самосвал К-71 В – и… кажется, пару мячей. Каким-то чудом деньги у меня были.
Ковбой Мальборо впервые, как мне кажется, принимал в себя то, что ему было, ну в общем… как бы духовно близко и не должно было его раздражать. Но, как ни странно, именно этот момент послужил началом его конца.
Игрушки были качественные, твердые, острые – и они проделали в нашем пакете первую большую настоящую дыру.
Я еще крепился, ходил с ним за хлебом, сам по своей инициативе стирал и сам приклеивал к кафельной плитке, но Ленка уже смотрела с жалостью на эти мои потуги.
– Да выброси ты его. Сколько же можно, – однажды сказала она.
В завершение своего рассказа я хочу поговорить на, казалось бы, постороннюю для ковбоя Мальборо тему – а именно о наших отношениях с Ленкой.
Сейчас, когда прошло много лет, я могу говорить об этом совершенно спокойно и безо всякого стеснения.
Дело в том, что когда появились дети…
Ну понимаете какая вещь – в этой дурацкой «науке о браке» (слава богу, я вообще не знаю, о чем это и что это такое) есть, безусловно, одна глава, которая называется «кризис ребенка». Появляется ребенок, и все становится «как-то не так».
Так вот, у нас было ровно наоборот.
Когда это случилось, как раз только в этот момент все и стало «так». Я очень хорошо помню это чувство. Худая как смерть, вечно на этой даче без горячей воды, категорически не позволявшая к себе приближаться, она вызывала тогда во мне самое острое чувство.
Она была абсолютно поглощена детьми, она, как герой, бросалась на каждое новое непреодолимое препятствие – диатез, гланды, коклюш, да что там говорить, любая простуда становилась настоящей битвой за выживание.
Но когда я наклонялся над ней, в эти редкие минуты, когда было можно, и смотрел в ее глаза…
Словом, спасибо тебе, ковбой Мальборо.
Спасибо за все.
Над книгой работали
Редактор Татьяна Тимакова
Художественный редактор Валерий Калныньш
Корректор Людмила Евстифеева
Верстка Оксана Куракина
Издательство «Время»
letter@books.vremya.ru
Электронная версия книги подготовлена компанией Webkniga.ru, 2018
Примечания
1
Из статьи Александра Морозова.
(обратно)2
Стихи Владимира Салимона.
(обратно)









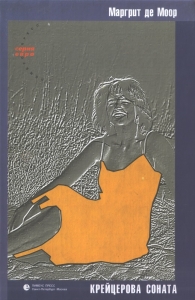
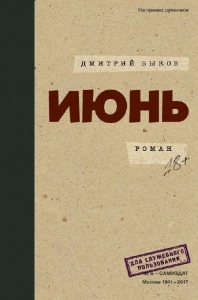
Комментарии к книге «Ковбой Мальборо, или Девушки 80-х», Борис Дорианович Минаев
Всего 0 комментариев