Валерий Борисович Бочков Берлинская латунь
© Бочков В., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Берлинская латунь
1
В моем американском путеводителе написано: «Декабрь в Берлине хмур, и город может произвести недружелюбное впечатление». Типично американское жеманство – мы вышли в непроглядную темень, промозглую и сырую. Сырость чуть-чуть не доползла до точки замерзания и сыпала колючей гадостью в лицо.
– Такие вещи нельзя показывать детям. – Мария сердито подняла воротник и, завладев моим локтем, потянула в сторону мутных огней Фридрихштрассе. – Просто не пускать с детьми, и все!
Выставка называлась «Топография террора». С немецкой дотошностью тут были собраны, классифицированы и выставлены тысячи документов, относящихся к истории СС. От начала двадцатых, от банды Шрека – дюжины пьянчуг, охранявших Адольфа во время его задиристых речей по пивнушкам Мюнхена, до рейхсколосса – гипертрофированной государственной структуры со своей кавалерией и танковыми частями. Кавалерийская дивизия игриво именовалась «Мария-Терезия» и каким-то образом избежала наказания в Нюрнберге.
В чернильном небе над низкорослым провинциальным горизонтом торчала телебашня с мерцающим стальным шаром – там смотровая площадка и дрянной ресторан, который мы спонтанно посетили накануне. После их венского шницеля я до полуночи глотал соду, мучаясь от свирепой изжоги. Впрочем, панорама из ресторана открывалась потрясающая.
Мария ткнулась холодным носом мне в щеку, от волос пахнуло незнакомым гостиничным шампунем – что-то фальшиво-еловое. Мостовая шла с едва уловимым уклоном, мы наступали на свои тающие тени, постепенно они слились с влажной чернотой асфальта. Мы вошли во мрак. Справа и слева таинственно темнел неосвещенный пустырь, там вполне могла таиться бездна, или пашня, или вообще что угодно. Слева бледнел кусок Стены, оставленный немцами на память самим себе о неукротимой настырности социализма, в данном случае не национального, а демократического.
– Знаешь, когда мне было девять лет… – начала Мария и сделала паузу.
Я знал: «…мы путешествовали по Европе, и в Амстердаме отец повел нас в музей Анны Франк». Слышал эту историю два раза, но, не сказав ничего, поощрительно кивнул, и она продолжила:
– Мы путешествовали по Европе, и в Амстердаме отец повел нас в музей Анны Франк. Такой обычный голландский дом – узкий, с крутыми тесными лестницами… на каком-то канале.
«Принсенграхт», – подумал я. В Амстердаме я бывал часто, играл во всех трех залах Концертгебау – в Зеркальном зале, на мой взгляд, лучшая акустика в Европе. Мне только исполнилось двадцать девять, был ранний апрель, с Королевским симфоническим мы записали ля-мажорный концерт Листа и «Пляску смерти» – сказочное время.
– Там была одна фотография, мутная, черно-белая. – Мария говорила тихо. – Из-за этой мути еще более жуткая… Знаешь, когда самые страшные детали сознание само додумывает?
Я кивнул, разглядывая пунктир красных огоньков, пульсирующих по игле телебашни.
– Их подвесили на крюках, как в мясной лавке. Ее и сестру. Или мать – я не помню, я лишь мельком взглянула и сразу зажмурилась. А потом мне это снилось: мясницкие крюки, сапоги по лестнице… Ахтунг, шнеллер! Снилось, что я под кроватью, они по полу фонариком рыщут, топают, ругаются. Немцы…
Я снова кивнул.
– И все из-за одной фотографии. – Она поежилась, шмыгнула носом. – О чем он вообще думал, когда тащил туда девятилетнего ребенка?
Я видел ее отца, основательного здоровяка в рубахе цвета закатного неба, всего однажды. На День благодарения. В Калифорнии. Не знаю про Амстердам, но там, в Санта-Монике, он явно прикидывал, сколько я еще собираюсь морочить голову его дочери. Мы остались на веранде вдвоем, под ногами скакали наглые калифорнийские воробьи, бойко стуча клювами в рыжую кафельную плитку. Я жмурился на солнце, тянул из горлышка лимонад, изображая райское блаженство. Так у них в Лос-Анджелесе принято. Он внимательно чистил апельсин перочинным ножом, стараясь не порвать длинную ленту кожуры. Оранжевые кольца змеились по поддельному мрамору стола. Очистив, молча протянул апельсин мне.
От одного воспоминания у меня поднялась изжога. Ехать с Марией в Берлин было глупостью. А еще трусостью и подлостью. Рубить надо было тогда, в начале декабря, когда возвращались из Хэмптона. Мария сама затеяла разговор, беспомощно и нервно обвиняя меня в эмоциональной дистрофии и душевном инфантилизме, что было правдой, но далеко не всей правдой. С торопливостью труса я перебил ее туманными заверениями, скомканными и косноязычными. Момент был упущен – и вот мы в Берлине.
– Еще звезды эти желтые. Им давали выкройки, представляешь? Выкройки и инструкции, куда ее пришивать, сколько там сантиметров от плеча, сколько до локтя. – Мария засеменила, пытаясь приладиться под меня. – Представляешь? Я бы просто не стала пришивать, и все.
Из тьмы послышались шаги, потом, шаркая, выплыл силуэт.
– Да. Иду по дороге. – Человек прижимал телефон к уху, половина лица мерцала сизым. – Темно. Ничего не видно. Какие-то люди идут навстречу. Темно, не понять.
Мария хмыкнула, потом повторила:
– Не стала бы, и все.
– Ну так ты ведь и не еврейка.
– А ты бы стал пришивать? Ведь ты ж наполовину…
– На четверть, – перебил я. – На четверть.
Мое отношение к еврейству – как в частности, так и в целом – простым не назовешь. С одной стороны, бабушка Лида (даже с того света, хотя иудеи и не верят в загробные кущи, что меня тоже несколько настораживает) дала моим родителям бесценный шанс уехать и увезти меня из подыхающей империи. А с другой – наша израильская виза оказалась лишь пропуском в свободный мир: ни у кого и в мыслях не было поднимать целинные земли Израиля. Так что наша семья, впрочем, как и миллионы других бывших совграждан, совершила классический тур Вена – Италия – Америка, оставив Землю обетованную при ее трефовом интересе. Малолетство мое может сойти за оправдание – тогда мне исполнилось лишь четырнадцать.
Корявыми контурами выплывали голые липы, потянуло теплом и едой. Опасливо выглянула луна и тут же исчезла в рваной прорехе. Мы выбрели наконец на Фридрихштрассе. Темень перетекла в моросящую зыбь желтых фонарей, казалось, тротуар был мелко усыпан битым стеклом.
Посередине проезжей части громоздилась фанерная будка пропускного пункта Чекпойнт Чарли – тут когда-то проверяли паспорта путешественников из капитализма в социализм и обратно. Дородная голландка, изрядно пьяная, позировала между двумя молодцами, наряженными солдатами, американцем и гэдээровцем. Они лениво помахивали мокрыми тряпками больших флагов. Голландцы мигали вспышками, гортанно чем-то восторгались, девица хохотала, потом стала звучно икать. Мария не удержалась, выудила из кармана камеру, незаметно сделала пару снимков. Откуда-то потянуло сгоревшими сосисками.
Мария права: духовный инфантилизм – моя беда, у меня душа даже не ребенка (поскольку ребенок-то как раз чист), у меня душа примата, макаки-резуса. Душа-зародыш. А может, даже и зародыша там нет, так, доброкачественная опухоль. Ведь бывает же ложная беременность со всеми внешними признаками, включая утреннюю тошноту и соленые огурцы? Я пытаюсь понять, как возник этот изъян, что и где нужно жечь каленой сталью, как укус гадюки. Если, конечно, еще не поздно и яд не успел растечься по всему телу, по всем органам. Не успел отравить мозг и сердце. Особенно сердце.
Тогда в машине, возвращаясь из Хэмптона, я уверял Марию в своей любви. Я не врал. Я продирался на ощупь беспомощными словами, корявыми и угловатыми. Упирался в глухие тупики, все запутывалось, становясь пошлым и глупым. Я не умею выражать чувства словами, всю жизнь меня учили другому.
Голландка звонко икнула, подалась вперед, и ее шумно вырвало на мостовую. Солдаты, отпрянув, прикрыли сапоги флагами, друзья-туристы заржали и принялись щелкать камерами, тут же отправляя снимки в Сеть.
– Ты можешь вообразить, что предки вот этих вот… – Мария брезгливо кивнула, – несколько веков назад переплыли океан и основали Манхэттен?
Она отвернулась, я обнял ее. Мы пошли в сторону Жандарменмаркт.
2
Не открывая глаз, я уже видел вязкое сырое небо. Будто политый черным лаком, сиял мокрый купол Французской церкви с вызывающе золотым ангелом на маковке; чуть левее, за невысокими крышами – двуглавая деревенская кирха в Николаифиртель, еще дальше маячила неизбежная телевышка. В брешь дремоты проник бой часов на какой-то башне, глухой и тягучий, словно звонили под водой. Звук, мешаясь с остатками сна, тянул и тянул в блаженную бездну. Вкралась какая-то неточность, пошла рябь, вот ангел растаял над куполом, исчез и купол, все куда-то сладко потекло, похоже, в сторону счастья. Кто-то прошептал: «Тихо… молчи. Пусть говорит ветер». Я согласился: «Пусть». «Ты ведь все равно никогда не скажешь лучше и яснее, чем это сделают белые облака своим скольжением по голубому небу». – «Я и не пытаюсь», – снова согласился я. «Вот и не пытайся», – прошептал кто-то.
Заснуть оказалось легче, чем я предполагал. На грани сознания и дремы возник толстый красивый военный, улыбчивый и хитрый. Палевый мундир, золотые крученые аксельбанты, в петлицах – бронзовые пропеллеры. Бывший пилот Геринг. Он предложил название «эскадрилья прикрытия», хоть уже давно не летал, но любил щеголять авиационными терминами. «Шутцштаффель» звучало хлестко и энергично. Сокращенно СС – тоже неплохо.
Гитлер никому не доверял разработку визуального бренда своей партии, сам усердно царапал наброски в карманном блокнотике на пружинке. Символом СС стали две белые руны «зиг» на черном фоне.
Адольф, послюнявив карандаш, затушевал покрепче фон, обвел контуром в виде щита. Художник он был неважный, без фантазии, знал это и пытался компенсировать хромой талант усердием. Начитавшись Кюммера, Гитлер верил, что руны служат мостом, соединяющим человека с древними арийскими богами. Каждая руна соответствует определенной позе. Он выставлял руки углом вбок и торжественно говорил:
– Кауна! Я – факел! Кауна! Ты чувствуешь жар, Мартин? – Фюрер, сияя мальчишеским задором, топырил тощие пальцы. – Я направляю рунический поток!
Руническая магия (как он считал) позволяла управлять различными энергетическими потоками, излучаемыми пятью космическими сферами. Для этого нужно лишь принять правильную руническую позу и настроить сознание на восприятие потока энергии, повторяя магическое заклинание. Рунический звук. В случае с огнем заклинанием было слово «кауна».
– Кауна! Жар! Ты чувствуешь жар?
Мартин не отвечал, у Мартина не было лица, лишь бледное пятно. Сознание растерянно шарило, впопыхах что-то нащупав, вытянуло и показало. Не то! Печеная голова министра пропаганды, черная, с беличьим оскалом и дырками вместо глаз. Вот гадость! Пытаясь стряхнуть видение, нырнул глубже, но сволочь Йозеф все испортил: за ним поплыли грязно-серые тела, голые, похожие на сломанных кукол без признаков пола, удивленно распахнутые печи крематория, кирпичные трубы с жирным дымом. Железный бульдозер сгребал тела в груды. Выбора не оставалось, я проснулся.
Дождь почти перестал. С площади донеслось нытье саксофона, кто-то фальшиво выдувал Гершвина. У бордюра стояло кремовое такси со спящим брюнетом за потным стеклом. Вспугнув пару голубей, мы перешли через пустую улицу, Мария на ходу пыталась отцепить шарф, пойманный на крючок сережки.
Ветер пахнул чем-то жаренным на углях, почти дьявольский запах для столь раннего часа. За маскарадной аркой с суетливо моргающей неоновой надписью «Вайнахтсмаркт» бледнели тугие шатры местной ярмарки. На шпилях шатров топорщились желтые звезды, похожие на морских ежей. В центре, где летом бил фонтан, высилась исполинская ель в разноцветных огнях. У полосатой будки при входе ряженый гренадер отрывал билеты. Делал он это строго и серьезно.
Мария замешкалась, выудила мелочь, наклонившись, опустила в футляр саксофониста. Тот, продолжая дудеть, улыбнулся ей бровями. На дне футляра валялись одинокая бумажка и несколько монет. Я отвернулся: все, что так или иначе касалось музыки, я воспринимал нервно и почти лично. И этот рыжеватый тип в войлочном буром пальто, с альт-саксофоном, казался мне почти родственником, вроде сводного брата. Того самого, которого ненавидишь и стыдишься и готов вычеркнуть из жизни. И которого жаль до слез.
На кованой инквизиторской жаровне – решетка висела на цепях, под ней в чугунном котле пылали угли – пеклись румяные сардельки из Тюрингии. Кожица лопалась, сок, шкворча, тек в огонь, в дыму и колбасном духе проворная девка орудовала кочергой. Другая, с ядреной шеей, весело наливала пиво. Я проглотил слюну и отвернулся.
В соседнем шатре торговали щетиной. Густобровый немец, с сединой в усах и широкой бороде, щурясь, с едва заметной ухмылкой разглядывал народ. Он явно знал про щетину что-то, о чем не догадывались наивные гуляки. Тут были кисти и щетки всех размеров и форм: щетки для одежды, для чистки обуви, какие-то микроскопические шомполы для чистки труб муравьиных диаметров, тут же щетка-великан – этой запросто можно надраить паркет в целом Версале. Я взял помазок для бритья, тронул упругую щетину ладонью. Немец хитро глянул на меня.
– И сколько? – спросил я неуверенно.
– Это бобер, – уклончиво ответил дядька. – Но летний.
– А зимний? – Я чувствовал, что втягиваюсь в какую-то игру. И оказался прав – бородач тут же выставил шесть помазков.
– Это зимний. – Он указал на один. – Бобер из Шварцвальда. Но не хвост.
– А этот? – Я ткнул в белесую кисть с точеной ручкой из липы.
Немец лишь посмотрел искоса. Подавшись вперед, проговорил вполголоса:
– Свиная. – Он чуть покачал головой, словно подавая тайный знак. – Жесткая, очень жесткая. Но старики любят, они привыкли. Любят, когда жестко.
Я подумал о тех стариках и представил, как они привыкали: простор и зной, кругом перезрелая рожь, на горячей броне «Тигров» белобрысые пацаны мылят щеки, ловко орудуя свиными помазками. Привыкают.
– Вот! – Дядька со стуком выставил на прилавок кисть, словно объявлял мне мат. – Вот! Зимний бобер, район Вислы и Одера. А главное – хвост!
Я покорно кивнул.
Грянула музыка. Мария потащила меня к елке, звуки веселья раздавались оттуда. Я выудил из кармана помазок и показал ей.
– Это что?
– Бобер с Вислы.
Вокруг сцены вовсю торговали глинтвейном, горько пахло мускатным орехом и корицей, горячим вином. Глювайн (так ласково, с голубиным воркованием называют этот напиток в Берлине) из дымящихся чанов разливали по керамическим кружкам. Мужик с лицом хулигана, но в роскошном цилиндре, выдал нашу порцию, сообщив, что берет пятерку под залог кружек. Подмигнув, предложил плеснуть в глинтвейн рому. Я согласился.
Алкоголь до полудня не входит в мой обычный рацион. Ром шибанул в нос, от горячего вина тут же поплыла голова. Я в три глотка прикончил свою порцию. Погода заметно улучшилась, музыка стала почти терпимой, Мария… Впрочем, Мария всегда была восхитительна. Она мне что-то говорила, я улыбался, согласно качая головой. Мимо текли милые немецкие лица: две кармелитки, неразличимые, как близняшки, обе в черном и в одинаковых белых наколках, с ангельской радостью взглянули на меня, рыжий пацан кормил толстую таксу шоколадом, та урчала и крутила упругим хвостом, усатый шарманщик в шляпе с пером весело вращал ручку пестрого ящика (на крышке была нарисована принцесса в лазоревом платье, из-за угла к ней скакал рыцарь, пробиваясь через золотые виноградные гроздья). Дородная красотка в тесном баварском костюме с пестрыми лентами василькового цвета раздавала с подноса вишню в сахарной пудре и ломтики яблочного пирога.
Наверху загорелся край облака, не спеша вынырнуло солнце, площадь с ярмаркой и двумя церквями по флангам тронулась и нежно поплыла. Я зажмурился и благодарно подставил лицо солнцу.
– Смотри! – Мария дернула меня за рукав. – Смотри!
Я открыл глаза. Это был самовар.
В шатре торговали старой дребеденью, выдаваемой за антиквариат, строгая готическая надпись на вывеске уверяла в этом.
– Все… – тихо сказала она. – Мы его сейчас купим.
Я молчал.
– Ты же знаешь, как я хочу настоящий самовар.
Я знал. Помнил, как загорелись ее глаза, когда, гуляя по набережной в Кони-Айленд, мы натолкнулись на мелкий развал разномастного хлама, разложенного на трех русских газетах тут же на обочине. Среди сюрреалистического винегрета из монет, наручных часов, гжельских чашек, значков «Снайпер», армейского бинокля в кожаном футляре и настоящего паспорта на имя гражданки Ковальчук стоял самовар. Настоящий тульский самовар.
Хмурый мужик, словно перенесенный сквозь пространство и время из моего детства – такие угрюмцы маялись по утрам у магазина «Вино-воды» на углу Тишинки и Второй Зоологической, – заломил невозможную цену. Мария торговаться не любила, потому что не умела. Мужик мрачно повторил «пятьсот», Мария беспомощно взглянула на меня, я пожал плечами, и мы пошли дальше, вдоль пестрого пляжа в сторону огромного «чертова колеса».
Здешний самовар стоил в пять раз дешевле. Торговка, немолодая немка, похожая на артистку Раневскую, почуяв поживу, оживилась.
– Очень хороший! Очень! – азартно заявила она. Ее английский был так себе, она пыталась компенсировать хилый словарный запас страстным напором. – Зер гут! Экстра квалитет![1]
– Зер гут… – повторила Мария, поглаживая тусклое пузо самовара. – Хабен зи… Кеннен зи… короче, как он к вам попал? Откуда? Вы знаете его историю?
Я отвернулся, улыбаясь. В этом была вся Мария – ее не интересовали вещи как таковые, для нее важнее всего была история предмета. Она презирала новую мебель, ненавидела современное жилье – мы жили в Гринвич-Виллидж в допотопном, узком, как пенал, доме с покатым полом и античной канализацией. По комнатам гуляли сквозняки, скрипучие двери не хотели закрываться, а в форточки лез плющ, которым окончательно зарос фасад. Но все это меркло рядом с фактом, что дому было почти сто лет и тут (по слухам, явно исходившим от мерзавца-арендатора) бывал сам Уорхол. В глухие предрассветные часы, когда я мучаюсь от бессонницы, мне приходят темные мысли, что я сам для нее не личность, живой человек Дмитрий Спирин, а любопытный артефакт с занятной историей – эмигрант, загадочный русский, не оправдавший надежды вундеркинд.
– Медный антиквариат! – Раневская выпятила круглую грудь в малиновом жакете. – Очень хорошая цена.
– Что она сказала? – повернулась ко мне Мария.
– Чушь несет, говорит, что из меди, – тихо ответил я. – Медь красная. А этот…
– А этот?
Самовар нуждался в чистке, он был тускл, в зеленых проплешинах патины. Я провел пальцем по вмятине на боку, повернул кран туда-сюда, брезгливо отряхнул перчатки.
– Этот? – В конце концов, я тут был единственным русским, не считая самовара. – Этот сделан из латуни. Латунь!
– Что такое латунь? – Мария любила точность во всем.
– Латунь, – уверенно начал я, – латунь – это сплав меди с… с другими металлами. Видишь, он желтый. Значит, не медь.
Немка настороженно наблюдала, пытаясь понять, о чем идет речь.
– Спроси, откуда у нее самовар, – попросила Мария.
В школе при Гнесинке я учил немецкий, иногда мне удается извлечь кое-какие языковые обломки из памяти, неизменный эффект производила декламация первых строф «Лорелеи», по непонятной причине навсегда засевших в моей голове.
– Она вообще не в курсе, – после короткой, но мучительной лингвистической пытки заявил я. – Кто-то принес, ее сестра купила. Похоже, она даже не знает, что это такое.
– Как это? – Мария недоверчиво посмотрела на меня. – Тогда тем более!
Она достала бумажник.
– Погоди… – Я знал, что это безнадежно, но продолжил: – Как мы эту дуру попрем? Через границу, аэропорт? В багаж нельзя, грузчики его угробят. А для ручной клади он велик. Да и потом, он наверняка течет. Где ты собираешься его лудить на Манхэттене?
– На Брайтоне наверняка есть старые русские мастера, – отрезала Мария, отсчитывая купюры. – И пожалуйста, прекрати свой славянский негативизм, может, он и не течет вовсе.
Самовар оказался тяжел, как грех, я не подавал вида, но благодарил бога, что до отеля три шага. Невозмутимый швейцар распахнул дверь, консьерж сдержанно кивнул, пожилая пара скандинавских туристов проводила нас странным взглядом. Мария не к месту пожелала всем: «Гутен абенд!»[2] – это уже из лифта.
– Ну и как эту сволочь тащить в Америку? – проворчал я, с грохотом опустил самовар в дальний угол, между нашими пустыми чемоданами.
– Слушай! А может, его русские солдаты привезли? – Мария схватила меня за руку. – Представляешь? Когда наступали на Берлин?
Я застонал, как от зубной боли. Тут же представил себе чумазых славян, облепивших броню «тридцатьчетверки», несущейся по Унтер-ден-Линден в сторону Бранденбургских ворот, солдаты все в медалях, весело палят из автоматов по окнам. Палят короткими очередями. Между очередями пьют чай. На башне танка дымит самовар.
– Чушь. – Я залез в холодильник, достал пиво. – Это чушь. Его приволок какой-нибудь поволжский Шульц или Мюллер, тракторист или комбайнер. В начале девяностых, после Стены они из Казахстана сюда косяком поперли.
– Кто попер? Куда? Почему Шульц?
Я отмахнулся, глотая ледяное пиво прямо из горлышка.
– Тут что-то написано. – Мария наклонилась. – Вроде клейма. Только из-за плесени ничего не разобрать.
– Не плесень, патина. – Я лениво поднялся, прошел в ванную, вернулся с полотенцем и тюбиком зубной пасты. – Где? – спросил небрежно.
Выдавив пасту, я размазал ее полотенцем по части круга, там, где проступали какие-то знаки. Мария завороженно следила за процессом. Я отпил пива, немного брызнул на засохшую пасту.
– Пиво?! – прошептала Мария.
– Спокойно. – Я был невозмутим.
Случилась некая химическая реакция, пиво дало обильную пену, я тут же с силой начал тереть. Убрал полотенце; очищенная часть крышки сияла.
– Как золото! – восхищенно прошептала Мария. – Надо же…
Я сам не ожидал, но, не подав виду, неспешно допил пиво и сунул бутылку в мусорную корзину. Мария подтащила самовар к окну.
– Медали… – Наклонившись, она водила пальцем по металлу. – Ну что ты там бродишь? Тут же на твоем языке написано, что, прочитать трудно?
Самовар, как и полагается приличному самовару, был родом из Тулы. Изготовлен на фабрике братьев Баташевых в 1867 году, рядом с фабричным клеймом теснились медали – пять штук в ряд. Разобрать без лупы, кто и за какие заслуги наградил наш самовар, оказалось невозможно.
– Эй, гляди! А это что? – Согбенная Мария разглядывала спину самовара. – Ноты! Точно, ноты…
Я поднял его, тяжелого черта, плюхнул в кресло. На задней стенке разобрал гравировку: нотный стан, ключ, несколько нот, разбитых на два такта. Мария, отодвинув меня, быстро выдавила пасту и принялась усердно тереть самоварный бок.
– Пивом надо полить, – бросила она, не оборачиваясь.
Я принес из ванной стакан воды.
Кроме нот, там была выгравирована надпись: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Anne-Lotte Dein Kurt-Kaninchen[3].
– Ну? – нетерпеливо спросила Мария. – Канинхен – это фамилия?
– Вряд ли… – Я провел пальцем по нотам. – Это «кролик». Вроде «целую крепко, твоя зайка»… Погоди…
Я облизнул губы и просвистел мелодию – два такта в соль-мажоре, всего девять нот.
– Что это? – Мария ласково поправила мне воротник рубашки. – Ты знаешь эту музыку?
– По двум тактам… – Я просвистел снова. – Хотя вроде… Звучит как шлягер. Или народное что-то. Но точно не Гендель.
– Кстати! Про Генделя! – вспомнила Мария. – В семь – концерт во Французской церкви.
3
Справа от алтаря, у амвона, стояла елка. Высокая, метра три, с пышной хвоей, я сразу уловил смолистый лесной дух. Немецкий аскетизм даже в украшении, никаких рубиновых шаров, золотых лент и прочей цыганской чепухи – строгие огоньки простых лампочек, без подмигиваний, на макушке – белая слюдяная звезда.
Вообще, душа немца должна петь уже на подходе, Жандарменмаркт – апофеоз архитектурной симметрии: Французская церковь была точной копией Немецкой церкви, одна замыкала южную оконечность площади, другая – северный фланг. Между ними громоздился Берлинский концертный зал – архитектурный двойник московского Большого, тоже с колесницей и Аполлоном на крыше. Неумолимую симметрию довершал памятник Шиллеру в центре площади, тоже симметричный и тоже на симметричном постаменте. Памятник был заложен в день столетия поэта и открыт точно через десять лет. Если площадь сложить пополам, то совпадение архитектурных элементов оказалось бы стопроцентным. Название площади – Жандарменмаркт – чуть царапает русское ухо: тут же представляется царский держиморда, красношеий, со злыми усищами и саблей на боку. На самом деле площадь обрела свое имя благодаря элитному полку прусских кирасиров-жандармов, чьи конюшни были разбиты здесь по приказу Фридриха Вильгельма почти триста лет назад.
Зал наполнялся, я разглядывал немецкие лица, Мария вынула аппарат, щелкнула двух тихих детей, дисциплинированно изучавших елку. Показала фото мне.
Для церкви здесь было слишком светло, впрочем, сейчас храм работал концертным залом. Вполне светским – в программу, помимо неизбежных в органном деле Генделя и Баха, попали французские импрессионисты и даже почти наш Чюрленис со своим прелюдом. Я сложил программку и вернул Марии, она придвинулась ко мне, коснулась губами моего виска. Я заметил мельком наши отражения в витраже, в темно-синем стекле – ее профиль, мое туманное лицо. За спиной на хорах что-то зашуршало, зал притих, кто-то смущенно кашлянул.
Зазвучал d-moll первого контрапункта «Искусства фуги». Я играл его на фортепьяно, хотя бог его знает, для какого инструмента писал Бах – в партитуре нет на это никаких указаний, но органная версия тоже вполне уместна. Мария чуть отодвинулась от меня – из уважения к Баху, скорее всего. Рука, покинув мою ладонь, прилежно легла на лакированный поручень кресла. Я прикрыл глаза, и тут же мои пальцы заскользили по клавишам, с безупречностью зеркала повторяя каждую ноту, каждый звук, замирая в паузах, словно на полувздохе, и снова бросаясь очертя голову в гудящий лабиринт звуков. Контрапункт третий, четвертая фуга: тему начинаем с ре-минора, модулируем в ля-минор, затем переходим в ля-мажор и успешно возвращаемся в ре-минор. Вот еще одна тема в ре-миноре: я встретил Марию в ноябре, в самом конце ноября. Три года назад. Три года и один месяц – будь я немцем, уточнил бы. Ноябрь на Манхэттене запросто загоняет в депрессию даже матерого оптимиста: октябрьские воспоминания о перламутровом мареве над Ист-Ривер, тыквенно-рыжем ковре шуршащего Центрального парка, неумолимо светлеющего и будто тянущегося ввысь, – все это к концу ноября выдыхается и переходит в разряд грез. В ноябре число самоубийств в Нью-Йорке возрастает на семь процентов и является самым высоким. Апрель – неизменный оптимист, что, впрочем, вполне объяснимо. Меня привезли в реанимацию госпиталя имени Рузвельта, потом сестра сказала, что меня спасли в той самой комнате, где умер Леннон. Четыре пули «дум-дум» разорвали все внутренности, у Джона не было ни одного шанса, даже если бы его застрелили в операционной. По больничной легенде, в момент смерти по местной трансляции случайно крутили «Битлз».
Я не помню, что передавали, когда привезли меня, скорее всего, какую-нибудь гадость из репертуара массажных кабинетов или комнаты ожидания зубных врачей. Я не Леннон, для меня не нашлось пуль «дум-дум», чертовы нижние соседи оказались дома и сразу увидели темное пятно, расползавшееся по потолку. Это была красноватая вода, которая переливалась через край моей ванны.
Больше всего я хотел поселиться в госпитале навсегда, но к концу месяца меня выписали. Оказалось, что я ничего не умею. Мелькнула даже шальная идея стать полицейским, хотя вряд ли бравый полицейский департамент Нью-Йорка польстился бы на пианиста-лауреата с суицидальным уклоном.
Беда была в том, что в деньгах я не нуждался. Даже после покупки дома во Флориде для матери и ее нового мужа (классического итальяшки-жиголо моего возраста) моих сбережений должно было хватить лет на десять. Мне нужно было чем-то себя занять. Меня звали преподавать в Джульярд, но на музыке в любых ее проявлениях я поставил крест.
Пройдоха Левка Карпинский (с его семьей мы познакомились лет сто назад на перевалочном пункте в Римини) устроил меня преподавать русский язык в некий международный фонд по укреплению каких-то связей. Левка знал всех, он отпустил рыжую бороду и работал профессиональным защитником интересов Израиля в США и даже пару раз летал в Иерусалим.
На книжном развале у Юнион-сквер я раскопал русско-английский разговорник для туристов за три доллара, и он стал в моем классе базовым учебным пособием.
Мария была безнадежна: она умудрялась даже в односложном слове поставить ударение не туда. Акцент ее звучал гротеском, половину русских букв она выговаривала как заблагорассудится, «ж», «ч» и особенно «щ» так и не покорились никогда. Звонкое «р» в моем имени превращалось в пюре из авокадо, впрочем, мне было все равно. Я механически отметил матовость кожи и тонкость ее лодыжек. Жизнь текла мутно и беззвучно, события происходили вне меня, я пребывал вне событий.
Закончился урок, я стоял у окна, разглядывая небо мышиного цвета. Дом на той стороне был уже наполовину в лесах, там бродили коренастые мексиканцы в ядовито-желтых касках. Мария подошла сзади и спросила, не соглашусь ли я поужинать с ней в среду. Ей хотелось получить частную консультацию по русскому языку (она так и выразилась), за ужин заплатит она, что и будет моим гонораром.
– В среду? – переспросил я.
По грязному снегу вытянулись фиолетовые тени, это солнце на миг протиснулось в небесную прореху. В среду я не мог: два раза в неделю ходил на принудительные сеансы психотерапии. Договорились на пятницу.
Ресторан оказался темный, тихий и дорогой. С фальшивыми венецианскими лампами тускло-рыжего цвета над каждым столом и сытыми официантами с плавными жестами. Про русский язык поговорить не удалось, что меня, как учителя-самозванца, вполне устроило.
Она развелась этим летом – сказала об этом скучно, слегка покручивая тонкими пальцами стройную ножку винного бокала. В рубиновой красноте плавал оранжевый блик от нашего персонального фонаря; я украдкой взглянул на Марию, оказалось, мы оба зачарованно следили за юрким огоньком. Она говорила, я кивал. Говорила, как муторно стало общаться с друзьями-приятелями: или благодушное притворство, или изысканный садизм с жеманным ковырянием в душе. Постепенно перестаешь звонить, не отвечаешь на звонки. Слава богу, весь день на работе. «Работа?» – из вежливости спросил я. Думал, ассистент или референт, мелкая манхэттенская плотвичка. Не тут-то было: Мария возглавляла аналитический отдел здоровенного банка, имя которого знал даже я. Так добрались до десерта.
Потом отвесно падал снег, мохнатый и ленивый. Мы тихо брели по примолкшему ночному городу, головы и плечи постепенно обрастали пушистым и белым. Неуклюжие большие снежинки цеплялись за ее ресницы, висели, не тая. Я рассказал про госпиталь, про соседа по палате – развеселого негра, который пытался отравиться газом, сунув голову в духовку.
Ноги ступали беззвучно, словно мы гуляли по пуху, желтые фонарные круги, аккуратно разложенные по тротуару, увели нас в закоулки Гринвич-Виллидж. Вспомнив совсем давнее, рассказал про Гнесинку, наши снежные битвы после уроков – клавишники против духовиков, после сражения все неслись гурьбой на крутую горку и до одури гоняли на нотных папках по свинцово-зеркальному льду.
– Странно… – Мария внимательно посмотрела на меня. – Я думала, ты учитель. Похож. А ты, оказывается…
– В сущности, – перебил я ее, – все это неважно.
Мне пришлось рассказать про руку, про чертов велосипед, про амстердамских костоправов. Я был очень благодарен Марии, что она не пыталась ободрить меня, а просто поцеловала в щеку сухими горячими губами.
4
Орган протрубил финальный аккорд, могучий ре-минор взлетел под купол храма и там величаво растаял. Зал замер, словно в изумлении, но тут же, опомнившись, грохнул аплодисментами. Этот миг, это мгновение тишины перед овацией меня добило: в горле стоял ком, я что-то буркнул Марии – та, продолжая хлопать вместе со всеми, удивленно посмотрела на меня. Я уже спешно протискивался к выходу. Скуластый швейцар, похожий на монгола, взглянул неодобрительно, но все-таки распахнул двери в темноту.
Я жадно вдохнул – зычно, со всхлипом, словно вынырнул с глубины. Воздух был сырой и холодный. Старушка в потертом лисьем жакете испуганно отпрянула, она слушала музыку через закрытые двери. Я сбежал по мокрым ступеням, с ярмарки доносилось веселое уханье барабана, над шатрами высилась черная елка с мутной колючей звездой. Дождь нащупал наконец свой ночной ритм и теперь безнаказанно мог лить до рассвета.
Я пересек Фридрихштрассе, хотел вернуться в отель, у самых дверей развернулся и быстро пошел в сторону Унтер-ден-Линден. На мостовой лежали желтые отсветы витрин закрытых магазинов, прохожих не было. У книжного ко мне прицепился нищий, мордатый, с мокрой челкой. Дышал мне в лицо кислым пивом, ругаясь по-немецки и требуя денег, проводил до перекрестка.
Я проскочил мимо тусклого окна какого-то бара. За стеклом застыл манящий покой, янтарный и тягучий. Я вернулся, толкнул дверь. Внутри оказалось темно и тесно.
Человек за стойкой одним плавным жестом выудил стакан, кинул лед и наполнил стакан бурбоном. Я влез на табурет и сделал большой глоток. Огляделся. Рядом сидел нахохленный англичанин, носатый и пьяный, похожий на портрет Листа из кабинета сольфеджио на третьем этаже. Тогда у меня были нелады с Листом, третья рапсодия. Сделал глоток, незаметно разглядывая британца.
– Алкоголь продолжает доставлять вам удовольствие? – спросил он неожиданно трезвым голосом с оттенком почти светской учтивости.
Я вызывающе хмыкнул, звякнул ледышками в стакане и медленно допил бурбон.
– Я не пил четыре месяца. – Он повернулся в профиль и стал похож на индейца с крепко сжатыми лиловыми губами. – Просто не хотел. И не пил.
Он сидел у окна, за ним влажно блестела черная берлинская ночь с молочными хвостами фонарей в мокром асфальте. Лампы тускло дымились паром.
– Как вы относитесь к людям? – Он сделал глоток, звонко поставил стакан на мрамор стола.
– Сожалею, что к ним отношусь.
Разговор явно загибал в сторону шаблонного философствования барного пошиба.
– О! – «Индеец» оценил юмор и с интересом повернулся, на крутой лоб упал лимонный блик. – В книжном магазине у меня ломит зубы, там вся эта дрянь, знаете, «Как стать богатым», «Как найти внутренний покой», «Как завоевать друзей и сделать карьеру».
Я согласно мотнул головой, бесшумный бармен тут же долил мне бурбона, приняв сигнал на свой счет.
– А я вот хочу написать… – он снова повернулся в профиль, – честную книгу, без соплей и вранья. Допустим… – он растопырил ладонь в ночное окно, – такой титул: «Умеренность – на хер! Работу и карьеру – в задницу! И не думай стать богатым: все равно все деньги у тебя отберут так или иначе».
– Вы писатель? – вкрадчиво спросил я и, не удержавшись, добавил: – Или анархист?
– Какие темы… – Он не обратил внимания на мое ехидство. – Как мало времени… Человеческая недолговечность определяет каждый аспект нашей жизни. Страх смерти становится страхом жизни.
Он наклонил голову, в глазу по-волчьи сверкнуло. Я незаметно сглотнул.
– Чем больше ты страшишься смерти, тем меньше в тебе остается жизни. Ты боишься жить. Страх смерти – он как страх темноты. Ты думаешь: если это случится со мной, как это будет, что я буду делать? С ума сойду от ужаса? Или что-то похуже?
Он замолчал. За его спиной в ночи неожиданно расцвела винно-красная гирлянда, по ней побежали искры огней, золотистых, лазоревых, из вензелей возникли буквы – «Вайнахтен». Я машинально сделал глоток, на секунду мне почудилось, что сейчас, именно в этот момент, я узнаю что-то важное, какую-то главную тайну жизни.
– Или что-то похуже… – Он запнулся, гирлянда за окном налилась малиновым и вдруг погасла. – Но узнать об этом ты сможешь только тогда. И не раньше.
Мне стало скучно. Я бы мог рассказать ему, но произносить слова показалось вдруг немыслимо тяжким трудом. Я бы мог рассказать, что ничего похуже там нет, что там вообще ничего нет. Нет ни туннеля, ни божественно-лучистого сияния в конце, нет никаких существ, сотканных из добра и света, радушно встречающих тебя. Что весь процесс умирания не более занятен, чем обычное засыпание. И что там – там просто ничего нет. Ровным счетом ничего.
Я полез за бумажником, раскрыл, пытаясь разобраться в радужных купюрах. Вытащил новенькую сотню, скользкую, с тонким ароматом машинного масла для денежных станков. Ожидая сдачи, запахнул пальто, скупо кивнул британцу – он меня здорово разочаровал. Всплыла мелодия с самовара, я просвистел два такта, замолчал. Неожиданно англичанин отозвался, просвистел еще два, а концовку пропел, удачно подражая Синатре:
– But you won’t see Mackie’s flick knife, Cause he’s slashed you and you’re dead.
Господи, конечно! Это был Мэкки-Мессер. Мэкки-нож из «Трехгрошовой оперы» Брехта. На самоваре были выгравированы два первых такта арии:
У акулы зубы – клинья, Все торчат, как напоказ. А у Мэкки – нож, и только, Да и тот укрыт от глаз.– Брехт, кстати, тот еще фрукт! – засмеялся британец сухо. – Тот еще! Вроде бы левак, а гнобил своих литературных холопов, что феодал. Любовницы жаловались на отсутствие элементарной гигиены, от него просто разило потом, об этом…
– Да черт с ним, – перебил я эрудита, – с Брехтом! Кто музыку к опере написал, кто композитор?
– О! – Он снова хитро сверкнул волчьим глазом. – Курт Вайль.
Ну точно, Вайль, Курт Вайль, как я мог забыть!
– Канинхен Курт? – спросил я. – Кролик? Это он?
– Хм! – Британец уважительно кивнул. – Весьма приватная информация, обычно американцы не столь любознательны. Да и на историка вы, пожалуй, не сильно похожи.
Я пытался вспомнить второе имя, женское.
– Этот Курт, он жил здесь, в Берлине? – спросил я. – Это до Гитлера, да?
Англичанин с сожалением взглянул на меня.
– Берлин двадцатых – начала тридцатых – полный, разнузданный декаданс. – Он сделал паузу, словно пробуя слово на вкус. – Париж всем надоел, богема потянулась в Берлин. За писателями, художниками, музыкантами потащились их девки – полчища танцовщиц, певичек и натурщиц. Проституток, прикидывающихся кинодивами. И проституток, никем не прикидывающихся. Следом заспешили нувориши, с ними в Берлин потекли деньги. На каждом углу открывался мюзик-холл, кабаре, на худой конец, кабак с танцульками и непременным джаз-бандом из настоящих негров. – Британец хмыкнул. – Которые в то время у вас в Алабаме и Теннесси батрачили на хлопковых полях, а тут становились звездами…
– Ну да, – отмахнулся я. – Да, Жозефина Бейкер…
– И она тоже…
– Так что про Вайля, – перебил я, – про Кролика Курта? Про оперу?
– Это позже, в двадцать восьмом. Вы представьте: в девятнадцатом году в Берлине сняли фильм «Не такой, как все» про страдания молодого гомосексуалиста, про ортодоксальность общественной морали. – Он выразительно глянул на бармена. – Сто лет назад! Каково?
Скучающего бармена словно включили, тут же пришел в движение отлаженный механизм откупоривания, наливания и перемешивания. Я кивнул, мне налили тоже.
– Но дело не только в гомосексуализме, Берлин стал европейским Содомом и Гоморрой. Разнузданная проституция – девки, дети, был даже бордель со старухами – на любителя. Устраивались балы, переходящие в оргии, кокаин и героин продавали, как леденцы. Да, и преступность! Шестьдесят организованных банд, входивших в ферайн, своеобразный бандитский профсоюз.
– Ну да. – Я усмехнулся. – Немцы! Порядок и организованность!
Англичанина звали Вилл, Вильям. Он оказался вполне симпатичным мужиком, начинал в корпункте «Гардиан», теперь консультировал какие-то архивы. Уже одиннадцать лет не вылезал из Берлина. Пытался написать книгу, но пестрота и насыщенность местного материала мешали сфокусировать внимание на одной теме: начал с падения Стены, тут же отвлекся на «Штази» – когда открыли их архивы, оказалось, что каждый четвертый гэдээровец числился стукачом.
– Вот это тема! – горячился он. – Достойная Шекспира тема!
От «Штази» логично перешел к гестапо, начал рыться в архивах СС и погряз окончательно.
– Писать о том периоде беллетристику просто смешно! – Вилл был уже изрядно пьян. – Смешно и глупо! Фактический материал столь ярок, столь беспощаден и силен, что писательский разум просто не в состоянии адаптировать и трансформировать его во что-то более увлекательное. Хилая человеческая фантазия – она бессильна перед мощью исторического ужаса. Художник не в силах написать закат или извержение вулкана, он может состряпать лишь жалкую копию.
Я заказал третий бурбон. Знал, что наутро пожалею, но заказал все равно.
Мы долго прощались у дверей, несколько раз крепко жали друг другу руки, Вилл нацарапал свой телефон на каком-то обрывке, я поклялся, что позвоню завтра. В крайнем случае, в четверг. Потом пошел в сторону отеля.
Дождь перестал, и заметно похолодало, прохожих не было, прямая Фридрихштрассе уходила в непроглядную темень. У меня в голове непрерывно крутилось:
У акулы зубы – клинья, Все торчат, как напоказ.«Трехгрошовая опера» оказалась не более чем конъюнктурной поделкой. Ответом на социальный заказ общества. Берлинцы двадцатых сходили с ума по криминальной тематике, особенно по «лустморд» – преступлениям с сексуальной составляющей; серийный убийца стал зловещей и притягательной фигурой, мрачные типы в надвинутых шляпах и поднятых воротниках побрели по экранам синематографов и по сценам театров. Мэкки-Мессер был одним из них.
А у Мэкки – нож, и только, Да и тот укрыт от глаз.Мне не терпелось поделиться с Марией открытием, рассказать про Кролика Курта, кстати, эту кличку ему прилепили девчонки из кордебалета «Пикадора», по сплетням, репетиции Вайля часто незаметно перетекали в оргии.
Витрины книжного тускло светились гигантскими обложками, к ним были приклеены бумажные снежинки. Следующий дом ремонтировали, я пошел под лесами сквозь дощатый коридор. Через равные промежутки висели рыжие строительные фонари в железных сетках, мои ботинки гулко ухали по деревянному настилу. Пахло мокрой известкой и сосновыми опилками. У самого выхода возник человек, я хотел посторониться, пропустить, но прохожий остановился:
– Мистер, битте, айнбисхен ташенгельд![4]
Я узнал давешнего мордатого попрошайку. Похоже, и он узнал меня.
Я вытащил мелочь из пальто, протянул ему. Он не двинулся.
– Битте… – повторил он. – Битте меер[5].
Половина лица была оранжевой, другая казалась черной дырой. Из-под мокрой челки на меня зло глядел глаз с рыжей искрой.
– Их ферштее нихт[6]. – Я шагнул вперед.
Мордатый не двинулся, лишь чуть сгорбился. Не вынимая рук из карманов пальто, повторил:
– Ферштее нихт… – и тихо, со злым азартом добавил по-русски: – Ниче, щас поймешь, гнида.
Он сделал шаг назад, я увидел в руке лезвие. Инстинктивно пятясь, я уже не мог отвести взгляд от ножа. У акулы зубы-клинья, все торчат, как напоказ – вот как оно бывает. Боком, стараясь не запнуться, я начал отступать по коридору.
Мордатый ощерился и крикнул:
– Серега!
На том конце забухали быстрые шаги. Я нехотя поднял руки, будто сдаваясь. Потные ладони дрожали, сердце частым молотком колотило в грудную клетку. С досадой подумал, что взял сдуру все деньги, которые поменял, чтоб не возиться с карточками. Вытащил из заднего кармана бумажник. Мордатый уставился на него, сплюнул и медленно подался вперед.
С самого раннего детства мне запрещали драться, я должен был беречь пальцы. Так и не научился драться на кулаках. Держа бумажник, я сделал шаг вперед, мордатый протянул руку. Я резко ударил его в пах ногой. С тупым звуком брякнулся нож. Мерзавец беззвучно сложился пополам, потом осел, мыча, завалился набок. Серега уже громыхал совсем рядом, я перескочил через мычащего и бегом понесся к Жандарменмаркт.
5
Лифт, распахнув двери, покорно ждал на первом этаже. Я пролетел мимо лифта, мимо сонного портье. Перескакивая через две ступеньки, взлетел к себе на шестой. Мария, в ореоле желтого света на снежной подушке, лежала, натянув одеяло до подбородка. Она читала. Подняла равнодушный взгляд и, перевернув страницу, снова уставилась в книгу.
– Меня хотели зарезать… – Я не мог отдышаться, голос сел. Фраза прозвучала глупо.
Она кивнула, не отрываясь от страницы. Я растерянно постоял в дверях, не снимая пальто, прошел в ванную и, повернув кран до упора, пустил холодную воду. Вытряхнул зубные щетки из стакана, напился. Сунул щетки обратно.
– Я узнал про самовар… Ты оказалась права, – вежливо садясь на край кровати, попытался подлизаться я. Безуспешно.
– Час ночи, – с усталым раздражением произнесла Мария, отгораживаясь книгой. С обложки на меня глядели черно-белые фашисты в бравых кокардах и крестах, по ним красной готикой было написано: «Гестапо – империя страха».
– Та-ак, – пробормотал я, медленно вставая и стягивая пальто.
Вернулся в ванную. Голова начинала болеть. Побросав одежду на шахматный кафель пола и старательно избегая зеркала, я залез под душ.
Там, в моментально вспотевшей тесной стекляшке, мне вдруг стало страшно: мордатый попрошайка, узкое лезвие, невидимый топотун Серега – весь ночной ужас догнал меня в душе. А у Мэкки – нож, и только, да и тот укрыт от глаз.
Отельное мыло лилипутских размеров выскользнуло, я опустился, пытаясь нашарить его, да так и остался сидеть на корточках. Просто не мог встать. Меня бил озноб, я сидел под струями кипятка и трясся от холода. Сцепил пальцы, руки противно дрожали. Шрамы на запястье проступили розовыми вздутыми полосками. «Надо не поперек, – говорил Джереми, мой черный сосед по палате, – надо жилу вдоль резать, вдоль. Вот тогда и толк будет», – добавлял он, сверкая веселыми сумасшедшими глазами.
Мария спала, спали бравые гестаповцы. На тумбочке и по кровати растекся сизый свет, за окном с торжественной наивностью оперной декорации сияла бледно-лимонная луна. Третий акт – ночь, площадь, церковь. Запахнув куцый гостиничный халат, постоял у холодного стекла. Берлин тоже спал – ни прохожих, ни одного автомобиля, лишь упорно моргающий на перекрестке светофор.
Не снимая халата, я забрался под одеяло. Зеленые цифры часов показали сразу три двойки, в углу тускло мерцал латунный бок самовара. Засыпая, вспомнил давнишний август, нашу дачу. В соседней деревне горела конюшня. Деревня та звалась Жаворонки, с обрыва нам было видно, как мужики ловили лошадей. Солнце уже село, рыжее пламя улетало в лиловое небо, до нас доносились злые голоса и топот копыт. Тогда мне подумалось, что ничего более красивого я в жизни не видел. Соседская Ирка, Ирка Зорина, тронула мою руку, потом что-то прошептала; не расслышав, я повернулся и наткнулся на ее губы. Горячие, чуть обветренные. Той же ночью я их целовал, старательно и с неуклюжим пылом, мы сидели на хилой скамье в дальнем конце сада, у смородиновых кустов. На веранде, издали похожей на сцену из чеховской постановки, краснел абажур, забытые чашки застыли в патовой комбинации вокруг самовара. Соломенные стулья, эти представители праздного сословия дачной мебели, разбрелись по веранде, на спинке одного заснула мамина кофта вишневого цвета.
– Не так! Вот как надо! – хрипловато шептала Ирка, я исполнительно подставлял губы, сложенные наивной уточкой.
Ирка была старше меня на два года. Еще у нее была сестра-первокурсница с сомнительной репутацией. Про репутацию я узнал, в начале лета подслушав родительский разговор; сейчас эта порочная таинственность перешла и на младшую сестру, наполняя меня жутким предвкушением чего-то небывалого. Мокрый жар ее губ, детский дух земляничного мыла мешался с другим, горьковатым и бесстыдным, недетским запахом. От жесткой травы тянуло ночной сыростью, пахло сосновой корой, кончался август, кончалось лето.
Впрочем, кончалось не только лето: через четыре месяца я окажусь в Вене, потом – в Италии и, наконец, в феврале – в игрушечном городке с красивым именем Провиденс, штат Род-Айленд. Белые домики – над каждым флюгер, у кого стрела, у кого русалка, даже медный китобой с гарпуном, на площади будет островерхая церковь из красного кирпича, седого от утреннего инея, вокруг аккуратные елки. Добродушные собаки, резвые и с мокрыми носами. Улыбчивые горожане. Под ногами будет скрипеть снег, скрипеть так по-московски, что впоследствии окажется обычным бессовестным обманом, первым в длинном списке моих неизбежных разочарований.
Другое разочарование (из крупных) именовалось звонко: Эрин Купер. В российском доисторическом девичестве – Арина Куперман. На этой Куперман, юркой, с острыми лопатками, похожей на пронырливого цыганенка, я даже умудрился жениться. Дело было в Бруклине, нас туда занесло после неудач в Цинциннати (мой новый импресарио устроил мне тур по каким-то сельским клубам, а под конец стянул деньги и скрылся), стремительный роман с Ариной завершился мощной свадьбой еврейского фасона. Заправлял всем папаша Куперман, толстый и зычный, с рачьим взглядом, от него постоянно разило котлетами и жареным луком. У себя в Харькове он управлял чем-то продуктовым, кажется, складом или базой.
Свадьба вспоминается сном, экзотическим, почти африканским. Хупа, под которой Арина ходила вокруг меня, крики «Мазл тов!», хруст стакана под каблуком. Сомнительность моего еврейства никого не интересовала, невесте перевалило за двадцать пять, тут уже было не до формальностей. Йихуд оказался наиболее приятной частью церемонии: после обмена кольцами нас закрыли в тесной комнате, похожей на кладовку.
– Минут пятнадцать у нас есть.
Хитро улыбаясь, Арина шустро расстегнула пуговицы моих фрачных штанов.
Потом оказалось, что она говорит «ехай» и «сикать». Она таскалась за мной по всем гастролям, в каждом новом городе совершала налет на модные магазины, а после до полуночи изводила меня демонстрацией платьев и обуви. Вскоре в постели мне стал чудиться запах жареных котлет, а вокруг девичьих сосков я обнаружил несколько длинных черных волос.
В сентябре мы путешествовали по Флориде, на Сорок втором шоссе, у границы с Алабамой, наш «Форд» врезался в колонию мигрирующих бабочек. Монархи каждую осень перебираются в Мексику на зимовку. Я издали заметил серую дымку, подумал, что это пыльная буря. Бабочки врезались в ветровое стекло с противным хрустом, через минуту все оно было залеплено рыжими крыльями. Я сбросил скорость, включил дворники. Щетки размазывали пыльцу, давили бабочек, я брызнул водой, по стеклу жирно потекла серая жижа. Съехав на обочину, я заглушил мотор.
– Ну и что теперь? – зло спросила Арина. – Так и будем сидеть?
– Монарх, – глядя перед собой, ответил я, – единственная бабочка, способная пересечь Атлантический океан.
– У нас ресторан в Санта-Розе заказан на семь. А до Санта-Розы еще триста миль. С гаком.
У нее был южный выговор. Этот «гак» меня добил. Я вылез, хлопнул дверью и пошел сквозь бабочек на юг. Часа через два меня подобрал дальнобойщик на рефрижераторе. Он вез охлажденную свинину в городок Вальпараисо.
6
Завтрак подходил к концу. Ковырнув ложкой унылый венский бисквит, я попросил принести еще чаю. Коренастая официантка, скуластая и чуть косая, поглядев куда-то вбок, безразлично кивнула и ушла.
Мария делала вид, что читает «Берлинер цайтунг» (раздобыть «Нью-Йорк таймс» не удалось). Я разглядывал золоченую лепнину на потолке, там среди розовых облаков кружились ветчинного цвета купидоны. В состоянии похмелья стиль барокко показался мне визуальным издевательством. Вернулась косая немка, безмолвно поставила фаянсовый чайник. Из носика кокетливо струился пар.
– Филен данк[7], – сдержанно поблагодарил я.
Официантка снова кивнула, не сказав ни слова, удалилась. Кроме нас, в ресторане никого не было. Пустым, впрочем, он не казался: в простенках висели зеркала в фигурных золоченых багетах, много зеркал. Отражения отражались в отражениях, и от этого зеркального безумия зал казался хитрым лабиринтом, нагромождением армии столов и стульев, уходящих в бесконечную перспективу через запутанные анфилады. Окно с видом на стройку выглядело спасением. Я сделал глоток и закрыл глаза. Чай тут был отменный.
– Кончай дуться…
– И не думаю. – Мария взглянула поверх газеты. – Что такое… фер… ферзаммлюнг?
– Собрание, – перевел я.
– Ага… – Она снова погрузилась в берлинские новости.
По безлюдной стройке сыпал серый дождик, среди мокрых лесов петляла толстая труба василькового цвета.
– Мне просто не совсем ясно, – почти приветливо начала Мария, оторвавшись от чтения, – как взрослый человек может вскочить посреди концерта и исчезнуть на пять часов? Не сказав ни единого слова? – Она посмотрела мне в глаза.
У нее были потрясающие брови; никогда раньше мне не приходило в голову, насколько важны правильные брови, особенно в идеальной пропорции с уверенной линией подбородка, не говоря уже о ювелирно отмеренной дистанции от розоватой мочки уха до уголка губ. Я отвел взгляд: в зеркалах развернулась македонская фаланга укоризненных Марий.
Я отлично понимал, что никого лучше Марии мне не найти. Но именно в этом и заключалась главная беда: будь она какой-нибудь задрыгой, стервой или безмозглой куклой, я бы так и валандался с ней, пока наши отношения не докатились бы до банального тупика или не выдохлись сами собой. Мария была хорошим человеком. И я ее любил.
Похоже, вид у меня был совсем никудышный, Мария подалась вперед, тронула пальцами мою щеку.
– Ну что с тобой? – тихо спросила она. – Скажи…
Я вдохнул, облизнул губы.
– Нам с тобой нужно… – начал я, собираясь с мужеством, – нам нужно…
Неслышно появилась косая, стукнув блюдцем по столу, принесла счет, тут же начала звенеть ложками, убирая посуду. Я замолчал, глядя на Марию, чувствовал, как улетучивается моя решимость.
– Что? – переспросила Мария. – Что нам нужно?
– Нам нужно, – быстро ответил я, – нужно разузнать где-то про Курта Вайля. Про его любовниц.
– Ты что, действительно что-то узнал? Про самовар?
– Ну да! – оживился я. – Я же тебе вчера сказал!
– Вчера! – Мария фыркнула и добавила по-русски: – Вчера ты, мой дорогой, лика не вязал.
– Лыка… – по привычке поправил я.
– О’кей, фак ит, – перешла она на родной. – В чем там дело?
Наш план не задался с самого начала – антикварная лавка исчезла. Решив первым делом расспросить антикваршу Раневскую, мы отправились на нашу ярмарку. На Жандарменмаркт. Там все было как всегда: раскаленные жаровни и чугунные чаны с бурлящим глинтвейном, копченый дымный дух румяных сарделек мешался с пьяным ароматом корицы и муската, веселая девка в чистом переднике ловко тащила сразу дюжину литровых кружек баварского пива, карлик-француз в брусничном берете раздавал с доски мелко наструганные кружочки салями, за ним в шатре висели прокопченные до бронзового отлива окорока и колбасы всех форм и размеров из приграничного Страсбурга.
– Нет. – Мария крутила головой. – Не в этом ряду. Там по соседству торговали какой-то карамелью. Я помню запах.
Я не помнил ничего и уже окончательно запутался. Мы в третий раз миновали каменного поэта, на сцене продрогшие лабухи – тощий парень с электроорганом и готическая девица с лиловыми волосами и в непомерных солдатских сапожищах – пиликали что-то рождественское. Девица прижимала микрофон к синим губам, в нижней губе торчало несколько стальных колец, одно было в ноздре.
Свернули у елки, снова прошли мимо бранденбургских кренделей, за кренделями торговали солеными огурцами из огромных бочек, оттуда тянуло укропом и смородиновым листом. Следом шли деревянные поделки из Вестфалии: точеные ангелочки, медведи, козлята и прочая чепуха, тут заправлял матерый бородач с волосатыми ручищами и в фартуке из грубой свиной кожи. Он был похож на сказочного людоеда.
– Мне эта рожа будет сниться. – Я наклонился к Марии. – Мы тут уже были раз пять.
Людоед ухмыльнулся, протягивая Марии вестфальский сувенир – деревянного барана.
– Данке, данке, вундершен! – Мария улыбнулась. – Битте найн[8].
Далее следовал шатер стеклодува – прозрачные шары, сосульки всевозможной длины, стеклянные черти. За стеклодувом тощий немец с обвислыми усами грустно торговал кожаной всячиной: ремнями, кошельками. Потом шли каленые орехи, за ними – серебряных дел мастер с филигранной мелочевкой на траурно-бархатных подушках. В последнем шатре разливали глювайн.
– Мистика какая-то. – Мария засмеялась, смех получился какой-то растерянный. – Ты что-нибудь понимаешь?
Виночерпий поймал мой взгляд и начал корчить зазывные рожи, плавно помешивая черпаком ароматное пойло. Я сдался и кивнул.
– Я думаю вот что… – Обжигаясь, я сделал глоток, потом еще один. – Скорее всего, нашу старуху убили.
Мария застыла.
– Дело в том, что старуха не знала тайну самовара…
– Какую тайну? – перебила она.
Я невозмутимо повторил:
– Дело в том, что старуха не знала тайну самовара. – Горячее вино сразу шибануло в голову, я отпил еще. – Вайль, композитор, после прихода нацистов к власти оказался сообразительней других. Может, внимательно прочитал «Майн кампф», изучил национальную политику фюрера…
Мария слушала, покусывая нижнюю губу.
– Он решил бежать. Нацисты не давали евреям вывозить…
– С чего ты взял, что он еврей?
– Конечно, еврей! – В кружке осталось меньше половины.
– У вас, русских, все евреи, – возмутилась Мария. – В кого ни ткни – непременно еврей!
– Ну… – Я благодушно кивнул. – Мы будем обсуждать мою славянскую неполиткорректность или…
– Ладно, ладно!
– Короче, хитрый Вайль дарит самовар своей арийской любовнице, сам эмигрирует, допустим, в Швейцарию. Где и ждет свою, допустим, Гретхен. Но коварная Гретхен решила не ехать в Швейцарию…
– При чем тут самовар?!
– Самовар из чистого золота. – Я допил глинтвейн, на дне оказались какие-то крошки, я сплюнул на мостовую и вытер губы. – Курт Вайль все свое состояние вложил в золото, в тайной берлинской мастерской умелец из Тулы, бывший белогвардеец по фамилии, предположим, Красовский выковал ему самовар… Красовского, кстати, Вайль впоследствии зарезал. Для сохранения тайны. Курт все правильно рассчитал, он, этот композитор, все учел. Все. Кроме женского коварства…
Удивление на лице Марии сменилось растерянностью, растерянность – негодованием, под конец она расхохоталась. Притянув за шарф, поцеловала меня в шею.
7
У меня не было ни малейшего желания тащиться в Трептов-парк: к кладбищам и пантеонам я отношусь без интереса, а о решающей роли советского народа в победе над фашизмом был осведомлен уже в детском саду. Однако мероприятие было запланировано Марией еще в Нью-Йорке.
Я посетовал на дождь, долгую дорогу, предложил исторический музей и Пергамон – на выбор. Особенно напирал на Пергамский алтарь, мол, это тоже мемориальный памятник, посвященный военной победе над французами, когда те звались галлами и были варварами.
– Плюс это самый знаменитый памятник эллинской истории, – быстро говорил я на подходе к метро. – Не говоря уже о культурно-художественном значении. Вся западная цивилизация пошла оттуда! Вся культура! Битва олимпийских богов с титанами – Зевс, Афина, Геркулес сражаются со змееголовыми гигантами. А знаешь, как обнаружили его, этот алтарь? Вообще феерия!
Мария заинтересовалась, даже замедлила шаг.
– Археолог-любитель сколотил сумасшедший капитал в России, спекулировал селитрой и сахаром, потом переключился на бумагу. Был страшным проходимцем, Александр II хотел его даже повесить за воровство.
Все, связанное с Россией, Марию гипнотизировало.
– Ему удалось бежать в Германию и вывезти деньги. У него была идефикс – найти Трою. Он на все деньги снаряжает экспедицию…
– Погоди-погоди, – перебила Мария. – При чем тут Троя?
Я запнулся, внезапно сообразив, что перепутал недоучку авантюриста Шлимана с достойным археологом и инженером Хуманом.
Миновали трамвайные рельсы, сырую сталь, впаянную в плотную кладку мостовой. У входа на станцию Мария развернула план метро, прячась под навесом, стала изучать маршрут. Из булочной вышла девчонка в ярко-желтых ботах, я посторонился, пропуская ее. Пахнуло свежим хлебом.
В соседней витрине растерянно толпились голые манекены, бледный, но все-таки живой паренек с татуировкой на шее пытался наряжать их. К стеклу кто-то прилепил стикер – красные буквы на черном: «Кайн секс мит наци»[9]; мне тут же вообразилась жопастая блондинка в чине унтершарфюрера, чернильно-черная униформа, перетянутая тугой сбруей портупеи. Щелкнув каблуками и вскинув руку, нацистка исчезла. У входа в аптеку произошла какая-то суматоха, кто-то кого-то толкнул, какие-то яблоки покатились по мостовой, мне показалось, в толчее я узнал ночного бандюгу, моего мордатого Мэкки-Мессера.
– Все ясно, пошли. – Мария дернула меня за рукав. – Нужен верхний уровень, красная линия. Не У-бан, а Эс-бан. Восемь станций по прямой.
Поезд катил через город, я сидел напротив Марии, она смотрела в окно, по ее отражению в стекле капли чертили кривые линии. Пролетела Александерплац, телевышка нависла и унеслась, мы даже не успели ее рассмотреть. Вид загородила кирпичная стена с гигантскими готическими буквами невозможного начертания, пронеслись непрочитанные буквы, мы на миг влетели в грохот туннеля, выскочили на волю. Ухнув, распахнулась даль – рыжие крыши, мутная река с баржей, мост.
– Гляди! – Мария ткнула пальцем в стекло.
Кирпичный мост с островерхими башнями походил на рыцарский замок. Поезд плавно вкатился под высоченный стеклянный купол; «Ост-бан-хоф», – по слогам прочитала Мария. Двери, вздохнув, расползлись, кто-то вышел, кто-то вошел, в другом конце вагона пронзительно заорал младенец, азиатка с жирными круглыми щеками уселась по диагонали. Она с напором тараторила в телефон бесстыже-розового цвета. Мой взгляд уткнулся в чью-то руку, ухватившую поручень. Кисть была изуродована шрамами, на месте большого пальца торчал круглый пенек, обтянутый тугой кожей. Стальные часы, манжет, локоть, плечо – я добрался до лица, из-за воротника на меня пристально глядел недобрый серый глаз. От виска к шее тянулся длинный шрам, даже не шрам, а складка, в которой исчезло ухо. Уха просто не было. Не знаю, что было на моем лице, – брезгливость, наверное. Калека перевел взгляд на Марию и зло отвернулся.
Восьмая остановка, узкая платформа. Мы спустились по гулкой железной лестнице. Вышли наружу.
– Мы должны сюда вернуться летом. – Мария, задрав голову, щелкнула камерой. – Смотри, какие роскошные деревья!
Дождь почти перестал. Мы шли по просторной аллее, высокой от посветлевших туч и ажурной путаницы голых веток над головой. По бокам чернели мокрые стволы старых кленов, на коре, как и положено, с северной стороны рос сочно-зеленый мох. Мария, приблизив камеру почти впритык, щелкнула мох, показала мне. Красиво, кивнул я.
Над деревьями, в бледно-серой дали, появилась каменная голова, там солдат-исполин держал на руках спасенную девочку. В другой руке он сжимал меч, под сапогом скрючилась свастика. Свастику и меч из-за деревьев видно не было, я просто помнил. Мы прошли под аркой с коваными венками и звездами, навстречу попалась школьная экскурсия, класс пятый. Тощий учитель, похожий на стручок, негромко что-то рассказывал занудным голосом. Я попытался представить, какие слова говорит очкастый немец в лыжной шапочке своим немецким ученикам относительно всей этой невеселой истории.
Мы вышли на площадь, Мария остановилась и застыла. После уютной тесноты парка мемориал оглушал нечеловеческими пропорциями – бескрайнее поле кладбища, окруженное мраморными глыбами барельефов, упиралось в гранитную лестницу, которая вела на крутой курган с циклопическим солдатом. В постаменте памятника находился то ли мавзолей, то ли часовня. Туда по лестнице взбирался человек, взбирался долго, с упорством муравья; ростом человек был не выше солдатского каблука.
– А ты говоришь «Пергамский алтарь»… – тихо выдохнула Мария.
Мы двинулись в сторону солдата-великана, Мария останавливалась у мраморных глыб, старательно читала русские слова, выбитые в камне:
– …Сам-о-отвеженн… ой бор… бой спас наро… ди Еуропи от фашистски-их по-гро-м… чикоф… Что такое «по-гром-чи-ков»?
– Погромщиков.
Я подошел к камню, разглядывая языческий аскетизм барельефов, – плоские солдаты-близнецы, все в профиль, шли в штыковую атаку.
– Советский народ своей самоотверженной борьбой, – менторским голосом читал я, – спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества. Сталин.
– Что значит по… гро… мо… Ну, это слово? – не унималась Мария.
– Виссарионыч – грузин, русский знал неважно, – потирая ладони, сказал я. – Пойдем к солдату, холодно. Знаешь, кто позировал скульптору? – Я кивнул в сторону великана. – Повар.
– Какой повар? – Мария недоверчиво стала листать путеводитель.
– Повар советской комендатуры Берлина. А потом он стал шеф-поваром «Праги» – был такой ресторан в Москве.
Мария раскрыла путеводитель, зашелестела страницами. Нашла:
– Тут ничего про повара нет, тут написано, что скульптор Ву… тщетитч, вот черт, изобразил солдата Николая Масалова, который во время штурма Берлина в апреле сорок пятого, рискуя жизнью, действительно спас трехлетнюю девочку. Сталин посоветовал скульптору вместо автомата дать солдату меч, символизирующий высказывание русского князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». И никакого повара. – Мария опустила путеводитель. – Кто такой этот Александр?
– Князь. Викинг.
– Какой викинг? Швед? Тут написано – русский. – Мария упрямо посмотрела на меня.
– Мало ли что там написано, – махнул я рукой. – Написано! Русские сами позвали варягов управлять собой.
– Как это? – недоверчиво спросила Мария. – Зачем?
– А затем! – Я вспылил. – Посмотри всю русскую историю! Это же история рабства! Рабства и унижения. Их кнутом по морде стегают, а они в ноги кланяются и сапоги целуют! Царю, Сталину, коммунистам, теперь гэбэшной шушере. Холопы!
– Замолчи! – с тихой угрозой произнесла она. – Как ты смеешь? Тут… – она топнула каблуком в мокрый щебень, – тут лежат тысячи солдат, твоих земляков. Таких же, как ты… Большевики, коммунисты – какая разница? Это люди, они пошли на войну, и они погибли. Люди, понимаешь? Люди! – Мария быстро пошла в сторону кургана. Приостановилась, обернувшись, хрипло выкрикнула: – Три года вместе живем, а иногда мне кажется, я тебе не знаю! Вообще!
«Вот же! Вот оно! – завопил мне бес в ухо. – Уходи! Поймай такси, сложи вещи – и в аэропорт! Жми! Прямо сейчас».
– Да, да… – отмахнулся я от беса и поплелся за Марией.
8
Я догнал ее только на кургане, в поминальной комнате. Мария разглядывала мозаику. Я шаркнул подошвой – даже не обернулась. Сцепив за спиной руки, пошел по кругу. Мозаичные узбеки, грузины и латыши в разных национальных костюмах, но с одинаковыми лицами держали мозаичные венки над могилой русского солдата. Там еще был усатый рабочий в ультрамариновом комбинезоне, наверное, тоже русский, и его безусый брат-близнец в военной форме и с мозаичным автоматом. Я задрал голову, сверху тускло светила трехметровая люстра, она была сделана в виде ордена Победы, того, что с бриллиантами.
Вышли. Снаружи снова заморосило, ступеньки мокро блестели, Мария оглянулась на нависшего серого исполина, зябко повела плечами.
– Весь этот мрамор и гранит, – проговорил я в затылок Марии, – это все из Рейхсканцелярии. Вон те знамена, у входа, сделаны из красного гранита, которым был облицован кабинет Гитлера.
Мы шагали по ступенькам, Мария впереди. Она остановилась и внимательно поглядела на меня.
Возвращаться той же дорогой не хотелось, мы решили пройти парком. За распахнутыми настежь коваными воротами начиналась щебневая дорожка. Она шла под уклон. Гравий мокро хрустел, неубедительно прикидываясь морской галькой. Между стволами тускло блеснула вода, мы спустились к пруду, здесь к горькому запаху мертвых листьев добавился болотный дух. Две скучные утки у того берега застыли в сухих камышах. Из пруда вытекал широкий ручей, мы прошли по горбатому мосту, украшенному двумя каменными зайцами. Одному зайцу кто-то накрасил губы помадой. Мария засмеялась, достала камеру и щелкнула зайца.
Пошли дальше. Впереди, прихрамывая, брел сутулый здоровяк, мы с Марией, не сговариваясь, прибавили шагу и обогнали его. Я мельком взглянул и узнал безухого из метро. Тот шел, сосредоточенно опустив голову, сжимая в изуродованной руке складной черный зонт с массивной ручкой. Я потянул Марию, мне не хотелось, чтоб она видела эти шрамы.
Свернули в боковую аллею. Кто-то вспугнул ворон, они, шумно ругаясь, принялись кружить над макушками голых кленов. В бледном просвете я заметил людей, три темные фигуры. Они спешили. Петляя между стволами, шагали по мокрым листьям. Люди шли по диагонали нам наперерез. Я оглянулся, тропинка сзади была пуста. Мария подняла с земли кленовый лист, большой, похожий на узорный кусок пергамента. Показала мне, я что-то ответил. Люди были уже совсем близко, в одном я узнал мордатого попрошайку с Фридрихштрассе. Того, с ножом.
Ноги бессильно запутались, остановились, тошнотворная слабость подкатила к горлу, я машинально сжал руку Марии. Она удивленно посмотрела на меня, увидев людей, оглядела их простодушным взглядом, потом снова вопросительно посмотрела на меня.
Мордатый остановился, двое других обходили нас, перекрывая дорожку. Мария поправила волосы домашним, наивным жестом. Мордатый пнул листья, он запыхался и тяжело дышал, приоткрыв рот. Из распахнутого драпового воротника пальто торчала бледная желтоватая шея с острым кадыком.
– Вот так… – Он сплюнул и вытер рот рукой, другая, правая была в кармане пальто. – Гутен таг.
Вороны угомонились, над парком повисла тишина, плотная и сырая. Донесся призрачный перестук колес, похоже, поезд следовал в какой-то параллельной вселенной.
– Их хабе гельд…[10] – картонным голосом произнес я.
– Натюрлих. – Мордатый ощерился.
Он кивнул человеку за моей спиной, я инстинктивно обернулся.
Тут же парк разлетелся вдребезги, разлетелся вместе с моей головой, боль ослепила, словно я пялился в прожектор. Раскаленный добела свет накрыло чернотой, сквозь муть я вплотную увидел мокрые камушки гравия. Надо встать, непременно встать… Я попытался подняться, тут в ребра вломили, будто молотом, внутри все лопнуло, задыхаясь, я раскрыл рот, но воздуха не было.
– Полегче, полегче, – обыденно проговорил чей-то голос. – Не отключай его, пусть полюбуется.
Мария закричала. Мне на спину кто-то рухнул, придавил коленом к гравию. Ухватив за волосы, поднял мою голову. Я увидел Марию. Здоровый мужик, на голову ее выше, заламывал ей руки. Мария закричала снова. Он быстро зажал ей рот ладонью.
– Серый! Видно этому? – весело спросил мордатый.
Он сплюнул, подмигнул мне:
– Тебе хорошо видно?
– А то! – заржал Серый. – Видно, Толик, видно.
Серый еще сильней дернул меня за волосы, в шее что-то хрустнуло.
– У-у, сучка! – вдруг взвизгнул здоровяк, державший Марию. – Кусается!
Мордатый Толик резко размахнулся, шлепнула звонкая пощечина.
– А вот кусаться не надо, фрау мадам! – Он подул на ладонь. – Нехорошо кусаться.
Он загородил Марию своей спиной. Затрещала ткань, Толик откинул разорванный лифчик, я зарычал, дернулся. Серега снова заржал и еще сильней ввинтил чугунное колено мне в лопатку. Мария брыкалась, мордатый Толик снова ударил ее, потом нагнулся, рванул. Юбка задралась, я увидел бледный живот, рыжеватые волосы на лобке. Рваные колготки сползли до колен, ноги, по-детски белые, бессильно разъехались.
Толик распахнул пальто, звякнул ремнем. Начал рыться у себя в ширинке. Я рванулся, Серега, крякнув, ударил мне в ухо. От громового звона голова вдруг распухла, все звуки пропали, остался лишь густой шершавый бас. Я попытался высвободить руку, ударить Серегу. Вдруг передо мной возникли чьи-то ботинки, я услышал гулкую оплеуху, будто били в боксерскую грушу. Серега дернулся, медленно разжал пальцы, колено съехало, он обмяк и завалился набок. Его голова беззвучно ударилась о камни, из-под волос на щеку вытекла яркая красная полоска.
Ботинки хрустнули гравием, исчезли. Справа метнулась черная фигура. Пытаясь встать, я видел, как Толик, придерживая штаны, локтем старался закрыть голову. Неизвестный ловко подскочил и ударил Толика в горло короткой палкой. Не палкой – это был складной зонт. Толик упал на колени, качаясь и хрипя, схватился за горло. Неизвестный наклонился, резко и безжалостно двинул Толика в челюсть. Там хрустнуло, Толик осел, рухнул на спину, раскинув руки. Я поднялся, оступился, упал снова. Пополз на карачках к Марии. Я видел, как здоровяк, бросив ее, побежал в сторону станции.
9
Неопрятная рыжая сестра, с пухлыми пальцами с облупившимся лаком, вколола мне какую-то дрянь. Меня тут же развезло. В голове продолжало неумолимо гудеть, волнами накатывал гул, в промежутках по-комариному звенел вакуум. На полу (линолеум, фальшивый мрамор) валялся потрепанный номер «Шпигеля» за август с взъерошенной Меркель на обложке.
Окружающее возникало отдельными кадрами, словно кто-то показывал не очень резкие фотографии. Сестра ушла, дверь закрылась. Потом беззвучно распахнулась опять.
Появился доктор, молодой и нервный, на подбородке – порез от бритья. Его английские слова, казалось, были наскоро выструганы из светлого дерева вроде березы.
– У вашей жены шок, – с ясным стуком посыпались чурбачки. – Но ничего опасного. Она спит. Мы ее оставим до утра.
Мой язык издал какой-то французский звук, хотя я хотел просто сказать «спасибо».
Потом я проснулся на узком лежаке в тесной комнате без окон; сбоку горела сумрачная лампа, похожая на вагонный ночник. Кто-то накрыл меня суконным одеялом, от которого воняло псиной. Тупо ныло плечо. Подняв руку, я приблизил циферблат к глазам: стрелки показывали два ноль пять. По стеклу шла трещина, я приложил часы к уху. Расстегнул ремешок, сунул мертвый механизм в карман. Надо встать и найти Марию, у нее шок, но ничего опасного, подумал я и заснул снова.
Проснулся опять, долго лежал без единой мысли, пялясь в потолок. Постепенно шершавая побелка стала походить на снежную пустыню, я почти убедил себя в этом. По снегам оранжевым веером раскрылся осторожный рассвет, раскрылся и тут же погас, звякнув дверным замком.
– Не спите? – спросил простуженный голос. – Я присяду.
Это был безухий.
– Который час? – Я привстал на локте. Тело ломило. – Как Мария?
– Спит… – Безухий легко приподнял стул, подцепив его искалеченной рукой, тихо поставил перед кушеткой. Сел. – Меня зовут Вальтер Мерц.
От Вальтера пахнуло крепким табачным духом. Он наклонил бритую голову, ночник вспыхнул рыжим бликом на его крепком черепе, правая часть лица со страшным шрамом и дыркой вместо уха спряталась в черноту тени.
Еще недавно Вальтер был полицейским, майором из Крипо округа Берлин и Баден-Вюртемберг. Официально он еще не ушел в отставку, а пребывал в некоем полицейском чистилище, впрочем, сам он был уверен, что ему удастся вернуться в «Эрсте Ангрифф»[11] старшим следователем.
– Мне пятьдесят один, но до марта я оклемаюсь. – Вальтер сложил руки, прикрыв искалеченную кисть. – Двадцать шестого – медкомиссия. А я уже сейчас почти не хромаю. Десять километров каждый день.
Тогда, в июле, Вальтер ехал с дежурства. Было воскресное утро, прозрачное и кроткое, с легкой горчинкой городской гари в теплом воздухе. Оператор сообщил о стрельбе в Грюнау. Вальтер первым приехал к супермаркету.
– Коливерштрассе, там еще пустырь и автостоянка. Я подогнал машину к заднему входу, где фуры разгружают. Сирену выключил за два квартала. Грузовиков не было. Пустые ящики, хлипкие пластиковые коробки из-под пива. За такими не спрячешься. Поставил машину поперек – в случае чего думал использовать как прикрытие.
Майор потер подбородок здоровой рукой.
– В патрульной машине, сзади – «бушмастер» и пуленепробиваемый щит. Если бы я сообразил взять карабин… – Он усмехнулся. – Карабин…
Он задумался, словно что-то прикидывая.
– Два субъекта, мужчина и женщина, метров пятнадцать от угла. По тому, как они лежали, было ясно, что оба мертвы. Женщина молодая, лет тридцать, глаза открыты, она лежала на спине. Из-под затылка вытекала кровь на асфальт. Я подобрался к ней. Глаза не двигались. Боковым зрением увидел у входа в магазин мужчину. Лет двадцать пять, он подбежал к седану, открыл багажник. Я достал пистолет, крикнул: «Стой! Стреляю!»
Майор говорил спокойным, скучным голосом.
– Он был в белой рубашке, словно собирался в церковь, я увидел, как он вскинул руку. Мы, похоже, выстрелили одновременно. Расстояние было приличное, метров сорок. Я промахнулся. Он попал мне в скулу. Пуля раздробила челюсть и вырвала ухо.
Вальтер виновато пожал плечами.
– Мне удалось спрятаться за «мерсом». Он выстрелил несколько раз, все мимо. Пробил бак, я от бензиновой вони чуть не задохнулся. Мне нужно было достать карабин, но я упустил момент. Он обошел меня слева и начал стрелять.
По коридору со скрипом проехало что-то стеклянное и дребезжащее, кто-то лениво выругался, потом все стихло.
– Я смотрю на руку: на месте большого пальца торчит кость, как в куриной ноге… и кровь хлещет. Самое смешное, не поверишь, знаешь, что я подумал? Я подумал: как же я теперь без пальца буду жить? Жить!
Майор глухо засмеялся, опустил голову. С минуту разглядывал узоры фальшивого гранита.
– Он выстрелил еще. Я тогда уже упал. Упал на спину. Он обошел машину, у него был «глок», двадцать девятая модель – толковый ствол; видел, как он поменял обойму и выстрелил снова. Слава богу, я не снял жилета после дежурства. Поленился. Я перевернулся, закрыл голову. Главное – голову спрятать. К тому моменту во мне уже было с полдюжины пуль. Тут вдруг стало тихо, думаю, от потери крови. Тихо и уютно. Вроде как засыпаешь под периной.
Вальтер замолчал, словно припоминая.
– Я видел его лицо, его глаза. Совершенно пустые. Вообще ничего – ни ярости, ни злобы. Пустота. Как может человек дойти до такого? Это даже не животное, у зверя – инстинкт, зверь убивает для пропитания или защищаясь. А это… Это как… зомби. Понимаешь?
Я кивнул, мол, понимаю. Я, безусловно, лукавил: у меня не было и малейшего представления о том аде, про который так спокойно рассказывал Вальтер.
– Я услышал сирены, ребята были совсем близко. Он перестал стрелять, побежал к своей машине. Тут другая идиотская мысль пришла мне в голову: жена меня сожрет. Мы через две недели должны лететь на Тенерифе. Билеты, гостиница…
Он засмеялся, покачал головой.
– Вся история заняла три минуты. С момента, как я приехал… После, в госпитале, я получал письма, там в одной открытке было написано: «Вы настоящий герой». У меня было до черта времени, я лежал и думал. Подумал и про это. Знаешь, все это чушь. Герой… – Вальтер снова покачал головой. – Да, пока он стрелял в меня, он не стрелял в других. Но, в принципе, я полицейский, и это моя работа. А строить из себя героя лишь потому, что остался жив… и потому, что в меня нашпиговали столько металла, что, если как следует потрясти, я зазвеню, как копилка? – Он замолчал.
Потом я спросил:
– А что с этим, его взяли?
– Нет. Застрелился в машине.
10
Я вернулся в гостиницу. Вернулся один, без Марии. Немецкий доктор выложил мне несколько деревянных фраз: она спит, оставим еще на день, ничего страшного, и я покорно поплелся на стоянку такси. Нет, не сразу. Сначала доктор проводил меня к ее палате и приоткрыл дверь. Я осторожно потоптался в проходе, молча кивнул доку. А потом пошел к стоянке.
В машине я напугал таксиста, то ли зарычав, то ли застонав.
На самом деле мне хотелось орать и биться лбом в металлические части салона такси. Может, так удалось бы вытрясти из памяти ее лицо с белыми губами, тонкие пластиковые трубки, похожие на водяных червей, гнусный больничный запах, протянувшийся из моей нью-йоркской палаты в сирый берлинский госпиталь проклятого округа Трептов-Кепеник.
Наш номер только что убрали, от стерильности тугих подушек, сложенных педантичной горкой, хотелось удавиться. Я бесцельно прошел до окна и обратно, зашел в ванную, сел на крышку унитаза. Тошнотворно разило фальшивыми фиалками. Нужно побриться, подумал я. Побриться, а потом позвонить в «Дельту» и поменять билеты. Сложить вещи, заехать в больницу, забрать Марию, оттуда прямиком в аэропорт. Вот так.
В баре я заказал водки. Медленными глотками выпил, поскреб ладонью щетину на подбородке. Звук получился почти металлический. Я уже пытался отпустить бороду лет пять тому назад, ничего хорошего там не выросло. Тем более я позавчера купил помазок из вестфальского бобра. Или не вестфальского.
Худой официант в белом фартуке, длинном, ниже колен, сосредоточенно вытирал столы. Было пусто, лишь в углу сидел красношеий немец. Лица я не видел и быстро себе его нарисовал: пучеглазый губошлеп с ефрейторскими усиками, типичный фриц. Он повернулся и оказался обладателем вполне интеллигентной физиономии профессорского покроя. Бармен, фальшиво насвистывая из Россини, увлеченно наводил порядок в своем алкогольном хозяйстве, что-то закручивал и чем-то звенел. Вдруг весело зашипел пар, и тут же запахло свежим кофе.
Я поднял глаза и среди разноцветного бутылочного стекла наткнулся на свое отражение. За моим лицом темнел пустой бар, дверь с медной ручкой, рядом окно. В окно заглядывал сизый купол Французской церкви. Я мысленно провел пунктирную линию от Фридрихштрассе – туда, на восток, до некрополя с бетонным големом. Дальше – в парк, где сырые листья пахнут прелой горечью, где пруд и ручей. Мостик с каменными зайцами. Траектория пролегла дальше – к госпиталю, через коридоры, по гулким прокуренным лестницам, тут моя пунктирная кривая уперлась в дверь палаты. Я бы мог оглянуться, прочертить линию через Атлантику, из нашей квартиры в Гринвич-Виллидж, город Нью-Йорк, мог бы добавить несколько петель и зигзагов для очистки совести – перед Берлином мы действительно провели две ночи в Париже. Но вся эта топографическая педантичность не могла скрыть главного – моей решающей роли в трагедии.
Мария в коме – после третьей порции я был в этом уверен. Я цедил теплую водку, во рту становилось все гаже, язык онемел и распух. Без особого интереса отметил, что не ел со вчерашнего утра. Мария в коме – это ясно. Сколько времени прошло? Оттянул манжету, тупо уставился на пустое запястье, что-то припомнив, достал часы из кармана. Два ноль пять. Покрутил в руках, швырнул в дальний угол. Бармен вздрогнул, проследил доберманьим взглядом за полетом мертвого механизма, потом испуганно посмотрел на меня.
– Нох айн шнапс[12], – вежливо попросил я добермана. – Битте…
Тут на меня снизошло озарение, словно в голове кто-то плавной рукой вывернул тумблер от нуля до максимума. В немилосердной яркости сложился четкий узор: то, что казалось нелепым нагромождением случайностей, обрело логичную структуру. Амстердам, скользкая брусчатка на Херрен-грахт, велосипед, моя незадачливая левая, идиот доктор. Иезуитская физиотерапия, потом пять месяцев шарлатанских упражнений. Вот ингредиенты.
Я восстановился, да, я мог играть. Да, да, да. Но левая не поспевала, она так и осталась там – в прошлом, где мы с ней солировали в полных залах с кроваво-бархатными креслами и литыми золотыми коронами над царской ложей. Да, я мог играть. Но где и с кем? И для кого? Летчик-виртуоз, сверхзвуковой ас, повелитель небесных молний пересаживается на кукурузник и продолжает летать. Чуть выше елок и пожарной колокольни. Чуть быстрее пегого пса, что бежит по полю, силясь догнать крест самолетной тени. Какая изысканная пытка!
Даже мое чудесное спасение – ангел в обличье соседа-пуэрториканца с нижнего этажа, ангелы, штопающие мои вены в госпитале имени преподобного Джона Леннона – все в этот миг обрело ясный смысл.
Я не верю в Иисуса. Иисус слишком добр, слишком милосерден для нашего мира. Его папаша – вот кто правит этой вселенной. С нравом непохмелившегося каменщика, злопамятный и вздорный, он не лишен юмора. Его справедливость основана на равновесии, за все надо платить: за радость – болью, за смех – слезами, за любовь – ненавистью, за веселье – унынием. Слава и успех тоже должны быть компенсированы. На талант цена особая, это товар штучный, соответственно, и счет выписывается индивидуально – спросите у оглохшего Бетховена, корчащегося в снегу Пушкина, ослепшего Ницше, нищего Моцарта, спросите у Ван Гога, заряжающего свой люгер одной пулей, у тоскующего на острове Наполеона. У Нижинского и Высоцкого, у Жанны д’Арк, у Булгакова и Рильке. Да, Гоголя не забудьте, Николай Василича. Унылый список удручающе бесконечен.
Смеха ради наш небесный кукловод возвышает ничтожества, дает славу бездарям, делает знаменитыми серых пошляков. Зачем? Цель очевидна даже дураку, ведь если даже…
– Господин Спирин, – вежливая рука тронула мое плечо, – извините великодушно…
Я повернулся.
– Звонили из госпиталя. – У отельного консьержа почти не было акцента. – Вас просили приехать.
Я открыл рот.
Вот и все. Вот и конец. Как просто. Господи, как просто!
Сердце остановилось, дрогнуло и полетело в бездну. Я выскочил на улицу – тут же чуть не угодил под хлебный фургон, прыгнул в такси. Хмурый араб в кокетливо-белой вязаной шапочке невозмутимо тронулся, не дослушав адрес. Прогремел трамвай, звякнув на стыке. Проплыл оранжевый борт с невыносимо длинным словом, кончавшимся неопределенным «берг». Мотоциклист неизвестного пола поравнялся с нами, я мог дотронуться рукой до его черной ноги, затянутой в инопланетно-пупырчатую кожу. Словно прочитав мою мысль, седок боднул упругий воздух зеркальным шлемом, дал газу и, рыча, улетел под мост. Во рту расползся ржавый привкус – это я прикусил изнанку щеки до крови.
Вот и конец… Что ж ты делаешь, Господи!
Мусульманин лихо выскочил на эстакаду, дорога пошла вверх, замелькали частые столбы. В скучных домах зажигались тусклые окна, грязное небо быстро опускалось на город серыми сумерками. Мы неслись вверх, все быстрее и быстрее, словно собирались взлететь. Потом вдруг ухнули вниз.
Больничные ворота были распахнуты настежь, на кованых пиках ограды сидели мокрые сизари. Не доехав до госпиталя, мы уперлись в фургон «Скорой помощи». Я выскочил, хлопнув дверью, побежал. У входа стояла еще одна «Скорая помощь», хмуро суетились санитары. Я, матерясь, налетел на урну, увернулся от выскочивших навстречу носилок на колесах. Промчался по фойе, поскользнулся на мокром линолеуме. Уборщица, гремя ведрами, выругалась по-польски мне в спину. Громко топая, я побежал наверх по широкой мраморной лестнице.
– Дмитрий!
Я обернулся. Мария стояла в фойе.
Худые руки, у ног – маленький, почти детский рюкзак. На шахматных квадратах линолеума она казалась последней уцелевшей пешкой.
Она вжалась в мою грудь, я зажмурился, от ее потускневших волос тоскливо пахло больницей. Больницей от слова «боль». Пахло больницей и Марией, моей Марией. Господи, я ведь был уверен… Господи! Слова застряли в горле, говорить я не мог, да и не говорят таких слов живым людям. Я сильней прижал ее к себе.
Араб невозмутимо ждал в машине, я распахнул дверь, пропустил Марию.
– Колючий… – Она провела ладонью по моей щетине. – Ты же купил эту штуку… для бритья… кисть?
«Помазок», – хотел сказать я, но вместо этого по-дурацки рассмеялся, пытаясь проглотить ком в горле.
Мария прижалась к моей щеке, прошептала:
– Мне нравится. Ты похож на русского варвара. Весьма брутально. – Тихо дыша мне в ухо, спросила: – А что ты раздетый, без пальто?
В черном окне суетливо мигали огни. Стеклянный от дождя Берлин проносился мимо, зигзагами отражаясь в мокрых мостовых. Мимо летели витрины, гирлянды, звезды, над Александерплац неоновый ангел беззвучно трубил в гигантский рог. До Нового года оставалось два дня.
11
Мария пошла прямиком в душ. Ливнем зашумела вода. Я бесцельно бродил по номеру, кусал губы, потом бросил чемодан на кровать, раскрыл и начал собирать вещи. Вытащив ящик из комода, перевернул и ссыпал носки, трусы и майки. Свитер скомкал, сунул в угол. Ботинки затолкал в другой.
– Ты что делаешь? – спросила Мария, розоволицая, в банном халате и белом полотенце, накрученном тугим тюрбаном.
Она растерянно стояла в дверях ванной.
– Мы улетаем! – пытаясь аккуратно сложить пиджак, ответил я. – Сейчас же! Едем в аэропорт и первым же рейсом – из этого чертова Берлина! Сейчас же!
– Я не понимаю…
– Что тут понимать? – Пиджак не хотел складываться, я швырнул его в чемодан. – Что тут понимать?! Не останемся же мы тут после того, что случилось…
– А что случилось? – Мария шагнула ко мне. – Что? – Глаза ее сузились, она добавила: – И пожалуйста, перестань мять вещи!
Я выпрямился, опустил руки.
– Во-первых, не случилось ничего, – глядя мне в лицо, тихо сказала она. – А во-вторых… Во-вторых, я не позволю какой-то шушере испортить мне отпуск. У меня отпуск всего две недели в году.
Мария расстегнула свой рюкзак, что-то достала.
– Я не собираюсь бежать, я не собираюсь глотать транквилизаторы. – В руке у нее была аптекарская склянка, она потрясла таблетками, как погремушкой. – Пусть сами глотают. Я не собираюсь зарывать голову в песок! Это моя жизнь, это наша жизнь – что ж, мы теперь будем бегать от каждой неприятности? Что случилось, то случилось. – Она откупорила склянку. – И ни таблетки, ни игра в прятки этого изменить уже не в силах.
Она зашла в ванную, таблетки весело забулькали в унитазе.
– Вообще мне нравится твоя внезапная решительность, – сказала она, возвращаясь. – Только давай будем применять ее в нужном направлении. Хорошо? И, пожалуйста, прекрати мять одежду.
Я пожал плечами и пошел бриться. Немилосердный свет, белизна кафеля, стальные блики на кранах и гнутых трубах. Наверное, она права… Я пустил кипяток, тугую громкую струю. Она права: изменить нельзя, надо принять. Мое лицо в зеркале затуманилось, приобрело расплывчатую привлекательность. Долго вымачивал помазок, от бобровой щетины потянуло диким зверем. Пена получилась густая и плотная, намылив лицо до глаз, медленно провел лезвием от виска до подбородка.
– Эй! – Мария стукнула в дверь и сразу ее раскрыла. – Ух ты! Тут турецкие бани просто. Ну, как бобер?
Я повернулся недобритым лицом с островками пены.
– Ты порезался… вон, на шее. – Мария тронула пальцем мой кадык, приблизилась.
Я дотянулся до полотенца, хотел стереть остатки пены, но не успел, она уже целовала меня в губы. Мятный дух мыла, малиновый привкус ее помады, вдобавок дикий бобер. Я закрыл глаза, притянул ее к себе. Она подалась вперед, ее твердый лобок уперся мне в бедро. Распахнул ворот ее халата, запутался с узлом, Мария, не отрывая губ и не открывая глаз, плавным жестом потянула за пояс. Халат тихо сполз на кафель.
Что такое пивная? Русское воображение, отягощенное советской памятью, при слове «пивная» тут же рисует мрачный подвал, похожий на грязный морг, с заплеванным кафелем пола и тусклым светом над высокими столами, похожими на переросшие поганки на тонкой ножке, вокруг которых толпятся неопрятного вида мужики. Из полулитровых кружек они сосут мутную желтую жидкость (урологические ассоциации тут неизбежны), которая именуется «жигулевское».
По московским легендам, увы, слишком похожим на правду, напиток этот разбавлялся водой сметливыми разливальщицами – этими румяными Зойками и Райками, нашими славянскими валькириями, влекущими свое нетрезвое воинство в нашу русскую Валгаллу. По тем же легендам, в разбодяженное пиво они добавляли стиральный порошок, дабы не нарушать главную заповедь русской пивной: «Требуй долива пива после отстоя пены».
Немецкая пивная – она другая. И не только потому, что там не сыплют в пиво стиральный порошок, а в меню, кроме каменных сушек с солью, еще двести блюд, вроде запеченного гуся с яблоками и копченых свиных ножек с хреном и тушеной капустой. Немецкая пивная – это клуб. Русская пивная – тоже клуб, но разница в статусе, как между подвалом анархистов и Кремлевским дворцом съездов. В Баварии съезды партий проходят в пивных, там выступают политики и министры. Эти пивные вмещают по несколько тысяч человек. Именно такой пивной и был «Бюргербройкеллер» на южной окраине Мюнхена. Восьмого ноября тысяча девятьсот двадцать третьего года там собрались три тысячи баварцев, жаждущих холодного пива и жарких речей. Ожидались выступления важных шишек – кронпринца Руперта и триумвирата Кар – Лоссоф – Сайсер, тогдашних правителей Баварии. Пиво было отличным, погода стояла солнечная, после речей обещали военный парад с музыкой – ничто не предвещало неприятностей. Однако в самом начале речи кронпринца в зал вломилась толпа решительных молодых мужчин с пулеметом. Их главарь запрыгнул на стол, выхватил револьвер и выстрелил в потолок.
– Да здравствует национальная революция! – закричал он. – Здание окружено! Всем оставаться на местах! Правительство Баварии и Рейха низложено, в настоящий момент формируется переходное правительство. Армейские казармы в наших руках, солдаты и полиция маршируют под нашим знаменем!
Ему подали флаг, он развернул полотнище и замахал над головой. Кстати, дизайн флага – черная свастика в белом круге на красном поле – придумал он сам. Накануне он записал в своем дневнике: «Завтра великий день. Завтра я или триумфатор, или мертвец».
Помимо нереализованной креативной энергии и склонности к пошлой театральщине, Гитлер, безусловно, обладал храбростью. Два железных креста, полученные в Первую мировую войну, тому свидетельство. Особенно второй: по рассказам очевидцев, Гитлер в одиночку сумел взять в плен сразу пятнадцать солдат противника; то ли англичан, то ли французов (последнее звучит более достоверно).
Был дважды ранен. Первый раз – в ногу в битве при Сомме; после лазарета вернулся в свой полк и был произведен в капралы. Второй – во время газовой атаки в местечке, ставшем впоследствии знаменитым – Ипр. Тогда он служил вестовым, доставлял пакеты и приказы. С присущим ему драматизмом Гитлер так вспоминал ту ночь:
– Меня накрыло. Газ опускался, как туман, смертельный туман. Справа и слева корчились, задыхаясь, мои товарищи. Я чувствовал смертельную отраву в моих легких, в моих глазах. Но мне все-таки удалось доставить донесение, мое последнее донесение той войны. Через час мои глаза превратились в горящие угли. Свет померк, и пала тьма.
В госпитале Гитлер узнал о подписании Версальского пакта. Эту позорную капитуляцию он воспринял как личную трагедию. На следующий день с глаз сняли бинты.
«Я вижу! – записал Гитлер в дневнике. – Я вижу не только окружающий меня мир, я вижу свою судьбу. Только глупцы, лжецы и преступники могут надеяться на милость врага. Германия на коленях, но я верю – она поднимется. Я вижу это ясно! Я вижу свою цель!».
Тогда в «Бюргербройкеллер» Гитлер действительно играл по-крупному. Он блефовал, утверждая, что армия и полиция на его стороне. Нахрапом ему удалось арестовать законно избранных руководителей Баварии. Его личный телохранитель Ульрих Граф, бывший мясник и боксер-любитель, затолкал их в кладовку за кухней, где Гитлер, размахивая револьвером, нервно кричал:
– Вы должны войти в мое правительство! Мы сейчас вернемся в зал, и вы объявите об этом! У вас нет выбора: в моем револьвере осталось четыре пули – три для вас и одна для меня!
Триумвират медлил. Тогда Гитлер, оставив упрямых политиков под присмотром экс-мясника, выскочил в зал и поднялся на трибуну. Зал притих.
– Триумвират – на стороне восставших! Там, – он ткнул рукой в сторону кухни, – уже формируется новое правительство. Отсюда, из Мюнхена, мы двинемся на Берлин! Предателей нации, подписавших Версальский пакт, я объявляю низложенными! Президента Рейха я объявляю низложенным! Здесь и сейчас рождается новая Германия! Мы выступаем на Берлин, этот порочный Вавилон, погрязший во лжи, предательстве и грехе. Мы спасем Германию, мы спасем немецкий народ. Победа или смерть!
Не первый и уж точно не в последний раз Гитлер беззастенчиво врал. Баварцы, услышав, что избранные ими политики перешли на сторону восставших, оставили подозрительность и аплодисментами поддержали оратора.
«Я никогда не забуду его лица в тот момент, – писал историк, – непосредственное, почти детское выражение полного счастья».
У Гитлера были любопытные отношения с ложью. Он запросто мог соврать или нарушить данное им слово. Объяснение было всегда одно: я сделал это для великой Германии. В той уловке была несокрушимая логика, но гораздо любопытнее был тот факт, что, начиная фантазировать, Гитлер постепенно сам начинал верить в свое же вранье. И очень часто каким-то мистическим образом, вопреки логике и здравому смыслу, его фантазии становились реальностью. Неудивительно, что у Гитлера появились подозрения в своей исключительности, ставшие впоследствии абсолютной уверенностью.
Однако в тот раз, в «Бюргербройкеллер», магия не сработала – фокусник тогда только учился. Путч провалился, Гитлер был арестован и предстал перед судом, он обвинялся в государственной измене. Приговор – пять лет тюремного заключения в замке Ландсберг.
Вся эта пивная история смахивает на водевиль, похожа на фарс с мрачным финалом. Перед арестом Гитлер даже пытался застрелиться. Казалось бы, полное фиаско: партия разгромлена, лидер за решеткой.
На деле провалившийся путч с последующим заключением стали для Гитлера поворотным пунктом. Судьбоносным. Именно в тюрьме у него появились время и возможность превратить сумбур страстных идей в стройную теорию.
Так родилась «Майн кампф» – священная книга Третьего Рейха. Восемьсот страниц текста с изложением взглядов автора на будущее Германии, Европы, мира. Он не скрывал ничего – ни своего отношения к евреям, ни намерения экспансии Рейха на восток, ни желания поквитаться за Версальский позор с французами и англичанами.
Иосиф Сталин явно не читал книги. В противном случае он бы не был так изумлен вероломством своего союзника, которому он поставлял вооружение и провиант, чьи офицеры и генералы слушали лекции в советских военных академиях. Единственное, впрочем, весьма слабое, оправдание: «Майн кампф» – смертельно скучная книга.
Издателю Максу Аманну с трудом удалось уломать автора изменить название, первоначально книга называлась так: «Четыре с половиной года борьбы против лжи, глупости и трусости». Менять что-то внутри книги автор отказался наотрез.
Мария заказала печеную свиную ногу с тушеной капустой, я, исходя слюной, выбрал что-то традиционно-колбасно-баварское – «мит картофель». Юный официант, румяный блондин в крахмальной рубахе пиратского покроя и в ледерхозен с вышитыми на широких бретелях эдельвейсами, боднул головой и щелкнул каблуками. Про каблуки я приврал, парень был в кроссовках, но в остальном, казалось, сошел с плаката «Орлята фюрера салютуют Родине».
– Потрясающе… – тихо сказала Мария, подавшись ко мне через стол. – Ну и генетика! Еще эти шорты…
– Ледерхозен, – уточнил я. – А вон, посмотри, та девица…
Я кивнул в сторону щекастой кельнерши с толстыми русыми косами, закрученными в хитрый калач. Молодуха задорно тащила полдюжины пива в литровых кружках. Две кружки оказались на нашем столе.
– Баварское, – сделав три больших глотка, выдохнул я. – Баварское…
В самом этом слове была некая пивная магия, горечь хмеля, свежесть пены. Я отпил еще. Баварское!
– Ну, если начать варить пиво в… – Мария посмотрела на клеймо мюнхенской пивоварни на боку кружки. – В тысяча триста двадцать восьмом году, то при некотором усердии к началу двадцать первого века можно научиться.
В большом зале пахло старым деревом, тут было людно, темно и по-немецки жеманно (по стенам – венки из сухих злаков, васильки и другая гербарная дребедень), но, впрочем, вполне уютно.
– Я сейчас сдохну от голода. – Мария ладошкой стерла пену с кончика носа.
Я тоже надеялся, что еду принесут быстро.
Ее принесли немедленно – юный ариец уже летел к нам с подносом, порции в оловянных тарелках оказались гигантскими. Мария чинно примерилась ножом к румяной рульке, потом, бросив прибор, впилась зубами в сочное мясо. Я, воткнув вилку в поджаристую сардельку, макнул ее в горчицу. Горячий сок брызнул во все стороны.
Я не был уверен, что осилю, но все-таки заказал еще литр пива – литр баварского.
– Отличное пиво у вас! – улыбнулся я блондину.
– О да! – Гитлерюгендовец азартно согласился, мотнув русым чубом. – Пивоварня основана монахами ордена святого Августина в…
– В тысяча триста двадцать восьмом году, – подсказала Мария.
– Да! А еще в монастырском саду – источник, там самая вкусная вода в Германии, именно она делает наше пиво уникальным. Ну еще монахи сами выращивают хмель и солод, тоже все свое…
– Вот это я понимаю, христианство! – Я сделал большой глоток. – Сам бы записался в такой монастырь. Ты из Мюнхена?
– Нет, – весело ответил парень. – Я латыш. Из Крустпилса. Это под Ригой. Двести километров на восток.
– А вон та? – Мария кивнула в сторону грудастой кельнерши с тугими кренделями кос.
– Марта? Это моя сестра.
Я огляделся, тихо спросил:
– А немцы тут есть?
Латыш вытянул шею, оглядывая ресторан:
– Хельмут. Во-он тот, длинный, у кассы. – Он кивнул в сторону худого очкарика, изнуренного онанизмом и похожего на грустную цаплю, наряженную кельнером.
Мария весело хмыкнула и снова принялась за свиную ногу.
– Что-нибудь еще, сэр? – Фальшивый ариец прищелкнул воображаемыми каблуками.
Пиво допить я не смог. Мария, отодвинув оловянную миску с живописной костью – голландский натюрморт, да и только, – вытерла губы салфеткой, аккуратно сложив тряпицу, пристроила ее на угол стола.
– Ты можешь по-человечески сказать, что ты узнал про самовар? – Она строго посмотрела мне в глаза.
– Про самовар? – Я звонко икнул. – Сейчас, погоди.
Мне принесли воды, вода не лезла, я упорно продолжал икать.
На улице икота вдруг прекратилась, я молча шел, осторожно прислушиваясь к себе. Асфальт сиял, словно был полит черным лаком. Мария старалась попадать в ногу со мной, но через пять-шесть шагов отставала, начинала семенить, пытаясь догнать.
– Да! Про самовар…
Я остановился у золотистого аквариумного окна мужского магазина. За стеклом витрины змеились тропические галстуки, пестрели носки, из темноты таинственно выползали башмаки разных пород. Я выгреб из карманов пальто все, что там было. Среди карманной дребедени – медяков, зубочистки, скомканной фольги от конфеты – нашелся мятый чек.
– Который час? – Я расправил бумажку, пытаясь разобрать корявые цифры.
– Девять сорок семь. А что?
– Дай мне телефон.
– А твой где?
– В Нью-Йорке.
Марии ответ явно не понравился, но она молча протянула телефон.
Как ни странно, Вилл сразу меня узнал и даже не удивился. Впрочем, последнее следует отнести к врожденной британской невозмутимости. По стеклянным акцентам звукового фона, унылому треньканью музыки, всплескам нетрезвого женского смеха я решил, что Вилл сидит в баре. Скорее всего, в том же самом.
Мария с подозрительным вниманием смотрела мне в лицо, я же был раскован и в меру остроумен, свободной рукой делал плавные жесты, потом начал прогуливаться вдоль витрины, туда и обратно. Иногда, довольный собой и собеседником, останавливался, привставал на носки и звонко смеялся.
– Вот так! – Я вытер телефон о рукав и протянул Марии. – Он пришлет ссылки на сайты архивов. Там вся информация.
– Кто? – Мария сунула телефон в карман. – Кто «он»?
– Вилл. Мой приятель, – небрежно ответил я. – Журналист из «Гардиан». Англичанин. Он тут уже десять лет. Занимается веймарской культурой, берлинскими кабаре. Развратом и декадансом, короче. Сказал, что архивы открыты и систематизированы до божественного уровня.
– До божественного? Так и сказал?
– Так и сказал.
12
Композитор Курт Вайль оказался нашим соседом. Там, в Америке. Он был похоронен в Нью-Йорке на кладбище Маунт-Репос, это минут двадцать от нашего дома в Гринвич-Виллидж. Из забавного – он был дважды женат на одной и той же женщине, певице Лотте Ленье. О его сексуальных эскападах не упоминалось, кличку Кролик тоже в Интернете не вспоминали.
Что касается музыки, то мелодистом он был отменным. Оказалось, знаменитая песня «Алабама», записанная Джимом Моррисоном незадолго до смерти, – это ария из оперы Курта Вайля «Возвышение и падение города Махагони». Не говоря уже о Мэкки-Мессере из «Трехгрошовой оперы» – эту штуку пели все, от Эллы Фитцджеральд и Фрэнка Синатры до Стинга и Джона Уэйта.
Курт родился в Дессау, в семье кантора местной синагоги. Достаточно поздно, в двенадцать лет, начал заниматься музыкой (меня приняли в школу при Гнесинке в пять – ну это так, к слову). Переехал в Берлин, учился у Бузони, в двадцать лет примкнул к левацкому кружку «Новембер-Группе», больше богемной, нежели политической компании художников и музыкантов. Там познакомился с Брехтом.
– Принеси минералки, а? – попросила Мария, отодвинув ноутбук.
Мне тоже не хотелось вылезать из-под одеяла, но я мужественно совершил поход до мини-бара и обратно. Свернул голову зеленой бутылке карликового размера, ловко угодил пробкой в мусорную корзину, протянул бутылку Марии.
– Эта свинина… – между шипучими глотками сказала она. – У нашего Кролика шансов, считай, не было: мало того что еврей, так еще и коммунист.
Насчет левого уклона композитора Мария оказалась не совсем права. Мы нашли письмо Вайля относительно работы с Брехтом над оперой: «Б. Б. хочет, чтоб я переложил на музыку манифест компартии, а я – чтоб мои мелодии насвистывал каждый трамвайный кондуктор».
Вайлю повезло: нацисты еще до прихода к власти объявили его «музыкальным преступником и культурным дегенератом, разрушителем традиций нордической музыки, пропагандирующим напевы евреев, негров и цыган и прославляющим кровосмешение, разврат и пьянство».
– Ух ты! – восхитилась Мария.
Из его писем мы узнали, что у композитора (для музыканта Вайль прилично разбирался в политике и следил за новостями) не было иллюзий относительно Гитлера.
Адольф, отсидев символический срок в девять месяцев – и это за государственную измену и попытку переворота! – в тюрьме Ландсберг, сделал однозначный вывод: власть нужно брать законным путем. Национальная революция должна опираться на конституцию. Врожденный авантюризм удавалось сдерживать до января тридцать третьего.
Тогда Гитлер получил от стремительно впадавшего в маразм фон Гинденбурга пост рейхсканцлера, однако его партия быстро теряла популярность и грядущие в марте выборы могли превратить нацистов в амбициозных, но лишенных власти маргиналов. С неизбежной потерей кресла рейхсканцлера. Гитлер был в истерике, он рвал в клочья официальные бумаги и ломал карандаши. Доставал из стола браунинг, мрачно заглядывал в ствол. Ситуацию спас министр внутренних дел Герман Геринг. Одновременно с министерским бывший пилот занимал пост председателя Рейхстага. Он вызвал толковых ребят из СС, выдал им шестьдесят килограммов фосфора и моток бикфордова шнура. Спички у ребят были свои.
В десять часов берлинские пожарные получили сигнал – горит Рейхстаг. Пламя еще освещало голые липы Тиргартена, еще с треском лопались стекла купола, а Гитлер уже обвинил коммунистов в поджоге. Журналисты и зеваки плотной толпой окружили Гитлера, фон Папена, Геринга и вездесущего хромого Геббельса.
– Поджог Рейхстага – сигнал к красному мятежу! – сипел Гитлер (до этого он пытался командовать пожарными и сорвал голос). – Сигнал к коммунистическому перевороту!
Огонь удалось потушить лишь к полуночи.
Утром Гинденбург подписал чрезвычайный декрет, действие конституции приостанавливалось на неопределенное время, компартия объявлялась вне закона. Гитлер получил неограниченную власть. Через год он объявит себя фюрером нации.
Умный Кролик Курт не стал дожидаться этого исторического события: в марте тридцать третьего Вайль уже был в Париже, через месяц состоялась шумная премьера «Трехгрошовой оперы» на Бродвее, сам Курт перебрался в Нью-Йорк через два года.
– Это все, безусловно, страшно любопытно. – Мария, ерзая, поправила подушку. – Но где наша самоварная подруга Анна-Лотта?
– Я думаю, надо письма смотреть. Если уж Кролик отправил своей крольчихе самовар…
– Погоди, – перебила Мария. – Не письма! Надо посмотреть состав оперной труппы! Не будет же он посылать ноты какой-нибудь белошвейке или модистке?
Оперу поставил берлинский театр «Шифбауэрдамм». Мы даже нашли древнее фото настоящей программки первого представления с круглым следом от стакана и чьими-то призрачными пометками на полях. В премьерном составе роль бандерши Дженни-Малины, бывшей крали Мэкки-Мессера и предводительницы лондонских проституток района Сохо, исполняла Анна-Лотта фон Розенбург.
– Господи! – Мария смиренно взглянула на потолок. – Спасибо тебе за Интернет!
Настоящая фамилия Анны-Лотты была Лейбовиц. «Берлинер цайтунг» в меру хвалила ее актерские таланты, иронично отзывалась о вокальных. На газетном фото – глазастая девица, яркая, словно подрисованная черным карандашом. Такие к тридцати резко дурнеют, брови срастаются на переносице, пробиваются усики и черный пух на скулах – впрочем, это я про свою бывшую жену говорю. Анна-Лотта, возможно, осталась такой же томной карменоликой красоткой и после тридцати.
Мария явно сглазила Интернет, следующий поиск вывалил на нас целую армию Лейбовицев обоего пола. Отыскать нашу томную красотку в этом Вавилоне оказалось невозможно, к часу ночи Мария сдалась и захлопнула ноутбук.
– Я хочу встретиться с этим твоим… – зевая, она придвинулась ко мне, – с твоим британцем.
13
Нас усадили в угол, одно окно выходило на Унтер-ден-Линден, другое прямиком на Бранденбургские ворота. Хворое утреннее солнце кое-как просочилось сквозь серую дымку, покрасило арку в зефирные цвета. Квадрига с крылатой Викторией выглядела мрачно, богиня победы потрясала увесистым штандартом с орлом откровенно нацистской породы. Птица, раскинув медные крылья, держала в когтях дубовый венок с Железным крестом, символом былых прусских побед.
– Когда Кеннеди был в Берлине, русские со своей стороны все завесили красными флагами. Тут как раз Стена проходила. – Вилл учтиво улыбнулся Марии, беззвучно помешивая кофе.
Кофе он заказал ирландский. Посмотрел на часы, одобрительно кивнул и попросил влить двойную порцию «Джемисона». До полудня оставалось еще сорок минут.
– Наполеон, кстати, побив пруссаков под Ауэрштедтом, прихватил квадригу с собой в Париж. В качестве сувенира. Немцы через десять лет заняли Париж и вернули Викторию домой. – Англичанин сделал глоток, аккуратно поставил чашку на блюдце. – Вообще, Гитлер должен был сказать галлам отдельное спасибо. После поражения Германии в Первой мировой войне именно Франция с маниакальным упрямством стремилась не только обанкротить немцев репарациями и отсечением земель, но главное – унизить Германскую империю. – Вилл отхлебнул кофе, печально вздохнул. – А немцы такого не прощают.
Мария кивнула.
Вилл улыбнулся и продолжил:
– И, как следствие – невероятная популярность национализма, замешанного на чувстве мести, на жажде реванша. Поэтому фюрер, бывший солдат, немецкий патриот и клинический неврастеник, питал к Франции особо сложные чувства: даже после сдачи Парижа и любовных клятв маршала Петена французов увозили в коровьих вагонах в рейх, где они работали на фермах и заводах безо всякой скидки на неоспоримое арийство.
На бульваре становилось людно, туристы фотографировали друг друга, сами себя, Бранденбургские ворота, отель «Адлон», где мы сидели. Двое японцев подошли вплотную к стеклу, стали разглядывать наш завтрак, посовещавшись, сфотографировали Марию, потом меня. Вилл угрожающе привстал – японцы исчезли.
– Психология немца… – Вилл снова улыбнулся Марии, – штука непростая. Крутой замес. Немецкий интеллектуал, испорченный Вагнером, Шопенгауэром и Ницше, пребывает в постоянной внутренней борьбе между очарованием жизни и неумолимой тягой к смерти. Болезненная изысканность таланта и румяная глупость здоровья. Вы помните, в «Будденброках»?
Между черными, мокрыми липами прогуливался некто, ряженный бурым медведем. На приплюснутой башке, больше похожей на крокодилью, сидела корона из мятой фольги. Ряженый изображал символ города, но желающих фотографироваться с чудищем не было. Иногда, впрочем, кое-кто украдкой щелкал урода из-под локтя.
– Веймарская республика родилась посредством кесарева сечения, но родовых травм избежать не удалось. – Англичанин промокнул фиолетовые губы жесткой, отменно белой салфеткой. – Последствия Версальского мира оказались мучительнее последствий войны. Согласия не было, да и быть не могло: социалисты, коммунисты, нацисты, представители юнкерства. Каждый был вооружен, каждый был на взводе. Компромисс и толерантность не приветствовались. Многих на фронте выдрессировали убивать, многие были готовы убивать и теперь.
Я окунул миндальный бисквит в какао – совершенно забытый вкус.
– Как насчет Курта Вайля? – перебил я британца.
Вилл отчего-то начинал меня раздражать – то ли менторский тон с нарочито кембриджским выговором, то ли профессорские ухватки. То ли улыбка, с которой он пялился на Марию. Мария строго посмотрела на меня, кивнула англичанину. Тот извинился и пошел в сторону туалетных комнат.
– Хорош! – восторженно прошептала Мария, провожая его взглядом. – Матерый какой! На библейского пророка похож.
– На индейца…
– Нет, индейцы вроде ваших чукчей – круглые и кривоногие. И алкоголики.
– Ну, это вам, бледнолицые братья, надо спасибо сказать, – хмуро ответил я.
Мне стало обидно за команчей, в которых я играл в детстве, за мускулистого югослава Гойко Митича, за гуронов и апачей, за Карла Мая и Фенимора Купера с их Чингачгуками, Зоркими Соколами и Виннету. Я подозвал официанта и заказал мартини. Мария посмотрела так, словно я попросил керосину. Она уже открыла рот, но тут из уборной вернулся наш пророк, и лекция продолжилась.
– Веймарская республика – колыбель авангарда. Творцы заглядывали в завтра, в послезавтра. Синие кони с полотен Марка, беспредметная проповедь Кандинского, экспрессионизм постановок Вальтера Газенклевера. Юные таланты громили помпезную тупость классических форм, отбрасывали пыльную ветошь классицизма. Прочь тоги, долой лавровые венки! Молодые жаждали культурного возрождения, возрождения духа, возрождения души.
Официант, серьезный, с лицом циркового тапира, принес мой мартини. Я сделал большой глоток. Вилл заказал себе еще ирландского кофе.
– Курт Вайль ничем не отличался от остальных новаторов: он экспериментировал в музыке, смешивал стили. В классическую гармонию смело вставлял синкопы африканских…
– Что вы имеете в виду под классической гармонией? – перебил я. – Вы говорите о средневековой внутриладовой системе с добавлением внутриладового хроматизма? Или о более поздней гармонии вроде фригийского оборота во второй части первого Бранденбургского концерта?
Мария укоризненно взглянула на меня и отвернулась к окну.
Вилл вежливо ответил:
– Ну что вы! При чем тут Бах? Я говорю о гармонической вертикали Стравинского, об автономной хроматике – помните заключительный каданс у Прокофьева? В «Ромео и Джульетте»? Помните?
Заключительный каданс в «Ромео и Джульетте»… Вот сволочь, подумал я и одним махом допил мартини.
– А про Анну-Лотту фон Розенбург вам что-нибудь известно? – Мария повернулась к англичанину. – Лейбовиц? Она пела в основной труппе «Трехгрошовой оперы», мы нашли ее в программке премьеры. И в «Берлинер»… как ее… газете.
Я хмыкнул, отодвинул пустой стакан и вытянул ноги под столом. Мария, глядя прямо в глаза, весьма ощутимо лягнула меня в лодыжку.
– Фон Розенбург? – Англичанин задумался на миг. – Знаете что? Давайте я вам устрою эксклюзивную экскурсию в архивы гестапо? Прямо сейчас?
Медведь на аллее снял мохнатую голову и закурил. Он оказался стриженой остроносой блондинкой.
Принесли счет, Мария расплатилась. С суровостью американской феминистки отвергла наши вялые попытки сунуть мятые купюры. Прошли беззвучными ковровыми коридорами. Швейцар, плечистый красавец в малиновом камзоле с адмиральскими аксельбантами, проворно распахнул перед нами мощную дверь. Мы вышли на сияющую от нежданного солнца Унтер-ден-Линден.
– Удивительная история, – пятясь, обратился Вилл к Марии. – Отель «Адлон» чудесным образом уцелел до самого конца войны. Вон там, всего в километре – Рейхстаг. Наша авиация к апрелю почти полностью разрушила центр, русские наступали оттуда. – Он махнул в сторону телевышки. – Они прямой наводкой били вдоль Унтер-ден-Линден, потом пустили танки с пехотой.
Дорические колонны Бранденбургских ворот действительно были в каменных заплатках, чуть отличавшихся по цвету.
– И буквально за день до капитуляции отель сгорел дотла. Причина – неосторожное обращение с огнем при курении. – Вилл усмехнулся. – Нынешний «Адлон» – всего лишь бутафория. Декорация. Хоть и по-немецки добросовестная. Здание восстанавливали по старым чертежам, каждый номер декорировали той же мебелью, даже обивку и портьеры подбирали, сверяясь с фотографиями. Тут ночевали, считай, все монархи Европы. Чарли Чаплин останавливался вон в том угловом номере. С видом на Тиргартен и Рейхстаг.
Мы вошли в тень арки. Черный плакат предупреждал на трех языках, включая русский: «Внимание! Вы покидаете Восточный сектор Берлина!»
– А вот тут проходила Стена. От арки шла на юг и на север. В сторону Шпрее.
Британец обращался к Марии, на меня посматривал мельком, не задерживая взгляда, словно я был ребенком или смирной собакой. Он поймал такси, распахнул дверь, учтиво наклонив голову. Мария кивнула, старый мерзавец сел впереди, затараторил по-немецки с шофером. Назвал адрес: Принц-Альбрехтштрассе. В такси воняло фальшивой хвоей и клеенкой. Мария нащупала мою кисть, сжала, я повернулся. Она сделала страшные глаза и с материнской укоризной покачала головой. Я вытянул ладонь из ее пальцев, сжал в кулак, сунул кулаки в карманы.
Ехали недолго, минут семь. К старому дому с терракотовыми колоннами и широкой лестницей, которую сторожили грустные львы, примыкала скучная коробка в три этажа с плоской крышей и слепыми узкими окнами. Вилл достал связку ключей, порывшись, открыл дверь. Мы оказались в тесном предбаннике. Вторую дверь британец открыл магнитной карточкой вроде кредитки.
– Серьезно, – сказала Мария.
– Немцы предпочитают экономить на сторожах. Ставят хорошие замки.
Вошли в коридор, длинный и тусклый. Без окон. Двери по обе стороны.
– Вот оно какое – гестапо! – весело сказал я.
– Нет, это не гестапо, – вполне серьезно отозвался Вилл. – Тут архив. А здание гестапо было взорвано русскими в пятьдесят шестом, вернее, то, что от него осталось после бомбежек и артобстрела.
– Значит, экскурсия отменяется?
– Почему? – Вилл остановился у двери с цифрой семнадцать. – Всему свое время. Прошу в мой кабинет.
Я ожидал увидеть архивные залежи. Сосновые полки до потолка с трухлявыми фолиантами. Изъеденные жуками гроссбухи, листы пергамента в брызгах крови, папки черной кожи с тиснеными орлами и свастикой. Ничего подобного. Кабинет запросто мог принадлежать провинциальному нотариусу или страховому агенту средней руки.
Мария спросила:
– Разве вы не журналист? Мне Дмитрий…
– Журналист… – Вилл пожал плечами. – События сегодняшней жизни, нынешние политики! – Он небрежно отмахнулся. – Это ж так постно, так хило, так вяло… особенно если сравнивать.
На дешевом письменном столе стоял допотопный монитор. Я подошел к окну, раздвинул пальцами жалюзи. С той стороны была железная решетка, выкрашенная бежевой краской.
– Как зовут вашу красотку? – спросил Вилл, включая компьютер. Агрегат нудно загудел.
– Фон Розенбург, – хором ответили мы.
– Анна-Лотта, – добавила Мария.
– Вообще-то, она Лейбовиц, – уточнил я. – Она была в премьерной труппе «Трехгрошовой оперы».
– Отсюда и начнем. – Англичанин резво заколотил по клавиатуре.
– Да мы уже пытались. – Я сел на угол стола. – Там такая прорва этих Лейбовицев. В Сети.
– Это не Интернет. – Британец взглянул на меня. – Это наша внутренняя база данных. Включая архив гестапо.
Анна Лейбовиц оказалась из вполне приличной семьи, семьи миллионера. Папаша Леопольд Лейбовиц занимался кожевенным делом, перед Первой мировой он сообразил, что армии понадобятся сапоги, много сапог. Ухватив несколько военных контрактов, он моментально разбогател, открыл самый крупный кожевенный завод в Силезии, потом еще один под Потсдамом. Стал поставлять кожу для офицерских портупей. Анна в это время ходила в школу – семья переехала в новый особняк в Шенефельде, – по воспоминаниям подруг, вела себя «как серая мышка». Училась играть на скрипке, брала уроки сольфеджио, была без ума от кинодивы Хенни Портен.
– Тогда все с ума сходили от Хенни Портен. – Вилл повернулся к Марии. – А кто ее знает сейчас?
Уткнувшись в монитор, англичанин читал с экрана и тут же переводил. Иногда, запинаясь в поисках нужного слова, он сухо прищелкивал пальцами. Мария сидела на единственном стуле, я уныло бродил от стены к стене.
Дела на фронтах пошли неважно, Леопольд Лейбовиц, не доверяя бумажкам, стал переводить капитал в золото. Золото и камни. Ему удалось приобрести на Амстердамском аукционе «Глаз Фафнира».
– Фафнира? – спросила Мария. – Это кто такой?
– Фафнир – огнедышащий дракон из легенды о Нибелунгах, – со сдержанным достоинством ответил британец. – Принц Зигфрид убил дракона и выкупался в его крови. Разумеется, стал неуязвим. Но, разумеется, к спине принца прилип лист березы. Со всеми вытекающими последствиями.
Вилл улыбнулся тонкими синеватыми губами и подмигнул Марии. Я поискал глазами что-нибудь потяжелее, чтобы огреть наглеца по голове.
Папаша Лейбовиц оказался прав: через несколько лет деньги превратились в мусор, чтобы отправить открытку из Берлина в Мюнхен, нужно было заплатить триллион марок. Анна к тому времени уже стала Анной-Лоттой и резво отплясывала в кабаре Рудольфа Нельсона. Сольных номеров ей не давали, она выступала в ревю с дюжиной других девиц. К ней прилипло прозвище «фройляйн с Александерплац», тогда же она познакомилась с Брехтом, который представил ее Кролику Курту. Курт взял ее в труппу, придумал балаганно-тевтонское имя «фон Розенбург».
Похоже, их отношения можно назвать любовью. В Берлине времен Веймарской республики аморальность не была грехом, аморальность была нормой. В любой берлинской школе девственность в пятнадцать лет считалась позором. Девицы даже вполне гетеросексуальных наклонностей хвастались своими лесбийскими связями.
В письме из Парижа Курт писал Анне-Лотте: «Не говори мне про больную мать, не говори, что ты не можешь их оставить. Умоляю тебя: подумай! Любимая, подумай даже не обо мне, даже не о нашей любви, подумай о наших будущих детях, подумай о себе! Умоляю тебя! Оглянись вокруг: Германия больна проказой, это смертельная болезнь. Бежать, и как можно скорей! Уехал Бертольд, Томас, уехала Марлен, а ведь они арийцы, даже не евреи. Я уже начал оформлять развод. Л. Л. не будет чинить препятствий, к сентябрю ты сможешь стать фрау Вайль. Меня приглашают на Бродвей, я получил телеграмму от Айры, они с братом…»
– Ну и так далее… – Англичанин пятерней зачесал волосы назад. – Композитор, конечно, оказался прав.
Ситуацию здорово осложнил Лейбовиц-папа: продав свою кожевенную империю, он начал вкладывать деньги в прессу. И снова чутье не подвело: газеты и журналы пухли от рекламных денег, тиражи росли. Республика быстро взрослела, у нее прорезался звонкий голос, ей понадобился рупор – им стала пресса. Папу политика не интересовала, его интересовали дивиденды.
Вскоре экономика оживилась, про нацистов, дебоширящих по пивным Баварии, обзывающих евреев и либералов предателями Германии, успели забыть, после провала путча Гитлер стал еще одним контуженым неврастеником ветераном.
– Беда в том… – Вилл вытащил клетчатый платок, вытер лоб. – Беда Леопольда Лейбовица, разумеется, была в том, что важность прессы учуял не он один. Нацисты от истерик относительно несправедливости бытия перешли к более продуктивной теме – национальной гордости. Чуткие немецкие сердца благодарно откликнулись. Партия получила на выборах в Рейхстаг шесть с половиной миллионов голосов, Гитлер стал главным редактором баварской «Фелькишер беобахтер», хромой Йозеф начал издавать антисемитский «Ангрифф». Геббельс пытался уломать Лейбовица продать «Берлинер абенд» и «Вохеншау». Леопольд отказал. С тех пор все издания Лейбовица доктор Геббельс называл не иначе как жидовско-коммунистическими…
– Господин профессор. – Я дурашливо кашлянул, Мария искоса взглянула на меня. – Хотелось бы вернуться к теме лекции – Анне-Лотте фон Розенбург.
– Разумеется, разумеется. – Англичанин уткнулся в экран. – Тут есть протоколы ее допросов. Показания. Вот, даже свидетельство о смерти. Вы знаете, СС выписывали свидетельства о смерти в концлагерях? Все чин по чину – с фамилией, ростом, весом. Даже причину смерти указывали. Тут, правда, фантазии не хватало, все больше инфаркт в графу «диагноз» вписывали. Иногда инсульт. Это перед тем, как отправить в газовую камеру.
Он замолчал, Мария уставилась в пол. Я хотел сострить, но благоразумно передумал.
14
Мы вышли в коридор. Нудно зудели лампы дневного света.
– Ну, как насчет казематов гестапо? – весело спросил Вилл. – Не передумали?
– Что, серьезно? – Мария оживилась. – Я решила, вы шутите.
– Ну что вы! Под зданием гестапо на Принц-Альбрехт, восемь, была тюрьма, ее завалило во время взрыва. Но оказалось, что подземелья тянутся на север до самой Кохштрассе, и когда строили это здание под архивы, на подвалы и наткнулись. Там же нашли целую фонотеку допросов. Сотни бобин с записями пыток. Впрочем, для тех, кто попадал в эти подвалы, это означало одно и то же. Да… – Он быстро потер сухие ладони. – Ну как, идем?
Два пролета крутых ступенек вниз, узкий коридор, дверь. Вилл распахнул ее, щелкнул выключателем. Тут стоял земляной дух, пахло сырым погребом. По серой побелке стен от пола к низкому потолку подбиралась черная плесень.
– Тут ничего не трогали, – почему-то шепотом произнес Вилл. – Есть мысль сделать частью музея. Не решили пока.
– Так это и есть?.. – Мария тоже шептала.
– Да. Пойдемте.
Англичанин кивнул нам, сам пошел вперед. Остановился перед железной дверью. Такие были в нашем школьном подвале, в бомбоубежище, тяжелые, в рыжих лишаях ржавчины, проступавших сквозь масляную краску мышиного цвета.
– Ну вот… – Вилл толкнул дверь и вошел.
Низкий потолок. Посередине камеры – классический комплект: табуретка, стол и стул. Я тронул ногой табуретку – прикручена к полу. В угол была вделана лежанка, рассчитанная на худого и невысокого человека. Мария вздрогнула, ухватила меня за локоть. Из стены торчал ржавый обруч. По бокам висели цепи. Шершавая стена в этом месте была заляпана грязными брызгами и потеками.
– Кровь? – глухо спросила Мария. – Это что, кровь? Да?
– Да. Часть психологической обработки. Это камера для допросов, в смежном помещении стояли магнитофоны, микрофоны вон там, в потолке, под вентиляционной решеткой. Гестапо по тем временам было на пике технического прогресса. – Вилл, оттянув манжет, взглянул на часы. – Некоторые следователи любили инструмент разложить перед допросом. Слесарный. Или медицинский. От наклонностей зависело.
Я подошел к стене, провел рукой по холодной сырой побелке.
– Человека вежливо приводят на допрос, а тут такое… – Англичанин вынул телефон из кармана. – Я вас оставлю на секунду, здесь сигнала нет. Хорошо?
Мария кивнула. Она, не отрываясь, смотрела на цепи и темные пятна. Дверь гулко ухнула, я повернулся к Марии, взял за локоть. Она потерянно взглянула на меня, потом, словно проснувшись, высвободила руку.
– Что с тобой? – гневным шепотом заговорила она. – Что ты вытворяешь? Как ты себя ведешь? Человек делает нам одолжение, а ты…
– А что я? Я должен спокойно смотреть, как он подбивает клинья?..
– Какие клинья? Ты что, совсем с ума сошел?
Я сжал кулаки, хотел закричать. Вместо этого сел на табурет и закинул ногу на ногу. Поправил брючину. Мария молча обошла меня по кругу.
– Этот старый павиан, – медленно проговорил я, – обхаживал тебя как… как… – Я не мог найти сравнение пообиднее, запнулся.
– Как? – Мария вплотную приблизила лицо, я уловил запах ее помады. – Ну как?
В этот момент погас свет.
Мы замерли, словно наша неподвижность могла как-то исправить ситуацию. Потом Мария тронула мое плечо:
– Что это? – Ее голос звучал плоско и странно.
Я пожал плечами, сообразив, что это не ответ, сказал неуверенно:
– Наверное, свет на таймере.
В тишине прошла еще минута, потом другая. Я слышал, как Мария дышит.
– Дай мне телефон. – Я протянул руку и уткнулся в мягкую ткань ее юбки.
– Тут сигнала…
– Ты можешь дать мне телефон?
Мария тоже догадалась. Экран ее мобильника загорелся призрачной синевой. Впрочем, фонарик вышел скверный. Мы на ощупь двинулись в сторону двери. Уткнувшись в холодное пупырчатое железо, я попытался нашарить ручку. Ее не было. Я с силой толкнул дверь. С таким же успехом я мог ломиться в стену.
– Тут нет ручки, – рассеянно произнесла Мария. – Странно. Нет ручки.
– Странно? – Я не пытался скрыть сарказм. – Это гестапо, понимаешь, гестапо!
Повисла тишина, я ощутил, как Мария наливается злобой.
Потом началось.
– Хоть раз в жизни ты можешь себя вести как мужчина?!
Я хмыкнул, но отвечать не стал.
– А не устраивать истерику?! – Мне в лицо ткнулся экран телефона. – В такие минуты ты должен поддержать, показать, что ты сильный. Что знаешь все ответы. Что все будет хорошо!
Мария всхлипнула, экран погас. Мы стояли в кромешной темноте у холодной двери и молчали.
– Посвети… пожалуйста, – сипло сказал я. – Ты не помнишь, как она открывалась? Внутрь?
Я попытался подцепить дверь сверху, потом снизу. Подцепить и потянуть. Подлезть сбоку, там, где замок. Царапал ногтями железный край, пытался просунуть в тугую щель пластиковую карточку. Мне уже начало казаться, что я занимаюсь этим безнадежным делом всю жизнь. Мария тихо дышала рядом, изредка шмыгая носом. Постепенно экран телефона потускнел, потом погас. Мария снова всхлипнула.
Темнота была абсолютной. Мария тихо плакала.
Боже мой, обычная испуганная девчонка!
Я обнял ее, прижал к себе. Она что-то пробормотала, я не понял, уткнулась мне в грудь и зарыдала. Я пялился в темноту и не знал, что делать, что сказать.
– Там… там, в парке… – сквозь всхлипы проговорила Мария, – ты знаешь… я там… обоссалась. От страха. Буквально. Понимаешь? Не фигурально, а просто обоссалась. Господи… В прямом смысле слова. Никогда не думала, что такое возможно. Обоссаться от страха.
Я закусил губу, что-то промычал, гладя Марию по голове. Она успокоилась и тихо сопела, изредка шмыгая носом.
Свет снова включился.
Минут через пять вернулся Вилл.
– Я для вас распечатал документы. – Он положил на стол картонную папку. – Материалы из дела Лейбовиц. У вас ведь вполне сносный немецкий, не так ли?
Я пожал плечами, взял папку, пролистал.
– Любопытно, что гестапо больше всего интересовал «Глаз Фафнира».
– Алмаз? – спросил я.
– Бриллиант, – уточнил Вилл. – В конце века, девятнадцатого разумеется, в Южной Африке нашли алмаз. Девятьсот с лишним карат, самый крупный на тот момент. Алмаз назвали «Эксельсиор».
– А при чем тут глаз этого… Фанфара?
– Фафнира, – поправил британец и сладко мне улыбнулся. – Алмазы такого калибра обычно дробят, «Эксельсиор» раскололи, кажется, на двадцать частей.
– Странно, я думал, чем алмаз крупнее, тем лучше.
– Безусловно, – согласился Вилл. – Впрочем, я уверен, эти ребята знают, что делают. «Глаз Фафнира» после огранки весил пятьдесят карат.
– Пятьдесят? – Мария повернулась. – Это какой же величины?
– Примерно вот такой. – Вилл небрежно сложил пальцы в кольцо и показал Марии.
15
В номере я придвинул журнальный столик к окну, поставил на него самовар. Снял конфорку, вытащил круг. Наклонив к свету, заглянул в темное нутро.
– Прекрати валять дурака, – засмеялась Мария, снимая пальто. – Алмаз в самоваре!
Она скинула сапоги, пошла мыть руки. Из самовара пахло старым металлом, пылью и гарью. Я попытался просунуть ладонь между трубой и корпусом – слишком узко, кисть вошла лишь наполовину. Пальцы беспомощно елозили по шершавой стенке.
– Вот так макак ловят. – Мария выглянула из ванной. – В Индии.
– Будешь потом умолять на яхте прокатиться! – Я вытащил руку, пальцы и ладонь были испачканы сухой грязью. – Все припомню.
– Не будет яхты. Алмаз придется вернуть.
– Бриллиант…
– Ну бриллиант. Все равно вернуть придется.
– А вознаграждение от благодарных наследников? Я рассчитываю на двадцать пять процентов! – Я зачем-то понюхал грязные пальцы. – Должно на яхту хватить.
– Зачем тебе яхта? У тебя же морская болезнь, помнишь, как в Коста-Рике…
– Да, да. – Про рыбалку в Коста-Рике вспоминать совсем не хотелось. – Яхта в данном случае символ. Просто символ.
– Даже как символ не получается. – Мария села на кровать, раскрыла ноутбук. – Алмаз – это собственность семьи Лейбовиц, а не беспризорный клад.
– А вдруг у них никакой родни не осталось? Ни одного наследника, даже самого завалящего? Что тогда?
– Ну тогда… – Мария бойко зацокала по клавишам, явно перестав слушать меня. – Тогда… Тогда да…
В начале мая к конторе Лейбовица на Курфюрстендамм подкатил «Опель», Леопольд курил у распахнутого окна и видел, как по лестнице поднялись два торопливых человека в униформе горчичного цвета. Секретарь доложил. Лейбовиц кивнул, их пустили. Оказалось, двое мальчишек.
– Мы, – выступив вперед, заносчиво начал тот, что повыше, – мы представители Немецкого студенческого союза!
Лейбовиц затянулся, разглядывая представителей. У высокого паренька на лбу зрел серьезный прыщ, второй студент вообще выглядел ребенком, которого нарядили почтальоном. Судя по красным повязкам со свастикой, союз студентов имел прямое отношение к партии национал-социалистов.
– Мы требуем… – высокий попытался эффектно выдернуть какую-то бумагу из тощей папки, лист застрял и порвался, – требуем…
Лейбовиц вспомнил, что нацисты месяц назад объявили бойкот еврейским предприятиям. Сам он считал свой бизнес абсолютно космополитичным; судя по всему, нацисты придерживались того же мнения.
– Вот. – Представитель протянул лист. – Тут порвалось, извините. Вот наши тезисы.
Надорванный по диагонали лист с серым машинописным текстом. Вторая или третья копия. Сверху, заглавными буквами:
«Акция против негерманского духа. Ответ на всемирную еврейскую клеветническую кампанию против Германии и подтверждение традиционных немецких ценностей».
Ниже – «Двенадцать тезисов против негерманского духа». Пробежав глазами первые три, обычная патриотическая трескотня, Леопольд споткнулся на четвертом. Четвертый пункт гласил:
«Наш самый опасный враг – еврей и тот, кто зависим от него».
Лейбовиц подошел к столу, воткнул окурок в пепельницу. Окурок пискнул и пустил бледную струйку дыма. Длинный студент, трогая пальцем прыщ, исподлобья следил за Леопольдом. Второй разглядывал офорт с мельницей на стене. Интересно, знает ли он, что это Рембрандт?
Пункт номер пять:
«Еврей может думать только по-еврейски. Когда он пишет по-немецки, он лжет. Немец, пишущий по-немецки, но думающий не по-немецки, есть изменник! Студент, говорящий и пишущий не по-немецки, сверх того бездумен и будет неверен своему предназначению».
Шестой пункт:
«Мы хотим искоренить ложь, мы хотим заклеймить предательство, мы желаем студентам не легкомысленности, а дисциплины и политического воспитания».
Номер семь:
«Мы хотим считать евреев иностранцами, и мы хотим овладеть народным духом».
– Вам нужен редактор? – Дочитывать косноязычную белиберду Лейбовиц не стал. – Чего вы от меня хотите?
– Мы хотим… – Высокий оставил в покое прыщ и выпятил грудь. – Мы требуем публикации тезисов во всех печатных изданиях вашего концерна! На первой полосе! Вы должны набрать текст готическим шрифтом красного цвета. Кеглем не меньше двадцатого.
– Что еще? – Лейбовиц посмотрел на часы.
– Напечатать нужно не позднее седьмого мая. Десятого мая состоится акция «Очищение огнем», нужно, чтобы до этого…
– Спасибо, господа, – перебил Лейбовиц, сложил листок, бросил на письменный стол. – Спасибо. Всего хорошего.
Посетители вышли, Леопольд сел за стол. Закурил, покрутил в руках лист, смял в тугой комок и бросил в корзину для мусора.
Акция «Очищение огнем» действительно состоялась вечером десятого мая на Кайзер-Франц-Иосиф-Плац. Этим помпезным именем не пользовались, берлинцы называли площадь просто – Оперплац, из-за соседства с городской Оперой. Через бульвар находился университет Гумбольдта, что тоже оказалось весьма кстати. Однако решающим аргументом стало соседство с Королевской библиотекой. Там были книги. Много книг.
– Я появлюсь там, когда уже будут полыхать костры! – Гитлер беззвучно прошелся по мягким коврам кабинета. – Уже опустится ночь, пламя будет реветь и уноситься к звездам.
Он остановился у напольных часов, черных, мореного дуба, похожих на поставленный на попа гроб, раскрыл дверцы и осторожно, чтоб не задеть маятник, подтянул гири. Ласково потрогал дубовую резьбу, тихо закрыл створки.
– Нет, мой фюрер! – страстно возразил Геббельс, подошел к Гитлеру, приволакивая правую ногу (обычно он врал про боевую рану, хотя на фронте никогда не был и хромал из-за детского полиомиелита). – Нет!
– Почему? Я – вождь нации!
– Именно! Именно, мой фюрер!
Гитлер удивленно повернулся.
– Наше движение входит в такую стадию, когда немцы должны научиться ощущать присутствие фюрера везде и во всем. В спальне, в церкви, в поле и у станка. Фюрер должен стать богоподобной фигурой. Фигурой, равной Зевсу. Всевидящее строгое око! Могучий и мудрый отец! Всесильный и беспощадный!
Гитлер, потирая бритый затылок, довольно закивал:
– Да! Я – рейхсканцлер великого рейха! – Он похлопал Геббельса по ватному плечу. – Все верно.
Он уже привык к уродству Йозефа, к его омерзительной хромоте; это десять лет назад, еще в Мюнхене, в Баварии, брезгливый Адольф отворачивался, когда этот калека, похожий на околдованного мальчика из жуткой сказки, пытался подлизаться к нему. К его партии. Сейчас Гитлер оценил и собачью преданность, и дьявольскую беспринципность, да и оратором Йозеф оказался дивным. Именно Геббельс организовал год назад предвыборную кампанию, все перелеты по стране. Гитлеру тогда удалось выступить в пятидесяти городах за месяц.
Геббельс протянул узкую ладонь, фюрер замешкался, но пожал. Гитлеру докладывали о похотливых мерзостях, он знал про хороводы певичек и танцовщиц, про тайный вертеп рейхсляйтера пропаганды в Грюневальде. Мнительный до маниакальности, фюрер страшно боялся венерических заболеваний.
«Акцию против негерманского духа» Геббельс пестовал полтора месяца, и ему совсем не хотелось делить свой триумф с Гитлером. Тем более мероприятие однозначно проходило по ведомству пропаганды. Правда, был еще идиот Лейстриц, изображавший из себя министра прессы, но этого задвинуть в дальний угол будет парой пустяков.
От Ораниенбургерштрассе, от студенческих общежитий, под радостную музыку духовых оркестров толпы стекались в мощную колонну на Унтер-ден-Линден. Штурмовики следили за порядком, парни из гитлерюгенда смастерили сотни факелов, казалось, река огня течет вниз по бульварам. Сорок тысяч человек, будущее нации.
Поначалу книги горели плохо. Примчались с канистрами, плеснули бензина, и тут же гора книг вспыхнула, осветив всю округу оранжевым. Небо утонуло в черном бархате, по зданию Оперы побежали гигантские крабьи тени. Забухал барабан, запели бодрые трубы. Напирающие с Унтер-ден-Линден колонны задорно грянули «Хорста Весселя». Сегодня нам принадлежит Германия, завтра весь мир!
Герхард Крюгер из студенческого союза кричал в микрофон:
– Скажем гневное «нет» фальсификации отечественной истории! Нет очернительству великих имен!
– Не-ет! – гремело над площадью.
– Будем свято чтить наше прошлое! – хрипели динамики.
Из толпы в костер полетели книги.
– Нет растлевающей душу половой распущенности!
– Не-ет! – громом ответила радостная площадь.
– Да здравствует благородство человеческой души! Я предаю огню сочинения Зигмунда Фрейда и Бертольда Брехта! Сжечь Генриха Манна и Эриха Марию Ремарка! Сжечь предателей!
– Сже-ечь!
– Нет антинародной журналистике демократически-еврейского пошиба в годы национального возрождения!
– Не-е-ет!
Геббельс, нервный и радостный, готовился к кульминации. После осипшего Крюгера выступил маститый Нольде, профессор из Дессау, некогда либерал. Потом говорил какой-то рыжий, смахивающий на семита журналист. Под конец он страстно декламировал из Нибелунгов.
Наступал апофеоз – клятва на огне. Геббельс откашлялся, отвернувшись, сплюнул. Клятва на огне была его идеей, эту часть торжества транслировали почти все радиостанции рейха. Незаметно вытирая потные ладони о штаны, Геббельс подошел к микрофону. Он помнил речь наизусть.
Снаружи пронзительно взвизгнули тормоза, глухо стукнул металл. Кто-то закричал.
– Что там? – вздрогнула Мария, отодвигая ноутбук.
Я соскочил с кровати.
– Авария, – глядя в окно, ответил я. – Фургон налетел на…
Белый фургон стоял поперек дороги – вид сверху, – на асфальте две черные загогулины, нарисованные колесами фургона, у самого тротуара валялся на боку скутер, один из этих, почти детских. Он был бирюзового цвета. Рядом, раскинув голые ноги, лежала женщина в небесно-голубом шлеме.
– Двадцать пять тысяч книг! – Мария снова читала. – Не считая газет и журналов! И это только за одну ночь и только в Берлине! Более чем в тридцати университетских городах по всей Германии прошла «Акция против негерманского духа».
Человек пять-шесть замерли на тротуарах, никто из прохожих не решался подойти к женщине. Из фургона медленно выбрался водитель, тоже остановился в двух метрах от нее.
– Слушай, вот еще. – Мария громко начала читать: – Геббельс в своей речи назвал акцию «Очищение огнем». Повторяя за ним, сорок тысяч человек поклялись в верности новой Германии.
«Твое отечество зовется Германией. Люби его превыше всего и больше делом, чем на словах.
Враги Германии – твои враги. Ненавидь их всем сердцем! Верши, что нужно, без стыда, когда речь идет о новой Германии!
Верь в будущее. Тогда ты станешь победителем!»
Сожжение книг стало не только актом устрашения, но и началом эпохи государственной цензуры и контроля над культурой.
Послышалась сирена, из-за поворота выскочила «Скорая помощь».
– Что там происходит? – спросила Мария.
– Ничего… – Я прыгнул на кровать, обнял Марию. – Ничего не происходит. Читай!
Мне не хотелось, чтобы Мария видела аварию, эти неподвижные белые ноги, черное пятно, выползшее из-под шлема на асфальт.
– Да! А вот что он записал в своем дневнике, слушай: «Какой день! Поздно вечером на Оперплац. Штурмовики и студенты жгут грязные книги. Я в прекрасной форме! Блистательная речь. После – домой и спать. Устал смертельно. Сказочное лето наступает».
16
Площадь оказалась пустой и скучной, как армейский плац. Огромный прямоугольник, вымощенный мелкой брусчаткой. Здание Оперы – с одной стороны, библиотека – с другой. Я ожидал увидеть стандартный монумент, банальный скульптурный набор – пламя из красного гранита, мраморные фолианты, рукописи, которые не горят. Площадь была не просто пустой, она казалось голой. Не считая пожилой пары под ультрамариновым зонтом, несильным ветром гонимой по диагонали в сторону Унтер-ден-Линден, тут никого и ничего не было.
– Иди сюда! – негромко позвала Мария.
Она замедлила шаг, разглядывая что-то под ногами. Я подошел. Это было окно. В брусчатку был вделан квадрат толстого стекла. Там, внизу, в слабо освещенной комнате, выкрашенной белым, по всем четырем стенам от пола до потолка стояли книжные полки, тоже белые. Пустые. Одна книга, словно случайно уцелевшая, лежала в углу. Я встал на стекло. Ощущение пустоты под ногами, стерильной, будто покрытой мертвым инеем пустоты.
– «Там, где жгут книги, скоро будут жечь людей, – прочла Мария, присев на корточки. – Генрих Гейне. На этой площади десятого мая тысяча девятьсот тридцать третьего года студенты-нацисты жгли книги».
Больше ничего. На белой табличке больше ничего не было – ни имен знаменитых писателей, угодивших в черный список, ни известных фамилий экзекуторов, ни пугающей цифры участников мероприятия.
Я огляделся, попытался представить пылающую гору книг, оранжевые отсветы на потных лицах, азартных и молодых. Жар, вонь бензина, запах гари. Высокий помост затянут красно-черным, помост еще пахнет свежими сосновыми досками. Геббельс нервно смеется, что-то говорит Лейстрицу, тот мнет бумагу, ждет своей очереди у микрофона. Геббельс показывает в сторону Унтер-ден-Линден, оттуда медленно прет людское море. Над головами, над факелами, над штандартами с орлами и свастикой, над площадью и бульварами черным снегом кружит пепел.
Мы решили избежать новогодней толчеи бульваров. Пошли в сторону собора Святой Гедвиги, коренастой католической церкви с куполом, до неприличия напоминающим женскую грудь. Мария угодила сапогом в лужу, стала ругаться, потом вдруг рассмеялась. Прошли по упругим доскам настила, под мокрыми стальными лесами – в Берлине стройка или ремонт через каждые сто метров. Выбрались на Фридрихштрассе, как раз к кондитерскому магазину Fassbender & Rausch.
За стеклом витрины сиял лакированной глазурью шоколадный Рейхстаг. Мы, словно дети, зачарованно застыли, разглядывая филигранные детали фасада и аппетитные фигурки нагих богинь по фризу. Дверь в магазин плавно раскрылась, на нас пахнуло горьким какао. Мария подмигнула и, порочно улыбаясь, потянула меня внутрь.
Высокие колонны, мраморные узоры пола, желтый свет антикварных ламп, на ярких прилавках горы шоколада – от нежно-кремового до черно-фиолетового, от ювелирных финтифлюшек в пестрой фольге до колотых шоколадных глыб, похожих на дикий камень. Вдохнув смесь кофейной горечи и карамельной ванили, коварно доведенной до наркотической концентрации, мы покорно влились в неспешный хоровод заколдованных посетителей, блуждавших среди витрин и диковин шоколадного искусства.
Тут была точная копия (1:2300) Бранденбургских ворот, высеченная из цельного куска горького шоколада. На колонне (мраморной и несъедобной) сидел скрюченный амур ростом с пятилетнего пацана, содержание какао – восемьдесят процентов. Живые, но тихие дети обступили действующую модель вулкана: шоколадная гора в непристойных конвульсиях извергала жидкий шоколад. Надпись «Не трогать». Рейхстаг, заманивший нас в ловушку, оказался безупречно слеплен не только с фасада, но и с тыльной стороны. Скульптор в шоколадно-творческом азарте добавил к композиции нескольких пешеходов и даже собаку, коккер-спаниеля.
Мария сфотографировала меня на фоне берлинской телевышки (содержание какао – шестьдесят процентов), символа недавних побед социализма. Шпиль был на голову выше меня. Тут же с потолка на шнуре свисал шоколадный биплан, наверное, тоже чем-то знаменитый. Таблички к кукурузнику я не нашел.
Взявшись за руки, склонив головы к стеклу, мы побрели вдоль прилавков. Продавец, самоуверенный до хамства, помесь мясника и шталмейстера, надменно выслушав Марию, выполнил заказ и вручил нам два здоровенных пакета из золотой фольги. Шоколад оказался на редкость тяжелым продуктом.
– Ты с ума сошла, – тихо сказал я на улице. – Что мы будем с этим делать? Тут фунтов восемь черного шоколада.
Дверь за нами беззвучно закрылась, чары рассеялись.
Мария улыбнулась:
– Съедим! Подарим друзьям! Раздадим бедным! – Она чмокнула меня в скулу. – Сегодня ночью наступает Новый год! Надо быть добрым и щедрым, мой хмурый русский друг!
Я кивнул, мы пошли в сторону отеля.
Наш новогодний ужин был заказан загодя, еще из Нью-Йорка. Мария с серьезностью банковского аналитика провела небольшое исследование, охватившее дюжины две кулинарно-культурных блогов и сайтов, препарирующих злачные места берлинского общепита, их меню, манеру обслуживания, винную карту, типаж завсегдатая – все, вплоть до марки фарфора и столового серебра. Я доверял вкусу Марии и не боялся оказаться в каком-нибудь дурацком балагане, ряженном под Версаль, с клавесином и ливрейными официантами, подающими столь оскорбительно малые порции еды с такими вычурными галльскими наименованиями, что казнь Марии-Антуанетты выглядит вполне оправданной. Знал я, что мы не окажемся в бутафорском замке с факелами и пыльными портьерами кровавых расцветок. Шанс встретить Новый год в загородном срубе, прикидывающемся подлинным охотничьим шато с индустриальных размеров камином из дикого камня и печальными рогатыми головами по стенам, тоже был ничтожен.
Мы дружно отвергли ужин в варьете Фридрихштадт-Паласт, рекомендованный нашим отельным циммергауляйтером, томным красавцем, до жути похожим на Фредди Меркьюри и со странным для берлинского гея именем Николай.
Я рассказал им – Николаю и Марии, – как мой приятель по Гнесинке Славик Урих уверял, что Фридрихштадт-Паласт по советскому телевизору – это лишь подцензурная версия, что на самом деле девчонки танцуют без трусов, а посетителям кабаре выдаются бинокли. Мария удивленно возмутилась, Фредди маслено повел карими очами и неопределенно усмехнулся в усики. Что касается Славика, то он сделал феерическую карьеру, с ходу получив место в оркестре Большого. А закончил в морге города Ларнака, что на острове Кипр, умерев в возрасте тридцати трех лет от цирроза печени.
Мы дошли до угла, остановились на переходе. Сумки с шоколадом резали пальцы. Машин не было, я сделал шаг. Мария, ухватив за рукав, вернула меня на тротуар. Я покорно уставился на красного человечка в светофоре. До ужина оставалось достаточно времени, я рассчитывал успеть в сауну. Может, поспать.
Наш новогодний ужин был забронирован в ресторане «Отто» на Фазаненштрассе. Мне приглянулся орнитологический адрес, Марии – история заведения. В начале двадцатых там собирались художники-дадаисты. Тогда это было затрапезное кафе, где счета за абсент и шнапс часто оплачивались картинами и рисунками.
– Георг Гросс нарисовал портрет хозяина Отто Собецки на обороте меню, – горячо говорила Мария, цокая каблуками по мостовой и едва поспевая за мной. – И этот рисунок сейчас висит там на стене! Представляешь?! И мы сегодня туда идем!
Я не очень разбираюсь в живописи, но лично я не стал бы позировать Гроссу: у контуженого ветерана Первой мировой все персонажи напоминали свиней и насекомых.
Я энергично кивнул, симулируя энтузиазм, и пропустил Марию в распахнутые двери отеля. Мы прошли фойе, шустрый портье вызвал лифт. Мария нажала на кнопку, повернулась ко мне. Мои руки оттягивал шоколад в золотых пакетах с тиснеными вензелями, я наклонился и уткнулся лицом в ее шарф, пробрался к горячей шее.
– Там бывал Томас Манн! – Мария засмеялась. – Прекрати, щекотно… Кете Кольвиц и Макс Бекман обсуждали там концепцию нового объективизма. Отто Дикс и Георг… Ну что ты делаешь?
Руки были заняты, я подбородком раздвинул шарф и стал целовать тонкую ключицу.
– Режиссер «Носферату» Фридрих Мурнау жил за углом, часто ужинал там… – Мария подбородком пыталась оттеснить меня, впрочем, пыталась вяло. – Приходил Фриц Ланг. Который «Метрополис»… Бывал даже фон Штернберг, после «Голубого ангела» он вообще… Да погоди ты, в лифте… – отчего-то перешла на шепот Мария.
Кабина плавно остановилась на шестом, двери беззвучно разъехались.
Я бросил чертовы пакеты прямо в прихожей, обхватил Марию, потянул в комнату. Она запнулась о ковер, пытаясь удержаться, сбила с тумбочки ночник. Мы вместе рухнули на кровать.
– Ну что такое? – возмущенно шептала она. – Надо хоть в душ…
– К черту душ! – Я тоже перешел на шепот, ловя ее губы.
– Дай хоть сапоги…
– К черту сапоги…
Путаясь в ее пуговицах, расстегнул пальто. Мария отбросила шарф, я задрал свитер, нашел губами набухший сосок. Мария с тихим стоном выгнула спину. Моя рука кралась по скользкому капрону колготок, мешала тугая юбка. Протиснув ладонь, я развел ее ноги, по горячему бедру пробрался выше. Сжал упругий бугор лобка, под пальцами пульсировал жар. Мария подалась навстречу, ловя ритм моей руки, громко задышала и медленно раздвинула колени.
Зазвонил телефон – бесцеремонно и зычно. Мария застыла в ожидании следующего звонка. И третьего. Мои пальцы продолжали ритмично мять, вспотевшая ладонь продолжала давить, ласкать, но даже то, что я мял и ласкал, настороженно ждало следующего звонка. Грохнул четвертый звонок – веселый и наглый. Мария змеей вывернулась из-под меня, цепко ухватила трубку.
– Да, это я. – Голос прозвучал с обыденной деловитостью.
Меня обидно кольнул переход от жгучей страсти к бухгалтерской вежливости, обидел даже не сам переход, а его моментальность. И его безукоризненность – я бы так не смог. Словно звонок отвлек ее от газеты, или от кормления голубей, или еще от какой-то скучной чепухи.
– Да, соедините. – Мария недовольным жестом поправила перекрутившуюся юбку.
Я смотрел на Марию, а она куда-то сквозь меня, будто читала афишу за моей спиной. Я медленно сполз с кровати. Не спеша выпрямился.
– О да! – сердечно обрадовалась Мария. – Конечно, конечно, узнала! Нет, совершенно ничем.
Я с укоризной пожал плечами, небрежно повесил пальто на крючок в прихожей. Медленно прошел в ванную. Тщательно и зло мылил руки, прислушиваясь к ее голосу сквозь плеск воды.
– Это очень мило с вашей стороны, да. Спасибо!
Скомкал полотенце, кинул в угол. Поднес ладони к лицу. Сквозь фальшивую лаванду мыла ясно пробивался терпкий дух Марии, дразнящий звериный запах, от которого хотелось завыть. Хотелось выпустить когти, ощериться острыми клыками, чтобы потекла сладострастная слюна. Зарычать! Хотелось громогласно зарычать, чтобы эхо пугливо заметалось по притихшему городу, чтобы трусливые самцы забились в щели, в норы, чтобы шерсть на их вспотевших холках встала дыбом. Чтобы их блудливые лапы больше никогда не дотрагивались до телефонных аппаратов, никогда не касались интимных цифр нашего глубоко частного номера.
Я выключил свет и тихо вышел из ванной.
– Ну что вы, ни в коем случае! Это вы нас обяжете. – Мария казенно улыбнулась мне. – Да, он тут, и он уже готов. Через пятнадцать, да, отлично.
– Это Вилл! – радостно сообщила она, бросив трубку на кровать.
– Я уже понял, – мрачно отвернувшись к окну, буркнул я.
Мария беззвучно подошла, обняла сзади. Пытаясь подлизаться, укусила за мочку уха.
– Ну хочешь… – кошачьим голосом прошептала она, скользя рукой от пряжки ремня вниз. – Если ты, конечно, управишься минут за пять… Ну?
– Спасибо! – Надеюсь, она уловила сарказм пополам с обидой. – Как-нибудь в другой раз.
– Последний раз спрашиваю… – искушала Мария, поглаживая гульфик. – Ну?
Дьявол на левом плече хватался за рога и отчаянно орал мне в ухо: «Дурак, соглашайся!» Если голос справа и принадлежал ангелу, то сегодня там дежурил законченный идиот. Я норовисто вырвался из объятий.
– Пошли! – бросил я и направился к выходу.
Бар был совсем рядом – через дорогу, огромным окном выходил на Фридрихштрассе. У дверей шайка воробьев устроила свару из-за горбушки, налетевшая ворона, ловко ухватив добычу, взмыла в небо. Назывался бар «Ньютон». Судя по колоссальным черно-белым фотографиям голых моделей на кирпичных стенах, питейное заведение назвали вовсе не в честь основоположника теории всемирного тяготения. Вилл, бровастый и хмурый, как сонный филин, сидел в углу, над ним висел двухметровый фотоотпечаток мосластой стервы в хищных сапогах на шпильке.
Мария весело протянула руку, рассыпая стандартный набор американских приветствий. Хрыч заулыбался и растопырил клешню, пожал ее тонкую ладонь. Я выругался про себя и сунул кулаки в карманы пальто; желание двинуть по чеканному профилю британца казалось почти непреодолимым.
– Да, да! У меня там возникает такое же чувство, – с трагической вежливостью согласился Вилл. – Мария рассказывала про Оперплац, про памятник с книжными полками. – Да, именно невосполнимая пустота. Да, да…
Мария заказала яблочный сок, я – пиво. От злости на большее моей фантазии не хватило. Белесый официант, почти альбинос, насмешливо переспросил и удалился.
– У них лучшая коллекция скотча в Берлине, – с ласковой укоризной сказал мне Вилл.
Я даже не обратил внимания на реплику, разглядывал голую стерву на стене. Мускулистый живот, острые локти, небольшая, но убедительная грудь. Бесстыжая вперила в меня презрительный взгляд: пива ему! Вилл звякнул ледышками, сделал аккуратный глоток, авторитетно кивнув, одобрил свое эксклюзивное пойло.
– Вы, разумеется, знаете, Оскар Граф – беллетрист, автор сборника «Баварский Декамерон», – вкрадчиво начал Вилл. – На следующий день после книжной акции он опубликовал открытое письмо под заголовком «Сожгите меня». Его книги не только не оказались в «огненном списке», но, более того, были рекомендованы нацистами к прочтению. Боюсь переврать цитату… – Англичанин смиренно улыбнулся. – Но общий смысл письма сводился к следующему: требую, чтобы мои книги были преданы чистому пламени костра, а не попали в кровавые руки и испорченные мозги коричневой банды убийц… Весной тридцать третьего еще оставались смельчаки. – Вилл вытащил из внутреннего кармана бумаги, несколько сложенных листов. Расправил, протянул Марии. – Весьма любопытная переписка, касающаяся Лейбовицев. – Англичанин выпятил подбородок. – Из канцелярии криминальдиректора Фрица Ранга. Это еще до реорганизации, в тридцать девятом: гестапо включат в Четвертое управление РСХА, и геноссе Ранг получит чин оберштурмбанфюрера СС.
Я отпил пива, бросил скучающий взгляд на ксероксные листы. Мария завороженно рассматривала печати с орлами, серую машинопись, петлистые подписи давно истлевших группенфюреров.
– Кстати, сам термин «гестапо» был придуман в почтовом ведомстве, какому-то почтальону просто осточертело выводить на бланках «гехаймштадтполицай». – Вилл громко откашлялся, продолжил: – Малоизвестный факт – отцом конторы является Геринг, весной тридцать третьего он создал скромный отдел по борьбе с политическими преступлениями. Без особого удовольствия поруководив шпиками, через пару лет переключился на авиацию. Но влияние осталось. Именно люди Геринга занимались составлением списков сокровищ, принадлежавших немецким и австрийским евреям.
Мария слушала, разглаживая копии документов.
– Лейбовиц собрал удивительную коллекцию. Гравюры по большей части. Дюрер, Рембрандт, знаменитый «Грюневальд» Кранаха.
Мне стало тоскливо. Меня злил Вилл, злил его ровный баритон, его идеальный английский, его британский, кембриджского покроя, акцент. Внимательный профиль послушной Марии причинял почти физическую боль. Я постепенно цепенел, втягивал свои нежные щупальца под ненадежный панцирь. Окружающий мир перестал прикидываться, это уже была настоящая агрессия.
– В этих бумагах речь идет о бриллианте. – Вилл насупил брови, похожие на пару седых гусениц. – Уверен, что инициатива шла от Геринга.
– Это его подпись? – спросила моя нежная отличница. – Вот тут?
– Ну что вы, – снисходительно улыбнулся добрый профессор. – Это Фриц Ранг.
Жаль, в притоне нет фортепиано. Я знал, что никогда не сделал бы этого, но от осознания тайной силы стало легче дышать. Пройти сквозь сон, тихо приоткрыть крышку. Я знал даже, какую вещь сыграл бы. Первый этюд до-мажор Шопена – чистая ворожба!
Магия проникает постепенно, словно яд. Звуки текут сами собой. Вот уже заткнулся англичанин, Мария в молитвенной истоме сложила руки, зачарованно замер альбинос – рука, поднос, стакан, – беззвучная челядь выплыла с кухни. Шопен – идеальная мимикрия для моей руки-предательницы, легкое прихрамывание вполне можно выдать за рубато. Кстати, известно ли вам, господин энциклопедист, что с итальянского данный термин переводится как «украденное время»? Никаких ассоциаций не возникает?
Они увлеклись, постепенно утонув в именах и регалиях, в годах и названиях географических пунктов. Гауляйтер Заттлер и рейхсфюрер Гиммлер, Данциг и Дрезден – я терял нить разговора, безнадежно дрейфовал куда-то в отдаленную вселенную, куда человеческая речь долетает щебетом и свистом, похожими на песни дельфинов и вздохи китов. Дымчатый свет отражался от лица Марии золотистым сиянием, реальность постепенно таяла. Мне уже начало казаться, что я все это видел, что все это уже происходило: и сумрачный бар, и лунный профиль Марии, ее бледная рука на темном дереве стола, свет внутри стакана – такой неземной, почти волшебное мерцание. Беззвучно приплыл альбинос, склонился, моргнув белыми ресницами. Мария улыбнулась, что-то ответила. Официант исчез, я зачарованно продолжал смотреть на Марию: чуть вздернутая верхняя губа, узкий нос с горбинкой, рядом шрам (детская отметина, какая-то качельная история с соседской девчонкой). Тронув мочку уха, она беззвучно засмеялась, на миг взглянула на меня. Взглянула оттуда, из своей вселенной. Стало жутко – будто я смотрел старую пленку, меня почти нет, я – куча бурых листьев на краю оврага, жду ветра. Траектория от восхода до заката оказалась не такой уж кривой – и гораздо короче, чем обещали путеводители. Портной из-под Львова, худосочные суздальские дворяне, густая тамбовская кровь – хитросплетения хромосом, и все впустую, все на ветер. Даже талант, не просто талант, а божий дар – тоже на ветер. Все на ветер! Впрочем, пока этот ветер не налетел, я буду крутить это кино, буду смотреть его снова и снова: чуть вздернутая верхняя губа, узкий нос с горбинкой, рядом шрам – детская отметина.
17
Последний день года протиснулся-таки закатным лучом в щель между крышами и подбрюшьем мохнатой тучи. Я как раз терзал галстук – старался смастерить достойный узел. В прошлый раз я завязывал бабочку пять лет назад, еще в Амстердаме. Солнце ворвалось в наш номер, комната ожила, серая казенная стена оказалась почти серебряной. Даже уродливая литография с чем-то вроде портрета погибшей на шоссе птицы вспыхнула густым ультрамарином с лихими кляксами краплака. Мария появилась в дверях ванной. Попала в луч, застыла, жмурясь и беспомощно улыбаясь. Золотая, с искрами в мокрых волосах. Я мысленно поблагодарил Бога, или кто там отвечал за небесную механику: этот кадр намертво впечатался в мою память.
Мы подошли к Унтер-ден-Линден, до нового года оставалось пять с половиной часов. Город быстро темнел фасадами, расползался густыми тенями по переулкам. Берлин никак не мог решиться зажечь фонари и витрины. По небу, неожиданно посветлевшему, растеклась нежнейшая лиловость, словно кто-то капнул в сливочный пломбир черничного сиропа и как следует перемешал.
Бульвар тек людской рекой, тек в сторону Бранденбургских ворот. Автомобильное движение перекрыли, люди шагали по тротуару, по мостовой, по бульварной аллее. Мы влились. Прыткая девица с изумрудными волосами попыталась угостить меня пивом. Кто-то жахнул петардой, все вокруг закричали, начали палить из хлопушек. Впереди показался черный силуэт арки с колесницей.
Мария шагала со строгой уверенностью адъютанта, несущего секретный пакет, от макияжа она казалась старше, в лице появился китайский акцент, чуть настораживающий своей неуместностью. Шпильки и прямая спина делали ее почти высокой.
– Главное – прорваться к третьей сцене! – азартно сказала девица с изумрудными волосами.
Я не считал это главным, но согласно кивнул:
– А что там?
– Как что? Там Р-17! И еще эта команда из Швеции, «Клаустрофобия»!
Из Швеции я никого не знал, если не считать «АББА» и случайной подруги Хелью из моего гастрольного романа семилетней давности.
Девица высосала пену и аккуратно спрятала пустую бутылку в армейский рюкзак.
– Это что – хлопушки?
Из рюкзака торчали пестрые штуковины явно пиротехнического назначения.
– Хлопушки? – обиделась девица. – Это «Тропический гром»! Тридцать разрывных ракет… как там… вот! – Она прочла, вытянув один из цилиндров: – «Заключительный аккорд праздника – тридцать золотых пальм расцветут голубыми и золотыми звездами и с оглушительным треском прольются пульсирующим дождем. Вы и ваши гости будете в восторге». А он – хлопушки…
– А это вообще… легально?
Девица, выпучив глаза, скроила потешную рожу. Я почему-то подумал, что у меня вполне могла быть дочь ее возраста.
– Вы откуда? – насмешливо спросила она. – Из Северной Кореи?
– Ну почему? У нас тоже в некоторых штатах разрешены, но вот…
– В Берлине, – перебила она, – фейерверки, салют, ракеты, петарды – это главное!
– Я думал, что главное – пробиться к третьей сцене.
– Ну и это тоже.
Мария повернулась, подозрительно взглянула на девицу:
– О чем это она?
– Что в Берлине через шесть часов будет как в сорок пятом. У всех будут ракеты, и все будут палить.
– А это легально?
– Вроде…
Мария задумалась, ощутимо ткнула меня локтем в бок:
– Спроси у нее, где можно купить. Я тоже хочу.
У Бранденбургских ворот нам с трудом удалось вырваться, толпа уплотнилась и уверенно втекала в огражденный турникетами проход. Там, за воротами, на площади в одиннадцать квадратных километров, все уже было готово к самому грандиозному гульбищу на территории Европы: три сцены, сотни баров, сотни туалетов. Миллион человек, у каждого второго в рюкзаке – упаковка «Тропического грома».
– Слава богу, такое у нас не устраивают. – Мария осторожно поправила волосы. – Представляешь, что бы натворил миллион пьяных американцев?
Я представил и согласно хмыкнул, хотя подумал вовсе не об американцах.
Берлин в темное время суток отличают участки неожиданного и полного отсутствия освещения. Даже в центре. В районе Потсдамерплац мы угодили в одну из таких черных дыр.
– Где эти чертовы фазаны? – Я наступил на что-то мягкое.
– Какие фазаны?
– Фазаненштрассе, – ответил я, оттирая невидимую мерзость с подошвы. – Кабак этот чертов.
Тут сбоку что-то взорвалось, громко и неожиданно, я пригнулся и выругался. Завизжали девицы, отозвались зычные голоса юных хулиганов. Началась мелкая пальба из хлопушек, кто-то пустил шутиху. Ракета, шипя, взвилась и с треском разлетелась бледными искрами.
– Не-е, это не «Тропический гром». – Мария нащупала мою ладонь. – Пошли.
Фасад ресторана «Отто», очевидно, не ремонтировали со времен Веймарской республики. Перед входом толпились празднично одетые курильщики. Бросив лет шесть назад, я относился к курящим с пренебрежительным раздражением.
– Фрау Вестбрук? – Старик с красивым лицом ловеласа церемонно выставил руку, словно приглашал Марию на тур вальса.
Мария радостно улыбнулась.
– Добро пожаловать в «Отто»! Мистер Вестбрук?
Я решил не разочаровывать старика и скупо кивнул. Он галантно проводил нас к столу. Мария с детским восторгом шепнула мне:
– Откуда он узнал, что это я?
Я хотел сострить, но благоразумно промолчал.
Стол оказался крошечным, не больше шахматной доски. Я мог поцеловать Марию в губы, просто наклонившись вперед. До наших соседей справа и слева я мог дотянуться, не вставая со стула.
– Как уютно, господи!
Она сжала мою ладонь. Это был превентивный ход, с таким же успехом можно было назвать уютным переполненный автобус. Я принял моментальное и единственно верное решение:
– Да. Очень. Очень уютно.
Я, разумеется, мог сказать правду. Что здесь тесно, количество гостей вдвое превышает нормы пожарной безопасности, что здесь шумно и светло, как в привокзальном туалете, что холсты с разномастной мазней вперемежку с фотографиями напоминают студенческую общагу художественно-графического факультета, что средний возраст гостей приближается к ста, что пользоваться детской мебелью очень неудобно, что… да много что еще. Я мог сказать правду и угробить наш новогодний ужин.
Возник вертлявый брюнет с хамскими глазами и небрежной бабочкой, сунул нам картонки меню. Меню оказалось на французском. Мария с опаской взглянула на меня, быстро сказала:
– Я учила французский, все очень просто. Сейчас… Вот это…
В предбанник у туалетной двери был втиснут стол, там некто, похожий на моряка, ласкал томную девицу с парафиновым лицом. Над ними висел фотопортрет Ива Сен-Лорана.
Вино поправило ситуацию, я плеснул в бокал Марии еще, наполнил свой до половины. На соседке слева был меховой жакет, застегнутый камеей. От меха тянуло мертвым зверем. Дальше белела чья-то оголенная до поясницы спина, вялая, с россыпью старческой гречки по лопаткам.
– Может быть, за этим самым столом пила абсент Марлен Дитрих! – Мария таинственно улыбнулась.
– Да. Вполне может быть. Вполне.
За столом справа ужинал дородный африканец в дорогом костюме и с повадками дипломата. Он обращался по-французски к своей сотрапезнице, дебелой тетке, точной копии вермееровской «Молочницы». Она чинно кивала, беспрестанно промакивая губы салфеткой. В углу шумела компания стариков богемного вида – остатки седых локонов, фрачные пары, пестрые жилеты, цветные галстуки. На сушеной даме, похожей на стрекозу, было накинуто фривольное боа из крашенного голубым страуса.
В промежутке между закусками и жарким выяснилось, что наша меховая соседка – прокурор округа Грюневальд. Об этом сообщил ее спутник, шустрый дедок с хитрым прищуром курортного шулера. Ужинать почти вплотную и не перекинуться парой фраз казалось просто невежливым. Мы разговорились. Прокурорша отказывалась много пить, у нее на завтра было назначено важное слушание. Дедок заказал вторую бутылку мозельского и требовал гульбы на всю катушку.
– Видите ту даму? – Прокурорша кивнула головой в сторону крашеного страуса. – Это правнучка Мунка. Который «Крик». У нее был жуткий роман с внучатым племянником Аниты Бербер… Вон тот высокий джентльмен, видите?
– Анита Бербер, – подалась к ней Мария. – У Отто Дикса, кажется, есть портрет?
– О! – воодушевилась прокурорша. – Анита считалась распутной даже по меркам тогдашнего Берлина. Причем не за сценические выступления – в эротических танцах, которые исполнялись в голом виде, она имитировала оргазм. Она была бисексуалкой, обожала массовые оргии, хвасталась, что как-то отдалась тридцати двум мужчинам за ночь. И кончила не меньше пятидесяти раз. Что за чушь! Кто считал?
Прокурорша говорила с едва заметным акцентом, невинно украшая академическую речь нецензурными словами. Дедок втихаря подливал ей мозельского. Мария сияла, зачарованно сцепив пальцы. Даже мне начало нравиться тут.
– Кокаин, морфий, опиум – этим в Берлине никого не удивишь. Анита смешивала хлороформ с эфиром в хрустальной вазе, размешивала все розой, непременно белой, а после отрывала и ела лепестки. Вот так! Не говоря о том, что она была законченной алкоголичкой.
Стало шумно, кто-то разбил стакан, под скатертью дедок незаметно тискал колено прокурорши. Мария, подвинув бутылку, чмокнула меня в кончик носа.
– Вот видишь? – спросила тихо.
Я молча кивнул и поцеловал ее в губы.
18
До двенадцати осталось тридцать пять минут. Мы вывалились на улицу, Фазаненштрассе была темной и пустынной, такси можно было ловить до утра. План Марии рушился на глазах.
– Тут метро рядом! – крикнула она и потянула меня в черноту.
– Отлично! Всю жизнь мечтал встретить Новый год в метро!
– Что ты предлагаешь? – Она резко остановилась, я с ходу наскочил на нее.
– Ничего! В метро!
В подземке оказалось неожиданно людно и весело. Мы выскочили на платформу, тут же подкатил поезд.
– Куда он идет? – Мария растерянно дергала меня за рукав.
– Черт его знает!
Я поймал проходящего паренька и вдруг понял, что не помню названия нашей станции. Поезд зашипел дверями, я, подхватив Марию, влетел в вагон. Состав плавно тронулся.
– Ты уверен? – Мария тоже запыхалась и часто дышала.
– Нет…
Пассажиры – подвыпивший молодняк, громкий и задиристый, в драных джинсах и стильных авангардных тряпках – поглядывали на нас с классовой неприязнью. Я расстегнул верхнюю пуговицу, небрежно улыбнулся наглой девице в кожанке. Она выпятила нижнюю губу со стальным кольцом.
Мария пыталась разобрать разноцветную путаницу метросхемы на стене. Я наткнулся взглядом на недобрые стеклянные глаза бритого наголо юноши с татуировкой, выползающей из-под воротника к уху. Парень отхлебнул из пивной бутылки и хотел что-то мне сказать. Я отвернулся к окну.
В черном стекле на фоне призрачно уносившихся огней увидел наши патрицианские отражения. Моя алая бабочка, ее жемчуг на голой шее. Колеса стучали, туннель отзывался громовым эхом, Мария растерянно шевелила губами, силясь прочесть километровые названия немецких станций. Я обнял ее за талию, крепко прижал к себе. Одиннадцать сорок три. Да, так встречать Новый год мне еще не приходилось.
Мария повернулась, неожиданно сказала на весь вагон:
– Гутен абенд![13]
Молодняк уставился на нас.
– Херцлих ноен яр! – Мария, улыбаясь, махнула рукой. – С Новым годом!
Кто-то засмеялся, кто-то ответил.
– Вир… геен нах… Жандарменмаркт![14]
– Вир фарен[15], – автоматически поправил я Марию.
– Вир харен… – Она сбилась, перешла на английский. – Как туда добраться, мать вашу, ну кто-нибудь, кто-нибудь знает?! Жандарменмаркт?
Несколько человек наперебой начали советовать, бритый откупорил пиво и протянул мне, я отхлебнул, передал Марии.
Мы выбежали наверх на станции Кохштрассе. На пересечении с Фридрихштрассе. Часы Немецкой церкви показывали без десяти двенадцать. До Жандарменмаркт было всего две минуты быстрым шагом.
Я не видел столько народу здесь даже днем. Предприимчивые ребята из «Ньютон-бара» разбили на углу площади шатер, где вовсю торговали шампанским. Я ухватил бутылку и пару бокалов.
– О! Стекло! – удивилась Мария. – У нас бы наверняка заставили пить из бумажных стаканов.
Я промолчал: право критиковать Америку Мария оставляла за собой, мои замечания тут же безжалостно уничтожались сравнением с моей исторической родиной.
– Нужно загадать желание… – Я открутил податливую французскую проволоку, хлопнул пробкой. – Но про себя… И ровно в двенадцать…
– Да знаю, знаю. – Мария подставила посуду. – Лей!
Жандарменмаркт напоминала поле боя – от хлопушек и петард над площадью полз сырой дым, вспыхивали пестрые гирлянды, разноцветные лучи шарили по клубам дыма, упираясь в низкое небо или отбрасывая гигантские тени на стены домов. Кисло воняло жженым порохом.
– Это тут? Тут, да? – К нам подскочила нервная итальянка, состоявшая из глаз и красного рта. – Тут муниципальный фейерверк? Пьяцца ди жандарми? Да? Это тут?
– Да! – крикнула Мария. – Тут! С Новым годом!
– Грация! – Итальянка впилась мне в щеку мокрым ртом, заорала что-то своим соотечественникам на углу. Они тут же откликнулись шумной вороньей стаей.
Площадь замерла. Длинная стрелка на башне сдвинулась и слилась с короткой, часы начали отбивать полночь.
– Не забудь желание загадать! – Я обнимал Марию, она считала удары.
– Да, да! Я хочу…
– Не говори!
Мы поцеловались.
С двенадцатым ударом площадь взорвалась, где-то совсем рядом ударила настоящая артиллерия. У меня тут же заложило уши. Прямо над нашими головами с треском разлетались ослепительные звезды – ярко-малиновые, золотые, изумрудные. На наши головы сыпался золотой дождь, сверкая, словно богатый улов волшебной сети. Мы пили шампанское и снова целовались. На той стороне рядом с баром что-то рвануло, мощно, с оттягом. Вверх, хрипя и плюясь искрами, понеслись огни. Наверное, это и был «Тропический гром».
Старикан с внуком лет семи раскладывал рядом свою пиротехнику. Ракеты размером с охотничий патрон, красные, с хвостиками бикфордова шнура, были привязаны к полуметровым палкам. Дед вставлял палку в пустую бутылку, внучок поджигал запал.
– Господи, как я хочу такую! – горячо прошептала Мария мне в ухо.
Я подошел, учтиво поздравил пиротехников с Новым годом. Достал бумажник, вытянул какие-то бумажки. Мальчишка спросил у деда, тот кивнул. Пацан протянул мне ракету.
– Найн, найн! – Дед отвел мои деньги ладонью. – Дас ист айн гешенк![16]
Я сунул мальчишке купюру в карман, Мария наклонилась, чмокнула его в лоб. Вокруг нас громыхал пиротехнический ад.
– У меня есть план! – сжимая ракету, прокричала Мария. – Бежим!
В фойе гостиницы бродил праздничный люд, отельфюрер Николай – наш красавец Фредди Меркьюри – откупоривал бутылку шампанского, болтая с двумя дамами, у елки сновали какие-то припозднившиеся дети. Мы поднялись на последний этаж, остановились перед дверью. Тут располагались массажные кабинеты, сауна, парилка, комната отдыха. Мария достала наш ключ – магнитную карту, сунула в щель. Загорелся зеленый глазок, замок щелкнул и открылся.
– Не зажигай свет! – прошептала она. – Иди за мной!
Черный пол вспыхивал квадратами отсветов из окон, казалось, мы крадемся по волшебному льду. По потолку калейдоскопом плыли чудесные краски, наливались светом и медленно гасли. Пальба на площади не стихала, муниципальная артиллерия дала отбой, за дело взялись местные энтузиасты.
Миновали массажные кабинеты, вошли в комнату отдыха. Мария открыла дверь на террасу – она выходила в колодец двора.
– Шикарный вид! – шепотом съязвил я, оглядывая угловатый силуэт черных крыш, загораживающих полнеба.
– За мной! – Мария перелезла через загородку и оказалась на крыше.
– Ты что, с ума сошла? – В руках у меня была ополовиненная бутыль «Моет» и наши бокалы. – На крышу я не полезу…
– Давай-давай! – Мария поманила меня палкой с ракетой. – Я тут все разведала еще вчера. Совершенно безопасно, загородки – дойче инжениринг! А вид – обалдеть!
– Нет-нет. – Я стремительно трезвел. – Мокрая жесть, ржавые поручни… Ты что? Нет, нет. И потом я высоты боюсь. Нет. Давай возвращайся, посидим тут, вот удобные шезлонги… Стол, видишь?
Мария молча выпрямилась, наверное, разглядывала меня, я различал лишь ее силуэт. Небо от дыма и ракет покраснело и стало цвета томатной пасты. Я не врал: высота на самом деле действует на меня не лучшим образом. Парализующе.
– Где твоя русская удаль? – Мария пыталась шутить, но уже начала злиться. – Где, как ее, эта ваша бесшабашность? Я же не в русскую рулетку предлагаю играть! Безопасная крыша! Отель пять звезд, все в лучшем виде! Ты русский или что?
– Я гражданин США, и, пожалуйста, пожалуйста, вернись сюда! Ну что за ребячество? Мария, я тебя прошу!
Не видя ее лица, я мог лишь догадываться. Мария молчала.
– Знаешь… – начала она и задумалась.
От этого «знаешь», от ее тона мне стало не по себе.
– Знаешь, тут дело не в крыше… – Она сделала паузу. – Я ведь не чокнутая дура, скакать по карнизам в поисках острых ощущений. Ты ведь знаешь…
Я пожал плечами.
– Там, на площади, я загадала желание. Про нас, понимаешь? Про тебя… И если я не говорю про музыку, про твою руку – это не значит, что мне плевать! Я могу тебе помочь, но я не могу тебя спасти. Только ты сам можешь. Никто, кроме тебя. Понимаешь?
Я кивнул; что я мог сказать?
– Я не хочу следующие сорок лет сидеть и горевать о твоей рухнувшей карьере. Гладить по головке, чесать за ушком и перебирать вырезки из твоих пионерских газет.
– Нет никаких вырезок.
– Есть! В твоей голове! В мозгу! Вырезки, статьи, овации… Выходы на бис! Ты ведь этим и живешь. Не собой нынешним живешь, а тем, которого уже нет, – лауреатом, солистом, вундеркиндом. А себя нынешнего ты ненавидишь – ненавидишь и презираешь. А я не хочу с таким жить… Не хочу, понимаешь?
От Бранденбургских ворот катился упругий басовый ритм, гулко ухала задорная музыка. Наверное, дошла очередь до шведов. Мне стало тошно, я бы заплакал, если бы помнил, как это делать. Мария оказалась права: мне снова до слез было жаль себя.
Подошел к загородке, Мария молчала. Мои руки были заняты, я неуклюже обнял ее. Дух гари смешался с ее запахом.
– Знаешь… – прошептала она, я едва расслышал, – когда любишь, надо просто верить. Закрыть глаза, взять руку и пойти за тем, кого любишь. Не спрашивая. Просто пойти.
Я перелез через загородку, мы пошли вверх по мокрому железу. Мария впереди, держа ракету над головой, как магический жезл. Поднялись по уступам и оказались на площадке между двумя кирпичными трубами. Я ухватился за ближнюю, осторожно выпрямился. Мария и тут оказалась права, вид отсюда был действительно обалденный.
Внизу лежала площадь, по бокам – две церкви-близняшки, театр, ярмарка. Все это едва проступало сквозь плотный дым. Кульминация буйства явно миновала, пальба стала потише, да и огни фейерверков пожиже. Кто-то терзал аккордеон и диким голосом пел из «Паяцев». Веселье приобрело уверенную монотонность.
Разлили остатки шампанского, от трубы я старался не отходить. Мария, сделав глоток, подошла к краю, поставила ногу на железную загородку. Оглядела город. Больше всего я боялся, что она позовет меня. Но она, повернувшись, спросила:
– Настал час и нашего салюта, а? Где бутылка?
Мария сунула ракету в горлышко, щелкнула замком сумки. Порывшись, выудила картонку спичек с надписью «Отто». Вспомнил поднос с коробками при входе в ресторан.
– Ну ты… – прошептал я. Предусмотрительность Марии иногда ставит меня в тупик.
Ракета взвилась свистящей свечой, хлопнула и разлетелась малиновой астрой. Расцвела, озарив нас и залив мокрую крышу сиропным блеском. Мария ахнула, тихо и восторженно, не сводя взгляда с огней. Я целовал ее в шею, цепляясь за жемчуг бус. Нитка лопнула, звонкий горох застучал по жести.
– Черт с ним… – Мария схватила меня за затылок, поймала горячим ртом мои губы.
По небу ползли клочья дыма, вспыхивали фейерверки и осыпались блестками. Внизу взрывалось и бухало. Мария отбросила сумку. Не зная, что делать с тугим платьем, я ухватил за подол, потянул. Платье закаталось и вывернулось, как перчатка. Мешало пальто. Придерживая его локтем, нащупал пояс колготок, дернул. Колготки затрещали.
– Ну что такое… – хрипло прошептала Мария, быстро стянула их до колен.
Откинув рукой полу пальто, повернулась к трубе. Уперлась ладонью в беленый кирпич, наклонилась, расставив ноги. Под моими подошвами захрустел жемчуг. Внизу что-то грохнуло, по косматому небу полыхнуло сиреневым. С площади раздались восторженные вопли, там загоготали и захлопали в ладоши.
19
Было около полудня, Мария еще спала. Спала так тихо, что я, чуть испугавшись, осторожно тронул ее за плечо. Она что-то пробурчала и отвернулась к стене. Вылезать из-под одеяла не хотелось, да и нужды не было – я дотянулся до папки с бумагами, которые вручил наш любезный британский друг. Полистал. Ксерокопии оказались вполне приличного качества, кое-где текст был бледен, но читался без труда.
Верхний документ оказался докладной запиской криминальдиректора Карла Вундерлиха. Карл рапортовал о результатах беседы с Анной Лейбовиц, которая в дальнейшем именовалась «субъектом». К субъекту применили психологическую меру второй степени, была проведена экскурсия в блок «Д» с демонстрацией. Карл считал, что следующий допрос целесообразно провести через неделю – второго декабря, в среду. Рекомендовал установить немедленное наблюдение над субъектом, прослушивание телефона и полный контроль как входящей, так и исходящей корреспонденции. Рядом с подписью штурмбанфюрера Вундерлиха стоял год – тридцать третий.
До Хрустальной ночи оставалось пять лет.
Педантичные гестаповские перлюстраторы вскрывали письма, аккуратно перепечатывали их. Я нашел письмо Анны Лейбовиц к Курту, похоже, она написала его сразу после первого допроса.
«…Потом мужчина в форме – я на сто процентов уверена, что на нем была эта мерзкая униформа СС, черная, с черепом в петлице, – он посоветовал мне быть откровенной. Он сказал: «Хочу показать, как это важно – быть правдивой с нами» или что-то в этом духе. Он все время улыбался, и я не понимала, он шутит или говорит всерьез.
Потом мы спустились вниз, в подвал. То, что я увидела там, будет стоять перед глазами до конца жизни. Сколько бы я ни прожила, я вряд ли смогу забыть этот подвал. Ад! Там был настоящий ад.
В подвале он перестал шутить. Там были клетки с заключенными. Он орал. Словно приказывал скоту, свиньям. «Всем встать, подойти к решетке!» Он сжал мой локоть, повел по коридору от одной камеры к другой. За решетками я увидела людей, их лица были разбиты, совершенно изуродованы, в засохшей крови. Я не могла представить, что с лицом человека можно сделать что-то подобное. Не могла представить, что один человек способен так изуродовать другого. Выбитые зубы, у одного вместо глаза была просто дыра. Черная страшная дыра в лице. Нет, такое не забыть, они и сейчас стоят перед глазами, эти лица.
Не знаю, сколько времени прошло, мы вернулись в кабинет. Этот офицер сказал: «Вот так может случиться и с тобой, если не будешь говорить правду. Мы очень не любим лжецов. Даже таких симпатичных. Тем более что потом никто уже не будет знать, какой милашкой ты была». Он снова шутил и улыбался.
Потом он сказал, что мой отец – враг рейха, враг фюрера. Что за одно это меня можно арестовать прямо сейчас и отправить вниз. Но он так не поступит, поскольку надеется на мое благоразумие.
Курт, милый Курт! Самое страшное – я совершенно не понимаю, что им от меня нужно!»
Мария, что-то пробормотав, ткнула меня коленом, перевернулась и со вздохом накрыла голову подушкой. На часах уже было двенадцать двадцать три.
Леопольд Лейбовиц действительно оказался врагом рейха, об этом свидетельствовало решение суда. Суд изымал средства пропаганды и передавал их в подчинение министерству печати. Преступник приговаривался к исправительным работам. Леопольда отправили в Баварию, несколько месяцев назад там открылся первый концлагерь. Гиммлер, будучи баварцем, сам выбрал место. Недалеко от Мюнхена, уютный провинциальный городок. Воздух, природа – места почти курортные. Городок назывался Дахау.
Леопольд угодил в лагерь как политзаключенный. Быть евреем в тридцать третьем еще не считалось преступлением. Впрочем, тем летом рейхстаг принял первые законы, запрещавшие евреям заниматься врачебной и юридической деятельностью. Через пару месяцев евреев уволили из всех государственных учреждений, включая армию. Через два года, в тридцать пятом, был принят Нюрнбергский акт – евреи лишились немецкого гражданства, их браки с арийцами объявлялись незаконными.
Вот короткий документ – письмо Франца Шварца, казначея национал-социалистической партии. Жалуясь на нехватку денежных средств в региональных отделениях, особенно в восточных, он простодушно предлагал руководству СС поправить дела, «сконцентрировав внимание на зажиточных слоях еврейского населения».
– Только не надо горячиться, – сказал тогда Гитлер. – Меня не интересует экспроприация средств отдельных евреев. Мы должны покончить с ними раз и навсегда. Их богатства – кровь и пот немецких рабочих. Мы должны восстановить справедливость!
Гитлер уже стал рейхсканцлером, фюрером. Вождем нации. Коммунисты раздавлены, карликовые партии оппозиции не имеют влияния ни в рейхстаге, ни в народе. Теперь можно спокойно и обстоятельно решить еврейский вопрос. А решение этого вопроса поможет разобраться и с другими проблемами.
– Справедливость! Да! Именно восстановить справедливость, – горячо поддержал Геринг; он отвечал за четырехлетний план возрождения экономики, не хватало золота на импортные закупки, о повышении налогов Гитлер и слышать не хотел. Еврейские деньги могли здорово поправить ситуацию.
– Фюрер прав! – Геббельс почти каждое свое высказывание начинал с этой фразы.
Гитлер поджал губы и кивнул – он считал хромого самым преданным из всех. Тут он не ошибся. Через девять лет хромой отправится вслед за хозяином, проглотив цианистый калий.
– На евреев должен обрушиться гнев немецкого народа! Именно народа! Не партии, не штурмовых отрядов. Народа великой Германии! – Геббельс вскочил, стукнул детским кулаком по столу. – Немецкий народ должен подняться с колен, схватить за глотку гадину. И придушить!
– Все так, герр доктор. Все верно. – Гейдрих что-то чиркал карандашом в блокноте, поднял голову. – Я тоже за спонтанный гнев народных масс. Спонтанный и хорошо подготовленный.
Он встал – патриций, лисье лицо, ухоженные белые руки. Второй человек в СС после Гиммлера. В сорок втором его смертельно ранят в Праге, через двадцать часов он умрет. В отместку Гитлер прикажет расстрелять десять тысяч чехов.
– Мы подготовили план депортации польских евреев, – сказал Гейдрих. – Около шестнадцати тысяч. Как только рейхстаг примет закон о лишении евреев гражданства, мы начнем депортировать их в Польшу.
Гейдрих улыбнулся, показав красивые ровные зубы.
– Польша их не примет. Западные демократии любят обвинять нас в антисемитизме, однако сами не спешат раскрывать объятия. – Он тихо засмеялся, добавил: – Мир сегодня поделился на страны, где евреи жить уже не могут, и страны, куда их еще не пускают. Я уверен: из этой патовой ситуации на польской границе непременно должно получиться что-нибудь занятное.
В сорок третьем году будет выпущена почтовая марка с посмертной маской Гейдриха, марка будет стоить шестьдесят пфеннигов, сам Гейдрих будет здорово напоминать Юлия Цезаря.
28 октября 1938 года польские евреи, получившие немецкое гражданство в годы Веймарской республики, были его лишены. По приказу Гитлера они должны были покинуть Германию в течение двенадцати часов. Никакого багажа – на одного взрослого один чемодан. Двенадцать тысяч человек погрузили в вагоны и отправили в сторону польской границы.
Поляки действительно не приняли евреев, беженцы застряли на границе. Тысячи человек под проливным дождем. Некоторые пытались бежать обратно в Германию, немцы расстреляли их из пулеметов. Поляки вызвали полк подкрепления, тоже выставили пулеметы. Беженцы оказались стиснуты с двух сторон, дождь перешел в мокрый снег, земля раскисла, превратилась в болото.
Начались болезни. Польский еврей Зендел Гринспан эмигрировал в Германию в 1911-м, все годы прожил в Ганновере. Теперь оказался тут. У жены Зендела простуда перешла в горячку, ни врачей, ни лекарств не было. Гринспану удалось отправить открытку сыну – тот учился в Париже.
«…Нас погрузили в тюремные машины, по двадцать человек, привезли на товарную станцию. Пока везли по улицам, толпы людей кричали: «Вон из Германии! В Палестину!» На станции играл оркестр, будто справляли праздник. Никто не сказал, куда нас везут, но, когда я увидел вагоны для скота, я понял: это конец. Нам запретили брать деньги, у Ривы отняли серьги и кольца, даже обручальное. Я боюсь, у нее пневмония, врачей тут нет. Дорогой Хершель, если можешь, пришли хоть сколько-нибудь – адрес тут».
Хершель получил открытку третьего ноября. Ему удалось собрать деньги, отправить их отцу. Утром седьмого Хершель зашел в ружейную лавку на Сен-Жермен, купил револьвер и коробку патронов. В немецком посольстве попросил встретиться с консулом. Консул был занят, к нему вышел советник посла Эрнст фом Рат. Хершель выстрелил три раза. Он не пытался бежать, в полиции у него нашли записку: «Да простит меня Господь! Я должен это сделать, чтобы весь мир узнал о том, что происходит в Германии».
Фом Рат умирал мучительно, все три пули попали в живот. Скончался он девятого ноября. Гитлер узнал о его смерти во время торжественного ужина, праздновали годовщину Пивного путча. Фюрер прервал речь и вышел из зала. За ним, хромая, засеменил Геббельс. Приглашенные молча сидели пятнадцать минут, есть осмелился только Геринг. Потом Геббельс вернулся.
– Фюрер решил: партия не должна сдерживать гнев немецкого народа. Воля народа священна! Его месть будет страшна, но эта месть справедлива! Убийцы должны, наконец, ответить! Ответить за все!
Ужин на этом закончился. Наступала Хрустальная ночь.
Гейдрих прямиком направился на Принц-Альбрехтштрассе, разослал телеграммы гауляйтерам всех земель Германии. Начинать немедленно. Иностранцев не трогать, громить только еврейские лавки. Никакой униформы, никаких флагов – обычные бюргеры, негодующий немецкий народ. Были оповещены все полицейские управления: погромам не препятствовать. Изъять архивы синагог, составить списки взрослых мужчин.
Штурмовики начали около десяти, через час их поддержали эсэсовцы. На сборных пунктах погромщикам выдали топоры и кувалды. Еще раз напомнили: никаких грабежей. Еврейское имущество – достояние рейха. Начали с синагог: били витражи, крушили церковную утварь. Вытаскивали архивы и ценности. Поджигали. Рядом дежурили пожарные, следили, чтоб огонь не перекинулся на соседние дома.
Пошли по адресам. Вытаскивали на улицу полуголых, в пижамах, в ночных рубахах. Вытаскивали и били. Забивали насмерть, остальных заставляли смотреть. Перепуганных заталкивали в грузовики, везли на станцию. Отправляли в Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд.
Потом громили лавки, магазины. Ефрейторы следили, чтобы ребята не перестарались: приказ есть приказ – товары и продукты не портить, бить только витрины. Соседские мальчишки тоже швыряли камни, носились и орали. Полицейские наблюдали со стороны, не вмешивались. Хрустальная ночь продолжалась.
Я вздрогнул: с лестницы послышался шум, какая-то возня. Словно волокли мешки с картошкой. Гулко хлопнула дверь, эхом в пролетах заметалась отрывистая речь. Зашаркали быстрые шаги, кто-то пробежал мимо нашего номера. Я толкнул Марию, она промычала, натянула на голову одеяло. В нашу дверь постучали, сильно и уверенно.
– Кто там? – спросил я.
– Откройте! – рявкнул мужской голос.
– Что вам нужно?
Вместо ответа в дверь заколотили, потом щелкнул замок. Дверь распахнулась. В комнату вошел человек в шляпе и старомодном дождевике, за ним еще двое.
– Какого черта… – начал я, хотел вскочить.
Под одеялом я был абсолютно голый, этот факт меня смутил.
– Ваши документы! – потребовал тот, в шляпе.
Незаметно я пытался растолкать Марию.
– Послушайте, дайте нам одеться! Какое право вы вообще…
Шляпа, не поворачиваясь, что-то приказал тем двоим. Один быстро прошел к окну. Там, на столе, стоял самовар. Он приподнял его, повернул к свету.
– Да! Тот самый!
– Эй, вы! Поставьте на место! Вы что тут…
Шляпа наклонился и резко хлестнул меня по лицу. Сорвал одеяло. Мария испуганно привстала. Тоже абсолютно голая, она спросонья оглядывалась, прикрывая груди скрещенными руками. Я рванулся, но Шляпа снова ударил меня, теперь кулаком. Я звонко стукнулся затылком о стенку. В голове ярко лопнуло, перед глазами закрутилась ослепительная канитель. Мария кричала, на меня кто-то навалился, шершавый и грузный, я наугад молотил его руками и ногами.
– Что такое?! Что?
Испуганный голос Марии доносился, как сквозь воду. Словно я тонул, а она была там, наверху. Нет, нет, нужно выплыть, ведь эти сволочи, они ведь с ней… они ведь что угодно могут…
– Что случилось? – кричала Мария.
Я вздрогнул и проснулся. Испуганно вскочил, озираясь вокруг.
– Самовар… – пробормотал я.
Одеяло сползло на пол, по ковру были раскиданы ксероксные листы.
– Ты что? – Она неуверенно улыбнулась, погладила мой лоб. – Какой самовар? Наш? – И засмеялась. – Он тут.
Самовар стоял в углу, в комнате мы были одни. Одеяло я спихнул на пол, а Мария действительно была голая. Впрочем, она всегда спит так.
20
Наше берлинское путешествие подходило к концу. Завтра ранним рейсом мы улетали в Париж, а оттуда через Атлантику прямиком в Нью-Йорк. Последний день любого путешествия, даже самого скучного и муторного, невольно имеет горький привкус быстротечности. Ведь кажется, только вчера распаковывал чемодан, развешивал – с тайной надеждой, что отвисятся, – мятые рубашки (нет, пришлось гладить), расставлял зубные щетки и тюбики по полкам в ванной, убирал носки-трусы-майки в ящик комода. Ботинки – под комод.
– Вообще ничего не успели! – Мария сложила карту, захлопнула путеводитель. – Обидно. Тем более сегодня все музеи закрыты.
Тратить такой день на музеи было бы преступлением – Берлин на прощание решил-таки порадовать нас синим небом, холодным и по-северному глубоким ультрамарином. После недолгих препирательств Олимпийский стадион (моя рекомендация) был отклонен, и мы отправились в Грюневальд.
Мы шли по Фридрихштрассе к станции метро, молчали, я старался не расплескать странное ощущение тоскливой легкости. Словно возвращался с поминок пожилого полузнакомого человека. Еще была какая-то опустошенность, не трагичная, не мрачная, а звонкая, почти радостная, как после затяжной болезни, когда понимаешь, что многое придется начинать с чистого листа. И что ничего плохого в этом нет.
Берлин явно мучился похмельем, с трудом приходил в себя после ночного веселья. Машин не было. Безлюдные улицы еще не начали убирать, на мостовых сияло битое стекло бутылок, пестрело конфетти, валялись упаковки ракет со следами сажи.
– Палили до рассвета, представляешь? – Мария задержалась, фотографируя живописную гору новогоднего мусора. – Я просыпалась в четыре, палят вовсю… Ну, думаю, немец гуляет!
Она чмокнула меня кофейными губами, вкусными, я даже облизнулся. Мне вдруг стало жутко, что я мог ее потерять, вот эти губы, этот кофейный запах. Я сам собирался ее бросить. Сам! Вот идиот! Я выругался, ударил кулаком в ладонь.
– Ты что? – спросила она.
Я махнул рукой.
Поезд бесшумно катил поверху, лишь на остановках мы вползали в светлые сводчатые вокзалы, похожие на Петровский пассаж.
– Знаешь, черт с ним! Что мы ничего не успели. – Мария улыбалась, щурясь от солнца. – Прекрасное путешествие. И Новый год…
– Ты про крышу?
– И про крышу тоже… Смотри – вон Рейхстаг!
Блеснула вода, стеклянный купол с флагом, тут же выскочила стена, замелькали кирпичи, понеслись каракули граффити. Потом дома, почти вплотную, охристые стены – и окна, окна, окна. Мария сидела напротив, я взял ее руку, поднес пальцы к губам.
– Отличное путешествие. Замечательное…
Постепенно дома отодвинулись, помельчали, побежал разноцветный штакетник заброшенных огородов. Кончились и они, распахнулась пустошь с тополиной рощей на горизонте, прозрачной, почти розовой. Низкое солнце вспыхнуло и наполнило наш вагон ярким светом, жарким, совсем не зимним. Лучи пробивали вагон насквозь, его рентгеновская тень неслась неотрывно с правой стороны.
Сбавив ход, проехали мимо какой-то сортировочной станции, забитой ржавыми составами, чумазыми цистернами, мертвыми локомотивами. Там и сям торчали черные семафоры, траурные и тощие, похожие на скелеты гигантских цапель.
Долго тянулась путаница рыжих рельсов, за ними лениво приподнимались холмы с бурой травой. Иногда ртутью вспыхивал водоем и тут же пугливо исчезал.
– Следующая наша, – сказала Мария. – Быстро доехали.
Тут же голос по радио подтвердил: Грюневальд.
Я машинально взглянул на пустое запястье.
– Сколько времени? – спросил я.
– Два пятьдесят шесть. А твои где?
Я неопределенно развел руками.
Грюневальд был настоящим лесом. С тенистым озером и большим охотничьим замком, по-прусски незамысловатым, зато самым древним в земле Бранденбург. При Бисмарке тут стало модно строить загородные виллы, здесь обосновался Берлинский теннисный клуб, а со специально насыпанной Чертовой горы открывался чудный вид на окрестности и речку Гавел. В начале прошлого века Грюневальд стал частью Берлина.
Мы спустились с платформы, долго шли мрачным туннелем. По стенам – кафель горчичного цвета, тусклые лампы. Под ногами щербатые плиты. Над нами прогромыхал поезд, станция метро здесь соединялась с железной дорогой западного направления.
Вышли на привокзальную площадь, уютную и провинциальную. Круглая клумба посередине, на ней грустила то ли нимфа, то ли ангел. Здание вокзала под красной черепичной крышей с беленой лепниной в виде грифонов напоминало кокетливый замок с башнями, флюгерами и мелодичными часами. Часы как раз дозванивали три.
Мария задержалась у выхода, осматриваясь, словно искала что-то. Достала путеводитель.
– Отсюда, вон с того перрона… – она кивнула на железнодорожную насыпь за березовой рощей, – берлинских евреев отправляли в Освенцим. С семнадцатого пути. Круглосуточно на протяжении пяти лет.
Длинная платформа, открытая. Если сидеть на террасе привокзального ресторана, то отъезжающих видно отлично. Сидеть в кружевной тени берез, потягивать холодный «Берлинер киндл», поскрипывать плетеным креслом. Поглядывать на отбывающих с семнадцатого пути. На одного взрослого один чемодан. Дети не в счет.
Мы обошли привокзальную площадь. Безлюдно, следы ночной гульбы были видны повсюду. На тротуаре валялись разноцветные упаковки использованных фейерверков и хлопушек, пустые бутылки, пестрые ленты серпантина.
– Смотри, что это?
Мария остановилась перед старомодной телефонной будкой. Открыла дверь. Телефона не было, вместо него к стене от пола до потолка были приделаны полки. На полках стояли книги.
– «Вы можете взять любую книгу или оставить свою. Читая, мы становимся лучше», – перевел я послание на табличке.
Мария резко повернулась ко мне.
– Я совсем не пойму… – Она почти закричала. – Как? Ну как?! Те же самые немцы!
Она замотала головой, захлопнула дверь.
Я думал о том же самом – семнадцатая платформа была отлично видна и отсюда.
– Вы ищете чей-то адрес?
Перед нами возникла старушка, маленькая, почти карлица. Мария смутилась. Старушка едва доставала Марии до подбородка и была похожа на волшебно состаренную школьницу. Пол-лица закрывали стрекозиные солнечные очки. Такие носила Лиз Тейлор.
– Нихт, найн! Спасибо, нет. – Мария улыбнулась самой милой из своих улыбок, предназначенной исключительно для старушек и незнакомых детей ясельного возраста. – Мы туристы.
– Американцы?
– Да! – почти хором ответили мы.
– Обожаю американцев! – У старухи был акцент, но по-английски она говорила вполне прилично. – Это ж американский сектор! Это ж…
Старуха раскрыла ридикюль, порылась, выудила сигарету. Прикурив, выпустила облако сизого дыма.
– Американцы начали бомбить, когда нас уже вывели на платформу. Вон там, за этими… как их… за деревьями… – Она затянулась. – Березы! Да, за березами! Видите?
Мы послушно, как загипнотизированные, посмотрели на семнадцатую платформу.
– Бомба упала там. Другая – тут. – Старушка тыкала дымящейся сигаретой по сторонам. – Охранники орали: «Ложись, не двигаться! Будем стрелять!» – Она мелко засмеялась, захихикала. – Стрелять! К концу войны все уже знали про газовые камеры в душевых, про крематории. Все знали, что ни один человек не вернется живым. Грюневальд, семнадцатый путь – билет в один конец, милый мой. Все знали…
Она затянулась, поправила черные очки:
– Меня кто-то спихнул на рельсы, я юрк! – и под платформу… – Она пыхнула в меня дымом, я задержал дыхание, чуть отступил. – Я тогда шустрая была, четырнадцать лет… ох шустрая! Вон там, вон, где плакат зеленый висит, видите? Я там соскочила и вот так вот погнала… во-он туда. Под платформой.
– Так вы… – Мария растерянно подбирала слова. – Вас отправляли отсюда? В Освенцим?
– Ну да. – Она уставилась стрекозиными глазами на Марию. – В Освенцим.
Потом присела на корточки и придушила окурок об асфальт.
– Так вы спаслись? – Мария задала нелепый вопрос. – Ну да, я понимаю, раз вы здесь… сейчас… Но как?
– Как? Убежала! – Она не знала, куда девать окурок, увидев урну, засеменила к ней.
Проверила, не горит ли, бросила бычок в мусор.
– Дождалась темноты, – прокричала она от урны. – Выбралась.
Мы подошли, старуха понюхала пальцы, сморщила нос:
– У вас мятных конфеток нет?
Ее спасли люксембуржцы. До конца войны она пряталась в посольстве Королевства Люксембург. Она показала нам этот дом. Вернее, целую усадьбу с кованой оградой, каменными львами у ворот и трехэтажным особняком среди старых сосен.
– Тут сейчас этих посольств!.. – Она махнула рукой вдоль аллеи. – И Кувейт, и Катар, и Афганистан, будь он неладен! А вон там, видите, где башенки такие с шишечками? Там Роми Шнайдер жила. Артистка. Такой у нее роман с Аленом Делоном был… Ух, вот ведь красавец какой мужчина! Кстати, – она игриво ткнула Марию локтем, – на вашего мужа похож. Ален Делон. Похож… Он у вас часом не артист? Муж-то?
И захихикала. Мария тоже засмеялась – о Делоне у нее были весьма смутные сведения. Я из приличия тоже улыбнулся, старушкин комплимент был приятен, но, увы, безоснователен.
– Там она и руки на себя наложила. Отравилась. Пила страшно. – Старушка покачала головой. – Сыночек у нее убился. Вот она и не смогла пережить. А с Делоном они уже тогда расстались.
Мы брели по аллее, за оградами высились разлапистые сосны, кряжистые, как дубы. Среди деревьев белели усадьбы, выглядывали капоты дорогих машин.
– А тут жил Макс Планк, ученый. Физик. Он там что-то с Эйнштейном, похоже, открыл. Я не очень в курсе, врать не буду. Знаю, что ученый.
Мария достала камеру, сквозь прутья ограды щелкнула изысканный ампирный фасад. Перед входом поперек клумбы застрял небесно-голубой «Порше-911». На капоте кто-то оставил початую бутылку шампанского.
– Вон там жил Шамони, Ульрих Шамони, режиссер.
Аллея уперлась в широкую улицу, я прочел название: Хагенштрассе. Свернули направо. За все время прогулки мы не встретили ни одного человека. Старуха шагала чуть впереди, мы с боков. Шли молча минут пять, из-за очков было не понять, задумалась она или обиделась на что-то. Стало неловко, Мария весело начала:
– Тут у вас вроде берлинского Беверли-Хиллз… В Лос-Анджелесе такой район, где всякие знаменитости…
Старуха остановилась:
– Вот тут. – Она указала на чугунные ворота. – Тут жил Гиммлер. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Это было неожиданно. Я оступился, Мария стояла с раскрытым ртом. Старуха сняла стрекозиные окуляры, под ними оказались мышиные глазки-пуговки, быстрые и цепкие.
– Особняк сломали… Все сломали, кроме вон того флигеля. Там был гараж и кладовка садовника. Дальше – отсюда не видно – дальше по тропинке пруд с золотыми рыбками. Их Гейдрих подарил Маргарет на день рождения. Маргарет была фон Боден, настоящая аристократка, из прусских. Гейдриху она точно нравилась, жена начальника. Адъютанты привезли этих вуалехвостов в хрустальных вазах. Выпустили в пруд.
– А как зимой? – зачем-то спросил я.
– Что зимой? – не поняла старуха. – А, зимой! Ловили сачком, пускали в аквариум, который в оранжерее. А весной – снова в пруд.
Мария подошла к ограде, пальцем коснулась чугунного прута. Со станции донесся гудок, придушенный и сиплый.
– У него… – старуха кивнула в сторону чугунных ворот, – все от близорукости, я думаю. И в армию из-за этого не взяли. Из-за зрения. А крестным у него знаете кто был?
Она поглядела на меня, нацепила очки. Я пожал плечами.
– Принц Виттельсбах! И Генрихом в честь принца назвали. Ему бы полководцем или фельдмаршалом каким, армией командовать… – Старуха махнула рукой. – Хотя, конечно, особой стати в нем не было, не то что у Гейдриха… Тот красавец был. Ариец!
Мария зябко поежилась, сунула руки в карманы. Я подошел, обнял ее за плечи, притянул к себе.
После неудачи с военной карьерой Гиммлер решил стать агрономом. Он и в детстве собирал гербарии, получил даже грамоту в школе. Получив диплом, начал работать, вступил сразу в дюжину местных клубов. Вполне безобидных, вроде Немецкого общества разведения домашних животных и Баварского клуба туризма. Начал вести дневник, скучный и провинциальный.
В начале января двадцать второго года он записал: «Встретил капитана Рёма. Очень приятный человек. К большевикам настроен враждебно».
Рём убедил его вступить в партию Гитлера.
В день путча, восьмого ноября, Гиммлер оказался в «Левенбройкеллер». В соседней пивной Гитлер объявил начало выступления. Настроение было боевое, присягнули на имперском флаге. Построились в колонну, пошли по улице. Особого плана действий не было. Гиммлер шагал впереди. Нес флаг. По дороге к ним примыкали зеваки, когда подошли к баварскому военному министерству, охрана и служащие разбежались. Гиммлер приказал захватить здание. Мятежники держали министерство до утра девятого.
Провал восстания Гиммлер воспринял очень лично. Он не вернулся к сельскому хозяйству. Увлекся агитационной работой. На мотоцикле объездил всю Нижнюю Баварию, выступал с речами по пивным.
Агроном и биолог, Гиммлер был помешан на теории расовой чистоты, причем главной опасностью он считал именно славян, а не евреев. Позднее он скажет:
«Что происходит с русскими, что происходит с чехами – мне в высшей степени безразлично, всю хорошую в нашем понимании кровь мы будем забирать себе. Если понадобится, будем красть их детей и воспитывать у нас, но будут ли жить другие народы в довольстве или они будут дохнуть с голода, интересует меня лишь в том смысле, в каком для нашей культуры потребуются рабы. Остальное мне безразлично».
Гитлер до паранойи боялся покушений. Особенно его нервировали снайперы. Гиммлер вызвался создать специальную команду телохранителей для защиты фюрера. Каждую неделю Гиммлеру удавалось раскрыть новый заговор, сорвать очередное покушение. Хватали очередного злоумышленника и почти всегда со снайперской винтовкой.
Тогда же он подкинул фюреру идею создания ордена, элитарной структуры из отборных арийцев. Идеальный инструмент для проведения политики вождя. Гитлер обожал тайные организации.
– Это будет мой толедский клинок, Генрих! – восторгался фюрер. – Молниеносный и смертельный! Белокурые бестии, внуки Зигфрида!
Бывшему агроному и кролиководу Гиммлеру не терпелось пустить в ход этот клинок. Ему удалось убедить фюрера, что «очень приятный человек» Рём, руководитель штурмовиков, гомосексуалист и алкоголик, готовит заговор с целью физического устранения Гитлера и захвата власти. Фюрер, трезвенник и гомофоб (позднее гомосексуалистов сжигали в печах концлагерей наравне с евреями), сделал вид, что поверил.
Теплая июньская ночь тридцатого июня тридцать четвертого года вошла в историю как Ночь длинных ножей. Первоначально планировалось арестовать лишь верхушку штурмовиков, но Гиммлеру не удалось устоять перед искушением. Очень хотелось испытать своих белокурых бестий по полной программе. Бестии не подвели – устроили настоящую резню: спящих штурмовиков расстреливали в постелях, сто пятьдесят командиров штурмовых отрядов были арестованы и расстреляны той ночью в казармах Кадетской школы Лихтерфельде. Рёма нашли в Хансельбауэр-отеле. Гитлер один вошел в его комнату. Вынул из кармана пистолет, положил на стол и, не сказав ни слова, вышел.
Рём не застрелился. Он не мог поверить, что его ближайший соратник, брат по оружию, с которым он сражался плечом к плечу четырнадцать лет, предал его. Вместе они устраивали Пивной путч в Мюнхене, вместе сидели в тюрьме. Штурмовые бригады Рёма стали боевой гвардией партии, ее разящим клинком. На их плечах, на их штыках Гитлер пришел к власти.
– Если Адольф хочет видеть меня мертвым, пусть сам нажмет на спусковой крючок. Я вправе на это рассчитывать!
Рём был расстрелян той же ночью. Лейтенант СС вошел в его камеру, Рём вскочил, хотел что-то сказать. Лейтенант приказал ему молчать и тремя выстрелами в упор убил ближайшего соратника фюрера.
Гиммлер одержал важнейшую победу – после той ночи фюрер стал доверять ему абсолютно.
Первым лагерем смерти стал Дахау. Гиммлер сам участвовал в допросах, но из-за брезгливости бил заключенных только сапогами. Сапоги ему шили в Баварии на заказ из мягкой телячьей кожи.
Над узниками проводились медицинские эксперименты. Медицинскими их можно назвать лишь только потому, что руководили ими военные врачи СС. На деле эксперименты мало чем отличались от пыток инквизиции. Людей запирали в герметичные камеры, в которых повышалось давление до тех пор, пока у жертв не лопались ушные перепонки и не вылезали глаза. Заключенным прививали тиф, оспу, вкалывали смертельные дозы химических препаратов. Проводились эксперименты по замораживанию. На узниках испытывали отравленные и разрывные пули, горчичный газ и иприт.
В женском лагере Равенсбрюк сотням польских заключенных (тут их называли «крольчихи») прививали гангрену. В Бухенвальде проводили эксперименты по влиянию соленой воды на организм человека.
Гиммлер получал регулярные доклады от своих докторов: были рекомендации провести стерилизацию трех миллионов русских, планировалось устроить передвижную выставку черепов евреев и славян – Гиммлер, бывший биолог, живо заинтересовался идеей, предложив, в свою очередь, провести все измерения на живых экспонатах и лишь потом отделить голову от тела. «Будет гораздо интереснее демонстрировать не череп, а заспиртованную голову в герметичном сосуде», – поставил он резолюцию на письме.
Капитан СС Крамер по кличке «Бельзенское чудовище», оператор газовых камер, докладывал в своем рапорте о стандартной процедуре:
«Женщин раздевали догола, загоняли в камеру. Когда я закрывал дверь, они начинали кричать. Через специальную трубу поступал газ. Мы использовали цианистую соль, где-то грамм двести на одну группу. В глазок я наблюдал за происходящим в камере. Женщины дышали полминуты, потом падали на пол. Я включал вентиляцию и открывал дверь. От начала до конца все занимало не больше пятнадцати минут».
После начала русской кампании и создания «айнзатцгрупп СС», которые проводили карательные операции на оккупированной территории против мирного населения, офицеры вермахта перестали подавать руку эсэсовцам.
Штурмбанфюрер Отто Олендорф, симпатичный блондин, похожий на киноактера, играющего положительных героев, летом сорок первого года получил под свою команду айнзатцгруппу С (всего их было четыре: А, В, С и D), с задачей ликвидировать евреев и коммунистов на территории Южной Украины. На суде в Нюрнберге обвинитель попросил уточнить, что подразумевается под словом «ликвидировать».
– Смерть, – ответил Отто. – У меня был приказ уничтожить всех коммунистов и всех евреев.
– Всех евреев?
– Всех.
– Женщин и детей тоже?
– Да, женщин и детей тоже.
– Сколько человек было «ликвидировано» под вашим командованием?
– Девяносто тысяч.
– Как проходила стандартная операция?
– Группа С двигалась в арьергарде Одиннадцатой армии. Подразделение айнзатцгруппы входило в населенный пункт, проводило арест коммунистов. Еврейскому населению приказывалось собраться для «передислокации». На грузовиках их транспортировали к месту расстрела – обычно мы использовали противотанковые рвы. Во избежание инцидентов привозилось лишь то количество, которое можно было расстрелять сразу. Расстреливали, трупы сбрасывали в ров. Казнь осуществлялась отделением солдат, я не одобрял индивидуальных расстрелов, практикуемых другими командирами айнзатцгрупп, когда жертвы уничтожались выстрелом в затылок.
– Почему?
– Это отрицательно отражалось на психике солдат.
И не только солдат. В конце августа Гиммлер инспектировал работу айнзатцгруппы А. В Минске ликвидировали женщин и детей. Казнь проходила во дворе городской тюрьмы. Через пять минут после начала расстрела рейхсфюрера вырвало, а когда после неудачного выстрела в затылок мозг одной из жертв забрызгал рукав его мундира, у Гиммлера началась истерика.
Тем же днем Гиммлер потребовал найти более гуманный способ убийства женщин и детей. Способ был найден: некий хитроумный доктор Беккер с поистине немецкой смекалкой решил использовать выхлопной газ двигателя внутреннего сгорания. Резиновый шланг соединял выхлопную трубу грузовика с крытым кузовом. Женщин и детей загоняли внутрь, шофер включал мотор. Через десять-пятнадцать минут все было кончено, трупы выгружали и закапывали. Доктор Беккер тоже был гуманистом – он запрещал шоферам сильно давить на педаль газа, поскольку в этом случае смерть наступала от удушья, а не от отравления выхлопным газом, который, как утверждал доктор, просто усыплял жертвы, причем совершенно безболезненно.
Генрих Гиммлер каждый год в полночь второго июля приходил к могиле короля саксов Генриха Птицелова. Рейхсфюрер считал себя реинкарнацией короля. Генрих Гиммлер, невзрачный агроном и кроликовод, внешне напоминавший учителя из провинции, всерьез в это верил. Он верил в свою великую миссию: он был избран богами для спасения Германии и всего мира от деградации, он был послан на землю, дабы огнем и мечом уничтожить низшие расы и народы. Как мудрый садовник, он должен был выполоть сорняки, вырвать их с корнем, чтобы благородные цветы могли наливаться соком и красками жизни.
Через две недели после капитуляции Германии английский патруль где-то под Гамбургом остановил немецкого рядового, невысокого, бритого наголо, с черной повязкой на левом глазу. Ни знаменитых усов, ни пенсне не было. Однако один из англичан обратил внимание на сапоги – чересчур изящные для простого солдата. Задержанного отправили в штаб-квартиру Второй армии, где тот почти сразу признался, что он рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Капитан, проводивший допрос, опасаясь самоубийства, приказал немедленно обыскать арестованного, его раздели, но ампулы с ядом в одежде не обнаружили.
Ампула с цианистым калием была спрятана под коронкой в дупле зуба. Его пытались откачать, промыли желудок, но через двенадцать минут Гиммлер уже был на пути в ад.
21
Вагон дергало. Мария, сжав кулаки, хмуро глядела в окно, мне казалось, что она вот-вот расплачется. Я не знал, что сказать, что вообще нужно говорить в таких случаях – наверное, просто сесть рядом. Сесть рядом и обнять. Но я отчего-то не делал этого, а сидел напротив и тупо смотрел в окно. Там тоже дела пошли наперекосяк: солнце скрылось, небо стремительно затягивала чернильная хмарь. Она растекалась с севера мохнатой кляксой, похожей на профиль Иуды с фрески Леонардо. Вскоре посыпал мелкий дождь, струйки наперегонки побежали по стеклу. Когда мы вышли на Фридрихштрассе, ливень уже вовсю колотил по мостовой.
В гостинице нас ждал букет желтых астр, холодных и колючих цветов в хрустящем целлофане. Мария прочла вслух записку: «Из Берлина – с любовью. Бон вояж! Вилл».
– Мог бы и пооригинальней что-нибудь написать, – буркнул я. – Хотя бы из Шекспира.
Мария укоризненно покачала головой, вытащила телефон, набрала номер. Начала щебетать. Я ушел в ванную и пустил воду. Стоял и прислушивался, Мария продолжала говорить. Я плюнул и решил побриться.
– Тебе привет! А что ты вдруг бриться решил?
Я, вытянув шею, промычал что-то. Сунул лезвие под струю кипятка.
– Вилл узнал про Анну Лейбовиц… – Мария запнулась. – Короче, в сороковом ее отправили в Освенцим…
– Грюневальд, семнадцатая платформа.
Мария кивнула.
– Вилл сказал, что там, в Освенциме, на каждого прибывшего заводили дело. Фамилия, имя, рост, вес. Фото, год рождения… Это перед тем как отправить в газовую камеру, а потом сжечь. А в графе «причина смерти» всем писали «сердечный приступ». – Мария замолчала, потом, будто вспомнив, сказала: – Да, кстати! У меня сюрприз – наш прощальный ужин. Я нашла ресторан, думаю, тебе понравится. Должен понравиться.
Я развел руками – ну раз должен. Повесил полотенце на крючок:
– Как называется?
– Сюрприз!
– Так и называется?
Номер уже стал чужим, в углу стояли собранные чемоданы. Самовар мы упаковали в специально купленную дорожную сумку. Черная лаковая клеенка под крокодила – я никогда не путешествовал с более безобразным багажом. Сумку купили у Бранденбургских ворот, в сувенирной лавке под вьетнамским менеджментом. В магазине были представлены сразу четыре поколения вьетнамской семьи – от круглой черноглазой девчушки, ползавшей по кафелю у кассы, до мелкоформатной тихой старухи с лицом мумии. Старуха беззвучно следовала за нами по пустому магазину и жутковато заглядывала в глаза. Мужской половины семьи в лавке не было. Черный крокодил оказался единственной сумкой, способной вместить наш чертов самовар.
Мы спустились, в такси Мария прочла по бумажке адрес – какая-то очередная штрассе, шофер радостно закивал: «Йес, йес, гнедигэ фрау»[17].
Поплыли фонари, витрины, бледные полосы на мокром асфальте. Проехали мимо темной ярмарки, из-за ограды торчал черный силуэт «чертова колеса». Машин было мало, пешеходов тоже. Под мостом тускло сияла маслянистая вода, похожая на смолу. Город показался мне усталым и равнодушным. Или это я уже открестился от него?
Остановились. Вокруг была темень, Мария, крутя головой, с сомнением спросила:
– Это здесь? Вы уверены?
– Йес, йес! – Веселый таксист тыкал пальцем в темноту. – Йес!
Мы остались одни на тротуаре. Дождь почти перестал – уже хорошо. Я не имел ни малейшего представления, где мы находимся, где-то на юго-востоке. Хотя тоже не поручился бы. И, конечно, зря мы отпустили такси.
Прошли мимо чахлого сквера с лысой клумбой, мимо детской площадки. Там мокли качели, похожие на инквизиторский инвентарь. От неказистых зданий веяло социалистическим аскетизмом, теперь я не сомневался: мы в Восточном Берлине. Мария осторожно свернула за угол, оттуда победно закричала:
– Нашла!
Ресторан назывался Nabokoff-Café – через дефис. Открыв дверь и продравшись через складки грубой портьеры, мы тут же оказались в жарком и шумном помещении. С потолка свисали четыре хрустальные люстры, пыльные и светившие вполнакала. К нам подплыла тетка с замысловатой, но безошибочно русской прической. Крепкое тело ее было втиснуто в платье из бирюзовой русалочьей чешуи.
Изнемогая от радости, русалка приветствовала нас на чем-то вроде немецкого, Мария ответила по-английски. Тетка, не моргнув, перешла на какой-то вовсе голубиный язык.
– Добрый вечер! – положил я конец филологическим извращениям.
– Ой! – Русалка цапнула меня за рукав рубиновыми ногтями. – Так вы по-русски можете!
Нас усадили в смежной комнате, тесной, но не такой шумной. И лишь с одной хрустальной люстрой. Возник чернявый малый, в косоворотке и с хитрым татарским лицом. Выдал нам толстые книжки меню в переплетах из свиной кожи:
– Битте, битте! Аллес ист хир! Инглиш, дойч унд руссиш![18] – Сверкнул золотой коронкой и исчез.
– Ну? – восторженно спросила Мария. – Как тебе?
– Потрясающе… – Я даже не лукавил. – Ничего подобного и вообразить не мог.
Набоков не любил Берлин, город и сегодня продолжал платить ему теми же медяками. На первой странице меню я увидел салат из крабов «Защита Лужина» за пятнадцать евро.
Наша комната была оклеена обоями, серо-зелеными, с сочным узором из багровых лопухов. В рамках – неизбежные капустницы и монархи. Пара фотографий из старой жизни, почти интимных, такие обычно вешали в спальне одинокие приказчики. Запечатленные на фото дамы к семье Набоковых отношения, скорее всего, не имели.
Я попросил водки, Мария с американским педантизмом принялась выведывать у татарина подробности про жаркое: под каким соусом подается баранина а-ля Пнин и не очень ли жирны свиные эскалопы «Клэр Куильти».
Выяснилось, что татарин неважно владеет русским, скверно говорит по-немецки и почти не понимает английского. Остановились на винегрете, икре, бефстроганове и шашлыке. И неизбежной водке.
Набоков провел в Берлине, пожалуй, самые несчастные годы жизни. Пятнадцать лет. Здесь убили его отца. Семья распалась – мать с сестрой уехали в Прагу. Денег хронически не хватало, он подрабатывал частными уроками. От русского и английского до тенниса и бокса. Он влюбился и обручился. Родители невесты отказали ему через полгода: родословная и талант без денег не значили ничего. Немцы ему не нравились, язык он так и не выучил, из местных общался с квартирной хозяйкой и торговцами в ближайших лавках. Эмигранты считали его высокомерным, друзей среди русских у него тоже не было.
В двадцать пятом он женился, через восемь лет нацисты пришли к власти. Стало ясно, что оставаться в Германии нельзя: Вера Набокова была еврейкой. Через два года им удалось перебраться во Францию, оттуда в Америку.
– О чем ты думаешь?
– О пользе несчастий.
Мария подняла удивленные глаза.
– Когда Володе Набокову исполнилось шестнадцать, он получил в наследство от двоюродного деда имение Рождествено и несколько миллионов. Рукавишниковы – родня матери – дворяне были захудалые, зато владели золотыми рудниками.
Мария свернула аккуратный блин, сверху плюхнула ложку сметаны.
– Сметану лучше внутрь, с икрой вместе. И укропчика чуть-чуть…
– О’кей…
– А через год пришли большевики, Рождествено переименовали в Заветы Ильича, Набоковы бежали в Крым, оттуда за границу.
– Ну и?
– Вот я и думаю: смог бы Набоков, гуляя по тенистым аллеям своего имения или попивая чай на веранде, написать «Приглашение на казнь»? «Машеньку», «Весну в Фиальте», «Дар»? Где бы он взял ту нежную горечь, ту тоскливую меланхолию?
Мария опустила глаза в тарелку, я понял, что она тоже подумала обо мне: что из моей беды ничего, кроме меланхолии, бесплодной и ядовитой, не получилось. Никаких нежных шедевров. Лишь тоска и боль.
– Ладно…
Я налил из ледяного графина тягучей водки:
– Ладно! Давай за Берлин! За часть той силы, что всегда жаждет зла, но вечно совершает благо!
Шашлык оказался вполне съедобным, а вкуснее бефстроганова Мария (заверяла она татарина) в жизни ничего не ела. Принесли десертное меню, я рассмеялся в голос: там Владимир Владимирович неожиданно встретился с Веничкой. В сливочном пломбире с клубничным сиропом. Десерт назывался «Слеза нимфетки». Еще был банан, запеченный в карамельном соусе, под именем «Безумный Гумберт». Была ватрушка со взбитыми сливками «Шарлотта Гейз».
– Кто такая эта Шарлотта? И почему ватрушка, а не шарлотка? – удивлялась Мария.
Она попросила «Лолитины прелести» (шоколадный торт с прослойкой из малины), я от смеха потерял аппетит и уже не хотел ничего. Заказал рюмку коньяку.
– Если бы у меня были деньги…
– Ты вроде не бедствуешь, – перебил я.
От водки Мария захмелела. Хихикая, она поддела и протянула мне кусочек «прелестей». На американский манер она ела торт вилкой.
– Не-е, если б куча денег, типа того двоюродного дедушки…
Лолита и ее прелести оказались на удивление вкусны, напомнили мне торт «Прага» из моего детства. Точнее, из одноименной кулинарии на Арбате.
– Ну и что б ты сделала?
– Я бы открыла ресторан.
– Тоже «Набоков»?
– Нет! «Солженицын»!
Я чуть не поперхнулся коньяком. Я знал слабость Марии к автору «Архипелага». Знал, но удержаться не мог:
– Щи «Матренин двор»! Креветочный суп «Раковый корпус»!
– Нет, я серьезно! Прекрати! – Мария сама начала смеяться.
– Баланда с тюрей из селедочных голов «В круге первом», – не унимался я. – Официанты в форме НКВД! Из столового серебра – только алюминиевые ложки! Миски, разумеется, оловянные…
За соседними столами замолчали, в двери возник настороженный татарин с вопросительным лицом.
– Прекрати… – Мария давилась смехом. – Все, хватит! А ты, кстати, что сделал бы с деньгами?
Я перестал смеяться. Деньги у меня были. Материальный вопрос меня не беспокоил, меня занимало другое: как не свихнуться за эти годы от безделья.
– Ну так что бы ты делал?
– Я бы? – Я допил коньяк, протянул руку, накрыл своей ладонью ее ладонь. – Я бы… Скорее всего, сидел бы в пошлом берлинском вертепе и держал тебя за руку.
22
Я стараюсь не говорить о своей профессии. Когда играл, старался избегать этих разговоров, сейчас стараюсь вдвойне. Впрочем, сейчас уже особо никто не спрашивает.
Мы шагали пустыми улицами, из черных арок пугающим эхом откликались наши шаги. Смутные узоры граффити на темных стенах казались магическими знаками, скрывающими какой-то тайный смысл. Город уснул или вымер. Или мы вышли в какое-то другое измерение, в Берлине такое вполне возможно.
– То, о чем ты говоришь, – это ремесло. Да, ремесло плюс талант. – Я не заметил, как Мария меня втянула в эту беседу. – Ты можешь выйти и отыграть концерт, пусть даже в Карнеги или Альберт-холле. Неважно где, неважно сколько и кто в зале, отыграть безупречно – точно и холодно. Как нейрохирург. И будут овации, цветы. Сырихи будут до хрипоты вызывать на бис. Очень похоже на триумф. Но ты сам знаешь… ну, может, еще человека три-четыре в зале тоже знают, что чуда-то и не случилось. Я на пальцах могу пересчитать, сколько раз я ощущал причастность к чуду – энергия входит в тебя, ты в ней растворяешься, становишься крошечной искрой в мощном потоке света. Ты стал рупором, божественным инструментом, через тебя Творец, вселенная, черт его знает – космос говорит! Понимаешь? И твоя заслуга тут мизерная. Если есть она вообще.
Сверху зажглось окно, нас окутал неяркий свет, туманный и зеленоватый. Будто мы оказались на дне старого пруда. Я остановился, взял Марию за руку. Ее лицо бледно сияло, словно светилось изнутри.
– Вся мишура – слава там, поклонники, цветы, овации, деньги – все это жалкий мусор по сравнению с одним мгновением причастности к творению. Звучит напыщенно и глупо, это как любовь – если не испытал, словами не объяснить.
– Ну а как же композитор? Ведь он – творец, разве нет? Ведь он сам создает звуки, которых до него в природе не существовало.
– Вот именно – не существовало! Но создает или слышит? Слышит и записывает, что ему диктуют… – я показал пальцем наверх, – оттуда.
– Ну это вообще ерунда! У тебя не люди, а марионетки какие-то.
– Почему? Я не вижу ничего обидного. – Я задумался, пытаясь получше объяснить. – Наоборот, именно тут и проявляется наша причастность к Творцу, к Богу. Что мы не просто поумневшие макаки со смартфонами, а твари, созданные по образу и подобию Божьему. По Его подобию.
Мария недовольно пожала плечами, вышла из волшебного света. Мы побрели дальше.
– Хорошо! – Я не унимался. – Хорошо! А вот скажи мне, что, на твой взгляд, является, выражаясь языком маркетологов, конечным продуктом творчества? Любого творческого процесса? Неважно – писателя, художника, музыканта.
Мария подняла голову, задумалась, у нее была привычка покусывать нижнюю губу. Милая, детская привычка.
– Красота? Ну, если искать квинтэссенцию… Красота, я думаю.
Я строго молчал.
– Красота! – уверенно повторила Мария. – И гармония.
– Нет. Жизнь!
Мария с недоверием посмотрела на меня.
– Все вокруг – земля, камни, деревья, звезды, тучи. – Я махал руками в разные стороны. – Все, созданное Творцом, абсолютно все – живое!
– И камни?
– И камни! Просто нам не дано понять, увидеть…
– И тучи?
Я отмахнулся.
– Как из сумятицы звуков вырастает мелодия, пульсирующая таинственным светом? Раскрывается цветком… Как на тряпке, натянутой на раму и раскрашенной красками, появляется волшебное сияние?! – Я резко повернулся к Марии. – Ты сама же знаешь! Именно божественная энергия и наполняет любое творение жизнью! Смыслом, светом – помнишь тот жест Саваофа на потолке Сикстинской капеллы? Тот грандиозный палец Микеланджело! Один этот палец стоит всех фресок Джотто!
– Насчет Джотто ты погорячился…
– Ладно, о’кей. Не будем трогать Джотто. Но человек интуитивно распознает живое и неживое. Поэтому наши отношения со смертью так трагично запутаны. Нас не тяготит присутствие камня, хоть ты и считаешь его лишенным жизни. А вот положи вместо камня мертвого дятла или воробья. Или собаку.
Мария поморщилась.
– Вот видишь! Простая мысль о неживом уже неприятна. Труп – в самом звуке слова звучит тошнотворность смерти. Неестественность и ненормальность. Оттого мы пытаемся отделаться от них, от трупов, столь поспешно – упаковать-заколотить в ящик, закопать, сжечь. С глаз долой!
– Эй-эй! – Мария одернула меня. – Мы про музыку, про пианистов говорили.
– Восемьдесят восемь клавиш – тридцать шесть черных, остальные белые. Каждому звуку соответствует хор струн – три струны для средних и высоких, для басовых две или одна. Три педали, иногда пять. Длина концертного рояля почти три метра, десять футов. Вес – тонна.
– Ну и?
– Ну и сравни этот инструмент с… – я пытался найти сравнение пообидней, – ну, хотя бы с таким: четыре струны натянуты на палку с деревянной коробкой, коробка не больше картонки для башмаков. Что еще? Ах да, еще смычок! Другая палка, с тетивой из конского волоса.
– Ты упрощаешь…
– Да что тут упрощать? Смешно даже! Я не хочу сказать, что пианист интеллектуальнее скрипача или, скажем, баяниста… – Я запнулся, подумал. – Впрочем, именно это я и хочу сказать. Именно! Настоящий, классный пианист на три головы выше. Сама специфика инструмента, невероятная сложность фортепианной музыки – это квантовая механика и ядерная физика, выраженная в нотах. Пианист, он – как суперкомпьютер последнего поколения с термоядерным процессором и оперативной памятью в триллиард джоулей…
– Оперативная память не измеряется…
– Да плевать! С Млечный Путь, глубже Марианской впадины! Выше…
– Такси! – Мария, замахав руками, подбежала к бордюру.
Я неожиданно для самого себя сунул указательные пальцы в рот и зычно свистнул. Мария испуганно обернулась. Такси затормозило у обочины. Последний раз я так свистел лет тридцать назад.
23
Утро, без пяти шесть. Четыре часа сна. Голова от недосыпа плавно переходила из оловянного состояния в деревянное, минуя стеклянное. Аэропорт «Тегель» производил отталкивающее впечатление. Кафельный пол то норовил вздыбиться, то катил под уклон. Было ярко, как в морге. Количество пыточных ламп превышало норму раз в пять. Я сдуру побрился, лицо отчаянно горело, глаза чесались. Я их тер, они чесались еще сильней. Очень хотелось лечь в угол и умереть.
Чемоданы сдали в багаж. Из ручной клади – сумка с ноутбуком плюс какая-то мелкая дребедень. Плюс самовар. В лаковой сумке из фальшивого аллигатора. Я умолял Марию сдать его в багаж, она наотрез отказалась.
– Представляешь, как они будут там его швырять? – Мария делала страшные глаза.
– Если он пережил русскую революцию и нацистскую Германию, то перелет через Атлантику в брюхе аэробуса будет сплошным удовольствием.
Это я говорил накануне ночью, сегодня мне было плевать. Еще Мария всерьез боялась, что самовар конфискуют на немецкой таможне. Я пытался выяснить почему – ничего не добился. Это тоже вчера.
Мы подошли к ленте транспортера, квелая тетка при погонах и в мятой униформе пялилась в экран. Там проплывали рентгеновские потроха сумок и портфелей. Я спросил у сонного офицера про наш компьютер, он жестом показал: вынуть. Я вынул, сунул в пластиковый таз, бросил туда же сумку. Мария сняла пальто, заботливо сложив, пристроила в следующем корыте. Она нервничала. Последней на транспортере оказалась лаковая крокодилья сумка. Пузатая и явно превышающая допустимые параметры ручной клади.
Я прошел через рамку, показал билет. Офицер лениво махнул рукой: проходи. Убрал ноутбук, застегивая молнии, обошел транспортер. Под углом мне стал виден экран, туда как раз вползал наш самовар. Я не знал, что Мария сунула в сумку провода от компьютера и трансформатор. На мониторе композиция из самовара и проводов выглядела устрашающе.
Тетка не просто проснулась – подпрыгнула. Нажала педаль, сверху противно зазвенело, как в школе. Мария застыла. К нам уже бежали какие-то решительные люди, я на всякий случай поднял руки. Толстый майор, явно начальник, пытаясь отдышаться, уставился в монитор.
– Вас ист дас? – спросил он Марию, тыча в экран. – Что там есть? Данный объект в чемодан!
«Данный объект в чемодан» больше всего был похож на бомбу.
– Герр оберст[19], – встрял я со своим неказистым немецким. – Дело в том, что это аппарат для кипячения воды. Приспособление для чаепития. Мы нашли его в лавке у старьевщика. Семьдесят евро. Моя жена любит коллекционировать хлам. – Я снисходительно добавил: – Америка – страна без истории. Что для нас, европейцев, старье и мусор, для них – антиквариат.
– Для кипячения воды? – недоверчиво спросил майор, нажав на кнопку.
Транспортер включился. Сумка с самоваром выползла из рентгеновского короба.
– Расстегнуть!
Я расстегнул, вынул латунную дуру из сумки, поставил перед майором.
– А сюда… – Мария неожиданно вынырнула сбоку. – Вот сюда наливают воду… Видите? А вот сюда кладут тонкие чурочки, дрова, иногда шишки.
– Зачем шишки? – насторожился майор. – Зачем дрова в трубу?
– Ну как? Очень просто – огонь в трубе нагревает воду, доводит ее до кипения. Сверху ставят заварочный чайник – видите, как удобно… А вот отсюда – р-раз! – Мария повернула кран. – Отсюда наливают кипяток.
Майор взглянул на нее потерянным взглядом.
– И пьют чай. – Мария невинно улыбнулась. – На веранде. Или в саду.
– А просто… – Майор ладонью провел по унылому лицу. – Просто в чайнике нельзя? Почему нельзя просто в чайнике?
Мы переглянулись. Мария, словно извиняясь, негромко сказала:
– Ну это вообще русская штука… Там, у них, так принято… Называется самовар. Са-мо-вар.
Майор устало посмотрел на меня, на Марию. На самовар. Повернулся и ушел.
24
Не помню себя таким пьяным в столь ранний час – в девять; пролетая над Парижем, я допивал третий коньяк. Мария спала. Пытался смотреть французское кино: сорокалетняя тетка вернулась каким-то макаром в свою юность (времена диско-Мадонны, накладных плеч и белых кроссовок) и пыталась там что-то кардинально поменять. При всей увлекательности идеи фильм получился на редкость нудным и глупым. От чтения мелких субтитров у меня начала болеть голова, через час нелепость сюжетных ходов я уже воспринимал как личное оскорбление. Короче, я плюнул, включил какую-то музыку – легкую, как было сказано в меню. Синтезатор убедительно изображал ветер, тихо стучал бубен, незатейливый напев тек как мутная вода в придорожной канаве. Я закрыл глаза и благополучно заснул.
Приземлились. Миновав таможню и паспорт-контроль, взяли такси, с макушки моста раскрылась панорама Манхэттена: острый силуэт Крайслера, утесы Мидтауна, туманная громада Уолл-стрит. Я чуть не заплакал – усталость, алкоголь, нервы, – не знаю, я был счастлив вернуться домой.
Проснулся я от странного звука, словно кто-то играл на каком-то перкуссионном инструменте типа маракасов. С мелким песком внутри. Ритм иногда сбивался на синкопы, это здорово действовало на нервы. Не открывая глаз, пошарил рукой – Марии рядом не было, там все уже остыло.
Наша квартира похожа на поезд: прихожая вроде тамбура, оттуда – прямиком на кухню, после – подряд три комнаты, в конце – спальня. Если распахнуть все двери, можно гонять на самокате. По прямой. Особенно из спальни в прихожую: дом наш от старости скособочило, и пол идет чуть под уклон.
Я выполз из-под одеяла, не продирая глаз, побрел на звук африканских маракасов. Он доносился с кухни. Оттуда тянуло поджаренным хлебом и кофе. Мария, с румяным лицом, босая, в распахнутом халате, усердно драила самовар. Утреннее солнце заливало кухню, все белое перламутрово мерцало, тени растекались теплым медом, боковой свет из высокого окна завершал композицию в стиле раннего Вермеера. Самовар сиял вовсю. Блестел, как языческий идол какого-нибудь племени майя.
– Он течет. – Мария локтем убрала волосы со скорбного лица. – Течет…
– Где течет? Как? Когда ты успела?
– Да что-то ночью не спалось, – проговорила Мария грустно и снова принялась тереть латунный бок. – Вот тут, у носика, подтекает, и там, где ручка крепится. Левая, кажется.
Я обнял ее, поцеловал в горячую макушку.
– Но я нашла уже… нашла мастера.
– Какого? Где? Когда?
Мария остановилась, строго посмотрела на меня:
– Ты задаешь слишком много вопросов.
Наверняка в английском есть слово «лудильщик», но я его не знал. Не уверен, что его знала и Мария.
– Ты нашла мастера по починке самоваров? Здесь, в Нью-Йорке?
– Нет! В Туле!
Мария заводилась с пол-оборота. Впрочем, я сам не ангел, но сейчас промолчал.
– На Брайтоне! У них даже веб-сайт есть. – Она кивнула в сторону ноутбука.
Я тронул клавиши, экран проснулся. Хотелось верить, что у брайтонских мастеров дела с лудильным ремеслом обстояли лучше, чем с веб-дизайном. Или с английским. На траурном фоне пестрели надписи – лимонные, алые и белые. Сверху объемными золотыми буквами сияло название мастерской – «Волшебник Майкл». Под ними: «Мы дадим вашей бронзе (латуни, меди и другим металлам) сияние солнца!» – все по-английски. Нашел образцы работ. На фотографиях бронзовые канделябры, львиные морды, письменные приборы и самовары действительно сияли сиянием солнца.
– Ты можешь завтра отвезти его туда? – спросила Мария, словно речь шла о живом существе. Вроде щенка или ежика.
Я неопределенно пожал плечами.
– Мне завтра на работу… – Мария сделала паузу.
– Ну да, а тебе все равно делать нечего, – закончил я за нее. – Отвезу.
– Кстати, на автоответчике для тебя – сообщение. Из Джульярда. Какой-то Сторм Лангер.
– Мунгер! Стыдно, девушка! Один из лучших пианистов. – Я проверил кофейник, почти полный. – Тебе кофе долить?
Сторм звонил мне с периодичностью в полгода, звал преподавать. Мы с ним были одногодки, в молодости даже соперничали, у нас был похожий репертуар – начинали с концертов Шопена, вместе дебютировали на Берлинском фестивале. Тогда меня фон Караян пригласил сыграть новогодний концерт с Берлинским филармоническим. Первый концерт Чайковского, разумеется: русский вундеркинд ничего другого играть просто не имеет права. Впрочем, именно тогда меня, наконец, перестали величать Димой, впервые на афише я увидел свое полное имя. Сторма позвал Зубин Мета в Нью-Йорк, играл он, по-моему, того же Шопена. Потом мы одновременно увлеклись Стравинским, после импрессионистами, постоянно пересекались то в Америке, то в Европе. В Токио мы чуть было не записали Рахманинова для двух роялей.
Устав от гастролей, Сторм купил дом в Вестчестере. До Манхэттена целый час езды, зато каждое утро из туманных елок на лужайку перед его домом выходит оленья семья – мама и два пятнистых олененка. Сторм не врал – присылал мне фотографии. Тогда же он начал преподавать в Джульярде. А я сломал руку в Амстердаме.
25
Поехал утром. Сонный Брайтон, холодный и сырой, безразлично впустил меня. Я бросил машину на беспризорной стоянке у закрытого на зиму луна-парка. Вышел на дощатую набережную. Туман. Темный песок пляжа уползал в сизую пелену, там сонным прибоем ворочался невидимый океан. Впереди бледно маячило «чертово колесо», у летних кафе сгрудились баррикады мокрых стульев. Меня обогнал одинокий бегун в оранжевом. Гулко топая по доскам, растворился, будто растаял.
Из тумана донесся тоскливый звук корабельного гудка, низкий и мягкий, тихо прокатился и умер. Я достал телефон, набрал номер Сторма. Там никто не подходил. На своих оленей любуются, наверное. Я оставил сообщение – поздравил с Новым годом, сказал, что перезвоню завтра. Вернулся к машине.
«Волшебник Майкл» обосновался в сомнительной части Брайтона. Я проехал мимо гаражей, кладбища, фабрики с выбитыми окнами. Нашел адрес. Одноэтажное здание из беленого кирпича. Без окон, но с железной дверью, выкрашенной масляной краской травяного цвета. С одной стороны к дому примыкал склад, с другой – начинался пустырь, переходящий в свалку. Запрещающих знаков не было, я прижался к обочине, заглушил мотор. Вышел, огляделся. Здесь вообще не было дорожных знаков. Никаких. Над свалкой кружили чайки, они дрались и мерзко пищали, как капризные дети. Людей не было, что, пожалуй, было к лучшему. Я громко постучал в дверь кулаком.
Майкл оказался невысоким мужиком без шеи и в тельняшке. Он, приоткрыв дверь, подозрительно осмотрел меня. Высунулся, оглядел пустую улицу, задержался на моей машине. Начал говорить, медленно подбирая английские слова. Я прекратил муку, перебив его по-русски.
– Ну слава богу! Я уж думал, иностранец! – Он весело протянул руку. – Миша!
Я пожал руку, назвал себя.
Мы так и стояли в дверях, говорили про погоду. Сквозь туман выглянуло солнце, глаза у Миши оказались голубыми. Он беззлобно ругал либералов, полицию и какого-то Гурама, которому нужно было за что-то платить. Жаловался на отвратительное качество прибоя:
– Пузырем идет, паскуда!
Сам Миша был из Саратова, в Америку («Гори она огнем!») угодил из-за Райки.
– Самое последнее дело русскому мужику с еврейкой хороводиться! Вот взять хотя бы Райку…
У меня тоже был опыт в этой области, но я решил не перебивать.
– Я ей говорю: Раиса, поедем в Калифорнию! Чего мы в этой синагоге киснем? Там тоже море. Пальмы. А тут же сплошная Жмеринка! – Он вдруг спохватился: – Дим, а ты не еврей? А то я тут, понимаешь, целый холокост развел…
Я его успокоил.
– Не подумай, я к ним отлично отношусь. Еврей – он же не негр какой-то. Или там китаец. Башковитый народ. Но хитрый и себе на уме. Сечешь момент?
Я кивнул.
– А сам-то что делаешь? – спросил Миша, небрежно кивнув в сторону свалки. – В Америке?
Я ответил.
– На рояле? – Миша уважительно кивнул. – Классическая музыка, да… Ты сам или в оркестре? Ничего, что я тебя на «ты»? А то ведь, знаешь… – Он помолчал, спросил: – А как фамилия? Ваша. В смысле твоя.
Я назвал.
– Спирин? – Миша присел, звонко шлепнул себя по коленям. – Ешь твою мать! Дима Спирин! Ну ты… Нет, ты… Ну-у не-ет! У Райки пластинка была! Первый концерт Шопена – играет Дима Спирин. Фирма «Мелодия»… Ну е-мое!
Это была моя первая запись, дирижировал Светланов, писали в Большом зале, в Москве.
– Райка говорила: вундеркинд! Амадей, говорит, Моцарт! Надо же… Вот бы Райка обалдела, я тут с Димой Спириным… – Он, смеясь, развел руками.
– Ну так позовите. – Я тоже засмеялся. – Тут она?
– Райка? Нету Райки… Прошлым маем умерла. От рака грудей. Прошлым маем… Седьмого, в среду.
Мы спустились в подвал, я нес самовар, старался не оступиться на крутой лестнице. В подвале пахло смазкой и металлом, еще чем-то горелым. Миша включил яркую лампу над верстаком, водрузил самовар.
– Туляк… – скупо и весомо начал он. – Завод братьев Баташевых. Экземпляр достойный, но битый, покоцанный весь. Потом, гляди, ручка эта неродная. Это нехорошо… Душничок гнутый, но это поправимо.
– Течет он…
– Погоди ты. Давай-ка с экстерьером разберемся. – Миша присел, вглядываясь, трагично произнес: – Шейка кривая. Видишь?
Я присел, на всякий случай кивнул.
Миша медленно обошел стол, вглядываясь в самовар:
– А это что за музыка?
– Музыкант один выгравировал. Немецкий.
– Моцарт? – хохотнул Миша, достал очки. – Ну-кась, давай теперь поглядим, что у нас внутри делается. Вовнутрях, так сказать…
Судя по мрачному хмыканью и посвистыванию, дела внутри обстояли тоже не ахти. Миша светил внутрь фонариком, скреб что-то там шилом:
– Да-а… – Он сложил очки, сунул в задний карман. – Диагноз, как говорится, неутешительный.
– Он течет… – неуверенно добавил я.
– Ясно дело. – Миша мрачно усмехнулся. – Течет! Там какой-то козел свинцом кувшин припаял. Все дно залил свинцом, урод.
– Кувшин?
– Ну трубу, куда топливо кидают.
– И что?
Миша огорченно уставился на меня, моя репутация стремительно рушилась.
– Ну ты даешь… Это ж свинец! Яд!
– А-а!
– Вот тебе и «а». И потом… – Миша наклонил самовар ко мне. – Это вообще уже садизм просто. Кран забит, видишь?
Я заглянул в металлическое нутро, темное и пыльное.
– Видишь, какая-то хрень торчит, там, где репеек. Видишь?
– Какая хрень?
– Ну я-то почем знаю? Как пробка. Я ее шилом хотел поддеть, ни фига, глубоко сидит. Крепко.
Я взял фонарь, посветил так и эдак, ничего толком не разглядел.
– Какой урод кран заткнул? – Миша вздохнул. – Зачем? У тебя курева случайно нет?
Я вернул ему фонарь.
– Короче, так. – Миша хлопнул ладонью по самоварному боку. – Если все делать путем, то агрегат твой нужно распаивать. Весь. Шейку, поддон. Кувшин… Распаять, удалить весь свинец. Снять накипь. Подобрать правильную ручку, а то что это такое? – Он брезгливо щелкнул по ручке. – Потом все хозяйство собрать, спаять как следует. Отполировать.
Я зачем-то туда-сюда повернул кран.
– Дело дорогое и хлопотное. – Миша вздохнул, я понял, что ему не очень хотелось связываться с нашим самоваром. – Вообще-то я могу его полирнуть. Засияет как золотой! Потом я его лаком заделаю, так что ни окислов тебе, ни патины. Но это так, для интерьера, вроде украшения. Бутафория, короче. Без чая.
Я поблагодарил его. Поднялись наверх. На улице стало солнечно, туман исчез, и даже запахло морем. Я сунул самовар в багажник, хлопнул крышкой. Миша следил за мной, почесывая щетину. Я достал бумажник, протянул ему купюру.
– И не думай! – возмутился Миша. – Ты что? Убери немедленно!
– Миша…
– Ни в коем…
– Миша! – повторил я строго и сунул бумажку ему в кулак.
– Это много, давай я тебе сдачу… – смущенно начал он.
– Миша!
Он обиженно махнул рукой. Я открыл дверь, сел в машину.
– Ты на Оушен не выезжай, а то кругаля дашь. Ты прямиком через Гловер на Пятый хайвей, там у обжорки «Бургер Кинг» свернешь налево. Понял?
Я кивнул, он похлопал ладонью по крыше:
– А самовар я тебе подберу, Дим! Не то что этот калека! – Он кивнул в сторону багажника. – Выберу, как себе! Хоккей?
– Хоккей! – Я повернул ключ и дал газ.
На Пятой авеню, проехав Плазу, остановился у ювелирного. Полицейский многозначительно кивнул на знак – стоянка пятнадцать минут. Штраф – эвакуация. Я рукой изобразил зигзаг, символизирующий мою невероятную стремительность.
Толкнул тяжелую, но коварно податливую дверь. Быстро пошел вдоль витрин, от яркого света тут же заболели глаза, камни-самоцветы пестрели и переливались, золото сияло, очень хотелось зажмуриться.
– Вам помочь? – Сзади бесшумно возникла предупредительная девица с лицом умной лани.
– Конечно! – Голос получился сиплый, я прокашлялся. – Где у вас тут бриллианты? – спросил я басом.
Лань повела меня, весело цокая копытцами по мрамору пола. За стеклом витрины полицейский уже прохаживался рядом с моей машиной. Новые часы я так и не купил, но минут семь-восемь у меня точно оставалось.
Вернувшись домой, я поставил самовар на кухонный стол. В ванной, намыливая руки, заметил, как они трясутся. Запиликал телефон, я посмотрел: звонил Сторм. Мне не хотелось говорить с ним наспех, нужно было многое обсудить.
В пыльном углу кладовки, среди беглых шарфов и перчаток, теннисных ракеток и чьих-то роликовых коньков, я нашел сумку с инструментами. Принес, бухнул рядом с самоваром. Достал шило, длинную отвертку, на крайний случай выложил внушительный молоток-гвоздодер.
Фонарик отыскался в одном из ящиков среди кухонного хлама. Батареи были еще живы. Я снял конфорку, снял круг. Рука с фонарем не влезала, мешала чертова труба. Или, как ее называл Миша, кувшин. Держа фонарь двумя пальцами, я опустил его внутрь. Удалось заглянуть одним глазом: там, где к корпусу крепился носик, в той дырке, через которую должна идти вода, что-то действительно торчало. Вроде пробки.
Рука с шилом не пролезала. Взял отвертку, она доставала, но все время соскальзывала. Я пытался поддеть затычку, та держалась, как впаянная. Острие отвертки цеплялось за что-то мягкое, вроде тряпки. Я чертыхался, ободрал руку о край, было такое впечатление, что кто-то взял орех, завернул его в салфетку и заколотил в дыру крана. Промучившись еще минут сорок, я бросил отвертку в сумку и поднял молоток.
– Вот это совсем другое дело… – пробормотал я, примеряясь увесистым бойком молотка к носику. Размахнулся и от души саданул по крану. Самовар откликнулся глухим низким звоном. Загудел, как колокол. Носик лишь погнулся.
– Туляки! На совесть… – Я ударил еще раз.
Репеек – фигурная пластинка, прикрывающая место врезки крана в корпус – отошла от стенки самовара. Я ударил еще. И еще. Появилась трещина. Кран гнулся, что-то там хрустело, трещина росла. Я колотил – по кухне гулял звон, как в кузнице.
– Ах, ты так! – Я прицелился и хряснул в основание крана, прямо в трещину. Кран жалобно звякнул и отвалился. Отскочил от стола, полетел на пол. Из крана выкатился черный кругляш. Я наклонился, поднял его, подошел к окну. Кругляш был размером с крупный лесной орех. Крепко завернутый в тряпку. Я попытался ногтями отодрать материю, она была пропитана то ли клеем, то ли смолой.
Выбрал нож с коротким, острым, как бритва, лезвием. Сделал надрез, нож уперся во что-то твердое.
26
Из нашего окна видна макушка небоскреба с золотой крышей. Его построили сто лет назад, и одно время он был самым высоким в городе, самым высоким в мире. Во всем мире. Пятьдесят семь этажей. Зовут небоскреб Вулворт. Я считаю, это правильно: у каждой красивой, талантливой вещи должно быть собственное имя. Тем более у такой. Впрочем, если откровенно, с Вулвортом архитектор перегнул палку: разрываясь между готикой и ар-деко, он смешал оба стиля, выстроив нечто среднее между рыцарским замком и готическим собором. А под конец еще и позолотил крышу главной башни.
В закатный час солнце отражается от островерхой крыши, пуляя золотыми зайчиками по вечернему Манхэттену. Летят они над Бродвеем, летят в Сохо, в Челси, в Чайна-таун. Один из зайчиков залетает и к нам на кухню. Вот он, гостит на стене рядом с прошлогодним календарем. За это я благодарен Вулворту, я очень ценю его внимание ко мне и Марии.
На самой маковке золотой крыши – если присмотреться – примостилась крошечная башенка со сводчатыми окнами и острым шпилем наверху. Там должна жить принцесса. Я ее ни разу не видел, но мне очень хочется, чтобы у Вулворта была принцесса. Появлялась в сводчатом окне, печальная, с бледным флорентийским лицом. Расчесывала русые волосы черепаховым гребнем, вглядываясь в муравьиную суету внизу.
Мы все чего-то ждем. И это тоже правильно. Без этого трудно жить, почти невозможно – я знаю, о чем говорю.
Я сидел за кухонным столом и ждал Марию. Солнечный зайчик покинул меня, кухня погасла, постепенно наполнилась сиреневым. Сначала я хотел позвонить, даже набрал номер. Но потом передумал, решил насладиться ожиданием. Ведь предвкушение, если с ним дельно обращаться, ничуть не хуже самого радужного воспоминания.
Я репетировал, перебирал разные сценарии – от букета темных роз, пошлых и кровавых, до вульгарного шампанского и коробки бельгийского шоколада с золотым бантом. Даже подумывал нацепить галстук. Время было и в магазин успеть, и приодеться.
Потом суета схлынула, я заметил, как волшебно мерцает отсвет стакана на подоконнике. Мерцает лиловым и тихо тает вместе с гаснущим небом. Я успокоился и стал ждать.
Через полчаса на кухне станет темно. Ты откроешь входную дверь, ключи звякнут, устало плюхнется сумка. Щелкнет выключатель в коридоре. Свет из прихожей прочертит желтую диагональ. Разделит кухню, оставив меня в теневом полушарии. Ты появишься в дверях – только силуэт. Это ничего, глаза и губы я дорисую сам. Твоя рука потянется к выключателю, я скажу: «Не надо, не зажигай». Ты спросишь: «Что-то случилось?»
Я встану, подойду к тебе. Отвечу: «Да. Случилось», протяну руку, разожму кулак. Ты увидишь кольцо – золотое, с тремя синими сапфирами.
– Мне? – с радостным испугом спросишь ты.
– Ну а кому еще?
Кольцо должно прийтись впору – лань не могла ошибиться с размером. Ты будешь смеяться, выставив руку, разглядывать сапфиры и так и сяк. Вдруг, смутившись, замолкнешь. По лицу мелькнет страх, как тень птицы, потом догадка.
– Это просто… или?.. – тихо спросишь ты.
– Или, – отвечу я. – Ты согласна?
Ты замрешь, словно не зная, что делать, после беззвучно заплачешь. Медленно, будто без сил, опустишься на стул. Уткнешься в меня, комкая мою рубашку. Я поймаю твои руки, встав на колени, буду целовать горячие, мокрые глаза, соленые щеки. Мне захочется сказать, что ты спасла меня, что ближе тебя у меня никого нет на свете, что я люблю тебя, – мне очень хочется сказать все это. Но я не умел со словами, я боюсь все испортить словами.
Всхлипнув, ты спросишь:
– А что с самоваром?
Ты только сейчас заметишь его. Он стоит в углу, тускло сияя латунным боком. С дырой вместо крана.
– Ты был у… этого, как его?
– У Волшебника Майкла?
– Да, у Майкла.
– Был. Это удивительная история, – смеясь, отвечу я. – Удивительная и длинная. Давай отложим ее на завтра.
Рассказы
Ферзевый гамбит
1
– Я пережила двух мужей, три автомобильные катастрофы, перестройку в Винницкой области, эмиграцию и кесарево сечение под местным наркозом, а тут приходит эта рыжая… – Софа Кац запнулась, подыскивая слово пообидней, – рыжая шикса и начинает учить меня жить! Нет, вы только поглядите на нее – зубы вставила и уже решила, что она граф Монте-Кристо.
Митрофанова в ответ фыркнула и только повела круглым плечом, смерив подругу презрительным взглядом.
Кац была старухой мелкого формата, таких обычно зовут пигалицами, c черными, как смородины, глазами и неожиданно удлинившимся за последние годы носом.
– Или в тюрьму захотела, – не унималась Кац, – к лесбиянкам черножопым?! Ох, вот кто обрадуется!
Митрофанова, осанистая, вызывающе рыжая с румяными крепкими щеками и красивой круглой грудью, надо сказать, действительно сохранилась неплохо и была, по ее же словам, в самом соку (говоря это, она обычно чмокала красными губами).
Они с Кац были одногодками, однако Митрофанова, отмечавшая свое пятидесятидевятилетие уже несколько лет подряд (четыре года, если точнее), похоже, и сама уже верила, что притормозила это чертово время. По крайней мере, для себя лично.
– Ну и дура же ты, Софа, – отозвалась Митрофанова, лениво пиная желтые и красные листья, – круглая дура, прости меня господи.
Они шли парком. Парк был небольшой, чахлый, зажатый между ржавой решеткой автостоянки и серой стеной гигантского мебельного склада. Накануне бушевал ветер, трепал и ломал сучья, гнал страшные тучи, похожие на черные горы. Всю ночь бухал гром, дождь лил и лил, буря напоминала катаклизм библейского масштаба, и, казалось, конца ей не будет.
Утро же выдалось неожиданно синим. Деревья обнажились, вокруг стояла прозрачная тишь, с едва уловимой ноябрьской горечью в холодном, уже почти зимнем, воздухе.
– Так и сдохнешь в этой дыре… дура, – Митрофанова продолжила, разглядывая свои ногти. – И при чем тут тюрьма? Я ж тебе говорю, риска – ноль. Почти ноль.
Кац тоже пнула листья и зло отмахнулась.
Митрофанова остановилась, прищурилась:
– Не-е, ты не еврейка, нет. Евреи – они сметливые! Сообразительные! У них мозг острый. Ты, наверное, бурятка из Улан-Уде какого-нибудь, или из Сыктывкара… или откуда вы там, буряты?
Кац вспыхнула: она терпеть не могла «всего этого митрофановского антисемитизма» – сколько раз ей, засранке, можно говорить, вот уж русская тупость, хоть кол на голове теши, тьфу!
– Я – еврейка! И я шустрая! Знаешь, какая шустрая? – Кац быстро-быстро помахала рукой перед лицом Митрофановой, изображая шустрость. Та отстранилась, брезгливо морщась. – Сама ты бурятка! – уже крикнула Кац, чуть подпрыгнув.
Митрофанова, остановившись, гордо подняла голову и сверху вниз холодно посмотрела на подругу:
– Я не бурятка. Я дочь генерала! И потом, это вопрос справедливости, Гурам – бандит, и деньги эти – бандитские. Так что все правильно и по совести.
2
Они снова встретились вечером того же дня у Митрофановой, в тесной квартире, похожей на битый фибровый чемодан провинциального командировочного: желтые разводы, отсыревшие углы, наклеенные лица из журналов. Квартира крошечная: открываешь дверь и тут же утыкаешься в стену, в одном углу – кровать, в другом – плита на две конфорки. Оба окна выходят в колодец двора, воняет вареной рыбой, небо можно увидеть, лишь высунувшись по пояс. Зато отличный вид в душевую Фогеля напротив (если окна не успели запотеть), да кому интересен голый Фогель?
Посередине комнаты – круглый стол, траурная тяжелая скатерть, черная, с золотыми лопухами и хищными цветами неизвестной породы. Над столом – линялый оранжевый абажур, с кистями и пятнами, таинственным образом оказавшийся по эту сторону Атлантики.
Свет плотный и мутный, накурено. На скатерти – бумага с каким-то планом, нарисован он карандашом, коряво, но старательно – от усердия в некоторых местах грифель проткнул бумагу. В центре плана – квадрат, помеченный жирным крестом. Там уже дыра, через которую видна скатерть. Но карандаш Митрофановой неумолимо продолжал елозить именно там.
Митрофанова мрачна, рыжая голова ее всклокочена, как у сердитого Зевса:
– И не вздумай глушить мотор! Я открыла дверь – ты мухой уже рядом. Мухой! – Митрофанова грозно нависла над столом, накрывая своей тенью Кац, сидящую на венском скрипучем стуле напротив.
Стул скрипел, сухие птичьи пальцы Кац неумело держали длинную белую сигарету. Время от времени Кац набирала в рот дым и, опасливо подержав его, выпыхивала небольшим облачком.
– Слушай, мне ж здесь спать! – вспылила Митрофанова. – Ты ведь даже не затягиваешься! Это что, нарочно? Назло, что ли, мне делаешь?
Кац, нахохлившись, огрызнулась:
– Таки назло, божешмой… Нужна ты мне! Нервы у меня, нервы.
Они еще немного пособачились, а после, наругавшись от души, устроились пить чай.
3
– Бери, бери варенье! Ну-ка, дай я тебе сама положу. А то как не родная, во-о, вот так. Варенье абрикосовое – самый цимес, как ваши говорят!
Митрофанова навалила с верхом, сейчас все поползет через край, Кац ловко поймала пальцем тягучую янтарную каплю – и в рот.
– И это вы называете варенье? Вы, Митрофанова, не кушали настоящего абрикосового варенья, вот что я вам скажу. – У Кац была странная привычка обращаться иногда к Митрофановой на «вы». – Вот бабка моя с Херсону, бобэ Дора, вот она варила настоящее абрикосовое варенье, с косточкой. Ох, как же она варила абрикосовое, ой-ей-ей, это чистый мед! А абрикосы во-о какие и сочные, а на свет – янтарь. А какой у нее харойшес был яблочный! А цимес с кнейдлах – это ж просто язык скушать можно!
Кац зажмурилась и облизнулась.
Сверху кто-то застонал и глухо ударил в пол, потом охнул и ударил сильней. Кац вздрогнула, настороженно разглядывая потолок.
– Это что? Драка? – испуганным шепотом спросила она, часто моргая.
– Горобец, Ефим Изральич, – ответила Митрофанова, лениво махнув красивой рукой, – свою Воробьиху пичужит.
Звуки стали внятней, громче, обрели угадываемый ритм.
– Таки ведь и не скажешь, – задумчиво произнесла Кац, – этот неубедительный шлимазл имеет темперамент!
Молча дослушали до конца. Кац продолжала разглядывать потолок, а Митрофанова вдруг ухнула кулаком по столу:
– Слышь, а Воробьиха-то в Житомир вчера улетела, на похороны. У меня еще перчатки выклянчила, черные, лайковые. Итальянские.
– Ай да Горобец! – уважительно пропела Кац.
– Ага! Ефим Изральич.
И обе захохотали.
– Слышь, Кац, – смеясь, спрашивает Митрофанова, – а у тебя негры были?
– Чего-о?
– А что… Говорят, у них там очень и очень. Африканцы ведь как-никак. А? А то вот они тут ходят вокруг, считай зря. Ну без толку, можно сказать.
– Вы только поглядите на нее! Это ж года не прошло, как мужа схоронила, а уже про негров, тьфу! Прости меня господи.
– Ну а что ж мне теперь век вековать? Время-то уходит! Или, как ты, черной вороной на суку сидеть прикажешь?
Посидели еще, посплетничали.
Было около полуночи, с улицы иногда долетал вой полицейских сирен; то близко – леденяще жутко, то лишь угадываясь вдали нудным завыванием.
Поговорили о детях: митрофановский сын – третий год в Москве, «что-то там с нефтью, звонит раз в месяц: все тип-топ, мамочка, все о’кей, – каждое слово клещами надо тянуть!» Софина дочь в Иерусалиме, уехала с каким-то чокнутым хасидом, «все нормальные идише киндр из Израиля в Америку бегут, у моей дурехи все шиворот-навыворот, вот уже на пятом месяце, я ей говорю – приезжай хоть рожать! Куда там – муж, этот шломо, хочет, чтоб на земле предков! Земля предков, божешмой! Черновцы – земля твоих предков, и Херсон, коза ты недоеная».
Наконец Кац, взглянув на часы, заохала и засобиралась. Сложила чашки и блюдца пагодой, отнесла в раковину. Суетливо отерла руки полотенцем.
– Погоди, – Митрофанова строгим пальцем указала на шаткий стул, – присядь-ка.
Скрипнув дверью, она нырнула в шкаф, хлопая и гремя ящиками, вывалила на пол ком цветастых кофт, гигантскую, не меньше простыни, павловопосадскую шаль, какую-то еще пеструю мелочь.
Вернулась и брякнула на стол сверток, похожий на деревенский гостинец. Распутала узел.
– Не-е-е, – Кац отодвинулась, стул испуганно пискнул под ней, – нет.
В мятой тряпице с желтоватыми сальными пятнами лежал миниатюрный револьвер. Короткий ствол вороненой стали, тускло сияющий барабан с фигурными вырезами, слоновая кость на рукоятке с вензелем – просто игрушка.
Запахло швейным маслом.
– Вам что, в жизни проблем мало? И не вздумай… – прошептала Кац, мотая головой. – Нет… нет.
Митрофанова подцепила пистолет, ловко, по-ковбойски, крутанув его на пальце, дунула в ствол. Получился низкий и круглый звук, как в бутылку, когда все уже выпито.
– Не сцать! – Митрофанова подмигнула подруге. – Меня, между прочим, не кто-нибудь, а ворошиловский стрелок учил стрелять, генерал-полковник Митрофанов Николай Васильевич. В пятак с двадцати шагов попадаю, раз плюнуть. Не веришь? Давай на спор!
Посерьезнев, добавила:
– На крайний случай. Если снотворное не сработает или еще чего… Ты ж понимаешь: если я проколюсь, Гурам цацкаться не будет: цепью обмотают и к рыбам, в Гудзон-реку, кирдык-байрам, короче. А до этого все кости переломают, и «все» в данном случае – не фигура речи.
Митрофанова посмотрела Кац в глаза.
Та осторожно выдохнула и аккуратно сложила руки на скатерти. Пожевав губами, тихо произнесла:
– Тебя просто убьют, ты понимаешь? Убьют!
Митрофанова, плюнув, грохнула револьвер на стол, заходила из угла в угол. Остановившись перед Кац, зарычала:
– Ну что же ты за бестолочь? Ведь уже тыщу раз повторяла! План вульгарен, как веник! Я вообще считаю, чем проще – тем лучше. Как там Эйнштейн Альберт говорил? Ты пойми, он деньги в сумку собирает, такую спортивную, через плечо… на молнии. А я думаю, что если бы денег было мало, так он бы их в кошелек или в портмоне какое складывал. Ведь так?
Кац молчала. Митрофанова, наклонившись, обняла ее за плечи и ласково проговорила:
– Софочка, ведь все одно к одному: и работа эта, и ход, что я разнюхала, – никто о нем и понятия не имеет! – ну просто все само в руки плывет. Судьба, не иначе. Вот я и говорю: такой шанс упускать? Тем более что и риску-то – ноль. Ну, почти ноль.
4
Зеленые цифры 02:22. На потолке – бледный отсвет окна с двойным крестом. Кац лежала на спине, сложив руки, как покойница. Шмыгала носом, бормоча кому-то в темноту:
– Ой, как же он играл! Это ж просто божешмой, как он играл! И что же он имел за свою музыку? Немножко хлеба, бублик, копейку. Стол с гефилте фиш? Эсик флейш? Не смешите меня… Вот и пошла я за доктора. А доктор седой, красивый, бабочка на шее… как же я тогда жила, ах как же я тогда жила! Цимес! Цимес мит компот! А любила все одно Яшку, хоть и ботинки драные, и штаны на штрипках, сам тощий – виду никакого, чисто шлимазл, а уж как заиграет – божешмой – ангельская музыка!
А вчера опять собака эта приснилась, черная. Будто открываю я окно в сад, а там полная луна, круглая, большая. И светло, как днем. Там она и стоит, собака эта, в саду. Огромными глазищами на меня пялится, не отрываясь. И тени от яблонь корявые по земле. Как змеи… Я через окно, значит, в сад, а у самой кровь стынет – жуть! – да и зачем же я к ней, к этой поганой псине-то, иду? И не иду даже, нет, ноги сами несут, вроде как засасывает в омут какой или трясину. Совсем близко подхожу, а она, гадина, глядит, не отрываясь, уже вижу, как в глазах у нее искорки красные гуляют, вроде угольков в костре. И отражение свое вижу, но не сейчас какая я, а девочкой, лет семи-восьми, понимаете? Косы с бантами и кофточка, а на кофточке грязь, я на руки свои смотрю, а они тоже все в грязи, и ладони, и манжетки, все грязное. Все грязное, понимаете?
5
Ашанашвили Гурам Лаврентьевич, вор в законе, клички Каин, Людоед, Зуб, 1951, село Цхали, Груз. ССР.
В юности занимался боксом и вольной борьбой, учился в цирковом училище, которое бросил из-за травмы, работал слесарем комбината бытового обслуживания и тренером в спортшколе.
С 14 лет занимается воровством, в начале 70-х входит в банду Дато Менгрела, в 1976 г. организовал собственную банду, которая тоже специализировалась на вымогательствах и кражах у состоятельных граждан.
В 1981 году в результате специальной операции Ашанашвили был задержан и в следующем году осужден на 14 лет лишения свободы по статье 146 («Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с применением оружия»), статье 218 («Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ») и статье 196 («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).
Срок отбывал в колонии № 54, пос. Талана, Иркутской области. Бежал. Убив своего сообщника, две недели питался его мясом.
В 1989 году по фальшивым документам выехал в Австрию, через два года, оформив фиктивный брак, переехал в Нью-Йорк, где организовал бригаду для рэкета и исполнения заказных убийств из 50 бывших спортсменов.
Основные сферы влияния – Бруклин, Вирджиния-Бич, Денвер.
6
Ресторан «Мзиури», угловой красного кирпича дом в два этажа, на окнах – глухие ставни. Вывеска моргает розовым, слепенький неон, как слабая марганцовка.
У дверей – два усатых охранника-брюнета, плотных и одинаковых, как близнецы, третий – толстый, бритый под ноль увалень чуть поодаль, на углу. Переваливаясь, как гусь, кряхтя, поправляет и пристраивает что-то угловатое под плащом. Иногда он обращается к тем двум, словно кашляет придушенным баском, выходит «кха-кха». Охранники отвечают своим «кха-кха-кха», после все хохочут. Толстый довольно поглаживает бритую макушку, переваливаясь, идет на свой угол.
Когда подкатывает очередная машина, вся троица замолкает, вытягивается. Гусь, посерьезнев, неожиданно проворно обшаривает прибывшего, после, наклонив голову, бубнит что-то в воротник.
Дверь открывается, один из брюнетов заходит вместе с гостем. Там, в кромешной темноте, они спускаются по узкой лестнице. Пахнет подгоревшим кисловатым хлебом и табаком. Гость, расставив руки, оступаясь, почти на ощупь, наконец выходит на свет. Это коридор, в конце дверь. Еще один охранник. Этот, уже не таясь, нянчит короткий тупорылый автомат. Он еще раз обыскивает прибывшего, открывает дверь.
Комната небольшая, низкий потолок с мутным плафоном, свет желтоватый и плотный, от такого, кажется, вот-вот заноют зубы. На полу – толстый ковер в темных коричневых узорах. За массивным канцелярским столом сидит Гурам. Мощные загорелые руки, закатанные рукава туго врезаются в мясистые бицепсы, на правом – синяя татуировка: череп, кинжал проткнул его сверху и насквозь, капля крови на острие, по бокам две кобры симметричными кольцами обвивают рукоять и клинок.
На столе – коньяк в пузатой бутылке, блюдо с фруктами: фиолетовые пыльные сливы, бархатистые персики и абрикосы, виноград «дамский пальчик».
Гурам смотрит на гостя, лениво берет деньги, пересчитывает, шевеля жирными губами: «Трыцат тры, трыцать четыре…» Порядок – находит имя на листе, ставит крест. Предлагает коньяку.
Сам Гурам пьет чай. Стакан тонкий, похож на вазочку в серебряном подстаканнике. Гурам любит чай горячий и свежезаваренный, крепкий, как чифирь. Поэтому каждые двадцать минут в комнату бесшумно входит женщина с чайником, лапа Гурама тянется к ускользающей ляжке, губы улыбаются: «Ва-ах, ламазо, пэрсик!»
Женщина невозмутимо наливает чай, ловко промокнув каплю с носика белой салфеткой – упаси бог на бумагу капнуть! А там, на бумаге, уже почти против всех имен крестики стоят, еще час от силы, и все – дань собрана.
Покачивая бедрами, она так же бесшумно выходит. Это Митрофанова.
В последней порции чая, именно той, что сейчас, причмокивая, пьет Гурам, тройная доза снотворного.
Упаковка таблеток у Митрофановой осталась от Левы Кушельмана, ее последнего на сегодняшний день, пятого мужа, умершего чуть больше года назад от эмфиземы легких.
Еще от Кушельмана остался револьвер. Лева купил его перед их переездом из Майами в Бруклин, наслушавшись кошмарных историй про пуэрториканские банды. Никаких пуэрториканцев в округе не оказалось, так что пистолет был завернут в тряпицу и похоронен в недрах шкафа.
Сейчас пистолет прячется под широким поясом и пышной блузкой и больно втыкается коротким стволом в низ митрофановского сдобного живота.
Она ждет ровно двадцать минут. Руки гадко трясутся, Митрофанова прижимает локти к телу, так лучше. Берет чайник и свежую салфетку. Шагает по коридору лениво, плавно, на охранника ноль внимания – она тут делом занимается, а не портки просиживает, как некоторые.
«Господи! Лишь бы порошок сработал, господи!» – Митрофанова делает глубокий вдох, мысленно крестится, входит и плотно притворяет за собой дверь.
Гурам спит, уткнувшись в лист со своей бухгалтерией.
Митрофанова осторожно наклоняется: точно спит, вон, даже слюни пустил, боров.
Сумка под столом, тяжелая. Митрофанова не глядит внутрь, застегивает молнию, откидывает угол ковра, в полу – квадратный люк. Она медленно спускается по ступеням в темноту, придерживая крышку люка. Сумка на шее, тихо – не греметь! – лестница крутая, осторожно, осторожно, не хватает сейчас только грохнуться.
Люк опускается, тяжелый ковер китовым хвостом лениво шлепается на место. Фонарик вырезает во тьме желтый круг, туда попадает стена – некрашеный кирпич, потом бетонный пол. Пыльный, словно плюшевый мусор, по такому идешь, ежась, будто на мышей ступаешь. Митрофанова ускоряет шаг. Свет вытягивается в эллипс и летит вперед, вот поворот… так, это уже под прачечной, это уже Девятая…
7
11:56 РМ, угол Девятой и Брум-стрит.
– Божешмой, божешмой, божешмой…
Кац шепчет скороговоркой, вцепившись в руль и мелко подрагивая коленом. По тощей спине щекотно ползет капля пота, ладони тоже вспотели, она вытирает их о толстую колючую кофту и снова впивается в руль. Бедное сердце вот-вот взорвется, стучит, как бешеное, его грохот наверняка слышен даже на улице.
– Божешмой, божешмой, божешмой…
Из черной щели меж домов выскакивает Митрофанова и, цокая, бежит к машине.
– На каблуках! На каблуках! – сдавленным шепотом рычит Кац.
– Заткнись! На газ жми!
Кац, хищно подавшись вперед, жмет.
Полутемные, тесные улицы, машин мало, прохожих нет. Митрофанова командует «направо!» «налево!», Кац вполголоса огрызается «да знаю, знаю», дряхлый крайслер, присев, неожиданно лихо входит в поворот и вылетает на мост.
Впереди, мерцая огнями, опутанный ожерельем мутных фонарей, таинственной скалой громоздится Манхэттен. Выбраться бы из Бруклина – и, считай, полдела сделано.
Мост гулко гудит под колесами, по рукам бегут нервные тени, снуют юркие полосы желтого света.
Митрофанова расстегивает блузку, лезет за пазуху и, облегченно выдохнув, достает револьвер:
– Видишь, а ты боялась…
Кац косится на пистолет, что-то бормочет и снова поворачивает к подруге свой птичий профиль.
Митрофанова опускает револьвер в сумку, трогает пальцами деньги, их много, она улыбается: неужели так просто?
Сзади бешено взвыла сирена, запрыгали красно-синие огни.
Митрофанова опускает сумку на пол и сжимает ее лодыжками:
– Спокойно, спокойно.
У Кац дрожит подбородок; да, именно сейчас она и умрет от разрыва аорты, именно сейчас! Она притормаживает, подает вправо и глушит мотор.
Полицейский «Форд» останавливается чуть позади, вой сирены обрывается на полузвуке, эхо улетает в ночь. Резкий свет фар слепит, отражаясь в зеркале, их видно, как на ладони. Главное – не поворачиваться, не нервничать.
– Я щ-щас умру, – заикаясь, шепчет Кац, слышно, как клацают ее зубы.
Митрофанова шипит:
– Софочка, спокойно, спокойно. Не поворачивайся только! Спокойно!
Лицо Митрофановой горит, господи, лишь бы не инсульт, господи! У нее ж гипертония. Она пятками заталкивает сумку под сиденье:
– Все будет хорошо, Софочка, главное – спокойно. Я тебе обещаю! Ну, родная, собралась, вон он выходит.
Кац опускает стекло.
Он подходит, большой черный силуэт в белом свете фар, острый луч фонарика скачет по асфальту, останавливается. Видно всю полицейскую сбрую – стальные пряжки, рация с короткой резиновой антенной, массивный кольт в открытой кобуре, тугие патронташи, наручники. Наклоняется:
– Сержант Пэрри Райс, эн-вай-пи-ди.
У сержанта Пэрри Райса сильный южный акцент (скорее всего Нью-Орлеан), очень много белых зубов и глянцевитая, как лакированное дерево, темно-коричневая кожа. Он чуть растерян и слегка разочарован – не ожидал увидеть двух белых леди в этом рыдване. Гнали, как обдолбанные подростки, а тут на тебе! Скука, опять за все дежурство ничего стоящего.
Разглядывает карточку водительских прав, снова наклоняется – нет, не пахнет спиртным, да и какое к черту спиртное – пенсионерки! Хотя та, рыжая, еще ничего, вполне; у него была старушка до службы, в Билокси, черная, правда. Такие чудеса вытворяла, молодухам бы не грех подучиться!
Сержант улыбается Митрофановой, та жеманно поводит плечами – черт, вот ведь баба! Полька, что ли, хрен этих белых разберешь, все, как из одной коробки, – он вполне серьезно просит соблюдать правила и скоростной режим, лихо козыряет, и, посмеиваясь, идет к своему «Форду». Он чуть хромает, в детстве у него был полио, сейчас, правда, хромота почти не заметна.
Кац включает поворотник и тихо-тихо, будто на цыпочках, трогает машину с места.
Минут десять едут молча. На Таймс-сквер попадают в пробку. Кац все это время недовольно шмыгает носом и беззвучно шевелит губами. Наконец ее прорывает:
– Или ты, Митрофанова, совсем уже очумела! Это ж полицейский! У нее, у дуры, наган в трусах, под жопой деньги уворованные, а она, шалашовка, глазки сидит строит. Нет, вы только поглядите на эту профурсетку – блузку рассупонила, лифчик видать, тьфу! Это ж кому только рассказать! О-о-ох, божешмой, связалась с нимфоманкой-пескоструйщицей, ни стыда ни совести! Ведь пацан совсем, Кольке твоему ровесник!
– Ага, пацан! То-то на меня так пялился. Завидно, что ли? Да если б я его не завлекала, твоя тощая задница бы уже на нарах в участке прохлаждалась!
Кац от возмущения даже поперхнулась:
– Если б не ты, я бы сидела дома и чай с пирожными пила! Поняла, шлендра?
8
Переночевали в дрянном мотеле на Девяносто пятом шоссе.
Сырые простыни, бежевый палас в пятнах, вонь прокисших окурков. Толком и не спали, лишь под утро забылись, как в угаре.
Денег оказалось гораздо больше, чем предполагали. Митрофанова довольно хлопала и потирала ладоши, Кац страшно перепугалась и запричитала свое «божешмой», Митрофанова, рассердившись, накричала на нее; короче, когда подъезжали к Филадельфии, настроение у обеих было мерзкое.
– Вон там можно, за столбом остановись, – сипло сказала Митрофанова, откашлялась. – Ты со мной?
Кац отвернулась и скрестила руки на груди.
– Ну-ну, Бонапарт, твою мать! – Митрофанова от души саданула дверью.
В помещении почты было душно и воняло клеем. Митрофанова встала за плешивым коротышкой с перхотью на пиджаке. «Откуда перхоть, – подумала она еще, – волос-то нет».
Подошла ее очередь. Митрофанова лениво выставила на прилавок спортивную сумку, продолжая запихивать туда толстую малиновую кофту. Молния застряла. Митрофанова, виновато улыбаясь, ласково спросила:
– У вас коробочки не будет, вот посылочку бы надо… молния, черт…
Круглолицая китаянка или кореянка, поджав неодобрительно губы – не могут дома все как надо приготовить, ну и публика! – молча достала коробку.
– Вот спасибо, вот замечательно, вот мы ее, родимую, щас туда… – Митрофанова неожиданно ловко справилась с упрямой молнией и впихнула сумку в коробку.
Азиатка строго спросила:
– Стекло, взрывчатые и горючие вещества, жидкости и продукты питания, яды, оружие?
– Ну что вы! Вещи теплые сестре отправляю, носки, варежки… – А про себя продолжила – мешок денег, пистолет…
Последнее было завернуто в украденную из мотеля наволочку и завалено сверху тряпьем.
– Адрес?
Митрофанова, чтоб не напутать (вот была бы потеха!), достала бумажку, прочла, близоруко щурясь:
– Так… Канада, провинция Квебек, Лосиные Озера, абонентский ящик 187.
Китаянка проворно набила адрес, прилепила стикер, шлепнула красной печатью – все это почти одновременно, как Шива, – и, бросив коробку на ленту транспортера, отправила ее в чрево почты.
– Обожаю эту страну! – выпалила Митрофанова, распахнув дверь и плюхаясь на переднее сиденье, – надо же вот так верить людям, а?! Кончай кукситься, Софка, давай в аэропорт дуй! Все у нас только начинается.
9
Кац никогда не жила на лесном озере.
Поздняя северная осень скупа и бесцветна: клены уже осыпались, ели черны, снег еще не выпал. Лист приклеился к свинцовому зеркалу воды и скользил меж белых облаков и холодной синевы перевернутого неба. Хотелось молчать и, запрокинув голову, вдыхать и вдыхать полной грудью морозный воздух, застывший в предвкушении первых колючих снежинок.
Потянуло душистым берестяным дымком – Митрофанова затопила печь; они на всю зиму запаслись березовыми дровами, спасибо Экалуи, егерю-индейцу, привез, да еще и сложил в ладные поленницы.
Укладывая, он все пел что-то с птичьим присвистом, здорово у него это выходило, весело. Митрофанова спросила, о чем поется; песня оказалась вовсе не веселой – про девушку, что умерла и плывет на хрустальном месяце и спрашивает у звезд: «Жизнь – что это? Мерцание светлячка в ночи? Или дыхание оленя морозным утром? Или тень орла, что скользит по траве?»
У егеря тугая коса, волосы черные, блестящие, как вакса, в косу вплетены ремешки с серебряными пережимами, а на шее шнурок с тотемом – рыба из черненого серебра с бирюзовым глазом. Его племя – Инуктитук, что значит «люди озера». А соседи из долины всегда звали их просто «ику», рыба.
От его сильных рук пахло хвоей и табаком. В профиль он был похож на Цезаря, вырезанного из жесткой коричневой коры, анфас это сходство исчезало из-за черных, как вишни, и наивных, почти детских глаз.
Вечером они сидели на ступенях крыльца, от чая шел душистый дымок, они, обжигаясь, пили и смеялись.
Быстро стемнело, паутина голых веток покрыла помрачневшее небо. Стало тихо и тревожно.
Митрофанова хотела научить егеря песне, но русские слова ему не давались, дальше первой строчки дело не пошло. Тогда Митрофанова, нетерпеливо махнув рукой, начала старательно выводить сама: «В той степи глухой умирал…» У нее был округлый русский голос, негромкий, но «с душой». Печальный звук плыл над потемневшей водой и умирал тихо, без эха, так и не долетев до другого берега. Митрофанова пела про лошадушек и про обручальное кольцо, про то, что ямщик любовь свою унес в могилу, индеец ласково улыбался и плавно качал головой в такт. Кац тихо пошмыгивала, моргала, а под конец разревелась.
Егерь уехал, Кац позвякивала посудой на кухне, изредка к кому-то строго обращаясь. Митрофанова постояла на крыльце, спустилась к воде. Высыпало столько звезд, казалось, что неба нет – лишь жуткая бездна, и в озере та же леденящая бездонная чернь, только темнее и чуть колышется. Голова начала вдруг кружиться, берег тронулся и поплыл. Плыла и черная стена леса на взгорье, и озеро, и Митрофановой почудилось, что это она и есть – та, скользящая по стылой воде в хрустальной пироге мертвая девушка, о которой пел егерь-индеец.
10
Утром над озером мутный туман, другого берега не видно вовсе, лишь лиловое марево да призрачный лес с редкими выстрелами первых охотников.
Рассвет робок и медлителен. Меж проступивших из тумана кленов чернеет дорога, поворачивает и круто взбирается в гору. Там, среди сосен с шершавыми, рыжими от утренних лучей стволами, дорога перестает петлять и светлеет, это уже почти шоссе.
Асфальт в трещинах и буграх от мощных корней – вон какие великаны стоят по обочинам, торжественно смыкая над головой темные своды. По такой дороге катить бы не спеша, чуть придерживая руль, левую руку свесив наружу, ловя пальцами колючие мокрые ветки.
Но вот уже проглядывают меж хвойных лап крыши поселка, темные и бархатные от мягкого мха. Из труб струятся ленты сизого дымка, кажется, вот-вот, и невидимая рука ухватит их и утянет всю деревню за облака.
Кац возвращается из поселка.
В багажнике не только продукты, обычный набор, покупаемый в лавке (Кац зовет ее «сельпо»), там рождественские подарки для Митрофановой – четыре фунта черного бельгийского шоколада и двухтомник Мопассана.
Кац насвистывает песню про девушку, плывущую по озеру на хрустальном месяце; получается что-то занудное вроде хавы-нагилы, она отбивает ритм ладонью по упругой баранке – нет, все равно не то!
В поселке угрюмо, все ожидают снега, а снега все нет и нет; егерь Экалуи сказал, что это духи озера сердиты, уже декабрь, а еще не упало ни одной снежинки. Значит, и зверь уйдет на север, не будет ни мяса, ни шкур.
Да и утро как-то не задалось: сначала вроде рассвело – верхушки сосен на том берегу зажглись бледно-оранжевым, и по небу прошла розоватая рябь, а уже через полчаса с севера потянуло сырым холодом. Сумрак мало-помалу снова сгустился, словно ночь передумала уходить и решила вернуться. На озеро выполз густой туман, небо опустилось и тяжко нависло над водой.
Кац включает радио, ищет прогноз погоды.
Или это из-за сна так муторно на душе? Опять ей снилась черная собака в саду, Кац вскочила среди ночи то ли от собственного крика, то ли от безумно ухающего сердца. А вокруг была такая темень, такая жуткая тишина, ближайшее жилье за перевалом через лес, милях в пяти. И ей так хотелось разбудить Митрофанову, поговорить, услышать ее насмешки и грубые шутки, черт с ней! – все что угодно, лишь бы прогнать этот тоскливый липкий страх.
За поворотом, перед спуском к дому, уткнувшись носом в густой ельник, стоит машина. Не из поселка, все местные ездят на обшарпанных грузовичках и джипах. Притормозив, Кац вытягивает шею – в машине никого.
Дальше, на обочине – ворох какого-то тряпья, Кац останавливается, подходит. Это человек. Поджав ноги и неуклюже вывернув голову, он словно прислушивается к чему-то в асфальте. Лицо в крови, глаз, уже тусклый, неживой, удивленно раскрыт – похоже, из недр земли доносятся неожиданные звуки. Ведь только дураки говорят про мертвых: будто спит. Чушь, сразу видно, что труп!
Кац бежит к дому. У частокола, на промерзшей седой траве, лежит еще один. Он жив, пытается ползти, хрипя, цепляется пальцами за изгородь. Это Гурам.
Дверь в дом распахнута настежь. Рядом, на крыльце, привалившись к бревнам стены, сидит Митрофанова. Кац поднимается, всего три ступени: раз, два, три. Наклоняется, встает на колени. Лицо Митрофановой спокойно, даже красиво. Только уж очень белое оно, ее лицо. И прижатая к груди рука тоже как мел. Зато застывшая на пальцах кровь и тонкий ручеек на досках веранды невозможно красны. Правая рука лежит на полу ладонью вверх, такой усталый жест, пальцы бессильно разжались, револьвер выскользнул.
Кац касается губами ее лба – холод, как от камня! – что-то шепчет на ухо, ласково и тихо. Поднимается, помешкав, берет револьвер и медленно идет к частоколу. Стреляет один раз, другой. На третий раз боек цокает в пустую гильзу.
Кац бредет к озеру, бросает пистолет в воду, вяло, без замаха. Садится, поджав колени к подбородку. Смотрит на воду, на дальние сосны на том берегу, на сумрачную холодную чащу и фиолетовые хребты холмов на горизонте.
Она слышит неясный шепот, но голос ей знаком:
– Жизнь? Что это – мерцание светлячка в ночи? Или дыхание оленя морозным утром? Или орла тень, что скользит по траве? Жизнь – что это? Кто ее знает, Софа, кто ее знает…
Кац поднимает голову. Из посветлевшего неба мягко начинает падать, кружить снег. Опускаясь на лицо, большие снежинки щекотно тают, в воздухе пахнет только что разрезанным арбузом и молодой хвоей.
Парадокс Левитана
1
У Гриши Горхивера, узкогрудого мужчины с грустным лицом хворой птицы, была досадная привычка тормошить собеседника за пуговицу. Еще Гриша просил называть его Грэгори, он так и представлялся: «Грэгори Горхивер, радиожурналист». При этом сильно жал руку и долго не выпускал ее из небольшой прохладной ладони, тут же начиная плотоядно разглядывать пуговицы вашего пиджака. Непременно (это уже ухватив вас за пуговицу), независимо от темы, оповещал, что родился и вырос не где-нибудь, а в Камергерском переулке. Был страшно этим горд, называя себя коренным москвичом, будто здесь, в Нью-Йорке, этот факт мог кого-то впечатлить. Он действительно вырос в тех горбатых закоулках столицы, неглинская шпана из нищих коммуналок частенько поколачивала его и выворачивала карманы: Гришина очевидная национальность, папина профессорская «Волга» и круглые окуляры в роговой оправе представлялись хулиганам достаточными поводами для битья. И хотя Гришу уже давно никто не колотил, очки его по-прежнему были починены изолентой и подкручены проволокой, напоминая самодельный мопед. Гриша неизменно одевался в серое, причем другие цвета и оттенки на нем выглядели тоже разновидностью серого. Еще он был рассеян, много и неопрятно курил, соря везде пеплом и плюща окурки в цветочных горшках.
Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения, поскольку Гриша обладал Голосом. Именно с заглавной буквы. Покойный Сережа из новостной группы называл это парадоксом Левитана, имея в виду не унылого певца среднерусского пейзажа, а Левитана-от-советского-Информбюро. Пусть от Сережиного надтреснутого баса барышни тихо млели и начинали загадочно улыбаться – до волшебного баритона Горхивера ему было ох как далеко.
2
Впервые я услышал этот божественный голос много лет назад. Сквозь трескотню гэбэшных глушилок сочный радиобаритон звучал из моего коротковолнового «ВЭФа» словно сигнал из далекой, почти фантастической галактики. Эфир моей родины был суров и однообразен, начиная с бойкого марша утренней гимнастики и кончая неизбежно пугающим вступительным аккордом полуночного гимна. Между этими музыкальными номерами исполнялся неизменный матросский танец из балета «Красный мак», суматошные украинские частушки и несколько оперных арий. И вот на фоне вселенского уныния и бесконечных побед и на бескрайних просторах, столь созвучных славянской душе и погоде, вдруг, зычно раздирая каждую букву «р», некто невидимый и великолепный прорычал:
– В эфир-ре Билли Р-р-Рокосовский и его музыкальный хит-пар-рад!
Этот неземной Билли виделся мне статным красавцем блондином, белозубым балагуром с ямочкой на мощном подбородке, как у парней с рекламы американского табака. Шутки его были верхом остроумия, музыкальный вкус – безупречным, а его коронное «Лови волну, бэби!» – величайшей фразой в истории радиовещания. Потом, спустя много лет, Гриша уверял меня, что псевдоним был взят не столько из соображения благозвучности, сколько из осторожности – часть Горхиверов еще проживала там (при этом он мотал лысоватой головой куда-то вбок, словно предлагал выпить), за железным занавесом.
3
В тесной студии на Лексингтон-авеню, подложив под ноги увесистый том телефонной книги, – иначе ботинки не дотягивались до пола, что раздражало и отвлекало, Гриша поправлял «уши», подкручивал штангу микрофона и, придушив окурок в треснутой гжельской чашке, слушал, как Сережа в соседней студии дочитывает новости. Потом шла отбивка станции. После режиссер Лариса включала Гришин джингл – бешеный гитарный рифф из «Хайвей стар» с лихим выходом: «В эфире – Билли Рокосовский и его музыкальный хит-парад!»
Тут Гриша преображался: подавшись вперед, будто вспыхивал изнутри и, подмигивая всем лицом скучающей Ларисе, кричал:
– Лови волну, бэби!
Представление начиналось.
Если начистоту, то к рок-музыке Гриша относился флегматично, или, как он сам определял, индифферентно. Как всякого приличного еврейского мальчика, его учили скрипке, что, однако, не переросло в закономерную ненависть к классической музыке. Да и тогда, в камергерские годы, в меру культурные родители особо не настаивали, так что сейчас Гриша отчасти благодаря им предпочитал Георга-Фридриха Генделя Джимми Хендриксу. Бреясь и куря одновременно, Гриша старательно высвистывал увертюру к «Фигаро». Поглядев в глазок, отпирал дверь: год назад этажом ниже нашли зарезанного. Спускаясь по лестнице, Гриша старался не наступать на иглы и пустые «дозы» – да, райончик, конечно, не ахти – Бруклин, чего вы хотите? – приходится экономить.
С личной жизнью тоже не клеилось. Напористо бодрых американок Гриша побаивался, а эмигрантские дамы, даже из тех, кому и терять-то уже было нечего, на Гришины ухаживания не откликались, фыркали и поводили плечами. Следует упомянуть Розиту, круглолицую, коренастую и чернобровую. Она почти не говорила по-английски, а вскоре после того случая уволилась со станции. Тем ноябрем Гриша писал голос на джинглы и застрял до полуночи: ни с того ни с сего магнитофон начал жевать пленку, и все пришлось переписывать заново. По карнизу заколотил то ли дождь, то ли град. Бледные отражения потекли по стеклу: это Розита короткими красными руками сматывала шнур пылесоса. Охнув, зацепила и свалила ворох бумаг с Гришиного стола. Гриша ринулся помогать. Во тьме кладовки, гремя ведрами и роняя швабры, он овладел Розитой неуклюже и впопыхах. Запомнился жаркий луковый дух с примесью мексиканских специй и вонь мокрых тряпок и хлорки, от которой под конец его замутило. «Вот такая личная жизнь, сплошной конфуз», – смущенно думал Гриша, спускаясь в подземку и позвякивая мелочью в просторных карманах пальто. Он часто фантазировал о богатстве с наглой белизной яхт и золотом вензеля на кованых воротах; но реальность пообтесала его мечты, они полиняли и съежились.
Теперь ему мечталось робко, на худой конец, думалось о достатке: приличной квартире с окнами в Центральный парк и черном лимузине. Хотя прав у него не было, да и водить он так и не научился – боялся. «Пусть будет шофер! – дерзко придумывал Гриша. – Да, негр в белых перчатках!» Но тут же осаживал себя, понимая, что с шофером – явный перебор. После пары рюмок дрянной текилы Гриша с загадочно-просветленным лицом разглядывал кирпичную кладку гаража напротив: ему грезились мерцающие канделябры и голые спины каких-то томных дев. Девы порочно смеялись, откидывая назад породистые головы.
– И чтоб никакого лука! «Шанель» и «Диор», – сглатывая слюну, шептал Гриша, – «Шанель» и «Диор»! Лови волну, бэби!
Он, безусловно, верил в свое светлое будущее. Не вникая в чепуховые детали, был убежден, что лучшие дни на подходе. Да и как может быть иначе, неспроста ведь судьба наделила его Голосом?
4
Гриша получал бездну писем, точнее, корреспонденция приходила на имя Билли Рокосовского и радиостанции «Новая волна». Приходили письма из таких дыр и медвежьих углов, о которых Гриша и не слыхивал. Шутки ради он даже прикнопил административную карту си-си-си-пи (как принято было называть историческую родину на станции) в своем фанерном загончике, небрежно именуемом «офис». Вооружившись сильным увеличительным стеклом, он выискивал населенный пункт очередного отправителя и втыкал туда швейную булавку с головкой под бирюзу. Постепенно вся карта расцвела бирюзовыми глазками. Коробка опустела к марту, и Гриша купил сразу две, подклеив чек к перечню своих канцелярских расходов. К гордости примешивалось удивление: Гриша не подозревал, что его радиоголос, усиленный долларами налогоплательщиков (или, по версии совпропаганды, долларами спецслужб), элементарно долетал до Курил, Калининграда и Сухуми.
В ханты-мансийской школе номер три, что в Кондинском районе, был создан тайный фэн-клуб имени Билли Рокосовского. Тайные члены записывали на свои «Яузы» все Гришины программы, разучивали аккорды к песням, а секретным девизом клуба стало «Лови волну, бэби!». Ханты-мансийские фанаты умоляли выслать фото кумира. Гриша, чуть поколебавшись, отослал им ксерокопию с карточки актера Берта Ланкастера, снабдив ее кучерявым автографом. Берт Ланкастер отсылался по разным адресам и восторженным девицам, у Гриши для них была заведена отдельная папка: письма те терпко благоухали ядреной болгарской парфюмерией. Но более всего Гриша поражался той легкости, с которой корреспонденция доходила.
– Как же так? Оказывается, всесильное гэбэ не только не в состоянии заглушить идеологически вредную радиостанцию, но и не в силах остановить поток писем и позволяет им беспрепятственно пересекать границу?
Гриша окидывал взглядом бирюзовое море булавочных глазок и скептически щурился. Что-то там явно не так: или стальной кулак проела ржа, или ежовость рукавиц утратила былую колкость – с Лексингтон-авеню было не разглядеть.
5
Стремительно лысея и преступно экономя на всем (даже сигареты искуривались в самый фильтр), Гриша продолжал втыкать бирюзовые булавки и продолжал ждать чего-то важного в жизни. Прожитые годы считались лишь подготовкой, однако постепенно их количество стало вызывать беспокойство. Иногда вдруг прихватывало сердце, и всплывала тоскливая мысль, что все важное на самом деле уже прожито, да и важным-то назвать это можно лишь с большой натяжкой. Хотя отчего? Ведь помимо грозных хулиганов был еще и утренний дымок над дачной тропинкой, и крепкий стук антоновки в ночном саду, и соседская Ленка Фомина, и рыжие мандарины в крапинках конфетти под елкой, и поджаристая корка французской булки за семь копеек. А главное – ощущение безусловно гарантированного счастья. И как же так вышло, что теперь не то что грядущее счастье, а даже смысл существования и тот выискивался с невероятным трудом?
Гриша ежился, стучал по дереву, запрещал себе даже мысленно произносить слово «неудачник». Оглядывался вокруг: Сережа страстно пил, Витька Немов гонялся за юбками, занося каждую победу в блокнотик тисненой кожи на завязках, главред Чернодольский коллекционировал что-то художественно-историческое, Снетков сочинял телеграфные стихи, рубя под корень самого Бродского. Правда, у Гриши был хит-парад. Поначалу Гриша даже рассчитывал въехать на нем в светлую жизнь, но с годами стало ясно, что это и есть самое светлое, это и есть сама жизнь. Странным манером эфемерный Билли Рокосовский, Гришина выдумка, фантом, постепенно уплотняясь, налился жизнью и вскоре стал даже реальней своего тусклого родителя. Этот чертов Билли, балагуря в микрофон, ронял гнусные намеки на свои амурные приключения, бахвалился убойным свингом на поле для гольфа, хвастал приемистостью нового «Феррари». Гриша ловил себя на том, что он завидовал Билли, иногда даже классово ненавидя хамоватого везунчика и дамского любимца, но сам при этом стойко отбивался от Сережи и Немова, упорно тащивших его на Брайтон к каким-то «невероятно сдобным хохлушкам з Полтавщины».
В конце зимы Гриша подцепил вирус. Весь Нью-Йорк тогда сморкался, кашлял и чихал, говорили что-то про вьетнамский грипп, который никакими антибиотиками не возьмешь. С температурой под сорок, в горячечном полубреду, Грише приснилось, что он сидит в парикмахерском кресле, спеленатый белой простыней, и бреет его киноактер Берт Ланкастер. Все лицо намазал пеной, сбрил брови, принялся за волосы. Гриша пытается закричать, куда там – пеной рот забит, хочет вырваться – руки-ноги словно кандалами к креслу приковали. А Ланкастер, гад, бреет и бреет…
6
Заварила эту кашу Дора Леонардовна, мелкая, почти что карлица, обер-сплетница «Новой волны». Она, загородив выход из архива своим небольшим тельцем (Гриша, со стопкой бобин до подбородка, как раз собирался в монтажную), умильным голосом сказала:
– Грэгори, а вы слыхали, что некто Рокосовский включен в состав жюри «Грэмми»?
Гриша растерялся:
– Как Рокосовский? Какой Рокосовский?
– Билл, – сияя, сообщила пигалица, – Билл Рокосовский. Я уж было подумала, не наш ли это Грэгори Горхивер воссиял? – И, по-болоночьи осклабясь, заглянула в глаза.
Гриша, что-то промямлив, протиснулся в коридор, но запнулся и с грохотом рассыпал по полу все кассеты. Собирая, бормотал:
– Какой еще Билл? Нет никакого Билла…
После этого Билли Рокосовский был замечен и другими сотрудниками радиостанции: старик Лавренюк, желчный религиозный обозреватель, бывший власовец, без левой руки, сразу после летучки рассказывал, что некто Рокосовский в сопровождении четырех девиц (Гришу тогда еще удивило: почему именно четырех?) сорвал в Лас-Вегасе баснословный куш (старик потряс над головой сохранившимся кулаком), какие-то невероятные миллионы, которые тут же с треском прокутил за ночь. Братья Хороших, Гера и Макс, спортивные хроники, зажав Гришу в угол, толкаясь и перебивая друг друга, заливали про вакханалии за кулисами конкурса «Мисс Америка», с азартом подростков в деталях живописуя развратное поведение Рокосовского и конкурсанток. Проплывавшая мимо красуля Ланская томным контральто объявила:
– Враки! Никаких девиц. Рокосовский – гомосексуал!
Хохляцкий говорок ее придал последнему слову особенно обидный привкус, еще сильней расстроив Гришу. Поползли слухи, что Рокосовский – гей, упоминался Элтон Джон, порочный Фредди Меркьюри, тайные оргии в эксклюзивных клубах аморального Сан-Франциско.
– Срам! Содом и Гоморра! – радостно восклицала карлица Дора Леонардовна. – В чистом виде Содом и Гоморра!
Гриша прекрасно понимал, что над ним посмеиваются (он и до этого был излюбленной мишенью редакционных остряков), но отчего-то бесился. В конце концов, Билли Рокосовский принадлежал ему, и только ему. Билли был его чадом и творением, его идолом: какое право имели всякие там однорукие радиопаршивцы вообще произносить это имя, а уж тем более марать его в грязи?! Вконец расстроенный Гриша поймал на выходе главреда Чернодольского и, вцепившись в пуговицу его твидового лапсердака, сбивчиво и путаясь в деепричастных оборотах, потребовал прекратить «глумление и инквизицию». Чернодольский мрачно кивал лысой головой, пучил глаза и надувал щеки, силясь не расхохотаться.
Удивительным образом имя Рокосовского вынырнуло пару раз и вне редакции: Гриша подслушал его в обрывке разговора двух продавщиц. Другой раз Билли выглянул в толчее автобуса сложенным пополам газетным заголовком:
…ной скандал…
…лли Рокосо…
7
В том августе стояла изнуряющая жара, асфальт плавился и покрывался дырочками от шпилек и каблуков. Обессилевшие кондиционеры работали на износ, дребезжа пропеллерами и грозя сорваться и улететь. В телевизоре чугунного Феликса подцепили крюком, он качнулся и повис. Никто не проронил ни звука, лишь Ангелина Вениаминовна из «Культурных вех» громко прошептала:
– Ничего себе…
И тут всех словно прорвало: поднялся гам, потный главред Чернодольский, толстый и по-бабьи задастый, гремел кулаком по столу, перекрывая шум:
– И наша заслуга! Без ложной скромности!
Молниеносно возник алкоголь, кто-то плеснул в Гришину чашку. Протискиваясь и весело толкаясь плечами, Горхивер долго чокался, после залпом выпил. Потом дым слоистыми волнами стал вытекать в коридор, Лариса пошла пятнами и запела, Гриша под шумок придвинулся и невзначай приобнял Зиночку из отдела писем. Но Зиночка так зыркнула на него, что он, закашлявшись, быстро засобирался домой. Уже в лифте до него донеслось:
– Без ложной скромности!
Ласково улыбаясь своему мутному отражению и гулким пролетам Бруклинского моста, Гриша в блаженной истоме покачивался в такт, повторяя вслед за колесами: «И наша заслуга… И наша заслуга…»
Жизнь оказалось не такой уж бестолковой штуковиной.
8
Снег выпал только в январе, город притих и посветлел. Кураж к этому времени иссяк, нервная удаль сменилась тревожным ожиданием. Уволили Немова и прикрыли пару программ; Сережа перестал бриться и моментально зарос бородой до самых глаз. В глазах застыла тоска и угрюмое желание надраться до чертей. К неистребимому запашку дезинфекции в редакции добавился и повис тяжкий дух обреченности: сокращение штатов. Гриша запрещал себе думать об увольнении, сторонился шушукающихся по углам коллег, прятал глаза, натыкаясь на сочувственный взгляд. Ныло в груди, тупо и тягуче, спрятав лицо в ладонях, Гриша шептал:
– Я – Билли Рокосовский, меня обожают от Курил до Калининграда, вон письма!
Он неуверенно повторил все это в кабинете Чернодольского. Даже принес ворох мятых листов с наклеенными сердцами и пестрыми надписями. Главред с мрачным лицом, серым и обвисшим, тяжело поднявшись, молча сгреб письма и, тщательно скомкав, выбросил в мусорную корзину. Гриша шмыгнул носом, перевел взгляд с корзины на чашку, на кромке красноглазая муха ехидно потирала мохнатые ладошки.
– Но ведь хит-парад, – совсем безнадежно пробормотал Гриша, – хит-парад вне политики…
– Вот именно! – отрубил Чернодольский. – У них там теперь свобода, мать их ети! Демократия! Каждая шелудивая собака теперь в эфире. И у каждой – по хит-параду!
Гриша совсем скис и опустил голову. Главред зарычал, грохнул кулаками в стол и взмолился:
– Ну я-то что могу поделать, дорогой мой?! Все! Завтра – последний эфир.
9
Гриша не спал всю ночь, накурился так, что уже и не мог затягиваться. Когда окно засветилось мутью, встал, побрел в ванную, постоял перед зеркалом, задумчиво ероша жидкие волосы. Не умываясь, оделся и вышел. На станции все уже знали, отводили глаза. Сережа, пьяно всхлипывая, больно прижал Гришино лицо к своему прокуренному свитеру:
– Эх, брат! За что боролись?!
И страдальчески выматерился.
В студии, подложив под ноги справочник и придвинув микрофон, Гриша слушал конец выпуска новостей. Прозвучала заставка. Неистовой гитарной трелью ворвался Гришин джингл:
– В эфир-ре Билли Р-р-Рокосовский и его музыкальный хит-пар-рад!
Последний аккорд джингла отразился электронным эхом и умер. Стало невероятно тихо. Гриша сидел с ласковым лицом и простодушно улыбался. Он представлял себе эту великолепную тишину, повисшую от Курил до Калининграда. Потом аккуратно снял наушники и, стараясь не топать, вышел из студии.
Манхэттен проглотил Гришу: закрутив волчком, оглушил гудками и ревом, адовым грохотом подземки, вырывающимся сквозь решетки мостовой, воем полицейских и пожарных машин. В себя Гриша пришел лишь под вечер, на скамейке где-то на Парк-авеню. Уже стемнело, сверху сыпало мокрой ледяной крупой. Она таяла на лице и щекотно стекала вниз по щекам и подбородку. Напротив, через дорогу, сиял вестибюль особняка. Люстры янтарными зигзагами отражались в отлакированном асфальте, похожий на адмирала малиновый швейцар важно вышагивал взад и вперед, сверкая цирковым золотом аксельбантов.
– Да-а, земляк, живут же люди!
Рядом с Гришей, привольно закинув назад локоть, сидел здоровенный негр. Лицо его было похоже на мокрый баклажан, в огромном черном кулаке он сжимал пакет, из которого торчало дуло бутыли.
– Хлебнешь? – Черный великан подмигнул и ослепил удивительным количеством зубов.
Гриша кивнул. Неизвестный алкоголь обжег горло. Гриша закашлялся, негр, смеясь, постучал его по спине. Закурили.
К парадному напротив подкатил длинный лимузин, адмирал вытянулся и раскрыл зонт. Шофер, поправляя белые перчатки, вышел и, степенно обойдя авто, распахнул дверь. Со скамейки разглядеть пассажира не удалось, он, небрежно закинув шарф, нырнул под тень зонта и скрылся в дверях вестибюля.
– А ты говоришь… – негр всласть затянулся, – деньги! Этот по музыкальной части на радио, говорят, голос какой-то неслыханный. Уникум… А сам, тьфу, не то поляк, не то еврей… – и тут же спохватившись, – а ты не еврей случайно? А то подумаешь еще… Я ж не в смысле обидеть. Ведь я вас, белых, и не отличаю… мне что поляк, что еврей – все на одно лицо.
Гриша тихо улыбнулся:
– Да нет, все нормально, земляк. Все просто замечательно.
Примечания
1
Превосходное качество! (нем.)
(обратно)2
Добрый вечер (нем.).
(обратно)3
Моей любимой Анне-Лотте в день рождения с сердечными пожеланиями счастья. Твой кролик-Курт (нем.).
(обратно)4
Мистер, пожалуйста, немного мелочи (искаж. нем.).
(обратно)5
Пожалуйста, еще (нем.).
(обратно)6
Я не понимаю (нем.).
(обратно)7
Большое спасибо (нем.).
(обратно)8
Спасибо, спасибо, восхитительно!.. Пожалуйста, не надо (искаж. нем.).
(обратно)9
«Никакого секса с нацистами» (нем.).
(обратно)10
У меня есть деньги (нем.).
(обратно)11
Подразделение берлинской криминальной полиции быстрого реагирования по борьбе с особо опасными и вооруженными преступлениями, основано во времена Веймарской республики.
(обратно)12
Еще один шнапс (искаж. нем.).
(обратно)13
Добрый вечер (нем.).
(обратно)14
Мы… идем на Жандарменмаркт (искаж. нем.).
(обратно)15
Мы едем (нем.).
(обратно)16
Это подарок (нем.).
(обратно)17
Милостивая госпожа (устар. нем.).
(обратно)18
Прошу, пожалуйста! Все тут! На английском, немецком и русском! (искаж. нем.)
(обратно)19
Господин офицер (нем.).
(обратно)

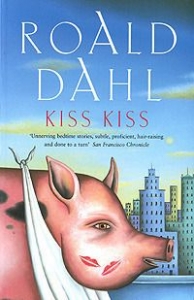

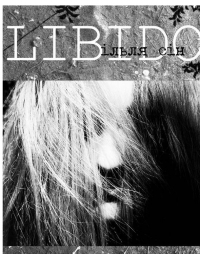



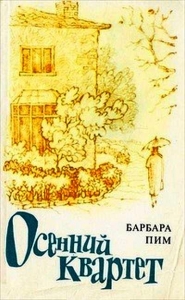
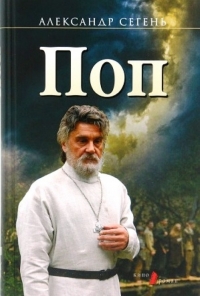
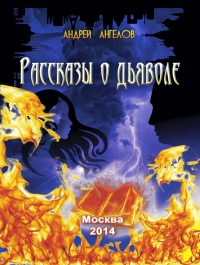

Комментарии к книге «Берлинская латунь», Валерий Борисович Бочков
Всего 0 комментариев