Тадеуш Доленга-Мостович Знахарь
Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства
© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2014
Переведено по изданию:
Dołęga-Mostowicz T. Znachor: Powieść / Tadeusz Dołęga-Mostowicz. – Prószyński i S-ka, 1996
Перевод с польського Дины Коган
Предисловие
Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. По крайней мере, так утверждал светило врачебной науки Авиценна…
Герой романа «Знахарь» профессор Вильчур обладал чем-то бо́льшим: больши́ми толстыми руками, огромной медвежьей фигурой и феноменальным талантом, граничащим с гениальностью. Отдали бы вы в его широкие грубые ладони свое серце, если бы от этого зависела ваша жизнь? Ответ положительный – с первых страниц романа «Знахарь», с первых кадров одноименного фильма Ежи Гоффмана. Конечно же, в условиях стерильной операционной, где воздух насквозь пропитан елейным запахом хлороформа, а благоговейная тишина нарушается лишь стуком металлических инструментов о стеклянный стол, человек в ослепительно-белом халате совершает вполне ожидаемое чудо. Булгаковский профессор Преображенский напрочь отказывался оперировать в комнате для прислуги, принимать пищу в спальне, читать в смотровой, одеваться в приемной и осматривать пациентов в столовой. До поры до времени варшавский хирург Рафал Вильчур, детище Доленги-Мостовича, тоже не помышлял ни о чем подобном: гонорары, эквивалентные новому корпусу для больницы и Канарским островам для жены и дочери, позволяли ему четко разграничивать, в том числе и на бытовом уровне, жизненное пространство и профессиональную сферу. Не помышлял он об этом и после, лишившись всего: жены, дочери, имения, имени, – когда отработанным движением ломал неправильно сросшиеся кости юноше-калеке, чтобы сложить их вновь, не заботясь о том, что оперирует пилой, долотом и парой подходящих ножей, на столе, будь он кухонным или обеденным, а в качестве перевязочного материала использует простыни. Если бы память, которую из него «выбили» тяжелым ударом по затылку грабители, вернулась к профессору Вильчуру, а ныне батраку Антонию Косибе, он бы знал, откуда в нем и этот дар, и этот благородный риск. Как раньше он без страха брался за лечение пациента, от которого отказывались лондонские, парижские, берлинские и венские специалисты, так и теперь исправляет ошибки уездного доктора, которого ни инструменты, ни медицинское образование не делают Врачом.
Итак, столичный хирург предстает перед нами в ипостаси народного целителя. Простой люд приписывает ему сверхъестественные, магические знания, не ведая, как и он сам, сколько лет лжеАнтоний в действительности посвятил изучению медицины и врачебной практике. А местные власти, пребывая в аналогичном неведении, осуждают за «незаконное врачевание» и воровство. Ведь что есть знахарство в понимании просвещенного человека, живущего в начале ХХ столетия? Средневековые суеверия. Темное невежество. Варварство. Преступные практики. Шарлатанские уловки. Бессмысленное бормотание. Вздорные заклинания и заговоры. Травяные настойки. Добровольно-принудительные подношения. Обирание бедноты. Более двухсот смертных случаев в уезде за два года, если говорить языком цифр, то и дело срывающихся с уст свидетеля обвинения! Что и говорить, аргументов на три года тюрьмы, которой уездный доктор Павлицкий давно грозил конкуренту. Да-да, конкуренту. Ведь число знахарей в то время и так превышало число медиков, а тут еще в окрестностях объявился этот Косиба – удачливый «шарлатан», отбиравший до двадцати пациентов в день и имевший наглость похитить саквояж с хирургическими инструментами, когда понял, что для трепанации черепа ему не обойтись слесарным молотком, долотом, клещами, кухонным ножом или садовой пилой.
И в самом деле, как же кристально честный[1] Антоний Косиба решился на кражу? Возьмем на себя роль уездного адвоката Маклая, который сам едва ли с ней справится. Будь Косиба настоящим самородком, всамделишним шептуном и травником, смягчающим обстоятельством послужил бы страх перед невыносимой агонией и Судным днем, ведь славный лекарь жил бобылем, не имел ни семьи, ни последователей[2]. Но ведь мы с вами знаем, что для врача от Бога спасать человеческую жизнь – дело настолько привычное, что в ход идет все: облитое кипятком зубило, если его будет достаточно, или стерилизованные хирургические инструменты, даже если их придется украсть. Поэтому у таких специалистов нет безнадежных больных. Поэтому Смерть всегда стоит у ног их пациентов[3] и они раз за разом ставят ее на колени.
Вынесут ли оправдательный приговор Антонию Косибе? Едва ли. А как насчет профессора Рафала Вильчура? Будет судья суров или благосклонен к нему? Сам ли профессор вспомнит, кто он такой, или его назовет по имени человек из его блестящего прошлого? Какую часть из его жизни удастся вернуть? Трудно сохранить интригу, когда речь идет о тексте столь широко известном, об экранизации столь популярной, о героях, вошедших в каждый дом на правах родных. Возможно, поэтому стоит подробнее остановиться на личности создателя книги и «отце» любимых персонажей, чье имя не так «гремело» у нас, как имя того же Ежи Гоффмана. А ведь в истории жизни и даже в большей степени в обстоятельствах смерти польского писателя, журналиста и сценариста Тадеуша Доленги осталось много неразгаданных тайн.
Если вам случится побывать в Беларуси, обязательно посетите г. Глубокое, где на доме № 2 по ул. Советской установлена мемориальная доска в память Доленги-Мостовича. В этом здании будущий писатель жил с родителями, прежде чем поступить в Киевский университет.
С 1919 года Мостович – доброволец в польской армии, с 1922-го – корреспондент, а потом и редактор варшавской газеты «Rzecz Pospolita», фельетонист, подписывавшийся псевдонимом Т. М., в дальнейшем – Доленга.
Известность обрушилась на Мостовича начиная с дебютного романа. «Знахарь» – седьмое по счету литературное произведение Тадеуша, на тот момент уже снискавшего славу автора искрометной общественно-политической сатиры, и – хорошая новость – не последнее, где фигурирует профессор Вильчур. С 1934 года Доленга-Мостович активно сотрудничает с кинематографом. К 1939 году из 16 его произведений было экранизировано восемь.
Во время Второй мировой войны Доленга-Мостович близ румынской границы организовал милицию, которая в отсутствие власти обеспечивала общественный порядок и безопасность жителей городка Куты. Писатель трагически погиб в сентябре 1939 года. Для его биографов до сих пор остается загадкой, был ли он расстрелян в упор советским солдатом или же погиб под Львовом от шальной пули…
Т. Куксова
Глава 1
В операционной стояла полная тишина. Иногда ее прерывал резкий короткий стук металлических инструментов о стеклянный стол. Воздух, разогретый до тридцати семи градусов Цельсия, был пропитан сладковатым запахом хлороформа и сырыми испарениями крови, и эта невыносимая смесь, проникая через хирургические маски, наполняла легкие. Одна из санитарок потеряла сознание и лежала в уголке, но никто не мог отойти от операционного стола, чтобы привести ее в чувство. Не мог и не хотел. Три ассистирующих врача внимательно смотрели только на разверстую алую дыру, над которой медленно и, казалось, несколько неловко двигались большие толстые руки профессора Вильчура.
Каждое движение этих рук, даже едва заметное, следовало понимать мгновенно. Каждое бурчание, время от времени исходившее из-под маски, содержало точные указания, которые ассистенты ловили на лету и тут же выполняли. Ведь борьба шла не только за жизнь пациента, но за нечто гораздо более важное: удача этой безумной, практически безнадежной, операции означала бы новый великий триумф хирургии и принесла бы еще бо́льшую славу не только профессору, не только его больнице и ученикам, но и всей польской науке.
Профессор Вильчур оперировал порок сердца. Он держал этот орган в левой ладони и ритмичными движениями пальцев без устали массировал его, потому что сердце все время останавливалось. Сквозь тонкую хлопчатобумажную перчатку он ощущал каждое подрагивание, каждое легчайшее бульканье, ведь клапаны отказывались работать, и он немеющими пальцами заставлял их слушаться. Операция продолжалась уже сорок шесть минут. Анестезиолог, доктор Марчевский, неустанно заботившийся о состоянии больного, уже шестой раз вводил пациенту под кожу иглу, впрыскивая камфару с атропином.
В правой руке профессора, совершавшей скупые и точные движения, снова и снова поблескивали ланцеты и ложечки. К счастью, дефект не слишком глубоко проник в сердечную мышцу и имел форму небольшого правильного конуса. Жизнь больного можно было спасти. Только бы он продержался еще восемь-девять минут.
«А все-таки больше никто из них не отважился!» – задиристо подумал профессор. Да, никто – ни один хирург в Лондоне, Париже, Берлине или Вене. Больного привезли в Варшаву, поскольку все остальные отказались от славы и огромного гонорара. А этот гонорар означал новый корпус больницы и, что гораздо важнее, выезд Беаты с малышкой на Канарские острова. На всю зиму. Тяжело ему придется тут одному, но для них это будет прекрасно. Нервы у Беаты в последнее время просто никуда не годятся…
Синевато-розовая подушка легких вздулась от спастического вздоха и вдруг опала. Еще раз, второй, третий. Кусочек живого мяса в левой ладони профессора затрепетал. Из крошечной ранки в фиолетовой пленке выступило несколько капелек крови. В глазах всех присутствующих заметался страх. Раздалось тихое шипение кислорода, и игла снова вошла под кожу больного. Толстые пальцы профессора ритмично сжимались и разжимались.
Еще несколько секунд – и ранка была очищена. Теперь дело должна была закончить тонкая хирургическая нить. Один шов, другой, третий. Просто не верилось, что эти огромные руки способны на такую точность. Хирург осторожно вложил сердце на место и некоторое время внимательно вглядывался в него. Оно увеличивалось и опадало в неровном ритме, но главная опасность была уже позади. Профессор выпрямился и подал знак. Из вороха стерильных салфеток доктор Скужень извлек выпиленную часть грудной клетки. Еще несколько необходимых процедур – и профессор вздохнул с облегчением. Остальное сделают ассистенты. Он мог целиком положиться на них. Поэтому, отдав нужные распоряжения, Вильчур вышел в раздевалку.
Он с наслаждением втянул нормальный воздух, снял маску, перчатки, забрызганные кровью халат и форму, потянулся. Часы показывали тридцать пять минут третьего. Он снова опаздывал на обед. И еще в такой день! Правда, Беата знала, как важна сегодняшняя операция, но опоздание в столь значимый день, безусловно, будет ей очень неприятно. Сегодня утром, выходя из дома, он сознательно ничем не выдал, что помнит, какая это дата: восьмая годовщина их свадьбы. Но Беата знала, что он не мог забыть ее. Каждый год в этот день она получала какой-нибудь прекрасный подарок, и с каждым годом, по мере роста его славы и благосостояния – все более дорогой. Вот и сегодня в кабинете на первом этаже наверняка уже лежит новый подарок. Меховщик должен был прислать утром…
Профессор спешил и переоделся быстро. Ему еще надо было заглянуть к двум больным на третьем этаже и к только что прооперированному пациенту. Доктор Скужень, который неотлучно находился при больном, коротко отрапортовал:
– Температура тридцать пять и девять, давление сто четырнадцать, пульс очень слабый, с легкой аритмией, шестьдесят-шестьдесят шесть.
– Слава богу, – улыбнулся в ответ профессор.
Молодой врач влюбленным взглядом окинул огромную фигуру своего шефа, немного смахивавшую на медвежью. Он был его студентом в университете, помогал в подготовке материалов к научным трудам, которые писал профессор. А когда Вильчур открыл свою собственную больницу, доктору Скуженю было предоставлено широкое поле деятельности и обеспечена хорошая зарплата. Может, в глубине души Скужень и жалел о том, что шеф так внезапно отказался от амбиций ученого и ограничился отработкой часов в университете и зарабатыванием денег, но никак не мог на этом основании меньше ценить профессора. Ведь он, как и все в Варшаве, прекрасно знал, что профессор делал это не ради себя, что он трудился, не жалея сил, как раб на галерах, никогда не боялся взять на себя ответственность, а зачастую еще и совершал чудеса, подобные сегодняшнему.
– Профессор, вы гений, – убежденно произнес Скужень.
В ответ профессор Вильчур засмеялся своим низким добродушным смехом, который внушал его пациентам спокойствие и доверие.
– Да не преувеличивайте, коллега, не преувеличивайте! И вы когда-нибудь дозреете до этого. Но, признаюсь, я весьма доволен. В случае чего, велите мне звонить. Хотя, полагаю, обойдется и без этого. Я бы предпочел, чтобы так и было, поскольку сегодня… у меня домашний праздник. Верно, уже звонили из дома, что обед пригорает…
И профессор не ошибся. В его кабинете телефон звонил уже несколько раз.
– Прошу передать господину профессору, – просил слуга, – чтобы он как можно скорее возвращался домой.
– Господин профессор в операционной, – неизменно и невозмутимо отвечала каждый раз секретарша панна Яновичувна.
– Да что ж им так неймется-то, черт подери?! – вопросил вошедший главный врач доктор Добранецкий.
Панна[4] Яновичувна крутанула валик машинки, вытаскивая готовую напечатанную страницу, и ответила:
– Сегодня у профессорской четы годовщина свадьбы. Неужели вы забыли? У вас же есть приглашение на банкет.
– Ох, и правда. Думаю, там будет весело… Как всегда, у них будут прекрасный оркестр, изысканный обед и самое лучшее общество.
– Как ни странно, но вы забыли упомянуть прекрасных женщин, – иронично заметила секретарша.
– Не забыл. Ведь вы же там будете… – парировал тот.
А на впавших щеках секретарши проступил румянец.
– Не смешно, – дернула она плечиком. – Даже будь я раскрасавицей, и то не рассчитывала бы на ваше внимание.
Панна Яновичувна не любила Добранецкого. Внешне довольно привлекательный, с орлиным носом и высоким гордым лбом, он нравился ей как мужчина; к тому же Добранецкий был великолепным хирургом, поэтому профессор доверял ему самые трудные операции и постарался перевести на доцентскую должность. Тем не менее она считала главврача расчетливым карьеристом, который охотится на богатую невесту, и не очень верила в его благодарное отношение к профессору, которому он был обязан всем.
Добранецкий, будучи достаточно тонким человеком, чувствовал эту неприязнь, но по обыкновению старался не настраивать против себя никого, кто мог бы ему чем-то навредить, а потому примирительно отозвался, указывая на стоявшую у стола коробку:
– Вы себе уже новую шубу заказали? Вижу коробку от Порайского.
– Мне вообще не по карману заказывать у Порайского, не говоря уж про такие шубы.
– Уж прям «такие»?
– Сами взгляните. Это черные соболя.
– Ого-го! Везет же госпоже Беате.
Потом покачал головой и добавил:
– По крайней мере в области материальной.
– Что вы хотите этим сказать?
– Да ничего.
– Вам должно быть стыдно! – вспыхнула панна Яновичувна. – Да каждая женщина позавидовала бы ей, когда муж так любит и лелеет.
– Наверняка.
Панна Яновичувна прошила его гневным взглядом.
– У нее есть все, о чем только может мечтать женщина! Молодость, красота, чудная дочка, известный и всеми уважаемый муж, который день и ночь трудится, чтобы обеспечить ей комфортную и даже роскошную жизнь, положение в обществе. Уверяю вас, господин доктор, она умеет ценить это!
– Да я и не сомневаюсь, – слегка кивнул тот, – только вот по опыту знаю, что женщины более всего ценят…
Он не закончил, потому что в кабинет влетел доктор Банг и воскликнул:
– Поразительно! Удалось! Будет жить!
Он с восторгом принялся описывать ход операции, на которой ассистировал.
– Только наш профессор мог на такое решиться!.. – поддержала его панна Яновичувна. – И он показал, на что способен.
– Ну, давайте не будем преувеличивать, – отозвался доктор Добранецкий. – Мои пациенты не всегда лорды и миллионеры, и, может, им не всегда за шестьдесят, но истории известно множество удачных операций на сердце. Даже истории нашей медицины. Варшавский хирург, доктор Краевский, на весь мир прославился точно такой же операцией. А это было тридцать лет назад!
В кабинете уже собралось несколько человек из персонала больницы, и когда появился профессор, его засыпали поздравлениями.
Он слушал с довольной улыбкой на широком красном лице, но при этом все время поглядывал на часы. Однако прошло добрых двадцать минут, пока он наконец оказался внизу и сел в свой длинный черный лимузин.
– Домой, – велел он водителю и устроился поудобнее.
Усталость проходила быстро. Он был здоров и силен, хотя из-за полноты выглядел несколько старше своего возраста. Впрочем, в свои сорок три года профессор чувствовал себя намного моложе, иногда даже сопливым мальчишкой. В конце концов, кувыркаясь на ковре с малышкой Мариолой и играя с ней в прятки, он понимал, что делает это не только ради ее удовольствия, но и ради своего собственного.
А Беата не хотела этого понять, поэтому, когда она наблюдала за ним во время таких забав, в глазах ее явно светилось что-то вроде смущения и неловкости, даже опасение какое-то.
– Рафал, – говорила она, – а если б тебя сейчас кто-то увидел?
– Может, тогда меня наняли бы в качестве воспитательницы в детский садик, – со смехом отвечал он.
Но, в общем-то, в такие минуты ему делалось немного неприятно. Беата, безусловно, была лучшей женой на свете. И наверняка она любила его. Тогда почему же она относилась к нему с таким ненужным почтением, чуть ли не преклонением? В ее старательности и прилежности было что-то от литургии. В первые годы ему даже казалось, что жена побаивается его, и он делал все, чтобы она избавилась от этого страха. Рассказывал ей о себе самые забавные вещи, признавался в своих ошибках, неприглядных студенческих похождениях, старался вытеснить из ее головки даже малейший намек на то, что они не равны и совершенно не подходят друг другу. Наоборот, на каждом шагу он подчеркивал, что живет только ради нее, что работает для нее и что только рядом с ней может быть счастлив. Впрочем, все это было чистейшей правдой.
Он любил Беату до безумия и не сомневался, что она отвечает ему такой же глубокой любовью, хотя и тихой, менее страстной. Она всегда была сдержанной и нежной, как цветок. Зато у нее всегда были для него наготове улыбка и доброе слово. И он продолжал бы думать, что она не умеет быть иной, если бы временами не видел ее веселой, хохочущей, шутливой и кокетливой. Но случалось это только в те моменты, когда ее окружало общество молодых людей и она не знала, что муж наблюдает за ней. Он готов был встать на голову, лишь бы убедить жену, что может так же беззаботно веселиться, и даже более, чем самые молодые, – однако все было напрасно. В конце концов с течением времени он смирился с этим и оставил попытки увеличить и без того свое огромное счастье.
И вот наступила восьмая годовщина их свадьбы, восьмая годовщина их совместной жизни, ни разу не омраченной ни малейшей ссорой, ни мелким спором и даже тенью недоверия, зато много раз озаренной тысячами мгновений и часов радости, ласк, признаний…
Признания… Собственно говоря, это он поверял ей свои мысли и планы, рассказывал о своих чувствах. Беата не умела этого делать, а может, ее внутренняя жизнь была простой и цельной… Возможно, даже слишком… Вильчур мысленно упрекнул себя за это определение – слишком бедной. Он полагал, что, так о ней думая, обижает Беату, оскорбляет ее. Если это и было правдой, то тем бо́льшая нежность наполняла его сердце.
– Я ее оглушаю, – говорил он себе, – подавляю. Она ведь такая умная и хрупкая. Отсюда и проистекает ее раздражительность и опасения, что я сочту ее заботы слишком мелкими, будничными и обычными.
Придя к такому выводу, он старался вознаградить ее за это обидное неравенство. И он с величайшим вниманием и старательностью вникал в мельчайшие домашние дела, интересовался ее туалетами, духами, прислушивался к каждому слову, касающемуся светских дел или устройства детской. Вильчур размышлял над ними так глубоко, точно речь шла о чем-то действительно важном.
Но они и были для него чрезвычайно важны, поскольку он верил, что за счастьем следует ухаживать с величайшей заботой, и полагал, что те немногие часы, отнятые им у работы и посвященные Беате, необходимо сделать как можно более полными, содержательными и теплыми…
Автомобиль остановился перед чудесной белой виллой, безусловно, самой красивой на Сиреневой аллее и одной из самых элегантных в Варшаве.
Профессор Вильчур выскочил, не ожидая, пока водитель откроет ему дверь, принял из его рук коробку с шубой, быстро пробежал по тротуару и дорожке, своим ключом открыл двери дома и как можно тише затворил их за собой. Он хотел сделать Беате сюрприз, который тщательно спланировал еще час назад, когда, склонившись над открытой грудной клеткой больного, рассматривал сложное переплетение вен и артерий.
Но в холле он застал Бронислава и старую экономку Михалову, прозванную так по мужу Михалу. Видно, Беата была не в лучшем настроении из-за его опоздания, потому что лица у них были вытянутыми и напряженными, они явно поджидали его. Это нарушало все планы профессора, и он махнул рукой, веля им удалиться.
Но, несмотря на его приказ, Бронислав заговорил:
– Господин профессор…
– Шшшш!.. – оборвал его Вильчур и, нахмурившись, шепотом добавил: – Прими пальто!
Слуга снова хотел что-то сказать, но только шевельнул губами и помог профессору раздеться.
Вильчур быстро раскрыл коробку, вынул оттуда чудесную шубу из черного блестящего меха с длинным шелковистым ворсом, накинул ее себе на плечи, на голову нахлобучил задорный колпачок с двумя кокетливо свисающими хвостиками, руки сунул в муфточку и с радостной улыбкой оглядел себя в зеркале: выглядел он невероятно комично.
Он бросил взгляд на прислугу, чтобы проверить, какое произвел впечатление, но в глазах экономки и лакея читалось только недоумение.
«Вот дураки-то», – подумал профессор.
– Господин профессор… – опять начал Бронислав, а Михалова стала переминаться с ноги на ногу.
– Да замолчите вы, черт подери, – шепнул профессор и, обойдя их, отворил двери в гостиную.
Он ожидал застать Беату с малышкой либо в розовой комнате, либо в будуаре.
Вильчур прошел через спальню, будуар, детскую, но их нигде не было. Он вернулся и заглянул в кабинет. И там пусто. В столовой, на украшенном цветами столе, поблескивавшем золоченым фарфором и хрусталем, стояло два прибора. Мариола с мисс Тольрид обычно ели вместе и пораньше. В распахнутых дверях в буфетную застыла горничная. Лицо у нее было заплаканное, а глаза опухли.
– Где госпожа? – с тревогой спросил профессор.
Девушка в ответ снова расплакалась.
– Что такое? Что случилось?! – вскричал он, уже не сдерживаясь и не понижая голос. От предчувствия какого-то несчастья у него перехватило горло.
Экономка и Бронислав потихоньку вошли в столовую и молча встали у стены. Он испуганно посмотрел на них и в отчаянии закричал:
– Где ваша хозяйка?
И тут его взгляд остановился на столе. У его прибора, прислоненное к тонкому бокалу, лежало письмо. Бледно-голубой конверт с серебристыми краями.
Сердце его резко сжалось, голова закружилась. Он еще не понимал, еще ничего не знал. Протянул руку и взял конверт, который показался ему жестким и мертвым. Какое-то время просто держал его в руке. Письмо было адресовано ему, он узнал почерк Беаты: крупные угловатые буквы.
Он открыл конверт и принялся читать:
«Дорогой Рафал! Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за то, что я тебя покидаю…»
Слова на бумаге задрожали и заплясали у него перед глазами. В легких вдруг не стало воздуха, на лбу выступили капли пота.
– Где она? – сдавленно вскрикнул он. – Где она сейчас?
И огляделся вокруг.
– Госпожа уехала вместе с девочкой, – тихо пробормотала экономка.
– Лжешь! – заревел Вильчур. – Это неправда!
– Я сам вызвал такси, – добросовестно подтвердил Бронислав, а потом добавил: – И чемоданы снес вниз. Два чемодана-то…
Профессор, пошатываясь, дошел до кабинета, который находился рядом с гостиной, закрыл за собой дверь и прислонился к ней. Он пытался читать письмо дальше, но прошло немало времени, прежде чем ему удалось вникнуть в его содержание.
«Не знаю, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня за то, что я тебя покидаю. Поступаю я подло, отплатив злом за твою великую доброту, которой никогда не забуду. Но более я оставаться не могу. Клянусь тебе, у меня был только еще один выход: смерть. Но я всего лишь бедная слабая женщина. И не смогла отважиться на такой геройский поступок. Уже много месяцев я боролась с этой мыслью. Возможно, я никогда более не буду счастлива, никогда не обрету покоя. Но я не имела права отнимать себя у нашей Мариолы и – у него.
Пишу я сумбурно, но мне трудно привести в порядок свои мысли. Сегодня годовщина нашей свадьбы. И я знаю, что ты, Рафал, приготовил мне какой-то подарок. Но получить его от тебя сейчас было бы непорядочно с моей стороны, поскольку я уже приняла бесповоротное решение – уйти.
Рафал, я полюбила. И эта любовь сильнее меня. Сильнее всех чувств, какие я питаю или когда-либо питала к тебе, – от безграничной благодарности до глубокого уважения и восхищения, от искренней доброжелательности до дружеской привязанности. К сожалению, я никогда не любила тебя, вот только узнала об этом лишь после того, как встретила на своем жизненном пути Янека.
Уезжаю я далеко и прошу тебя, будь милостив, не ищи меня! Умоляю, сжалься надо мной! Я знаю, что ты великодушен и нечеловечески добр. Рафал, я не прошу тебя о прощении. Я его не заслуживаю и в полной мере осознаю, что ты имеешь право ненавидеть и презирать меня.
Я никогда не была достойна тебя. Никогда не могла подняться до твоего уровня. Ты и сам это слишком хорошо знаешь, и только благодаря доброте твоей ты старался никогда не показывать мне этого, что для меня было чрезвычайно унизительно и мучительно. Ты познакомил меня с людьми своего круга, осыпал ценными подарками, окружил роскошью. Но, видимо, я не создана для такой жизни. Меня утомляли и большой свет, и богатство, и твоя слава, и… осознание моего ничтожества рядом с тобой.
И вот теперь я намерена уйти в новую жизнь, где меня, возможно, ждут крайняя нужда и уж наверняка тяжелая борьба за кусок хлеба. Но бороться я буду плечом к плечу с человеком, которого безмерно люблю. Ежели своим поступком я не уничтожу окончательно благородство твоего сердца, если ты сможешь, умоляю тебя, забудь меня. Вскоре ты всенепременно обретешь душевный покой, ведь ты такой мудрый, и обязательно встретишь другую женщину, лучше меня. Я же от всей души желаю тебе счастья, которое и сама обрету вполне, если узнаю, что тебе хорошо.
Я забираю с собой Мариолу, поскольку без нее не смогла бы прожить ни единого часа. Ты и сам это прекрасно знаешь. Не подумай, что я хочу лишить тебя величайшего сокровища, которое является нашим общим достоянием. Через несколько лет, когда мы оба сможем спокойно оглянуться на наше прошлое, я подам тебе весть о нас.
Прощай, Рафал. Не считай меня легкомысленной и не питай иллюзий, что на мое решение еще можно как-то повлиять. Я не изменю его, потому что предпочла бы скорее смерть. Я не могла тебе лгать, и ты должен знать, что я была верна тебе до самого конца. Прощай, будь милосерден и не старайся меня найти.
Беата.
P. S. Деньги и все свои украшения я оставила в сейфе. А ключ от него положила в тайный ящичек твоего стола. С собой я забрала только вещи Мариолы».
Профессор Вильчур бессильно опустил руку, все еще сжимавшую письмо, и протер глаза: в висевшем напротив зеркале он увидел свое отражение в странном наряде. Скинул с себя меха и снова начал читать письмо.
Но удар настиг его столь внезапно, что по-прежнему казался чем-то не совсем реальным, вроде угрозы или предостережения.
Вот он читал: «К сожалению, я никогда не любила тебя…»
И чуть дальше: «Меня утомляли и большой свет, и богатство, и твоя слава…»
– Как же так? – простонал он. – Почему? Почему?..
Напрасно он пытался понять жену. Он осознавал только одно: она ушла, бросила его, забрала ребенка, полюбила другого. Ни одна из причин не укладывалась у него в голове. Он видел только голый факт – дикий, неправдоподобный, гротескный.
На улице уже наступали ранние осенние сумерки. Перечитывая письмо Беаты неведомо в который уже раз, он подошел к окну.
Внезапно в дверь постучали, и Вильчур вздрогнул. На мгновение им вдруг овладела безумная надежда.
«Это она! Вернулась!..»
Но тут же понял, что это совершенно невероятно.
– Войдите! – хрипло произнес он.
В комнату вошел Зигмунт Вильчур, его дальний родственник, председатель апелляционного суда. Отношения между ними были довольно теплыми, они часто навещали друг друга. Появление Зигмунта в такую минуту не могло быть случайным, и профессор сразу догадался, что его, должно быть, оповестила по телефону Михалова.
– Как ты, Рафал? – с дружеским участием спросил Зигмунт.
– Здравствуй, – отозвался профессор и протянул руку вошедшему.
– Что ж ты сидишь в темноте? Позволь? – И, не дожидаясь ответа, он включил свет. – Как тут холодно, вот собачья погода, осень… Что я вижу! Дрова для камина! В такой вечер нет ничего лучше горящего камина. Пусть этот твой Бронислав разожжет…
Он приоткрыл дверь и позвал:
– Бронислав! Пожалуйста, разожги камин.
Слуга тут же появился, искоса взглянул на своего хозяина, поднял с пола брошенную шубу, разжег огонь и ушел. Пламя быстро охватило сухие полешки. Профессор неподвижно стоял у окна.
– Иди-ка сюда, сядем, поговорим. – Зигмунт потянул его к креслу у камина. – Да уж, какая чудесная вещь – тепло. Ты еще так молод, не умеешь его ценить. А вот мои старые кости… Что ж это ты не в больнице? Ленишься сегодня?
– Так уж… вышло.
– А я как раз звонил тебе, – продолжал председатель суда, – в больницу звонил. Хотел заехать туда, мне твой совет нужен. Левая нога у меня начала побаливать. Боюсь, это ишиас…
Профессор слушал молча, хотя до его сознания доходили только отдельные слова. Но все-таки ровный и спокойный голос Зигмунта заставил его сосредоточиться, мысли стали приходить в какое-то подобие порядка, связывались одна с другой, складываясь в некий почти уже реальный образ. Он вздрогнул, когда кузен изменил тон и спросил:
– А где же Беата?
Лицо профессора застыло, он с трудом ответил:
– Уехала… Да вот… Уехала… за границу.
– Сегодня?
– Сегодня.
– Видно, намерения эти возникли достаточно неожиданно? – нехотя заметил Зигмунт.
– Да… Да. Я ее послал… Понимаешь… возникли некоторые дела, и в связи с этим…
Он говорил с таким трудом, а на лице так явно отражалось страдание, что Зигмунт поспешно подхватил, стараясь, чтобы его голос звучал как можно теплее:
– Понимаю. Конечно. Только, видишь ли, вы разослали приглашения на сегодняшний вечер. Следовало бы всем позвонить и отменить… Позволишь, я займусь этим?..
– Будь любезен…
– Ну и прекрасно. Полагаю, у Михаловой есть список приглашенных. Возьму у нее. А тебе лучше всего было бы прилечь и отдохнуть. Как думаешь?.. Я не буду больше морочить тебе голову. Ну, до свидания…
Он протянул было руку, но профессор ее не заметил. Зигмунт похлопал его по плечу, еще на мгновение задержался в дверях и вышел.
Вильчур пришел в себя, когда щелкнул замок. Он заметил, что по-прежнему сжимает в руке письмо Беаты. Смял его в маленький комочек и швырнул в огонь. Пламя сразу охватило бумажный шарик, он вспыхнул алым бутоном и вмиг обратился в пепел. Давно уже и следа от письма не осталось, давно полешки в камине превратились в кучку тлеющих углей, когда он наконец протер глаза и встал. Медленно отодвинул кресло, огляделся.
– Не могу, – беззвучно прошептал он, – я тут не выдержу. – И выбежал в прихожую. Бронислав сорвался со стула.
– Господин профессор выходит?.. Осеннее пальто или потеплее?
– Все равно.
– На улице только пять градусов. Думаю, лучше то, что потеплее, – решил слуга и подал пальто.
– Перчатки! – крикнул он, выбегая вслед за профессором на двор, но Вильчур, должно быть, не услышал. Он был уже на улице.
Конец октября в этом году был холодным и дождливым. Сильный северный ветер обдирал с ветвей последние, раньше обычного пожелтевшие листья. На тротуарах хлюпала вода. Немногочисленные прохожие шли, подняв воротники и склонив головы, чтобы уберечь лицо от мелких, покалывавших холодом капель дождя, или обеими руками удерживали зонтики, которые порывистый ветер так и норовил у них вырвать. Из-под колес изредка проезжавших автомобилей летели мутные брызги, лениво тащились извозчичьи лошади, а поднятый верх каждой коляски буквально истекал потоками дождя, тускло поблескивая в желтом свете фонарей.
Доктор Рафал Вильчур, машинально застегнув пальто, быстро зашагал вперед.
«Как она могла так поступить! Как же она могла!» – мысленно повторял он один и тот же вопрос. Неужели она не понимала, что забирает у него все, что лишает его жизнь смысла и цели? И почему же? Только потому, что встретила какого-то другого мужчину… Если б он хотя бы знал его, если б уверился, что тот сумеет оценить ее по достоинству, что не причинит ей боли, даст ей столь вожделенное счастье. Она написала только его имя: Янек.
Вильчур принялся перечислять всех близких и дальних знакомых. Никто из них не подходил. Может, это какой-то негодяй, обманщик, бродяга, который бросит ее при первой же возможности. Или какой-нибудь профессиональный соблазнитель, заморочивший Беате голову. Наверняка он обманул ее, сманил фальшивыми признаниями и клятвами, рассчитывая на ее деньги. А что произойдет, когда выяснится, что Беата даже свои драгоценности не взяла?.. Скорее всего, это изощренный мерзавец. Да, надо немедленно, пока есть время, установить его личность и воспрепятствовать совершению подлости. Надо потребовать, чтобы власти, полиция начали искать их. Разослать розыскные письма, детективов…
Под воздействием этой мысли Вильчур остановился и огляделся. Он находился в центре города. Ему вспомнилось, что когда-то проезжая здесь, он видел вывеску комиссариата полиции. Где-то неподалеку, через две-три улицы…
Он двинулся было в том направлении, но после нескольких шагов повернул обратно.
«И что с того, что я ее найду?» – вдруг подумал он.
Она ведь никогда не согласится вернуться к нему. Она ясно написала, что не любит, что какое-то там его мнимое превосходство, его богатство, слава… а наверняка и его любовь только мучили ее. Она была настолько деликатна, что не стала прямо писать об этом… Разве он вправе судить ее, решать ее судьбу? А если она предпочитает пусть даже лишения, но рядом с тем, другим?.. Какие доводы могут убедить женщину вернуться к нелюбимому, к… ненавистному мужу?.. Да и не слишком ли быстро он пришел к выводу, что тот человек – отребье общества и жадный мерзавец?.. Беате никогда не нравились мужчины такого типа, ее всегда привлекали идеалисты, мечтатели… Даже Мариоле она часами, бывало, читала лирические стихи, которых семилетний ребенок не мог еще понимать. Но она читала для себя.
Человек, за которым она пошла, скорее всего, молодой непрактичный бедняк. Но где, как она с ним познакомилась?.. Почему никогда даже словом не обмолвилась о нем?.. И вдруг убежала, поступила так жестоко, с такой предельной беспощадностью. Бросила человека, который ради нее был готов на все… как верный пес, как раб… И за что? За что?!
Разве он совершил какой-то грех против нее, против своей любви?.. Никогда! Даже в мыслях не было такого. Она вообще была первой женщиной, которую он полюбил. Случилось это почти десять лет назад. Как же хорошо он все помнил! Познакомились они случайно. И он благословлял этот случай вплоть до сегодняшнего дня, благословлял утром и вечером, каждую минуту, когда смотрел на Беату и когда радовался, думая, что будет на нее смотреть. Он был доцентом, и у него как раз были практические занятия в прозекторской, когда на соседней улице грузовик сбил ее деда. Он оказал первую помощь. Сложный перелом обеих ног. Старичок умолял как можно более осторожно поставить в известность его жену-сердечницу и внучку. Двери маленькой квартирки в Старом городе открыла ему Беата.
А через несколько месяцев они уже были обручены. Ей едва исполнилось семнадцать лет. Она была худенькой и бледной, одевалась в дешевые, старательно заштопанные платьица. В доме царила нищета. Во время войны родители Беаты потеряли все свое состояние. Дедушка, вплоть до того трагического, смертельного случая, содержал жену-старушку и внучку на деньги за уроки иностранных языков, с которыми он ходил по домам. Бабушка, до того как вслед за мужем оказалась в семейной могиле на кладбище Повонзки – это было единственное роскошное достояние, которое у них осталось от давнего богатства, – часами рассказывала внучке и ее жениху про минувший блеск рода Гонтыньских, про дворцы, охоты, балы, конские табуны и драгоценности, про туалеты, которые заказывались в Париже… Беата слушала внимательно, а в ее мечтательных глазах, казалось, мерцало сожаление об утраченном прошлом, о той сказке, которой не суждено уже вернуться.
В такие минуты он нежно сжимал ее худенькую ручку и обещал:
– Я все тебе дам. Вот увидишь, Беата! У тебя будут и драгоценности, и туалеты из Парижа, и балы, и прислуга! Я все это дам тебе!
А у него самого тогда ничего не было, кроме пары чемоданов в холостяцкой квартире, шкафа с книгами по медицине и скромной зарплаты доцента.
Но зато у него были стальная воля, великая вера и горячее желание – желание исполнить все, что он обещал Беате. И он начал свою борьбу. За должности, за практику, за богатых пациентов. Огромные знания, врожденный талант, несгибаемый характер и работа – безустанная, бешеная работа – сделали свое дело. Да и удача ему улыбалась. Росла его слава. Росли и доходы. В тридцать семь лет он получил кафедру, а несколько недель спустя к нему пришло еще большее счастье: Беата родила дочурку.
И как раз в честь ее великолепной прабабушки Гонтыньской дочери дали имя Мария – Иоланта, а в качестве уменьшительного – Мариола.
Воспоминание о дочери новой болью пронзило сердце профессора Вильчура. Он не раз задумывался, которую из двух своих женщин больше любит… Когда дочка начала говорить, одним из ее первых слов было «патуля»…
Так и пошло. Она всегда называла его патулей. В два года Мариола перенесла очень тяжелую скарлатину, а когда наконец выздоровела, он поклялся себе, что с этих пор будет лечить всех бедных детей бесплатно. В его дорогой больнице, где всегда не хватало мест, несколько палат занимали дети, бесплатные пациенты. Ведь это все было ради нее, вроде как месса в интенции ее здоровья.
А вот теперь у него отняли дочь.
И это было бесчеловечно, это было сверх всякой меры эгоизма.
– Ты должна мне отдать ее. Должна! – говорил он вслух, стискивая кулаки.
Прохожие оглядывались на него, но Вильчур не замечал этого.
– Закон на моей стороне! Ты меня бросила, но я заставлю тебя вернуть Мариолу. Закон на моей стороне. И моральное право тоже. Ты и сама это должна признать, ты подлая, подлая, подлая!.. Никчемная женщина, неужели ты не понимаешь, что совершила тяжкое преступление?.. Сама скажи какое!.. Ты мечтала о деньгах и прочем. Хорошо, так чего же тебе не хватало? Ведь не любви же, потому что никто тебя не сможет любить так, как я! Никто! Во всем мире никто!
Он споткнулся и чуть не упал. Профессор шел по немощеной улице, по щиколотку утопая в грязи. Повсюду были разложены огромные валуны, по которым обитатели маленьких домиков, находившихся в этой части города, пытались добраться до своих жилищ, не промочив ноги. Окна в домах уже были темными. Редкие газовые фонари давали тусклый голубоватый свет. Вправо шла более широкая и более густо застроенная улица. Вильчур свернул на нее и теперь брел все медленнее и медленнее.
Он не испытывал усталости, вот только ноги не слушались, стали невыносимо тяжелыми. Должно быть, он промок до самой рубашки, потому что каждый порыв ветра, казалось, чувствовал обнаженной кожей.
И тут вдруг кто-то преградил ему дорогу.
– Господин нарядный, – услышал он хриплый голос, – одолжи без банковской гарантии пять нуликов на ипотеку польской спиртовой монополии. Надежность и доверие.
– Что? – не понял профессор.
– А ты не штокай, а то обштоканный будешь. Как говорится в Святом Писании: каким штоком штокаешь ближнего своего, таким и тебя обштокают, уважаемый гражданин столицы тридцативосьмимиллионного государства с выходом к морю.
– Чего вы хотите от меня?
– Здоровья, счастья и всяческого благополучия. А помимо того весьма желал бы я наполнить мой пустой желудочек сорокапроцентным раствором спирта с благосклонным соучастием доброй порции свиной падали, именуемой колбаской.
Оборванец слегка покачивался, от его заросшей, много дней не бритой физиономии так и разило водкой.
Профессор сунул руку в карман и протянул ему несколько монет:
– Извольте.
– Bis dat, qui cito dat[5], – величественно изрек пьяница. – Thank you, my darling.[6] Но позволь, однако, щедрый благотворитель, и мне дать тебе взамен нечто ценное. Я имею в виду свое общество. Именно! Слух тебя не обманывает, добрый человек. Ты можешь удостоиться этой чести. Noblesse oblige![7] Я ставлю. Ты, сэр, промок и промерз до костей, так что ступай в мою скромную хатку и погрейся в моем обществе. Правда, хатки-то у меня и нет, зато есть знание. А что значит любое сооружение по сравнению со знанием?.. Вот им я охотно с вами, mon prince[8], и поделюсь. Знания же мои весьма обширны. Пока я коснулся только топографической их части. В частности, известно мне, где размещается единственное заведение, куда в такое время человек может попасть, не взламывая замков и решеток. Одним словом, Дрожджик. Это тут, на углу улиц Поланецкой и Витебской.
Вильчур подумал, что спиртное и в самом деле пришлось бы кстати. Он ведь так промерз и озяб. А кроме того, монотонная болтовня случайного пьянчужки действовала на него успокаивающе, притупляла жгучие мысли. Вильчур невольно старался хоть что-то понять из пьяного словоблудия, а это усилие отвлекало и заглушало острое осознание случившегося несчастья, которое уже и так возбудило в его голове вихри крайне болезненных рассуждений.
На востоке начинало сереть, когда они, предварительно долго настучавшись в закрытые наглухо ставни, вошли наконец в крошечную лавчонку, пропахшую испарениями бочек с селедкой, смрадом пива и керосина. В помещении за лавчонкой, которое оказалось попросторнее, но в котором воняло гораздо сильнее, в уголке расположились несколько пьяных в хлам мужчин, над которыми витали клубы дыма от дешевого кислого табака. Хозяин, квадратный здоровяк с лицом заспанного бульдога, в грязной рубахе и расстегнутой жилетке, ни о чем не спрашивая, сразу поставил на свободный столик бутылку водки и выщербленную тарелку с обрезками каких-то копченостей.
Но тут было тепло. Просто восхитительно тепло, и задубеневшие руки с наслаждением, смешанным с болью, начали оттаивать. Первый же стаканчик водки сразу разогрел горло и желудок. Случайный товарищ его не переставал болтать. Пьянчужки в углу не обращали на пришедших ни малейшего внимания. Один громко храпел, трое бодрствовавших время от времени разражались потоками маловразумительных слов. Кажется, они о чем-то спорили.
Второй стаканчик водки принес Вильчуру некоторое облегчение.
«Как же хорошо, – думал он, – что никто тут на меня не смотрит, никто ничего не…»
– …потому, как полагаешь, граф, – продолжал свой монолог его заросший щетиной собеседник, – Наполеона черти унесли, Сашку Македонского тоже того-с, ditto[9]. А почему, спросишь ты во весь голос? А вот потому именно, что совсем не фокус быть кем-то там. Фокус как раз в том, чтобы быть никем. Никем, мелким насекомишкой под воротником у Провидения. Учись, юноша! Это я тебе говорю, я, Самюэль Обедзиньский, который никогда не сверзится с котурн[10] в грязь, потому как никогда на них не полезет, как и на нечто другое, подобное им. Пьедестал – это место только для дурней, приятель. А вера – это воздушный шар, из которого рано или поздно улетучится весь газ. Возможности?.. Да, конечно, всегда есть возможность раньше сдохнуть. Граждане, остерегайтесь воздушных шаров!
Он поднял над головой пустую бутылку и позвал:
– Пан[11] Дрожджик, еще одну! Податель всех радостей, попечитель заблудших, дарующий ясный разум и забытье.
Хмурый шинкарь, не слишком торопясь, принес водку, широкой ладонью ударил по дну бутылки и уже без пробки поставил ее на стол.
Профессор Вильчур молча выпил и содрогнулся. Он никогда раньше не пил, и отвратительный вкус дешевого самогона вызывал у него омерзение. Но в голове у него уже слегка шумело, а хотелось оглушить себя окончательно.
– Весь смысл обладания серым мозговым веществом, – говорил человек, назвавший себя Самуэлем Обедзиньским, – состоит в умении лавировать между ясностью сознания и мраком забытья. Потому как чем же еще смягчить драму интеллекта, который неизбежно доходит до абсурдного утверждения, что он есть только шалость природы, ненужный балласт, пузырь, привязанный к хвосту нашего животного преосвященства? Что ты знаешь о мире, о предметах, о цели существования? Да, я к тебе обращаюсь, существо, отягощенное бременем двух килограммов мозгового вещества! Что ты ведаешь о цели?.. Разве это не парадокс? Да ты не сможешь даже пальцем пошевелить, не сумеешь сделать и пары шагов без ясной и понятной цели. Правда?.. А между тем ты рождаешься и в течение нескольких десятков лет совершаешь миллионы, миллиарды разных действий: суетишься, сопротивляешься, работаешь, учишься, воюешь, падаешь, встаешь, радуешься, отчаиваешься, думаешь, тратишь столько энергии, сколько целая варшавская электростанция вырабатывает, а ради какого хрена все это? Вот именно, приятель, ты не знаешь и знать не можешь, с какой целью ты все это делаешь. Единственная инстанция, к которой ты можешь обратиться за более или менее правдоподобной информацией на сей счет, – это твой собственный разум, а он, если можно так сказать, бессильно разводит руками. Так где же смысл, где логика?
Он громко рассмеялся и залпом выпил стаканчик.
– Для чего существует разум, если он не может исполнить своего единственного, воистину единственного предназначения?.. Я знаю, что он мне ответит, но это тоже чушь. Он ответит, что область его применения – исключительно жизненные функции. А причины и цели жизни не относятся к его департаменту. Согласен. Но посмотрим, как он справляется с жизнью. Что он нам может объяснить? И тут оказывается, что ровным счетом ничего. Ничего, кроме самых элементарных животных функций. Так чего ради выросла у нас в черепной коробке эта опухоль? Какого, спрашиваю тебя, почтеннейший председатель, хрена? Что он такого знает? Знает ли он, что такое мысль?! Наделил ли он человека возможностью, положим, познания самого себя? Познания хотя бы в такой степени, чтобы он мог с уверенностью заявить: я бездельник или, к примеру, я честный. Идеалист я или материалист. Нет и еще сто раз нет! Он способен только сказать, что предпочитает: телятину или свинину. Так ведь для этого достаточно и мозга обычного Шарика. А если речь идет о людях, о ближних? Научит ли он нас чему-то?.. Нет! Готов поставить все свое состояние, что под вашим высоким лбом не родилось ни единого верного предположения относительно моей весьма интересной особы. Хотя общаемся мы уже… уже целых две бутылки. А вообще-то, давайте подумаем, найдутся ли у вас какие-нибудь совершенно точные предположения не относительно меня, но насчет особ, которых вы знаете много лет?.. Ну, там, не знаю, насчет братьев, отца, жены, друга?.. Нет! Люди ходят в непроницаемых скафандрах. И нет возможности проникнуть в их содержание. За наше холостяцкое здоровьишко! Пей, господин хороший!
Он чокнулся со стаканчиком Вильчура и опустошил свой до дна.
– Если вы, маэстро, захотите узнать, как на самом деле выглядит шикарная дамочка, надо понаблюдать за ней через замочную скважину в ванной комнате. И тогда узнаешь, скажем, нет ли у нее обвисшей груди и высохших бедер. Узнаешь о ней нечто новое. Но о сути ее ты по-прежнему ничего не будешь знать. Потому что, даже когда она одна и снимает свой скафандр, в который всегда облачалась при тебе, под ним обнаружится второй, которого она уже никогда не снимает и который непроницаем даже для нее самой. Правда? Разумеется, бывают мгновения, когда человеку можно заглянуть в рукав или за воротник. Это мгновения катастрофы. Когда скафандр рвется, лопается, в нем появляются щели и трещины… Вот… вот, например, в таком состоянии, в каком ты сегодня очутился, вождь! По тебе прокатилось что-то очень тяжелое.
Он наклонился над столиком и уставился на Вильчура своими голубоватыми глазками с покрасневшими белками.
– Ведь правда? – спросил он с нажимом.
– Да, – кивнул профессор.
– Разумеется! – гневно воскликнул Обедзиньский. – Разумеется! Человек, столь жаждущий покоя, как я, и шагу не может сделать, чтобы не столкнуться с людской глупостью! Потому как основа каждой трагедии – это и есть глупость!.. Ну и что, в конце концов? Воздушный шар или котурны?.. Ты обанкротился, тебя согнали с какого-то высокого министерского кресла или все-таки разочарование? А?.. Женщина?.. Изменила тебе?..
Вильчур опустил голову и глухо ответил:
– Бросила…
Глаза Обедзиньского сверкнули бешенством.
– Ну так и что! – возопил он. – И что тут такого?!
– Что такого? – Вильчур схватил его за руку. – Что такого?.. Да все. Все!!!
Наверное, его голос прозвучал с такой силой, что это сошло за самый веский аргумент, потому что Обедзиньский сразу успокоился, съежился и замолк. И только через несколько минут он снова заговорил, тихим и каким-то ворчливым тоном:
– До чего же подлая эта жизнь, насколько же мерзкие все эти сантименты! А мне вечно не везет – судьба постоянно подкидывает мне всяческие жертвы этих самых сантиментов. Черт бы их побрал… Нет сомнений, что это все, конечно, относительно. Одного и ударом дубины по башке с ног не свалить, а другой поскользнется на вишневой косточке и голову себе разобьет. Нет общего мерила, никакого общего критерия. Пей, братец. Водка – штука хорошая. Благослови, Господи!
Он снова наполнил стаканчики.
– Пей, – повторил он, втискивая стаканчик в ладонь Вильчура. – Эй, Дрожджик, давай следующую!
Хозяин вылез из своего логова в нише и принес бутылку, а потом погасил свет: в нем уже не было нужды, ибо через окошко с грязного двора заглядывал в заведение пасмурный и дождливый, но уже окончательно наступивший день. Компания, обретавшаяся в углу, бросила своего храпящего приятеля и высыпала на улицу.
Обедзиньский оперся на локти и в пьяной задумчивости произнес:
– Так оно и есть, с женщинами-то… Одна присосется к тебе и все соки вытянет, другая обдерет до последней рубашки, третья готова обманывать на каждом шагу, а то еще найдется такая, что втянет тебя в серость, в болото обыденности… стирка, уборка, пеленки и все такое. Вот и вся жизнь… Только это все неправда, все это от мужчины зависит. Какой он на самом деле! Одному все как с гуся вода, другой завертится на месте, как подстреленный кот, запищит да и сдохнет, а такой вот, как ты, а, приятель-амиго?.. Ты, должно быть, твердый. Как большое дерево. Если с тебя кору содрать, то новой покроешься, ветки обрубить – другие вырастут… Но вот надо же – вырвало тебя с корнями из земли… И закинуло в пустыню…
Вильчур наклонился к нему и пробормотал:
– С корнями… это верно.
– Вот видишь. И сила не поможет, когда опоры нет. Почва размякла, расплылась, перестала существовать. Это еще Архимед говорил… Что он там наговорил-то?.. Впрочем, пес с ним… Ага!.. О чем это я? Про корни! Самые сильные корни не помогут, если им не за что ухватиться. О!.. Турусы на колесах… такова жизнь…
Язык у него заплетался все сильнее. Наконец он кивнул, прислонился к стене и заснул.
Вильчур, с трудом удерживая остатки сознания, мысленно повторял: «Как дерево, вырванное с корнями… Как дерево, вырванное с корнями…»
Спал профессор, как видно, недолго, и, когда его разбудили, бесцеремонно толкнув несколько раз, он с трудом разлепил глаза и пошатнулся. Алкоголь еще не ушел из его крови. На столе снова стояла бутылка водки, а помимо ночной компании, появились еще трое незнакомцев. Профессор Вильчур с трудом осознал, где он находится, и воспоминание о Беате внезапной острой болью отозвалось в его сердце. Он вскочил, опрокинув стулья, и направился было к выходу.
– Эй, уважаемый господин! – окликнул его хозяин.
– Что?
– А платить-то кто будет?.. Счетец ваш будет в сорок шесть злотых.
Вильчур машинально достал из кармана кошелек и протянул ему банкноту.
– Вот это деньжищи! О-го-го! – присвистнул один из пьяных приятелей.
– Заткни пасть, – одернул его другой.
– Дрожджик, – позвал третий, – ты чего фраера обдираешь? Отдай сдачу господину. Гляньте-ка!
Хозяин посмотрел на него с ненавистью, но отсчитал деньги и подал Вильчуру.
– А ты, бандюга, – буркнул шинкарь, – за собой следи.
Вильчур не обратил на это никакого внимания и вышел на улицу. Шел густой мокрый снег, но дорога и тротуары оставались черными, потому что он быстро таял. По дороге тянулись возы с углем.
– Бросила меня… бросила… – все повторял Вильчур. Пошатываясь, он шел вперед, куда глаза глядят. – Как дерево, вырванное с корнями…
– Господину надо в Грохов? – услышал он рядом чей-то голос. – Так, может, лучше обойти по Равской. Грязи поменьше будет.
Вильчур узнал одного из пьянчуг.
– Мне все равно, – ответил он, махнув рукой.
– Вот и славно. По дороге нам. Вместе пойдем. Всегда веселей. А у вас, любезный господин, видно, какое-то несчастье случилось?
Вильчур не ответил.
– Ясно, все мы человеки. А я вам скажу так: на все несчастья и тревоги есть только один надежный способ – утопить свое горе в вине да завить его веревочкой. Ясное дело, не в такой берлоге, как у этого Дрожджика, он еще тот обирала и прохвост, гостям, случается, и колбаску со стрихнином подает. Но вот тут неподалеку, на Равской, имеется вполне приличное заведение. И повеселиться можно, подавальщицы гостям рады услужить. А все за ту же цену.
Они молча шли дальше. Спутник, который был намного ниже Вильчура и гораздо более щуплый, чем он, взял профессора под руку и все время задирал голову, чтобы взглянуть на него из-под козырька своей фуражки. Они миновали несколько улиц, когда он вдруг потянул профессора в сторону.
– Ну так как, заглянем или нет?.. Лучше уж хлебнуть. Заведение-то рядом. По стопочке опрокинем, а?
– Хорошо, – согласился Вильчур, и они вошли в питейное заведение.
Первый глоток водки облегчения не принес. Наоборот, он точно отрезвил затуманенный разум, но последующие стопки сделали свое дело.
В соседнем зальце хрипло наигрывал оркестрик. Включили свет. Через некоторое время к их столику подсели еще двое мужчин, по виду – обычные работяги. Толстая, густо накрашенная официантка тоже присела. Они приканчивали уже третью бутылку, когда вдруг из бокового кабинетика раздался громкий женский смех.
Профессор Вильчур вскочил. Кровь ударила ему в голову, секунду он стоял неподвижно. Он готов был присягнуть, что узнал голос Беаты. Резким движением отпихнув заступившего ему дорогу пьяницу, он одним прыжком оказался в дверях.
Две газовые лампы ярко освещали небольшую комнату. За столиком сидел толстобрюхий приземистый мужчина и какая-то веснушчатая девица в зеленой шляпке.
Вильчур медленно развернулся и, тяжело упав на стул, разрыдался.
– Налей ему еще, – буркнул человек в фуражке. – У него на выпивку голова крепкая.
Он потряс Вильчура за плечо.
– Пей, братан! Чего уж там!
Когда в одиннадцать закрывали заведение, собутыльникам пришлось поддерживать Вильчура, потому что сам идти он уже не мог. Шатаясь, он наваливался на них всем своим грузным телом, так что они раскачивались во все стороны и даже сопели от напряжения. К счастью, идти им пришлось недалеко. За углом, на темной пустынной улице, дожидалась пролетка с поднятым верхом. Они молча запихнули Вильчура внутрь, а потом втиснулись вслед за ним. Извозчик стегнул лошадь.
Через несколько минут дома́ стали попадаться реже. По обе стороны дороги лишь кое-где за заборами мелькали огоньки керосиновых ламп. Потом и они пропали. А в нос ударила вязкая вонь огромных свалок. Пролетка свернула. Тут же стих топот конских копыт: на мягкой грунтовой дороге их не было слышно. Они доехали до первой глиняной ямы.
– Стой, тут будет лучше всего, – раздался тихий голос.
Они прислушались. Издалека доносился размеренный, слитный городской шум. А тут, вокруг них, царила полная тишина.
– Выкидывай его, – прозвучал короткий приказ.
Три пары рук вцепились в обессилевшее тело. Содержимое карманов было мгновенно извлечено. Они легко стащили с Вильчура пальто, пиджак и жилетку. Внезапно, видимо, от холода, Вильчур пришел в себя и вскричал:
– Что это, что вы делаете?..
Одновременно он пытался подняться с земли. Но в ту секунду, когда он наконец встал, его оглушил страшный удар по затылку. Без единого стона он повалился, точно колода. А поскольку, падая, он оказался на самом краю огромной ямы, в которую сбрасывали мусор, тело его скатилось по откосу на самое дно.
– Вот холера! – выругался один. – Придержать не мог?
– А зачем?
– Дурной щенок! Зачем? Вот и лезь теперь в яму за его башмаками да штанами.
– Сам лезь, если такой жадный.
– Что ты тут вякаешь? – грозно надвинулся на него первый.
Перепалка едва не переросла в драку, как вдруг раздался равнодушный голос извозчика, который до сих пор молча курил папиросу:
– А я так скажу: трогаем отседа. Хотите, чтоб нас тут и накрыли?..
Бандиты опомнились и запрыгнули в пролетку. Лошадь взяла с места. Перед тем как выехать на главную дорогу, они остановились и извозчик, вытащив из-под сиденья старый мешок, старательно вытер им облепленные мусором колеса. Затем он снова взгромоздился на козлы, причмокнул, дав знак своей кляче, и вскоре среди полей снова воцарилась прежняя тишина.
Днем сюда никто не заглядывал, а уж ночью тем более. Только под утро около глиняных ям начиналось какое-то движение. Это были обитатели деревушек, расположенных на расстоянии нескольких километров от столицы; они кормились вывозом мусора из города и съезжались сюда со своим вонючим грузом. Приезжали, высыпали мусор с телег и с заработком в пару злотых возвращались домой. Самые совестливые сваливали нечистоты в глиняные ямы, как было приказано, другие, пользуясь отсутствием надзора, высыпали все прямо на поле.
Старый Павел Баньковский, мужик из Березовой Вульки, любил честную работу. Именно поэтому он как раз и подъехал к самой яме и принялся старательно опорожнять свою телегу. Он не спешил, ведь кобыле следует отдохнуть перед дорогой, да и сам он уже страдал одышкой, что в его возрасте было вполне обычно.
Закончив, он стал пристраивать на передке телеги мешок с остатками сена для сиденья, и тут снизу донеслись явственные стоны. Старик на всякий случай перекрестился и прислушался. Стоны стали громче.
– Эй, там! – позвал возчик. – Что там за лихо?
– Воды! – донеслось снизу слабое стенанье.
Голос показался Павлу Баньковскому знакомым. Как раз вечером, отправляясь в город, он заметил Матеуша Пиотровского из Бычинца, который двигался в ту же сторону и тоже на вывоз мусора. Почему-то Баньковскому почудилось, что это и есть Пиотровский. И голос тот же, да и ссыпа́л он всегда в эту же яму. А выпить он любил. Небось по пьяному делу упал в яму, может, даже свернул себе шею, вот и лежит.
Старик огляделся. Было еще темно, на востоке едва-едва посерело. Если Пиотровский оставил тут свою фурманку, лошадь наверняка сама потащилась в Бычинец.
– А что это вы там, пан Пиотровский? – спросил старик. – Свалились, что ли?..
Но ответом ему был лишь тихий стон.
«А может, это городские устроили?» – размышлял мужик. От людей из города он всегда ожидал самых паскудных вещей.
Он попробовал ногой склон, подумал и, вернувшись к лошади, отвязал веревки, служившие вместо вожжей, потом связал их тугим узлом, прикрепил к колесной оси и, держась за них, спустился вниз.
– Пан Матеуш, подайте голос, а то темно, – сказал старик и позвал: – Где вы?
– Воды!.. – услышал он совсем рядом.
Возчик наклонился и нащупал плечо.
– Да нет у меня воды, откуда ж? Надо вам вылезть наверх. А где ваша лошадь?.. Верно, сама домой пошла?.. Ну, мне вас не поднять, вы уж сами попробуйте встать.
Он притоптал ногами мусор, уперся и дернул безвольное тело.
– Да двигайтесь же! Давайте! Сам я не смогу.
– Не могу.
– О-о-о! Вот уж и не могу! Так поднатужьтесь. Не подыхать же вам тут.
Руки Баньковского наткнулись на густую жидкость, облепившую волосы. Он понюхал свои пальцы и спросил:
– Да вас что тут, убивали?
– Не знаю…
Крестьянин задумался.
– Так ли, сяк ли, а подыхать вам тут нечего. Тьфу!.. Осторожно, у меня тут веревка имеется, ежели сумеете подняться, то уж как-нибудь подтянетесь.
К лежащему, видно, потихоньку возвращались силы, он пошевелился раз, другой, но снова сник, хотя Баньковский поддерживал его как только мог.
– Ну, делать нечего, – решил старик, – надо идти за помощью. Верно, люди уже съехались.
Он выкарабкался наверх и через несколько минут вернулся с двумя помощниками, которым объяснил, что какие-то варшавские бандюги убивали тут Пиотровского из Бычинца. Мужики без лишних разговоров взялись за работу и вскоре вытянули раненого, которого уложили на телегу старика Баньковского. Спасенный, впрочем, почувствовал себя лучше, потому что смог усесться и начал жаловаться на холод.
– Вот же паскудники, хорошо, хоть в штанах оставили, – ругался один из мужиков.
– Надо бы в комиссариат, – заметил другой.
Баньковский пожал плечами.
– Да не мое это дело. Подвезу его до Бычинца, все равно по дороге, а там пусть его сыновья делают что хотят. В отделение они пойдут или еще куда – пусть сами решают.
– И то верно, – поддакнули мужики. – Чего там, их дело и есть.
Старик подсунул под голову лежащего мешок с сеном, уселся на голые доски и шевельнул вожжами. Когда они выехали на шоссе, возница уселся поудобнее и задремал. Кобыла и сама хорошо знала дорогу.
Проснулся он, когда небо было уже совсем ясным. Огляделся и протер глаза. За его спиной, прикрытый старой попоной, лежал на возу какой-то незнакомый мужчина. Широкое отекшее лицо, черные волосы, слипшиеся на затылке от застывшей крови. Баньковский готов был присягнуть, что никогда в жизни его не видел. И уж совсем он не походил на Пиотровского из Бычинца. Разве что ростом и фигурой, потому как тоже был здоровым мужчиной. Из-под короткой дырявой попонки высовывалась тонкая разорванная рубашка, измазанные в грязи штаны и городские штиблеты.
– Вот же черт! – выругался Баньковский и задумался, что ему теперь делать в таких-то обстоятельствах.
Поразмыслив, наклонился и потряс пассажира за плечо.
– Эй, господин хороший, просыпайся! Вот же напасть свалилась! Просыпайся! Из-за такого вот человек сам себе беду накличет… Просыпайся!
Пассажир медленно открыл глаза и приподнялся на локте.
– Кто вы такой? – сердито спросил мужик.
– Где я, что это? – вопросом на вопрос ответил незнакомец.
– Дак на моей телеге, мил человек. Неужто не видишь?
– Вижу, – буркнул тот и с трудом сел, подтянув ноги.
– Ну так что?
– А как я тут оказался?
Баньковский отвернулся и сплюнул. Надо было подумать.
– А я знаю? – пожав плечами, сказал он после паузы. – Я спал, а ты, видать, влез ко мне на телегу. Из Варшавы, да?
– Что такое?
– Так я и спрашиваю, вы варшавянин?.. Потому что ежели так, то ехать со мной до Вульки или Бычинца вам незачем. Я-то домой еду. А вам ведь не в Вульку надоть. Во, мне уж за той мельницей надо бы повернуть… Высаживаетесь или как?.. А то отсюда уже до городских рогаток с десять километров будет…
– Докуда? – спросил человек, в глазах которого плескалось недоумение.
– Дак я ж говорю, до варшавской заставы. Вы из Варшавы?
Человек вытаращился на возницу, потер лоб и ответил:
– Не знаю.
Баньковского аж подбросило. Теперь-то он сообразил, что имеет дело с проходимцем. Украдкой ощупал свою грудь, где прятал мешочек с деньгами, и осмотрелся по сторонам. На расстоянии в полкилометра непрерывной цепочкой тянулись фурманки.
– Ты чего дурачком прикидываешься? – сердито бросил мужик. – Будто не знаешь, откуда сам?
– Не знаю, – повторил незнакомец.
– Видно, в рассудке ты помешался. А того, кто тебе башку разбил, наверно, тоже не знаешь?
Пострадавший ощупал себя, свою голову и буркнул:
– Не знаю.
– Ну, тогда слезай с воза! – крикнул до крайности раздраженный мужик. – Вон отсюдова! Слазь!
Он натянул вожжи, и лошадь встала. Незнакомец послушно слез, встал на дороге и принялся оглядываться по сторонам, точно был не совсем в себе. Баньковский, поняв, что чужак явно не имеет никаких злых намерений, решил все-таки обратиться к его совести.
– Я к тебе по-людски, по-христиански, а ты от меня как от пса приблудного отмахиваешься. Тьфу, городская падаль! Я спрашиваю, из Варшавы ли, а ты отвечаешь, что не знаешь. Может, не знаешь и то, что тебя мать родила?.. Может, не знаешь, кто ты и как звать?..
Незнакомец смотрел на него, широко раскрыв глаза.
– Как… звать?.. Как?.. Н-н-нет… не знаю…
Лицо его все искривилось, скорчилось, точно от испуга.
– Тьфу! – сплюнул в сердцах Баньковский и вдруг решительно стегнул лошадку по хребту кнутом. Телега двинулась вперед.
Отъехав на пару сотен метров, мужик оглянулся, незнакомец стоял на том же месте у обочины.
– Тьфу! – снова сплюнул Баньковский и хлестнул свою клячу, чтобы она перешла на рысь.
Глава 2
Исчезновение профессора Рафала Вильчура взволновало весь город. Прежде всего в этом деле чувствовалась какая-то тайна. Люди, которые в течение многих лет были знакомы с профессором и хорошо его знали, заверяли, что любые предположения относительно самоубийства просто абсурдны. Ведь в Вильчуре бурлила исключительная жизненная сила, он любил свою работу, любил семью, любил жизнь. Его материальное положение было прекрасным. Слава его росла. И в медицинском мире его считали выдающимся специалистом.
Убийство тоже исключалось по той простой причине, что у профессора не было врагов. Единственным допустимым мотивом преступления могло быть ограбление. Но и тут возникали обоснованные сомнения. Было быстро установлено, что в тот злополучный день у профессора при себе имелось лишь немногим более тысячи злотых, все знали, что он пользовался самыми обыкновенными часами на черном ремешке и не носил даже золотого обручального кольца. Таким образом, заранее задуманное нападение с целью грабежа и убийство в результате такого нападения выглядели не слишком правдоподобно. В случае же несчастного случая или случайного убийства нашлось бы тело профессора.
Оставалось еще одно объяснение: утрата памяти. Поскольку в минувшем году полиции удалось найти пять человек, пропавших в результате внезапной потери памяти, большинство газет в многочисленных заметках выдвигало именно такую версию.
Однако же если в газетах лишь намеками говорилось о таинственных обстоятельствах исчезновения Вильчура, то в частных беседах об этом упоминали прямо, и связано это было совсем с другими происшествиями.
Репортеры буквально штурмовали профессорскую виллу, расположенную на Сиреневой аллее, но все было впустую. Правда, без особого труда им удалось узнать, что жены профессора и их семилетней дочери в Варшаве нет, однако прислуга точно набрала воды в рот и отказывалась сообщать еще какие-либо сведения. Наиболее назойливых журналистов отсылали к кузену пропавшего, председателю апелляционного суда Зигмунту Вильчуру. А тот с невозмутимым спокойствием повторял:
– Мой кузен с женой жили весьма счастливо. В глазах многочисленных друзей они неизменно выглядели примерной супружеской парой. Поэтому связывать исчезновение профессора, которое потрясло меня до глубины души, с его семейными обстоятельствами есть и будет, – говорил он с особым нажимом, – величайшей несуразностью.
– А не мог бы господин председатель сказать нам, где сейчас находится госпожа Беата Вильчур? – спрашивали журналисты.
– Разумеется. Я готов повторить вам, господа, то, что слышал от моего кузена как раз в тот день, когда он последний раз вышел из дома. Он сообщил мне, что выслал жену с ребенком за границу.
– А какова цель их выезда?
Председатель, улыбнувшись, сделал неопределенный жест рукой.
– Признаюсь вам, я не спрашивал. Скорее всего, речь шла о выезде для поправки здоровья. Насколько я припоминаю, жена моего кузена не лучшим образом переносила нашу осеннюю слякоть. Собственно говоря, она довольно часто выезжала поразвлечься за границу.
– Однако же столь внезапный выезд в самый день или за пару дней до банкета, на который были уже разосланы приглашения…
– Видите ли, господа, у людей по-разному складываются обстоятельства. А кроме того, мы с кузеном не были в столь близких отношениях, чтобы я мог знать обо всех изменениях в их планах. Однако я хотел бы обратиться к вам, господа, с настоятельной просьбой: как член семьи, я был бы весьма признателен вам, если б это происшествие не раздувалось до размеров нездоровой сенсации. Особенно я надеюсь, что в прессе не встречу никаких намеков относительно семейной жизни моего кузена. Очень рассчитываю на ваше понимание. Взамен я поделюсь с вами моим собственным мнением об известном событии. Не исключено, что профессор собирался выехать с женой. В Варшаве его задержала весьма важная операция, о которой уже столько писали во всех газетах. Когда же стало ясно, что операция удалась, мой кузен мог выехать вслед за супругой и дочерью.
– Прошло уже столько дней, – заметил один из репортеров, – не может быть, чтобы до профессора не дошло известие о том, какая тревога поднята в прессе из-за его исчезновения. Он непременно дал бы о себе знать.
– Безусловно. Если б только до него дошли все эти тревожные сообщения. Но за границей имеется множество таких тихих уголков, как пансионаты в горах, уединенные дома для отдыха, куда варшавские газеты просто не доходят.
– Сообщение об исчезновении профессора было опубликовано во всех заграничных газетах, – упорствовал журналист, – ну и по радио его передавали.
– Радио можно не слушать. Я и сам, к примеру, просто не выношу радио. А сколько народу во время отдыха газеты даже в руки не берет! Не каждому хочется возиться с ними в каком-нибудь Тироле или Далмации.
– Безусловно, господин председатель. Вот только есть еще одно обстоятельство. А именно: профессора нет ни в Тироле, ни в Далмации, ни вообще за границей.
– И каким же образом вам удалось это выяснить? – с улыбкой спросил председатель.
– Это было не столь уж трудно. Я просто узнал в городском магистрате, что заграничный паспорт профессору Вильчуру был выдан сроком на год. И этот срок закончился ровно два месяца назад, а продлен не был.
Наступила тишина. Наконец председатель развел руками.
– Хм. Безусловно, дело очень запутанное. Но я заверяю вас, что приложу всевозможные старания, чтобы его прояснить. Полиция тоже ведет свое расследование. Во всяком случае еще раз осмелюсь напомнить вам, господа, о своей просьбе.
Именно благодаря просьбе человека, весьма уважаемого в обществе, а также всеобщей симпатии, которую заслужил пропавший профессор, пресса отказалась от столь соблазнительной возможности покопаться в личной жизни Вильчура. Разумеется, это не помешало возникновению множества сплетен среди знакомых и незнакомых, но эти сплетни, не подпитываемые свежими известиями, постепенно начали утихать.
А вот полиция не стала закрывать дело. Комиссар Гурный, которому его поручили, в течение нескольких дней сумел установить ряд подробностей. Опрос персонала больницы подтвердил, что в тот день профессор Вильчур уехал домой в великолепном настроении и взял с собой соболиную шубу, которую только что приобрел и которая должна была стать подарком для его жены в восьмую годовщину их свадьбы. Ничто не указывало на то, что он ожидал внезапного отъезда жены. Из показаний прислуги стало ясно, что профессор узнал о нем только из письма, оставленного ею. Причем письмо это якобы произвело на профессора ошеломляющее впечатление. Он вел себя так, будто был не в себе: отказывался есть, сидел в неосвещенном кабинете. Но, правда, письма так и не нашли. Легко было догадаться, однако, что в нем жена сообщала ему о разрыве. Подобные мысли высказывал и председатель Вильчур, который не поскупился на исчерпывающий рассказ о своем посещении кузена в тот вечер и поведал следствию мельчайшие подробности.
А вот из дальнейших показаний прислуги уже не вырисовывалось ничего определенного. Госпожа Беата ежедневно с утра отправлялась на автомобиле на длительную прогулку в Лаженковский парк. Водитель оставался ждать в машине у ворот и никогда не видел, чтобы его хозяйку кто-то сопровождал. Зато сторожа в парке сразу узнали на предъявленной им фотографии женщину, которая каждый день встречалась тут с молодым худым блондинчиком в довольно потрепанном платье. Описание этого блондина не отличалось какими-то характерными чертами.
Тщательный поиск среди писем и бумаг профессорской жены тоже не дал никакого результата. Установлено было, что она оставила значительную сумму денег и драгоценности. Не взяла с собой ни мехов, ни каких-либо других ценных вещей, которые можно было бы легко продать.
В письменном столе профессора комиссар Гурный нашел заряженный пистолет.
– Это позволяет мне сделать вывод, – говорил комиссар председателю Вильчуру, – что у профессора решительно не было никаких намерений покончить жизнь самоубийством. Потому как в противном случае он наверняка взял бы с собой оружие. Взял бы он его и в том случае, если б решил расправиться с соблазнителем жены.
– А вы, господин комиссар, полагаете, что профессор мог знать, где его следует искать?
– Нет. Я даже допускаю, что он вообще не догадывался о его существовании. Молодого человека с такой внешностью на Сиреневой аллее никто из прислуги не заметил. Но я уверен: если мы отыщем эту пару, то сумеем ответить на вопрос о том, что случилось с профессором Вильчуром.
Следуя этой концепции, комиссар направил следствие на поиск госпожи Беаты. Прошло довольно много времени, прежде чем к нему привели водителя такси, на котором в тот роковой день женщина уехала из дома профессора. Но и водитель мало что мог рассказать. Он помнил, что отвез молодую красивую даму с девочкой лет семи-восьми с Сиреневой аллеи на Главный вокзал. Там она расплатилась, сама взяла чемоданы и растворилась в толпе. Исследование железнодорожного расписания тоже не слишком помогло. Между двенадцатью и первым часом от Главного вокзала отходило с полтора десятка поездов в самых разных направлениях.
Комиссар Гурный уже собирался было объявить Беату Вильчур в розыск, как вдруг неожиданная находка направила следствие совсем в другое русло.
Итак, во время обыска, который иногда проводился в определенного рода местах, у одного из скупщиков краденого на улице Кармелитской среди множества вещей, добытых кражей или разбоем, были обнаружены черное пальто, пиджак и жилетка исключительно большого размера. Хотя метки портного оказались спороты, мастерская, в которой были изготовлены вещи, отыскалась без особого труда, и таким образом было установлено, что вещи принадлежали пропавшему профессору. Припертый к стенке, торгаш признался, что вещи получил от некоего Феликса Жубровского.
Жубровский этот, вопреки предположениям комиссара, никогда еще не задерживался за какие-либо преступления. Обитал он на улице Привисленной с женой и четырьмя детьми и зарабатывал на жизнь продажей песка. Жубровский признался, что в тот самый день, когда пропал профессор, он под утро возвращался с пьянки и нашел одежду на берегу реки. Несколько свидетелей, тоже не слишком достойных доверия, подтвердили его алиби. Во всяком случае предъявить ему какое-либо обвинение было нельзя, а потому Жубровского после трехдневного ареста выпустили на свободу. В пользу его невиновности говорило то, что Висла в этом месте очень глубока, а самоубийство профессора Вильчура по-прежнему оставалось довольно правдоподобной версией его исчезновения.
В течение последующих дней реку на протяжении нескольких километров тщательно обыскивали, но безрезультатно. В прозекторскую шесть раз вызывали прислугу из дома на Сиреневой аллее и председателя Вильчура, чтобы они опознали найденные неизвестные останки, но это было, собственного говоря, совершенно излишне: пропавший профессор имел весьма приметный рост – около метра девяноста и весил почти сто килограммов.
– Мы так и не нашли труп, – разочарованно заявил комиссар Гурный. – Может, по весне всплывет. На дне Вислы столько ям, потому не раз случалось так, что тело выбрасывало лишь через много месяцев.
– То есть вы подтверждаете мои опасения? – спросил председатель.
– Слишком много обстоятельств говорит за самоубийство. На всякий случай я разослал фотографии профессора во все полицейские участки.
– Значит, вы все-таки допускаете возможность потери памяти?
– Если быть честным, я в это не верю. Но пока труп не всплывет, я не могу пренебречь этой версией. На этом же основании я не отказался еще и от версии убийства. Хотя уже сейчас почти уверен, что это могло быть только самоубийство. Наверняка он вышел из дома, ошеломленный обрушившимся на него несчастьем, но тогда еще не принял никакого решения. Видимо, он долго бродил по городу, может, пил, чтобы притупить душевную боль…
– Он никогда не пил, – прервал его председатель.
– Так или иначе, но профессор явно решил покончить с собой. Потому как кто мог бы убить его?.. Бандиты? Их должно было быть по меньшей мере трое или четверо, чтобы справиться с ним по-тихому. Он же был человеком выдающейся физической силы. Его могли застрелить?.. Да, не исключено, но ведь стрельба всегда привлекает внимание, да и труп надо спрятать как можно скорее. А на пальто и пиджаке нет ни малейшего следа крови. Конечно, его могли заманить в ловушку и убить в закрытом помещении, то есть совершить преднамеренное убийство. Но кому это могло понадобиться, кому это было выгодно?.. Никому. Профессор не оставил завещания. По закону все, чем он владел, наследуют жена и дочь. Но вы сами уверяли, что вдова – самая бескорыстная женщина на свете. Остается еще ее любовник, который, судя по его описанию, не добился особого благополучия в жизни. Но и эта версия более чем сомнительна. Если б он хотел раздобыть денег, то постарался бы уговорить профессора взять с собой наличные, меха и драгоценности жены. Тогда это составило бы весьма приличную сумму, приблизительно тысяч семьдесят. А уж любящую женщину такой проходимец сумеет убедить в чем угодно.
– Сомневаюсь. Беата была несгибаема относительно своих принципов…
– Господин председатель, как опытный судья, вы лучше меня знаете: где у женщины начинается любовь, там заканчиваются все принципы. Но в пользу невиновности этой пары говорят их поступки. Во-первых, они бы не стали убегать, ведь подозрение в убийстве сразу пало бы на них. Во-вторых, они бы незамедлительно объявили о том, что профессор пропал. Ведь об этом трубили все газеты. И было совершенно глупо полагать, будто полиции рано или поздно не удастся их найти, если бы их посчитали виновными в преступлении. Играя ради столь высокой ставки, как наследство профессора, они должны были появиться уже через пару дней, а между тем уже второй месяц, как их нет. Значит, совесть у них чиста.
– И я так думаю.
– И еще одно! Я по опыту знаю, что у преступников почти никогда не хватает терпения. Им всегда хочется поскорее заполучить то, что подвигло их на преступление. И они по обыкновению предпочитают крутиться под носом у полиции. Они чувствуют себя увереннее, когда отираются на виду у всех, чем когда прячутся или ударяются в бега, потому что это как раз и может навлечь на них подозрение.
– Это правда.
– Безусловно. Я рассматривал еще одну версию. Случайное убийство. Предположим, что профессор их нашел и был убит во время возникшего столкновения. В таком случае надо снова принять во внимание то, что профессор был силачом, а на его одежде не оказалось ни крови, ни оставшихся после выведения пятен следов. Невероятно было бы допустить, что этот щуплый и довольно худосочный молодой человек сумел бы убить такого великана без оружия. Именно поэтому я не слишком и стараюсь искать их.
Председатель согласился с ним.
– Может, было бы лучше, чтобы их так и не нашли… По крайней мере, до тех пор, пока дело не будет раскрыто.
– Может, и правда, лучше, – признал комиссар.
Да и что он мог еще сказать, ведь до сих пор полиция не обнаружила ни малейшего следа Беаты Вильчур, ее дочери и того неизвестного.
Шли месяцы, и в неустанной круговерти жизни, обычной для большого города, мало-помалу стали забывать и о профессоре Рафале Вильчуре, и о его таинственном исчезновении. Папки с материалами следствия пылились в шкафах, на них громоздились кипы новых дел, и через год все бумаги запаковали в коробки и отправили в архив.
Согласно закону для управления состоянием отсутствующего профессора, суд назначил куратора, и адвокат Щренк, которому было доверено исполнять эту обязанность, не имел оснований жаловаться на свою работу. Жалованье он получал исправно, а вот особого труда его должность не требовала. Виллу на Сиреневой аллее он сдал внаем, капиталы поместил в государственные облигации, управление больницей поручил весьма даровитому и внушающему доверие доктору Добранецкому, ближайшему сотруднику пропавшего профессора.
Впрочем, в больнице все шло так, как было заведено еще при Вильчуре. В течение нескольких месяцев закончили строительство нового корпуса, а количество пациентов, поначалу значительно сократившееся, снова вернулось к прежнему уровню. Изменения, которые ввел доктор Добранецкий, были незначительными. Только и всего, что ликвидировали бесплатные места для бедных детей и уволили несколько человек персонала без ущерба для работы больницы. Первым подал заявление об уходе доктор Скужень – после довольно неприятной ссоры с шефом именно из-за этих самых бедных детей; потом уволили бухгалтера Михаляка и секретаршу панну Яновичувну, которая строила из себя невесть что, пыталась обсуждать распоряжения доктора Добранецкого и к тому же раздражала шефа своим поведением, лишенным должного почтения и уважения к нему.
Ее поведение было тем более вопиющим, если учесть, что новый руководитель несколько подтянул и ужесточил дисциплину в больнице, где до сих пор царил довольно-таки патриархальный, почти домашний уклад. Одновременно серьезно вырос и престиж самого доктора Добранецкого, причем не только в руководимой им больнице.
Новые выборы в Хирургическом обществе принесли ему почетную должность председателя, а год спустя он унаследовал кафедру исчезнувшего Вильчура, получил профессорское звание и, будучи очень талантливым врачом и деловым человеком, постепенно, но уверенно приобретал состояние и славу.
С течением времени название «Больница доктора Вильчура» становилось все более необоснованным анахронизмом. Так что никого не удивило, когда наконец – с согласия куратора – это название изменили на «Больница имени доктора Вильчура». В связи с этим была издана довольно пространная биография, написанная доктором Добранецким и называвшаяся «Профессор Рафал Вильчур – гениальный хирург».
Это произведение заканчивалось словами: «Отдавая дань памяти незабвенному прекрасному Человеку, мудрому Учителю и великому Ученому, польская медицина погрузилась в траур в связи с его трагическим исчезновением, которое, к сожалению, уже, наверное, навсегда останется покрытым мраком болезненной тайны».
Глава 3
Старший сержант полиции в Хотымове Виктор Каня бездельничал за канцелярским столом, застеленным чистой зеленой бумагой, и время от времени зевал, поглядывая в окно. Участок помещался в маленьком домике, самом последнем на окраине городка. Из окна открывался просторный вид на поля, уже покрывшиеся густой зеленью, на берег озера, где как раз развесили сети для просушки, на темную полосу леса, на краю которого дымилась труба лесопилки Хасфельда, и на дорогу к этой лесопилке, по которой вышагивал заместитель Кани, участковый Собчак с каким-то высоким худым бородачом.
Собчак шагал широко и покачивался на каждом шагу из стороны в сторону, точно утка, а под мышкой он тащил огромный лист фанеры для столь любимого им выпиливания лобзиком. Бородач, наверное, был работником с лесопилки, причем с недавнего времени. Во всяком случае сержант Каня, знавший всех в Хотымове и вокруг него на расстоянии десяти километров, видел его в первый раз. А тот факт, что Собчак сам тащил свою фанеру, был поводом для размышлений. Видимо, участковый не считал возможным воспользоваться помощью своего спутника, следовательно, с этим человеком не все было в порядке: не по доброй воле он шел с Собчаком.
В хотымовский участок, случалось, приводили разных людей. За драки в деревнях, за мелкие кражи в лесах и полях, за браконьерство. Иногда попадалась и более крупная дичь – какой-нибудь бандит или растратчик, избегавший больших дорог и пытавшийся проселками добраться до немецкой границы.
Однако ж бородач, которого вел Собчак, несмотря на огромный рост, видимо, не вызывал особых опасений у местного участкового; судя по всему, дело было в какой-то мелочи.
Вскоре двери открылись и оба вошли внутрь помещения. Бородач снял шапку и остановился прямо у дверей. Собчак же отдал честь начальнику и отрапортовал:
– Этот человек явился на лесопилку Хасфельда и попросился на работу. Его взяли, да только оказалось, что у него нет никаких документов и он даже не знает, как его зовут и откуда он.
– Сейчас посмотрим, – буркнул старший сержант Каня и махнул рукой бородачу. – У вас есть какие-нибудь документы?
– Нет.
– Собчак, обыщи его.
Участковый расстегнул толстую поношенную куртку задержанного, обыскал все карманы и выложил на стол перед сержантом все, что там нашел: маленький дешевый перочинный ножик, с пару десятков грошей, кусочек шнурка, две пуговицы и жестяную ложку. Прощупал даже голенища сапог, но и там ничего не обнаружил.
– Откуда ж ты тут взялся-то, а? – спросил сержант.
– Пришел из Чумки, что в Сурском уезде.
– Из Чумки?.. А зачем же пришел-то?
– А за работой. В Чумке я работал на лесопилке, а ее закрыли. Люди говорили, что тут, в Хотымове, найдется для меня местечко и заработок.
– А как звали хозяина лесопилки в Чумке?
– Фибих.
– Долго там работал?
– Полгода.
– А сам тоже родом из Сурского уезда?
Бородач пожал плечами.
– Не знаю. Не помню.
Старший сержант грозно взглянул на задержанного.
– Но-но! Только не надо мне тут голову морочить! Писать умеешь?
– Могу.
– Тогда где в школу ходил?
– Не знаю.
– А ну, говори, как зовут, какая фамилия? – выкрикнул Каня в крайнем раздражении.
Бородач молчал.
– Глухой, что ли?
– Нет, господин старший сержант, и не надо на меня так сердиться. Я ведь ничего дурного не сделал.
– Тогда выкладывай правду!
– Да я и говорю правду. Не знаю я, как меня звать. Может, вообще никак. Все меня спрашивают об этом, а я не знаю.
– Как это? Никогда у тебя и документов не было?
– Никогда.
– А как же на работу брали? Без бумаг-то?
– В городах везде бумаги требовали и не хотели без них брать. А в деревнях не все на это внимание обращают. Вот так и кличут, как кому удобнее, и вся недолга. А тут, на здешней лесопилке, я назвался так, как меня в Чумке прозвали: Иозеф Борода. Но пану участковому я сам сказал, что это только прозвище такое. А дурного я ничего не делал, и совесть моя чиста.
– А вот мы и проверим.
– Господин старший сержант, вы можете написать туда, где я работал. Я ни у кого ничего не крал.
Сержант задумался. Он уже не раз на своем веку сталкивался с разными личностями, скрывавшими свою фамилию, но они всегда называли какое-нибудь придуманное имя. А этот упорно твердит, что фамилии у него нет.
– А где твоя семья?
– Не знаю. Нет у меня никакой семьи, – смиренно ответил бородач.
– А тебя судили когда-нибудь?
– Да, было дело.
Сержант вытаращил глаза.
– Где?
– В прошлом году в Радоме, а три года назад в Быдгощи. Раз посадили на месяц, а другой раз – на две недели.
– За что?
– А за бродяжничество. Только несправедливо это было. Если кто работу ищет, разве ж это бродяга?.. Честно говоря, судили за то, что документов у меня нет. Я так просил и в суде, и в полиции, и в тюрьме, чтоб они мне какой-нибудь документ сделали. Но они не хотели. Говорили, что закона такого нет. Так что же мне делать?
Он кашлянул и развел руками.
– Отпустите меня, господин старший сержант. Я ничего дурного никому не сделаю.
– Отпустить?.. Предписания мне этого не дозволяют. Я тебя в уездный город отошлю, пусть там и делают, что им угодно будет. Можешь сесть, только не мешай. Я должен протокол составить.
Сержант вытащил из ящика стола лист бумаги и принялся писать. Долго раздумывал, поскольку отсутствие у задержанного фамилии и сведений о месте жительства портило ему весь порядок протокола. Закончив, Каня посмотрел на бородача. Седоватая щетина и волосы указывали на то, что ему около пятидесяти. Сидел он неподвижно, уставившись в стену, а его страшная худоба и запавшие щеки делали его похожим на скелет. Только большие, явно привыкшие к тяжелой работе руки все время как-то странно, нервно двигались.
– Переночуешь тут, – сказал Каня, – а завтра я отошлю тебя в уезд. – И, поднявшись, добавил: – Ничего тебе там не сделают. В крайнем случае отсидишь за бродяжничество, а потом все равно отпустят.
– Если иначе нельзя, так что ж поделаешь, – уныло отозвался бородач.
– А теперь иди сюда.
Сержант открыл дверь в маленькую комнату с зарешеченным окошком. На полу лежал матрас, туго набитый соломой. Дверь была сделана из прочных досок.
Когда она закрылась за ним, бородач, улегшись на матрас, погрузился в размышления. Вот и этот старший сержант, и второй полицейский не были злыми людьми, однако закон, видно, все ж таки вынуждал их быть злыми. И за что только его снова лишили свободы, за что на него все время смотрят как на преступника?.. Неужели так уж важно иметь документы и как-то там называться?.. Разве человек от этого меняется?
Ему уже столько раз объясняли, что это невозможно, что нужно как-то называться. И в конце концов ему пришлось признать, что, скорее всего, так оно и есть. Но он боялся думать об этом. Едва только начинал, как им овладевало странное чувство: как будто он забыл нечто бесконечно важное. И внезапно его мысли в горячечной тревоге разбегались, сбивались в какие-то запутанные клубки, отчаянно неслись куда-то, точно зверьки, объятые дикой паникой; мысли вращались все быстрее, без всякой цели, а потом рвались на клочки, распадались на какие-то странные обрывки, подобные бесформенным и бессмысленным живым существам, слипались в огромный ватный ком, целиком заполнявший его череп.
В такие минуты он испытывал жуткий страх. Ему казалось, что он вот-вот лишится рассудка, что им овладеет безумие, а он совершенно беспомощен, бессилен и потерян перед лицом надвигающейся катастрофы. Ведь в вихре этого адского хаоса он ни на мгновение не терял сознания. Где-то в самой глубине его мозга некий точный аппарат абсолютно спокойно отмечал каждое проявление, каждую стадию его мучений. И это было самой страшной мукой.
Напрасно он изо всех сил старался вырваться из этого засасывающего болота. Перестать думать, сосредоточиться на каком-нибудь предмете, попытаться себя спасти. Только физическая боль приносила некоторое облегчение. Он до крови впивался в свое тело ногтями, кусал руки и бился головой о стену вплоть до полной потери сил и обморока.
И тогда лежал обездвиженный, совершенно измотанный и чуть ли не мертвый.
А еще он боялся своей памяти, испытывая при этом омерзительный звериный страх. Боялся всего, что могло бы заставить его опрометчиво заглянуть в туман прошлого, в этот кошмарный мрак, сквозь который ничего невозможно разглядеть, но который притягивает, как разверстая пропасть.
Именно поэтому допрос в участке полиции был для него мучительной пыткой, а когда он остался один и понял, что угроза приступа миновала, то почти порадовался тому, что его заперли.
Однако же то, что его снова задержала полиция и ему пришлось пройти через муку допроса и угрозу приступа, вынудило его задуматься над тем, как бы понадежнее защитить себя от таких испытаний в будущем. А для этого было только одно средство: обзавестись документами. Поскольку же законным путем сделать это было никак нельзя, следовало их украсть, забрать чьи-то бумаги.
Он еще не знал, как это сделает. Но решение уже было принято.
На следующий день ранним утром его доставили в отделение городка, чуть побольше Хотымова и находившегося на расстоянии нескольких километров от него. Отделение располагалось в большом каменном здании. Участковый оставил бородача на первом этаже под присмотром полицейского, который охранял еще нескольких арестантов. После долгого ожидания их стали вызывать по одному на второй этаж, где располагался зал уездного суда.
Толстенький молоденький чиновник восседал за столом, покрытым зеленым сукном и заваленным бумагами. Судил он быстро. Но когда подошла очередь бородача, у чиновника, видимо, появились какие-то сомнения или подозрения, потому что он велел подсудимому подождать. Полицейский отвел его в соседнюю комнату. Там за столом сидел какой-то старикашка и усердно строчил что-то, зарывшись в бумаги. Комната была крошечной. Бородач уселся на лавке у окна и от скуки стал приглядываться к работе старика. На столе его высились прямо-таки горы бумаг. Там были прошения, облепленные проштемпелеванными марками, цветные повестки, какие-то документы. И тут бородач вздрогнул: ближе всего к нему лежала пачка бумаг, соединенных скрепкой, а на самом верху чья-то метрика. Бородач подвинулся поближе и прочел. На метрике значилось имя некоего Антония Косибы, родившегося в Калише. Быстро подсчитал возраст: пятьдесят два года. А внизу красовались печати…
Бородач оглянулся на полицейского: тот стоял к нему спиной и читал какие-то объявления, наклеенные на дверях. Теперь надо было только положить шапку на письменный стол так, чтобы она легла как раз на бумаги.
– А ну, забери отсюда свою шапку, – возмутился старичок. – Тоже мне, нашел место!
– Простите, – забормотал бородач и ловко стащил свой головной убор со стола вместе с бумагами, а потом скатал их в рулончик и спрятал в карман.
Разумеется, на этот раз он не мог воспользоваться столь удачно добытыми документами, и ему присудили три недели ареста как закоренелому бродяге.
Но через три недели он вышел из уездной тюрьмы и пустился в путь уже как Косиба.
Глава 4
В самих Одрыхах, в усадьбе, не было ничего, что заслуживало бы внимания. Остатки огромного дворца, сгоревшего во время войны, заросли крапивой, лопухом и конским щавелем, с каждым годом плесень и мох все плотнее покрывали каменные стены, и они рассыпались, превращаясь в развалины. Владелица поместья, княгиня Дубанцева, вдова питерского придворного сановника, постоянно проживала во Франции и никогда не приезжала сюда. Управляющий, старый чудак, пан Полешкевич, занимал две комнатки в деревянной пристройке во дворе, где тоже было немало следов запущенности и заброшенности.
Но вокруг раскинулась огромная, изумительная по красоте Одринецкая пуща, тысячи гектаров, густо поросших соснами и елями, дубами и березами, с подлеском из орешника и можжевельника. Узкие извилистые тропинки пересекали эти леса, и тут чаще встречался след кабана или оленя, чем коня или человека.
С высоты птичьего полета все это громадное пространство выглядело как переливающийся зеленый бархат с густо нашитыми на нем блестящими бусинками, потому что и воды тут было вдосталь. Благодаря бессчетным озерам, совсем маленьким и чуть побольше, соединенным между собой укрытыми среди лоз и зарослей ольхи ручейками, пущу легче было объехать на лодке, чем обойти пешком. Немногочисленные лесники тоже чаще использовали для передвижения лодки.
Только к крошечному домику в самой середине пущи приходилось идти пешком. Он стоял на пригорке, на небольшой поляне, со всех сторон окруженный высокой стеной старого леса. А жил тут лесничий, господин Ян Окша, сын старого Филиппа Окши, который лет сорок с хвостиком управлял Одринецкой пущей, а после смерти оставил сыну в наследство и свое место, и все, чем владел. Молодого Яна Окшу с детства отправляли учиться, поначалу в вильнюсские школы, а потом и в далекую Варшаву; через много лет он вернулся сюда с дипломом лесника в кармане, с женой и дочкой и поселился в домике. И вот уже пятый год именно ему принадлежала неограниченная власть в пуще. Неограниченная – потому как его начальник, господин Полешкевич, во всем ему доверял, ни во что не вмешивался, а если и заглядывал в лесное жилище, то не затем, чтобы проверять расходные книги, а только ради удовольствия поболтать с госпожой Беатой Окшей, сыграть с господином Яном партию в шахматы или, усадив маленькую Марысю в седло перед собой, покатать ее по поляне. Собственно говоря, он был единственным гостем, который когда-либо заглядывал в жилье лесника.
Господин Окша, видимо, от отца унаследовал нелюдимый характер; к соседям, которые, впрочем, обитали далековато от этих мест, особо не стремился, да и они к нему не наведывались. А еще, несмотря на молодость, был он большим домоседом, что как раз не казалось удивительным, поскольку жена у него была красавица и, как говорил лесник Барчук, «весьма приязненна», дочка – настоящий ангелочек, да и вообще дом до краев полон счастья.
Потому и покидал он свое жилище весьма неохотно. Когда же все-таки необходимо было выбраться в уездный город Браслав или не дай бог аж в самый Вильно[12], то выезд свой откладывал со дня на день, ибо был весьма слабого здоровья и поездки страшно утомляли его. Бывало, от самой незначительной простуды господин Окша начинал харкать кровью и вынужден был подолгу лежать в постели. Однако молодой лесничий был хорошим человеком, добрым и справедливым, и все подчиненные очень жалели его, видя, как он чахнет на глазах. Два раза к нему даже пришлось привезти доктора, что было весьма нелегко и дорого, потому как восемь миль дороги не пустяк. Люди поговаривали, что господин Окша уже не оправится, и, похоже, так оно и было на самом деле.
Лето в пуще чудесно и удивительно красиво. Сильно пахнет смолой, воздух разогрет, точно в печке, мушки всяческие в таком количестве вьются вокруг, что в ушах звенит. Покачиваются вершины стройных сосен, ветер шумит в кронах старых дубов, мох пушистым ковром стелется, ягод и грибов изобилие – в общем, жить да поживать, смерти не знать. А в осеннюю пору тишина в лесу воцаряется подобно той, что в храме, когда священник возносит к небесам хлеб и вино. Деревья стоят, задумавшись, и даже не чувствуют, как все падают и падают с их ветвей золотистые и алые листья. Зимой все покрывает снег, лежит толстым пушистым ковром на земле, пухлыми подушками обременяет ветви, а когда вздохнешь полной грудью, наполнив ее чистым морозным воздухом, то такая радость охватывает!
Но ведь после зимы приходит весна. От подтаявшей лесной почвы, с озер и болот поднимаются влажные испарения, и тогда хуже всего приходится тем, кого мучает сухотка. Так случилось и с господином Окшей. Зиму лесничий перенес хорошо, но в марте, когда начал таять снег, стал постепенно чахнуть. И как слег, так уж четвертую неделю в кровати и лежал, даже донесения лесников в спальне принимал. Похудел он так, что узнать его было трудно, а порой на него нападал сильнейший кашель и так бедолагу трясло, что и дар речи на четверть часа, а то и дольше терял. Только пот выступал крупными каплями на лбу и дышал он с трудом.
В субботу случилось так, что хозяйка вообще не впустила к нему лесников. Вышла к ним в кухню, сама бледная и исхудавшая, и тихо сказала:
– Муж так плохо себя чувствует, что… нельзя его утомлять.
И расплакалась.
– А вот если б, значит, доктора привезти, хозяйка, – откликнулся один из них. – Все легче ему помирать будет.
– Муж не хочет доктора, – покачав головой, ответила она. – Я сама его просила, но он ни за что не соглашается.
– Я бы съездил за доктором, – предложил другой лесник. – А господину лесничему можно сказать, что доктор сам заглянул – проездом, по дороге, значит…
Так и порешили, а госпожа Окша вытерла слезы и вернулась в спальню. После многих бессонных ночей она и сама едва переставляла ноги. Но когда подошла к постели больного, улыбнулась и притворилась веселой. Она боялась, чтобы Янек не прочитал на ее лице истинных мыслей, тех болезненных и страшных мыслей, которые терзали ее бедную измученную душу. Когда он проваливался в тяжелый сон, она опускалась на колени и горячо молилась.
– Боже, смилуйся, прости меня, не карай, не мсти за грехи мои! Не отнимай его у меня. Я согрешила, сотворила много зла, но прости, помилуй! Прости! Я не могла иначе!
И слезы струились по ее прозрачному от изнеможения личику, а с дрожащих губ слетали сбивчивые невнятные слова.
Но Янек недолго спал, просыпался он быстро. Им овладевал новый приступ кашля, а на полотенце появлялось новое кровавое пятно. Надо было подать ему лед и лекарства.
Неожиданно к вечеру ему стало лучше. Температура упала. Он попросил помочь ему приподняться и сел. Не возражая, выпил стакан сливок и сказал:
– Кажется, я все-таки выживу!
– Да, наверняка, Янек, наверняка! Кризис миновал, это же ясно. Ты и сам чувствуешь, что сил прибавилось. Вот увидишь, через месяц будешь совсем здоров.
– Я тоже так думаю. А Мариола еще не спит?
Никогда прежде он не называл девочку этим именем, не любил его, с самого начала называл ее просто Марысей, и Беата со временем привыкла к этому.
– Нет, еще не спит. Она уроки делает.
– Значит, у тебя еще остается время ее учить?..
Он умолк, а потом сказал:
– Боже, сколько же горя я причинил и ей, и тебе!
– Янек! Как только ты можешь говорить такие ужасные слова! – испугалась Беата.
– Но это правда.
– Ты и сам в это не веришь. Ты дал нам столько счастья, самого невыразимого счастья!..
Он прикрыл глаза и прошептал:
– Я люблю тебя, Беата, с каждым днем люблю все больше. И моя любовь к тебе не позволит, чтобы я умер.
– Ты не умрешь, ты не можешь умереть! Без тебя моя жизнь была бы хуже смерти. Давай не будем об этом говорить. Опасность уже миновала, слава тебе Господи. Знаешь что, я позову Марысю. Она так давно тебя не видела. Позволишь?
– Не стоило бы. Тут воздух пропитан заразой. Меня и так мучает и пугает, что ты все время вынуждена дышать им. А для детских легких это чистая отрава.
– Пусть тогда на пороге постоит. Скажи ей хоть пару слов. Ты даже не представляешь, как ей этого хочется.
– Хорошо, – согласился он.
Беата приоткрыла дверь и позвала:
– Марыся! Папа разрешил тебе прийти.
– Папочка! – донесся из глубины дома радостный возглас, а потом быстрый топот проворных шагов.
Девочка вбежала в комнату и замерла. Она уже две недели не видела больного, и перемена в его внешности явно поразила и испугала ее.
– Сегодня папочка чувствует себя получше, – быстро заговорила Беата, – но пока он позволил тебе только в дверях постоять. Зато скоро он и сам встанет на ноги, вот тогда опять пойдете вместе гулять по лесу.
– Как твои дела, деточка моя дорогая? – спросил Окша.
– Спасибо, хорошо, папочка. А ты знаешь, что кривую березу у Седого Ручья подмыло?
– Подмыло?
– Да. Микола говорил, что она теперь наверняка упадет. А еще он говорил, что его сын Гришка вчера видел четырех лосей у Хуминского брода. Они шли цепочкой, один за другим.
– Они, верно, из Красного леса пришли.
– Ага. Микола тоже так думает.
– А ты еще не забыла окончательно ботанику с физикой? – с улыбкой спросил лесничий.
– А вот и нет, папочка! – заверила его девочка и в доказательство принялась перечислять, чему научилась сама. После коротенькой беседы Окша отослал девочку, попрощавшись с ней воздушным поцелуем.
Рука его, посылавшая поцелуй, была исхудалой и неестественно белой.
Когда Марыся вышла, он сказал:
– Как же быстро растет девочка. Ей всего двенадцать лет, а она уже почти с тебя ростом. В будущем году нам придется, однако, отдать ее в школу. Надеюсь, что княгиня получит разрешение на вырубку и мы наконец встанем на ноги.
– Дай-то бог. Только бы ты поскорее выздоровел!
– Да, конечно, – бодрясь, подхватил он. – Мне просто необходимо выздороветь и заняться нашими делами. Если вырубки не будет, я решил поискать другое место. Тяжело будет расставаться с Одринецкой пущей, но что поделаешь – Марыся растет. Это важнее.
Он задумался на минуту, а потом спросил:
– Ты снова много потратила на лекарства?
– Да не тревожься ты об этом.
– Знаешь, я подумал, что если б я сейчас умер, то у тебя почти ничего бы и не осталось после оплаты похорон. Это меня больше всего мучит… Денег от продажи мебели и прочей утвари тебе хватило бы на год. Особенно те старинные коврики и салфетки. Вроде бы они довольно высоко ценятся.
– Янек! О чем ты говоришь! – с упреком воскликнула Беата.
– Ни о чем, просто рассказываю, о чем я размышлял. Мне кажется, что… в случае чего… ты имеешь право обратиться за рентой для Марыси. Не думаю, что Вильчур нашелся. В газетах бы написали об этом. Но ведь кто-то должен управлять его состоянием, а Марыся имеет все права на него.
На лице Беаты проступил румянец.
– И это говоришь ты, Янек?! – воскликнула она, не скрывая своего возмущения.
До сих пор, в течение пяти лет, что они прожили вместе, никто из них ни разу не вспоминал в разговорах профессора. Целых пять лет с того момента, как он велел ей даже белье и одежки Мариолы отослать в какой-то детский приют для бедных.
Окша опустил глаза.
– Я не имею права обрекать нашу девочку на нищету.
– А я не имею права протягивать руки за его деньгами. И предпочту лучше умереть сто, даже тысячу раз. Никогда, слышишь, Янек, никогда!
– Хорошо, не будем больше об этом говорить. Только понимаешь, если бы меня уже не было в живых… когда я думал, что умру, мной овладел такой ужас при одной мысли о том, что станется с вами…
– Я умею шить, вышивать, могу давать уроки… Все, что угодно, только не это. Подумай, с каким лицом я бы явилась к его наследникам, представив свои притязания… Я, которую они… имеют право считать виновницей его гибели. Янек, а зачем мы вообще говорим об этом? Ты уже лучше чувствуешь себя. Выздоравливаешь, благодарение богу, и теперь пойдешь на поправку.
– Да, моя дорогая, так все и будет, – сказал он и прижался лицом к ее ладони.
– Вот видишь! – Беата улыбнулась. – А теперь ты должен постараться заснуть. Уже поздно.
– Хорошо. Мне и правда хочется спать.
– Спокойной ночи, мой единственный, спокойной ночи. Сон придаст тебе сил.
– Спокойной ночи, мое счастье.
Беата прикрутила фитиль в лампе, завернулась в плед и прилегла на диван. Но через четверть часа вспомнила, что ему еще надо на ночь дать капли.
Она встала, отсчитала двадцать капель лекарства, пахнувшего креозотом, долила воды и наклонилась над больным.
– Янек! – позвала она вполголоса, – надо лекарство выпить.
Он не проснулся. Она нежно тронула его за плечо и нагнулась пониже.
Только теперь она заметила, что глаза у него открыты.
Он умер.
Глава 5
Как раз посередине пути между Радолишками и Нескупой с незапамятных времен стояла водяная мельница, которая когда-то была собственностью отцов-базилианов из монастыря в Вицкунах, основанном ими еще во времена короля Батория. А теперь мельница принадлежала Прокопу Шапеле, которого все в округе звали по-белорусски Прокопом Мукомолом.
Земля в этих местах была и не слишком богата, и не очень уж плодородна – родили потихоньку рожь да картофель, – и принадлежала она по преимуществу мелкопоместной шляхте и мужикам. Но ржи для помола Прокопу хватало всегда, поскольку конкурентов у него поблизости не было, не считая одной ветряной мельнички на расстоянии пяти километров в литовской деревеньке Бервинты. Но она едва справлялась с помолом для всех восьмидесяти хат деревни, потому как литвины отличались исключительной хозяйственностью и многие из них умели с пяти десятин собрать больше, чем иной белорус с семи, а то и с восьми.
Так же обстояли дела и в Нескупой. Там жили русские, старообрядцы, которые некогда пришли сюда из России. Мужики все рослые, здоровые, работящие, для них от восхода до заката за плугом ходить не трудно, а пахали они так глубоко, как и в Бервинтах не умели.
А в Радолишках, как и во всех маленьких местечках, жили евреи, которые, хоть и в меньших количествах, занимались скупкой зерна по дальним деревням как для городских нужд, так и на вывоз в Вильно. И от них Прокоп Мукомол тоже получал работу. Так что он на недостаток работы не жаловался, и, пока не случалось засухи, пока воды в прудах хватало, причин для жалоб у него и не было. А засуха в тех краях бывала редко, и уж невесть какой долгой она должна была быть, чтоб для мельничного колеса воды не хватило. Конечно, пруды эти выкопали давным-давно, пару сотен лет назад, но сделано это было основательно и глубоко, да и каждые десять лет их чистили, чтоб не заросли.
Прудов всего было три. Два верхних и один нижний. Берега их густо поросли вербами. К нижнему вел крутой спуск в две сажени, и помимо рукава, который шел прямо к колесу, было еще два больших стока – на случай наводнения. В прудах водилось много разной рыбы: плотва, налимы, окуни, а больше всего было пескарей. Раков тоже было вдосталь. В глубоких ямах, вымытых водой под корнями прибрежных деревьев, водились они сотнями. Оба работника Прокопа, а особенно младший, Казик, здорово наловчились ловить их. Стои́т, бывало, по колено в воде, наклонится и руку по локоть, а то и глубже в нору засунет – так рака и вытащит.
По правде говоря, на самой мельнице никто не стал бы их есть, считая чем-то вроде насекомых, но в местечке, в Радолишках, их всегда можно было продать: и католический ксендз, и православный поп, и доктор – этот, последний в особенности – были большими любителями раков. Доктор даже предпочитал в оплату за свой совет получить три десятка раков, а не два десятка яиц или там три злотых.
Да и помимо местечка, на фабричке, что в двенадцати верстах за ним, любителей было предостаточно, только уж надо было, чтоб кто-то по дороге туда подбросил. Пешком далековато идти, а старый Прокоп на такие дела лошадь ни за что не даст, хоть она и совсем застоялась и разъелась, точно свинья. Известное дело, корма у нее было вдосталь. Стояла и только с ноги на ногу переминалась да фыркала на весь хлев. А хлев был большой, сложенный из прочных толстых бревен. Кроме лошади там стояли две коровы, а за перегородкой имелись и свиньи. Под крышей еще оставалось место для телеги и саней.
Дом был пристроен к мельнице. В нем имелось три комнаты, в которых жили Прокоп с семьей и работники, и еще была пристройка, совсем новая, мельник поставил ее для своего старшего сына Альбина, когда тот собирался жениться. После смерти Альбина пристройка пустовала, потому как и со вторым сыном, едва только он в нее перебрался, тут же, на следующий день, случилось несчастье. Люди говорили, что кто-то ее, должно быть, проклял или дурным глазом на фундамент глянул. Было это правдой или нет, а только никто там жить не хотел, хотя находились и такие, кто уверял потихоньку, будто это не пристройка проклята, а сам Господь Бог покарал Прокопа Мукомола через его потомство за то, что он имущество у своего брата отсудил да с сумой его по миру пустил.
Такие разговоры приводили Прокопа в ярость. Обвинений он не мог стерпеть, и не один уже крепко схлопотал от него за подобные подозрения.
Однако ж таилась все-таки какая-то доля правды в этих сплетнях. Ведь у старого Мукомола было трое сыновей. Средний погиб на войне, старший перед самой женитьбой по пьяному делу пошел на лед, тот подломился под ним, и парень утонул. А младший вбивал клин в шкворень на самом верху мельничного колеса, свалился оттуда и чуть с жизнью не простился, обе ноги сломал. Напрасно к нему доктора привезли, напрасно доктор накладывал ему дощечки на ноги. На всю оставшуюся жизнь парень калекой сделался, ходить так и не смог. Пятый месяц он то сидел, то лежал, для работы не годился и в восемнадцать лет стал для отца в тягость.
Да и с дочерью Мукомолу не повезло. Вышла она замуж за мастера с кирпичного завода, только мастер этот погиб в пожаре, а она, будучи на ту пору в тягости, видно, от потрясения родила больного ребенка – от падучей дите страдало.
Потому и ходил старый Прокоп мрачный как ночь и волком на всех смотрел, хотя люди завидовали его богатству и удаче: мельница не простаивала и сам он на здоровье не жаловался.
В этом году по осени у него еще одна забота прибавилась: младшего работника, Казика, забирали в армию. На его место Прокоп не хотел брать случайного человека. Работа на мельнице ответственная, требует от работника смекалки и силы. И первого попавшегося пастуха к ней не приставишь. Долго раздумывал старик, пока не выбрал Никитку Романюка из Поберезья. У отца Никитки и без него было двое женатых сыновей, а младший даже в город ходил в поисках работы. Парнишка здоровый, сообразительный и даже школу окончил.
Приняв такое решение, в четверг, торговый день в Радолишках, Прокоп отправился в путь. От мельницы до лесопилки было близко – меньше версты. А по большаку как раз потянулись мужики на рынок. Одна за другой проезжали брички да телеги с возами. И каждый Мукомолу кланялся, потому как все его знали. То один, то другой мужик, не останавливая лошаденки, заговаривал на ходу, разглядывая Прокопа, любопытствуя, как принял тот Божье наказание, сделавшее калекой его последнего сына, Василька. Но по лицу Прокопа ничего нельзя было понять. Он, как обычно, хмурил брови и шевелил седой лопатистой бородой.
Наконец подъехал и Романюк. Должно быть, он ехал за товаром, потому как телега была пустой, только сзади сидела его баба.
Прокоп махнул ему рукой и пошел рядом с телегой. Они обменялись рукопожатием.
– Ну и как там делишки? – спросил Романюк. – Все богатеешь, братец?
– Да живу себе с Божьей помощью. Только вот есть одна забота.
– Наслышан.
– Да не о том речь. Казика в армию забирают.
– Забирают?
– Так я и говорю: забирают.
– Да неужто?..
– Ага. А ты сам знаешь, заработок у меня хороший. Работник голодать не будет и еще отложит про запас.
– Известное дело, – признал Романюк.
– Вот я и подумал, что Никитка твой очень бы подошел на это место.
– Почему бы и нет.
– Ну так как?
– Что как?
– Ну, насчет Никитки?
– Дык эта, чтоб к тебе работником?
– Ага.
Романюк почесал затылок, в его маленьких выцветших глазках блеснула радость. Но отозвался он вполне равнодушным тоном:
– Паренек здоровый…
– Ну и слава богу, – поспешно буркнул Прокоп, опасаясь, как бы Романюку не пришло в голову спросить о здоровье Василя. – Только чтоб он в будущую пятницу пришел, а то Казика как раз в пятницу и забирают.
– Хорошо, брат, что сказал об этом. А то, видишь, дома-то его нет. Он сейчас аж в Ошмяны поехал.
– Работу искать?
– А то.
– Но ведь вернется?
– Почему бы ему не вернуться? Я ему с Радолишек письмишко и вышлю.
– Вот и ладненько. Только чтоб к пятнице…
– Так само собой.
– Работы сейчас много. Я не справлюсь без двух-то работников, – добавил Прокоп.
– Да приедет он вовремя.
– Тогда с богом!
– С богом.
Романюк тронул вожжи, на что, впрочем, его невысокая толстобрюхая сивка даже не обратила внимания, и, вполне удовлетворенный разговором, погрузился в размышления. Большая это была честь, что Мукомол из всех выбрал именно его сына.
Он повернулся и посмотрел на жену. Из-под толстых платков, которые плотно окутывали ее голову, видны были только нос да глаза.
– Нашего Никиту Мукомол берет к себе, – сказал Романюк.
Баба вздохнула:
– Боже ж мой! Боже!..
И непонятно было, радуется она или тревожится. Хотя Романюк никогда над этим и не задумывался. У нее вечно был такой жалостливый голос.
Радовался и Прокоп. Он страшно не любил всяческих перемен и беспокойства. А теперь дело было сделано. Так, по крайней мере, ему казалось, и казалось до самого пятничного вечера.
В тот день он позднее обычного взялся запирать мельницу. Все ждал. А домашние даже не догадывались, отчего он такой сердитый, потому как Прокоп никому ничего не сказал. Однако в глубине души аж кипел весь. Ведь ясно же сказал, чтобы Никитка пришел в пятницу! Но того не было. С утра работы подвалит – и тогда хоть головой об стену бейся.
– Ну погоди у меня, поганый щенок, – тихо ворчал он, покручивая прядь бороды.
И клялся себе, что не возьмет уже поганца, хоть бы с самого утра явился. Суббота – это вам не пятница. Лучше уж первого попавшегося с улицы взять, пусть он даже воришкой будет, только не Никиту.
Но Никита и утром не явился. Пришлось брать в помощь одного из тех мужиков, которые привезли рожь на мельницу.
На следующий день было воскресенье, мельница не работала. Прокоп, помолившись, хотя злость мешала ему выговаривать слова молитв, вышел и уселся на лавочку перед домом. Он прожил долгую жизнь, но не случалось еще, чтобы кто-то так его подвел. Он хотел парню милость оказать, но тот не явился. Должно быть, нашел себе работу в Ошмяне, а потому и не приехал, однако это его не оправдывало.
– Романюки об этом еще пожалеют, – бормотал он, потягивая трубочку.
Ярко светило солнце. День выдался теплый и тихий. Над прудами носились птицы, гоняясь за насекомыми. Вдруг со стороны дороги донесся грохот. Старик ладонью прикрыл глаза от солнца. По большаку несся мотоцикл.
– В святой день такое творят, – сплюнул Прокоп. – Бога не боятся.
Он знал, о ком говорит. Вся округа уже с весны знала, что это гоняет сын владельца фабрики из Людвикова, молодой господин Чинский. Он учился за границей на инженера, а теперь приехал к родителям отдохнуть. Поговаривали, будто он примет на себя управление фабрикой после отца, только у него самого в голове был один этот мотоцикл, дьявольская машина, которая людям по ночам спать не дает и лошадей на дорогах пугает.
Потому и поглядывал старый мельник с осуждением на тучу пыли, которая постепенно рассеивалась над опустевшей дорогой. И вдруг заметил на ней человека, направлявшегося к мельнице. Путник шагал медленно, ровным шагом, а на плече нес узелок на палочке. Поначалу Прокоп подумал, что это Никитка, и кровь бросилась ему в лицо, но когда идущий приблизился, оказалось, что он уже немолод и в его черной бороде проглядывают седые нити.
Подошел, поклонился, поздоровался, как бог велит, и спросил:
– Дозволишь присесть да водицы попросить? День жаркий, очень пить хочется.
Мукомол окинул незнакомца внимательным взглядом, подвинулся, освобождая на лавке место, и кивнул.
– Присесть каждому можно. А воды у нас, слава богу, тоже в избытке. Вон там, в сенях, бадья стоит, – махнул он рукой.
Путник показался ему симпатичным. Лицо у него, правда, было грустное, но Прокоп и сам достаточно бед испытал, чтоб любить веселые лица. А у этого еще и глаза были добрые. От каждого путника можно узнать что-то интересное. Этот же, видать, из дальних краев пришел, выговор у него был необычный.
– Откуда тебя бог привел? – спросил Прокоп, когда незнакомец вернулся из сеней и сел, отирая тыльной стороной ладони капли воды с бороды и усов.
– Издалека. А сейчас иду из-под Гродна. Работу ищу.
– И что, с самого Гродна работы не нашел?
– Да нет, с месяц потрудился у кузнеца в Микунах. А как там работа закончилась, так я и двинулся дальше.
– В Микунах?
– Да.
– Знаю я тамошнего кузнеца. Не Воловик ли, часом?
– Воловик, Иозеф. Одноглазый.
– Верно. Это ему искрой выжгло. А ты, значит, тоже кузнец?
Пришедший улыбнулся:
– Кузнец, и не только. Я каждую работу знаю…
– Как же это?
– Так ведь лет двенадцать по свету скитаюсь, вот и научился всему понемногу.
Старик глянул на него из-под кустистых бровей.
– А на мельнице не случалось работать?
– Нет, не приходилось. Но я тебе, господин Мукомол, правду скажу. Ночевал я в Поберезье у неких Романюков. Хорошие люди. И там слышал, что их сын согласился у тебя работать. Только он нашел работу в Ошмянах, в кооперативе, и возвращаться не хочет.
Прокоп нахмурился.
– Так тебя Романюк прислал?
– Да где там. Вот когда я все это услышал, то и решил воспользоваться. Зайти и спросить не грех. Захочешь – возьмешь меня, не захочешь – не возьмешь.
Прокоп пожал плечами.
– Как же это я могу взять тебя, пустить в дом чужого человека?
– Так я и не напрашиваюсь.
– Вот и умно делаешь. Я тебя не знаю, да и никто тебя тут не знает. Сам понимаешь. Может, ты и добрый человек, без всяких там злых умыслов, а может, и злой. Я ведь даже ни фамилии твоей не знаю, ни откуда ты родом.
– Звать меня Косиба, а родом я с Калиша.
– Кто бы знал, где этот самый Калиш.
– Верно, далековато отсюда.
– Мир велик, – вздохнул Прокоп, – и люди в нем разные.
Наступила тишина, но мельник вскоре спросил:
– А чего ж ты все бродишь по свету, никак не осядешь? Дома у тебя нет, что ли?
– Нету.
– И бабы своей нет?
– Нет.
– А почему?
– Не знаю. От бабы на этом свете ничего хорошего не жди.
– Что правда, то правда, – согласился Прокоп, – от них одни неприятности да хлопоты. Только все равно следует жениться. Таков закон Божий.
И подумал старый Прокоп, что этот закон для него оказался слишком жестоким. Правда, жена родила ему трех сынов да дочку, да не на радость родила их, а на горе.
Его раздумья прервал странник:
– Ты и правда меня не знаешь. Но ведь я у людей работал, у меня от них и бумаги есть. Можешь почитать, что про меня пишут.
– И не собираюсь читать. От писаного да читаного ничего хорошего не жди.
– И документы у меня в порядке. Будь я вором, так не работы бы искал, а где что украсть. Если б я воровал, меня бы давно в тюрьме заперли. А я уже двенадцать лет по свету брожу. Мне даже укрыться было бы не у кого, потому как никого близкого не имею.
– А почему ж так-то?
– А у тебя самого есть? – спросил пришлый.
Мукомола этот вопрос заставил задуматься.
– А как же! У меня семья.
– А если б она, не дай бог, померла вся, ты бы нашел кого-то близкого?.. Нашел бы сердечных да радушных, которые помогли бы тебе в беде?..
Незнакомец говорил как бы с горечью и смотрел прямо в глаза Прокопу.
– Ни у кого нет близких, – заключил он, и Мукомол ничего ему на то не ответил.
Первый раз в жизни столкнулся он с такой мыслью, и она показалась ему правдивой. На сей раз он гораздо приветливее смотрел на пришлого.
– Что там люди обо мне говорят или думают, – начал Прокоп, – мало меня трогает. Верно, и тебе сказок наплели с три короба. Только я сам знаю, как надо жить. Никому ни зла, ни горя не желаю. Кто придет ко мне, голодным не останется. Богом клянусь! Так и тебе скажу: мне хлеба хватает и ты сыт будешь. Верно и то, что не позволю я тебе в канаве ночевать. Угол найдется. А вот работы для тебя у меня нет. Я тебе вот что скажу: сдается мне, человек ты неглупый, а может, и честный. Только мне нужен работник здоровый, сильный, молодой. А ты уже в годах.
В ответ на это пришлый молча поднялся. В нескольких шагах от дома лежал в траве каменный мельничный жернов, треснувший пополам. Бородач нагнулся над ним, подсунул ладони под одну половинку, пошире расставил ноги, уперся и поднял камень. Молча, глядя на Мукомола, подержал его так немного, а потом бросил так, что земля загудела.
Прокоп медленно набивал свою трубочку. Пришлый уселся рядом с ним, вытащил из кармана папироску. Закурил, а мельник произнес:
– Дело-то уже к полудню идет.
– И верно, – подтвердил пришлый, глянув мельком на солнце.
– Обедать пора. Что ж это бабы в святой день порядок не соблюдают?
Но бабы, однако, все соблюдали, потому что как раз донесся из сеней пискливый девчачий голосок:
– Дедуль! Обед!
– Пойдем, поешь с нами, что бог послал, – буркнул Прокоп, вставая.
– Награди вас Господь, – ответил пришлый и пошел следом за Прокопом.
Из сеней с земляным полом входили направо, через высокий порог, в комнаты, а налево, через еще более высокий порожек, в палату, то есть просторную кухню, которая одновременно служила столовой и в которой весь день было людно. Почти четверть кухни занимала огромная, беленая известкой печь. Из ее широкого устья шел жар. На алом фоне пылающих дров чернели пузатые чугуны, в них шипело и булькало варево, наполняя воздух запахом вкусной еды. На печи и на пристроенных к ней лежанках, где зимой спали старики и дети, сейчас валялось какое-то тряпье, прикрытое полосатым ковриком.
Не оштукатуренные, а обшитые досками стены были покрыты сотнями разноцветных картинок. В углу висел золотистый иконостас, украшенный цветной бумагой, а перед ним горела подвешенная на латунных цепочках масляная лампадка.
В том же углу стоял большой стол, ради воскресенья накрытый скатертью из чистого полотна. На столе – внушительных размеров плоская буханка хлеба, деревянные и алюминиевые ложки, вилки, ножи и соль в зеленой масленке, на крышке которой изображена была овца с ягнятами. Вдоль стены тянулась широкая лавка, а над ней висели полки, застеленные газетами с вырезанными по краю зубчиками. На полках стояли миски, кувшины, кружки, тарелки, эмалированные горшки и чугуны, а на почетном месте красовались шесть медных кастрюль, так и сиявших ярким красноватым металлическим блеском.
В кухне находилось шесть человек. Сгорбленная старуха, две еще довольно молодые женщины, бледная девочка лет тринадцати с прекрасными темными глазами и двое мужчин – рыжий здоровяк с широкими плечами, который скромно сидел у двери, и молодой стройный брюнет, в котором пришлый сразу признал сына хозяина, Василя. Тот сидел на лавке за столом, опершись на локти, и смотрел в окно. Появление отца с незнакомым гостем не отвлекло его от грустных мыслей.
А вот женщины сразу засуетились, принялись быстро подавать на стол. Вскоре на столе уже дымились две миски: одна с жирным борщом, щедро сдобренным сметаной, другая – с вареной картошкой.
Для Прокопа и Василя поставили глубокие фаянсовые тарелки. Остальные должны были хлебать из общих мисок. Старик уселся на почетном месте под образами, широко перекрестился, и все последовали его примеру. Вскоре в кухне слышно было только, как едоки с аппетитом хлебают варево. Присутствие незнакомого гостя тут никого не удивило. Такое бывало уже не раз. Никто и не обратил особого внимания на бородача. Изредка люди за столом перебрасывались отрывистыми фразами, то по-польски, то по-белорусски, как и все в этих краях. Вскоре миски опустели, и старая хозяйка, которую называли «матерью Агатой», обратилась к одной из женщин:
– Ну же, Зоня! Ты что, угорела? Двигайся побыстрее!
Зоня, высокая, широкобедрая баба, резво вскочила, подхватила пустые миски и кинулась к печи. Взяла стоявший в углу ухват на длинной ручке, быстро сунула его в раскаленную глубину и вытащила чугун. Ее пухлые щеки покраснели от жара, а когда она возвращалась обратно к столу с полной миской, неся ее на вытянутых руках, стало видно, что грудь у нее была исключительно большая и налитая.
После борща пришел черед мяса, это была вареная свинина, нарезанная кусками размером с кулак, жирная, с проростью.
– Ольга! – нетерпеливо окликнула мать Агата, обращаясь к другой женщине. – Да отрежь ты брату хлеба! Сама не видишь, что ли!
Ольга, худенькая и проворная, потянулась к буханке, легко подняла ее, прижала к себе и отрезала длинный, тонкий и ровный ломоть.
– Мама, и мне хлеба, – попросила девочка, которую звали Наталкой.
– И гостю не забудь, – буркнул Прокоп.
Ольга посмотрела на гостя и тоже положила перед ним ровный ломтик.
– Спасибо, – поблагодарил он, а она засмеялась и кивнула.
– Да не за что. Сам-то издалека идешь?
– Издалека, из Калиша.
– Так ты и в Вильне бывал?
– Приходилось!..
– И Остру Браму видел?..
– Видел. Там есть образ Божьей Матери, чудотворный.
Прокоп исподлобья глянул на сына и снова опустил глаза.
– Это каждый знает, – проворчал он.
– А ты сам видел чудеса?
– Видеть – не видел, а люди рассказывали. О разных чудесах.
– А о каких, к примеру? Сделай милость, расскажи.
– Да я не больно-то умею, – смутился гость, – ну да что слышал – повторю, как сумею.
– Повтори, повтори! – Маленькая Наталка придвинулась к нему.
Он неохотно стал рассказывать про одну мать, у которой родились мертвые близнецы, о купце, у которого украли весь товар, о богохульнике, у которого язык отсох, о солдате с оторванными на войне руками – всем им помогла Божья Матерь Остробрамская.
Тут все закончили обедать, и женщины взялись было за уборку, но замерли, заслушавшись. А рассказчик, видать, по природе был молчуном и говорил тихо и коротко.
– Я там наслушался много чего про разные чудеса. Всего и не припомню, – закончил он.
– А ведь это католический образ? – спросила Зоня.
– Католический.
– А вот интересно мне, – снова заговорил Василь, – помогает ли она людям другой веры, к примеру, православным?
– Этого я не знаю, – пожав плечами, ответил гость. – Только я так думаю: лишь бы человек был хороший, а она каждому поможет.
– Только бы христианином был, ясное дело, – сердито поправила его мать Агата. – Ты ведь не станешь утверждать, будто она и жиду поможет!
– Жиду? – отозвался басом до сих пор молчавший рыжий работник. – Да на жида она бы еще и холеру наслала. Вот и весь разговор.
Он громко рассмеялся и хлопнул себя по колену.
Старый Прокоп встал и перекрестился. Это было зна́ком для всех остальных. Женщины взялись за мытье посуды. Мужчины вышли на двор, кроме Василя, который так и остался у стола. Мукомол выкурил трубочку, потом принес себе кожух, разостлал его под кленом на траве и улегся, чтобы подремать после сытного обеда.
– Я тут в работниках служу, – начал разговор рыжий мужик, обращаясь к сидящему рядом гостю. – Уже шестой год. Хорошая мельница. А ты по ремеслу кем будешь-то?
– А нет у меня ремесла. Я разные работы делать умею…
– Вот когда б ты тут на ночлег остался да с утра охота была б, то, ежели в слесарском ремесле понимаешь, почини мне револьверт. Застрял курок и не поднимается. Как черт в него вселился.
– На ночлег я просился, и мне разрешили, так что переночую. А утром охотно посмотрю. В слесарном деле я немного разбираюсь.
– Тогда и отблагодарю.
– А это лишнее. И так хотел бы отплатить за гостеприимство. Хорошие тут люди живут.
Работник подтвердил: люди открытые, ничем их попрекнуть нельзя. Старик требовательный, строгий, но справедливый. Последний грош из тебя не вытащит и до последней капли пота не выжмет. Хотя и говорят о нем, что родного брата с сумой по миру пустил, а тот его детей проклял, да никто толком не знает, как там на самом деле было, – давно это случилось. Больше четырех десятков лет назад. А вот проклятье, может, и правда было, потому как с детьми Прокопу не повезло. Старший сын утонул, средний на войне погиб. Осталась после него только вдова, та самая Зоня, ее из бедного дома взяли, вот и прижилась у свекрови после смерти мужа. Баба здоровая и еще молодая. Не одной девице фору даст. Да старая Агата не любит ее. Все время цепляется. Разные были поводы, а вот сейчас… Даже с вдовой мастера Ольгой, дочерью Прокопа, помирились. Только старуха уж больно озлобилась. А Ольга тоже хорошая баба. Никому зла не желает…
– Вчера вот несу сено в хлев, а она корову доит. И говорит: «Слушай, Виталис, тебе ведь давно жениться пора». А меня смех разбирает. Где уж мне жениться. Так я и говорю: «Разве что тебя в жены возьму, Ольга». А сам-то я знаю, что она имеет склонность к учителю из Бернат. Так она во весь рот улыбнулась и отвечает: мол, не обо мне ты думаешь, Виталис. А вот Зоня вдовая и тебе больше подошла бы.
Работник рассмеялся, сплюнул и добавил:
– Вот такие у нее шутки. Да, бабские дела…
Между тем и бабы вышли на двор. Ольга с Зоней принарядились. Оказалось, что они идут в Бернаты на танцы. Маленькая Наталка покрутилась по двору и остановилась около гостя.
– А ты нашего Ваньку видел?
– Нет, а кто этот Ванька?
– Конь. Он толстый, как свинья. А как тебя кличут?
– Антоний.
– А я Наталка, а по фамилии буду Шуминская. Мой отец был мастером на фабрике в Людвикове. Ты знаешь фабрику в Людвикове?
– Нет, не знаю.
– Там так красиво! Дворец огромный. А молодой барин на мотоцикле ездит. А в цеху печи огромные стоят, одна рядом с другой. В них кирпич обжигают. А другие печи для фаянса и для фарфора. Страшно интересно. А наши пруды видел?
– Нет, не видел.
– Тогда айда со мной, покажу тебе, где можно купаться. Вон там, у леса. Потому как тут, в нижнем, опасно. Тут большие омуты и водовороты. Дедушка Прокоп никому не дозволяет, с тех пор как мой дядя Альбин тут провалился под лед и утоп. Ну, давай же, пойдем.
– Хорошо, пойдем, – согласился гость.
Наталка тоненьким голоском все время что-то рассказывала. Они шли вдоль берега по узкой утоптанной тропинке. Так они обошли все пруды и добрались до леса.
Внимание девчушки привлекли грибы.
– Боже ж мой, – восклицала она, – сколько тут рыжиков! С пятницы повырастали, мы ведь с теткой Зоней в пятницу все тут выбрали дочиста. Хочешь, насобираем?.. Правда, сегодня воскресенье, но если для забавы что-то делаешь, то и не грех. Бабушка сама так сказала…
Они почти до вечера собирали грибы в перелеске среди густо растущего вереска. Потом немного передохнули и почти в сумерках вернулись домой. И как раз вовремя, потому что их уже звали ужинать. Мать и тетка еще не вернулись с танцев, и Наталке пришлось помогать бабушке Агате. Они с гостем набрали целый подол рыжиков. Чтоб грибы не испортились, надо было перебрать их и залить водой.
После ужина, когда со стола все уже было убрано, Прокоп, а вслед за ним и старуха ушли спать в комнаты по другую сторону сеней. Работник Виталис взял на руки их сына, калеку Василя, и тоже отнес его в комнаты. Сам же вернулся, вытащил из-за печки два набитых сеном матраса, положил их на лавки у стены и сказал:
– Ложись. Как-нибудь переночуешь. Мух сейчас мало, слава те Господи.
Позакрывал все двери, потушил лампу и лег. Гость последовал его примеру. В просторном помещении наступила тишина. Поначалу еще слышалось жужжание мух, но потом и они успокоились, и только из-за стены доносился спокойный, монотонный шум воды в мельничном лотке. Было тихо, тепло и уютно. И засыпалось легко.
Еще не рассвело, когда их разбудил скрип колес, топот конских копыт и покрикивание: люди привезли на мельницу рожь. В сенях послышались кашель и кряхтение старого Прокопа. Виталис сорвался с лежанки, гость тоже встал. Они проворно засунули матрасы за печь.
Прокоп Мукомол вошел и буркнул:
– Слава Отцу и Сыну…
– Во веки веков… – ответили они.
– Что стоите? Шевелись, ты, черт, – обратился он к Виталису. – Запор отодвинь!
Хмуро глянул на гостя и добавил:
– А ты чего? Берись за работу! Не слышишь? Люди зерно привезли!..
– Значит, вы берете меня на работу? – обрадованно спросил тот.
– Да ладно уж. Возьму.
Глава 6
С того дня и прижился Косиба на мельнице Прокопа Мукомола. И хотя он никогда не смеялся, да и улыбался крайне редко, было ему здесь так хорошо, как никогда и нигде раньше. Работы он не боялся, рук и спины своей не жалел, болтать не любил, так что старый Прокоп ни в чем не мог его упрекнуть. Наоборот, мельник был очень доволен новым работником. А если и не показывал этого, то только потому, что не было у него такой привычки.
Антоний Косиба исполнял любую работу, какую только ему поручали. Работал при задвижках, на ссыпке, у весов и у жерновов. Если где-то что-то ломалось, он тут же старался починить, а поскольку от природы был смекалист, то и стал добрым помощником. Не раз так бывало, что скоба треснула или зубчатое колесо с оси соскочило, а он уже знал, как следует поправить, и умел это сделать, поэтому без кузнеца и без колесника обходились.
– Умелый ты человек, – говаривал Виталис. – Видать, успел побродить по свету.
А в другой раз заметил:
– Ты ведь не такой уж и старый. Будешь Прокопу служить по-умному, так глядишь, еще и жену себе заработаешь, женишься на Ольге-вдовице.
– Болтаешь, сам не знаешь что, – пожал плечами Антоний. – Ни у них, ни у меня таких мыслей и близко нет. Какого лиха мне это надобно?
Постукивало мельничное колесо, шумел бурный поток воды, потрескивали жернова. Белая мучная пыль стояла в воздухе, насыщая его хлебным вкусом. С рассвета до заката работы хватало. Даже с избытком. Зато в воскресенье можно было отдохнуть и размять кости. Но и тогда Антоний не старался сблизиться ни с веселой Зоней, ни с Наталкиной матерью Ольгой, хотя обеим он нравился и относились они к нему весьма доброжелательно. Чаще всего он проводил свое свободное время с Наталкой.
Один день был похож на другой, и ему самому казалось, что так оно уже и будет всегда, как вдруг произошел случай, который не только все изменил, но и стал великим событием для семьи Прокопа Мукомола.
А случилось вот что: в субботу, как раз перед остановкой колеса, треснула дубовая ступица. Ее следовало как можно скорее скрепить железным обручем. Прокоп чуть не бегом принес инструменты, а потом почти три часа потел, прежде чем ему удалось закончить починку. Поскольку инструменты свои старик ценил более всего и хранил их всегда у своей кровати, то и велел отнести ящик в комнату. Антоний вскинул ящик на плечо и пошел. До сих пор он ни разу в комнаты не заглядывал, потому что любопытен не был, а надобности никакой не имел.
Чисто там было необыкновенно. Белые накрахмаленные занавесочки на окнах и горшочки с геранью. На высоких кроватях чуть не до самого потолка громоздились пирамиды мягких подушек, пол был выкрашен в красный цвет.
Антоний отступил, чтобы еще старательнее вытереть ноги, и вошел. Во второй комнате он увидел Василька. Тот лежал в кровати и плакал. Заметив Антония, он начал было успокаиваться, но вдруг позвал:
– Слушай, я больше не выдержу. Лучше помереть, чем так жить. Я покончу с собой. Так уж мне на роду написано.
– Не болтай глупости, – спокойно отозвался Косиба. – У людей разные несчастья случаются, а они все-таки продолжают жить…
– Жить? Зачем?.. Чего ради я должен валяться тут, как колода, и гнить?..
– Зачем же гнить?..
– А какой с меня прок? Ни себе ни людям. Так и будет всю жизнь. Лежу я тут и все время об одном думаю. И додумался: нет у меня другого выхода.
– Брось ты эти дурные мысли, – буркнул Антоний, скрывая волнение. – Ты еще слишком молод.
– И что мне с этой молодости! Какая у меня молодость, если не могу на ноги встать, сам ходить не могу. Был бы старым, тогда уж ладно… А все кара Божья за грех отца! Почему я должен за него страдать? Мне-то за что? Разве это я у дядьки его долю отобрал?.. Не я! Не я! Это все отец. Почему ж мне калекой быть в наказание?..
Антоний опустил глаза. Он не мог смотреть на этого симпатичного парнишку, почти еще подростка, который в отчаянии оплакивал свою жизнь.
– А ты о чем-нибудь другом подумай, – не слишком убедительно посоветовал Косиба.
– Да о чем же мне думать, о чем? Я ведь как только посмотрю на свои ноги и думаю: уж лучше бы мне и не родиться вовсе… Вот, глянь!
Он сдернул одеяло и открыл ноги.
Исхудавшие, неестественно тонкие ноги были покрыты наростами и розовыми полосками шрамов, которые еще не успели побелеть и зарубцеваться.
Василь еще что-то говорил, но Косиба уже не слышал его, не различал слов. Он смотрел точно зачарованный. И чувствовал, как с ним самим происходит что-то странное. Появилось ощущение, будто он уже когда-то все это видел и зрелище это привычное и правильное. Непреодолимая сила заставила его наклониться над лежащим калекой. Он протянул руки и стал ощупывать голени и колени. Его толстые пальцы с ороговевшей кожей с безошибочным мастерством пальпировали дряблые мышцы больного и отыскивали под ними искривления неправильно сросшихся костей.
Дышал Антоний тяжело, словно делал большое усилие. Боролся с собственными мыслями, захлестнувшими его. Ну да, конечно, теперь он это понимал с необычайной ясностью. Просто вот тут кости срослись неправильно. Так быть не должно. И тут то же самое. Как же еще!
Он выпрямился и отер рукавом пот со лба. Глаза его горели, а побледнел он так, что Василь спросил:
– Что с тобой?
– Подожди, Василек, – отозвался вдруг Антоний осипшим голосом, – как давно ты упал и сломал ноги?
– Пятый месяц… Но…
– Пятый? Но кости-то тебе складывали?
– Складывали. Доктор из местечка, из Радолишек.
– И что?
– Говорил, что я выздоровею. Наложил мне на ноги дощечки и забинтовал. Я два месяца лежал, а когда он снял повязку…
– Что тогда?
– Тогда он сказал, что уже ничего не поможет. Такой, дескать, перелом, что ничего поделать нельзя.
– Нельзя?
– Ага! Отец хотел меня в самое Вильно везти, в больницу. Но доктор сказал, что это бесполезно, потому как тут и сам Господь Бог не поможет.
Антоний рассмеялся.
– Неправда.
– Как это – неправда? – дрожащим голосом спросил Василь.
– А так, неправда это. Вот! А ну, пошевели пальцами!.. Видишь… Неправда! Вот если б ты не смог пошевелить, тогда и в самом деле конец. А ступнями?
– Не могу, – скривился Василь, – больно.
– Больно?.. Так и должно болеть. Значит, все хорошо.
Сдвинув на переносице брови, Антоний, похоже, что-то обдумывал. Наконец сказал уверенно, без тени сомнений:
– Тебе надо снова сломать ноги и правильно сложить кости. Как они должны быть. И тогда ты выздоровеешь. Если б ты пальцами двигать не мог, то все было бы кончено, а так – можно.
Василь в изумлении смотрел на него.
– А ты-то откуда это знаешь?
– Откуда?.. – Антоний засомневался. – Не знаю откуда. Только это совсем не трудно. Вот, сам посмотри. Тут у тебя криво срослось и тут тоже, а на той ноге еще хуже. А здесь наверняка трещина аж до самого колена.
Он нажал и спросил:
– Больно?
– Очень больно.
– Вот видишь. И тут должно быть точно так же!..
Калека зашипел от боли под нажимом его пальца.
Антоний улыбнулся.
– Видишь!.. Тут надо взрезать кожу и мышцы. А потом молоточком… или пилочкой. И снова правильно все сложить.
Обычно спокойный и даже скорее флегматичный, Антоний теперь изменился до неузнаваемости. Он оживленно объяснял Василю, что нельзя тратить время, что надо сделать все как можно скорее.
– Доктор Павловский не согласится, – покачал головой Василь. – Он как один раз что скажет, так потом и слушать ничего не хочет. Разве что в Вильно поехать?
Он весь дрожал от волнения и надежды, которую пробудил в нем Антоний, и с тревогой вглядывался в него.
– Не надо ехать в Вильно! – сердито отрезал тот. – И никого нам не надо. Я сам! Я сам это сделаю!..
– Ты? – уже с полным недоверием воскликнул Василь.
– Ну да, я. И вот увидишь: ходить будешь, как прежде.
– А откуда ж ты такое умеешь? Это ж операция. Надо курс наук скончить, чтоб такое знать и уметь. Ты уже делал это когда-нибудь?
Антоний нахмурился. Он не мог справиться со своим странным влечением, что-то прямо-таки вынуждало его упорствовать в своем решении. Но одновременно он все-таки сообразил, что ему не дадут его осуществить, просто не позволят, не поверят. Конечно же, он никогда не занимался лечением, а уж тем более складыванием костей в сломанных ногах. Он совершенно точно знал, что среди многих ремесел, которыми ему удалось овладеть во время своего многолетнего бродяжничества, не было медицины, он никогда никого не лечил. И сам теперь удивлялся себе – почему он с такой уверенностью смог определить, что увечье Василя можно вылечить. Он удивлялся, но это ни в малейшей степени не влияло на его убежденность и не ослабляло решимости.
Антоний Косиба не любил вранья. Однако на сей раз он не хотел отказываться от него, раз это могло помочь ему достичь цели.
– Делал ли? – Он пожал плечами. – Да много раз. И тебе сделаю, и ты выздоровеешь! Ты же неглупый парень и согласишься.
Дверь приоткрылась, и маленькая Наталка позвала:
– Антоний, иди ужинать! А тебе, Василек, в кровать принести или как?
– Не буду я есть, – нетерпеливо отрезал Василь, сердясь, что прервали столь важный разговор. – Пошла прочь, Наталка!
Он снова принялся расспрашивать Антония и отпустил его только тогда, когда в сенях раздался голос матери, звавшей работника.
Через два дня старый Прокоп подозвал к себе Антония. Мукомол сидел на дворе перед мельницей и попыхивал дымком из своей трубочки.
– Что это ты там наговорил моему Васильку? – спросил он задумчиво. – Вроде как про лечение какое-то.
– Правду сказал.
– Какую такую правду?
– А что я могу избавить его от увечья.
– Как же ты можешь?
– Надо разрезать, кости снова сломать и заново сложить. Они плохо были сложены.
Старик сплюнул, погладил свою седую бороду и махнул рукой.
– Перестань. Сам доктор сказал, что тут уже ничем не поможешь, а ты, глупый невежда, хочешь все изменить?.. Правда твоя, в разных ремеслах ты мастерски разбираешься. Не стану спорить. Да и грех было бы… Только с человеческим телом не все так просто. Надо знать, где какая косточка, где какая жилочка, что к чему подходит и какое каждая такая штучка значение имеет. Вот я сам не раз порося или там телка на сей предмет разделывал. Столько там всяких разных штуковин, что и не разберешь. А ведь что они такое по сути своей?.. Скотина. А у человека внутри все такое тонкое. Надо разбираться в этом. Это ж тебе не силосорезка, которую развинтишь, все гаечки и прочие винтики на земле разложишь, а потом снова все сложишь, смажешь маслицем – и будет она резать лучше прежнего. Тут знать да уметь надо, школу закончить, курс наук там…
– Как хочешь, – повел плечом Антоний. – Да разве я настаиваю, что ли? Я говорю, что смогу, потому как уже не раз людей из такой беды вытаскивал, значит, умею. Разве ты когда-нибудь слышал, чтоб я слова на ветер бросал или попусту хвалился?
Старик молчал.
– Разве случилось когда, чтоб я сказал, что знаю какую-нибудь работу, а потом испортил дело? – продолжал Антоний.
Мукомол кивнул.
– И то правда! Грех было бы перечить! Ты смекалистый, и я не жалею, что взял тебя. Но тут речь о моем сыне. О последнем оставшемся у меня сыне. Ты должен понимать…
– Неужели ты хочешь, чтоб Василь навсегда остался калекой? Так вот, знай, что со временем ему станет хуже, а не лучше. У него отломились кусочки костей. Я их сам рукой нащупал. Ты говоришь, что тут наука надобна. Так была у тебя наука. Ведь тот доктор из местечка ученый. А что он сделал?
– Если уж ученый не сумел справиться, так неученому и браться нечего. Разве что… – Мукомол заколебался, – разве что в Вильно его отвезти, в больницу. Только денег это больших стоит, да и, опять же, неведомо, поможет ли…
– А тут и затрат никаких. Ты ж мне ни гроша не заплатишь. Я и не настаиваю, Прокоп. Еще раз повторяю: я не напрашиваюсь. От чистого сердца, просто из сочувствия всем вам хотел помочь. А если ты боишься, что Василь от этого умереть может или еще сильнее заболеть, то имей в виду две вещи. Во-первых, ты вправе будешь хоть бы и убить меня. Защищаться не стану. А захочешь – буду до самой смерти своей на тебя даром работать. Что ж тут поделаешь! Жаль мне паренька, и знаю я, что справлюсь. А во-вторых, Прокоп, знаешь ли ты, какие мысли ему в голову забредают?
– Что за мысли такие?
– А такие, чтобы с жизнью покончить.
– Тьфу, даже не говори таких слов, чтоб не сглазить, – вздрогнул Мукомол.
– Я-то не стану. А вот он, Василек, все время над этим думает. И мне говорил, и другим. Сам спроси Зоню или Агату.
– Во имя Отца и Сына…
– А ты, Прокоп, к Богу-то не взывай, – сердито прибавил Антоний, – потому что все болтают, что несчастья с твоими детьми – это наказание Божье за то зло, что ты брату причинил…
– Кто так говорит?! – рассвирепел старик.
– Кто, кто… Да все. Вся округа. А если тебе уж так интересно, то и сын твой то же самое говорит. «Почему, – жалуется он, – я страдать должен, навечно калекой сделаться за грехи отца?..»
Наступила тишина. Прокоп опустил голову и сидел, точно окаменевший.
Его длинные седые волосы и борода чуть колыхались от ветра.
– Господи, помилуй мя, помилуй мя, Господи, – тихо шептал он.
Антонию сделалось крайне неловко. Ведь он бросил в лицо этому бедному старику самое страшное обвинение, причинил ему боль. Желая как-то смягчить свои слова, он снова заговорил:
– Что люди болтают, это, конечно, выдумка… Никому не может быть ведом приговор Божий. А Василь молодой и еще глупый. Я вот не верю в эти россказни.
Старик не шевельнулся.
– Я не верю, – продолжал работник. – А лучшее тому доказательство – что твоего сына можно вылечить, и я его вылечу. Подумай, Прокоп, я ведь тебе только добра желаю, потому как знаю, что и ты мне зла не желаешь. Сам посуди, что будет, когда наперекор всем сплетням Василь выздоровеет, начнет ходить, как все люди, работать станет? Будет кому мельницу после себя оставить, а на старости лет родной человек будет для тебя опорой, заботой окружит… Подумай, разве не заткнутся все эти болтуны, когда увидят здорового Василя?
Мукомол тяжело поднялся с чурбана и посмотрел на Антония. В глазах его поблескивали тревожные искорки.
– Слушай, а ты поклянешься мне, что парень не помрет?
– Поклянусь, – серьезно ответил тот.
– Тогда пошли.
Мельник молча двинулся вперед. Заглянул в комнаты, там никого не было. В углу перед иконой трепетал маленький огонек лампады.
Прокоп снял икону с гвоздя, торжественно поднял ее над головой и сказал:
– Святой Пречистой Девой…
– Святой Пречистой Девой, – повторил Антоний.
– Христом Спасителем…
– Христом Спасителем…
– Клянусь.
– Клянусь. – И для подтверждения клятвы повторил: – Клянусь. – А затем поцеловал образ, который ему поднес Прокоп.
Все должно было происходить в полной тайне. Прокоп Мукомол не хотел, чтобы из-за разговоров об операции в округе опять ожили все слухи про изгнанного брата и про Божью кару, которая должна была постигнуть его потомство. Несмотря на клятву Антония Косибы и исключительное доверие, которое Прокоп питал к нему, он все-таки должен был учитывать возможность смерти сына.
Поэтому даже самым близким Прокоп ничего толком не сказал. На следующий день, как и задумал Антоний, бабы тщательно прибрались в пристройке. Там затопили печь, поставили бадью с водой и две самые большие кастрюли, а затем перенесли туда кровати Василя и Антония.
Бабам и второму работнику Прокоп только и сказал:
– Антоний знает способ лечения, вот и будет лечить Василька.
Между тем Антоний подобрал себе среди инструментов молоток и небольшую пилу, которую до белизны вычистил дробленым кирпичом и приделал к ней ручку. Потом нашел долото и два ножа. Все это он долго точил, а поскольку делал он это в кладовке, никто не мог за ним подсматривать. Никто не видел и то, как он выстругал две вогнутые дощечки.
Старый Прокоп с самого утра отправился в местечко, а вернувшись, занес Антонию в пристройку какие-то свертки. Это были вата и йод. А перевязочный материал Косиба изготовил сам из двух простыней.
Вечером в пристройку перенесли Василя, и они провели эту ночь вдвоем. Пристройка состояла из одного большого помещения с тремя окнами и темной нишей-альковом. Василю поставили кровать в комнате. Альков занял Антоний. Как и в домашней кухне, тут вдоль стены стояли лавки, а в углу – большой стол.
Василь никак не мог заснуть. Все время расспрашивал Антония о разных деталях предстоящего.
– Да спи ты уже, – оборвал его наконец Антоний. – Что ж ты, как баба, боли боишься?!
– Да я не боли боюсь. Где уж там. Сам увидишь. Я и не пискну. Только о том и прошу тебя, чтоб ты на боль не обращал внимания. Я вытерплю. Лишь бы получилось все.
– Все будет хорошо.
На рассвете мельница заработала как обычно. С той только разницей, что обе молодые женщины вынуждены были помогать вместо Антония.
– Что ж это у тебя, Прокоп, – подшучивали мужики, – на бабах мельница крутится?
Но Прокоп на шутки не отвечал. Его занимали совсем другие мысли. Он делал свое дело, а про себя беспрерывно молился.
Между тем солнце уже поднялось над застилавшей горизонт дымкой и залило весь мир теплым светом. В пристройке стало совсем светло.
Антоний уже давно встал и возился с подготовкой к операции, что-то бормоча себе под нос. Василь молчал, неотрывно наблюдая за ним. Этот бородатый великан казался ему совершенно исключительным человеком, таинственным и опасным. В его поведении, в торопливости, сменявшейся внезапной недолгой задумчивостью, в мимолетных улыбках и нахмуренных бровях было что-то такое, что вызывало суеверный страх. Василь знал, что сейчас сюда никто не придет, а значит, он полностью во власти этого человека. Знал он и то, что теперь уже никакие просьбы не помогут, что Антоний ни за что не отступит от задуманного. Может, Василь и позвал бы на помощь, но даже на это его не хватило. Он только смотрел, словно зачарованный, на непонятные действия Антония, на то, как тот побросал разные инструменты в кипящую воду, как завернул их в простыни, как положил на табуретке свернутые бинты… как достал откуда-то веревки…
Василек подумал, что так, должно быть, выглядит палач, который готовится пытать преступника. Тем более изумился он, когда вдруг услышал над собой теплый и сердечный голос, так отличавшийся от обычной манеры Антония в разговорах.
Антоний наклонился над ним и произнес ласково и доброжелательно:
– Ну, приятель, смелее, по-мужски! Придется потерпеть, если хочешь снова быть справным, ловким парнем. Все будет хорошо. Давай, обопрись на меня.
Он взял калеку на руки и положил его на стол.
– Видишь ли, – продолжал Косиба, – я знаю, что ты смелый, что стиснешь зубы и даже не пикнешь. Но все-таки ты можешь невольно вздрогнуть, поэтому я должен тебя привязать. Потому что малейшая твоя дрожь может всю мою работу испортить.
– Вяжи, – прошептал Василь.
– И не смотри сюда. Поглядывай на потолок или вон через окошко на облачка в небе.
Этот спокойный голос принес облегчение издерганным нервам Василя. Он чувствовал, как плотно обвивают его шнуры; теперь он был так крепко привязан к столу, что даже пошевелиться не мог. Покосившись в сторону, он еще заметил, как Антоний высоко закатал рукава и долго мыл руки в горячей воде, над которой поднимался парок.
Потом звякнули инструменты, еще секунда – и он почувствовал точно быстрое прикосновение раскаленной проволоки к правой ноге. И еще два раза!.. Боль становилась все сильнее. Василь изо всех сил сжал челюсти, на глазах у него выступили слезы. Ему казалось, что прошло уже много часов, а боль все нарастала… Наконец сквозь стиснутые зубы его прорвался сдавленный, длинный вой:
– А-а-а-а-а…
Вдруг на изболевшуюся ногу обрушился сильный удар. Боль оказалось столь страшной, что огнем пронзила его до мозга костей, мышцы свело в смертельной судороге. Перед глазами закружились серебристые точки.
«Умираю», – подумал Василь и провалился в обморок.
Когда же он снова пришел в себя, первым его ощущением был вкус водки во рту. Он чувствовал себя бесконечно слабым. Не мог даже веки приподнять, не понимал, где находится и что с ним случилось. Потом уловил запах табачного дыма и различил шепот. Разговаривали двое. Да, он узнал голоса отца и Антония.
С трудом разлепил веки. Вскоре глаза его привыкли к свету. Напротив на лавке сидел отец и внимательно на него смотрел. Рядом стоял Антоний.
– Глаза открыл, – сказал отец. – Сынок… Василек! Бог милосерден к нам, грешным! Да святится имя Его ныне присно и во веки веков! Сыночек, жив ли ты? Жив?..
– Отчего ж ему не жить, – усмехнувшись, произнес Антоний и подошел к кровати. – Жив и должен выздороветь.
– Это ты мне ноги складывал? – шепотом спросил Василь.
– А как же. И все хорошо получилось. Перелом у тебя был страшный, а тот доктор еще больше все напортил. Но теперь можешь лежать спокойно. Все должно срастись правильно.
– И я буду… буду ходить?..
– Будешь.
– Как все?
– Точно так же.
Веки Василя снова опустились.
– Заснул, – пояснил Антоний. – Пусть спит. Сон придает сил.
Глава 7
Уже через неделю у Василя спала горячка и к нему вернулся аппетит. Вместе с появлением надежды у парня теперь и настроение изменилось. Во время перевязок он кривился от боли, но шутил. Антоний сам ухаживал за ним, а когда на мельнице бывало слишком много работы, за больным приглядывали женщины.
Нельзя было скрыть от них тайну, и поэтому, наверное, весть об операции разошлась по всей округе. То один, то другой знакомец или приятель Василя заглядывал к нему по дороге, чтобы перекинуться парой слов. И любопытствующие бабы приходили, чтобы выведать всю подноготную, надо же им было о чем-то сплетничать. Только Антония все избегали, и если замечали его в комнате больного, то сразу исчезали. Так прошли октябрь, ноябрь, декабрь. В сочельник Рождества Василь стал просить Антония, чтоб тот позволил ему хотя бы попробовать. Но тот только грозно рыкнул:
– Лежи и даже не думай повязок касаться! Я сам скажу, когда можно будет!
И только под конец января он заявил, что пора снимать повязки. При этом хотела присутствовать вся семья, но Антоний никого не впустил. И сам был так взволнован, что у него руки дрожали, когда он бинты разматывал.
Ноги Василя похудели еще сильнее, мышцы на них стали более дряблыми. Но рубцы хорошо зажили, и, что самое важное, исчезли опухоли и искривления.
Антоний осторожно, дюйм за дюймом ощупывал кости сквозь тонкую кожу. При этом он закрыл глаза, точно зрение ему мешало. Наконец вздохнул с облегчением и буркнул:
– Пошевели пальцами… А теперь осторожно ступнями… Болит?..
– Нет, не больно, – задыхаясь от возбуждения, ответил Василь.
– А теперь попробуй согнуть колени…
– Боюсь.
– Ну же, смелей!
Василь исполнил приказ и со слезами на глазах посмотрел на Антония.
– Получилось! Я могу сгибать!
– Подожди только, потихоньку, не надо торопиться. Чуть-чуть приподними эту ногу… вот, а теперь другую…
С усилием, дрожа от волнения всем телом, Василий проделывал те движение, которые ему велели.
– А теперь укройся и лежи. Неделю еще полежишь. Потом начнешь вставать.
– Антоний!
– Что?
– Значит… значит… я… смогу ходить?
– Так же, как и я. Но не сразу. Тебе надо будет заново учиться. Поначалу ты, как дитя малое, не сможешь на ногах устоять.
И это было правдой. Только через две недели после того, как повязки были сняты, Василь смог обойти комнату без палочки. Вот тогда Антоний и созвал в пристройку всю семью. Пришли Прокоп и Агата, а также обе молодые женщины и маленькая Наталка.
Василь сидел на кровати полностью одетый и ждал. Когда все собрались, он поднялся и обошел комнату медленным и слабым, но ровным шагом. Остановился посередине комнаты и рассмеялся.
И тут женщины разразились таким плачем и причитаниями, точно случилось величайшее несчастье. Агата обняла сына, трясясь и дрожа от всхлипываний. У старого Прокопа, стоявшего неподвижно, по усам и бороде текли слезы.
Женщины продолжали попеременно смеяться и плакать, а Прокоп кивнул Антонию.
– Иди за мной.
Они вышли из пристройки, обошли дом и вошли в сени.
– Давай свою шапку, – велел Прокоп. Взял ее и скрылся за дверью комнат.
Его не было минут десять. Вдруг дверь открылась. Прокоп нес шапку, держа ее обеими руками. И протянул ее Антонию.
– Вот, бери! Это настоящие царские империалы. Тебе хватит до конца жизни. Того добра, что ты для меня сделал, никакими деньгами не оплатить, но что могу, то и даю. Бери!
Антоний посмотрел на него, потом на шапку: она была почти до краев наполнена маленькими золотыми монетками.
– Да ты чего, Прокоп? – Антоний даже отступил на шаг назад. – Что ты? Разум потерял, что ли?
– Бери, – повторил Мукомол.
– Да зачем мне это?! Совсем не нужно. Успокойся, Прокоп. Разве ж я ради денег?.. Я ж от чистого сердца, в благодарность за твою доброту и ласку! Да и паренька мне жаль было.
– Бери.
– Не возьму, – решительно ответил Антоний.
– Почему?..
– Да мне богатство ни к чему. Не возьму.
– Я ж от сердца даю, бог мне свидетель, что от чистого сердца. И не жалею.
– А я тебя от всего сердца благодарю. Благодарю, Прокоп, за твою добрую волю, только мне денег не надо. Хлеб у меня есть, на табак и одежду себе заработаю, так зачем мне это?!
Мукомол с минуту размышлял.
– Я тебе даю, а ты не берешь, – сказал он наконец. – Твое дело. Ясно же, что силой я тебе этих денег не впихну. Но и тебе так нельзя! Что ж ты отказываешься от моей благодарности? Или ты хочешь, чтоб люди мне стыдом глаза кололи, что я тебе за такое великое дело ничем не отплатил?.. Нельзя так, не по-христиански это, не по-людски так поступать. Не хочешь золотом, так возьми хоть чем-то другим. Будь моим гостем. Живи с нами как родной. Если захочешь иногда помочь мне на мельнице или по хозяйству, то помогай. А нет – так и не надо. Живи, как у отца родного.
Антоний кивнул.
– Мне хорошо у тебя, Прокоп, и я останусь. А вот хлеб даром есть не стану, пока здоровья и сил хватает, от работы не откажусь, да и что за жизнь без работы? А тебя за доброе сердце благодарю.
Больше они об этом деле не заговаривали, и все осталось по-старому. Только за столом мать Агата ставила теперь Антонию отдельную миску и сама выбирала для него лучшие куски.
В ближайшую пятницу, когда на мельнице бывало больше всего народу, Василь вышел на двор в новом коротком кожушке, в высокой каракулевой шапке и в высоких сапогах с лакированными голенищами. И на глазах всего честного народа прошелся как ни в чем не бывало. Мужики, открыв рот, молчали и только один другого в бок локтями пихали, потому как никто поверить не мог, что бабы, оказывается, правду говорили, будто работник Прокопа Мукомола, некий Косиба, пришедший издалека, чудом избавил Василя от увечья.
Известие о выздоровлении Василя так же быстро распространилось в округе, как раньше известие о его несчастье. Об этом говорили в Бернатах и Радолишках, в Викунах и Нескупой, в Поберезье и Гумнишках. А уж оттуда вести расходились еще дальше, аж до самых усадеб Ромейков и Кунцевичей, до больших сел над Ручейницей и даже еще дальше. Там, правда, людей это меньше интересовало, потому что далеко было, но вот поблизости о необычном выздоровлении на мельнице все помнили.
И поэтому, когда под конец февраля на вырубке в Чумском лесе упавшая береза придавила Федорчука, мужика из Нескупой, соседи присоветовали вести его прямо на мельницу, к Антонию Косибе. Довезли его туда почти уже бездыханного. У него шла горлом кровь, и даже стонать он уже не мог.
Когда сани, которые тянула маленькая пузатая лошаденка, остановились у мельницы, Антоний как раз тащил в амбар мешок с отрубями.
– Спасай, брат, – обратился к нему один из староверов. – Соседа нашего деревом придавило. Четверо детей малых круглыми сиротами останутся, потому как мать их в прошлом году похоронили.
Вышел и Прокоп, а мужики – к нему, чтоб вступился за них.
– Твоего сына вылечил, так пусть и Федорчука спасет.
– Не мое это дело, люди добрые, – серьезно ответил Прокоп. – Ни запретить ему не могу, ни приказать. Это его выбор.
Тем временем Антоний отряхнул с ладоней муку и опустился на колени около саней.
– Осторожно поднимите его, – сказал он вскоре, – и несите за мной.
После выздоровления Василя Антоний так и остался жить в пристройке. Там ему было удобнее, а она все равно пустовала. Туда и занесли Федорчука.
Антоний до самого вечера возился с ним, а вечером пошел в то помещение, где дожидались мужики из Нескупой.
– Слава богу, – сказал им Антоний, – ваш сосед – мужик крепкий, да и хребет у него не пострадал. Только шесть ребер сломано и ключица. Отвезите его домой и пусть полежит, пока не перестанет кровью харкать. Если только захочется ему кашлять, пусть лед глотает. Горячего ему ничего не давать. А еще пусть даже не пробует двигать левой рукой. Заживет. Дней через десять пусть его кто-то привезет ко мне, я сам посмотрю и проверю.
– А не помрет?
– Я не пророк, – пожав плечами, ответил Антоний, – но думаю, что, если все сделаете так, как я велел, он выживет.
Мужики забрали Федорчука и уехали. Но не прошло и десяти дней, как из той же Нескупой привезли нового пациента. Работник одного из хозяев рубил лед на реке и, поскользнувшись, развалил себе топором ступню до самой щиколотки. То ли топор был ржавый, то ли с лаптя какая-то гадость в рану попала, только нога прямо на глазах стала чернеть. Сам раненый понимал, что это гангрена.
Антоний только головой покачал да буркнул:
– Я уж тут ничем не помогу. Пропала нога.
– Так хоть жизнь спасай! – умолял бедолага.
– Ногу надо отрезать вот тут, в этом месте, – угрюмо произнес Антоний и показал над коленом. – Останешься калекой на всю жизнь и еще меня проклинать будешь. Станешь говорить, будто был какой-то способ спасти ногу, да я не смог.
– Клянусь тебе, брат, только жизнь спаси. Я ж сам вижу эти черные пятна. Гангрена.
– Как хочешь, – согласился Антоний, немного поразмыслив.
Операция была чрезвычайно болезненной и так ослабила больного, что в течение ближайших нескольких дней и речи не могло быть о том, чтобы везти его домой. Однако жизни его уже ничто не угрожало.
После этих случаев слава Антония Косибы еще больше выросла. К нему чуть ли не ежедневно стали приходить больные с разными хворями. У одного глаза стали гноиться так, что света божьего не видел, у другого в костях ломота, третий жаловался на колики, иных кашель душил. Бывали и такие, которые сами не ведали, что с ними происходит, просто слабость одолела и все.
Антоний помогал не всем. Некоторых сразу отсылал, говорил, что на их недуг лекарства нет. А другим давал разные советы: то мешок с горячим песком к животу прикладывать, то не сыпать в еду соли и мяса не есть, а то пить отвары разных трав. И как-то так выходило, что к тем, кто от него с советом выходил, возвращалось здоровье: если и не совсем, то хоть какое-то облегчение в своих страданиях человек получал.
В округе той было несколько знахарей. В Печках, у графа Зантофта, старый знахарь-овчар умел заговаривать рожу и зубную боль, да и в других болезнях кое-как разбирался. Одна целительница, бабка Белякова из поселения Новые Выселки, помогала с лишаем справиться и благополучно родить; ризничий в Радолишках глистов выгонял и мог кровь останавливать. Но все они приказывали молитвы творить или произносить таинственные заклинания, всякие знаки над больными проделывали или вручали им амулеты.
А вот новый знахарь, с мельницы, ничего такого не делал. Посмотрит, порасспросит, пощупает, походит по комнате, точно обезумев, яростно потирая свой лоб и глазами вращая, а потом вдруг сразу и говорит, как немочь лечить следует.
В округе много спорили, который знахарь лучше лечит. Но в одном Косиба, безусловно, превосходил всех прочих: он не брал денег. Когда же приносили брусок масла, курицу, кошелку бобов, свиток домашнего полотна или кусок шерсти, то принимал подношение, коротко благодаря, если же ничего не приносили – все равно точно так же лечил. Иногда он раздавал кое-что самым бедным, а остальное оседало в Мукомоловой кладовой. Самому Антонию не много надо было на его личные нужды: только бы хватало на курево, на пару юфтевых сапог и на кое-какую одежонку. Но на это довольно было и его заработка на мельнице, потому как он отнюдь не забросил этой работы, хотя Прокоп – из благодарности за сына и за то, что Антоний отдавал в семью, – сам его уговаривал оставить это дело.
А между тем количество пациентов росло. Случались уже и такие дни, когда знахарь и часа не мог урвать для работы на мельнице. Под его дверью стояло по десять, а то и больше фурманок с тяжелыми больными. Те, что еще были в силах, приходили пешком, если только не прибывали они совсем издалека, что тоже бывало нередко.
В чулане, в сенях и в самой комнате по углам росли целые груды подношений, потому как мать Агата соглашалась брать только съестное, а полотно, лен, шерсть, кожи бараньи и телячьи, а прежде всего травы – только до этих последних и был жаден Антоний – так и лежали кучами.
– Мусора тут у тебя, как в курятнике, – говорила широкобедрая Зоня, упираясь руками в бока, – а всякого добра, как у жида за печкой. Сказал бы, я и прибраться могу… Тут тебе и полы надо бы выскрести…
– Да ладно, пусть, – отмахивался он. – Мне и так хорошо.
– Да и окна вымыть стоило бы, – прибавляла она.
– Обойдется…
– Мужчина без женской заботы – все равно что сад без ограды.
Антоний отмалчивался, надеясь, что если не ответит, то Зоня, как обычно, постоит, постоит, а потом подхватится и уйдет. Она ему даже нравилась, он ценил ее доброжелательность, но предпочитал все-таки жить в одиночестве.
Однако на сей раз Зоня не уступала.
– Мужик ты умелый да расторопный. Только вот выгоду свою соблюсти не умеешь. Тебе бы только захотеть – ого-го какие богатства мог бы накопить. К тебе столько народу ходит. Помогать больным – дело христианское, оно верно, если бедный – так и задарма можно, но во мне аж все внутренности переворачиваются, когда ты от такого богача, как, к примеру, Дулейко из Бернатов, только один полушубок и взял. Да он бы тебе и корову дал, если б ты попросил. Большие деньги мог бы собрать.
– Не нужны мне деньги. – Антоний пожал плечами. – Я и так не голодаю, да и нет у меня никого, для кого копить надо было бы.
– А это уж твоя вина.
– Что ты имеешь в виду?
– А то, что нет у тебя для кого копить. Тебе свою бабу иметь следует. И детей.
– Стар я уже для этого, – уклончиво буркнул он.
Зоня улыбнулась во весь рот.
– Вот уж сказал, старый. Да не одна баба за тебя в охотку пошла бы.
– Обойдется.
– Да вот и я пошла бы. Правду говорю. Пошла бы.
Антоний быстро отвернулся от нее и проворчал:
– Оставь ты эти глупости.
– А почему ж это глупости?.. Не бойся. Месяца не проходит, чтоб ко мне кто-нибудь не сватался. Не такая уж я распоследняя, хоть и вдова. В прошлое воскресенье сам видал, как приехали из Вицкунов старый Баран и садовник Сивек. Хотели посватать меня за молодого Мишчонка. А я – ни в какую, хоть он и помоложе меня будет, и хороший кусок земли в наследство от отца получит. А я – ни в какую. Не такого мужа мне надобно. А вот за тебя пошла бы – только словечко скажи. И знай, сам Прокоп тоже рад был бы…
– Какое уж мне жениться, Зоня…
– Не нравлюсь я тебе?
– Не о том речь. Мне ни одна женщина не нравится, потому что не подхожу я для семейной жизни.
– А это еще почему?
– Уж так вышло.
– Но ведь нужна ж тебе баба. Или нет?
– Нет, не нужна.
– Ну так чтоб тебя холера одолела! – неожиданно взорвалась Зоня. – Чтоб ты на горушке стал и солнца не увидел! Чтоб тебя трясучка измучила! Чтоб ты в воде сидел и от жажды терпел! Только посмотри на него! Нашелся один такой бесчувственный!.. Или упертый?! Ну ладно! Я ужо запомню тебе это! Тьфу!
И она, в ярости хлопнув дверью, вылетела из пристройки с раскрасневшимся от злости лицом. Только уже на следующее утро от ее гнева и следа не осталось. Снова она старательно подливала ему супа, чай подавала крепче, чем другим, и улыбалась, открывая ровные белые зубы.
Кроме Зони, никто из семьи мельника в пристройку к Антонию не заглядывал, за исключением, конечно же, маленькой Наталки. Зато Наталка готова была там дневать и ночевать, если б ей только позволили. Она очень привязалась к Антонию.
Однажды она ему заявила:
– Тетка Зоня с каждым разом все больше наряжаться стала. Вчера на ярмарке купила себе кофту красную. И мыло пахучее. И ботиночки на таких высоких каблучках…
– Ну и хорошо.
– Только я знаю, ради кого она наряжается.
– Так она женщина, а женщины любят это дело.
– Нет, – покрутила головой Наталка, – она это делает, потому что хочет за тебя выйти.
– Не болтай глупостей, – одернул он девочку.
– Так это не я, это Виталис говорил. И бабушка тоже.
– Глупости они говорят.
Девочка захлопала в ладоши.
– Правда?.. Правда?..
– Ну конечно же, это глупости. А ты чего радуешься?
– А я знаю, почему ты не хочешь тетки Зони. Ты на мне женишься, когда я вырасту.
– Ну, это наверняка. – Он погладил ее по волосам и улыбнулся.
– Точно женишься?
– Как только вырастешь.
Только с ней Антоний любил разговаривать и только ей иногда улыбался. От всего сердца полюбил он Наталку. А когда у нее случались приступы падучей, он очень тревожился и всякий раз наказывал себе весной сразу же выбраться в лес, чтобы набрать там трав, с помощью которых можно было вылечить девочку. По всей округе, где для себя или на продажу люди собирали ромашку, валерьяну, мяту, липовый цвет, пижму, белянку, спорынью, березовый лист, головки мака-самосейки, дудник, полынь, подорожник, волчьи ягоды, чабрец, черную розу и множество других трав, только одно-единственное растение он никак не мог найти. Названия травки он никак не мог припомнить, и хотя подробно описывал, как выглядит это растеньице с маленьким острыми листочками, но никто не мог сообразить, как оно называется, и сказать, растет ли в местных лесах.
Однажды Антоний отправился в аптеку в Радолишках в надежде, что там отыщет это средство. Однако аптекарь, потеряв терпение из-за длинных объяснений и не догадавшись, о какой траве ему толкуют, просто выставил Антония за дверь. Сделал он это весьма охотно, ведь чем больше знахарей водилось поблизости городка, тем меньший был оборот в аптеке. Успех, которым пользовался этот знахарь с ближайшей мельницы, колол глаза и местному доктору Павлицкому, и аптекарю. А про успех Антония молва шла весьма широкая и лишала их пациентов даже из самого городка.
Когда во время весенней оттепели люди стали чаще болеть, а у доктора Павлицкого пациентов больше не стало, он посоветовался с аптекарем и решил действовать. Написал пространное донесение старосте и уездному врачу, жалуясь на все увеличивающееся количество знахарей, а также попросил предпринять какие-то официальные шаги относительно этого. Но администрация работала медленно и ответ все не приходил. Между тем произошел еще один случай, который буквально привел доктора Павлицкого в бешенство. Однажды прислали за ним лошадей из Ключева. Барин из Ключева, господин Киякович, страдал от камней в почках и часто вызывал к себе врача. Бричка из Ключева обычно приезжала очень рано. И бывало это следствием давно известной цепочки событий. Господин Киякович вечером приглашал соседей на бридж и не мог удержаться и не опрокинуть за игрой пары стаканчиков, а ночью неизбежный, как аминь в конце молитвы, приходил приступ, и на рассвете кучер Игнаций на паре самых быстрых гнедых отправлялся за доктором.
На сей же раз он явился только во второй половине дня. Посему доктор Павлицкий, уже усевшись в бричку, начал выпытывать, как так вышло. Добродушный Игнаций, видимо, особо не задумываясь, кому и что он говорит, а может, желая сделать назло доктору, всегда забывавшему про чаевые, рассказал все честно. Оказалось, что его послали, как и всегда, на рассвете, только не за господином доктором, а к тому знахарю, Антонию Косибе, который у мельника под местечком живет.
– Как это? – возмутился доктор. – Тебя за знахарем послали?
– А за знахарем.
– Видно, господину Кияковичу на тот свет попасть невтерпеж.
– Да не так, чтобы невтерпеж. Только говорят, что уж если тот знахарь берется лечить, то любую немочь как рукой снимает.
Лекарь рассвирепел:
– Что за темнота! Беспросветная темнота! Неужели вы не понимаете, что довериться обычному дурню, который не только о медицине, но даже и об анатомии никакого понятия иметь не может, это просто опасно для жизни больного?
– Мы-то все понимаем, – пробормотал кучер.
– Я вот сейчас объясню тебе. Допустим, заболел у тебя лучший конь. К кому ты обратишься? К ветеринару или к первому попавшемуся дураку, который не отличит, где у коня хвост, а где голова?
Игнаций рассмеялся.
– Да кто ж это различить не сумеет… И чего это ради я допущу, чтоб у меня конь заболел?.. Если лошадь хорошая и ты заботишься о ней, то какие там немочи к ней пристать могут? Не сглазить бы только.
Доктор Павлицкий лишь рукой махнул, но вскоре, однако, заговорил снова:
– Вот видишь, у тебя ж хватило разума за мной приехать, а не к знахарю.
– А что мне оставалось делать? Вернись я с пустой бричкой, так господин барин дал бы мне по мордасам. Вот я и рассудил: если тот не желает, так поеду хоть за господином доктором.
– Кто это не желает?
– Да этот… знахарь Мукомолов.
– Как это не желает?
– Так не захотел он поехать. У меня, грит, времени нет к вашим барам кататься. Не видишь, что ли, грит, сколько больных дожидается?.. Он так сказал, а я смотрю: и правда, куча народу. Точно на рынке в четверг. Тогда я ему толкую, что барин, мол, заплатит ему больше, чем все они тут вместе взятые, только бы помог ему, известное дело. Так он в ответ: если барин заболел, пусть приедет сюда, как и другие. А деньги мне ни к чему… Что мне оставалось делать?.. Развернул я бричку, вот и весь сказ. Я ж и сам знаю, что он денег не берет.
– Но продукты-то берет, – настаивал Павлицкий.
– Нет, продукт тоже не берет! Вот масло, яйца или там колбаски. Он не жадный.
Врач только челюсти сжал. А приехав в усадьбу, даже не стал упрекать господина Кияковича, но на обратном пути велел Игнацию свернуть к мельнице.
Перед мельницей, а точнее, на дворе около пристройки, стояло с полтора десятка телег и фурманок. Распряженные кони флегматично жевали сено. На возах лежали больные. Семь или восемь мужиков, сидевшие на бревнах у хлева, курили папиросы.
– Где этот… знахарь? – обратился к ним доктор Павлицкий.
Один из мужиков встал и указал рукой на дверь.
– А в избе, господин!..
Врач выскочил из брички и толкнул дверь. Уже в сенях ударил ему в нос неприятный запах юфтевой кожи, дегтя и квашеной капусты. В комнате же духота была совсем невыносимой. В углах навалены горы всякого барахла, а пол, стекла в окнах и всю мебель покрывал слой грязи… Лекарь в своих ожиданиях не обманулся. У стены сидела баба с явными симптомами желтухи. Огромный плечистый бородач с седеющими волосами стоял, наклонившись над столом, и смешивал какие-то сушеные травы на грязном платке.
– Это ты – знахарь? – резким тоном спросил доктор Павлицкий.
– Я работник на мельнице, – коротко ответил Антоний, окинув пришедшего неприязненным взглядом.
– А лечить смелости хватает! Людей травишь! Ты знаешь, что за это преступление судить могут?
– Чего вам надо и кто вы такой? – спокойно спросил знахарь.
– Я врач, доктор медицины. И даже не думай, что я буду смотреть сквозь пальцы, как ты народ травишь.
Знахарь закончил готовить травы, завернул их в платок и, подавая сверточек женщине, сказал:
– Две щепотки на четверть литра воды, как я и говорил. И пить горячим. Половину натощак, а половину вечером. Поняла?
– Поняла.
– Ну, тогда с богом.
Бабка поблагодарила и, постанывая, вышла. Знахарь сел на лавку и обратился к лекарю:
– Так кого ж это я отравил, господин доктор?
– Всех травишь!
– Неправда ваша. Ни один еще не умер.
– Не умер? Так еще умрет. Ты постепенно отравляешь их организмы. Это преступление! Понимаешь? Преступление! И я этого не допущу! Я просто не имею права терпеть такое. В такой грязи, в такой вони! Да только на руках твоих больше бактерий, чем в целой инфекционной больнице.
Он с отвращением огляделся по сторонам.
– И помни, что я тебе сказал: если не прекратишь свою преступную практику, я тебя в тюрьму посажу!
Знахарь едва заметно повел плечом.
– Ну что я могу сказать? Я ничего плохого не делаю. А что до тюрьмы… Так и в тюрьме, чай, люди сидят, не псы. Только лучше бы вы, господин доктор, не сердились так на меня.
– Я только предупреждаю пока! И советую прекратить. Настоятельно советую.
Погрозил пальцем и вышел. Он с наслаждением вдохнул свежий воздух. Игнаций, не слезая с козел, насмешливо посмотрел на него. Доктор Павлицкий уже уселся в бричку, когда на пороге мельницы заметил Василя, своего давнего пациента. Видно, Василь там дожидался доктора, потому что поклонился ему и подошел к бричке.
– Добрый день, господин доктор.
Шел он уверенным шагом, а теперь остановился, гордо выпрямившись. Стоял и смотрел доктору в глаза.
– Видите, господин доктор, а я выздоровел, – хвастливо произнес он. – Слава богу, совсем выздоровел. Антоний вылечил. А вы, господин доктор, говорили, что никакой надежды у меня нет. Вы хотели меня до конца жизни калекой оставить.
– И каким же образом он тебя вылечил? – с нескрываемым возмущением спросил лекарь.
– А он сразу понял, что кости были неправильно сложены. Так он их заново поломал и снова сложил. Теперь я даже танцевать могу.
– Ну… ну, тогда поздравляю, – буркнул врач и обратился к кучеру: – Поехали!
Всю дорогу его терзали недобрые мысли. Когда он вернулся домой, все уже отобедали. Однако семья снова собралась за столом, чтобы составить ему компанию во время еды. Он быстро глотал пересушенное жаркое, стараясь не выдать, что ему невкусно. Старая Марцыся, которая тридцать лет назад учила его ходить, в замешательстве суетилась вокруг стола. Отец с тоской поглядывал на газету, которую ему начала читать Камила. Три недели назад он разбил свои очки, а на новые все не находилось денег. На Камилке было порыжевшее платье, в котором она выглядела жалкой и постаревшей, мать пробовала за милой улыбкой скрыть выражение страдания, застывшее на ее лице. Месяц грязевых ванн вернул бы ей здоровье на долгое время.
«Боже мой, – думал доктор Павлицкий, поедая компот из разваренных яблок. – Я ведь так люблю своих близких, на все готов ради них, но изо дня в день смотреть на их нищету просто невыносимо, это превосходит мои силы».
Ему казалось, что каждый их жест, каждое слово, даже каждый угол этой убогой квартирки горько попрекают его. Сколько же надежд близкие связывали с его будущим, с практикой, с доходами от нее! И вот уже год они сидят в этой богом забытой дыре, а он едва может заработать на весьма скромную жизнь. Если б он сумел вырваться отсюда! Он не боялся тяжелой работы. Поехал бы хоть в Африку или в Гренландию. Так ведь они все тут с голоду помрут. Он чувствовал, знал, что в большом мире ждет его успех, карьера, деньги, и так же хорошо понимал, что никогда не отважится на столь решительный шаг. Он был невольником своих чувств, искренних и глубоких. И эти чувства приковали его к семье, к родителям, к сестре и даже к старой Марцысе. Приковали, точно тяжелые цепи, к маленькому деревянному домику в крошечном нищем городке… И чем глубже погружался он в трясину этого безнадежного существования, тем трогательнее и старательнее скрывал свое отчаяние от близких. И как же он был благодарен им за то, что они тоже ничем не выдавали пережитого разочарования. Но ему причиняли боль даже их мысли, те самые мысли, которые не могли не появляться у них. Таинственным образом они пропитывали все в этом доме, наполняя даже его воздух безнадежной тоской, развеять которую не мог самый искусный притворный смех и громко выраженное удовлетворение.
– Я был у того знахаря, – начал рассказывать Павлицкий. – Сказал ему пару откровенных слов и посоветовал прекратить свою практику.
– А это правда, – спросила Камилка, – что у него так много пациентов?
– Так много? – Он рассмеялся. – Да будь у меня хоть десятая их часть, я бы…
Он оборвал себя на полуслове и прикусил губу.
Мать начала быстро, слишком быстро рассказывать о кошке Басе, которая неведомо куда пропала, о том, что в среду именины у Козлицких, а вот корова ксендза дает исключительно много молока.
Но Павлицкий этого не слышал. В нем все клокотало, кровь стучала в висках. Он вдруг резко, с размахом отодвинул от себя недопитую чашку чая и вскочил.
– А знаете, почему у него больше пациентов? – воскликнул он. – Знаете?..
Павлицкий заметил их обеспокоенные взгляды, но сдержаться уже не мог.
– Потому что он умеет лечить, а я не умею!
– Юрочка! – простонала мать.
– Да! Да! Не умею!
– Да что ж ты такое говоришь!
– Помните того молодого мельника, что поломал себе ноги? Помните?.. Так вот, я неправильно сложил кости. Да, плохо. Не умею я этого делать, а тот знахарь все сделал правильно!
Отец положил руку ему на плечо.
– Успокойся, Юрек. Ведь это ничуть не умаляет твоих достоинств. Ты не хирург. А терапевт не обязан разбираться в… чужой специальности.
Доктор Павлицкий рассмеялся.
– Разумеется! Конечно! Я не хирург. Но ведь и тот знахарь тоже не хирург, черт бы его подрал! Он же обычный мужик! Всего лишь работник мельника!.. Но с меня довольно! Мне все равно! Я не позволю уморить себя голодом. Вот увидите! Увидите, что и я умею бороться!
И он вышел, хлопнув дверью…
Глава 8
В местечке Радолишки, там, где узенькая улочка, носящая гордое имя Наполеона, выходит ко Второму рынку, окрещенному площадью Независимости, стоит двухэтажный домик из красного кирпича, а в нем на первом этаже располагаются четыре магазинчика. Самый большой и богатый из них – угловой, принадлежащий госпоже Михалине Шкопковой. В ее лавочке можно приобрести письменные принадлежности, почтовые и гербовые марки, нитки, ленточки, пуговицы – одним словом, всяческие мелочи, галантерею, а также табак и папиросы.
Когда Косиба приходил в Радолишки, он именно в лавочке госпожи Шкопковой неизменно запасался табаком, гильзами и спичками, а еще покупал шелковые нити.
Сама госпожа Шкопкова редко сидела в магазинчике. Чаще всего она бывала там по четвергам, в ярмарочные дни. Обычно же у нее и дома было полно забот – при четверых-то детях и немалом хозяйстве. А в лавке заменяла ее молодая особа, девушка-сирота, которая за жилье, стол и десять злотых в месяц честно и старательно исполняла обязанности продавщицы.
Госпожа Шкопкова умела оценить и другие ее достоинства, а прежде всего то, что Марыся нравилась покупателям. Они любили ее, потому что девушка всем улыбалась, была вежливой, доброжелательной, а кроме того еще и прелестной. Что там скрывать, многие самые почтенные клиенты только для того и заглядывали в лавку госпожи Шкопковой, чтобы поболтать с Марысей, пошутить, поухаживать за ней. Господин провизор из аптеки, секретарь гмины, племянник ксендза, местные помещики, инженеры с фабрики – никто из них не упустил бы случая заглянуть в магазинчик за пачкой папирос или открыткой.
– А ты, Маришка, будь осторожна, – поучала госпожа Шкопкова. – На первого встречного да на женатых внимания не обращай, но уж если попадется достойный кавалер, которому ты понравишься, так ты с ним по-умному веди себя. Глядишь, и до женитьбы дойдет.
Марыся смеялась:
– У меня еще есть время.
– А у нас, женщин, на такие вещи времени всегда слишком мало. Тебе ведь скоро двадцать лет будет. Самое время! У меня в твоем возрасте уже был трехлетний сын. Главное только – не бери себе в голову первого встречного, но и слишком высоко метить не стоит, а то обожжешься. Слушай, что я тебе говорю!.. Вот, к примеру, тот молодой барин на мотоцикле! Ездить он к тебе ездит, только жениться ему и в голову не придет. Я уж знаю таких! Хорошо знаю! Глазки вверх подводит, за ручку берет, вздыхает, а потом… грех один да и только. Не накличь на себя беду.
– Да что вы говорите! – смеялась Марыся. – У меня и в мыслях ничего такого нет.
– Ну-ну! Его отец – хозяин знатный. Владелец усадьбы и фабрики. Сына на какой-нибудь графинюшке женит. Заруби это себе на носу.
– Да, конечно. Ведь и я к нему ничего не имею. Почему это вы вдруг на него внимание обратили? Если уж мне и нравится кто-то из клиентов, – шутя добавила она, – так я уж скорее пококетничаю с тем старым знахарем с мельницы.
И это было правдой. Косиба и в самом деле нравился Марысе. Прежде всего девушку заинтересовало его ремесло. В городке о нем чудеса рассказывали. Говорили, что стоит ему коснуться больного, хоть бы и умирающего, как тот сразу выздоравливает. А еще болтали, будто он продал душу дьяволу, иные же утверждали, что, наоборот, свои способности он получил от Матери Божьей Остробрамской. Сказывали также, что лечит он даром и знает такие травы, что только выпьешь – и влюбишься в того, кто тебе питье это подал.
А кроме того, знахарь этот всегда был грустным и молчаливым, а глаза у него были такими добрыми.
И вел он себя иначе, нежели прочие простые люди. Не плевал на пол, не ругался, не рылся в товаре. Приходил, снимал шапку, коротко говорил, что ему надо, платил, бормотал:
– Спасибо, девушка. – И выходил.
Так все и шло вплоть до одного мартовского денька, когда неожиданно разразился страшный ливень. Знахарь как раз был в лавочке, когда полило как из ведра.
Он посмотрел в окно и спросил:
– Вы позволите мне переждать тут, пока дождь не перестанет…
– Конечно, прошу вас. Садитесь.
Марыся выбежала из-за прилавка и придвинула ему стул.
– Разве можно идти, когда так льет! – добавила она. – А ведь вам далеко добираться. Промокли бы до нитки, пока до мельницы дошли бы.
Он улыбнулся.
– Так вы, девушка, знаете, что я с мельницы?
– Знаю, – кивнула она. – Вы знахарь. Тут ведь все вас знают. Только вы, кажется, не из наших мест будете, потому что говорите иначе, у вас другой выговор.
– Я издалека, из Королевства.
– Моя мамочка тоже была родом из Королевства.
– Госпожа Шкопкова?
– Да нет, моя мамуля.
– Так вы не дочка хозяйки магазина?
– Нет. Я тут работаю.
– А мамочка ваша где?
– Умерла. Четыре года назад… от чахотки.
На ее глазах появились слезы, а потом она добавила:
– Если б вы тогда уже были в наших местах, может, и вылечили бы ее… Бедная мамочка. Не о такой судьбе для меня она мечтала. Только вы не подумайте, что я жалуюсь. Совсем нет! Госпожа Шкопкова очень добра ко мне. Да и, в конце концов, у меня есть все, что нужно… Разве что книжек маловато и… пианино бы.
– А ваш отец?
– Отец был лесничим, в имении княгини Дубанцевой. В Одринецкой пуще. Ах, как же там было красиво! Отец там и умер. Я тогда еще совсем маленькой была… мы с мамой остались одни. Бедная мамочка вынуждена была тяжело работать. Она зарабатывала шитьем, давала уроки музыки. Мы поначалу жили в Браславе, потом в Швенчанах, а под конец переехали сюда, в Радолишки. Тут мамочка и умерла, а я осталась одна-одинешенька на свете. Обо мне заботился тогдашний ксендз, а когда он уезжал в другой приход, передал заботу обо мне госпоже Шкопковой. На свете много добрых людей. Только мне все-таки очень тяжело, потому что нет никого по-настоящему близкого.
Знахарь покивал в ответ на сетования девушки.
– Я это знаю.
– У вас тоже нет семьи?
– Да, нет.
– Совсем никого из близких?
– Никого.
– Ну, по крайней мере, вас люди любят, потому что вы их спасаете. Это должно приносить вам большую радость, ведь вы помогаете ближним, избавляете их от страданий… Когда человек делает что-то такое, он чувствует себя на самом деле нужным, полезным. Вы только не смейтесь надо мной, но я с детства мечтала стать врачом. Если б мамочка была жива… Я тогда уже подготовилась к экзамену за шестой класс и собиралась ехать в гимназию в Вильно.
Она печально улыбнулась и махнула рукой.
– Ах, да что там говорить…
– Так у вас есть образование?
– Я так хотела бы его иметь. Но теперь уже поздно об этом мечтать. Слава богу, что у меня хотя бы есть кусок хлеба.
На прилавке было разложено какое-то женское рукоделие: салфетка с яркими цветами. Девушка взяла ее и начала вышивать.
– Я ведь даже могу сама себе заработать на платья и всякие мелочи. Видите, я вышиваю. Это для пани[13] Херманович из Пясков.
– Вы хорошо вышиваете.
– Мамочка научила.
Они болтали так еще с полчаса. Когда дождь перестал, знахарь попрощался и ушел. Однако с того дня он все чаще стал заглядывать в лавочку Шкопковой и каждый раз задерживался там за беседой с продавщицей. Он очень полюбил Марысю. Ему было приятно даже просто любоваться девушкой, смотреть на ее живое личико, нежные руки, светлые, гладко зачесанные волосы. Голос у нее был звонкий и чистый, большие голубые глаза по-доброму смотрели на мир. И еще знахарь чувствовал, что он ей тоже нравится.
Работы на мельнице, как обычно по весне, было мало. Начались уже полевые работы, у людей не оставалось времени на болезни и лечение. Потому пациенты не приезжали в таком количестве, как раньше. Вот Антоний и выбирался в городок каждые два-три дня. Он теперь никого не просил сделать для него покупки, что, разумеется, не могло не привлечь внимания семьи Прокопа Мукомола.
– Тянет тебя что-то в Радолишки, – насмешливо говорила Зоня.
– Да что туда может тянуть? – шутил Василь. – Он, верно, к бабе туда ходит.
– Да отстань ты, умник, – нехотя отмахивался от него Антоний.
А поскольку в деревне ничего укрыть невозможно, вскоре все уже знали, что Антоний все время просиживает в лавке госпожи Шкопковой.
– Ну что ж, – пожал плечами Прокоп, когда Зоня сказала ему об этом, – дело житейское. Шкопкова – баба ладная. Не старая еще, и деньги имеются. Из купеческого рода. А ты чего нос суешь, куда тебя не звали?
Однажды на мельницу заехал бродячий торговец. Распаковал он свои тюки, и вся семья столпилась вокруг, стала разглядывать их содержимое. Чего там только не было! И тончайшие фабричные полотна, и цветные ситцы, и кожаные городские сумочки, и браслеты, и разные бусы – целое богатство.
Женщины, пища и задыхаясь от восторга, все рассматривали, примеряли, ощупывали. И азартно торговались, а торговля эта была тем труднее, что торговец готов был брать не только деньгами, но и льном, шерстью, сушеными грибами или медом.
Антоний приглядывался к этому издалека, а затем, когда бабы наконец успокоились, заглянул в тюки. Но копался в них недолго. Выбрал отрез шелка на платье и широкий серебряный браслет с вставленными зелеными стеклышками. За это ему пришлось отдать торговцу несколько мотков льна и приличный рулон шерсти.
Зоня аж зарделась вся, наблюдая за этой покупкой. Она не сомневалась, что это подарок для нее. А вот Ольга уверена была, что Антоний купил все для маленькой Наталки.
Но они обе ошиблись. На следующий день около полудня знахарь отправился в городок со свертком под мышкой. Обе женщины наблюдали за ним через окошко, и Зоня, будучи более горячей по характеру, начала ругаться:
– Для этой старой жабы, для этой коровы! Да чтоб он ноги себе поломал!
Между тем Антоний, целый и невредимый, добрался до местечка. Разглядев через окно, что в магазинчике как раз была какая-то покупательница, он подождал, пока она выйдет, и только тогда вошел сам. Марыся, как всегда, сердечно поздоровалась с ним.
– Какая чудесная погода, дядюшка! Тепло, точно лето уже наступило.
Неизвестно почему она называла его дядей. Просто такое обращение пришло ей в голову. Иные молодые девушки в округе боялись Антония, а она не испытывала рядом с ним никакого страха. Наоборот, верила в его доброту и возмущенно протестовала, когда кто-то намекал, что у знахаря с мельницы сам дьявол в услужении.
– Кто имеет дело со злым духом, – говорила Марыся, – тот приносит людям несчастье и живет нечестно. А о нем никто злого слова сказать не может.
Нет никаких конкретных причин, по которым один человек вдруг начинает испытывать симпатию к другому. Это случается само по себе, из воздуха приходит или еще откуда-то извне. Марыся не знала, почему она полюбила знахаря. Хватало и того, что она радовалась всякий раз, когда он заглядывал в магазинчик. А в тот день она обрадовалась еще больше обычного, потому что у нее была просьба к Антонию.
– Как же хорошо, что вы пришли, дядюшка, – сказала она, улыбнувшись. – Я хотела бы кое-что у вас выудить…
– Как это – выудить?
– Только обещайте, что исполните мою просьбу.
Он погладил бороду и посмотрел ей в глаза.
– Сделаю все, что смогу.
– Огромное спасибо! Тут на Костельной живет одна старушка. Очень бедная. А в последнее время у нее так отекли ноги, что она вообще ходить не может. Она умоляла меня упросить вас, чтоб вы, дядюшка, к ней заглянули и присоветовали что-нибудь.
– Ладно, – улыбнулся он. – Навещу ее, хотя обычно я по домам не хожу. Только уж ничего не делается даром.
– Она очень бедная, – начала было несколько растерявшаяся Марыся.
– А речь не о ней, – прервал ее знахарь. – Но в награду вы должны сделать мне приятное – принять этот гостинец.
С этими словами он положил на прилавок сверток.
– Что это? – удивилась девушка.
– А вы сами посмотрите. Ничего особенного, но вам пригодится.
Она развернула сверток и зарумянилась.
– Материя… И браслет…
– Прошу вас носить это, на здоровье и для украшения.
Она покачала головой.
– Я этого принять не могу. Нет, нет. С какой стати?.. Почему вы мне такие подарки делаете?
– Вы откажетесь? – тихо спросил он.
– Но как же я могу принять от вас такое!.. Да и за что?
– Сделай милость, деточка, прими. Тебе это платьице и безделушка пригодятся, а для меня будет большая радость. Как если б я тебе кусочек сердца поднес. Нельзя такое отталкивать. Это ведь из благодарности. Я так благодарен тебе за то, что с тех пор как стал я к тебе приходить сюда, у меня на душе как-то легче стало.
– Но это, должно быть, – девушка указала на подарок, – дорого стоит!
– Да какое там, – отмахнулся он. – Вы же знаете, мне для себя ничего не надо… То есть это я так до сих пор думал, что мне ничего не надо, а оказалось, что и у меня есть свои причуды и хотения… Вот я и подумал, что надо иметь кого-то на свете, какую-нибудь добрую душу… Человек о ней вспомнит – и ему легче жить становится. Я уже старею. А в старости человека одолевает тоска по теплу. Вот я тебя и полюбил от всего сердца. Ну же, бери! Не очень дорогой это гостинец, зато от всего сердца. Бери! Ты одинока, и я одинок, но мое одиночество горше, потому что я старый. Так позволь мне хоть изредка делать для тебя что-то хорошее.
Девушка была тронута. Она протянула руку и крепко сжала его большие натруженные ладони.
– Спасибо, огромное спасибо, дядюшка. Я этого не заслужила, но я очень благодарна.
Вечером, вернувшись домой, она показала госпоже Шкопковой полученные подарки.
– Какой же он добрый! – говорила девушка. – Кто я ему? Совсем чужая девушка. Мне так стыдно было принимать это, но я знала, что отказ его очень расстроил бы.
– Ну ты погляди! – Госпожа Шкопкова покачала головой. – Только будь осторожна, чтоб твое предсказание не сбылось.
– Какое предсказание?
– А то, что он женится на тебе.
Марыся рассмеялась.
– Да что вы такое говорите! Вот и видно, что вы его совсем не знаете! Он же старый, и ему такие вещи вообще не приходят в голову. А вообще-то, – упрямо закончила она, – он лучше многих здешних молодых.
И слова эти были сказаны почти совсем искренне. А «почти» – потому что все же знала она одного молодого человека, который ей очень нравился. Знакомство это тоже началось в магазинчике, только давно уже, два года назад. Это был молодой господин Чинский, сын владельца имения Людвиково. В течение всего года его не бывало дома. Он учился на инженера. Но лето он неизменно проводил в Людвиково, откуда частенько наведывался в Радолишки. Иногда с родителями на автомобиле или в красивом экипаже, и тогда он только на минуточку заглядывал в лавочку госпожи Шкопковой, а порой приезжал один, верхом или на мотоцикле. И вот тут уже просиживал в магазинчике часами.
Паренек он был бойкий, горячий и очень красивый – во всяком случае такого второго Марыся в жизни не видела. Высокий, стройный, загорелый, с черными как смоль волосами. Только глаза у него были такие же голубые, как у нее, а то бы совсем на цыгана был похож. Очень подвижный, веселый, шумный, молодой Чинский, появляясь в лавке, казалось, заполнял собой все помещение. Смеялся, напевал новые песенки (а пел он очень хорошо!), показывал разные фокусы. Один раз даже на выпрямленных ногах вскочил на прилавок, к вящему огорчению шофера, который как раз приехал за ним.
Но больше всего Марыся любила слушать его рассказы. Он был еще молод, всего на семь лет старше ее, но, боже мой, сколько же он всего повидал, где только не побывал! Кажется, он исколесил всю Европу. Бывал и в Америке, и на разных экзотических островах. И как же хорошо он рассказывал! А ему было что порассказать, потому как из-за его буйного характера с ним вечно происходили какие-то приключения. И он одну за другой вытряхивал перед ней свои истории, точно фокусник из рукава.
Может, она и заподозрила бы, что он только бахвалится и сочиняет, если б о его похождениях не говорили в округе, ибо все соседи знали, сколько хлопот доставляет старому господину Чинскому его сын. Однажды в Радолишках во время ярмарки этот парень въехал верхом в шинок и поссорился там с молодым Жарновским из Велишкова, а потом они дрались на поединке. Другой раз остановил в чистом поле поезд, разложив на рельсах огромный костер. Много анекдотов о нем ходило по уезду. Но все-таки среди них не было ни одного, который принес бы герою стыд или унижение.
Разве что рассказы о его связях с женщинами. Болтали, будто он ни одной юбки не пропустит, будто флиртует с каждой встречной и многие из-за него все глаза выплакали.
Но Марыся этим сплетням не верила. И не верила по двум причинам. Во-первых, ей просто не хотелось им верить, а во-вторых, у нее были на то свои основания. Господин Лешек на женщин вообще не обращал внимания. Она сама это видела. Когда он засиживался в магазине, все местные красавицы наведывались сюда одна за другой. Стоило какой-нибудь из них заметить у лавки его коня или мотоцикл, как девушка, точно сумасшедшая, неслась домой, наряжалась в лучшее свое платье, подкручивала локоны, надевала самую красивую шляпку и приходила якобы за открыткой или бумагой для писем.
А Марыся над этим только посмеивалась, потому что молодой Чинский даже не смотрел на посетительницу.
– Господин Лешек, вы ко мне покупателей привлекаете, – говорила она молодому человеку, когда они снова оставались одни. – Госпожа Шкопкова должна быть вам благодарна.
– Если еще одна появится, я ей язык покажу! – с притворным раздражением грозился он.
И надо же было так случиться, что через пять минут заглянула в лавку жена аптекаря. Разряжена она была так, точно на бал собралась, а уж от ее духов в помещении даже трудно стало дышать. Чинский, недолго думая, принялся за свое; правда, язык он не стал показывать, зато сделал нечто похуже: притворился, будто расчихался от ее парфюма. И уж как начал, так и чихал беспрерывно все время, пока надушенная дама не вылетела из магазина, точно камень из пращи, красная от злости и взбешенная чуть не до потери сознания.
После того случая она возненавидела Марысю и каждый раз, встречая госпожу Шкопкову, заверяла ее, что не потратит в ее магазине и гроша ломаного, пока там будет стоять за прилавком эта омерзительная девка.
Госпоже Шкопковой потеря клиентки не понравилась, она даже отругала Марысю, сама не зная за что, просто так, на всякий случай, но не стала ее прогонять.
А аптекарша, хотя и была уже немолода, но, бесспорно, отличалась красотой. Впрочем, господин Лешек и на молодых внимания не обращал, даже на тех, кто одевался с шиком или происходил из хорошей семьи, как например, дочка дорожного инженера или молодая Павлицкая, сестра доктора. И конечно, Марысе это льстило. Причем тем более льстило, что обычно господин Лешек был страшно самонадеян, и она считала это большим его недостатком. С ней он держал себя просто и весело, а вот по отношению к другим людям был высокомерен и заносчив. Запанибрата разговаривал он только с самыми богатыми местными землевладельцами, а на остальных поглядывал сверху вниз. Часто повторял, что его мать происходит из графской фамилии, а отец – из семьи магнатов и сенаторов и что во всем воеводстве, за исключением Радзивиллов и Тышкевичей, никто не имеет права задирать нос выше, чем Чинские.
Однажды Марыся не выдержала и с насмешливой улыбкой сказала ему:
– Очень забавно смотреть, как такой молодой и знатный господин задирает нос, чтобы произвести впечатление на бедную продавщицу.
Он тут же смутился и дал слово, что у него вовсе и не было такого намерения.
– Панна Марыся, только не подумайте, что я уж такой глупый сноб.
– Я и не думаю так, – холодно ответила она. – Зато я вижу, что вы очень тонко указали на существующую разницу в нашем положении…
– Панна Марыся!..
– …и на ту честь, которую вы мне оказываете, снисходя до того, чтобы тратить свое драгоценное время на беседы с глупенькой и нищей продавщицей из маленького местечка…
– Панна Марыся! Вы ж меня с ума сводите!
– Такого намерения у меня нет. Я обязана быть вежливой с покупателями. И поэтому вынуждена сейчас извиниться перед вами и попросить выйти, потому что мне надо подмести в магазине, а пыль могла бы повредить вашему драгоценному здоровью, не говоря уже о лондонском костюме.
– Так вот вы как! – побледнев, вскричал он.
– Да, вот так.
– Панна Марыся!
– Вам еще что-то завернуть? – Девушка с деланной улыбкой наклонилась над прилавком.
Чинский изо всех сил хлестнул прутиком по сапогу.
– Я сам все заверну, черт побери! Прощайте! Не скоро вы меня тут снова увидите!
– Счастливого пути…
– Проклятие! – выругался он.
Он вылетел из магазина, вскочил в седло и с места пустил лошадь в галоп. Она видела, как он, точно обезумев, пронесся, вздымая клубы пыли, по немощеной площади Независимости.
Марыся села и задумалась. Девушка знала, что поступила правильно, что этого задаваку следовало проучить, но все-таки ей было жаль его.
– Не скоро я его теперь увижу… Возможно, что и никогда, – вздохнула Марыся. – Ну, что поделаешь. Может, оно и к лучшему.
На следующее утро, когда она пришла в восемь часов открывать магазин, перед дверьми ее дожидался лесник из Людвикова. Он привез письмо. В этом письме Чинский писал, что у него теперь совершенно испорчены все каникулы и что это исключительно ее вина. Что он не ожидал от нее такого, что она неверно истолковала все его намерения и обидела его, даже оскорбила. Но поскольку и он вел себя не вполне вежливо, то считает своей обязанностью джентльмена принести ей свои извинения.
«Чтобы развеять эти горькие воспоминания, – писал он в конце, – я отправляюсь в Вильно и буду там так пить, что меня наверняка черт приберет, согласно Вашим пожеланиям».
– Будет ли от вас ответ? – спросил лесник.
Марыся задумалась. Да нет, зачем ей писать ему? К чему все это?
– Ответа не будет, – сказала она. – Я только прошу передать молодому хозяину, что желаю ему всего наилучшего.
Прошло три недели, а Чинский все не показывался. Она немного скучала по нему и даже пробовала гадать, вернется ли он, заглянет ли в лавку. На четвертой неделе ей пришла телеграмма. Она даже глазам своим не поверила: это была первая в ее жизни телеграмма. Пришла она из Крыницы и содержала следующее сообщение:
«Мир безнадежно скучен тчк. Жизнь ничего не стоит тчк. Душится ли по-прежнему аптекарша тчк. Вы самая красивая девушка в Центральной Европе тчк. Жаль тчк. Лех»
Спустя три дня в Радолишках застрекотал мотоцикл, оглашая всему свету, что молодой господин Чинский вернулся в родные края. Марыся едва успела подскочить к зеркалу и поправить волосы, как он уже был в магазине. В глубине души она была весьма благодарна ему за приезд, но ничем не выдала своей радости. Марыся очень боялась, как бы он не возомнил, будто она очень нуждается в его обществе. Столь прохладный прием снова рассердил его и испортил долгожданную встречу.
После нескольких ничего не значащих фраз Лешек сказал:
– Вы осуждаете мой снобизм, но у снобов есть одно достоинство: они умеют быть вежливыми даже тогда, когда им этого не хочется.
Она хотела его заверить, что ей не надо заставлять себя проявлять вежливость по отношению к нему, что он доставил ей огромную радость своим возвращением и тем, что помнил о ней там, в Крынице… Но вместо этого она процедила:
– Я знаю, что ваша вежливость именно этого рода.
Он пронзил ее ненавидящим взглядом.
– О да, вы совершенно правы!..
– Не сомневаюсь.
– Тем лучше.
– Только удивляюсь, зачем прикладывать столько усилий?
Он рассмеялся, как ему казалось, насмешливо.
– О, отнюдь. Это происходит автоматически. Видите ли, благодаря моему воспитанию я усвоил и довел до автоматизма правила приличия в общении с людьми…
Девушка наклонила голову.
– Я просто восхищаюсь вами.
Он резко отвернулся от нее. Теперь она не видела его лица, но была уверена, что он в ярости сжимал челюсти.
Ей снова нестерпимо захотелось помириться с ним. Марыся понимала, что ей следует сказать что-то дружеское, что она несправедлива к нему, что теперь он уже точно никогда не вернется, если не услышит от нее ни одного доброго слова. Понимала, а все-таки никак не могла заставить себя сдаться.
– Прощайте, – сказал он и, не ожидая ответа, быстро вышел.
Она не расплакалась только потому, что в магазин как раз вошла клиентка.
Все это произошло в прошлом году. До конца каникул он ни разу не показался в Радолишках. А потом наступила зима, долгая зима, которую сменила весна. О молодом Чинском, как и всегда, понемногу сплетничали, до Марыси время от времени доходили разные вести. Говорили, что он, кажется, был на практике за границей. И даже собирался жениться на дочке какого-то барона из Познаньского воеводства, а родители этой девицы вроде бы приезжали с визитом в Людвиково.
Все это Марыся выслушивала довольно равнодушно. Она ведь всегда понимала, что не может питать никаких надежд относительно молодого Чинского. И все-таки почему-то испытывала необоснованную обиду на него.
Зимой в Радолишки приехало кино. Его устроили в помещении пожарной охраны, и хотя там мороз пробирал до костей, но публики все три вечера собиралось много. Показывали американские фильмы, и госпожа Шкопкова, не раз слушавшая проповеди, осуждающие великосветский разврат, который показывают в кино, решила наконец собственными глазами посмотреть на это безобразие и оценить степень его опасности. А поскольку хозяйка опасалась, что многого не поймет, она решила взять с собой Марысю, которая была не только образованной девушкой, но уже когда-то видела кино.
Марыся действительно бывала в кино в таких больших городах, как Браслав и Швечаны, но тогда она была совсем ребенком. А теперь она понимала содержание фильмов, и один ей особенно понравился. Это была история деревенской девушки, на которую никто в родной стороне даже внимания не обращал. Кому интересна убогая, обездоленная горемыка? Но потом она попала в большой город, в огромный магазин, где ежедневно бывают тысячи покупателей; там ее увидел и полюбил один знаменитый и богатый художник, который сумел разглядеть и красоту девушки, и обаяние, и все достоинства ее характера.
«Так и есть, – грустно думала Марыся. – Вероятно, такое возможно в большом городе, но останься она в деревне – и судьба ее была бы печальной».
А про себя она знала, что ей отсюда не выбраться. А тут… какой мужчина может полюбить ее и взять в жены?.. У нее хватало рассудительности ни на секунду не принимать в расчет сына владельца Людвикова. Ни его родители не согласились бы на неравный брак, ни ему самому такое и в голову не пришло бы, да и она даже не мечтала стать женой столь блестящего молодого человека. Его родным и знакомым она подносила покупки из магазина к экипажам, так неужели они бы согласились потом обращаться с ней как с равной!
Она бы совсем иначе воображала себе свое будущее, если б господин Лешек был обычным небогатым чиновником или мастеровым, а то и деревенским мужиком. О, тогда все было бы совсем по-другому!
Она считала Лешека образцом мужской красоты. Среди фотографий актеров из фильмов и открыток, имевшихся в магазине (а их там было немало), она не встречала столь же привлекательного мужского лица. Ей все в нем нравилось. Даже эта его гордость и самонадеянность не были таким уж серьезным недостатком, на который нельзя было бы закрыть глаза. Впрочем, будь он скромным рабочим человеком, наверняка так не заносился бы.
Наступила весна, и Марыся если и вспоминала о молодом Чинском, то лишь как о герое своих мечтаний, а вовсе не как о будущем владельце Людвикова.
Надо признать, что этот человек занимал в ее воображении не слишком большое место, однако присутствовал там постоянно и незыблемо. Настолько незыблемо, что для других свободного места и не осталось вовсе. В округе было немало молодых людей, которые не обходили вниманием Марысю и не скрывали своего восхищения. Но на нее это не производило ровно никакого впечатления.
Наступил июнь, жаркий и буйный. Городок, окруженный волнующимся зеленым морем хлебов, сам напоминал букет из могучих раскидистых крон серебристого тополя, лип и берез, под которыми приютились, точно скромные цветочки, белые и красные домики, едва видневшиеся из-за пышных зарослей жасмина, сирени и спиреи. После продолжительной прогулки в воскресный день казалось, что нет на свете более тихого и прекрасного уголка. Издалека не было видно ни ухабистых, немощеных улиц, ни гор мусора во дворах, ни разлегшихся в лужах свиней.
Солнце сияло на чистом небе, с полей веял свежий ароматный ветерок, а на сердце было легко и радостно.
В будние дни магазин закрывали только после семи. В помещении его было невыносимо жарко. Недавно посаженные на площади молодые деревца почти не давали тени, стены нагревались так, что все табачные изделия надо было на день относить в подвал, чтобы они не рассохлись и не рассыпались мелкой крошкой. Зато по вечерам Марыся спешила закрыть лавку и, прежде чем вернуться домой, еще бежала на Жвирувку. Это была мелкая речонка, которую летом курица могла перейти вброд, не замочив перьев, но в двух местах, перед шоссе и за костелом, речка разливалась двумя большими и достаточно глубокими прудами. Перед шоссе купались мужчины, а за костелом – женщины, в основном молодые девушки.
После купания оставалось еще довольно времени, чтобы помочь госпоже Шкопковой по хозяйству, а потом засесть за книжку. В приходской библиотеке Марыся уже давно все книжки перечитала, как и те, что были в небольшой библиотеке при местной школе. Но иногда ей удавалось взять у кого-нибудь из немногочисленной интеллигенции городка роман или томик стихов. Ей вечно не хватало чтения. Многие книги девушка знала чуть ли не наизусть, среди них даже две на французском и одну на немецком; последнюю перечитывала чаще других, чтобы не забывать язык.
Старый потертый том стихов Мюссе на французском был собственностью бывшего ксендза. И именно он был у Марыси в руках, когда однажды в лавку вошел постоянный и милый гость – знахарь с мельницы.
– А что это вы читаете? – поинтересовался он.
– Это поэзия, очень красивая поэзия… Стихи. Но на французском.
– На французском?..
– Да, дядюшка. Их написал Мюссе.
Знахарь повернул книжку к себе, склонился над ней, и Марысе показалось, что он пробует читать. Его губы едва заметно двигались, но вскоре он выпрямился.
Он был бледен, а глаза его точно помутнели.
– Что с тобой, дядюшка? – слегка напуганная, удивленно спросила Марыся.
– Ничего, ничего… – Он потряс головой и сжал виски.
– Сядь, дядя. – Девушка выбежала из-за прилавка и пододвинула ему стул. – Сегодня страшная жара, вот тебе и стало плохо.
– Да нет, успокойся, деточка. Уже все прошло.
– Ну и слава богу. А то я перепугалась… А что касается книжки, то ты только послушай, какой это красивый язык. Я думаю, его можно и не знать совсем, а все равно почувствуешь его красоту, особенно в стихах.
Она перевернула несколько страниц и начала читать. Если б она хоть на мгновение оторвала глаза от книги, то сразу бы поняла, что с Антонием Косибой происходит что-то неладное. Но ведь она читала прежде всего для себя самой. Наслаждалась плавностью и звонкостью строф, легким ритмом и трогательным содержанием – описанием чувств поэта, оплакивающего отчаяние двух сердец, неумолимо разлученных слепым капризом судьбы и пылающих слабеющим огоньком тоски и надежды, ставшей единственным смыслом и сутью их существования.
Она закончила и подняла голову. И увидела, что знахарь смотрит прямо на нее каким-то отсутствующим взглядом.
– Что с вами? – Марыся вскочила.
И тогда она услышала, как он слово в слово повторил последнюю строфу. Она не могла ошибиться, хотя говорил он каким-то хриплым шепотом и очень тихо.
– Вы… вы… – начала было она, но он, точно стараясь что-то вспомнить, прервал ее:
– Да… слепой каприз судьбы. Как дерево, вырванное с корнями… Что же это… что же это…
Он встал и пошатнулся.
– Боже мой! Дядюшка! Дядюшка! – вскрикнула она.
– Голова кружится, – сказал Антоний, тяжело дыша. – Кружится так, будто я сейчас с ума сойду… Что это за кони там скачут?.. Зачем же это я пришел… А… за табаком… Скажи-ка мне что-нибудь, девочка… Говори со мной…
Она скорее интуитивно почувствовала, чем поняла, о чем он просит. И начала быстро рассказывать, что прибыла повозка из Пясков, что это, наверное, госпожа Херманович приехала за покупками или заказать службу за душу умершего мужа, ведь она каждый месяц заказывает такую службу, что…
Она болтала обо всем, что ей только в голову приходило и все время сжимала в руках большие огрубевшие ладони знахаря.
Он мало-помалу успокаивался. Теперь он уже сидел, но по-прежнему тяжело дышал. Она принесла ему стакан воды, и он жадно выпил ее. Потом девушка сбегала в подвальчик за табаком и упаковала покупку. Поскольку приближался уже седьмой час, она решила, что не отпустит его одного.
– Дядюшка, вы посидите еще с четверть часа, а потом я закрою магазин и провожу вас немного. Хорошо?
– Да зачем это, деточка, я сам пойду.
– А мне и так пройтись хочется.
– Ладно, – вяло согласился он.
– А может, вы закурите?.. Я сверну папироску.
– Можно и покурить, – кивнул он.
Они уже шли вдоль шоссе, когда Антоний постепенно стал приходить в себя.
– Бывают у меня такие приступы, – сказал он. – Верно, в мозгу что-то. Правда, уже давно, очень давно не повторялось.
– Ну, даст бог, больше и не повторится, – ласково улыбнулась Марыся. – Это, наверное, от солнца.
Он покачал головой.
– Нет, дорогая моя. Это не от солнца.
– Тогда от чего же?
Он долго молчал, наконец вздохнул тяжело:
– Сам не знаю.
И прибавил после паузы:
– И не спрашивай меня об этом, потому как стоит мне начать об этом думать, напрягать память, как это паскудство снова может вернуться.
– Хорошо, дядя. Поговорим о чем-нибудь другом.
– Да нет, не надо, деточка. Ты возвращайся. Мы и так слишком много прошли для твоих маленьких ножек.
– Где там, совсем не такие уж они и маленькие. Но если вы, дядюшка, хотите остаться один, то я вернусь.
Антоний остановился, улыбнулся, слегка прижал ее к себе и осторожно поцеловал в лоб.
– Да вознаградит тебя Бог, девочка, – тихо сказал он и пошел своей дорогой.
Марыся повернула в сторону городка. Неожиданный жест и поцелуй этого человека не были ей неприятны, наоборот, они даже как бы успокоили ее после недавних переживаний. Она еще явственнее ощутила, что в этом старом знахаре нашла человека с золотым сердцем, близкого ей по духу. Ах, она была уверена, что никто в мире не питает к ней более теплых и добрых чувств, что в случае какого-либо несчастья только он один не отказал бы ей в помощи.
Но она поняла и то, что этот добрый друг сам нуждается в помощи, что с ним когда-то случилось великое несчастье и что в его душе таится и бурлит нечто невидимое и таинственное.
Припадок, свидетелем которого она была в магазине, не мог не вызывать тысячи разных самых фантастических предположений. Если рассуждать здраво, то все они были совершенно нелепы, но Марыся, выбирая между обыденностью и неправдоподобием, всегда предпочитала второе. Поэтому ей и казалось, что Косиба, знахарь с мельницы, – человек таинственный, личность романтическая, может, даже какой-то укрывающийся под сермяжной одежкой князь или несчастный преступник, который некогда совершил преступление, – разумеется, невольно или в порыве благородного гнева, – а теперь сам осудил себя на простую жизнь, которую посвящает служению ближним.
Нет, она не ошиблась, не могла ошибиться, ведь ясно же слышала, как с его уст срывались слова из французского стихотворения. Простой мужик не сумел бы его так повторить. К тому же он понял содержание стиха!.. Как это можно объяснить?..
«Допустим, – думала она, – что во время своих скитаний он когда-то добрался до Франции или Бельгии. Это вполне возможно. Многие сначала эмигрируют, а потом возвращаются на родину».
Но такое толкование и объяснение тайны было бы слишком прозаичным. Впрочем, если все это правда, почему он был так потрясен?.. Уж не кроется ли за этим какая-то трагедия?.. Нет сомнений, стихи что-то ему напомнили, пробудили в нем какие-то болезненные воспоминания.
«Должно быть, он человек необыкновенный», – убежденно заверяла она себя.
И убежденность эта росла в ней по мере того, как девушка припоминала все больше подробностей, подтверждающих ее выводы. Сам образ жизни этого человека, на первый взгляд, был похож на образ жизни иных простых людей, но это только на первый и очень поверхностный взгляд. Его деликатность, бескорыстие, участие…
Девушка не сомневалась, что напала на след огромной и волнующей тайны, и решила разгадать ее. Она еще не знала, как это сделать, но была уверена, что не успокоится, пока не доберется до сути этой загадки.
Между тем, однако, произошли события, которые обратили ее мысли и устремления в совершенно другое русло.
Глава 9
Примерно в середине июня ранним утром на рыночной площади остановился огромный темно-синий автомобиль. В Радолишках его знал каждый, а принадлежал он хозяевам Людвикова. Автомобиль остановился перед бакалейным магазином Мордки Рабинова. Из окон лавочки Михалины Шкопковой хорошо было видно, что из машины сперва вышел старший господин Чинский, потом его жена, госпожа Чинская, и наконец их сын, Лешек.
Марыся проворно отскочила от окна. Она только успела заметить, что молодой инженер еще более похудел и что на нем очень светлый, пепельного цвета костюм, в котором он выглядел еще более стройным, чем обычно. Она была уверена, что двери ее магазинчика вот-вот откроются и он войдет. И с удивлением обнаружила, что ее сердце бьется все быстрее и быстрее. Она подумала, что у нее, верно, щеки горят, а он сразу поймет, что это из-за него.
Марыся уже не раз представляла себе, как примет Лешека по его возвращении. А вот теперь, когда он был совсем рядом, она не могла припомнить ни одну из своих задумок. И твердо осознавала лишь одно: она так рада, так по-глупому рада его приезду.
Девушка села за прилавок и принялась старательно вышивать. Ей хотелось, чтобы он ее застал именно за этим занятием, когда войдет.
«Лучше всего ничего не планировать, – решила она, – а вести себя в соответствии с тем, как он поведет себя. Ведь он же может просто войти и попросить пачку папирос… как обычный покупатель».
Это было бы очень дурно с его стороны, и при одной мысли об этом Марысю охватывала тоска, тем более что теперь девушка как никогда раньше осознавала, что прошлой осенью обращалась с ним невежливо и несправедливо.
«Хоть бы он пришел за папиросами, – думала она. – Я должна быть с ним ласковой. Только бы он поскорее пришел».
Но он вообще не пришел.
Прождав с четверть часа, она осторожно подошла к окну только для того, чтобы увидеть, как Чинские садятся в автомобиль. Машина развернулась и поехала в сторону Людвикова.
– Уехал, – громко произнесла Марыся, и уже в следующее мгновение ей сделалось невыразимо тоскливо.
Только вечером, лежа в кровати, она попыталась все взвесить и пришла к выводу, что это еще ничего не значит. Даже если Лешек собирался зайти к ней, то, вполне возможно, не сделал этого лишь потому, что родители очень спешили, а он не хотел привлекать их внимание к знакомству с ней, поскольку такое знакомство наверняка не понравилось бы им. И она спокойно заснула.
Однако на следующий день, около полудня, она разволновалась, услышав знакомый шум мотора, который было слышно издалека. Но, к удивлению Марыси, рокот был ровный, мотор не сбрасывал оборотов. И в самом деле, мотоцикл с ревом пролетел через площадь, мелькнул в окне и понесся дальше.
«Может, еще вернется», – уговаривала она себя, понимая, что обманывается.
Теперь уже стало совершено ясно, что молодой человек о ней забыл, что у него нет ни малейшего желания снова ее увидеть.
«Вот, значит, как… – твердила она себе. – Ну и хорошо».
Но ничего хорошего не было. Она даже вышивать не могла. Руки дрожали. Марыся несколько раз больно уколола себе палец. И ни о чем другом думать не могла. Если он поехал по тракту, то ясно, что направлялся к семейству Зеновичей. Это были очень богатые люди, у которых имелось две дочери на выданье. А имя молодого Чинского давно уже связывали с одной из них. Тогда сколько же правды было в той сплетне о дочери барона из Велькопольского воеводства?
«Господи, в конце концов, – с горечью подумала Марыся, – какая же мне разница? Пусть женится на ком хочет. Желаю ему найти самую красивую и самую подходящую жену. Но как же отвратительно с его стороны, что он не заглянул ко мне хоть на пару слов. Я же не укушу его. И ничего от него не хочу».
Возвращался Чинский около семи вечера. Двери лавочки (конечно же, совершенно случайно) были открыты, а Марыся (тоже абсолютно случайно) стояла на пороге.
Он проехал рядом. И даже не повернул голову. Даже не посмотрел в ее сторону.
«Может, так и лучше, – утешала себя Марыся. – Госпожа Шкопкова права, я не должна морочить себе голову мечтами о нем».
В тот же вечер начальник местного почтового отделения пан Собек был приятно удивлен. Он встретил Марысю, когда она возвращалась домой, и предложил ей прогуляться вместе до Трех груш, а она вдруг сразу же согласилась. В этом не было бы ничего удивительного, если б речь шла о любой другой девушке в Радолишках. Собек смело мог отнести себя к числу мужчин, пользующихся успехом у прекрасного пола. Он был молод, привлекателен, занимал государственный пост и имел виды на успешную карьеру, поскольку все знали, что его дядя – важная фигура в окружной дирекции. А кроме того, молодой человек еще и мастерски играл на мандолине – чудесном инструменте, инкрустированном перламутром, с которым вне службы никогда не расставался.
Эта самая мандолина, как и прочие вышеперечисленные достоинства пана Собека, действовали весьма притягательно на молодых девиц. На всех, ну, почти на всех, за одним крайне огорчительным для пана Собека исключением: Марыся, которая, правда, всегда была с ним вежлива и приветлива, никогда не проявляла желания сделать их знакомство более близким и неизменно отказывалась пойти с ним на каток, на прогулку или на танцы.
Если бы пан Собек принадлежал к числу молодых людей с большими амбициями, то давно отстал бы от Марыси. Но он был парнем добродушным и одновременно стойким, капризничать обыкновения не имел, отсутствием терпения не страдал, а поскольку отличался еще и постоянством в своих увлечениях, то время от времени повторял свои предложения.
И вот в тот день он убедился, что выбрал разумную тактику.
Они шли рядом по дорожке, известной всем молодым и старым жителям Радолишек, шли к Трем грушам по той самой дороге, где когда-то старики, а теперь молодые люди неизменно ходили парами; аптекарша злобно называла ее Коровьим променадом, поскольку и в самом деле по ней же и коров на пастбище гоняли.
Из окон дома приходского священника эта дорожка была видна как на ладони, а потому ксендз, заботившийся о моральном облике своих прихожан, мог с довольно большой точностью определить, сколько свадеб он благословит в следующем году и какие из пар станут счастливыми молодоженами. Достаточно было заметить, что тот или иной молодой человек зачастил на променад с одной и той же девушкой. В разговорах это называлось «он с ней ходит» и, в свою очередь, воспринималось как объявление о предстоящей свадьбе или по меньшей мере как надежное свидетельство любви. Почему его видели именно в хождении, а не в стоянии, сидении или любом другом действии человека, в Радолишках никто не задумывался. И уж наверняка об этом не вспоминал во время своей первой прогулки с Марысей до Трех груш пан Собек.
А думал он исключительно о Марысе, о том, что хоть она бедна, но образована лучше многих других, и держать себя умеет, и уж наверняка красивее всех, и такой жены не постыдился бы даже государственный чиновник головокружительно высокого уровня. И вот эти свои заветные мысли выражал он тем, что тихонько наигрывал на инструменте (именно так он любил называть свою мандолину) мелодию модного танго: «Полюбишь ли меня, моя Лолита, из жен прекраснейшая сеньорита».
К сожалению, Марыся, несмотря на то что она понимала тонкий намек, заключенный в тексте, догадывалась о намерениях виртуоза и испытывала к нему некоторую благодарность за такое подчеркнутое внимание к ней, никак не могла разделить настроение своего спутника. Она нарочно согласилась пойти на прогулку с паном Собеком, чтобы отвлечься, убедить себя, что Собек – весьма достойный молодой человек и ей не следует сторониться его, что он стал бы для нее самым подходящим мужем. Даже идеальным. Он не пил, не устраивал скандалов, не рисковал разбиться на мотоцикле, а самое главное – отличался редкостным постоянством. Не то что иные!.. И что с того, что он не слишком умен, что манеры у него простецкие? Это же не умаляет его достоинств.
Однако самые убедительные доводы и самые правильные намерения оказались бесполезными. Напрасной оказалась и прогулка, закончившаяся при луне, и романтическое настроение, которое были призваны поддержать музыка и разговоры: Марыся вернулась домой разочарованная, печальная и с твердым решением больше никогда не ходить к Трем грушам ни с паном Собеком, ни с кем бы то ни было другим.
А ночью приснился ей страшный сон. Она видела себя и молодого Чинского. Они неслись на мотоцикле с безумной скоростью, убегали от огня, который все время догонял их. И вдруг перед ними оказалась пропасть, они рухнули на каменистое дно ее… И было там много крови, а он сказал:
– Я умираю из-за тебя…
Она почувствовала, что тоже умирает, и стала звать на помощь.
А когда открыла глаза и пришла в себя после такого кошмара, то увидела склонившуюся над собой госпожу Шкопкову.
– Сон лишь виденье, в Боге спасенье! – приговаривала она. – Что это тебе приснилось, что ты так кричала?
Первым порывом Марыси было рассказать свой сон, но потом, вспомнив, что госпожа Шкопкова умеет толковать сны, предпочла промолчать. Может, этот сон предвещал молодому Чинскому что-то очень нехорошее, а госпожа Шкопкова и так не любила его. Она всегда была готова при случае сказать ему что-то неприятное.
– Я кричала?.. Сама не знаю почему, – отвечала Марыся. – Может, что-то и снилось. Но сны так легко забываются.
Однако Марыся ничего не забыла. На следующее утро, увидев лошадей из Людвикова и молодого инженера в бричке, она даже вздрогнула. Девушка была уверена, что на сей раз он все-таки заглянет в магазин.
Но Марыся опять ошиблась. За папиросами он прислал кучера! Вы только подумайте – кучера!
Видимо, он упорно старался избегать встречи с ней. И дальнейший ход событий это подтвердил. Не проходило и дня, чтобы он не приезжал в городок или не проезжал через него. Иногда в бричке, порой верхом, а чаще всего на мотоцикле. В прошлом году он так часто не наведывался в Радолишки. А теперь, судя по всему, делал это назло Марысе или, возможно, по какой-то другой причине, о которой она не догадывалась.
Когда девушка видела его без мотоциклетных очков, то замечала, что лицо молодого человека похудело, вытянулось и приобрело какое-то чуть ли не угрюмое и ожесточенное выражение.
«Может, с ним что-то нехорошее случилось?» – заволновалась Марыся и тут же упрекнула себя за неуместное беспокойство: по какому праву и чего ради она вообще интересуется этим?!
В конце концов девушкой овладела апатия. Она уже не срывалась с места при малейшем стуке или топоте копыт, не неслась к окну, заслышав рев мотора, и вообще старалась его не слышать.
И когда она уже окончательно утратила надежду, это произошло.
Двадцать четвертого июня, как и всегда в день именин ксендза, с самого утра в лавке было много покупателей: все покупали поздравительные открытки. Дети из школы и из приюта, старики из богадельни, монашки и прочие. Только около девяти этот поток схлынул и Марыся смогла спуститься в подвальчик за табачными изделиями, чтобы хоть несколько пачек выставить на витрине. Она сложила их в подол фартучка и поднялась по крутой лесенке. Повернулась – и кровь прихлынула к лицу: в двух шагах перед ней стоял он.
Она не помнила, как вскрикнула, и не заметила, как из фартучка на пол посыпались коробки папирос. Она только ощутила, как весь мир завертелся вдруг с невообразимо бешеной скоростью, и поняла, что наверняка упала бы, если б он не обнял ее крепко и не прижал к себе.
Сколько бы раз потом она ни старалась мгновение за мгновением, секунда за секундой восстановить в памяти столь великое, чудесное событие, ей это не удавалось. Она помнила только пронзительный, как бы сердитый взгляд его темных глаз, а потом – крепкое, почти до боли, объятие и беспорядочные слова, которых тогда не понимала, но опьяняющая суть их, казалось, непосредственно вливалась в ее кровь.
А потом кто-то вошел в лавку, и они, так и не придя в себя, отскочили друг от друга.
Покупатель, наверное, заподозрил, что они настолько увлеклись, что почти утратили связь с окружающим миром. Марыся никак не могла понять, что он хочет приобрести, путалась в расчетах. Когда же наконец он вышел с покупкой, она вдруг расхохоталась.
– Я совсем одурела! Что я ему пыталась всучить вместо канцелярской бумаги! Боже! Вы только взгляните!
Она указывала на разложенные на прилавке самые разнообразные предметы и смеялась, не в силах сдержать рвущийся из нее радостный смех. Внутри нее что-то дрожало и трепетало. Что-то возрождалось к жизни, к новой жизни: великолепной, светлой и окрыленной, подобной огромной белой птице.
Чинский стоял неподвижно и с восхищением смотрел на нее. Когда-то он написал Марысе в телеграмме, что считает ее самой прекрасной девушкой… Но сейчас она была такой красивой, какой он ее еще никогда не видел.
– Вот уж славно! Ах, как славно, – повторяла она. – Столько раз мимо проезжать и ни разу ко мне не заглянуть! Я уж думала, вы обиделись.
– Обиделся? Да вы шутите! Я вас возненавидел!
– За что?
– За то, что никак не мог забыть о вас, Марыся. За то, что ни развлекаться, ни работать не мог.
– И поэтому вы, проезжая мимо магазина, всегда отворачивались и смотрели в другую сторону?
– Да! Именно поэтому. Я же знал, что не нравлюсь вам, что вы мною пренебрегаете!.. До сих пор ни одна женщина еще так со мной не обращалась. Поэтому я дал себе слово чести, что больше никогда вас не увижу.
– Тогда вы совершили целых два дурных поступка: сначала дали слово, а потом его нарушили.
Чинский покачал головой.
– Панна Марыся, вы бы так не осуждали меня, если б знали, что такое тоска.
– Да что вы! – возмутилась она. – Почему же это я не знаю, что такое тоска? Может, даже лучше вас знаю.
– Нет! – Он махнул рукой. – Это невозможно. Вы и малейшего представления о тоске не можете иметь. А знаете ли вы, что мне иногда казалось, будто я свихнулся?.. Вот именно! Свихнулся!.. Не верите? Смотрите.
Он достал из кармана тоненькую розовую книжечку.
– Вы знаете что это?
– Нет.
– Это билет на корабль до Бразилии. Мне пришлось забрать свои чемоданы с борта судна буквально за четверть часа до отплытия, и вместо Бразилии я примчался в Людвиково. Я не смог, буквально не смог! А потом уже начались самые страшные мучения! Я старался сдержать данное себе слово, но не мог отказаться от поездок в Радолишки. Мне нельзя было искать с вами встреч, но ведь они могли произойти случайно. Правда? И тогда я не изменил бы своему слову.
Марыся вдруг стала серьезной.
– Мне кажется, что вы плохо поступили, не сдержав данного себе обещания.
– Почему это? – возмутился он.
– Потому что… вы были правы, когда не хотели больше видеться со мной.
– Я был идиотом! – воскликнул он убежденно.
– Нет, вы были благоразумны. Ради нас обоих… Ведь это лишено какого бы то ни было смысла.
– Ах так?.. Неужели вы действительно до такой степени меня терпеть не можете, что даже видеться со мной не желаете?
Она прямо посмотрела ему в глаза.
– Да нет же! Я буду совершенно откровенна с вами. И я очень тосковала без вас, очень…
– Маришенька! – Он протянул было к ней руки.
Но она покачала головой.
– Сейчас, я сейчас все скажу. Вы только подождите минутку. Я очень скучала. Мне было плохо… Так плохо. Я даже… плакала…
– Единственная моя! Чудо мое драгоценное!
– Но, – продолжала она, – я пришла к убеждению, что мне будет легче вас забыть, если мы не будем видеться. Какова может быть цель нашего знакомства?.. Вы ведь достаточно рассудительны, чтобы понимать это лучше меня.
– Нет, – прервал он ее, – я действительно достаточно рассудителен, а потому понимаю, что вы не правы. Я люблю вас. Разумеется, вы не можете понять, что такое эта любовь. Но я вам нравлюсь. И было бы безумием и дальше обрекать себя на разлуку. Вы говорите о какой-то цели! А разве уже сами по себе наши встречи, беседы, наша дружба – недостаточно прекрасная цель, разве нужны еще какие-то более определенные и значительные цели? Что-то мешает вам встречаться со мной… Прошу вас, выслушайте меня!..
Она слушала внимательно и не могла отрицать, что он прав, и тем более не могла отказать в справедливости его слов. Признаться, ей самой хотелось, чтобы ее убедили. А уж убеждать он умел.
Да и не могла же она запретить ему приходить в магазин, куда имел право войти любой покупатель. А с покупателями надлежит разговаривать вежливо и приветливо.
И вот с того дня господин Лех Чинский наведывался в лавочку ежедневно, а его верховой конь или мотоцикл перед дверьми магазинчика госпожи Шкопской вызывали всеобщее нездоровое оживление в городке и многочисленные сплетни, пробуждали зависть, которая естественным порядком переродилась в то, что называется публичным осуждением.
Правда, если быть точным, ни о чем, достойном осуждения, никто ничего не знал. Пребывание молодого инженера в магазине, двери которого всегда и для всех открыты, само по себе не могло вызвать подозрений и скомпрометировать Марысю. Но людская зависть не знает границ и не считается даже с очевидными вещами. Почти каждая девушка в Радолишках могла бы похвастаться каким-нибудь поклонником, но никого из них нельзя было сравнить с молодым Чинским. И людям трудно было понять, почему такой красивый брюнет остановил свой выбор на Марысе, нищей сироте без дома, без семьи. Если уж ему захотелось искать общества городских девиц на выданье, то мог бы найти и покрасивее, и побогаче, и вообще по всем статьям более достойную. Родители этих самых более достойных, само собой, тоже разделяли возмущение своих дочерей, как и те молодые люди, которые прогуливались с этими девицами до Трех груш. А это и было общественное мнение Радолишек.
И если Марыся при ее врожденной чуткости не сразу заметила, как изменилось по отношению к ней общественное мнение городка, то только потому, что она была полностью поглощена собственными переживаниями. А были они столь новыми для нее и столь пьянящими, что весь внешний мир по сравнению с ними, казалось, расплывался в тумане, представлялся чем-то эфемерным, случайным и совершенно незначительным.
Марыся поняла, что полюбила. И с каждым днем осознание этого становилось все более четким и глубоким. Напрасно пробовала она бороться с этим чувством. Точнее, совсем не напрасно, потому что именно благодаря этой борьбе, благодаря необходимости подчиняться силе всевластного чувства, росло и ощущение этой чудесной, пронзительной и трогательной услады, этого упоения, этого закружившего ее вихря, от которого перехватывает дыхание и который оглушает, окутывает со всех сторон, невидимый и прозрачный, и лишает воли, уносит, возносит…
«Люблю, люблю, люблю», – тысячу раз в день твердила она. И было в этом и удивление, и радость, и опасение, и счастье, и изумление от столь великого открытия в собственной душе, которая до сих пор даже не ведала, сколь бесценное сокровище она в себе заключает.
И это было тем более удивительно, что по сути ничего нового не происходило. Если бы какие-то посторонние свидетели захотели и смогли подслушать разговоры двух молодых людей в лавке госпожи Шкопковой, они были бы разочарованы. Чинский приезжал, целовал Марысе ручку, а потом рассказывал ей о своих путешествиях и приключениях. Иногда они вместе читали книжки, которые он теперь постоянно привозил. В основном это были сборники стихов. Порой и Марыся рассказывала о своем детстве, о матери, о ее неосуществившихся, к сожалению, планах. Изменилось только то, что она по-прежнему называла его паном Лешеком и на «вы», а он попросту звал ее Марысей. Разумеется, когда никто их не слышал.
Может, перемен было бы больше, если б Марыся на них согласилась. Лешек не раз пробовал ее поцеловать, но она неизменно возражала с такой решимостью и страхом, что ему ничего не оставалось, кроме как набраться терпения. Потом он уезжал, а она весь оставшийся день думала только о проведенных вместе часах и о тех, которые наступят завтра.
Закрыв лавку, девушка возвращалась домой, вся сосредоточенная на своем счастье, погруженная в его радостное переживание, преисполненная любви к этим маленьким домикам, зеленеющим деревьям, ясному небу, ко всему миру и к людям, которых приветствовала искренней улыбкой.
Именно поэтому она и не замечала косых взглядов, презрительных гримас, враждебности и насмешек. Однако же далеко не все обыватели Радолишек ограничивались немым выражением неприязни и осуждения. И вот однажды произошел случай, который вызвал крайне неприятные последствия.
В Радолишках много лет проживала известная во всей округе семья шорников Войдылло. Они происходили из мелкопоместной, но старинной шляхты, а это уже служило достаточным основанием для почтительного отношения к ним со стороны всего городка; к тому же они еще с дедовских времен прославились как лучшие шорники. Седла, трензели или упряжь от Войдылло из Радолишек пользовались широким спросом, хотя порой стоили дороже тех, что привозили из Вильно. Главой этого состоятельного и почтенного семейства был в то время Панкраций Войдылло, прозванный Милосдарем из-за его любимого обращения «милостивый государь», а его наследниками в мастерской должны были стать сыновья – Йозеф и Каликст. Третий же сын Милосдаря, Зенон, и среди родных, и в городке считался неудачным отпрыском.
Отец послал его учиться на ксендза. С трудом пропихнул ленивого в ученье парнишку через шесть классов гимназии и поместил в духовную семинарию. Но все заботы и траты отца оказались тщетными. Напрасно радовалось сердце старого Милосдаря, когда сын его, как духовное лицо, приехал в сутане, повергнув в изумление весь городок. Не прошло и года, как Зенона выгнали из семинарии. Правда, сам Зенон утверждал, что добровольно покинул ее стены, не чувствуя в себе призвания, но люди рассказывали, что причиной его изгнания из числа будущих пастырей духовных стала открывшаяся в юноше неодолимая тяга к водке и женщинам. Справедливость этих слухов явно подтверждало и последующее поведение экс-семинариста. Он чаще сидел в шинке, чем в костеле, и лучше совсем не вспоминать, у каких женщин он бывал частым гостем на улице Крамной.
Поскольку он знал латынь, то годился еще для работы в аптеке. По крайней мере, так думал его отец. Но и тут Милосдарь ошибся. Зенон весьма скоро оставил место в аптеке. Разные о том ходили слухи, которые никак нельзя было проверить, поскольку радолишский аптекарь, господин Немира, к числу болтунов не принадлежал, а со старым Милосдарем дружил.
И вот этот самый Зенон Войдылло в обществе нескольких молодых людей однажды проходил мимо магазинчика госпожи Шкопковой. Как раз в это время Марыся запирала магазинчик. Зенон приостановился и вполне дружелюбно и вежливо обратился к девушке:
– Добрый вечер, панна Марыся, что слышно хорошего?
– Добрый вечер, – с улыбкой отозвалась она. – Благодарю, все хорошо.
– Однако ж одно неудобство у вас все-таки имеется.
– Какое это неудобство? – удивилась она.
– Ну как же! Госпожа Шкопкова вроде бы добрая женщина, а о такой простой вещи и не подумала, – сочувственно продолжал он.
– О какой вещи?
– Да о диване.
– О диване? – Марыся удивленно раскрыла глаза.
– Ну конечно же, о диване. Ведь прилавок в магазине узкий и к тому же жесткий. Вдвоем, да еще с таким мужчиной, как господин Чинский, на нем вряд ли можно удобно устроиться.
Молодые люди громко расхохотались.
Марыся, еще не успев осознать смысл его слов, но почувствовав таящуюся в них подлость, пожала плечами.
– Не понимаю, о чем вы говорите…
– Смотрите-ка, она не знает, о чем я говорю, тоже мне, Сузанна-девственница, – обратился Зенон к товарищам. – Зато прекрасно знает, как это делается.
Новый взрыв смеха был ему ответом.
Марыся, дрожа всем телом, вынула ключ из замка, сбежала по ступенькам и чуть ли не бегом кинулась домой. Ноги у нее подгибались, в голове шумело, сердце выскакивало из груди.
Еще никто и никогда не оскорблял ее так жестоко и отвратительно. Она никому не причинила ни малейшего зла, никому дурного слова не сказала. Даже не подумала ни о ком плохо. И вдруг…
Она чувствовала себя так, как будто на нее опрокинули ведро вонючих помоев. Она бежала, а до нее все еще долетали выкрики, смешки и свист.
– Боже мой… – шептала она дрожащими губами. – Как же страшно, как мерзко…
Она старалась овладеть собой, удержать рыдания, которые разрывали ей грудь, но не смогла. Добежала до ограды у приходского сада, прислонилась к доскам и разрыдалась.
Улочка за садами была тихой и немноголюдной. Но надо же было случиться, что в это самое время начальник почтового отделения в Радолишках, пан Собек, как раз направлялся к костельному садовнику за клубникой. Увидев плачущую Марысю, он поначалу удивился, потом проникся сочувствием и решил ее утешить.
Он догадывался, что может быть причиной ее слез. Ведь он тоже знал, что молодой Чинский ежедневно навещает ее лавку.
«Небось заморочил девушке голову, влюбил ее в себя, а теперь бросил», – промелькнуло в голове пана Собека.
Он тронул Марысю за локоть и мягко заговорил:
– Не стоит плакать, панна Марыся. Я вам это от чистого сердца говорю, да и по уму так будет. Не стоит. Время пройдет, раны заживут. Жаль ваших глаз на слезы. Вы в тысячу раз достойнее его. Пусть он волнуется. Он сделал вам больно, так Бог его за это накажет еще больнее. На свете ничто не остается без воздаяния. Таков закон. Ничего не пропадает. Это как с граблями. Наступишь на их зубья, и тебе покажется, будто ты им зло причинил, а между тем и оглянуться не успеешь, как те грабли поднимутся и ручкой трах тебя же по лбу… Таков закон. Ну, не стоит плакать, панна Марыся…
Он был до глубины души тронут ее слезами и расстроился, увидев, что его утешения оказались бесполезными. И сам чуть не заплакал. Легонько погладил содрогавшуюся от рыданий девушку по спине.
– Ну же, панна Марыся, тише, тише, – уговаривал Собек. – Не стоит, не надо. Он сделал вам больно… причинил зло. Он дурной человек. Бессовестный.
– Но за что, за что?! – всхлипывала Марыся. – Правда, он мне не нравился… никогда… Но ведь я ему ничего плохого не сделала.
Собек задумался.
– О ком вы говорите?
– О нем, о Войдылло…
– О старом? – изумился он.
– Нет, о том… бывшем семинаристе.
– Зенон? А этот хулиган что вам сделал?
– Он так мерзко оскорбил меня… При людях! Какой стыд!.. Какой стыд!.. Я теперь вообще не смогу людям на глаза показаться!
Она заломила руки.
Собек почувствовал, как у него кровь приливает к лицу. Думая, что Марысю обидел молодой Чинский, он невольно и со смирением принял этот факт, ибо видел в нем воздействие высших сил, с которым уже ничего не поделаешь. Но когда он узнал, что речь идет о младшем отпрыске Милосдаря, им вдруг овладела ярость.
– Что он вам сказал? – спросил Собек, стараясь успокоиться.
Если б Марыся не была так расстроена и возбуждена, она наверняка не стала бы откровенничать с посторонним человеком. Если б у нее было время подумать, она поняла бы, что нет смысла рассказывать обо всем пану Собеку. Но в этот момент она очень сильно нуждалась в сочувствии, а потому прерывающимся от всхлипываний голосом поведала об ужасном происшествии.
Слушая ее, Собек постепенно успокаивался, а затем даже рассмеялся.
– Да стоит ли вам обращать внимание на такого дурня! – сказал молодой человек. – Что он языком треплет, что собака брешет – все одно. Не стоит волноваться из-за этого.
– Легко вам так говорить…
– Легко, не легко – это дело другое, а вот переживать из-за Зенона не стоит. Что он значит для вас?.. Плюнуть да растереть.
– Даже если и так. – Она вытерла слезы. – Но ведь его приятели все слышали, теперь по всему городу молва пойдет. Мне отныне и глаз не поднять.
– Ой, панна Марыся, зачем же вам-то глаза прятать? Ваша совесть чиста – это главное.
– Не каждый поверит, что чиста.
– Кто сам честен – тот поверит, а дурной человек и в костеле грязь найдет. Только на этих дурных нечего и внимание обращать. Вот так: было, минуло и прошло. Видите, – он показал корзинку, – я к садовнику иду, за клубникой. Может быть, пойдем вместе? Хорошая у него клубника, крупная такая. И сладкая.
Девушка улыбнулась.
– Спасибо, но мне надо домой спешить… До свидания.
– До свидания, панна Марыся. А волноваться вам и правда не стоит.
Она приостановилась и сказала:
– Вы так добры ко мне… Я этого никогда не забуду.
Собек поморщился и махнул рукой.
– Да какая там доброта. И говорить не о чем. До свидания.
Мурлыча под нос мелодию какого-то танго, он пошел в сад. Выбрал клубнику, поторговался, заплатил и вернулся домой. Он обожал клубнику. Высыпал ягоды в две глубокие миски, растолок в ступке сахар и густо припорошил им клубнику, чтобы ягоды пропитались. Он любил все делать тщательно.
Затем вскипятил воду, заварил чай, вынул из шкафчика хлеб, масло. Это был его скромный ужин, но сегодня, в честь субботы, его увенчивало такое лакомство, как тарелка сочной ароматной клубники. Вторую порцию ягод он оставил на завтрашний обед.
Потом Собек вымыл посуду, протер ее и поставил на место, снял со стены свою любимую мандолину и вышел.
В летний субботний вечер вся молодежь высыпала на улицы, и особенно много народу было на Коровьем променаде. Господин Собек все время встречал знакомых. К некоторым подходил поболтать и пошутить, другим только кланялся издалека. Он прошел по Виленской улице, по Наполеона, потом к Трем грушам и повернул обратно. Девушки пробовали привлечь его внимание, каждая тянула в свою компанию. Всегда приятно послушать музыку. Но он отказывался и продолжал прогуливаться в одиночестве, время от времени проводя плектром[14] по струнам.
Проходя по Ошмянской улице, Собек заметил на крыльце у Лейзора нескольких молодых людей. Они сидели и покуривали папироски.
– Эй, пан Собек! – позвал один из них. – Идите к нам, сыграйте что-нибудь.
– Что-то неохота мне, – приостановившись, ответил Собек.
– Да чего там, – раздался другой голос. – Садитесь с нами, тогда и охота придет.
– А с вами я не сяду, – отрезал Собек.
– Это почему же?
– Потому что среди вас есть прохвост, а я с такими не хочу иметь ничего общего.
Все замолчали, а третий парень осведомился:
– С вашего позволения, кого это вы имеете в виду?
– В виду я его не имею, – спокойно процедил Собек. – Я его презираю. А если вам интересно, о ком я говорю, господин Войдылло, то это как раз вы и есть.
– Я?
– Да, господин бывший семинарист. Для меня вы прохвост, и приятельствовать с вами я не намерен.
– Пан Собек, что ж вы так человека-то обижаете? – примирительно сказал кто-то.
– Не человека, а скотину. Даже хуже скотины, потому что хамло.
– Да ты пьян, что ли?.. – откликнулся Зенон.
– Это я пьян?.. Нет, пан Войдылло, я непьющий. Я совершенно трезв. В отличие от тебя, это ж ты по канавам ночуешь. И похабно пристаешь к молодым девушкам. Только, прошу прощения, пьяная свинья может невинную и беззащитную девушку на улице при всем честном народе обзывать срамными словами. Вот так вот.
И он проиграл несколько тактов вальса из «Осенних вариаций».
– Это он о Марыське, что у Шкопковой служит, – сообразил кто-то.
– Точно, о ней, – подтвердил Собек. – Именно о ней, на которую такое хамло, как многоуважаемый господин Войдылло…
– Замолчите! – крикнул Войдылло. – Хватит с меня!
– Вам, может, и хватит, а мне мало!..
– Не суй свой нос в чужие дела!
– Кое-кому тоже следовало бы за собой последить. Да темновато. Издалека не видно. А сюда ведь не спустишься, потому что трусишь.
Зенон рассмеялся.
– Вот дурень-то, чего мне бояться?
– А боишься, что по морде получишь!..
– Да ладно вам, хватит, не стоит, – примирительно посоветовал кто-то с крыльца.
– Верно, не стоит руки пачкать, – согласился с ним Собек.
– Ты у меня сам по морде получишь! – завопил Зенон.
И, прежде чем его успели удержать, соскочил с крыльца. В темноте забурлило. Раздались глухие удары, а потом громкий треск. Это прекрасная мандолина пана Собека разлетелась вдребезги от столкновения с головой бывшего семинариста. Противники сшиблись и повалились на землю. Сцепившись, они покатились к забору.
– Пусти! – послышался сдавленный голос Зенона.
– Получай, хамло! На тебе, вот, вот, чтоб помнил впредь!
Восклицания Собека сопровождались звуками ударов.
– Ну, берегись, коль на меня нарвался!.. А вот тебе! Вот! Будешь к девушкам приставать?! А?
– Не буду!
– Ну так получай, чтоб помнил!
– Не буду, клянусь!
– А вот еще, чтоб помнил свою клятву! И еще! И еще!..
– Братцы, спасайте! – заскулил Зенон.
Вокруг дерущихся собралось с полтора десятка человек. Но никто не двинулся, чтобы помочь Зенону. Собека в городке уважали, и даже те, кто не знал причины ссоры, предпочитали думать, что правда на его стороне, тем более что его противником был скандалист, пользовавшийся дурной славой. Приятели Зенона тоже не спешили оказать ему поддержку. В глубине души они с самого начала были на стороне Собека. Да и драку начал сам Зенон.
– Господа, – попытался урезонить кто-то из толпы, – хватит уже, прекратите!
– Перестаньте, – поддержал его другой.
Собек поднялся с земли. Из дома с керосиновой лампой в руке выбежал Лейзор. Теперь в ее свете стало видно, какой ущерб был нанесен внешности Зенона. Он стоял в разорванной одежде, под глазами красовались синяки, нос был разбит. Он пошевелил во рту языком и выплюнул несколько зубов.
Собек отряхнул костюм, поднял с земли гриф мандолины, за которым на жалобно вздрагивавших струнах тянулись остатки корпуса, откашлялся и молча ушел.
Все прочие тоже стали расходиться, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая. Но на следующее утро все Радолишки кипели, как встревоженный улей. Собственно говоря, у собравшихся перед костелом и не было другого предмета для разговора. Все уже точно знали причину случившейся потасовки и чем она закончилась. В общем-то, люди признавали правоту Собека и радовались укрощению Зенона. Однако ж общее мнение обратилось против Марыси. Ее осуждали, во-первых, за то, что из-за нее дрались парни, а во-вторых, как бы там ни было, продолжительные посиделки молодого Чинского в магазине явно свидетельствовали об испорченности юной девицы.
Да и сам факт, что из-за какой-то там безродной продавщицы на глазах у публики подрались люди из городского общества, чиновник и отпрыск богатой, уважаемой семьи, казался верхом неприличия.
Всех интересовало, каков же будет ответ семьи Войдылло. Люди попытались было выяснить что-то у братьев Зенона, но те только плечами пожимали.
– Не наше дело. Вот отец вернется, тогда сам и решит.
Старого Милосдаря действительно в Радолишках не было. Он поехал за товаром к виленским кожевенникам.
Марыся о том, как был избит Зенон, узнала ранним утром. Прибежали две соседки и рассказали все с подробностями. И если госпожа Шкопкова с удовольствием восприняла новость, считая, что это было Божье наказание Зенону за оставленный им духовный путь, то Марыся очень испугалась. Она горько упрекала себя за излишнюю откровенность и болтливость. И зачем только она пожаловалась благородному господину Собеку! Из-за нее он попал в такие неприятности! Бог знает, какие еще будут последствия. Старый Войдылло не простит ему избиения сына. Верно, подадут на него в суд, напишут жалобу в дирекцию почты. И за свое благородство господин Собек может заплатить потерей места…
Безусловно, она была ему очень благодарна, но в ее душе нашлось место и сожалению. Ради нее он повел себя весьма самоотверженно, подвергся опасности, добровольно стал жертвой омерзительных слухов, и теперь его имя еще долго будут трепать охочие до сплетен кумушки. По этой причине Марыся стала как бы его должницей. Даже если он и словечка не вымолвит, каждый его взгляд будет упрекать ее: «Я защитил твою честь, твое достоинство и доброе имя, разве мне не полагается за это награда?»
И еще одно. Марыся прекрасно отдавала себе отчет, что из-за этого скандала о ней теперь начнут сплетничать и отравят всю жизнь.
Она не лгала, когда, сославшись на головную боль, отказалась идти к поздней обедне. Девушка и в самом деле чувствовала себя больной, несчастной и разбитой. Все воскресенье она просидела дома, то плача, то раздумывая над тем, что же теперь будет. Если бы она могла убежать из городка, уехать как можно дальше отсюда! Хоть бы в Вильно. Она бы согласилась там на любую работу, даже в служанки пошла бы… Но денег на дорогу у нее нет, и нечего даже надеяться, что госпожа Шкопкова одолжит ей. Ни госпожа Шкопкова, ни кто-то еще в городке. Разве что… разве что…
И тут она вспомнила про знахаря с мельницы. Дядюшка наверняка бы не отказал ей ни в чем. Вот единственный человек, единственный, кто у нее остался на всем белом свете.
И Марыся лихорадочно начала обдумывать план действий. Вечером, когда стемнеет, она садами проберется на лесопилку… А оттуда уже до самой мельницы. Где-нибудь по дороге наймет фурманку и к утру будет на станции. Затем напишет письмо госпоже Шкопковой… И ему напишет, Лешеку.
Сердце Марыси сжалось. А что будет, если он не захочет приехать в Вильно?..
И все ее планы сразу рухнули.
Нет, она готова по сто раз в день подвергаться насмешкам, выслушивать сплетни и оговоры, даже сгорать от стыда, но просто не в состоянии отказаться от возможности видеть его глаза, губы, волосы, слушать низкий, столь дорогой ей голос, ощущать прикосновения его сильных, красивых рук.
«Пусть будет, что будет», – решила она.
Был еще один выход: признаться ему во всем. Ведь он значительно умнее ее и наверняка найдет какой-то лучший способ справиться с ситуацией.
Но на это она никогда бы не решилась. Она знала, что никто в местечке не осмелится рассказать ему о причине драки между паном Собеком и сыном Войдылло. Да ведь Лешек особо и не вступал ни с кем в разговоры. Но если б он узнал что-то о скандале, то мог бы заподозрить, что у пана Собека было какое-то право выступать в защиту Марыси, и тогда…
«Нет, я ничего ему не скажу, ничего! – решила она. – Так будет разумнее всего».
Утром Марыся шла от дома до магазинчика с опущенной головой и так торопливо, точно за ней гнались.
Она перевела дыхание только после того, когда оказалась уже внутри лавочки. Посмотрела на себя в зеркало и с огорчением отметила, что две бессонные ночи и переживания последних дней оставили свои следы на лице. Она была бледна, а под глазами появились темные круги. Это окончательно вывело девушку из себя.
«Когда он увидит, как я подурнела, – думала она, – сразу бросит меня. Лучше бы он сегодня не приезжал».
Проходил час за часом, и Марыся тревожилась все сильнее.
«В недобрый час я пожелала, чтобы он не приезжал», – корила она себя. В костеле отбивали уже полдень, когда она увидела лошадей из Людвикова. Но Лешека в бричке не было. На козлах сидел зевающий конюх. Толстая пани Михалевская, экономка из Людвикова, вылезла из экипажа и отправилась за покупками. Марысе очень хотелось подбежать к бричке и спросить, что с Лешеком, но она сумела сдержать свой порыв и поступила весьма рассудительно, потому что не прошло и часа, как на улице послышался рев мотора.
Она чуть не расплакалась от радости. К счастью, Лешек не заметил ни ее бледности, ни слез. Словно вихрь в ритме мазурки, залетел он в лавочку, выбил каблуками чечетку и воскликнул:
– Виват гениальному механику! Да здравствую я! Поздравь меня, Марысенька, я уж думал, что на этой жаре меня черти заберут, но я решил не сдаваться!
И он начал рассказывать, как по дороге у него сломался мотоцикл и с каким трудом он исправил поломку, хотя мог бы поехать в бричке с пани Михалевской.
Он так был доволен собой, что весь сиял.
– Для милой семь верст не крюк! – восклицал он.
– Вы же весь перепачкались, господин Лешек! Вот я сейчас дам вам воды.
Она как раз наливала воду в таз, когда вошла госпожа Шкопкова с обедом. Она окинула молодых осуждающим взглядом, но ничего не сказала.
– Господин Чинский ремонтировал свою машину, – пояснила Марыся, – и хотел умыться, потому что весь перемазался.
– Я постараюсь тут не набрызгать, – добавил Чинский.
– Ничего страшного, – сухо ответила пани Шкопкова и вышла.
Но молодой инженер даже не обратил внимания на холодность хозяйки магазинчика. Он весело объяснял Марысе, что именно сломалось в моторе и как он ловко справился с ремонтом. Постепенно и девушка обрела прежнюю свободу.
– Как же мило ты смеешься! – твердил Чинский.
– Обыкновенно.
– А вот как раз и не обыкновенно! Клянусь тебе, Марысенька, ты во всем, абсолютно во всем совершенно исключительная. А уж если говорить о смехе… каждый смеется по-своему.
И тут он стал показывать, как кто смеется. И делал это так забавно, такие мины при этом корчил, что и мертвого бы расшевелил. Лучше и дольше всего Лешек изображал толстую экономку, пани Михалевскую.
Он и ведать не ведал, что как раз в это время сама пани Михалевская чуть не плакала, причем именно из-за него.
Когда она уже усаживалась в бричку, кучер заметил, что у экономки пылает лицо, точно она только что варенье варила и стояла над огнедышащим тазом. И всю дорогу он слышал, как она бормотала что-то, вздыхала и даже постанывала.
«Что-то случилось», – решил кучер.
И правда, случилось. В городке пани Михалевская узнала такие страшные вещи, что поначалу даже не хотела в них верить и не поверила бы, если бы несколько человек этого не подтвердили и если бы своими глазами не увидела, где господин Лешек поставил мотоцикл и просидел битых два часа.
Пара некрупных, но откормленных гнедых шла хорошей рысью, однако пани Михалевской казалось, что бричка едва движется. Она все время смотрела вперед, подсчитывая, сколько километров осталось еще до Людвикова.
Наконец за лесом открылся широкий вид. Поля мягко спускались вниз к видневшейся на горизонте голубоватой полоске озера. Над озером симметричными рядами выстроились маленькие кубики домиков из красного кирпича, а над ними – печные трубы. На холме среди зарослей зелени белел высокий дворец, который все в округе считали восьмым чудом если не света, то по меньшей мере северо-восточных польских земель. И только одна-единственная пани Михалевская не разделяла этих восторгов. Она предпочитала старый деревянный, но более просторный и уютный дом, в котором родилась, выросла и трудилась с детства.
Она никак не могла простить своему хозяину-кормильцу и ровеснику, старому господину Чинскому, что он приказал возвести новый дворец и не отстроил сожженный во время нашествия прежний дом, да еще велел построить его в три этажа, как будто специально, чтобы старым ногам экономки пришлось подниматься и спускаться по всем этим лестницам.
Вот и сейчас, хотя голова ее была занята другими мыслями, пани Михалевская не преминула неодобрительно хмыкнуть в сторону этого вздорного новшества, к которому она так и не смогла привыкнуть, несмотря на то что со времени его постройки уже прошло с полтора десятка лет.
Миновав ворота, бричка завернула в боковую аллею парка и остановилась перед служебным входом. Пани Михалевская была слишком взволнована, чтобы заняться выгрузкой и разместить в кладовой привезенные припасы. Точно локомотив скорого поезда, она пронеслась через кухню, буфетную и столовую, при этом сопя гораздо сильнее, чем это было вызвано усталостью и набранной скоростью.
Она знала, где в эту пору дня можно найти супругов Чинских, и не ошиблась. Они были на северной террасе. Госпожа Элеонора, сухая, прямая и затянутая в тугой корсет, сидела на твердом стуле без подушки (других она не признавала), погрузившись в огромные учетные книги фабрики. За ее спиной стоял бухгалтер, пан Слупек, и на лице его было такое выражение, словно его вот-вот должны подвергнуть пытке. Его лысую голову, похожую на огромный розовый гриб-дождевик, густо покрывали капельки пота. В другом конце террасы в огромном плетеном кресле восседал господин Чинский, которого окружали неправдоподобно высокие пачки газет. Пани Михалевская молча остановилась посередине террасы как воплощение ужаса.
Господин Чинский опустил очки и поинтересовался:
– В чем дело, Михалеся?
– Несчастье! – простонала она.
– Лимонов не было?
– Ах, да какие там лимоны!.. Ком-про-ме-та-ция!
– Что случилось? – спокойно, но уже с бо́льшим интересом спросил господин Чинский, откладывая газету.
– Что случилось?.. Скандал!.. Я думала, что сгорю со стыда. Все местечко ни о чем другом и не говорит! Только о нем!
– О ком?
– Так о нашем дорогом Лешеке.
– О Лешеке?
Госпожа Чинская подняла голову и произнесла:
– Запомните, пан Слупек. Мы остановились на этой позиции, тысяча четыреста восемьдесят два злотых и двадцать четыре гроша.
– Слушаюсь, госпожа, – ответил бухгалтер и, переведя дыхание, повторил: – Двадцать четыре гроша. Мне уйти?
– Нет, останьтесь. Так о чем ты говоришь, Михалеся?
– О пане Лешеке! Стыд для всей семьи! Я узнала такие вещи, что просто слов нет!
– Тогда попрошу повторить. Верно, какие-то сплетни, – с каменным спокойствием изрекла госпожа Чинская.
– В Радолишках дерутся и убивают друг друга из-за нашего пана Лешека. Начальник почты гитару об него сломал, и они катались по всему рынку. Нос ему разбил! Зубы выбил…
– Кому? – вскочил господин Чинский. – Лешеку?
– Да нет, сыну шорника Милосдаря.
– Тогда какое нам до этого дело?
– Да ведь они дрались из-за той девушки, с которой у пана Лешека шашни.
Госпожа Чинская нахмурила брови.
– Ничего не понимаю. Михалеся, расскажи все сначала и по порядку.
– Так я и говорю! Из-за девушки. Из-за той Марыськи, что у Шкопковой в лавке работает. Я уж давно подозревала, что тут дело нечисто. Глаза у меня старые, но видят хорошо. Разве я еще на прошлой неделе не говорила, что пан Лешек что-то слишком зачастил в Радолишки! Может, не говорила?.. Вот только скажите, что я не говорила…
– Это не важно. Что с этой девушкой?
– Да девушка как девушка. Миленькая, да, только ничего особенного я в ней не вижу. Чтобы из-за нее драться?.. Только это одно дело, а вот пан Лешек – совсем другое. Каждый день он в местечко несется. Я все думала, чего его туда тянет, а теперь вот что оказалось! Только сейчас все и выяснилось.
– И что оказалось?
– Так он же к ней, к этой Марысе ездит. Мотоцикл его целыми днями где стоит?.. А у магазина Шкопковой. Все видят и только головами качают. А сам пан Лешек где?.. Так в магазине же. С глазу на глаз! Вот именно! С глазу на глаз, потому как сама Шкопкова-то в лавке не сидит. Аптекарша говорит, что ее удивляет, почему это ксендз до сих пор с амвона не осудил, ведь, говорит, такой разврат возмутительный! А если он до сих пор, говорит, этого не сделал, то только из уважения к родителям такого предприимчивого кавалера.
Господин Чинский поморщился.
– И что дальше?
– Ну так вот этот самый сын шорника, бывший семинарист, в субботу… Нет, нет, в пятницу… Да нет, я правильно сказала, в субботу, при всем честном народе и спросил ту самую Марысю, чего это она в лавку диван не поставит… Ну, Марыся ему ничего не ответила. Тогда он начал такими словами над нашим паном Лешеком и над ней насмехаться, что все вокруг от смеха за животы держались.
– Кто это все? – спокойно спросила госпожа Элеонора.
– Ну, люди. На улице полно народу было, и все слышали. Так, видать, девушка-то застыдилась, ни словечка не сказала и убежала. Но, должно быть, пожаловалась тому, что почту высылает, Собеку. А может, он и сам от кого-то узнал. Только когда он потом с бывшим семинаристом встретился, то кинулся на него и так измолотил, что тот едва живой ушел. А сегодня я своими глазами видела мотоцикл пана Лешека, который снова перед тем магазинчиком красовался. Навлечет еще какое-то несчастье на себя. Этот Собек уже готов и его допечь, потому…
– Ну хорошо, – прервала ее госпожа Чинская. – Спасибо, Михалеся, за информацию. Я займусь этим делом.
Говорила она совершенно ровным и безразличным тоном, но экономка хорошо знала, чем это пахнет. И у нее в голове мелькнула мысль, что она поступила слишком торопливо и нерассудительно. Правда, она возмутилась, услышав про безнравственные визиты Лешека, но любила его больше родных детей и теперь жалела о своем поступке.
– Простите, госпожа, но я, – начала она, – ничего дурного про нашего пана Лешека сказать не хочу, ведь и так понятно…
Но супруги Чинские уже разговаривали по-французски, и это означало, что Михалеся должна выйти. Чуть помедлив, экономка так и сделала, но при этом подумала, не стоит ли заранее выйти на дорогу и предупредить Лешека о том пиве, которое она для него наварила. Однако, поразмыслив, пришла к выводу, что молодому человеку только на пользу пойдет та порядочная взбучка, которую он сам навлек на себя, и отказалась от своего намерения.
Уж он-то в любом случае заслуживал осуждения. Если он соблазнял порядочную девушку, то поступал некрасиво. А если эта Марыся к порядочным не относилась, то он позорил и свое имя, и имя семьи.
Так рассуждала Михалеся, такого же мнения придерживались и супруги Чинские.
Поэтому когда Лешек вернулся, то был удивлен и встревожен холодными взглядами, которыми его встретили. Сначала его испугало предположение, что негодяй Бауэр, хозяин гостиницы в Вильно, прислал счет.
«Вот же свинья, – думал он, молча поглощая ужин, – не мог подождать пару недель». В том счете, насколько Лешеку не изменяла память, были такие пункты, которые молодой человек во что бы то ни стало хотел бы скрыть от родителей. Особенно разбитые зеркала и слишком много, на самом деле слишком много бутылок из-под шампанского…
– Ты можешь сейчас уделить нам полчаса? – произнесла, вставая из-за стола, госпожа Чинская. – Мы хотели бы поговорить с тобой.
– Целых полчаса? – подозрительно спросил Лешек.
– Ты полагаешь, это слишком много для родителей?
– Да нет же, мама. Я в вашем распоряжении.
– Пройдем в кабинет.
– Ого! – пробормотал под нос Лешек. – Видно, что-то серьезное.
Обычно в кабинете происходили наименее приятные и наиболее официальные беседы с родителями.
Господин Чинский сел на председательское место у письменного стола и, дважды откашлявшись, приступил:
– Сын мой! Нам стало известно, что твое легкомыслие распространяется так далеко, что нарушает границы не только благопристойного поведения, но и личного достоинства, чувство которого мы с матерью старались тебе привить.
– Отец, я не понимаю, о чем речь, – защищаясь, ответил Лешек холодным тоном.
– Речь идет об отвратительных драках среди местечковых… кавалеров… о драках, причиной которых был ты.
Лешек с облегчением подумал: «Значит, не счет из гостиницы! Слава богу!» – И, расслабившись, легко улыбнулся.
– Дорогие мои родители! Я вижу, что вас ввели в заблуждение, попросту говоря, обманули какими-то вздорными выдумками. Я понятия не имею ни о каких драках. И уж тем более никак не мог стать их причиной.
– А о некой Марысе ты тоже ничего не знаешь? – медленно спросила мать. – О продавщице из магазинчика Шкопковой?
Лешек слегка покраснел.
– А какое это имеет значение?
– Весьма большое, мой дорогой.
– Да, я знаю эту Марысю. Очень милая девушка.
Он откашлялся и добавил:
– Я довольно часто заглядываю в этот магазинчик за папиросами.
– Ежедневно, – уточнила мать.
– Возможно. – Лешек нахмурился. – И что с того?
– Ты бываешь в этом магазине ежедневно и просиживаешь там часами.
– Если даже и так… Мама, ты не считаешь, что я уже вышел из того возраста, когда за мной следовало приглядывать?..
– Конечно. Если речь идет только о нашем надзоре. Но даже самый зрелый и полностью самостоятельный человек всегда подвержен другому надзору, причем гораздо менее снисходительному. Я имею в виду общественное мнение…
Лешек возмутился:
– Мама, извини меня, но я не совершал никакого преступления!
– А никто тебя и не обвиняет в преступлении.
– Тогда о чем речь?
– А речь о такте и достоинстве, – четко выговорила госпожа Чинская.
– Я не считаю, что нанес ущерб тому или другому.
Господин Чинский нетерпеливо пошевелился в кресле.
– Лешек, мой дорогой, – начал он. – Ты и сам должен понимать, что твое постоянное пребывание, я бы даже сказал, демонстративное пребывание в лавочке не могло не вызвать всякие толки…
– Кому какое дело до этого. Магазин… магазин – это место общественное. Каждый имеет право войти в магазин.
– Прости, – перебила его мать, – но такие увертки ниже твоего уровня. Прежде всего ты сидишь там целыми днями, что привлекает всеобщее внимание и вызывает толки. Ты же не думаешь, что люди настолько наивны, что подумают, будто ты проводишь там время, изучая методы розничной торговли. Ты ходишь туда ради этой продавщицы.
– Возможно. Что из этого следует?
– Из этого следует, что ты находишь ее общество весьма привлекательным.
– Совершенно верно, мама.
– И вполне подходящим для тебя?.. Так?.. Ее общество вполне подходит для господина Чинского с точки зрения светской, интеллектуальной и общественной?
Лешек пожал плечами.
– Это вопрос взглядов и вкусов…
– Позволь тебе сообщить, что, по нашему мнению, тут нет никаких вопросов. А лучшее тому доказательство – это городские сплетни о твоих посещениях лавки.
– Да плевать мне на сплетни! – раздраженно воскликнул Лешек.
– И дело не ограничилось сплетнями. Эту девушку публично оскорбил один из менее счастливых… твоих соперников, вследствие чего другой… поклонник этой столь популярной девицы счел возможным вступиться за ее честь в уличной драке. Благодаря этому твои… ухаживания и твоя особа приобрели широкую известность.
Лешек широко раскрыл глаза от удивления.
– Но я ни о чем таком не знаю! Это вообще невозможно!
Возмущенный, он вскочил с места и заявил:
– Это омерзительные сплетни, в них нет ни слова правды!
– К сожалению, сын мой, – возразил господин Чинский, – у нас совершенно достоверные сведения.
– Не верю! – взорвался Лешек. – Она бы мне рассказала! А мама не должна говорить о девушке, которую не знает, о достойнейшей девушке, используя такие… такие… двусмысленные намеки! Это… это отвратительно.
Супруги Чинские обменялись быстрыми взглядами. Горячность сына застала их врасплох, ведь до сих пор он и сам излишне легкомысленно оценивал женщин.
– Я вижу, что эта девушка весьма интересует тебя.
– Разумеется, интересует, если из-за меня она может подвергнуться такому… такому…
Он закусил губу и не закончил фразу.
Госпожа Чинская спокойно рассказала все, что узнала от экономки. Лешек настолько сумел взять себя в руки, что ни разу ее не прервал. Когда она закончила, он сухо произнес:
– И какие ж выводы из этого вы намерены сделать? Какие будут последствия?
– Как это – последствия? – удивился господин Чинский. – В качестве единственного последствия мы как раз и хотели попросить тебя задуматься над своим поведением. Вот и все.
Лешек покачал головой.
– Это еще не все. Можете соглашаться со мной или нет, но я в своем поведении не вижу ничего такого, что могло бы нанести ущерб вашему, моему или чьему бы то ни было достоинству. Мне не в чем себя упрекнуть. Абсолютно не в чем! Однако же ни я, ни, полагаю, вы, мои родители, не можем допустить, чтобы какой-то хам порочил имя бедной, но достойной уважения девушки, используя при этом мое имя.
Госпожа Элеонора смерила сына насмешливым взглядом.
– Мой дорогой, ты так уверен в том, что эта девушка заслуживает уважения? Никогда не подозревала, что ты столь наивен! Но как ты предполагаешь ответить?.. Мне крайне интересно. Или ты собираешься, по примеру того почтового чиновника, затеять драку с сыном шорника?
– Нет, но я подам на него в суд!
– Это не свидетельствует о твоем здравом смысле. Судебное разбирательство не поправит репутацию этой девушки.
– Тогда я велю кучеру отхлестать его кнутом! – нетерпеливо выкрикнул он. – Во всяком случае… И с сегодняшнего дня мы не будем покупать изделия его отца ни для фабрики, ни для имения.
– Его отец тут совершенно ни при чем, – заметил господин Чинский.
– Разумеется, – добавила госпожа Элеонора. – А кроме того, позволь мне выразить свое удивление по поводу твоего тона, столь категоричного, будто и фабрика, и имение являются твоей собственностью и только ты решаешь, что надо заказывать, а что нет.
Но Лешек был уже слишком взволнован. Он отступил на шаг и спросил:
– Вот, значит, как? Вы собираетесь и дальше заказывать у того шорника?
– Не вижу причин менять его.
– Зато я вижу! – крикнул он.
– Но это, к счастью, нас ни к чему не обязывает.
– Да? Тогда слушайте! Я решительно этого требую. У вас есть выбор. Или вы примете в расчет мое мнение, или больше никогда меня не увидите!
Лешек развернулся на каблуках и вышел из кабинета. Он был безгранично возмущен и разъярен до такой степени, что и в самом деле готов был выполнить свою угрозу и уехать из имения немедленно.
Молодой человек не хотел да и не мог раздумывать над тем, правильно ли поступает. Сама мысль, что какой-то местечковый хлюст осмелился публично подшучивать над ней, приводила его в ярость, затмевала трезвый рассудок и требовала безотлагательного ответа. В этот момент самым важным было одно: наказать, отомстить. И пусть родители попробуют ему помешать! Пусть только попробуют! Он чуть ли не хотел этого. Он бы показал им, что ни перед чем не остановится. И их тоже накажет.
Он выбежал в парк и в бешенстве стал сшибать листья с ветвей каштанов тростью отца, которую захватил из прихожей.
Разумеется, разрыв с семьей означал бедность. Правда, он получил профессиональное образование керамиста и мог бы найти себе место в Чмелёве или еще на какой-нибудь фабрике. Но в этом случае его бюджет ограничился бы жалкой парой тысяч злотых в месяц.
– Ничего не поделаешь, – убеждал он себя, – как-нибудь выдержу.
И вдруг возник вопрос: а что, собственно, стало причиной конфликта, который может изменить всю его жизнь?
Ответ нашелся легко: Марыся…
Да, по сути, все дело было в Марысе, в этой милой девушке, ради которой он был готов на все. А если, допустим, и не на все, то на очень многое…
«На очень многое…» – подумал он, заверяя себя.
Но тут же появились и сомнения. Разве разрыв с родителями, отказ от своего положения и благополучия не были слишком большой ценой?..
Он с возмущением отогнал эту мысль. Дело казалось ясным: если кто-то осмелился оскорбить Марысю и его, значит, этот «кто-то» должен понести наказание. А если родители отказывают своему единственному сыну в столь мелком одолжении, то этим самым они укрепляют его в мысли, что не заслуживают никакого снисхождения. Вот и пусть страдают.
А Марыся?.. О ней-то совсем другой разговор. Тут нет места вопросу, заслуживает ли она этого. Потому как, спокойно рассуждая, с Марысей что-то не так. Решительно что-то неладно. Этот сын шорника, видимо, явно считал, что может позволить себе некую фамильярность по отношению к ней… Или она возбуждала в нем ревность. А еще этот почтарь, некий Собек… Почему он вступился за Марысю?.. Неужели совсем без всяких на то оснований?..
Глупо и наивно было бы так думать. Разумеется, девушку что-то с ним связывало.
Лешеком овладело крайнее раздражение. А подсунутое ему матерью предположение, что эти люди – его… соперники, само по себе казалось ему оскорблением, причем довольно тяжким оскорблением.
«Вот каковы последствия, – с горечью думал он, – близости с особами из такой среды».
Мать его, безусловно, женщина опытная. Она относится к жизни с присущей ей рассудительностью. Если ее подозрения хотя бы отчасти справедливы…
– Хорош же я тогда! Сам выставил себя на посмешище, как сопляк! Эта девица при мне притворяется полевой лилией, а кто знает, что она себе позволяет с таким, скажем, как Собек…
Честно говоря, подозрение было мерзким, но кто может поручиться, что сама жизнь и правда не столь же омерзительны?
И Лешеком овладело глубокое уныние. Он сел на каменную скамью, мокрую от росы, и задумался. Мир казался ему чем-то отвратительным, тоскливым, не достойным никаких усилий, борьбы, жертв…
…Ведь если бы Марыся была честной, искренней девушкой, она не стала бы скрывать от него этот скандал. Наоборот, рассказала бы обо всем, попросила бы защиты у него, а не у какого-то там Собека…
Из-за деревьев поднялась круглая луна. Лешек вообще не любил ее. Но на сей раз на ее неприятном лике он разглядел явно насмешливую улыбку.
«Я еще слишком глуп, – подумал он, – просто невероятно глуп».
И стал размышлять над тем, что скажут родители обо всей этой истории и о его поведении.
Если б он слышал их разговор, то убедился бы, что не очень отличается от них в оценке своего ума.
После его ухода супруги Чинские довольно долго молчали. Наконец госпожа Элеонора вздохнула:
– Меня так беспокоит глупость Лешека.
– Да и меня она не радует, – добавил господин Станислав, поднимаясь. – Поздно уже. Пора спать.
Как всегда, он поцеловал жене руку, коснулся губами ее лба и удалился к себе. Через четверть часа он уже был в постели и как раз собирался почитать «Потоп»[15], чтение которого перед сном служило ему самым надежным успокоительным средством, ибо помогало отвлечься от мыслей о будничных дневных заботах, а кроме того, блаженно нежить воображение. И тут в дверь постучали.
– Это ты? – удивился он при виде жены. За много лет он отвык от ее посещений в халате и в такое время.
– Да, Стась. Я хотела бы посоветоваться с тобой. Сама не знаю, как следует поступить. Ты полагаешь, угрозы Лешека надо принять всерьез?
– Он юноша горячий, – осторожно заметил Чинский.
– Видишь ли… Было бы крайне непедагогично уступить сыну под давлением его угроз. Однако же, с другой стороны, следует принять во внимание его возраст. Если мы до сих пор не смогли воспитать его, то и дальнейшие усилия ни к чему не приведут.
Господин Станислав бросил тоскливый взгляд на толстый том, лежавший на одеяле. Заглоба как раз получил должность региментария[16] и занялся вопросами снабжения лагеря. Весьма безмятежный отрывок, а тут вдруг снова надо возвращаться к проблемам Лешека.
– Эля, я полагаю, мы отказали ему слишком решительно.
– Но справедливо.
– Без сомнения. Но все-таки, с другой стороны, гордость парня была задета. Я считаю, что, в конце концов…
Мысль о том, что он сейчас продолжит чтение романа, где как раз говорилось о доставке оружия и амуниции из Белостока, о прибытии князя Сапеги («До чего ж дурна голова из Витебска быть должна!»), настраивала господина Чинского на мирный и дружеский лад.
– …В конце концов, этому шорнику стоило бы приструнить своего сынка. Нельзя отказать Лешеку в некоторой правоте.
– Значит, ты настаиваешь, – подхватила госпожа Элеонора, – что мы должны принять условие Лешека?
– Я настаиваю? – искренне удивился господин Станислав.
– Ну, не я же. – Жена нетерпеливо повела плечом. – Я всегда считала, что ты слишком мягок и снисходителен по отношению к нему. Только бы не пришлось нам когда-нибудь горько расплатиться за эту твою слабость.
– Прошу прощения, Эля, но… – начал было господин Чинский, но супруга перебила его:
– Пожалуйста, я поступлю согласно твоей воле. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что делаю это вопреки моим убеждениям.
– Но ведь… – попробовал возразить господин Станислав, – но я…
– Ты? Ты, мой дорогой, плохо его воспитал! Спокойной ночи!
И госпожа Элеонора вышла. Вышла, испытывая стыд перед самой собой. Совесть нельзя обмануть, перекладывая мнимую ответственность за уступки на плечи мужа. Ее деспотичная натура взбунтовалась против ультиматума сына, и, если бы господин Станислав хотя бы единым словом поддержал ее желание сопротивляться, быть решительной, она бы не изменила своего решения. Другое дело, что шла она в спальню мужа в полной уверенности, что такого поощрения не услышит.
Но тот, кто подумал, будто она способна совершенно смириться с поражением, совершенно не знал госпожу Элеонору. Правда, она содрогалась при одной мысли о том, что сын может исполнить свою угрозу и уехать на другой конец света, но все-таки не могла признать свою капитуляцию, не выторговав хоть каких-то уступок.
Поэтому утром она вызвала сына и коротко сообщила ему, что никак не под его нажимом, но, уступая просьбе отца, она решила отказаться от заказов у шорника Войдылло. Однако при одном условии, а именно: Лешек сегодня же надолго уедет к дяде Евстахию под Варшаву.
Она сознательно не назвала определенного срока, боясь что слишком длительный отъезд вызовет протест сына. Но ее опасения оказались излишни. После бессонной ночи, после бесконечных скептических и даже циничных мыслей Лешек был готов на все. Он сам подумывал, не лучше ли ему уехать куда-нибудь, а потому план матери принял без единого возражения.
Отъезд сам по себе устранит соблазн поездок в городок; а в шумном, веселом доме дяди Евстахия, где всегда полным-полно девиц и молодых замужних дам, он наверняка проведет время приятнее, чем в этом отвратительном местечке, в этой грязной луже, среди мелких, нечистых и приземленных забот.
Так он думал вплоть до того момента, пока за окном вагона не поплыли назад станционные домики. А когда колеса поезда монотонно и ритмично застучали, унося его прочь, мысли молодого человека затуманились, закружились и вдруг потекли совсем в другом направлении.
Но об этом уже в следующей части нашего повествования.
Глава 10
Жизнь на мельнице старого Прокопа Шапеля, прозванного Прокопом Мукомолом, текла спокойно. Ясное голубое небо отражалось на гладкой поверхности тихих прудов, медом пахли липы, добрая вода-кормилица блестящей лентой струилась на огромное мельничное колесо, точно зеркальная полоса, которая на лопастях разбивалась вдребезги на прозрачные зеленоватые осколки, становившиеся все мельче и мельче, а потом превращавшиеся в белую пену, с клокотанием и брызгами выползавшую снизу.
Внизу бурлила вода, вверху равномерно бухтели довольные и сытые перемолотым хлебом жернова, а по желобам сыпалась драгоценная пушистая мука. Только мешки подставляй под этот хлебный поток.
Поскольку стояла уже поздняя весна, работы на мельнице было немного. Около трех часов дня работник Виталис опустил запору, и колесо, освобожденное от тяжести воды, с разгону прокрутилось еще пару раз, заскрипели дубовые оси, заскрежетали металлические шестеренки, вздохнули жернова, и наступила тишина. Только мучная пыль бесшумно опадала с крыши и с чердачка на землю, на расставленные и уже наполненные мешки, на весы, оседала довольно толстым слоем: к утру иногда на полпальца набиралось.
Иные бессовестные мельники и эту муку людям продавали, но старый Прокоп велел сметать ее на болтушку для скота и прочей живности, а потому его коровы, лошадь, а также свиньи, утки, гуси и куры матери Агаты были такими раздобревшими, точно на господских кормах росли.
С трех часов на мельнице уже нечего было делать, и в это время знахарь Косиба обычно выбирался в городок. Он отряхивал одежду от муки, надевал чистую рубаху, ополаскивал руки и лицо у старого пня над прудом, где удобнее всего было спуститься к воде, а потом шел в Радолишки.
Больных летом было немного, приходили они главным образом по вечерам, после захода солнца, когда, как известно, у людей есть свободное время.
В последние месяцы все домашние, а особенно женщины, заметили в поведении знахаря большие перемены. Он как будто начал больше следить за собой, начищал башмаки ваксой до блеска, купил две разноцветные блузы, подстригал бороду и волосы, которые раньше отрастали и лежали у него на плечах, делая его похожим на попа.
Зоня не обманывалась относительно причин его тяги к щегольству. Безошибочный в таких делах женский инстинкт давно подсказал ей, что до сих пор безразличный к женскому очарованию Косиба приглядел себе в местечке какую-то бабу. Поначалу подозрения пали на Шкопкову, владелицу лавочки, но после недолгих расспросов они оказались ошибочными: Антоний и правда заходил в эту лавку, но общался там только с молоденькой девушкой, которая служила у Шкопковой.
Зоня не раз видела продавщицу, и ее разбирал смех при одной мысли об этих ухаживаниях.
– Эх ты, старик, – поговаривала она, наблюдая за прихорашивающимся знахарем. – Ишь, чего тебе захотелось! Разве она для тебя?.. Да постучи себя по лбу! Вот! Для какой-такой работы она тебе понадобилась? Ходишь к ней, ходишь, а что вы́ходишь? Тебе нужна здоровая баба, работящая, а не такая белоручка.
– Как раз такая, как ты, – посмеивалась Ольга.
– А хоть бы и так! Хоть бы и так! – Зоня вызывающе упирала руки в бока. – Хитрить я не буду. Чем я хуже той?.. Не так молода?.. Так и что? Да ты сам подумай, зачем тебе такая молоденькая?.. Да еще городская! С фанабериями. Модница. Грех ведь на душу возьмешь!
– Да замолчи ты, глупая! – в конце концов не выдержал раздраженный донельзя знахарь.
И отошел, бормоча под нос:
– Что только такой дурной в голову приходит!..
На самом деле он считал болтовню Зони переливанием из пустого в порожнее. У него и мысли не было жениться. Он испытывал к женщинам неприязнь, о причине которой даже не задумывался, а еще опасался их и даже немного презирал. Однако же его отношение к Марысе из Радолишек было совсем иным. Марыся отличалась от всех. До такой степени отличалась, что даже сравнивать ее с другими женщинами ему казалось нелепостью. Сама мысль Зони о его женитьбе на Марысе была настолько глупой, что и задумываться над ней не стоило. А если он и вспоминал ее слова, то только потому, что пытался понять, как в Зониной тесной головке могла возникнуть такая дурость.
Ну и что с того, что он бывает в магазине?.. Ну и что с того, что иногда какой-нибудь гостинец Марысе приносит?.. Неужто нельзя?.. Да, он любил с ней беседовать и не скрывал, что предпочитает поболтать с ней, а не с кем-то другим… Но зачем такую околесицу-то плести? Эта девушка, почти еще ребенок, – сирота, у нее никого нет. Так неужто ему нельзя пожалеть бедняжку, посочувствовать ей?.. Тем более что делал он это искренне, от чистого сердца, без какого-то интереса и выгоды. Антоний чувствовал, что и она к нему привязалась, тоже полюбила его всей душой. Если б дело обстояло иначе, она бы не встречала его с такой неизменной радостью, не старалась удержать в лавочке подольше, не поверяла всех своих печалей и огорчений.
А в последнее время их у Марыси было немало. С самого понедельника она ходила поникшая, а в четверг он сразу заметил, что она плакала.
– Что, девочка моя, – спросил он, – опять злые люди житья не дают?
Она покачала головой.
– Нет, дядюшка! Совсем не то! Только из-за этого скандала несчастье произошло.
– С кем? – забеспокоился знахарь.
– А с шорником Войдылло.
– Какое еще несчастье?
– Видно, молодой господин Чинский от кого-то узнал, что бывший семинарист меня оскорбил и потом драка была. А вот вчера шорник послал в Людвиково фурманку с готовой работой, а новой ему не дали. Старого Милосдаря до сих пор не было в городке. Он ездил в Вильно и только вчера вернулся. Когда фурманка пустой приехала, он спросил:
– А где заказ?
А кучер ему и отвечает:
– Людвиковская госпожа велела передать, что работы для нас больше не будет.
– Почему не будет? Фабрику закрывают?
– Нет, фабрику не закрывают, – отвечает кучер. – Только ваш сын ихнего сынка оскорбил, вот барыня и не хочет больше давать вам работу.
Знахарь кашлянул.
– Несправедливо это. Как же может отец за сына отвечать? Сын – повеса, но отец же порядочный человек и ни чем не провинился.
– Конечно, – согласилась Марыся. – Я и сама ему это сказала.
– Это кому же?
– Да Милосдарю. Он, когда такое услышал от кучера, начал расспрашивать и узнал, что случилось. Тогда он сначала пошел к господину Собеку, подал ему руку и поблагодарил за то, что тот с его сыном правильно поступил, а потом ко мне пришел.
– И чего хотел?
– Сперва так строго на меня посмотрел и сказал: «Я пришел попросить прощения за поведение моего Зенона. Это глупый и дурной парень. Лодыря следовало наказать. А то, что он от господина Собека получил, еще мало. Я понимаю, что он не имел права вас оскорблять. Не его дело, чем вы занимаетесь. Госпожа Шкопкова – ваша опекунша, это ее право, а не этого дармоеда. И если б вы пришли и пожаловались мне, он получил бы сполна за свое поведение». А потом добавил: «Но вы пожаловались молодому наследнику из Людвикова, и теперь со мной, совершенно невинным стариком, случилось несчастье, потому что господа перестали у меня заказывать, а это было больше половины моего заработка».
Знахарь удивился:
– Но ведь вы же не жаловались молодому наследнику?
– Вот именно. Я так и сказала пану Войдылло, но он, похоже, мне не поверил.
– Ну, я тут еще никакого несчастья не вижу.
– А несчастье в другом. Старый Войдылло сегодня утром выгнал сына из дому!
– Выгнал?.. Как это – выгнал? – удивился знахарь.
– Старый шорник – очень строгий человек. Весь городок только и говорит, что о том случае. И все твердят, что это из-за меня… А чем я виновата? Что я дурного сделала?..
Голос Марыси задрожал, на глазах показались слезы.
– Я сама хотела бежать к пану Войдылло, просить его, чтоб простил Зенона, да побоялась… Да и не обратил бы он внимания на мои просьбы. Даже ксендз заступался за Зенона, твердил, что парень, конечно, испорчен, но если его из дому выгнать, то он пойдет по еще худшей дорожке… Ничего не помогло. Старик ответил, что, даже если сын в тюрьме сгниет, его это не тронет, потому как Зенон – лодырь, дармоед и скандалист, да еще у отца и братьев хлеб отнимает.
Знахарь, кивнув, заметил:
– Неприятная история, только твоей вины, девочка, тут нет.
– Ну и что мне с того, что нет! – Марыся заломила руки. – Когда все на меня пальцами показывают, как на преступницу какую… волком смотрят… Даже госпожу Шкопкову против меня настраивают. Сама слышала, как один тут, столяр, говорил госпоже Шкопковой: «Людям на беду да Богу на поругание держите вы у себя эту приблуду».
Марыся закрыла лицо руками и расплакалась.
– Я знаю, знаю, – рыдала она, – чем это все закончится… Они меня отсюда выдавят… лишат работы… А ведь я только хотела как лучше… Если б пан Лешек приехал, я бы на коленях просила его простить Зенону его вину… Но он… он не приезжает… Не дает о себе знать. Только этого несчастья не хватало… этого… О Боже, добрый мой Боже!..
Антоний Косиба сидел, безвольно опустив свои большие руки. От волнения у него побледнело лицо. Он бы душу отдал, лишь бы избавить от страданий и мучений эту девочку, так любимую им. Его попеременно охватывал то гнев, то желание тут же идти и что-то делать, то ощущение собственного бессилия.
У него даже не находилось слов, которыми бы он мог ее утешить. Тогда он встал, обнял девушку и стал гладить ее по волосам своей грубой, натруженной ладонью, повторяя:
– Тихо, голубушка, тихо, голубушка!..
Она прижалась к нему и вся дрожала от рыданий. А им овладела такая великая жалость к ней, к себе, к их общему одиночеству и бессилию, что и у него полились слезы по лицу, по седеющей бороде, по пальцам, нежно гладившим головку девушки.
– Тихо, голубка моя, тихо, тихо… – едва слышно приговаривал он, пытаясь хоть как-то утешить ее.
– Только ты один, дядюшка… только ты у меня и есть на всем свете… Приблуда…
– Оба мы чужие средь людей, оба мы приблуды, голубка! И не тревожься, не выплакивай глазки. Я не позволю тебя обидеть. Я стар уже. Но сил еще хватит… пока я ни голода, ни нужды не знаю, и у тебя, голубка, все будет. Тихо, тихо, девочка ты моя, дорогая моя, тихо… Если люди уж очень досаждать тебе станут, ты приходи ко мне, на мельницу. У меня там не больно красиво, да и небогато, но ни голоду, ни холоду ты там не узнаешь, и сердечности хватит… Там большой лес, широкие луга, мы будем собирать травы, а ты, голубка, будешь помогать мне людей лечить… Злые языки тебя там не достанут, злое слово не обидит… Нам, приблудам, хорошо будет вместе… Тихо, голубушка, тихо…
– Какой же ты добрый, дядюшка, какой добрый! – Марыся потихоньку успокаивалась. – Кажется, даже родной отец лучше быть не может… Чем я заслужила такое?..
– Чем? – Знахарь задумался. – А кто ж это может знать? А чем я заслужил, что ты вот так обнимаешь меня, голубка моя, что старое мое сердце, которое и билось-то лишь по привычке, без желания, разогрела ты, словно солнышко… Один Бог знает, а я хоть и не знаю, но благодарю его за то и до самой смерти благодарить не перестану…
Перед магазином остановилась бричка, и вскоре в лавку вошел какой-то господин. Он покупал цветную бумагу для фонарей, видно, на приближающийся праздник урожая. Он долго выбирал, торговался и жаловался на высокие цены.
Когда он наконец вышел с покупками, знахарь сказал:
– А позволишь, голубка, я тебе прямо скажу, что думаю?
– Конечно. – Она улыбнулась, не без опасения, что после такого начала приятных вещей не услышит.
И она не ошиблась: знахарь заговорил о пане Лешеке.
– Все эти хлопоты и тревоги из-за него. Что тебе до него, голубушка?.. Я не говорю, что он плохой человек или злой, и глаза у него хорошие, но он еще слишком молод, нет в нем основательности, вертопрах. Не раз я к нему приглядывался, не раз, не два и не десять даже видел, как он сюда приходил и просиживал часами… Да и люди рассказывали… А человек он молодой, легкомысленный, вот и нечего удивляться, что подозревают в нем дурные намерения. Бог свидетель, я сам-то не верю в них! Голову бы дал, что все эти разговоры – одно пустобрехство. Только видишь, голубка, зачем давать повод для болтовни?.. Языков людям не завяжешь, глаз не закроешь. Вот они смотрят да болтают. А что тебе с этого ухаживания? Только одни неприятности. Ты еще молода и неопытна, легко поверишь каждому обещанию.
– Он мне никогда ничего не обещал, – перебила Марыся, зардевшись и смутившись.
– Не обещал?.. Тогда чего он хочет?.. Помни, он большой господин, богатый, светский. Что ты для него?.. Так, игрушка. А сердце твое к нему прилепится. Вот и сейчас: нет его, а тебе уже тяжко.
– Это из-за другого…
– Может, из-за чего другого, а может, из-за него, – мягко произнес знахарь. – Ведь он же на тебе не женится. Тогда к чему это?..
Марыся опустила глаза.
– Я об этом совсем не думала. Просто с ним так приятно беседовать. Он много путешествовал, много видел. И хорошо рассказывает…
– Вот пусть бы другим и рассказывал. Почему он тебя выбрал?
– Потому… он говорит, что… я ему нравлюсь.
– Еще бы ты не нравилась. Он же не слепой.
– Я не думала, что и ты, дядюшка, будешь тут искать что-то дурное.
Знахарь даже руки вскинул, точно отгораживаясь.
– Упаси бог! Это не дурное, только ненужное. И тебе вредит, и людям, и всяческое замешательство из-за этого выходит, а пользы никому и нет. Я его не виню. Нет. Но если б он был по-настоящему порядочным человеком, то не позволил бы, голубка, чтоб о тебе сплетни пошли, не морочил бы тебе головку, не просиживал тут, точно камень лежачий…
– Но ведь… я не могу его прогнать, – пробовала защищаться Марыся.
– И не надо. Если хочешь послушаться совета, доброго и искреннего, то постарайся не вступать с ним в разговоры. Он сам перестанет ходить за тобой. А если не хочешь, то я тут ничего не могу поделать.
Марыся глубоко задумалась. Она прекрасно понимала, что совет знахаря идет от доброго сердца и что он совершенно правильный. Так или иначе, раньше или позже, но ее дружба с паном Лешеком должна была закончиться. Или у него появится новое увлечение, или он женится. И все. А откладывать решение нет смысла и ни к чему не приведет. Чем дольше это продолжается, тем тяжелее ей будет с ним расстаться, тем болезненнее и острее будет тоска. Вот его нет всего пару дней, а ее жизнь уже стала мучением… А с другой стороны, разве она не предпочла бы заплатить годами отчаяния за несколько месяцев счастья видеть его, смотреть в его глаза, слушать его голос?..
Воспоминания о таком коротком счастье останутся в душе навсегда, до самой смерти. Разве можно отказаться от такого сокровища? Разве можно отказаться от него из страха перед будущими страданиями и жить в бесплодной, бессмысленной пустоте?..
Знахарь – добрый и мудрый человек, но не ошибается ли он на этот раз?
– Я подумаю над твоим советом, дядюшка Антоний, – серьезно ответила она после довольно продолжительной паузы. – Подумаю, хотя, возможно, это уже ни к чему, потому что он, наверное, больше не придет сюда.
И правда, проходили дни, а молодого Чинского никто не видел ни в городке, ни в округе.
А между тем город бурлил от сплетен. Суровый поступок старого Милосдаря одни хвалили, другие осуждали. Но все были единодушны в одном: во-первых, Зенон Войдылло плохо кончит, а во-вторых, во всем виновата Марыся.
Даже те, которые когда-то сердечно здоровались с ней, старались теперь пройти мимо, притворяясь, будто не замечают ее. А другие, наоборот, пользовались каждым удобным случаем, чтобы громко, не жалея резких слов, высказать свое мнение. Они не были плохими или озлобленными. Они всего-навсего привыкли к простому укладу местечковой жизни, где обычаи неизменны, и если кто-то не придерживается этих обычаев, то в их глазах он достоин самого сурового осуждения. Бедная работающая девушка, которая связалась с богатым наследником, не могла даже мечтать о замужестве, тогда на что же она рассчитывала?..
Логика подобных рассуждений была наиболее близка тем, кто горячее прочих хвалил шорника за то, что он выгнал своего сынка, бездельника и скандалиста, из родительского дома. Если до такого возраста дожил, а человеком не сделался, то ему уже ничего не поможет. Раз не слушал отца и матери, так пусть теперь собачий брех слушает. Пусть отправляется на все четыре стороны и не позорит порядочную семью.
Но Зенон явно не собирался никуда уходить. Правда, в первый день он куда-то пропал, но уже на следующий вернулся и своим поведением подтвердил самые худшие домыслы и предположения. Напившись до потери сознания в корчме у Юдки, он прогулял все деньги, которые отец дал ему на дорогу, а потом допоздна скандалил на улицах, кричал, что подожжет отцовский дом, что перестреляет всех Чинских, а этой шалаве Марыське голову разобьет.
В конце концов он стал задираться к полицейскому, оторвал ему карман, а когда его силой доставили в участок, то повыбивал там все окна и поломал мебель. На него надели наручники, продержали целые сутки под арестом, а потом составили протокол, на основании которого было заведено судебное дело. Теперь, надо понимать, в качестве наказания ему грозило месяца два заключения.
Между тем выпущенный на свободу Зенон снова пропал из города, хотя поговаривали, что он обретается где-то поблизости.
Эти события волновали и занимали не только жителей Радолишек. О них узнали и в Людвикове. Госпожа Чинская тут же послала работника к шорнику и сообщила ему, что, хотя она считает отцовское наказание относительно Зенона вполне справедливым, однако ж, стремясь спасти парня, который может окончательно скатиться в болото, решила вернуть мастеру прежние заказы и надеется, что пан Войдылло тоже простит сына.
Но шорник был человеком твердых убеждений. За полученные заказы он поблагодарил, но сообщил, что не собирается менять то, что уже раз было решено, а своего подонка сына видеть больше не желает. И переубедить себя он не позволит.
– Видишь, – говорила потом госпожа Чинская мужу, – видишь, как относится к детям отец, если у него есть принципы и характер.
Господин Станислав притворился, будто не понял намека, и что-то буркнул себе под нос, погружаясь в чтение. А вот госпожа Элеонора пришла к выводу, что из всего этого происшествия можно извлечь педагогические уроки для Лешека, и взялась за писание пространного письма своему единственному сыну с подробным изложением всех событий и множеством дидактических замечаний.
Наверняка это письмо оказало бы на Лешека весьма благотворное влияние, если б он его получил. К сожалению, когда этот шедевр материнской воспитательной науки уже лежал в почтовом вагоне поезда, отправлявшегося в Варшаву, адресат его ворочался с боку на бок в спальном вагоне поезда, который вез его в Людвиково.
А ворочался он и не мог уснуть по той простой причине, что мучился угрызениями совести, которые не удавалось обмануть никакими объяснениями и отговорками. Разумеется, он скучал в доме дяди, как мопс, запертый в ящик, но объективных причин у его скуки не было. Общество там собиралось многочисленное, милое и веселое, непрерывные развлечения отличались разнообразием, женщины были очаровательные, кухня изысканная, погода великолепная. Причина скуки крылась в нем самом. Он попросту тосковал.
Это было глупо и несерьезно, ибо Лешек, человек взрослый и здравомыслящий, тосковал, точно школяр по пансионерке, по той блондиночке из крошечной лавчонки в маленьком городке. Скучал по ней, несмотря на самую действенную убежденность и неопровержимые аргументы, несмотря на всю силу воли и принятые им решения. Ведь он выезжал с твердым намерением выпутаться из сети вздорных сантиментов и паскудных низких последствий, которые из этих сантиментов выросли. Но едва началось его путешествие, как им овладели совсем другие мысли, которые одолевали его, мучили, не давая покоя и отдыха.
Вместо разочарования он испытывал жалость, нежность, сочувствие; воображение рисовало ему фантастические сцены, он видел заплаканную Марысю в объятиях того самозваного рыцаря Собека, а потом перед его глазами вставала она же, осыпаемая бранью и униженная толпой простолюдинов или уезжающая в неведомом направлении… в изношенном пальтишке, смешной провинциальной шляпке, со всем убогим своим скарбом в маленьком старом чемоданчике.
Эта картина было столь отчетливой, что он даже испугался. Сорвался с кровати, упаковал свои вещи, приказал разбудить шофера и отвезти его в Варшаву. Дяде с тетей он оставил письмо, в котором объяснял, что внезапно вспомнил о важном и безотлагательном деле.
Приехав в Варшаву, Лех выяснил, что поезд будет только через два часа. Он бесцельно побрел по Маршалковской, остановился перед витриной ювелирного магазина. И невольно взгляд его остановился на изумительном платиновом кольце с маркизой из бледно-голубых сапфиров.
«Это цвет ее глаз», – с нежностью подумал он и, не раздумывая над тем, что делает, вошел в магазин.
Кольцо оказалось не слишком дорогим, но на его покупку ушли все деньги, остававшиеся у Лешека в кармане после приобретения билета на поезд.
Теперь же, когда ему не спалось, он вынул из кармана пальто коробочку и стал разглядывать кольцо. До сих пор он не сделал Марысе ни одного подарка. Собственно говоря, она вряд ли приняла бы его.
«Приняла бы, – мелькнула у него мысль, – если бы это кольцо было символом обручения».
И вдруг он почувствовал, как у него чаще забилось сердце.
Вытянув руку с колечком, он любовался блеском камней.
– Это и есть обручальное кольцо для нее, – громко сказал Лешек.
Он поднял голову и грозно оглядел купе, точно ждал чьих-то возражений. Но купе было пусто, стены молчали, только занавески легко колыхались в такт движения поезда.
Его охватил какой-то блаженный, подобный сну покой. Теперь он уже все знал, теперь не осталось никаких сомнений. Да, он на ней женится. И тогда она будет принадлежать только ему, останется с ним навсегда. Конец его метаниям, конец тревогам, конец сомнениям и страданиям.
Пусть это назовут сумасшествием! Ведь так скажут только те, кто понятия не имеет, какое это безумие, какое безнадежное безумие – бороться с любовью! И преступление! Разве человек может вырвать у себя из груди самое прекрасное, самое благородное, самое достойное чувство? Кто знает, быть может, это единственное чувство, которое оправдывает наше существование, которое само по себе есть цветение души!.. Растоптать, уничтожить, отказаться от него? Во имя чего?.. Чтобы люди косо не посмотрели?.. Какая глупость! Из-за мнения окружающих отрекаться от себя, отрекаться от важнейшей сути своей, от жажды счастья!
О, он прекрасно понимал, сколько преград и трудностей возникнет на его пути. Ни на секунду он не обманывал себя и не надеялся, что его женитьба будет одобрена родителями. Он не сомневался: они сделают все, лишь бы помешать ему достигнуть своей цели. Общественное мнение, знакомые и родственники – все они объединятся и выступят против Марыси. И ему следует приготовиться к упорной борьбе.
Но он не боялся этой борьбы. Его возбуждала мысль, что ему придется одному встать против всех на защиту своего счастья, своего и Марыси, что он разрушит любые препятствия, выдержит все атаки и победит, потому что должен победить.
В его воображении уже рисовался некий план кампании. Он примерно представлял тот арсенал боевых приемов, которые будут использованы против него. Угроза разрыва отношений, обещание лишить наследства или даже реальное лишение всех прав наследования, злые насмешки и низкие издевательства, сцены и скандалы, судороги и обмороки, просьбы и угрозы. А начнется все, конечно же, с лишения средств к существованию. При тех связях, которые имелись у родителей, им нетрудно будет помешать ему найти какое-либо место работы.
«И это необходимо учитывать», – думал он.
Нет ничего легче, чем пойти на бой с поднятым забралом и… проиграть. Но тут ведь речь не о самой борьбе – ему нужна только победа. Ему надо выжить и остаться на поле битвы. Конечно, он мог бы потихоньку продать свои личные вещи и потом удрать с Марысей куда-нибудь на край света. Она привыкла к бедности, и он привыкнет. Он молод и где-нибудь в конце концов найдет работу. Но такой побег не принес бы ему никакого удовольствия, даже уменьшил бы обретенное счастье. Поэтому с самого начала такой путь следовало исключить.
У него было достаточно здравого рассудка, чтобы в важных делах суметь отодвинуть в сторону донкихотство, которое часто его увлекало. Поэтому и теперь Лешек решил действовать осторожно, предусмотрительно и в глубокой тайне.
А впрочем, пока он не хотел забивать себе голову стратегическими планами на будущее. Он был упоен открытием своих истинных желаний и так счастлив, что принял решение, по сравнению с которым все остальное выглядело ничтожным, мелким и не имеющим особого значения.
Появление сияющего и развеселого Лешека произвело в Людвикове сенсацию. Во-первых, его совсем не ждали, во-вторых, слишком заметна была наступившая в нем перемена. Бесследно исчезли давняя раздражительность, резкость движений, скука, равнодушие к домашним делам и заботам, связанным с имением и фабрикой.
– Что случилось, Лешек? – внимательно глядя на него, спросила госпожа Элеонора.
– Я изменился, мама. Теперь я стал другим человеком.
– Интересно, долго ли продлится этот счастливый период?
– О да, – таинственно улыбнувшись, ответил он. – У меня такое впечатление, что это последний этап моего развития. Видите ли, я много передумал и пришел к выводу, что пора уже позаботиться о стабильности своего положения, заняться работой, привести в порядок свою жизнь и так далее.
Господин Чинский даже оторвал взгляд от газеты.
– Значит ли это, что ты намерен в конце концов заняться фабрикой?
– Ты не ошибся, отец.
– В таком случае мне следует отправить благодарственное послание дяде. Это в их доме ты встретил кого-то, кто так на тебя повлиял? Кажется, там было много народа.
– О да, очень много. Просто столпотворение, – кивнув, сказал Лешек и добавил после короткого раздумья: – И в этом столпотворении я встретил… себя.
– Вот как! И какое впечатление произвела на тебя эта встреча?
– Поначалу довольно неприятное. Я услышал много критических замечаний, не лишенных справедливости. Но в конце концов я убедился, что имею дело с человеком, который знает, чего он хочет. И нас обоих это очень порадовало.
Госпожа Элеонора наклонилась и поцеловала его в лоб.
– Поздравляем вас обоих, а при случае и себя.
– Спасибо, мама. Я заслужил эти поздравления даже больше, чем ты полагаешь, – серьезно ответил Лешек.
Разговор этот состоялся вечером, за ужином, и супруги Чинские преисполнились самыми радужными надеждами. Каково же было их изумление, когда на следующий день утром слуга в ответ на вопрос, спит ли еще молодой хозяин, ответил:
– Молодой хозяин велел подать мотоцикл и уехал в сторону Радолишек.
Глава 11
Приходской ксендз Пелка был уже пожилым мужчиной. Из-за некоторых нарушений системы пищеварения он чувствовал себя крайне плохо, поэтому спал мало и рано просыпался. По этой же причине к мессе в обычные дни звонили около семи, а в семь ксендз выходил к алтарю.
Марыся должна была вставать в шесть, чтобы успеть на службу, поэтому всегда немного недосыпала. Но молитва в костеле давала ей такое утешение, что уже несколько дней она не пропускала ни одной службы. Пристроившись в уголке за амвоном, она, коленопреклоненная, горячо молилась, прося Бога отпустить ей грехи, избавить от горестей и печалей, которых на нее свалилось так много, ниспослать ей утешение, а еще дать счастье человеку, которого она полюбила.
На хорах орган играл те дивные церковные мелодии, в которых не было ни грусти, ни веселья, только чудесный всеохватывающий покой вечности, тот покой, что в звездные ночи точно льется с неба.
Этот покой пропитывал весь костел, он стыл в белых статуях апостолов и пророков, расплывался в смутных фигурах на почерневших иконах, звенел в долетавших от алтаря мраморных словах латинской молитвы и наполнял измученные души верующих, которые искали тут утешения.
Марыся выходила из костела словно очарованная этой неземной благостью, утешившись и примирившись с судьбой. Она не смела и мысленно касаться великих истин, которые открывались когда-то Господним святым в часы созерцания и погружения в Бога. Да она бы и не смогла. Но как же чутко ощущала она дыхание извечного, наполнявшее ее, маленькую бедную девушку, всеми забытую и никому не нужную, доверием и уверенностью, что где-то далеко, в неизмеримых пространствах, есть у нее великий и всемогущий опекун и сторонник, чьи добрые глаза, никем не замеченные, следят за ней и все видят.
Из костела она каждый день выходила со странным ощущением, что вот-вот все изменится и к ней придет неожиданное счастье. И предчувствие это было столь сильным, что в то утро, когда, возвращаясь из костела, девушка увидела перед магазином прохаживающегося пана Лешека, она даже не удивилась. Только не смогла скрыть своей радости.
– Вы приехали… – дрожащим голосом повторяла она, – приехали…
Несмотря на охватившее ее возбуждение, Марыся все же заметила, что он какой-то необычно серьезный и сосредоточенный. Она смутилась, когда он, здороваясь, поцеловал ей руку – прямо на улице, на виду у всех.
Едва они оказались в магазине, как он взял ее за руки и, глядя в глаза, сказал:
– Я никогда никого не любил так, как тебя. Я не могу без тебя жить. Согласна ли ты стать моей женой?
У Марыси подогнулись колени и закружилась голова.
– Что вы… что вы… такое говорите… – заикаясь, пробормотала она.
– Я прошу тебя стать моей женой, Марыся.
– Но ведь… это немыслимо! – почти выкрикнула она.
– Почему немыслимо?
– Да вы сами подумайте! – Она вырвала у него свои руки. – Вы же не всерьез это говорите!
Он нахмурился.
– Ты мне не веришь?
– Да нет же! Верю, но вы подумали… Боже! Что бы тогда случилось! Ваши родители… И эти, городские… Они бы вам всю жизнь отравили, заклевали бы… А меня возненавидели бы…
Чинский кивнул.
– Конечно. И я это все предвидел. Я знаю, что нас ждет много, даже очень много неприятностей, издевательств, оскорблений. Но поскольку я должен выбирать между ними и отказом от тебя, то я готов на все. И по очень простой причине: я тебя люблю. А если ты этого не понимаешь, то, видимо, я обманулся в твоих чувствах и ты совсем не любишь меня.
Она посмотрела на него с укоризной.
– Это я?.. Я вас не люблю?..
– Марыська!
Он схватил ее в объятия и осыпал поцелуями. Его порывистость и сила, с которой он прижимал девушку к себе, лишили Марысю сил к сопротивлению. Она не хотела и не могла ему противостоять. В этот момент она была нечеловечески счастлива. И готова была поклясться, что ни одна девушка со времен сотворения мира не испытывала такого счастья.
И если когда-либо в своих размышлениях она находила некие мельчайшие недостатки Лешека, то теперь от них не осталось и следа. Конечно же, она не верила, что их венчание состоится. Это было совершенно неправдоподобно. Но уже то, что он принял такое решение, безусловно, искреннее, говорило о его благородстве, о глубине его чувств, об исключительности его характера. Если бы ее сейчас спросили, есть ли более достойные люди, чем он, она с чистой совестью ответила бы, что нет.
Он преодолел себя, сумел переломить свою гордыню, отбросил мысли о том, что самые богатые и красивые девушки вздыхают по нему, что лучшие семьи мечтают заполучить его в качестве зятя, что мало есть равных ему с точки зрения родовитости, состояния и образованности. А ведь он так любил небрежно хвалиться фамилиями своих знатных приятелей, с таким легкомыслием и презрением говорил о людях из местечка!
И вдруг он захотел взять в жены ее, девушку, которая даже в этом городке, вызывавшем у него столько насмешек, считается приблудой, убогой сиротой, без гроша за душой. У нее нет семьи, нет ни единого друга, за исключением деревенского знахаря. Правда, по сравнению с другими радолишскими девушками на выданье она лучше образована и, возможно, иначе воспитана благодаря матери. Но разве ее воспитание, образование, поведение не резали бы глаза, не шокировали бы в его среде?..
Ее отец, которого она потеряла, когда ей было всего несколько годков, вроде бы был врачом, ее отчим, которого Марыся любила как родного отца и называла отцом, был всего лишь лесничим, скромным конторщиком в имении, а мать, хоть и происходила из знатной семьи, тут, в округе, известна была как бедная учительница музыки и иностранных языков, а позже только как простая портниха.
Разве такие люди, как супруги Чинские, люди из того круга, где обращают больше внимания на происхождение и родословную, чем в среде настоящих аристократов, разве они смогли бы примириться с тем, что их сын заключил такой брак?..
Немного успокоившись после первых восторгов, Марыся как раз об этом и начала толковать Лешеку. Он внимательно ее слушал, не прерывал, а когда она закончила, сказал:
– Ну и что из всего этого следует?.. Разве это хоть как-то меняет тот факт, что мы друг друга любим?..
– Нет, этого ничто изменить не может. Я буду любить вас всегда, только вас одного, до самой смерти! – прошептала она.
– Но, видимо, для тебя это не так важно, чтобы бороться за это, чтобы ради этого перенести всякие неприятности и горести.
Она покачала головой.
– О нет! Речь тут не обо мне! Я готова на любые жертвы, на любые унижения. Но вот ты… – с горечью произнесла она, переходя на «ты».
– А что я? – почти сердито спросил он.
– Ты… Это сделает тебя несчастным, сломает, ты разочаруешься во мне…
Он вскочил и заломил руки.
– Марыська! Марыська! Как же тебе не стыдно! Ты меня оскорбляешь! Как ты можешь настолько не верить в мои силы?..
– Да нет же! – возразила она. – Я в них верю! Но я не имею права подвергать тебя таким поношениям и напастям. Я не хочу стать тебе обузой. Я и так уже очень, очень счастлива…
– О, это просто мило. Ты уже счастлива. А обо мне можно и не думать! Верно?.. Я могу и дальше оставаться несчастным, поскольку ты выдумала, что можешь стать мне какой-то там обузой! Постыдилась бы! Такая умная и рассудительная девушка, а такую ерунду говоришь! И вообще, кто тебе дал право распоряжаться моей судьбой?.. Она, видите ли, не имеет права чему-то там меня подвергать! Ну а я-то еще имею такое право?.. А я хочу, я должен – и точка! Неужели ты думаешь, что я ни к чему не пригодный человек, который непременно должен зависеть от родителей? Неужели мир недостаточно велик, чтобы мы нашли в нем свое место? Неужели ты думаешь, что в случае войны с семьей, когда нам уже совсем надоест эта война, мы не сможем уехать куда-нибудь?.. Не бойся! Ты еще плохо меня знаешь. Я не из тех, об кого можно безнаказанно ноги вытирать. Вот увидишь! Да. Собственно, и спорить не о чем. Я уже принял решение и баста!
Он улыбнулся и снова прижал ее к себе.
– Прошу тебя, хоть ты, по крайней мере, не усложняй эту борьбу, борьбу за мое и твое счастье, за наше счастье… А то сведешь меня с ума и я пальну себе в лоб!
– Лешек! Дорогой мой, любимый!.. – Она судорожно обнимала его за шею.
– Вот увидишь, Марысенька моя, мы еще будем самой счастливой парой на земле.
– Да, да, – повторяла она, прижимаясь к нему. И уже совсем не способна была думать, протестовать, возражать. Она верила ему, он развеял все ее сомнения своим воодушевлением и волей.
Лешек вынул из кармана коробочку и достал из нее колечко с сапфирами.
– Вот мой сторожевой знак, – весело сказал он, надевая кольцо ей на палец. – Чтобы ты помнила, что целиком принадлежишь мне и являешься исключительно моей собственностью.
– Какое красивое!
– У этих камешков цвет твоих глаз, Марысенька.
Она долго разглядывала колечко, потом наконец с удивлением и благоговением в голосе спросила:
– Так, выходит, я… обручена?
– Да, любимая, ты стала моей невестой.
– Невеста… – грустно повторила она и добавила: – А я тебе никакого колечка подарить пока не могу… Нет у меня. Последнее кольцо, которое принадлежало моей мамочке, продано было… чтобы оплатить похороны. В нем тоже были сапфиры, и мама его очень любила, хотя оно было совсем дешевенькое, намного скромнее этого.
На ее глазах показались слезы.
– Не думай о грустном, – сказал Лешек. – А мне и без колечка не удастся забыть, что я уже твой невольник. Самый счастливый в мире невольник, которому совсем не хочется освобождения.
– Боже! Боже! – прошептала она. – У меня голова кружится. Все наступило так внезапно…
Он рассмеялся.
– Ой, не так уж и внезапно. Мы ведь знакомы уже два года.
– Да, конечно, но разве я могла допустить, что все вот так закончится?
– Закончилось лучшим образом, какой только можно себе представить.
– Я просто не могу поверить, что это не сон, что это происходит со мной на самом деле. И… честное слово… я боюсь…
– Чего ты боишься, Марысенька?
– Что… ну, не знаю, что все развеется, исчезнет, что нас что-то разлучит.
Он взял ее за руку.
– Дорогая моя, драгоценное мое сокровище, нам теперь следует соблюдать максимальную осторожность, чтобы никакие интриги и тому подобные неприятности нас не задели. Поэтому надо все держать в строжайшей тайне. Никто, абсолютно никто не должен знать о нашей помолвке. Я уже составил подробный план. Когда я его осуществлю, мы раз-два – и обвенчаемся. Тогда дело будет сделано и они могут хоть на голове стоять – все равно ничего не добьются. Только помни: молчание!
Марыся засмеялась.
– Я бы и так никому не рассказала. Да меня бы просто высмеяли, никто бы не поверил. Да и то сказать, неужели вы думаете, пан Лешек, что мне есть кому поверять секреты?.. Разве что дядюшке Антонию…
– Тому знахарю с мельницы?.. Нет, ему тоже ничего не говори. Ладно?
– Богом клянусь.
И Марыся сдержала свое обещание. Сдержала, хотя если б она открыла правду еще в тот же самый день, это избавило бы ее от многих горестей.
Неприятности начались с приходом в магазин госпожи Шкопковой. По натуре женщина добродушная, она, видно, поддалась тому настроению, которое овладело всеми в Радолишках. Застав в лавке Лешека, она демонстративно уселась за прилавком, давая понять, что скоро отсюда не уйдет. Едва молодой человек уехал, как она гневно начала:
– Да ты просто никак не образумишься! У тебя совсем в голове все помешалось, девочка! Вот какой благодарности я от тебя дождалась за все мои заботы да хлеб.
– Господи Боже! – Марыся умоляюще посмотрела на нее. – Да что ж я плохого вам сделала?
– Что сделала? – взорвалась госпожа Шкопкова. – А то и сделала, что скоро в меня весь город начнет пальцами тыкать за то, что я тебе позволяю тут такое вытворять! Что плохого?.. А то, что это происходит в моей лавке!..
– Но что происходит?
– Публичный разврат! Да, именно разврат! Какой позор! Разве я так тебя воспитывала? Я для того о тебе забочусь, чтоб на меня всех собак вешали?! Что тут надо этому барчуку, этому донжуанишке, этому хлыщу?..
Марыся молчала. Госпожа Шкопкова сделала паузу и сама ответила на свой вопрос:
– А я тебе скажу, что ему надо! Я тебе скажу! Он на твою невинность нацелился! Вот что! Хочет сделать тебя своей любовницей! А ты, дурочка, еще глазками стреляешь и приманиваешь этого типчика на собственную погибель и собственный позор! А знаешь, что тебя ждет, если ты уступишь соблазну?.. Жалкая жизнь и тяжелая смерть, а после смерти – вечное проклятие!.. Если своего разума нет, так слушай меня, старуху! Ты что, думаешь, я просто так языком болтаю? Для своего удовольствия?.. Псам бы такое удовольствие. У меня сердце болит, будто кто его ножом пробил. Примчалась ко мне старая грымза Кропидловская и вопит, будто у меня глаз нет, потому как не вижу, что этот… как его там… мотоцикель опять у лавки стоит… И что я будто бы отдаю свою воспитанницу на разврат и Божье проклятие. Я ей говорю: «Дорогая моя пани Кропидловская, прошу прощения, не ваше это дело, что и как я делаю! А если вы хотите знать правду, то у меня тесто, видите ли, подошло, уже через край миски выползает, а я должна в лавку нестись?..» А она мне в ответ: «Уважаемая пани Шкопкова, можете, конечно, за тестом приглядывать, чтоб не выползло, а у вашей воспитанницы тем временем в известном месте кое-что выползет!..» Как я это услышала, так и подумала, что меня удар хватит! И все из-за тебя! За мои заботы, за мое сердце доброе так-то ты меня благодаришь… Теперь каждая мерзавка меня тобой попрекает… На старости лет…
Госпожа Шкопкова окончательно расстроилась и принялась всхлипывать. Марыся взяла ее за руку и хотела поцеловать, но женщина, видимо, рассердилась не на шутку, потому что вырвала руку и закричала:
– Твои извинения тут ничем не помогут!
– Простите меня, а за что я должна просить извинения? – отважилась спросить Марыся.
– За… за что? – Госпожа Шкопкова даже онемела от возмущения.
– Ну да. Такие люди, как эта пани Кропидловская, в каждой мелочи видят что-то дурное. А ничего плохого тут нет. Вы очень несправедливо оцениваете господина Чинского. Он никаких подобных намерений не имел. Это очень благородный и очень порядочный человек.
– Конечно, по карманам лазить не будет, – гневно оборвала ее Шкопкова, – но если речь идет о девушке, то каждый мужчина становится свиньей.
– А вот и нет. Может, кто-то другой так и повел бы себя, не знаю. Только он совсем не такой.
– Да у тебя еще молоко на губах не обсохло! А я тебе говорю: гони барчука за дверь, если тебе дорого твое доброе имя. Доброе имя и мое покровительство, – добавила она с нажимом.
– А как же мне его гнать? Мне надо сказать ему, будто я не желаю, чтобы он приходил в магазин?
– Вот именно.
– Тогда он имеет право мне возразить, что это не мой магазин и каждый может войти сюда.
– Войти может, но не располагаться тут на пару часов, чтобы поболтать.
– Тогда я скажу ему, что вы этого не хотите.
– Можешь так ему и передать.
– А что будет, если он почувствует себя оскорбленным? Если господа Чинские перестанут покупать у нас, как они перестали у Милосдаря?
Госпожа Шкопкова нахмурилась. Она и сама боялась такого оборота дела, а потому такой довод, вовремя подсказанный Марысей, хотя и не совсем искренне, свое дело сделал.
– Нет, – буркнула Шкопкова. – Так нельзя. Только нечего мне тут глаза отводить. Ты уж как-нибудь сумеешь избавиться от него!
– Научите меня, пожалуйста, – упорствовала Марыся.
– И научу! – закончила спор пани Шкопкова, решив в глубине души пойти посоветоваться к приходскому ксендзу.
А между тем шли дни и молодой инженер ни одного не пропускал, чтобы хоть на полчасика заглянуть к Марысе. Только теперь он проводил в магазинчике гораздо меньше времени, потому что у него не так много его оставалось. К радости родителей, он серьезно занялся работой на фабрике; последовательно знакомился с бухгалтерией, управлением, производством, а также с условиями добычи сырья и особенностями продажи готовой продукции. Считал, делал заметки, небрежно набросал в разговорах с родителями несколько проектов реорганизации, очень разумных и здравых.
Отец вовсю расхваливал его, а мать молчала, что у нее было еще большей похвалой. Однажды после обеда она спросила:
– Лешек, ты собираешься систематически и постоянно помогать нам управлять фабрикой?
– Да, мама, – кивнул он. – Только при определенных условиях.
– Какие же это условия?
– Мама, я хочу упорядочить свою работу.
– Как это понимать?
– Обыкновенно. Хочу знать границы своей ответственности на работе, свои права и обязанности, словом, хочу получить определенную должность.
Госпожа Элеонора не без удивления посмотрела на него.
– Но ты же наш сын.
– И я очень счастлив по этому поводу, – с улыбкой поклонился он, – но это никак не определяет моей должности. Понимаешь ли, мама, я люблю четкие и прозрачные ситуации. Очень прозрачные. И с точки зрения закона в том числе. До сих пор я черпал из вашего кармана столько, сколько хотел и наверняка не заработал. А теперь я хочу работать и иметь оклад. Определенный оклад. Я не предлагаю вам отдать всю фабрику в мои руки. Доверьте мне, скажем, управление производством.
– Но ведь и сейчас тебе ничто не мешает…
– Конечно. Можете считать меня чудаком, но я не могу, не хочу, ну и не… стану работать иначе. Я прекрасно знаю, что ты мне скажешь, мама. Ты скажешь, что я ваш наследник, что все это когда-нибудь будет моей собственностью и смешно было бы наниматься на работу на фабрику собственных родителей. Но, понимаете ли, мне для счастья, душевного покоя и удовлетворения своим делом и собой нужна личная независимость. Я должен иметь свою работу, свою должность и свои деньги. Это и есть мое условие.
Господин Чинский сделал неопределенный жест рукой.
– Условие несколько странное, но, в конце концов, я не вижу оснований, чтобы считать его неисполнимым.
– Зачем тебе это понадобилось? – коротко спросила госпожа Элеонора, пытливо всматриваясь в глаза сына.
– Мама, надеюсь, ты поймешь меня, если я скажу, что это стремление к самостоятельности?
– Самостоятельность можно дурно использовать.
– Безусловно. Но вы можете оговорить предварительные условия. Например, если окажется, что я плохо исполняю свои обязанности, что падает уровень качества продукции или уменьшается ее выпуск, что ухудшается организация производства или по моей вине возникают потери, то вы имеет право уволить меня.
Господин Чинский рассмеялся.
– Ты так говоришь, будто мы собираемся заключить официальный договор.
– А почему бы и нет? – Лешек изобразил удивление. – Ясная ситуация облегчает отношения. Я хочу быть обычным наемным работником, таким же, как Гавлицкий или Слупек. У них есть контракты. В тех контрактах оговорены налоги, жилье и премии. Я не вижу оснований отказывать мне в том, чтобы заключить такой же контракт.
Наступила тишина. Лешек чувствовал, что сейчас мать снова задаст ему вопрос: «Зачем это тебе понадобилось?..» Он откашлялся и добавил:
– Я могу быть ответственным и добросовестным работником только тогда, когда буду знать, что меня к этому обязывает договор. Иначе мне слишком легко будет вспомнить, что я – хозяйский сын и что в конечном счете любые мои упущения или леность мне простятся. Вы должны радоваться, что я добровольно хочу заранее приструнить себя.
– Хорошо, – задумчиво произнесла госпожа Элеонора. – Мы подумаем над этим.
– Благодарю вас. – Лешек встал, поцеловал матери руку, коснулся губами отцовского лба и вышел.
Он вел себя свободно и делал соответствующее выражение лица, но в глубине души дрожал от страха при мысли, что мать разгадает его намерения и категорически откажет. И для того, чтобы отвести от себя всяческие подозрения, он начал бывать в местных усадьбах, навещать даже далеких соседей, а по возвращении подробно пересказывать родителям все сплетни, слухи и новости, не забывая подробнейшим и самым благоприятным образом описывать внешность разных девушек, с которыми он встречался во время этих визитов. Это должно было внушить родителям мысль, что упорядочение собственной жизни, о котором он говорил, включало и женитьбу, а по гостям он разъезжает с целью найти соответствующую кандидатку.
Из Людвикова в Радолишки на запад вела мощеная дорога. Но если сделать крюк в девять километров, то в городок можно было попасть, поехав в сторону Божичек и на Вискуны. И потому Лешек, стараясь быть как можно более осторожным, только этим путем и ездил. А прямо в Радолишки отправлялся только тогда, когда свою поездку туда мог оправдать какими-то необходимыми покупками. И тогда уже гнал, как шальной, чтобы урвать лишние четверть часа на встречу с Марысей.
Из-за работы и занятий на фабрике свободное время у него бывало обычно только после обеда. И потому он не раз встречал в магазинчике знахаря Косибу. Он слегка побаивался этого сурового бородача с грустными глазами и богатырским разворотом плеч. Он не сомневался, что знахарь смотрит на него неприязненно и даже с угрозой, хотя Марыся уверяла, что он – добрейший человек на земле.
– Может, он еще чуточку тебе не доверяет, – сказала девушка. – Но тут уж ты сам виноват. Если б ты позволил мне рассказать ему о нашей помолвке, я уверена, он сразу полюбил бы тебя.
– Нет уж, я предпочитаю быть более осмотрительным, – улыбнулся молодой человек. – И готов немного подождать проявления его дружеских чувств. Пусть это будет моя потеря!
Она с укоризной посмотрела на Лешека.
– Лешек! Это нехорошо, что ты подсмеиваешься над благороднейшим человеком и моим большим другом.
– Прости меня, дорогая. Но мне кажется, что этот человек – не самый подходящий объект для проявления твоих добрых чувств. Вполне вероятно, что знахарь – образец благородства, может, он даже умеет лечить, во что я не слишком верю, но ведь это простой мужик. Зачем тебе дружба такого простолюдина?
Она покачала головой.
– Зачем мне дружба?.. Видишь ли, Лешек, у тебя есть родители и ты не знаешь, каково это – быть сиротой. Не иметь никого из близких, совершенно никого. И тогда каждая рука, протянутая нам, каждая, будь она даже сплошь покрыта мозолями от тяжкой работы, становится сокровищем, огромным сокровищем. Бесценным и дорогим. Тебе этого не понять!
– Да я все понимаю, Марысенька, понимаю, – смутился Лешек. – И будь я проклят, если не сумею вознаградить этого благороднейшего человека за то, что моя единственная, моя драгоценная… Да ведь он и так мне нравится.
Марыся рассказала ему, что обещал ей знахарь, когда она опасалась потерять работу у госпожи Шкопковой.
– Теперь ты видишь, какое у него сердце? – закончила она.
Лешек был тронут.
– Да! Это исключительная доброта! Но и мы будем не хуже! Вот пусть только все у нас наладится, и этот человек получит в Людвикове и приличное жилье, и пожизненное содержание. Запомни, если кто хоть камушек у тебя из-под ноги отодвинет, то ему обеспечена моя благодарность. А при первой же встрече я дам ему немного денег.
Марыся рассмеялась.
– Вот и видно, что ты совсем его не знаешь. Он вообще денег не берет. Даже лечит обычно бесплатно. А кроме того, ты сказал, что он простой мужик. Так представь себе, у меня на сей счет возникли большие сомнения.
– Почему это?
– Однажды мне показалось, он знает французский язык.
– Ну, он мог оказаться в эмиграции. Сейчас многие мужики ездят на заработки во Францию.
– Нет! – возразила она. – Если б это было так, он умел бы только говорить по-французски. А он читал, причем стихи. Бога ради, только не показывай ему, что ты это знаешь.
– Почему?
– Потому что одно воспоминание об этом оказывает на него ужасное впечатление! Я уверена, что в его жизни есть какая-то большая тайна.
– То есть ты предполагаешь, что это образованный человек, который скрывается под обличьем мужика?
– Не знаю, скрывается ли. Я готова присягнуть, что такой человек, как он, не способен совершить ничего постыдного, ничего, что вынудило бы его скрываться. Но он наверняка умен и образован. Обрати внимание на выражение его глаз, на некоторые движения, на произношение. Может, мне это все кажется, но когда я с ним разговариваю, у меня возникает ощущение, что он гораздо выше меня по уровню мышления.
– Ну, умные мужики тоже бывают, – задумчиво произнес Лешек и после небольшой паузы воскликнул: – Придумал! Есть очень простой способ. Мы очень легко можем проверить его и понять, образованный он человек или простой мужик. Только надо найти к нему подход.
– Лешек! Но я ни за какие сокровища не хочу…
– Знаю, знаю! У меня тоже нет таких намерений. Я не собираюсь раскрывать его тайну, если она у него вообще есть. Я хочу только проверить. Обещаю тебе, он даже ничего не заметит.
– Все равно, – с недовольным выражением лица сказала Марыся. – Это некрасиво.
– Как хочешь. Я вполне могу обойтись без этого, – согласился Лешек.
Но согласился он только для виду и обещал себе попробовать при первом же удобном случае. У него в крови была страсть к разгадыванию секретов. Еще будучи маленьким мальчиком, он зачитывался приключенческими романами Карла Мая, а потом не мог оторваться от детективов Конан Дойля. Даже обычные ребусы увлекали его.
А тот способ, который пришел ему в голову, действительно был нетрудным. В разговоре со знахарем надо было всего лишь употреблять слова, которые простой мужик знать не может. Если он поймет смысл вопроса или ответа, то это будет явным доказательством, что Антоний – не тот, за кого себя выдает. А тогда уж можно двинуться дальше и попробовать узнать причины…
В один из ближайших дней Лешек ехал обходной дорогой в Радолишки и встретил знахаря, который, видимо, возвращался из городка. Лешек остановил мотоцикл, поклонился и, указывая на пучок каких-то трав, собранных, вероятно, в придорожных рвах, спросил:
– Пан Косиба, а от какого заболевания это помогает?
– Это дудник. Сердце лечит, – вежливо, но холодно ответил знахарь.
Чтобы его успокоить и склонить к дальнейшей беседе, Лешек пошутил:
– А вы не знаете, какое лекарство лучше всего помогает от любви?
Знахарь поднял глаза и, чеканя каждое слово, произнес:
– От любви, молодой человек, лучше всего помогает честность.
Он приподнял шапку, прощаясь, и двинулся дальше.
Лешек даже застыл на какое-то время, так его поразил неожиданный ответ, потом он сообразил, что имел в виду знахарь, и пробормотал:
– Ну, ему нельзя отказать в находчивости, так сказать, esprit d’apropos.
Приехав в городок, он рассказал Марысе о встрече и добавил:
– Должен признать, он меня немного смутил, хотя я совсем не заслуживаю такого рецепта.
– Но он-то об этом не знает, – заметила Марыся.
– Вот именно. Меня просто чертовски подмывало выложить ему всю правду. Признаться, меня эта тайна очень мучит и я бы охотно раструбил всем про нашу помолвку. Но пока нельзя. Нельзя себе такое позволить. Спешка перечеркнула бы все мои планы.
Поэтому он старался не только в Людвикове, но и в Радолишках не привлекать внимания к своим посещениям магазинчика. Иногда он оставлял мотоцикл перед корчмой или во дворе у Галера, торговца лошадьми, а в лавку приходил пешком. Все-таки это не так бросалось в глаза.
Видно, и до Людвикова не доходили новые сплетни, потому что родители ни о чем таком не вспоминали, наоборот, весьма доброжелательно присматривались к тому, как сын трудится на фабрике. К решающему разговору они не возвращались, Лешек тоже не начинал его, боясь, что в такой нетерпеливости родители увидят какие-то особые, скрытые побуждения.
Однажды в пятницу он снова встретился со знахарем Косибой. На сей раз в лавке. Старик разговаривал с Марысей, и, когда Лешек вошел, на его широком бородатом лице еще оставалась улыбка. Судя по всему, он был в хорошем настроении, и Лешек решил воспользоваться подвернувшимся случаем, чтобы провести свой давно задуманный опыт. Он поздоровался с беззаботным дружелюбием и небрежно спросил:
– А вы ведь из Королевства родом, не так ли? За родными местами не скучаете?
– У меня там никого не осталось, вот и не скучаю.
– Как странно. Я еще слишком молод, и опыта у меня маловато, но от старших слышал, что в чужих краях их ностальгия мучит. А вы ее не чувствуете?
– Чего? – У знахаря задрожали веки.
– Ностальгию, – легко повторил Лешек.
– Нет, – покачал головой тот. – Тут та же самая земля, не чужбина.
Лешек еще сомневался, а потому спросил:
– Да, конечно, но люди другие, обычаи другие. Акклиматизироваться всегда нелегко.
Знахарь пожал плечами.
– Я по всей стране бродил. У меня дом и везде, и нигде.
И это не удовлетворило Лешка. Знахарь мог догадаться о смысле незнакомого слова по содержанию всей фразы. Надо было более точно составить вопрос.
– И тут люди к вам доброжелательны, – сказал он. – Я не раз это слышал. У вас большая фреквенция[17]?
Косиба кивнул.
– Да. Особенно весной и зимой. Летом меньше болеют.
У Лешека даже сердце забилось сильнее, теперь он уже почти был уверен, что догадки Марыси были правильными. А напоследок еще сказал:
– Вы бы целое состояние заработали, если б не ваша тенденция к филантропии.
Знахарь либо совсем не заметил, что его проверяют, либо ему было все равно, что на него расставили ловушку, потому что он только добродушно усмехнулся:
– Да это не филантропия, – ответил он. – Просто для меня важно помогать страдающим, а вот состояние… не важно. Вам, человеку богатому, наверное, трудно это понять.
– А почему?
– Потому что богатство туманит голову. Богатство добывают, чтобы оно чему-то служило, помогало в чем-то. Но когда оно уже есть, то заглушает все добрые порывы и стремления и велит человеку служить только ему, богатству.
– То есть из категории средства переходит в разряд цели?
– Ну да.
– Из этого можно сделать вывод, что опасно вообще чем-либо владеть, поскольку можно стать рабом своей собственности?
– Вот именно, – мягко согласился знахарь. – Но опасность появляется только тогда, когда человек этого не понимает, когда он забывается.
Марыся, которая молча прислушивалась к этому разговору, догадалась, что Лешек затеял его, чтобы проверить свои подозрения. Теперь она уже не сомневалась, что была права. Знахарь Антоний Косиба наверняка не был простым мужиком. В свое время он или сам получил образование, или вращался в кругу людей образованных. Лешек пришел к тому же выводу.
Когда знахарь вышел, он сказал:
– Знаешь, просто удивительно! Этот человек задумывается над абстрактными понятиями, умеет мыслить логически и прекрасно знает значение таких слов, которых простолюдины никогда не используют. Голову даю на отсечение, в этом действительно кроется какая-то тайна.
– Вот видишь!
– Но я сейчас не об этом думаю, – продолжал Лешек, – больше всего меня поражает другое. Этот человек, безусловно, обладает недюжинным умом. Допустим, что по какой-то неизвестной нам причине он решил выдать себя за простого мужика. Видно, для него это было очень важно, поскольку он очень последователен: живет, как мужик, работает, как мужик, одевается и даже говорит, как мужик. И вдруг позволяет втянуть себя в случайный разговор и дает мне возможность открыть его образованность!.. Вот это мне совершенно непонятно! Как это? Он столько делает, чтобы сойти за простолюдина, буквально все, что только можно, – и вдруг позволяет втянуть себя в такую очевидную ловушку! Тут концы с концами не сходятся. Похоже, весь этот маскарад стал ему больше не нужен. Черт побери! Меня увлекает эта загадка!
Марыся взяла его за руку.
– Вот видишь, какой ты нехороший! Ты же обещал мне, что не будешь в этом копаться! Я бы никогда тебе не простила, если по твоей, а косвенно и по моей вине у дядюшки Антония начались бы какие-то неприятности.
– Успокойся, дорогая. До этого ни в коем случае не дойдет. Если даже я что-то открою, это будет нашей тайной. Да у нас сейчас и времени нет, чтобы заниматься чужими делами… Дорогая! А что с тем дневничком?
Марыся обещала ему принести свой дневник, который, правда, она уже года три как забросила, но до этого он содержал чуть ли не ежедневную хронику ее жизни начиная с детских лет.
Девушка протянула ему толстый том в полотняном переплете.
– Я хочу, чтобы ты это прочитал, – сказала она, зарумянившись. – Только прошу тебя, не смейся надо мной. Я когда-то была совсем глупенькой и… даже не могу сказать, удалось ли мне поумнеть с годами.
– Ты самая умная девушка из всех, кого я знаю, – с веселой торжественностью заверил ее Лешек. – А лучшее тому доказательство – это то, что ты сумела оценить меня!
– Ну, если это может служить мерой ума, – рассмеялась Марыся, – то себя ты оценил весьма низко, выбрав такое ничтожество, как я.
– Это маленькое ничтожество для меня стало всем на свете.
В тот же вечер перед сном, уже улегшись в кровать, Лешек открыл дневник на первой странице и начал читать:
«Меня зовут Мария Иоланта Вильчур. Мне десять лет. Мой первый папочка умер, а мы с другим папочкой и мамочкой живем в нашем любимом домике лесничего, в самой середине огромной Одринецкой пущи…»
Выписанные еще по-детски неловкой рукой кривые буковки складывались в обыкновенные безыскусные слова, ложились волнистыми строчками, покрывали страницу за страницей.
Но губы невольно улыбались, а на глазах выступала влага, когда он вчитывался в эти странички, самые дорогие, самые драгоценные на земле странички, которые позволяли ему день за днем, месяц за месяцем, год за годом любоваться ее крошечными, но очень значительными радостями, следить за трогательными детскими огорчениями, узнавать эту ясную душу, такую чистую, ласковую, нежную. Эти странички открывали перед ним ее детство, годы юности, позволяли вжиться в них и еще сильнее пожелать никогда с ней не расставаться.
Глава 12
С кленов начали опадать первые красные листья. Осень была еще ранняя, теплая, тихая, солнечная. По будням в поле выходили крестьяне с плугами, по трактам тянулись возы, нагруженные тяжелыми мешками, а по воскресеньям везде было пусто. Только оглушительно трещали сверчки, порой какая-нибудь птица спокойно и безмятежно парила над ржаными полями или тяжело пробегал разжиревший заяц.
Это тишину разорвал резкий громкий рев мотора. Мотоцикл проехал поворот к мельнице и свернул с главного тракта на боковую дорогу, обсаженную кустарником. Молодой Чинский ездил быстро, но он был прекрасным водителем, и Марыся, которая поначалу, во время первых поездок, еще немного боялась, теперь уже чувствовала себя на заднем сиденье в полной безопасности. Только на крутых поворотах, повинуясь инстинкту, крепче хваталась за своего спутника.
Дорога вела к Вицкуновскому лесу. Они приезжали сюда каждое воскресенье. Обычно после обеда Марыся выходила за город на тракт, где они и гуляли подальше от людских глаз. Им тут редко кто-то встречался, но в этом случае Марыся могла не опасаться, что ее узнают. Зеленый комбинезон, шлем и очки меняли ее до неузнаваемости. До леса было около шести километров, и там они проводили время до самого вечера. Потом Лешек отвозил Марысю обратно в Радолишки, а сам окольной дорогой возвращался в Людвиково.
Им необходимо было соблюдать крайнюю осторожность, потому что злые языки не пощадили бы Марысю, если бы пошли слухи, что кто-то видел, как она с молодым инженером ездила в лес.
Но в то воскресенье, помогая Марысе надеть комбинезон, Лешек сказал:
– Это будет последняя наша тайная встреча.
В его голосе прозвучало что-то необычное.
– Почему последняя? – спросила Марыся.
– Потому что завтра мы объявим о нашей помолвке.
Марыся застыла.
– Что ты такое говоришь, Лешек! – прошептала она.
Ее вдруг охватил страх перед тем, что должно было произойти. Конечно же, она верила жениху. Безгранично верила. Но где-то в глубине души, в подсознании ее таилось какое-то спокойное и печальное сомнение в успехе. Она предпочитала не думать о будущем. Настоящее было так прекрасно, что любые перемены, казалось, могли все сделать только хуже.
– Ну, садись же скорее, любимая, – поторопил Лешек, – нам сегодня понадобится много времени, чтобы все хорошенько обсудить.
Она молча села на заднее сиденье. Встречный поток воздуха всегда слегка одурманивал ее, но сегодня она была в почти бессознательном состоянии. Марыся и мысли не допускала, что все может произойти так скоро, и даже не догадывалась, от чего зависело объявление об их помолвке. Она не знала и никак не могла узнать, потому что Лешек после долгих размышлений решил скрыть от нее свои действия ради обеспечения их будущего.
Как раз накануне он осуществил задуманное, и теперь у него в кармане лежал самый настоящий, по всем правилам написанный документ. Это был договор между родителями и сыном о найме на работу на три года. В силу этого договора молодой Чинский получал должность управляющего производством на фабрике; оклад его был не очень высокий, но вполне достаточный.
То, что он вытянул из родителей этот договор, было не слишком красиво. Ему пришлось прибегнуть к уловке, но именно потому, что уловка была не совсем честной, он предпочитал не говорить о ней Марысе. Он боялся и, вероятно, не без оснований, что девушка стала бы возражать и не захотела бы воспользоваться благами, добытыми таким способом.
Сам Лешек не был в восторге от своей предприимчивости, но и особых угрызений совести по ее поводу не испытывал. В конце концов, это была борьба за их обеспеченный быт, за собственное счастье и счастье любимой девушки. Он должен был раздобыть средства к существованию, и он их раздобыл. Ему надо было лишить родителей орудия принуждения – и он это сделал.
Он уже решил, что в понедельник сообщит им о своем решении жениться на Марысе. Тогда они, разумеется, поймут, почему он так боролся за этот контракт.
«Да, – скажу я им, – это правда. Я предвидел, что вы захотите воспрепятствовать моей женитьбе, предвидел, что, ставя свои кастовые предрассудки выше, чем счастье вашего сына, вы постараетесь заставить меня изменить свое решение и не отступите перед использованием любых средств. Поэтому и я не вижу оснований отказываться от средств защиты. Впрочем, я и не особо злоупотреблял вашим доверием. Вы должны будете три года платить мне оклад, но ведь не просто так. Взамен вы получите добросовестную и старательную работу. А теперь у вас есть выбор: либо вы смиритесь с ситуацией, познакомитесь с моей будущей женой и примете ее в качестве нового члена нашей семьи, либо исключите из этой семьи и меня».
Ох, он прекрасно знал, что родители сразу не сдадутся. Знал, что посыплются просьбы и угрозы, что будут слезы и оскорбления, что на самом деле может дойти до разрыва отношений и открытой войны. Но избежать этого все равно не получится.
Однако в глубине души Лешек надеялся, что в конце концов ему удастся добиться их согласия. Только бы они согласились увидеть Марысю. Он не сомневался, что ее очарование, ее ум, доброта и все те достоинства, которых он не встречал в других девушках, лучше всего сумеют убедить родителей.
Во всяком случае он был готов на все и, в зависимости от того, как родители примут его завтрашнее заявление, составил дальнейший план действий.
Так или иначе, но Марыся уже завтра должна была оставить работу в магазине. Если родители смирятся с волей сына, ей следует тут же переехать в Людвиково. Если нет, то ей придется до свадьбы уехать в Вильно. Лешек и там все подготовил. На этот месяц она поселилась бы в семье у Вацека Корчинского, его школьного приятеля, а госпожа Корчинская самым сердечным образом позаботилась бы о невесте Лешека, которого очень любила.
Оставалось только обговорить с Марысей все дела, связанные с ее отъездом и разлукой с опекуншей. Что бы он ни планировал, девушка была совсем молоденькой и Шкопкова могла бы чинить ей препятствия, хотя Лешек и не считал это серьезной причиной. Кроме того, в случае отъезда в Вильно возникал еще один весьма щекотливый вопрос: деньги. Он не знал, согласится ли Марыся, у которой своих денег наверняка не было, принять от него нужную сумму. В общем, сумма эта была не столь уж велика. Госпожа Корчинская занялась бы в Вильно пополнением гардероба Марыси, а он потом сам бы с ней рассчитался. К счастью, для Вацека, который, как адвокат, прекрасно зарабатывал, такие мелкие траты были бы почти незаметны.
Обо всем этом размышлял Лешек по дороге, Марыся, сидя у него за спиной, тоже погрузилась в свои мысли. Дорога, как обычно по воскресеньям, была пуста. Только около мостика они встретили крестьянскую фурманку, которую тянула маленькая лошадка. Она испугалась машины и рванула в сторону. Возчик, похоже, был пьян, потому что, вместо того чтобы вовремя натянуть вожжи, спрыгнул в придорожную канаву. Его пассажир покатился вслед за ним. Облако пыли заволокло всю эту картину, которая промелькнула перед ними за какую-то секунду. Лешек не остановился, и только Марысе показалось, что пассажир фурманки был ей знаком.
И она не ошиблась: пассажиром был Зенон Войдылло. Когда мотоцикл скрылся в облаке пыли за поворотом, Зенон выбрался из канавы и, погрозив кулаком вслед уехавшим, пробормотал несколько сочных проклятий, тем более выразительных, что он, конечно же, был пьян в драбадан.
Но ни Марыся, ни Лешек уже не услышали этого. Дорога как раз стала шире и нырнула в старый высокоствольный лес.
Они доехали до небольшой полянки и устроили на ней свой маленький пикник. Их незатейливое пиршество состояло из фруктов и пары плиток шоколада. Они оставили все это около укрытого в кустах мотоцикла и, взявшись за руки, пошли к краю оврага. Марыся и Лешек всегда тут сидели. Овраг был глубокий, с крутыми склонами, на дне его струился узенький черный ручеек. Обычно, сидя тут в тишине, они видели, как к воде приходили косули. Но на этот раз они разговаривали, и их голоса, эхом отдаваясь в овраге, должно быть, спугнули животных.
– Любимая моя, – говорил Лешек, – все наши неприятности уже позади. Через месяц мы обвенчаемся. Представляю себе нашего достопочтенного ксендза с миной на лице, когда мы придем к нему попросить, чтобы он объявил о нашей помолвке! Ну и остальных тоже! Вот будет сенсация!
Он потер руки и удивился, посмотрев на Марысю:
– Тебя что-то тревожит?
– Понимаешь, – вздохнула она, – для меня это будет не слишком приятно. Легко представить, что люди начнут говорить.
– И что такого они могут сказать?
– Ну, что я выхожу за тебя ради выгоды… ради денег, положения, что я провернула удачное дельце и мне удалось заарканить богатенького муженька…
Лешек покраснел.
– Какие глупости! Как ты можешь даже допускать такое?
– Ты же прекрасно и сам знаешь, что именно так и станут говорить.
– Тогда я им скажу, – взорвался он, – что они болваны. Все хотят мерить своей убогой меркой. Только от тебя руки прочь! Прочь! Не бойся, я сумею защитить свою жену даже от самого дьявола! Если уж тут вообще можно употреблять такое мерзкое слово, как выгода, то это как раз я собрался провернуть выгодное дельце, женясь на тебе. Да, именно я, потому что не смог бы жить без тебя. И не захотел. А вот ты вышла бы за меня, даже если бы у меня гроша в кармане не было и я назывался каким-нибудь Пипчиковским и был обыкновенным работником. Я готов поклясться, что это так и есть!
Марыся прижалась к нему.
– И это не было бы лживой клятвой. И я уж, наверное, предпочла бы, чтоб ты был беден.
– Но ведь я и так беден, любимая. У меня ничего нет. Все принадлежит моим родителям и зависит от их воображения. У меня же есть только должность в Людвикове, оклад и маленькая квартирка. Вот и все. Так что сама видишь, не сделала ты выгодной партии. Самым большим моим сокровищем будешь ты… и это сокровище я никому не уступлю…
Он с восторгом смотрел на ее склонившуюся головку, на золотистые солнечные блики, игравшие на гладко зачесанных волосах, на тонкий профиль.
– Ты даже не знаешь, – сказал он, – какая ты красивая. Я ведь видел тысячи женщин. Тысячи. Видел знаменитых красавиц, по которым сходит с ума весь мир, разных кинозвезд и тому подобных дам. Но ни одна из них и сравниться с тобой не могла бы. И уж наверняка ни у кого больше нет такого очарования. Ты не знаешь, что каждое твое движение, каждая улыбка, каждый взгляд – это произведение искусства. Даже в этих паршивых Радолишках тебя сумели разглядеть! Вот увидишь, что будет, когда я введу тебя в общество! Да все там просто потеряют головы! Обещаю тебе! Самые знаменитые художники будут добиваться права писать твои портреты. А иллюстрированные журналы станут публиковать твои фото…
– Боже мой! – засмеялась она. – Ты страшно все преувеличиваешь!
– Совсем не преувеличиваю! Сама увидишь. А я буду ходить гордый, как король. Я знаю, что это тщеславие, но ведь этот недостаток есть почти у каждого мужчины. Каждого из нас безмерно радует и наполняет гордыней, если ему все завидуют из-за женщины, которой он обладает.
Марыся покачала головой.
– Если б и нашлись такие, которые увидели бы во мне какую-то там красоту, то этого маловато для зависти. Мне даже страшно подумать, как я могу скомпрометировать тебя из-за незнания светского этикета, неумения вести себя и собственной глупости.
– Марыська!
– Ну да. Ты думаешь, твои знакомые забудут, что я была девушкой из лавки Шкопковой? Да они все время будут следить за мной. Ведь я и в самом деле самая обыкновенная Золушка, простодушная провинциалка. Я не обладаю манерами, присущими людям твоего круга, не умею разговаривать с ними. У меня почти нет никакого образования. Правда, мамочка хотела подготовить меня и мечтала, чтобы я школу окончила, но, как ты знаешь, обучение я так и не окончила. Ты женишься на совсем простой девушке.
Голос ее звучал печально. Лешек нежно взял ее за руку и спросил:
– Марысенька, скажи, ты считаешь меня наивным и слепым глупцом?
– Ну что ты! – запротестовала она.
– Неужели ты думаешь, что мои критерии и уровень моих требований значительно ниже, чем у моих родных и знакомых?.. Судя по твоим словам, именно такой вывод и напрашивается. Я, как последний дурак, беру тебя в жены, вижу в тебе достоинства, которых ты не имеешь, и только мои родители, внимательно посмотрев, откроют, как же ошибался их сын.
– Нет, Лешек, – возразила Марыся, стараясь успокоить его. – Просто ты на мои недостатки смотришь снисходительно, потому что любишь меня.
– Значит, и они тебя полюбят.
– Дай-то бог.
– Должен сказать, что твои недостатки вообще сплошь воображаемые. Я бы всем девушкам пожелал выглядеть так изысканно, как ты, и чтобы у них было столько же врожденного ума и утонченности чувств. А если говорить о манерах, этикете и вообще об умении держать себя в обществе, то я уверен, ты это все усвоишь без малейшего труда, а учиться ты сможешь столько, сколько душа пожелает. Но не слишком много, потому что мне не хочется иметь жену значительно умнее меня.
– Этого можешь не опасаться, – засмеялась она.
– А я вот больше всего этого боюсь. – Он сделал серьезное лицо. – Знаешь, когда я убедился, что моя Марысенька – умница-разумница?
– Не знаю.
– Когда ты ни словечка не сказала мне о местечковых скандалах. Ведь я же мог заподозрить, что этот Собек, который встал на твою защиту, имел какие-то права на такое поведение. Но ты, наверное, подумала: «Не буду я объясняться с Лешеком, потому что если у него появились какие-то мерзкие подозрения, то он не стоит даже объяснений».
Марыся не помнила, чтобы она так думала, но возражать не стала.
– Мне просто не хотелось втягивать тебя в эти неприятные дела, – сказала она.
– Но это же неправильно! Кто должен защищать тебя, если не я?
Он задумался и прибавил:
– А вот мне следует как-нибудь зайти на почту и пожать руку этому Собеку. Правда, это нахальство с его стороны, что он посмел влюбиться в тебя, но тогда поступил как настоящий мужчина.
Солнце опустилось совсем низко. В это время они обычно уже собирались возвращаться, но сегодня им еще многое надо было обсудить. Они договорились, что на следующий день Марыся сообщит пани Шкопковой о своей помолвке и о том, что больше не будет работать у нее в магазине.
– А еще скажи ей, – предложил Лешек, – что если она считает, что твой уход нанесет ей ущерб, то ты вернешь ей все потери, пусть подсчитает.
– Ты не знаешь ее, – ответила Марыся. – Она никаких счетов выставлять не станет, да и я все отработала. Она бы смертельно оскорбилась при одном лишь упоминании о возмещении ущерба. Это очень добрая женщина. Я боюсь другого: она не поверит в помолвку.
– Но ведь я приеду где-нибудь около полудня, и она услышит от меня подтверждение. Во всяком случае ты заранее уложи все свои вещи.
– Лешек, любимый мой, чем же я заслужила такое счастье?!
Он обнял ее и с величайшей нежностью прижал к себе. Его переполняла невыразимая радость от того, что он есть и будет всем на свете для этой девушки, чудеснейшей девушки, у которой больше не осталось никого из близких. И одновременно сам себе удивлялся. Он столько раз держал в объятиях разных женщин и никогда не испытывал ничего, кроме вожделения. Почему же по отношению к этой женщине, которую он, несомненно, желал более, чем кого-либо другого на всем земном шаре, даже вожделение было иным, проникнутым неизменной любовью и почти религиозным благоговением? Когда-то, во время первых встреч с Марысей, он и на нее смотрел так же, как на остальных. Если б тогда она оказалась с ним наедине… Ничего не остановило бы его и не помешало совершить ужасную ошибку.
«Слава богу, что так не случилось», – думал он.
Они еще долго бродили по лесу, и было уже почти темно, когда решили возвращаться. По лесу, где попадалось много вывороченных деревьев и торчащих из земли корней, они ехали медленно. Хотя бояться, в общем-то, было нечего. Лешек знал дорогу как свои пять пальцев, помнил каждую выбоину, каждый камень, каждый поворот. Он и в темноте доехал бы до тракта, а при свете мощной фары они вполне безопасно могли ехать даже на приличной скорости.
Так, по крайней мере, они думали.
В тот момент, когда мотоцикл вырвался из леса, а его громкий рокот наполнил спящую долину до самого тракта, на одном из поворотов боковой дороги показалась фигура мужчины.
Зенон, бывший семинарист, долго их тут поджидал. Он проспал в канаве несколько часов и очень боялся, как бы во время его забытья мотоцикл не проскользнул обратно к тракту. К счастью, его тревога оказалась напрасной. Со стороны Вицкуновского бора слышалось приближающееся тарахтение мотора, а иногда с дороги видно было, как по темным зарослям скользит луч фары и листва под ним вспыхивает ярким зеленым цветом.
– Ну, теперь они от меня не уйдут, – бормотал Зенон.
Он уже неделю пил без просыпу. Выпросил у тетки в Швечанах несколько десятков злотых и, возвращаясь в Радолишки, иногда пешком, иногда на попутной фурманке, не пропускал ни одной корчмы, ни одного шинка. Возвращался же он, чтобы еще раз попросить отца о прощении, хотя и не верил, что его простят, а потому, отчаявшись, напивался до полного бесчувствия. Когда после обеда он встретил по дороге мотоцикл Чинского и узнал в тех, кто на нем ехал, виновников его изгнания из дома, в нем изо всех сил заговорили ненависть и жажда мести, а в пьяной голове созрел коварный план.
«Вот уж теперь они мне за все заплатят, за все мои несчастья», – твердил он.
Зенон знал, что они будут возвращаться этой дорогой, объезда тут не было. Поэтому он притаился в канаве за поворотом и ждал.
У него еще шумело в голове, его пошатывало, но, услышав шум приближающегося мотоцикла, он быстро и справно приступил к делу. Он все точно просчитал. Сразу за этим поворотом дорога круто идет вверх, Чинскому придется прибавить газу, и он смело сделает это, потому что поворот довольно плавный. Когда же сразу за поворотом Чинский заметит непредвиденное препятствие, тормозить будет уже поздно и он вряд ли сумеет избежать катастрофы.
О том, чтобы перегородить дорогу, Зенон позаботился заранее. Он приготовил две толстые подгнившие колоды, найденные в зарослях, и кучу камней, которых в канавах было предостаточно.
Теперь он неторопливо вытащил все это на дорогу и старательно уложил поперек нее, так что проезд был полностью перекрыт и объехать завал не было никакой возможности. Вдоль обочин по обе стороны тянулись глубокие канавы, причем их внешние края были намного выше внутренних. Кроме того, вдоль них росли густые кусты, образовавшие плотные живые изгороди с обеих сторон дороги.
Было еще не очень темно, и Зенон с мрачным удовлетворением в очередной раз оглядел свою работу. Он уже хотел было двинуться в сторону тракта, когда ему в голову пришло, что, спрятавшись в кустах около завала, он сможет без всяких опасений полюбоваться на результат своей мести.
«По крайней мере, увижу, как они свернут себе шеи», – усмехнулся Зенон.
Он несколько раз соскальзывал с крутого склона, но наконец-таки вскарабкался наверх, раздвинул ветви кустов и удобно улегся под ними. Наблюдательный пункт выбран был прекрасно. Оставалось только спокойно лежать и ждать, а когда они уже разобьются, выйти на тракт и вернуться в городок. Никто не сможет обвинить его в том, что это он сделал завал, никто его не видел, а тот мужик, с которым он ехал от вицкуновской корчмы, двигался в сторону Ошмяны. Да он и не знал, кого вез. А этих найдут только утром. Ночью по боковой дороге никто не ездит – это же не главный тракт, по которому фурманки направляются к утреннему поезду или за кирпичом в Людвиково.
«Конечно, кое-какие подозрения могут возникнуть, – думал Зенон. – Я не раз грозился отомстить. Но никаких доказательств против меня не найдут. А они за то, что мне сделали, заплатят сполна… Да еще полюбуюсь этим зрелищем… Не каждый день такое случается!..»
Проходили минуты, которые казались ему часами. Рокот мотора приближался, становился все громче. Уже не более полукилометра отделяло пару от неизбежной катастрофы.
«Разве что черт их убережет», – промелькнуло в голове Зенона.
Но Чинского ничто не уберегло. Наоборот, он заметил, что становится довольно прохладно, и подумал, что Марыся может простудиться. А поскольку за мостиком дорога была намного лучше, он прибавил газу.
Сноп яркого белого света перед ним вонзался в темноту, раздвигал ее в стороны, прокладывая дорогу. Еще два поворота, за вторым будет небольшой, довольно плавный подъем, а там уже и тракт. Лешек думал о завтрашнем дне, о решающем разговоре с родителями, о том, как представит им Марысю, о своем огромном счастье, о вечерах, которые они станут проводить вдвоем, об утрах, когда, просыпаясь, они в тысячный раз будут убеждаться, что их счастье не было только сном, что оно реально и осязаемо… Он представлял себе стол, накрытый на двоих, ее, такую веселую, сияющую и светлую, как она заботится о его доме, об их гнездышке…
И вдруг увидел…
Прежде чем мысль успела промелькнуть у него в голове, прежде чем он понял, что приближается смерть, Лешек машинально нажал на тормоз, мгновенно опустил ноги с педалей на землю и вонзил каблуки в несущуюся под колесами дорогу. Завыли от отчаянного усилия покрышки, рыжий щебень двумя фонтанами брызнул в стороны, и в следующее мгновение раздался глухой треск от сильного удара.
А потом все стихло.
Зрелище действительно получилось исключительным, и Зенон не пропустил из него ни малейшего фрагмента, ни доли секунды. Он видел, как вылетел из-за поворота мотоцикл, видел отчаянные попытки водителя затормозить, видел, как машина врезалась в завал и два раскоряченных тела взлетели в воздух.
А затем наступила тишина.
С удивительной ясностью он осознал, что произошло. Он был так трезв, как если б никогда не брал в рот и капли спиртного. Он отомстил. Там, на дороге, лежат они – или мертвые, или смертельно раненные. Он отомстил, но… ничего не почувствовал. Вернее, у него появилось ощущение полной внутренней пустоты, и только. А еще странное глухое спокойствие.
Зенон вышел на дорогу. Слева, отброшенный далеко от завала, лежал мотоцикл. Зенон зажег спичку. Теперь это была только куча искореженного железа. Он пошел дальше и снова посветил.
Они лежали неподалеку друг от друга, но девушку отбросило чуть дальше. Зенон наклонился над Чинским. Безвольно раскинутые руки и ноги, голова неловко прижата к плечу. Он походил на мягкий манекен. Нижняя часть лица была размозжена, из широко открытого рта текла кровь. Глаза были закрыты.
В двух шагах от него лежала она. Лицом к земле, съежившись, точно она плакала, точно спокойно сама легла, чтобы вволю поплакать, свернулась комочком, как все женщины, когда плачут. Она выглядела так, будто ничего страшного не произошло. Зенон чиркнул о коробок новой спичкой и наклонился над Марысей, чтобы сбоку заглянуть ей в лицо. И только тогда заметил небольшую лужицу крови под ее светлыми волосами.
Он еще раз оглянулся. Ему показалось, что Чинский застонал. Но, похоже, ему это только померещилось. Он спрятал спички и пошел вперед, к тракту.
Незаметно для себя он шагал все быстрее и быстрее. В голове происходило что-то странное. Он ощущал, как его охватывает какое-то новое, до сих пор неведомое ему чувство, страшное чувство. Да, он боялся, смертельно боялся, но не тех, кто остался позади него, на дороге, а себя самого; в этой пустоте и всепоглощающей темноте он страшился сознания того, что совсем рядом, почти в нем самом, притаился кто-то другой – чудовищный, опасный, жуткий…
«Убийца!»
Он вдруг кинулся бежать. Грудь содрогалась от тяжелого дыхания, но из нее рвался крик:
– На помощь! На помощь! На помощь!..
Со стороны тракта доносилось тарахтение. Там были люди.
– На помощь! Спасите! Убийца!..
Крик его перешел в дикий вой, звериное вытье, нечленораздельный скулеж, в котором уже нельзя было разобрать слов, только безумный страх и отчаянную мольбу.
Глава 13
На мельнице рано ложились спать. Даже женщины, которые, несмотря на неустанный дневной труд, не успокаивались допоздна и никогда не могли наговориться досыта, просиживая перед домом до полуночи, теперь, когда ночи становились все холоднее, укладывались пораньше.
Старый Прокоп перед иконами читал свои длинные вечерние молитвы и, отбивая поклоны, тем жарче бился головой об пол, что день был воскресный. Работник Виталис уже давно храпел в кухонном помещении. Молодой Василь сидел в пристройке у Антония Косибы и тихонечко, хоть и мастерски, наигрывал на губной гармонике и приглядывался к знахарю, который молча толок деревянным пестиком в маленькой мисочке жир с каким-то лекарством и свиной желчью. Он готовил мазь, которая хорошо помогала при обморожении.
Неожиданно в тишине залаяла собака. Проснувшиеся гуси ответили ей громким гоготаньем.
– Кто-то едет к нам, – сказал Василь.
– Так погляди, – буркнул знахарь.
Василь обтер рукавом гармошку, спрятал ее в карман, неспешно вышел на двор. Он явственно услышал скрип телеги и неразборчивые человеческие голоса. Голосов было много, должно быть, ехало восемь или девять человек. Кто-то бежал чуть впереди, тяжело дыша от усталости. Когда он добежал до Василия и остановился в пятне света, падающего из окна, парень даже отшатнулся.
– Что за черт?! – грозно спросил он, чтобы придать себе смелости.
У прибежавшего человека лицо и руки были измазаны кровью, а лицо перекошено в дикой гримасе.
– К знахарю… На помощь… Они еще живы… – хрипло забормотал он.
– Во имя Отца и Сына, кто они?
– Скорей же, скорей! – заскулил прибежавший. – Знахарь! Знахарь!
– Что такое? – отозвался из сеней Антоний Косиба.
– Спаси их! Спаси! И мою проклятую душу заодно! – Пришедший бросился к Антонию. – Они живы!
Василь заглянул в глаза человеку и сказал:
– Так это же Зенон, сын шорника Войдылло.
– Что случилось? – раздался рядом голос Прокопа.
– Разбились на мотоцикле! – трясясь точно в лихорадке, ответил Зенон. – Но еще живы!
Знахарь схватил его за плечи.
– Кто? Говори, кто?!.. – В голосе его прозвучал ужас.
Но ответ уже был не нужен. Как раз подъехала телега. На ней лежали два неподвижных тела. Из избы выбежал Виталис, подоспели и женщины, принесли фонари.
Лицо молодого Чинского, все в кровавых подтеках, производило страшное впечатление, но глаза его были открыты, казалось, он находился в сознании. А вот белое как бумага личико Марыси выглядело мертвым. Среди светлых волос над виском сочилась кровь. Знахарь, склонившись над телегой, нащупал пульс.
Мужики рассказывали, перебивая друг друга:
– Я в аккурат проезжал мимо вицкуновской дороги, когда этот вылетел и вопит: «На помощь!». Мы побежали туда, чтобы посмотреть, а тут, Боже спаси и помилуй, лежат они на дороге…
– Они уж и не дышали вовсе…
– На этом мотоцикле и разбились. На дороге кто-то бревно оставил, а они прямо в него… и того… ну, известное дело…
– Так мы стали совет держать, что делать-то, а этот на колени падает, руки целует. Спасите, говорит, везите к доктору в город, будьте, говорит, христианами…
– Так разве ж мы не люди, что ли, не понимаем разве! Только как же их везти в город-то? Всю душу из них вытрясешь, ежели даже еще живы. Так и постановили, что лучше сюда, к знахарю…
– Хотя, видать, тут ксендз нужнее…
Антоний Косиба обернулся к ним. Его лицо окаменело, и он сам сейчас больше походил на труп, чем на живого человека. Только глаза горели.
– Один я не справлюсь, – сказал он. – Пусть кто-то верхом за доктором съездит.
– Виталис! – позвал Прокоп. – Запрягай!
– Времени нет запрягать! – крикнул знахарь.
– Дайте мне лошадь, я поскачу, – вмешался Зенон.
– Виталис, дай ему, – согласился Прокоп, – а ты сообщи в Людвиково, что их сын тут лежит.
Между тем знахарь поспешил в дом. Одним движением руки он смел с большого стола все лежавшие на нем вещи, еще одним движением точно так же очистил лавку. Руки у него дрожали, а пот каплями выступил на лбу.
Он снова выбежал во двор. Теперь он давал распоряжения. Раненых, осторожно подложив под них руки, перенесли в дом, где Василь зажег еще две лампы. Ольга раздувала огонь в печи. Наталка наливала воду в кастрюли. Зоня огромными ножницами разрезала полотно на бинты.
За окнами раздался громкий топот. Это Зенон на неоседланном коне полетел в город.
– И этот еще шею себе свернет, – пробормотал ему вслед Виталис. – А то и лошадь в потемках угробит.
– Почему же сразу угробит, – с тревогой, сердясь на дурное предсказание, ответил Мукомол. – Дорога ровная, гладкая.
– Боже, Боже, какое несчастье! – причитала старая Агата.
– Надо ж ему было в святой день злого духа искушать, – нравоучительно пробормотал один из мужиков, – на машине разъезжать.
– Так это ж не грех, какой тут грех? – возразил ему кто-то из молодых.
– Может, оно и не грех, а все ж таки лучше воздержаться.
– Расскажите-ка, добрые люди, как все было, по порядку, – попросил Прокоп.
Все столпились вокруг телеги. Вышли из дома и домашние мельника, видно, знахарь их оттуда погнал. И начались подробные рассказы. Время от времени кто-нибудь из слушателей отходил от собравшихся и заглядывал в окошко. Знахарь против обыкновения забыл задернуть занавески.
Но на самом деле он ничего не забыл. Просто знал, что не может себе позволить даже малейшее промедление. Сначала он осмотрел Марысю. Слабое дыхание и едва ощутимый пульс, казалось, свидетельствовали, что она догорает. Надо было как можно скорее определить, какие у нее повреждения. Рана на виске не могла быть причиной такого тяжелого состояния. Она была поверхностной и образовалась, наверное, при падении, когда девушка ударилась об острый камушек, который рассек кожу и скользнул по кости. Сама же кость не была проломлена. Кожа на руках и коленях тоже была содрана во многих местах, ее покрывали многочисленные царапины, но кости конечностей остались целыми.
Пальцы знахаря быстро, но тщательно ощупали неподвижное тело девушки, ребра, ключицы, позвоночник и снова вернулись к голове. Едва они прикоснулись к затылку, где голова переходит в шею, как Марыся вздрогнула раз, другой, третий…
Теперь он уже знал: вдавленный перелом основания черепа.
Если мозг не поврежден, то неотложная операция еще могла бы помочь. Могла бы… оставалась слабая надежда… но все-таки надежда.
Знахарь вытер потный лоб тыльной стороной ладони. Его глаза остановились на тех примитивных инструментах, которыми он пользовался до сих пор. Он ясно отдавал себе отчет, что с их помощью не сможет сделать столь сложной и опасной операции.
«Вся надежда на доктора, – лихорадочно думал он. – Дай бог, чтоб он успел».
В ожидании врача знахарь обмыл и перевязал раны Марыси, а потом занялся Чинским. Молодой человек пришел в сознание и громко стонал. Когда знахарь смыл с его лица засохшую кровь, оказалось, что у Чинского сломана челюсть. Хуже обстояло дело со сложным переломом левой руки. Треснувшая наискось кость пробила мышцы и кожу.
Сделав пару разрезов ножом, знахарь убрал рукав и приступил к операции. К счастью, раненый от боли снова потерял сознание. Через двадцать минут операция была закончена. Во всяком случае жизни Чинского ничего не угрожало.
А тем временем Зенон как безумный несся в город. Он чуть не затоптал какую-то женщину перед костелом и наконец соскочил с лошади перед домом доктора Павлицкого.
Врач еще не спал и сразу сообразил, что надо делать. Он послал сестру, чтобы она с почты соединилась с Людвиково, а сам поспешно достал из шкафа свой дорожный саквояж с хирургическими инструментами, проверил, все ли на месте, упаковал разные лекарства, шприц для уколов и бинты.
Сестра вернулась с сообщением, что супруги Чинские уже выезжают на автомобиле и через пять-десять минут будут в Радолишках.
– Я поеду с ними, – решил врач.
– Нет, вы прямо сейчас езжайте, ведь есть же лошадь! – торопил Зенон.
– Вы с ума сошли! – возмутился Павлицкий. – Я должен трястись верхом, да еще без седла?! Да и все равно на автомобиле мы скорее будем на месте.
И он оказался прав. Неожиданно быстро подъехал огромный автомобиль из Людвикова. Испуганные Чинские хотели было порасспрашивать Зенона, что и как произошло, но доктор решительно заявил, что на это будет время позже.
И пяти минут не прошло, как они уже приехали на мельницу. Когда они вошли в пристройку, знахарь как раз заканчивал перевязывать голову раненого.
– Он жив? Мой сын жив? – вскрикнула госпожа Чинская.
– Он жив, не беспокойтесь, ему ничего не грозит, – ответил знахарь.
– Что этот человек может знать! Доктор, прошу вас, спасайте моего сына!
– Сейчас я сниму эти тряпки и осмотрю его, – ответил врач.
– Незачем его мучить. Я сам вам скажу, что с ним, доктор. У него сломаны челюсть и левая рука. Я сложил кости как надо.
– Прошу мне не мешать! – крикнул доктор. – Я, наверное, лучше вас знаю, что мне следует делать!
– Тут уже нечего делать, – упрямо твердил знахарь. – А вот девушку надо немедленно спасать.
– Что с ней? – спросил врач.
– Кость вдавлена в мозг.
– Господин доктор!.. – простонала госпожа Чинская.
Пульс у ее сына был совершенно удовлетворительный.
– Я только сделаю противостолбнячный укол, и его надо будет отвезти в больницу. Следует поскорее сделать рентгеновские снимки. А сейчас я осмотрю девушку.
Он наклонился над Марысей, попробовал прощупать пульс. И вскоре отвернулся от больной.
– Это уже агония, – заявил он.
– Спасите же ее, господин доктор, – хриплым голосом попросил знахарь.
Врач пожал плечами.
– Тут уже ничего нельзя сделать. Я еще посмотрю это повреждение… Хм… Разумеется… Перелом основания черепа.
Неподвижное тело начало подрагивать.
– И повреждение мозговых оболочек, – добавил он. – Об этом говорят судороги. Тут и чудо не поможет. У вас есть зеркальце?
Знахарь подал ему осколок разбитого зеркала. Доктор приложил его к приоткрытым губам раненой. Зеркальце слегка затуманилось.
– Ну что ж… – Врач развел руками. – Единственное, что я могу для нее сделать, – это укол, чтобы немного поддержать сердце. Но ее состояние совершенно безнадежно.
Он открыл саквояж, полный блестящих хирургических инструментов. Знахарь смотрел на них точно зачарованный, буквально глаз не мог оторвать.
Между тем врач наполнил шприц густой прозрачной жидкостью из ампулы и ввел девушке лекарство под кожу в предплечье.
– Бесполезное дело, – пробормотал он, – все равно скоро наступит конец.
И снова повернулся к Чинскому, собираясь размотать повязки.
Знахарь коснулся его локтя.
– Господин доктор! Спасите ее.
– Вот же глупый человек! – Павлицкий с раздражением отвернулся от него. – Как я должен ее спасать?!
– Это ведь ваша обязанность, – мрачно произнес Косиба.
– Не вам учить меня моим обязанностям. А еще я вам скажу, что если из-за ваших грязных повязок у этого раненого будет заражение крови, то вы отправитесь в тюрьму. Поняли? Вы не имеете права заниматься лечением.
Знахарь как будто не слышал его.
– Сделайте ей операцию, – сказал он. – А вдруг получится.
– Да отцепитесь вы от меня, черт подери! Какого дьявола нужна эта операция? – И, обращаясь к супругам Чинским, точно призывая их в свидетели, воскликнул: – Я, что ли, должен труп оперировать?! Там перелом основания черепа. Обломки кости наверняка повредили мозг. Тут не помог бы и величайший гений хирургии. Да еще проводить трепанацию в таких негигиеничных условиях…
Он обвел рукой помещение, показывая на запыленные пучки трав под потолком, коптившие керосиновые лампы и мусор на полу.
– Если б у меня были такие инструменты, как у вас, – упрямо сказал знахарь, – я бы и сам попробовал.
– Тогда большое счастье, что у вас их нет. Вы бы еще скорее оказались под судом, – уже спокойнее ответил врач, занятый ощупыванием челюсти молодого Чинского. – Хм… и в самом деле перелом, похоже, ничего опасного… Но без рентгена ничего точно сказать нельзя… Повреждения поверхностные…
Он умело продезинфицировал рану и наложил повязку из своих бинтов. Потом осмотрел руку, увидел на ней два разреза и возмутился:
– Как ты посмел это сделать!.. Как посмел!.. Да еще наверняка каким-то грязным ножиком!
– Кость торчала, – объяснил Косиба, – а нож я кипятком обдал…
– Я тебя проучу!.. Уж за это ты точно ответишь!..
– Так и отвечу, – покорно буркнул знахарь. – А что я должен был делать?
– Ждать меня!
– Так я и послал за вами. К счастью, вас дома застали, а если б не застали?.. Надо было раненого без помощи оставить?
– Мы очень благодарны вам за помощь, – вмешался Чинский. – Доктор, этот человек прав.
– Да уж, – неохотно согласился врач. – Меня и в самом деле могло не быть дома. Только бы не было заражения, дай-то бог.
Господин Чинский достал из кошелька банкноту и протянул знахарю.
– Это за вашу помощь.
Косиба покачал головой.
– Мне не нужны деньги.
– Берите. Хорошо, что вы бедным помогаете даром, но от нас можете принять.
– Я помогаю не бедным или богатым, я помогаю людям. А вот этому молодому человеку, если б не совесть, то и вовсе бы не помог. Скорее уж он должен был погибнуть, а не эта бедная девушка… А теперь вот она из-за него умирает…
Госпожа Чинская по-французски обратилась к врачу:
– Его уже можно перенести в автомобиль?
– Да!.. – ответил тот. – Я сейчас позову людей. Только соберу тут все.
Он быстро упаковал разложенные бинты и инструменты, закрыл саквояж и вышел с ним во двор. Антоний Косиба в окно видел, как доктор положил саквояж в машину. Тогда у него и родилось решение: «Я должен его добыть!»
Воспользовавшись суматохой, которая возникла, когда переносили молодого Чинского, знахарь вышел во двор. Двери машины были распахнуты, шофер стоял по другую сторону автомобиля. Хватило одного движения, а потом знахарь быстро отступил обратно в дом.
Никто не заметил исчезновения саквояжа. А спустя две минуты машина уехала в Радолишки.
Знахарь времени зря не тратил. Он заперся в доме, с лихорадочной поспешностью разложил на столе у головы Марыси добытые инструменты, подвинул поближе лампы, а потом, соблюдая всяческую осторожность, уложил безвольное тело в удобном для операции положении. И тут же, перекрестившись, приступил к операции.
Сначала следовало сбрить волосы на затылке. На открывшейся коже видно было огромное синюшное пятно. Отек оказался незначительным.
Он еще раз приложил ухо к ее груди. Сердце едва подрагивало. Он протянул руку, выбрал острый узкий скальпель на длинной ручке. Из первого разреза брызнула темная кровь, пропитала полотняные тряпки. Еще один разрез, третий и четвертый… Уверенные быстрые движения его рук уже открыли прикрепления мышц, раздвинули их. Блеснула розово-белая кость черепа.
Да, доктор Павлицкий не ошибся, кость была вдавлена, она растрескалась, а несколько мелких осколков проникли под череп и вдавились в мозг.
Прежде всего надо было с неслыханной осторожностью убрать их, не повредив мозговой оболочки. Это было невероятно трудно и утомительно, тем более что тело оперируемой начало содрогаться. Но вдруг судороги прекратились.
«Неужели это конец?» – подумал знахарь, но операции не прервал. У него не было времени проверить пульс. Он не отрывал глаз от раны, не видел, что за окнами, расплющив носы о стекла, стоят люди и терпеливо следят за его отчаянными попытками спасти девушку.
Уже кричали первые петухи, когда знахарь закончил операцию и зашил рану. Он снова перекрестился и приложил ухо к грудной клетке больной. Но ничего не смог расслышать.
«Укол!» – озарило его.
Он легко нашел в саквояже коробочку с ампулами и шприц.
«То же самое, что колол доктор», – определил он.
После второго укола сердце забилось уже громче.
Тогда только Антоний Косиба тяжело опустился на лавку, подпер голову руками и зарыдал.
Он неподвижно просидел час, а может, и дольше, совершенно измотанный, в полубессознательном состоянии. Потом поднялся, чтобы проверить, бьется ли сердце Марыси. Пульс едва прощупывался, сердце не стало биться сильнее, но и не ослабевало.
Едва волоча ноги от усталости, знахарь собрал инструменты, вымыл их и уложил в саквояж. А затем после недолгих раздумий занес саквояж в ригу, раздвинул лежавшее в уголке сено и засунул его поглубже. Тут он был надежно укрыт. Его не найдут и не отнимут. А когда у него будет такое сокровище, он сможет намного лучше и быстрее проводить операции, даже такие сложные и трудные, как эта последняя.
«Как это ее доктор назвал? – задумался знахарь. – Трепанация черепа… Вот именно, трепанация… Совершенно верно. Я ведь знаю это слово. Только почему-то оно странным образом вылетело из головы…»
Он вернулся в дом, проверил пульс Марыси, погасил свет и улегся спать неподалеку, чтобы быть наготове и слышать каждое ее движение. Впрочем, такой возможности он не предвидел.
Солнце уже светило вовсю, когда он проснулся. В двери стучали. Он вышел и увидел коменданта полицейского участка из Радолишек, старшего сержанта Жёмека. Рядом стояли Мукомол и Василь.
– Как там девушка, пан Косиба? – спросил сержант. – Еще жива?
– Жива, господин старший сержант, только одному богу ведомо, выживет ли.
– Я должен увидеть ее.
Они вошли в дом. Полицейский внимательно осмотрел больную, лежавшую без сознания, и заявил:
– О том, чтоб ее допрашивать, и речи быть не может. Но вот от всех вас я должен получить показания. Хм… Доктор Павлицкий обещал, что вернется сюда сегодня вечером, чтобы написать свидетельство о смерти. Он думал, что уже вчера…
– Значит, доктор уехал? – спросил знахарь.
– Так ведь он отправился с молодым Чинским, чтобы отвезти его в город, в больницу. Судя по всему, с ним все будет в порядке, только вот говорить он пока не может. Одна жертва без сознания, другая лишена возможности губами шевелить… Только подумать, если б преступник сам не сознался, он мог бы вполне благополучно улизнуть.
– Преступник? Какое ж тут преступление? Это же был несчастный случай, – удивился Василь.
– Вы так полагаете?.. А разве кто-то из вас был там, на месте катастрофы, на том повороте?
– Нет.
– А я еще на рассвете был. И как вы думаете, колоды из старой вырубки могли в один прекрасный день сами собой вылезть на дорогу и улечься поперек нее? А камни тоже сами собой насыпались?.. Таких чудес еще не бывало. Это был преступный замысел.
– Так кто же это сделал?
– Кто? А Зенон, тот самый тип, которого не раз уже задерживали, сынок шорника Войдылло.
Все присутствующие недоверчиво переглянулись.
– Тут, верно, какая-то ошибка, господин старший сержант, – заговорил наконец старый Прокоп. – Ведь Зенон их первый и спасал, людей позвал. На мельницу привез и еще за доктором поскакал!
– Смотрите-ка! – Сержант покачал головой. – Значит, он все-таки дал правдивые показания. Он так и говорил, а я ему не поверил. Думал, что просто хочет себя обелить, чтобы в суде были смягчающие обстоятельства. Но, видать, совесть у него и в самом деле проснулась.
– И он сам пришел признаваться?
– Сам. Сказал, что его дьявол попутал, что был пьяный… Ну ладно, мне надо еще все это записать…
Прокоп пригласил полицейского в комнаты, где он и опросил всех, кто был в доме, в качестве свидетелей. Давал показания и Антоний Косиба, только сказал он немного. К показаниям других добавил, что оказал жертвам первую помощь. А потом женщины подали завтрак, во время которого старший сержант, пользуясь случаем, спросил знахаря, что ему делать с болями в правом боку, которые мучают его уже пару месяцев. Получил травки, поблагодарил, распорядился в случае смерти девушки дать знать в участок, попрощался и уехал.
Но Марыся не умирала. Проходил день за днем, а она лежала неподвижная, без сознания. Единственное, что менялось в ее состоянии, – это температура, которая, казалось, повышалась с каждым часом. Ее личико уже не было белым как мел, оно становилось все более розовым, дыхание из едва заметного перешло в быстрое, неровное и прерывистое.
Три раза в день знахарь вливал в ее сжатые губы коричневый отвар, днем и ночью менял на горящей голове и неровно колотившемся сердце холодные компрессы из тряпок, смоченных в студеной колодезной воде.
Сам он похудел еще сильнее, да и седины заметно прибавилось. Его лицо напоминало лицо мертвеца, только в глазах горело отчаяние. Он уже утратил все надежды. Похоже, ни операция, ни все его старания, ни бессонные ночи у постели больной – ничего не помогало. Он видел, как из его рук ускользает эта молодая жизнь, жизнь единственного на свете существа, за которое он без малейших колебаний отдал бы свою жизнь.
На третий день он упросил Василя съездить в городок за врачом.
– Может, он чем-то поможет, – сказал знахарь.
Василь поехал и вернулся ни с чем. Оказалось, что доктор надолго задержался в Вильно и, вероятно, нескоро вернется, поскольку должен сопровождать молодого Чинского аж за границу.
Вечером Антоний Косиба послал в Печки за тамошним знахарем-овчаром. Он абсолютно не верил в силу его заговоров, но тонущий хватается за соломинку…
Знахарь пришел, несмотря на профессиональную ревность к конкуренту. Он увидел в этом приглашении свою великую победу. Посмотрел на умирающую, коснулся ее руки, потом приподнял одно веко, второе, оттянул нижнюю губу, внимательно разглядывая ее внутреннюю сторону, чуть улыбнулся и начал что-то бормотать себе под нос, одновременно держа руки над головой больной.
Его корявые старческие пальцы постепенно скрючивались, точно собирали что-то, потом двигались до самых стоп и там снова раскрывались, как будто стряхивая что-то невидимое. Он повторил это семь раз, неустанно бормоча свои заклятия, в которых только последние слова проговаривал чуть громче:
– На широкую реку, на чужую сторону, под жаркое солнце, под темную тьму, под лунный свет на триста лет вон за оконце!
На последних словах он вдруг подскочил к окну, распахнул его и выставил руки наружу, приказав:
– Быстро полейте мне на руки водой из деревянного ведра.
Кто-то из присутствующих выполнил его указание. Тогда знахарь сгреб на крышку немного горячих углей из печи, посыпал их горстью трав, которые достал из холщового мешка, висевшего у него через плечо, и начал медленно обходить все углы в помещении. В каждом останавливался, дул на угли до тех пор, пока от трав не поднимался клуб дыма, читал «Отче наш» и возвращался к изголовью умирающей, чтобы снова идти в следующий угол.
Вся эта церемония длилась около часа. Наконец знахарь подошел к Марысе, снова приподнял ей веки и кивнул.
– Жить будет, – уверенно сказал он. – Я заговорил смерть. Но смерть сильна. Она и самого сильного заговора не послушается. Если уж уперлась где, то без добычи, с пустыми руками не уйдет. Поэтому возьмите куру и в самую полночь тут, под окном, зарежьте. Она девушка или замужняя?
– Девушка, – ответил Косиба.
– Тогда надо белую. Есть у вас белая курица?
– Есть, – кивнула Ольга, всерьез озабоченная происходящим.
– Вот ее и зарежьте. А потом сварите и четыре дня давайте больной ее есть. И упаси вас бог дать что-то еще. Только эту куру и суп, который из нее сварите. А сейчас не благодарите. Потому что это может помешать, а я уж пойду. Господи, Иисусе Христе, спаси и помилуй.
– Отныне и во веки веков. Аминь, – отозвались все присутствовавшие.
Вслед за старым знахарем-овчаром из пристройки вышли и домочадцы. Осталась только Зоня. Она легонько толкнула в бок задумавшегося Косибу и спросила:
– Ну что, Антоний, поможет это или нет?
– Не знаю, – пожал плечами знахарь.
– Потому как, понимаешь, я думаю, что такие вещи – это только чтобы голову заморочить. Неужели от такого курения да бормотания больной может поправиться?.. Вот мой муж-покойник и по миру поездил, и на войне был, так он над всем этим смеялся. Причитания да курения – это ведь не лекарства. Ты вот по-другому лечишь, так зачем тебе понадобилось этого знахаря-овчара вызывать! Он теперь каждому встречному будет говорить, что сумел помочь там, где у тебя не вышло. А если Марысе суждено выздороветь, то и так бы выздоровела. А для тебя лучше, чтоб она умерла, потому как…
Зоня разом умолкла под тяжелым взглядом Антония и отшатнулась к стене.
– Что ты, что ты, Антоний?! – быстро затараторила она. – Я ведь ничего дурного… Так только, тебе же добра хочу… Ей-богу, я смерти никому не желаю… А ты уж сразу… О! Бог знает, что себе вообразил. Ну же, не сердись, да я сама тут под окном в полночь курицу зарежу. Беленькую выберу, всю совсем беленькую…
– Иди уже, Зоня, иди, оставь меня одного, – прошептал знахарь.
– И правда, пойду. Спокойной ночи. И ты, Антоний, ложись, отдохни. А то совсем сил не останется. А про куру не беспокойся. Я все сделаю, как овчар сказал. Спокойной ночи.
Она вышла, и наступила тишина. Только свистящее дыхание Марыси говорило о том, что в тишине и покое что-то происходит, что-то спешит и торопится к неминуемому концу.
Он пододвинул табурет, уперся локтями в край стола и стал неотрывно смотреть на бледно-голубые жилки, просвечивающиеся на сомкнутых веках девушки.
Он сделал все, что подсказывало ему его умение, что говорил разум и даже кое-что вопреки рассудку, вопреки убеждению – то, что подсказывает отчаяние и скрытый где-то глубоко в закоулках души инстинкт, когда человек ищет помощи и спасения в непонятных и, возможно, не существующих вовсе могучих колдовских чарах.
Время шло, темнота за окнами постепенно сгущалась. Антоний Косиба все думал, думал о себе, о своей судьбе, о своей жизни, столь пустой и бесплодной до сих пор, не связанной ни с людьми, ни с миром. Да, именно ни с чем не связанной. Потому что привязывает только чувство. Не хлеб, не быт, не чужие доброта и сердечность, не убеждение, что приносишь кому-то пользу, а лишь чувства, которые ты испытываешь. И только-только он полюбил кого-то всей душой, как судьба уже отбирает у него этого человека, с кровью выдирает, грабит…
«Опять точно так, как тогда», – отозвалось что-то в нем, и Антоний вытер вспотевший лоб.
Он вдруг осознал, что однажды, когда-то бесконечно давно, как бы в прошлой жизни, ему уже пришлось пережить такую же утрату. О, он был уверен в этом. Судьба тогда лишила его человека, которого он любил, без которого не мог жить…
В висках застучало, в голове безумным вихрем закружились мысли. Когда же это было?.. Как?.. Где?.. Потому что ведь было же… Точно было…
Он стиснул зубы, сжал кулаки так, что ногти до боли впились в ладони.
– Вспомнить… вспомнить… – шептал он. – Я должен вспомнить…
Измученные нервы, казалось, дрожали от напряжения. Мысли расползались неуловимыми ошметками, бесформенной белой пеной, точно вода на мельничном колесе, и перед его внутренним взором стали возникать туманные расплывчатые черты… Мягкий овал лица… Полуулыбка на чудных губах, светлые волосы и, наконец, глаза – темные, глубокие, загадочные…
Из пересохшего, сжавшегося от волнения горла Антония Косибы вырвалось неизвестное и никогда не слыханное, но такое близкое и знакомое имя:
– Беата…
Он удивленно повторил его, испуганно и в то же время с затаенной надеждой. Антоний чувствовал, что в нем происходит неведомое, что ему предстоит открыть для себя что-то безмерно важное, еще секунда – и он познает какую-то великую тайну…
Он весь собрался, сжался…
И вдруг тишину вспорол пронзительный испуганный птичий крик. Раз, другой, третий…
Антоний Косиба вскочил с места и в первый момент не смог сообразить, что случилось. И только чуть позже понял: «Это Зоня режет курицу… Белую курицу… Значит, полночь…»
Он быстро подошел к Марысе. Как он только мог так надолго ее оставить без присмотра!.. Он коснулся ее руки, щеки, лба… Проверил пульс, прислушался к дыханию…
Сомнений не было: температура упала, резко упала. Щеки и ладони были едва теплые.
«Она… остывает, это конец», – в отчаянии подумал знахарь.
Не теряя времени, он разжег в печи огонь, всыпал в маленькую кастрюльку горсть трав. Через несколько минут настой для улучшения деятельности сердца был готов. Он влил в рот больной три ложечки, и через час пульс показался ему чуть более сильным. Антоний дал ей еще одну дозу.
Прошло с четверть часа, и Марыся открыла глаза. Снова сомкнула веки и опять открыла. Ее губы беззвучно шевельнулись, и она как будто улыбнулась. Глаза смотрели осмысленно.
Знахарь наклонился над ней и прошептал:
– Голубушка ты моя, счастье ты мое… Ты узнаёшь меня?.. Узнаёшь?..
Губы Марыси приоткрылись, и, хотя ничего невозможно было расслышать, он по их движению понял, что она произносит те самые слова, которыми всегда его называла:
– Дядюшка Антоний…
И тут же глубоко вздохнула, веки ее сомкнулись, грудь стала размеренно подниматься и опускаться.
Она заснула.
Знахарь упал ничком на пол и, захлебываясь радостью, твердил:
– Благодарю тебя, Боже… Благодарю тебя, Боже…
Уже светало. Обитатели мельницы просыпались. Виталис пошел открывать заслонки, молодой Василь отправился в конюшню, Агата и Ольга суетились на кухне, а Зоня сидела на пороге и ощипывала белую курицу.
Глава 14
После двухнедельного отсутствия в Радолишки вернулся доктор Павлицкий, и тут же, на следующий же день, его вызвали в Райевшчизны, имение супругов Скирвойнов, где работнику порвало руку в соломорезке.
Тогда-то и обнаружилось отсутствие саквояжа с хирургическим инструментарием. Доктор твердил, что в тот злополучный день, ночью, привез его с собой обратно, служанка уверяла, а старая Марцыся клялась, что не привозил. Весь дом от подвала до чердака перевернули вверх дном, но все было тщетно – и доктор поехал к раненому, прихватив инструменты из кабинета. А возвращаясь из Райевшчизны, завернул в Людвиково, чтобы расспросить тамошнего шофера.
Тот прекрасно помнил, как господин доктор вынес из дома саквояж и положил его в автомобиль, помнил, что на обратном пути из машины ничего не вынимали ни в городке, ни в Людвикове, ни на станции. А еще он припомнил, что, когда выносили молодого Чинского, около автомобиля крутился знахарь Антоний Косиба.
– Если уж кто и взял, то только он, – решил шофер.
– Ну конечно! – Врач хлопнул себя по лбу. – Как только я сразу об этом не подумал! Естественно. Все теперь стало совершенно ясно, ведь он же говорил, что попробовал бы сделать операцию той девушке, если бы у него были такие инструменты. Ну, теперь-то уж он попался! Не знаете, та Марыся, что вместе с господином инженером разбилась, еще жива?
Шофер не знал ничего, но в Радолишках об этом все говорили, и доктор Павлицкий сразу же узнал, к своему великому и искреннему изумлению, что девушка жива и вроде бы даже выздоравливает. Одни приписывали все заслуги знахарю с мельницы, другие – овчару из Печек, но все не без откровенного удовольствия, свойственного простым людям в таких случаях, подчеркивали, что таинственная знахарская мудрость помогла там, где медицина вынесла безнадежный приговор.
Независимо от раздражения, которое вызвали у доктора эти новости, они утвердили его в правильности собственного подозрения. Ведь он сам осматривал девушку и обнаружил совершенно очевидный вдавленный перелом основания черепа. Даже будь он хирургом, то и тогда не взялся бы за операцию, которую считал бесполезной. И все-таки он не исключал абсолютно редчайшую вероятность (один шанс на тысячу), что такая операция могла бы оказаться удачной. Зато уж решительно не мог допустить, что больная проживет дольше нескольких часов без трепанации черепа и без удаления обломков кости. Тем более он исключал возможность проведения удачной операции без точных хирургических инструментов.
А из этого следовало, что его собственные инструменты были украдены знахарем Антонием Косибой.
Именно эти доводы он и изложил на следующее утро в полицейском участке старшему сержанту Жёмеку, потребовав немедленно начать следствие, произвести обыск и арестовать знахаря сразу по двум обвинениям: кража и беззаконная врачебная практика.
Старший сержант Жёмек внимательно выслушал обвинения и ответил:
– Моей обязанностью является составление протокола, в который я должен внести ваше заявление. Мне кажется, вы правы, господин доктор. Забрать саквояж с инструментами мог только Антоний Косиба. И у него, конечно же, нет права заниматься медицинской практикой, поэтому его следует привлечь к ответственности. Но, с другой стороны, если вы сами, господин доктор, утверждаете, что без инструментов у него бы ничего не вышло, а с их помощью он спас человеческую жизнь, хотя ему и нельзя было это делать, то неужели вы все-таки хотите наказать его, уничтожить за это?..
Врач нахмурился.
– Господин комендант! Я не знаю, имеете ли вы право, как сотрудник полиции, осуждать преступников. Но зато я, как гражданин, знаю, что это в компетенции суда. Не наше дело решать, добрыми или дурными побуждениями руководствовался преступник. Поэтому, делая заявление о совершении преступления, я вправе ожидать, что вы дадите делу законный ход. Я требую провести обыск и арестовать вора.
Полицейский кивнул.
– Хорошо, господин доктор, я сделаю то, что велит мне служебный долг.
– Могу ли я, как потерпевший, присутствовать при обыске?
– Разумеется, – сухо ответил Жёмек.
– А когда господин комендант намерен это сделать?
Жёмек посмотрел на часы.
– Безотлагательно. Я не хочу, чтобы меня обвиняли в медлительности.
– Сейчас у меня обед, – заметил врач. – Может, поедем на мельницу часика через два?
– Нет, господин доктор. Обыск будет произведен немедленно. Если вы хотите при этом присутствовать…
– Ничего не поделаешь, поеду с вами.
Жёмек вызвал одного из двух своих подчиненных и велел заложить фурманку.
На мельнице совсем не ждали приезда гостей. Жизнь тут шла привычной чередой, только с той разницей, что Антоний Косиба почти совсем не приходил работать на мельницу да и больных принимал теперь гораздо меньше, чем раньше, а тех, кого принимал, осматривал прямо во дворе или в дождливые дни в сенях, не впуская их в дом.
А в доме на застеленной чистым бельем кровати лежала Марыся. Девушка неожиданно быстро выздоравливала. Жизненные силы и энергия молодого организма брали свое. Послеоперационная рана хорошо заживала, появился и аппетит. Поначалу знахарь боялся, что последствия тяжелой травмы могут проявиться в нарушении тех или иных функций, но, к счастью, опасения его оказались напрасными. Видимо, во время несчастного случая мозг не был поврежден, поэтому Марыся свободно двигала руками и ногами, ее зрение и слух не изменились, а голос по-прежнему оставался звонким. Выздоравливая, она долгие часы проводила в беседах со своим заботливым опекуном.
После того как Марыся пришла в себя, первое, что пришло ей в голову, была мысль о Лешеке: что с ним? Когда девушка услышала, что у него не было опасных для жизни повреждений и что родители увезли его за границу для поправки здоровья, она вздохнула с облегчением.
– Только бы он выздоровел!
Она совершенно не помнила, как произошел несчастный случай. И не заметила, что на дороге было какое-то препятствие. Знала только, что ехали они довольно быстро и что ее вдруг подбросило в воздух. Вот и все. Она не ощущала ни боли, ни жара. Когда же пришла в себя, то очень удивилась, что находится в незнакомом доме, а не на мотоцикле среди зарослей кустарника. Она даже не представляла, что была уже одной ногой на том свете. Антоний Косиба ни одним словечком не обмолвился о своей трагической борьбе за ее жизнь, не сказал, насколько серьезными и тяжелыми были ее раны.
– У тебя, голубка моя, на затылке одна косточка сломана, поэтому мне пришлось сделать такую неудобную повязку. А ты, золотко, не поворачивай голову, боже тебя упаси. И старайся не делать лишних движений, а то помешаешь срастанию.
Она обещала быть послушной, но уже на следующий день начала допытываться, как скоро ей можно будет встать.
– Тебе надо еще какое-то время полежать, – уклончиво отвечал знахарь. Он знал, что на заживление потребуется два месяца, но не хотел огорчать девушку. А вот когда она пожаловалась, что потеряет место в магазине Шкопковой, если долго проваляется, и принялась настаивать, чтобы он позволил ей встать, Антоний даже прикрикнул на нее:
– Не искушай Провидение! Благодари бога, что жива. И слушайся меня, а то накличешь себе несчастье.
– Ну хорошо, хорошо, дорогой мой дядюшка Антоний, – улыбалась ему девушка, умоляюще протягивая к нему руки. – Не сердись только!
– Да разве я сержусь! – просияв лицом, отвечал он. – Как же я могу сердиться на тебя, солнышко ты мое!
– Из-за меня столько хлопот…
– Да какие ж там хлопоты! – возмущался он. – Для меня это самая большая радость. А что касается Шкопковой, то ты и думать забудь о возвращении к ней.
– Как это?
– А зачем тебе возвращаться, голубушка?.. Вот выздоровеешь и останешься тут у меня…
Он улыбнулся и добавил:
– Если захочешь.
Антоний действительно возмутился, услышав слова Марыси о хлопотах, потому что все заботы о девушке были ему в радость. А дел было немало. Он каждый день брал ее на руки, переносил на свою кровать в альков, а ее постель старательно перестилал; полотенцем, смоченным в теплой воде, он регулярно протирал ей руки и лицо, кормил с ложечки, как младенца.
Для прочих необходимых процедур звали кого-то из женщин, чаще всего маленькую Наталку, которая просто обожала Марысю, но и тогда знахарю приходилось помогать, потому что ни у кого из женщин не хватило бы сил приподнять больную. Поначалу девушку очень смущало его присутствие, но очень скоро она привыкла, считая «дядюшку Антония» своим опекуном, чуть ли не отцом.
Она с удовольствием разговаривала с ним обо всем, не касаясь только одного предмета. Девушка заметила, что при каждом упоминании молодого Чинского лицо знахаря мрачнеет. Она догадывалась, что он считает Лешека виновником катастрофы и что из-за этого несчастного случая он узнал про их прогулки в лесу наедине, а потому не мог простить молодого человека. Если б она могла открыто сказать ему: «Не сердись на него, дядя Антоний, он честный человек, он меня любит и собирается на мне жениться»!
Но сказать этого она не имела права. И вынуждена была ждать вестей от жениха. А потому время от времени спрашивала, нет ли ей письма.
Знахарь догадывался, какого письма она дожидается, а потому каждый раз ворчливо и коротко отвечал:
– Нету.
И говорил это таким тоном, точно хотел добавить: «И не будет».
Сам он в глубине души был в этом уверен, причем так же твердо уверен, как Марыся была уверена в совершенно обратном.
«Молодой вертопрах вскружил девушке голову, – думал знахарь, – чуть на тот свет не отправил, покалечил, а теперь вот за границей найдет себе другую. Даже словечка ей не напишет».
И уверенность Косибы, казалось, имела веские основания. Со дня злополучного несчастного случая прошло уже полмесяца, а письма все не было, и никто даже не приехал по поручению Чинского узнать о здоровье девушки.
Но Марыся надежды не теряла и все время ждала вестей. Едва она слышала приближающийся к мельнице стук копыт и догадывалась, что это не обычная мужицкая телега, а бричка, как сердце у нее начинало биться сильнее.
– А вдруг это бричка из Людвикова!
Так было и в тот день. Но и на сей раз приехала бричка не из Людвикова, а та, что нанял полицейский в гмине. А сидели в бричке старший сержант Жёмек, еще один полицейский и доктор Павлицкий.
Знахарь как раз был занят: кормил Марысю. Взглянув в окно на приехавших, он ничего не сказал и снова погрузил ложку в миску. Тут дверь отворилась.
– Добрый день, – с порога поздоровался старший сержант. – У нас к вам дело, пан Косиба. Как поживает панна Марыся?
– Спасибо, господин сержант. Мне уже лучше, – весело откликнулась девушка.
– Ну и слава богу.
– Господа, позвольте, – мрачно начал знахарь, – больная закончит обедать.
– Что ж, пусть закончит. Мы подождем, – согласился Жёмек и уселся на лавку.
Доктор Павлицкий подошел к кровати и стал молча разглядывать Марысю.
– Температуры нет? – спросил он наконец.
– Была. Но уже нет, – отвечал Косиба.
– А ноги и руки действуют?.. Нигде не проявилось расстройство функций?
– Да что вы, господин доктор, – вмешалась Марыся. – Я ведь совершенно здорова. Только вот ослабла немного. Если б не та косточка на затылке, которая должна срастись, я бы уже сейчас встала.
Врач сухо усмехнулся.
– Косточка?.. Ничего себе косточка! Ты в этом ничего не понимаешь, девочка. Да у тебя основание черепа было разбито вдребезги…
Знахарь прервал его:
– Я готов. Чего вы хотите, господа?
Он отставил в сторону пустую миску и выпрямился, незаметно отгородив доктора от кровати Марыси.
– Итак, господин Косиба, – начал старший сержант, – после несчастного случая вы сделали операцию?.. Трепанацию черепа?..
Знахарь опустил глаза долу.
– А если так, то что?
– Но ведь вы – не дипломированный врач. Вам известно, что закон запрещает это?
– Да, известно. Но я также знаю, что дипломированный врач, который по закону обязан оказывать помощь больным, отказался спасать пострадавшую девушку.
– Это неправда, – вмешался доктор Павлицкий. – Я хотел ей помочь, но, осмотрев раненую, посчитал, что ее состояние безнадежно. Это была уже агония.
Знахарь заметил широко раскрывшиеся глаза Марыси и ее вдруг побледневшее личико.
– Нет, это неверно, – возразил он. – Никакой опасности для жизни не было.
У доктора от возмущения кровь бросилась в лицо.
– Как это?! Ведь вы же сами тогда говорили!
– Ничего я не говорил.
– Это ложь!
Знахарь молчал.
– Хватит спорить, – вмешался старший сержант. – Так ли, сяк ли, но вы, господин Косиба, несете за это ответственность. Хотя я должен вам разъяснить, что ответственность эта невелика, потому что нет пострадавшего. Причем не только нет того, кто понес бы ущерб от вашего вмешательства, но, наоборот, имеется человек, которому оно спасло жизнь. Однако гораздо важнее другой вопрос: с помощью каких инструментов вы сделали эту операцию?
– А не все ли равно?..
– Нет. Потому что господин доктор Павлицкий обвиняет вас в присвоении его инструментов.
– Не в присвоении, а в краже, – твердо подчеркнул врач.
– Значит, в краже, – повторил старший сержант. – Вы признаетесь в этом, господин Косиба?..
Косиба, опустив голову, молчал.
– Господин комендант! – воскликнул доктор. – Приступайте к обыску. Саквояж наверняка спрятан где-то тут, в хозяйственных постройках.
– Прошу прощения, господин доктор, – остановил его полицейский, – не стоит диктовать мне, что я должен делать. Это моя работа.
Он сделал паузу и снова обратился к знахарю:
– Вы признаетесь?
Тот после недолгого колебания кивнул.
– Да.
– Зачем вы это сделали?.. Ради выгоды или потому, что без этих инструментов вы не смогли бы спасти жертву аварии от смерти?
– Это не вопрос, – не выдержал доктор Павлицкий. – Это подсказка! Да еще совершенно без достаточных оснований. Потому как если бы знахарь заботился только об этом, то он потом вернул бы украденный саквояж.
– Саквояж до сих пор у вас? – спросил полицейский.
– У меня.
– И вы добровольно его вернете?
– Верну.
– Где он?
– Сейчас принесу.
Знахарь медленно прошел мимо них, открыл дверь. В окно они видели его высокую сутулую фигуру. Никто в доме не произнес ни слова. Через несколько минут Косиба вернулся с саквояжем.
– Это он? – обратился к доктору старший сержант.
– Да, это мой саквояж.
– Может, вы проверите, что в нем все на месте и ничего не пропало?
Павлицкий открыл саквояж и бегло осмотрел его содержимое.
– Нет, кажется, ничего не пропало.
– Я не могу полагаться на «кажется», – официальным тоном заявил Жёмек. – Будьте любезны определить это точно или сообщить мне названия пропавших предметов.
– Ничего не пропало, – поправился врач.
– Тогда составим соответствующий протокол.
Жёмек вынул из портфеля бумаги и начал писать. В доме стало тихо.
Доктор Павлицкий был достаточно чутким человеком, чтобы почувствовать ту неприязнь, с какой относились к нему все присутствующие, не исключая молчащего участкового. Неприязнь и осуждение. Неужели они были правы? Ведь ему не в чем было себя упрекнуть. Он поступал вполне по совести, так, как велел ему его гражданский и врачебный долг. А если, выполняя этот долг, он одновременно еще и оказывался в выигрыше, избавляясь от конкурента, то все равно он в своем праве. Бороться за пациентов вполне дозволено, а он вдобавок использовал только легальные средства. Закон и общественная мораль будут на его стороне. Даже если бы он не был врачом, если бы этот знахарь не отнимал у него пациентов, то и тогда он обязан был бы потребовать обезвредить этого человека.
Государство заботится о здоровье своих граждан, издает на сей предмет сотни законов и постановлений. Врач должен пройти многолетний курс обучения, потом ему предстоит еще тяжелая практика, от него требуется высокий уровень знаний и этики. А тут какой-то простой темный мужик нарушает все эти законы. И не имеет значения, что ему случайно удалось сделать пару удачных операций. В тысячах других случаев он может буквально стать убийцей. Во имя чего тогда дипломированный врач, который потратил на свое профессиональное образование кучу денег и много лет, должен добровольно отказываться от положенных ему полномочий, безразлично наблюдать за вредной и опасной деятельностью какого-то невежды да еще и голодать при этом?
Во имя чего?
Может, только потому, что его точку зрения не одобряют эти наверняка честные, но малообразованные люди… Но именно он, как интеллигент, как единственный тут человек с высшим образованием, должен им все объяснить, доказать, что поступает правильно и справедливо, что знахарские средства лечения являются опасными для общества, что закон надо уважать, а кража всегда остается кражей, независимо от причин ее совершения. И цивилизованное общество, государство и все сознательные граждане всегда обязаны соблюдать установленный порядок.
Конечно же, среди мотивов поведения Косибы найдется множество оснований для смягчения приговора. Но это уже будет зависеть от суда…
Нет, доктор Павлицкий определенно ни в чем себя упрекнуть не мог. И, кажется, только врожденная гордость не позволяла ему опуститься до оправданий перед этими людьми, хотя, в сущности, это все равно ничего бы не дало.
Он стоял молча, с высоко поднятой головой и сжатыми в ниточку губами, притворяясь, что не замечает косых неприязненных взглядов.
Старший сержант Жёмек закончил писать протокол, зачитал его, все присутствующие подписались.
– Вы еще должны подписать обязательство о невыезде, – обратился он к Косибе, – вот тут. Вам нельзя никуда уехать, не поставив в известность полицию.
– Как это? – удивился Павлицкий. – Вы его не арестуете?
– Не вижу оснований, – пожал плечами старший сержант.
– А как же доказанная кража?..
– Ну и что с того?.. Человека арестовывают тогда, когда есть основания опасаться побега обвиняемого, а я уверен, что он никуда не убежит.
– Ваша уверенность может подвести вас.
– А за это уже полностью отвечаю я, господин доктор. Впрочем, я направляю дело на судебное расследование. Может, судья потребует ареста, если вы будете на этом настаивать. Но сомневаюсь. После вынесения приговора Косибу посадят в тюрьму. Разумеется, если приговор будет обвинительный. Ну, тут нам больше нечего делать. До свидания, господин Косиба! А вам, панна Марыся, желаю здоровья.
Все вышли, и вскоре стук колес брички возвестил, что они уехали.
Знахарь неподвижно стоял в дверях. Когда он обернулся, то увидел, что Марыся вся в слезах.
– Что с тобой, голубушка моя? – встревожился он.
– Дядюшка, дорогой мой, любимый дядюшка Антоний, сколько ж я тебе неприятностей доставила! Это все из-за меня!
– Успокойся, голубушка, не плачь. Какие там неприятности. Ничего со мной не случится.
– Если тебя посадят в тюрьму, я, наверное, умру от отчаяния!
– Не посадят, не посадят!.. А даже если б и посадили, так что? Корона с головы не упадет.
– Не говори так, дядя. Это была бы страшная несправедливость.
– Душенька ты моя дорогая, на свете больше несправедливости, чем справедливости. А тут, честно говоря, я заслужил наказание. Ведь я украл саквояж.
– Чтобы меня спасти!
– Ты права, но все-таки это было воровство. Другое дело, что ни малейшего сожаления я не испытываю. Потому как что мне оставалось делать?.. Да о чем тут говорить. Вон, даже старший сержант будет меня защищать.
– Только этот дурной человек, этот доктор…
– А такой ли он дурной, голубушка?.. Не знаю даже, дурной ли он. Жесткий, это да. Но ведь за это никого винить нельзя. Уж такой характер. Может, с ним никто никогда не был добрым, вот он и ожесточился. Ну и еще вспомни, ему тяжело примириться с мыслью о том, что он на тебя уже рукой махнул, а я с Божьей помощью спас тебя, голубушка. Я тебе умышленно не говорил раньше, как с тобой было плохо. Больным нельзя говорить такие вещи, они принимают это слишком близко к сердцу, что мешает их выздоровлению.
– Как же мне тебя отблагодарить, дядюшка Антоний, за такую доброту, за все твои труды и заботы?!
Она сложила руки и смотрела на него полными слез глазами. А знахарь улыбнулся и сказал:
– Как?.. А ты хоть немножечко полюби меня.
– Полюбить? – удивилась она. – Но ведь я и так люблю тебя, дядюшка, как только мамочку любила.
– Бог тебя вознаградит, голубушка, – ответил он дрожащим голосом.
Глава 15
Суд над Зеноном Войдылло состоялся в середине октября в Вильно. А в Радолишках об этом узнали только на следующий день, уже после вынесения приговора, поскольку, ввиду признания обвиняемого, никаких свидетелей в суд не вызывали, кроме потерпевших, но и они из-за состояния здоровья не смогли явиться.
А в газетах из этого дела сделали большую сенсацию, потому что обвиняемый сам просил о суровом приговоре. Суд увидел в этой просьбе проявление раскаяния Зенона и, принимая во внимание много других смягчающих обстоятельств, а также будучи убежден в искреннем намерении подсудимого исправиться, приговорил его только к двум годам тюрьмы.
На мельницу эту новость принес Василь, который по делам отца ездил в Вильно и, воспользовавшись случаем, пришел на судебное заседание. От него же Марыся узнала, что молодой Чинский не присутствовал на суде, поскольку находится на лечении за границей. Более точно место пребывания Чинского Василь назвать не сумел, хотя и слышал, как в зале суда произносили его название, но оно было иностранным, и он не запомнил его.
Марысе хотелось попросить его или еще кого-то узнать адрес Лешека. Ведь в Людвикове наверняка его адрес знали не только родители. Но она боялась, что из-за таких расспросов могут возникнуть какие-то неприятности, и решила терпеливо дожидаться письма.
Легко было решить, гораздо труднее заставить себя быть терпеливой. Неделя проходила за неделей, а Лешек все не писал. И все более печальные мысли приходили ей в голову, все слабее становилась надежда.
Между тем состояние здоровья Марыси улучшалось день ото дня. Она уже давно могла сидеть в кровати, а в начале ноября знахарь позволил ей встать.
Две раны ее – на виске и послеоперационная – уже совершенно зажили. От содранной на ногах и руках кожи остались лишь едва заметные шрамы. К ней постепенно, но неуклонно возвращались силы. На следующий же день после того, как она впервые встала на ноги, Марыся принялась хлопотать по хозяйству. Через неделю и комната, и альков, где спал знахарь, выглядели совершенно иначе.
– Не утомляйся так, голубушка, – пробовал остудить ее пыл знахарь. – Зачем это все?..
– Дядя Антоний, разве сейчас тут не стало чище, красивее?
– Да жаль мне силы твои.
Впрочем, на наведение порядка, уборку и мытье времени у Антония было немного. С наступлением осенних холодов у знахаря снова прибавилось пациентов. Бывали дни, когда их съезжалось человек по тридцать, а то и больше. Все знали, что Антоний Косиба находится под следствием и над ним состоится суд в Вильно. Поговаривали, что его посадят в тюрьму, поэтому надо было спешить получить от него советы.
Сам Антоний тоже ждал обвинительного приговора и хотел подготовить к этому Марысю, но она возмущалась и заверяла, что даже речи о том быть не может.
– Я ведь буду там твоим свидетелем защиты, которому ты жизнь спас. Разве этого недостаточно?
Знахарь и сам немного на это рассчитывал, как и на многих других своих пациентов, которые в массовом порядке вызвались быть свидетелями.
Судебное заседание назначили на конец ноября, и все, казалось бы, должно было быть хорошо, но тут Марыся внезапно заболела. Ослабленный долгим лежанием в постели, ее организм легко уступил болезни. Она простудилась, убираясь в холодных сенях. Банки и травы, способствующие потоотделению, не помогли. Ей пришлось лежать в кровати. Нечего было и думать о том, чтобы она поехала на суд, и Антоний Косиба отправился один.
Сразу же по приезде он обратился к адвокату Маклаю, которого посоветовал ему Юдка из Радолишек. Адвокат ознакомился с делом и определил свой, к счастью, небольшой гонорар, но сразу предупредил, что на оправдание надеяться нечего.
– Я постараюсь добиться для вас как можно более мягкого приговора.
Наступил день заседания. Уже входя в здание суда, Антоний увидел доктора Павлицкого, и это вызвало у него недобрые предчувствия.
И действительно, давая показания в качестве свидетеля, доктор Павлицкий, хотя и говорил чистую правду, выдвинул против подсудимого серьезные обвинения. Он говорил о грязи, царившей в его доме, о духоте, о том, что лично предостерегал знахаря от проведения этой опасной операции, а в конце рассказал о краже саквояжа с хирургическими инструментами. Доктор, правда, признал, что Косибе удалось успешно сделать несколько операций, причем довольно сложных, но отнес это на счет случайности.
Другой свидетель обвинения, представитель Медицинской палаты, предъявил в суде статистические данные, касающиеся распространения знахарства в восточных районах. Эти данные говорили о том, что огромный процент смертности среди сельского населения является результатом знахарского лечения. Далее он описал множество примеров используемых знахарями «лечебных» методик, которые вызвали у слушателей ужас, отвращение и возмущение.
Свидетелями, которых вызвала защита, были больные, излеченные Антонием Косибой, причем более двадцати человек, и им удалось своими показаниями несколько склонить весы правосудия в пользу обвиняемого.
Вероятно, этот процесс закончился бы иначе, если бы обвинителем был не молодой, первый раз выступавший в суде прокурор, доктор юридических наук Згерский, а кто-то другой. Прокурор Згерский подготовил свое обвинение со старательностью и пылом новичка. Он подошел к делу с точки зрения общественного положения и престижа страны.
– Доколе, – взывал он, – мы будем позволять, чтобы в нашем крае гнездились жуткие средневековые суеверия? Как долго еще позволим распространяться темному невежеству и тупой преступности знахарских практик?.. Сегодняшний приговор должен стать ответом на вопрос о том, цивилизованная ли мы страна, принадлежим ли к Европе не только географически, но и по уровню общей культуры или хотим и дальше терпеть у себя это варварство.
Он еще долго и красиво рассуждал о польской цивилизационной миссии на Востоке, о трагическом невежестве белорусского народа, о тысячных отрядах молодых врачей, готовых нести помощь страдающим, но обреченных на безработицу, о евгенике и об улучшении расы, о том, что войску требуются здоровые рекруты, о воспитательных целях судебных приговоров и о том, что этот приговор должен стать предостережением для гиен, наживающихся на невежестве и темноте масс.
Завершая свое выступление, Згерский затронул и струну местного патриотизма, заметив, что мягкий приговор за такого рода преступления дал бы повод и основание общественному мнению других районов Польши предполагать, что на восточных окраинах страны рука правосудия терпимо относится к невежеству, косности и их опасным последствиям.
Адвокат Маклай не обладал и десятой долей дара красноречия своего противника. Поэтому его речь, к слову, вполне толковая, не смогла затмить того впечатления, которое оставило разящее выступление прокурора. Адвокат даже не пробовал опровергать аргументы обвинения и построил свою защиту на личности обвиняемого, человека бескорыстного, который, правда, присвоил хирургические инструменты, но только для спасения умирающей девушки.
– Тут нам не представили никого, – закончил он, – кому бы лекарская помощь Антония Косибы повредила, не названо было ни одного пациента, который бы умер по его вине. Между тем мы видели множество благодарных людей, которых он вылечил. Поэтому я прошу оправдать обвиняемого.
Если и ожили в душе Антония какие-то надежды, то они очень быстро угасли под ударами возражений прокурора.
– Меня удивляет, – заявил Згерский, – удивляет и наполняет стыдом точка зрения, которую отстаивает господин адвокат. Наполняет стыдом, потому как я услышал в его защитной речи упрек в том, что, рассматривая вину обвиняемого, я увлекся проблемой в целом и забыл о конкретном человеке. И в самом деле, уважаемый суд, это очень важное упущение со стороны общественного обвинителя. Только удивляет меня, что именно из уст господина адвоката исходит такое замечание. Да, именно так! Внимательно приглядевшись к моральному облику Антония Косибы, мы должны с чистой совестью признать, что его провинности достойны еще более сурового наказания!.. Этот якобы благодетель человечества в один прекрасный день захотел легкого хлеба, потому что честный физический труд ему надоел. Из работника мельницы Косиба сделался шарлатаном. Безусловно, гораздо проще бормотать над одураченным мужиком вздорные заклинания и заговоры или поить его отваром из трав, чем таскать мешки с мукой. Именно такой путь и выбрал обвиняемый. А легенду о его бескорыстии полностью разоблачают свидетели, которые признали, что они действительно не платили за его советы, зато приносили… добровольные подношения. Сам Косиба в ответ на вопрос, заданный господином председателем суда, заявил, что живет в достатке. А это уже само по себе весьма красноречивое определение во времена теперешнего кризиса и нищеты деревенских жителей. Сегодня в деревне только те живут в достатке, кто обирает бедноту, кто с помощью шарлатанских уловок выуживает у нее остатки убогих запасов.
Прокурор улыбнулся.
– Да, уважаемый суд, это лишь одна сторона облика подсудимого, его прошлое. А каково же будет его будущее? Что он сделает, если выйдет из этого зала свободным?.. На сей счет у нас не может быть никаких сомнений. Сам обвиняемый их полностью развеял, отвечая на мои вопросы во время судебного разбирательства. Он признал, что до последнего момента занимался своей практикой и в случае освобождения снова будет «лечить» людей. Он не испытывает ни малейшего раскаяния. Не обещает исправиться. А как же дело о воровстве? Он, правда, признался в совершении кражи, но открыто заявил, что снова украл бы, если б возникла подобная ситуация. Это преступник, который не может, а скорее, не хочет осознать свою вину. Преступник закоренелый, который намерен упорно следовать по преступной дорожке. Вот каков человек, моральным обликом которого, по желанию господина защитника, мне пришлось заниматься. Человек этот, глухой ко всем замечаниям и представляющий опасность для общества, должен быть тут же изолирован от этого общества, и только строгое тюремное заключение может защитить от него его будущие жертвы.
После очередного выступления адвоката Маклая суд удалился на совещание.
Через полчаса, уже поздним вечером, приговор был оглашен. Антония Косибу приговорили к трем годам тюрьмы.
Прокурор Згерский в кулуарах принимал поздравления от своих родных и знакомых. Антония Косибу арестовали прямо в зале суда и отвели в тюрьму. Адвокат обещал подать апелляцию.
Известие о приговоре и заключении в тюрьму Антония Косибы на мельницу привезли мужики, возвращавшиеся с заседания суда. В первый момент никто даже верить не хотел, а Марыся только рассмеялась.
– Ну что за люди! Вы, верно, все перепутали! Это ведь совершенно невозможно!
– Может, на три месяца? – подсказал Василь.
– Нет, на три года, – стояли на своем мужики. – А все потому, что прокурор страшно напирал на него.
И они, как умели, описали ход процесса.
– Помилуйте! – воскликнул Прокоп. – Это что ж получается, того, кто их покалечил, чуть не убил, посадили на два года, а того, кто спасал, на три. Как же это?
– Ну да, выходит, так оно и есть…
Марыся расплакалась. Как раз в этот день она уже поднялась с постели, хотя ее еще мучил кашель.
– Что же делать, пан Мукомол, что делать? – обратилась она к Прокопу.
– А мне-то откуда знать?..
– Надо ехать в Вильно, попытаться как-то помочь ему.
– Какая же тут может быть помощь? Тюрьму ведь не развалишь.
Василь рассудительно заявил:
– Я вам, Марыся, так скажу: никакой тут помощи быть не может, но вот когда будет подана апелляция, тогда да. Верно, плохой у него адвокат был. От адвокатов многое зависит… Значит, надо другого найти. Надо разузнать в городе, кто у них там самый важный, – и сразу к нему.
Совет Василя все похвалили.
– А когда может быть эта апелляция?
– Это уж нескоро, – ответил один из мужиков. – Когда у меня был суд из-за тех елочек из Вицкуновского леса, то апелляция пришла через четыре месяца.
– Так и то шибко! – заметил другой. – Порой целый год надо дожидаться.
Всю ночь Марыся проплакала, а утром собрала узелок. Уложила в него белье дяди Антония, полушубок, весь запас табака, сколько нашлось колбасы да сала.
За этими сборами и застала ее Зоня.
– Что это? Передачу Антонию собираешь?
– Да.
– А с кем пошлешь?
– Поспрашиваю. Ведь сюда часто заезжают те, кто в Вильно собирается.
Зоня задумалась, а потом вытащила платочек, развязала узелок и достала две монеты по пять злотых.
– Бери, пошли ему еще и эти деньги.
– Какая же ты добрая, Зоня! – откликнулась Марыся.
Но Зоня сразу ощетинилась.
– Для одних добрая, для других не слишком. Ему даю, не тебе!
Марыся давно заметила, что она не особенно нравится Зоне. Поэтому сказала примирительно:
– Тогда я и благодарю тебя за него.
Зоня пожала плечами.
– Ты ему такая же родня, как и я, – ни сват, ни брат. Чего тебе за него благодарить? Он сам спасибо скажет, когда вернется. И за это, и за то, что за его пожитками присматривать стану, за всем прослежу, чтоб у него тут ничего не испортилось.
– Зачем же тебе этим заниматься, Зоня?
– А кто должен это делать?
– Я.
– Ты?.. Каким же это образом ты приглядывать станешь?.. Или ты думаешь все три года у моего тестя просидеть?..
Марыся покраснела.
– Почему три года?.. Ведь после апелляции дядю Антония освободят…
– Может, освободят, а может, и нет. И он тебе никакой не дядя. Вот скажи, как ты думаешь тут жить?.. На что?..
Она заметила у Марыси на глазах слезы и добавила:
– Ну, не реви. Тебя ведь никто отсюда не гонит. Крыши над головой всем хватит… И еды тоже. Это я просто так спросила, из любопытства. Не реви, дурочка. Разве тут кто-то для тебя угол жалеет? Ну?..
Несмотря на ее заверения, Марыся все-таки осознала свое положение. Действительно, теперь, когда не стало дяди Антония, у нее уже не было права тут оставаться. И ей это дали понять с большей тонкостью, чем это обычно делается у совсем простых людей, но вполне ясно и определенно.
Поэтому, услышав, как зовут к обеду, она не тронулась с места. Она дрожала при одной мысли, что вся семья Мукомола, собравшаяся за столом, будет следить за ней, считать, сколько ложек дарованной ей еды она съела, замечать каждый кусок, поднесенный ко рту… А потом между собой станут потихоньку называть ее приблудой, дармоедкой, пока наконец не произнесут этого вслух.
– Я должна уйти отсюда, должна… Только куда?.. – прошептала Марыся.
Она знала от людей, что в лавке госпожи Шкопковой уже работает какая-то другая девушка, а рассчитывать на то, чтобы найти другое место в округе, не могла. Ведь никто не знал, что она обручилась с Лешеком, да и никто бы ей теперь не поверил, даже если бы она решилась объявить об этом во всеуслышание. А вот о том, что она с ним встречалась и они вдвоем ездили на прогулки в лес, знали все, особенно после несчастного случая… С такой репутацией она вряд ли сумеет устроиться на какую-нибудь работу.
А уехать… куда?
Девушка бросилась на кровать и расплакалась. Она оплакивала свою жестокую судьбу, свою великую единственную любовь, которая не принесла ей ничего, кроме боли, стыда и несчастья…
«Лешек, Лешек, почему же ты забыл обо мне!..» – мысленно повторяла она, заливаясь слезами.
– Эй, панна Марыся, обед! – раздался за окном голос Василя.
Она не двинулась с места, и он вскоре вошел в дом.
– Почему вы плачете? – спросил парень.
– Не знаю, – ответила она, всхлипывая.
– Как же это?.. Вас кто-то обидел, панна Марыся?.. Ну же, прошу вас, скажите!..
– Нет, нет…
– Тогда почему плачете?.. Не стоит…
Он беспомощно переминался с ноги на ногу, а потом сказал:
– Когда вы плачете, я просто смотреть на это не могу спокойно. Ну, хватит… хватит… А может, кто-то сказал что-то не то?
– Нет, нет…
Парень вдруг припомнил, что видел недавно Зоню, которая выходила из пристройки. И разозлился.
– Ладно, – буркнул он и вышел.
Вся семья уже садилась за стол. Василь стал на пороге и спокойно спросил:
– А почему нет Марыси?
– Я звала ее, но она почему-то не пришла, – пожала плечами Ольга.
– А не знаешь почему?..
– Не знаю.
– Так, может, Зоня знает?
Зоня отвернулась от него.
– А мне-то откуда знать?..
И Василь вдруг заорал:
– А я вот знаю, негодяйка ты чертова!
– Что с тобой, Василь, чего ты? – искренне удивился старый Прокоп.
– И правда, что мне, если она там плачет! А из-за кого она может плакать, если не из-за тебя, ведьма?.. Что ты ей там наболтала?
Зоня уперла руки в бока и воинственно задрала подбородок.
– А что хотела, то и наболтала. Ясно?
– Тихо! – выходя из себя, прикрикнул Прокоп.
– А чего он ко мне пристает?.. Я ей ничего такого не говорила, а даже если и так, то что?.. Она тут живет у нас из милости, так пусть не будет такой гордой.
– Не у тебя, чай, живет! – заорал, уже не владея собой, Василь.
– Тогда пусть и отправляется на все четыре стороны! – раздраженно завопила Зоня.
– Она?.. – рассмеялся Василь, стараясь чтобы смех прозвучал как можно более зловеще. – Она?.. Первой уберешься отсюда ты! Еще неведомо, не станет ли она тут большей хозяйкой, чем ты, паршивая прошмандовка!.. Не забывай, отец уже стар, а потом я тут буду хозяйничать. И я тебя первую погоню на все четыре стороны! А захочешь мой хлеб есть, так будешь ей башмаки чистить!
Наступила тишина. Правда, все и раньше догадывались, что Марыся нравится Василю. Но теперь это услышали непосредственно от него. А она ему, видно, не просто нравилась, если обычно спокойного парня так разобрало от ярости, что он пригрозил выгнать вдову собственного брата, к которой всегда неплохо относился.
Василь стоял бледный, с искаженным от гнева лицом и смотрел на всех, бешено вращая глазами.
– Тихо! – снова прикрикнул Прокоп, хотя в комнате и так стояла абсолютная тишина. – Тихо, говорю! Ты, Василь, выбей это из головы. Не будь дурнем. Не для тебя она, а ты – не для нее. Если подумаешь, то и сам поймешь и опомнишься. А ты, Зоня, иди к ней и позови ее. Пусть придет. И смотри у меня! – Он погрозил пальцем. – Смотри, чтоб она захотела прийти. И еще скажу тебе, Зоня, нехорошо так бедняжку сироту обижать! За это Бог наказывает.
– Так разве я ее обижала, Бог мне свидетель! – ударила себя в грудь Зоня.
– Тогда иди. И еще знай, что Антоний ее любит, как родную дочь. Как же это?.. С ним несчастье случилось, а я как раз пожалею куска хлеба и крышу для этой девушки?.. Побойся бога, Зоня. Иди уже… иди…
– Отчего ж и не пойти? Пойду.
Зоня побежала в пристройку. Ее обида уже прошла, а может, подействовала мысль о том, что девушка не будет ее соперницей, потому как, вестимо, имея выбор между старым Антонием и Василем, молодым и богатым, она скорее за него и пойдет. Наверняка и в самом деле эта мысль так растрогала Зоню, что она стала просить прощения у Марыси, обнимать и целовать ее.
– Ну что ты, не плачь, я для тебя на все готова, только б ты из-за меня слез не лила. Хочешь мой зеленый платок в цветах? Если хочешь, я тебе его отдам… Ну, не плачь, не плачь…
Она гладила девушку по спине, гладила мокрое от слез лицо и руки, пока Марыся наконец не успокоилась. Когда обе женщины вместе пришли в кухню, обо всем происшествии разговоров больше не было.
Но, несмотря на это, несмотря на теплое отношение и заботы, которыми вся семья мельника окружила Марысю, ее чувствительная совесть, раз пробудившись, уже не давала ей покоя. Ее неустанно терзали мысли о том, что она стала обузой для этих людей, что пользуется их добротой, не имея возможности чем-то отблагодарить за нее. Она много раз предлагала свою помощь по хозяйству, но женщин тут было достаточно, и ни одна не позволила ей помочь себе.
Поэтому Марыся продолжала мучительно думать о том, куда бы ей пристроиться, и все яснее понимала, насколько она беспомощна. А чтобы куда-то уехать без гроша в кармане, и речи быть не могло. Оставалась только слабая надежда, что госпожа Шкопкова возьмет ее обратно к себе.
Незадолго до Рождества Марыся наконец выбралась в городок. Она вышла из дома довольно поздно, чтобы не появляться в Радолишках днем. Не хотела попадаться людям на глаза.
Поэтому, когда она оказалась перед домиком госпожи Шкопковой, уже смеркалось.
А тут как раз появилась и сама хозяйка.
– О, Марыся! – с деланной сердечностью поприветствовала она девушку и впустила ее в дом. – Как ты себя чувствуешь, дорогое дитя?
Марыся поцеловала ей руку.
– Спасибо вам, теперь уже совсем хорошо, но ведь чуть не умерла.
– Да, да… Надо бы зажечь лампу…
– Сейчас зажгу. – Марыся бросилась было, чтобы услужить хозяйке, но Шкопкова сама взяла спички.
– Нет, оставь. У себя в доме уж позволь мне самой, – с явным нажимом произнесла Шкопкова. – А я знаю, что чуть не умерла. Что ж, это по твоей собственной вине. Я свой долг исполнила. И предупреждала тебя, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не послушалась ты старой Шкопковой. Да… так вот… Ты, верно, за вещами пришла?
– За вещами, – подтвердила Марыся и отвернулась, чтобы скрыть слезы.
– Можешь их забрать. Не надорвешься. Я уж давно все уложила и собиралась отослать на мельницу. Да все не было оказии.
Они обе помолчали.
– Ну и как тебе там живется? – спросила Шкопкова, копаясь в комоде.
– Так себе.
– Ну, ты, наверное, и не жалеешь, что там, у них, оказалась.
– Я бы хотела, чтоб все было, как прежде, – пробормотала Марыся.
– Да и я бы хотела, – согласилась Шкопкова, опять с явным нажимом. – Что ж поделаешь, если ты выбрала другой путь. Ты предпочла и смерть, и позор на свою голову навлечь, а на мою – стыд… Твоя мать, наверное, в гробу перевернулась… Я ж была на кладбище в день поминовения, и лампадку на могиле зажгла, и венок из бессмертников туда снесла, чтоб ее, бедняжку, утешить. Что ж, говорю, госпожа Окшина, дорогая моя, не вините меня, потому как не раз, и даже не десять, дочке вашей повторяла… Только ведь молодость не верит опыту старших. Так что помолитесь там, чтоб ваша дочь опомнилась… Ну и я помолилась, чтоб ты нашла себе лучших опекунов, чем я… Вот оно как.
У Марыси по щекам заструились слезы.
– Пожалуйста, послушайте, клянусь, я ничего дурного не сделала, чем угодно клянусь!
– Дитя мое, я хотела бы тебе верить. Только чем тут моя вера поможет? Все видели, как ты ходила с тем вертопрахом, которого милосердный Господь по своей милости еще не покарал. Все знают, что он тебя чуть не убил, а потом бросил… И если ты хочешь моего совета послушать, то я тебе так скажу: уезжай отсюда как можно дальше, к людям, которые тебя не знают, а в следующий раз сторонись таких донжуанов и безумцев. А чтоб тебе было на что ехать и чтоб ты меня не вспоминала с таким же тяжелым сердцем, как я тебя, в своей корзинке ты найдешь пару злотых… Для начала тебе хватит. Лучше всего отправляйся в Варшаву. Там зайди к какому-нибудь ксендзу и попроси совета. В большом городе работу найти легче.
Шкопкова вытерла нос и добавила:
– Я все обдумала и решила, что тебе так будет лучше всего. Только, наверное, снова все напрасно. Ты моего совета не послушаешь.
Марыся схватила ее за руку и поцеловала.
– Я все так и сделаю. Спасибо вам, спасибо… Я никогда не забуду…
– Ну, тогда иди, дитя мое, с богом. И пусть тебя Пресвятая Дева благословит и хранит.
Она обняла Марысю на прощание, а затем, проводив ее за порог, крикнула вдогонку:
– И напиши мне как-нибудь!
– Напишу.
Соломенная корзина была не тяжелой, убогое ее содержимое тоже, но руки у Марыси постоянно немели, и приходилось все чаще менять их.
Пару дней назад мороз полегчал, а теперь пошел снег, его огромные хлопья опускались медленно, лениво, но так густо, что в нескольких шагах уже ничего нельзя было рассмотреть. К счастью, высокие деревья, росшие по обе стороны тракта, не позволяли сбиться с пути. И если Марыся шла все медленнее, то не из страха заблудиться и потерять дорогу. Ее одолевало столько мыслей, столько противоречивых чувств волновало ее сердце. Она признавала, что ее бывшая опекунша была совершенно права. Ей и в самом деле стоило куда-нибудь уехать, причем как можно дальше, хоть и в Варшаву. Теперь у нее есть деньги на дорогу, и каждый день промедления был бы лишен смысла…
Но покинуть эти края, раз и навсегда отказаться от надежды увидеть Лешека, хотя бы издалека… И как оставить дядюшку Антония?! Он ведь сюда вернется… Он был так добр к ней, вызвал у нее столько ответного теплого чувства… Ехать, конечно, надо. Но скорее в Вильно. Ей, наверное, позволят навестить его в тюрьме… Вот тогда они вместе и подумают, что делать дальше… Да, это сейчас самое важное, даже единственное, что важно. Что еще ей осталось?
Она с трудом нашла боковую дорогу, которая вела к мельнице. Снег валил уже так густо, что, если б не шум воды на мельничном колесе и не фырканье коней у мельницы, она бы и вовсе ее не нашла. А свет увидела, только когда подошла совсем близко, и удивилась: в окнах пристройки тоже было светло.
«Наверное, Наталка пришла туда учить уроки», – подумала Марыся.
Она отряхнула в сенях снег с башмаков, открыла дверь и замерла как вкопанная.
Комната вдруг поплыла у нее перед глазами, сердце пустилось в галоп, с губ сорвался тихий вскрик – и она потеряла сознание.
Глава 16
Зимний сезон в санатории доктора дю Шато в Аркашоне обычно открывался в декабре, с началом массового наплыва из Парижа больных артритом. А потому, когда в середине декабря приехал господин Станислав Чинский и сообщил доктору, что хотел бы забрать сына домой, врач совсем не стал возражать.
– Конечно, – ответил он, – тем более что ваш сын уже совершенно здоров. Я бы не рекомендовал ему пока заниматься теми видами спорта, которые требуют больших нагрузок, но кости срослись безупречно, а мышцы благодаря массажу достаточно окрепли. Что же касается его настроения, то оно, полагаю, является следствием ностальгии. Возвращение в родную страну, к семье оживит его и расшевелит.
– Я тоже на это надеюсь, – сказал господин Чинский и пожал врачу руку.
А теперь, когда он сидел в вагоне напротив сына, от этой его надежды уже ничего не осталось. Он сознательно, посоветовавшись с женой, сам поехал в Аркашон, чтобы забрать Лешека на рождественские праздники домой. Родители были в ужасе от его писем. После того, как они буквально засыпали его посланиями, он отправил в ответ всего два письма, да и те были короткими, полными сарказма и равнодушия.
Так же равнодушно он приветствовал отца и согласился возвратиться.
– Мне все равно, – только и сказал он.
Молодой человек сидел молча, держа в руке давно погасшую сигарету, и, похоже, не слышал рассказов отца о политике, об улучшении конъюнктуры, о новых заказах. Казалось, его ничего не волнует, ничего не может заинтересовать и тронуть. Неужели нервное потрясение, которое он испытал во время того несчастного случая, навсегда превратило жизнелюбивого молодого человека в апатичного меланхолика?..
Напрасно господин Чинский старался чем-нибудь привлечь внимание сына. Лешек ограничивался короткими ответами, бездумно разглядывал носки своих туфель, и было в нем какое-то странное спокойствие, застывшее и безжизненное.
Ночью господин Чинский не мог заснуть и заглянул в купе сына. Были у него какие-то дурные предчувствия, и они не обманули его: Лешек, несмотря на морозную ночь, открыл окно и в тонкой шелковой пижаме стоял около него, высунув голову наружу. Когда дверь открылась, порыв ледяного ветра ворвался в купе.
– Что ж ты делаешь, сын! – испугался господин Чинский. – У тебя же будет воспаление легких!
Лешек обернулся.
– Вполне возможно, отец.
– Прошу тебя, закрой окно.
– Мне жарко.
– Я хочу поговорить с тобой.
– Ладно.
Он закрыл окно и сел.
– Лешек, ты очень неосторожен, – начал господин Чинский. – Ты не только не заботишься о своем здоровье, но и сознательно подвергаешь его опасности.
Единственным ему ответом было молчание.
– Почему ты не лег спать?
– Мне не хочется.
– Но ведь сон необходим тебе. Состояние твоего здоровья еще требует заботы и внимания.
– Зачем? – Лешек посмотрел отцу в глаза.
– Как это – зачем?!
– Да, зачем? Неужели ты думаешь, что меня это волнует?
– А должно было бы.
– Ну его… – Молодой человек махнул рукой.
– Лешек!
– Отец, дорогой мой, неужели ты на самом деле думаешь, будто жизнь стоит того, чтобы о ней заботиться, тревожиться, суетиться ради нее?.. Поверь мне, лично я совершенно ею не дорожу.
Господин Чинский с трудом выдавил из себя улыбку.
– Когда я был в твоем возрасте, – солгал он, – у меня тоже бывало подобное депрессивное настроение, но у меня хватило рассудка понять, что такое состояние преходяще.
– И этим мы отличаемся друг от друга, отец, – кивнул ему Лешек. – Я знаю, что это не мимолетная депрессия.
– А я тебя уверяю, что все именно так и есть. Поверь моему опыту. Разумеется, и физический, и психический шок не бывают без последствий. Но это пройдет. И тем быстрее пройдет, чем разумнее ты будешь относиться к своему теперешнему состоянию. Осознание причины депрессии является самым действенным средством ее преодоления.
Почувствовав, что его убедительные доводы совершенно не действуют на сына, господин Чинский добавил:
– И еще одно. Ты не имеешь права забывать о нас, о твоих родителях, для которых ты – все на свете. Если твой собственный разум не способен тебя тронуть, то обратись к своим чувствам.
Лешек вздрогнул и, помолчав, спросил:
– Отец, ты действительно считаешь, что чувства обладают такой могучей и достойной уважения силой, чтобы их следовало принимать в расчет, когда появляются гамлетовские вопросы: быть или не быть?..
– Ну конечно же, Лешек.
– Благодарю тебя. Тут наши мнения совпадают.
– Вот видишь, сынок. Ну а теперь ложись и попробуй заснуть. К утру мы будем дома. Да… Ты даже представить себе не можешь, как твоя мама скучает по тебе. Она всегда старается выглядеть сильной… Но ведь ты и сам знаешь, сколько невыразимой нежности скрывается под этой внешней оболочкой. Ну спи, сынок. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, отец, – безжизненным голосом ответил Лешек.
Он погасил свет, но не лег. Равномерный стук колес, легкое покачивание вагона, яркие размазанные следы искр за черным стеклом окна… Вот точно так же он возвращался и тогда. Но тогда ему хотелось ускорить бег поезда. Он вез ей колечко к обручению, а себе – счастье.
Интересно, в людвиковской оранжерее уже зацвела сирень?.. Да, сирень и гелиотропы, с таким сильным запахом… Он велит все их срезать. И может… Там наверняка лежит глубокий белый снег. А на снегу не осталось даже следов. Забытый маленький пригорок…
Он пойдет по этой девственно-белой глади… Первый и последний раз… Там его цель. А дальше уже нет никакой дороги… Он разложит цветы, всю могилу засыплет цветами… Дойдет ли до нее запах сирени и гелиотропов сквозь снег, слой земли и деревянную крышку?.. Дойдет ли его голос, шепотом повторяющий самое дорогое имя, самые нежные заверения, самые отчаянные клятвы?.. Услышит ли она слабеющее, постепенно замирающее биение его сердца среди умирающих цветов, приготовится ли встретить его, закинет ли, как прежде, руки на шею и позволит досыта смотреть в ее сияющие глаза?.. Теперь уже навсегда, теперь – навечно…
И какая же блаженная вера охватывала его, когда он представлял себе это! Какой покой снизошел на него, когда он принял окончательное решение. Теперь, оставшись в одиночестве, он погрузился в бесстрастное, безмерное и безграничное, как космический вакуум, пространство смерти. Он уже весь, без остатка, принадлежал ему.
Насколько же тяжелее, насколько больнее ему было в первое время после катастрофы. Едва только он сумел произнести несколько слогов, как сразу спросил их:
– Что с ней?
Мать тогда вздрогнула и коротко ответила:
– Ее нет в живых, но ты не думай об этом.
А доктор Павлицкий добавил:
– У нее был перелом основания черепа. С такой травмой можно прожить не дольше часа.
Тогда он снова потерял сознание. И сколько бы раз он ни приходил в себя, мысль о смерти Марыси являлась к нему как отрицание его собственной жизни. Лежа с закрытыми глазами, он слышал около себя разговоры полушепотом. Доктор упрекал госпожу Чинскую:
– Не следовало говорить ему о смерти той девушки. Это было неосторожно. И может ухудшить состояние нервной системы вашего сына.
А мать возражала:
– Я не умею лгать, доктор. И сама всегда предпочитала даже самую страшную правду любому обману. В конце концов, мой сын не несет никакой ответственности за случившееся несчастье.
– Я подумал… – доктор колебался, – о чем-то другом. Вполне возможно, что он испытывает какие-то чувства к этой Марысе.
– Это исключено, – оборвала его госпожа Чинская с такой резкостью, будто даже само это предположение было оскорбительно для нее.
Физическое состояние Лешека улучшалось с каждым новым днем. В виленской больнице сделали множество рентгеновских снимков, раны и переломы заживали нормально. А вот психическое состояние больного вызывало все больше опасений. Поскольку это не угрожало непосредственно его здоровью, Лешека сначала перевезли в хирургическую клинику в Вене, а потом уже на период окончательного выздоровления – в Аркашон. В санатории веселое международное общество должно было благотворно повлиять на психику молодого человека. Но, к сожалению, он явно избегал людей и не принимал участия в развлечениях и экскурсиях. Поэтому, несмотря на то что он старательно выполнял все предписанные ему лечебные процедуры, его настроение совершенно не изменилось.
По крайней мере на первый взгляд. А в глубине души, невидимой для окружающих, в нем созревало решение…
Созрело и принесло облегчение и покой…
Конечно, он любил родителей и понимал, какую боль причинит им. Он был готов даже на бл́ьшие жертвы, но сама мысль, что он обрекает себя на целую жизнь, на многолетнюю каторгу в страданиях, которые ничто не могло облегчить, казалась ему чем-то чудовищным и намного превосходила его силы.
А кроме того, он жаждал смерти – смерти, которая могла стать искуплением. Ведь он вторгся в ее жизнь, в спокойную и радостную жизнь чудеснейшего создания, вломился непрошеный, незваный и чуть ли не силой. Если бы не он, она до сих пор продолжала свое, может, простое и неброское, но безмятежное существование. Он нарушил ее покой, из-за него она в конце концов погибла, да еще после смерти осталось на ее имени пятно и дурная слава. Из-за него. У него не хватило мужества сразу оказать сопротивление всем превратностям судьбы. Он, как выяснилось, малодушный человек. Скрывая свои намерения, он тщился обеспечить себе удобную жизнь. И все ценой ее репутации!
Это требовало кары! И он должен сам свершить правосудие и наказать себя, потому как только такое наказание реабилитирует Марысю, очистит память любимого, самого дорогого для него существа…
Поезд остановился на маленькой, такой знакомой станции. На перроне стояли госпожа Чинская, Тита Зенович, ее сестра Анелька, кузен Кароль, его жена Жюлька и еще несколько членов семьи, которые обычно съезжались в Людвиково на Рождество.
Мимолетная полуулыбка, с которой Лешек здоровался со всеми, никого не обманула: она едва сходила за проявление вежливости. Они сознательно приехали встречать его шумной, восторженной компанией, чтобы сразу расшевелить и развлечь, втянуть в свои беззаботные и обычные дела. Только одна Анелька молча приглядывалась к нему как будто с сочувствием.
– Как же он похудел и как печален, – вполголоса сказала она госпоже Чинской.
– Постарайся его развеселить и делай вид, что не замечаешь в нем никаких перемен, – попросила Чинская, стиснув ей руку.
Четыре упряжки с санями, позвякивая бубенчиками, лихо выкатились к людвиковскому дворцу, будто на масленичных катаниях. И потом целый день Лешека ни на минуту не оставляли одного. В гостиной наперебой играли то радио, то граммофон.
И только после ужина он наконец остался один у себя в комнате. Тут ничего не изменилось за время его отсутствия. Он с тревогой заглянул в ящик письменного стола. Дневник Марыси лежал на своем месте.
Всю ночь напролет Лешек читал его, по нескольку раз возвращаясь к страницам, содержание которых, да что там, чуть ли не каждое слово, он так хорошо помнил. Заснул он только под утро и проснулся поздно. Слуга принес завтрак и сообщил:
– Господин хозяин на фабрике и велел спросить, не захотите ли вы туда заглянуть.
– Нет, – покачал головой Лешек. – Но я прошу вас позвать садовника.
– Хорошо!
– В оранжерее сейчас много цветов?
– Как всегда к празднику. Особенно хороши в этом году розы.
После завтрака пришел садовник, и они вместе отправились в оранжерею. Лешек указывал удивленному работнику все новые и новые цветы, а под конец сказал:
– Это все попрошу срезать.
– Срезать?!
– Да. И запаковать.
– А куда это отослать?
– Я сам все заберу.
– Так господин инженер уезжает?
Лешек ничего не ответил и направился к выходу.
– Простите, пожалуйста, – задержал его садовник, – но вы велели срезать почти все цветы. Это не мое дело, конечно. Только я не знаю, как госпожа…
– Хорошо. Прошу вас сказать обо всем госпоже и спросить, не будет ли она возражать.
– Но хозяйка поехала автомобилем на станцию и вернется только к обеду.
– Тогда спросите ее после обеда. Я тоже поеду только после обеда.
Лешек не сомневался, что мать согласится даже на еще большее опустошение оранжереи. Она ведь сразу догадается, зачем ему понадобились цветы.
Он вернулся к себе в комнату и принялся писать письма. Самое длинное было адресовано родителям. Короткие и дружеские – нескольким приятелям. Затем он написал официальное заявление в полицию и послание госпоже Шкопковой. Последнее было для него особенно важным. Оно должно было восстановить репутацию Марыси, реабилитировать ее в глазах всего города.
Он как раз закончил писать, когда в дверь постучала экономка, пани Михалевская. Вчера она не успела поздороваться с Лешеком. У нее было слишком много работы, как и всегда перед праздником. А теперь, узнав, что Лешек уезжает после обеда, она оторвалась от выпечки сдобы, отдав ее в умелые или не слишком умелые руки повара, только бы повидаться с молодым хозяином и выразить ему свою радость по поводу того, что снова, благодарение Господу, видит его здоровым. Она стала рассказывать, как все в округе расспрашивали, что и как у него, кто что говорил, кто что делал…
Лешек слушал ее болтовню, и ему вдруг пришло в голову, что эта женщина – живая хроника всего округа, а значит, она наверняка знает то, о чем ему не хотелось бы расспрашивать в городе.
– Михалеся моя дорогая, – сказал он, – у меня к тебе просьба.
– Просьба?
– Не знаешь ли ты, Михалеся… – у него задрожал голос, – не можешь ли ты мне сказать… где… похоронили…
– Кого?
– Где похоронили ту… девушку, что погибла во время аварии?..
Женщина даже рот раскрыла от удивления.
– В какой аварии?
– Ну… той, в какую она попала вместе со мной! – Он явно терял терпение.
– Иисус и Мария! – вскрикнула Михалеся. – Да что ж вы такое говорите, господин Лешек! Как же ее могли похоронить?! Вы ведь про Марысю спрашиваете?.. Что у Шкопковой служила?.. Так она жива!
У Лешека кровь отхлынула от лица. Он сорвался со стула и чуть не упал.
– Что?! Что?! – жутким шепотом спрашивал он, так что перепуганная Михалеся даже отступила к двери.
– Да богом клянусь! – воскликнула женщина. – Зачем же было ее хоронить? Она выздоровела. Ее вылечил тот знахарь, и его потом за это в тюрьму упекли. А она так на мельнице и живет. Я ж от людей-то знаю. Да вот и наш Павелек, с кухни который, своими глазами ее видел… Боже! На помощь!..
Лешек покачнулся, зашатался и упал на пол. Испуганная экономка решила, что он потерял сознание, но услышала всхлипывания и какие-то бессвязные слова. Не понимая, что происходит, но чувствуя свою ответственность за случившееся, она выбежала из комнаты, призывая на помощь.
В гостиной сидело все общество. Она влетела туда и, задыхаясь, сообщила, что с господином Лешеком что-то случилось.
Но не успела она закончить, как вбежал сам Лешек, пролетел через комнату и, не закрыв за собой дверь, выскочил на террасу.
– Еще простудится! – простонала Михалеся. – Без пальто! Что ж я наделала!..
А Лешек тем временем бежал к конюшне.
– Скорее запрягай! – крикнул он первому попавшемуся конюху. – Скорее! Скорее!
И сам стал помогать. Все пришло в движение. Из дворца выбежал лакей с шубой и шапкой. Пять минут спустя сани уже неслись в Радолишки, причем неслись, точно обезумевшие, потому что Лешек отобрал у кучера вожжи и правил сам.
Голова у него кружилась, сердце билось, как кузнечный молот. Мысли тоже пустились в бешеный галоп. Его буквально раздирали противоречивые чувства. Огромная радость и счастье переполняли его, но в то же время он едва сдерживал охвативший его гнев. Он готов был всем и все простить, готов был кинуться в объятия своему злейшему врагу, как вдруг уже в следующее мгновение у него от бешенства сжимались челюсти. Его обманывали! Использовали такую низкую, позорную хитрость! Столько времени скрывали от него, что она жива. Он отомстит за это, отомстит немилосердно!
А потом, спустя какой-то миг, его охватывали умиление и жалость: а ей-то сколько пришлось вынести! Наверняка она ждала от него вестей, письма, хоть какого-то знака. И постепенно утрачивала надежду, одинокая, покинутая, забытая в несчастье тем самым человеком, который клялся ей в любви.
– Она теперь, должно быть, считает меня мерзавцем!..
Он заскрежетал зубами.
И все из-за них! О, он им этого не простит. Доктору Павлицкому даст пощечину и обрубит ему уши на поединке! Пусть на всю жизнь запомнит, что поступил как последний негодяй. А мать?.. О, ей тоже придется ответить за свой низкий поступок. Он ей так скажет:
«Из-за твоего подлого вранья твой сын едва не покончил с собой. Правда открылась вопреки твоему желанию. Поэтому ты можешь считать, что убила своего сына. Во всяком случае все его сыновние чувства к тебе. Отныне и навсегда я тебе не сын».
И никогда больше он не скажет ей ни слова. Он уедет, навсегда уедет отсюда, причем немедленно. Потому что отца он тоже не желает видеть. Как он мог молчанием покрывать материнскую ложь?
– Вот она, родительская любовь, гори она адским пламенем!
Только подумать, как близко было несчастье – и все из-за нее: ведь он еще там, во Франции, давно хотел покончить с собой. Его удерживало только желание выполнить свой последний долг перед Марысей. Поэтому он ждал, лишь поэтому вернулся…
– Видно, сам Господь меня направлял…
И вдруг ему показалось, что он проник в тайну своего предназначения, и это предназначение – великое, неизмеримое счастье. И громадность этого счастья он никогда не сумел бы правильно оценить, если бы не пережитые им страдания, если бы не безграничное отчаяние, так долго разъедавшее его душу.
Он задумался: жизнь щедро одаривала его радостью, удачей, нежила благополучием. И он все это принимал как обыкновенную данность, как то, чем ему просто положено обладать. Он не припоминал, чтобы хоть когда-нибудь почувствовал признательность судьбе, чтобы в нем пробудилось желание внести в привычно произносимые молитвы хотя бы один искренний благодарственный вздох. Неужели надо было непременно пройти через столь тяжкие испытания, чтобы научиться ценить эти великие дары?.. Чтобы понять их ценность и заслужить их?.. Чтобы созреть для принятия такого счастья?..
Так размышлял он, а мысль у него всегда должна была найти свое выражение в действии, поэтому на первом же перекрестке с крестом он натянул вожжи так, что кони, остановленные на бегу, зарылись задними копытами в снег, перебросил поводья конюху, выскочил из саней и опустился на колени с обнаженной головой.
– Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя, Господи!.. – не сводя глаз с маленькой фигурки Христа, вырезанной из жести и почерневшей от ржавчины, повторял он.
Лешек всегда считал себя верующим и никогда не мучился никакими сомнениями на предмет основополагающих истин. С детских лет его воспитывали в религиозном духе, поэтому он, никогда не отличавшийся особой пылкостью в вере, тщательно соблюдал все предписанные костелом обряды, в границах дозволенного минимума, разумеется. Поэтому молитва у креста на перекрестке стала откровением для него самого. До сих пор он и не знал, что такое молитва на самом деле и источником каких глубоких чувств и переживаний она может быть.
Когда он снова уселся в сани, то почувствовал внутреннее успокоение, радостную безмятежность и просветление. Смягчилось и его отношение к матери, на смену гневу пришли раздумья. А одновременно как будто бы еще сильнее стало осознание счастья, которое ждало его.
Через Радолишки они промчались быстро и свернули на дорогу к мельнице Прокопа. Уже наступали ранние зимние сумерки, когда сани остановились у мельницы.
У дверей стоял работник Виталис.
– Тут живет барышня Вильчур? – спросил его Лешек.
– Кто такая?
– Да панна Вильчурувна.
– Не знаю. Тут такая не живет. Разве что вы о панне Марысе?
– Да, да! – Он выскочил из саней. – Где сейчас панна Марыся?
– А пошла в местечко. Когда вы ехали в Радолишки, должны были ее повстречать.
– Не встретил. А вернется она скоро?
– Наверное, скоро.
– Так я подожду.
Из дверей высунулась голова Зони.
– Если вам подождать угодно, то, может, в комнатах будет удобнее? Или в пристройке, у Марыси… Пожалуйста, позвольте вот сюда.
Она вытерла руки о фартук и провела Лешека в комнату в пристройке. Нашла на полатях спички и зажгла лампу. Он оглядел помещение. Тут было бедно, но чисто и аккуратно.
– Марыся непременно скоро придет. В местечко она пошла, – попыталась завязать разговор Зоня. – А вы, господин инженер, уже совсем выздоровели, слава тебе Господи.
– Выздоровел.
– Это настоящее счастье. Когда вас и Марысю сюда привезли, так аж страшно взглянуть было. Кровищи столько, что упаси боже! Мы уж молитвы за умирающих читали. И если б не Антоний!.. Да что там говорить! – Она выразительно махнула рукой.
– Какой Антоний? – удивился Лешек.
– Да Антоний Косиба, знахарь, который тут живет.
– Тут живет?
– Ну а где же? Теперь-то он в тюрьме. Но он тут жил, сюда и вернется. Ведь это ж он тут, вот на этой самой лавке, господина инженера спасал, и склеивал, и сшивал, – захихикала Зоня. – Пятна крови пришлось мне стеклом отскребать. Не хотели сходить. А ее, Марысю то есть, на столе чинил. С вами-то было плохо, а уж у нее и вовсе никакой надежды не было. Она и не дышала уже. Кости в мозг повтыкались. Доктор, когда вас забирал, так и сказал, что ей уже конец. Этой бедняжке, говорит, уже только гроб нужен, а жаль, потому как красивая девушка. И, честно говоря, потом целую неделю никто и не думал, что она еще в себя придет. Антоний даже этот чемодан с докторскими приборами украл, чтоб ее спасти. Дни и ночи напролет за ней ухаживал. И сам уже не знал, что делать. Даже еще одного знахаря из Печек велел позвать, чтоб тот свои заговоры сотворил. А она все равно точно мертвая. Уж в самом конце, когда я ту белую куру под окном зарезала, очнулась она…
Лешек слушал очень внимательно, и ему пришло в голову, что он, возможно, несправедливо осудил мать и доктора Павлицкого за заведомую ложь. Скорее всего, когда они уезжали, оба были уверены, что умиравшая Марыся уже не в состоянии выздороветь. Рассказ этой молодой женщины свидетельствовал в их пользу. Но ведь позже мать наверняка узнала, что Марыся жива. Почему же она не написала ему ни слова об этом?.. Почему отец ни разу даже не вспомнил о ней, почему он сам все узнал только в Людвикове, да и то случайно?! Это была только их вина, и потому он был глубоко обижен на них. Но эта обида теперь уже была ослаблена осознанием собственной несправедливости. Слишком сурово и поспешно он осудил родителей и доктора Павлицкого.
– А сейчас панна Марыся совсем поправилась? – спросил Лешек.
– Да у нее со здоровьем все в порядке. Даже похорошела, как прежде, – засмеялась Зоня. – Только заботы у нее немалые, потому что, как я вижу, она все время ходит заплаканная.
– Какие заботы?
– А мне откуда знать? Только думаю, забот у нее хватает. Во-первых, она работу потеряла из-за болезни этой. Госпожа Шкопкова уже другую девушку в лавку взяла. Вроде бы свою родственницу какую-то.
– Ну, это ерунда. А еще что?..
– А еще Антоний. Его ведь за ту кражу и за то, что вроде как лечит незаконно, на три года в тюрьму посадили.
– Это невозможно!
– Возможно, раз посадили.
И Зоня подробно рассказала Чинскому, как и что произошло.
– Мы тут думали да рядили, как его спасать, только что тут сделаешь, – заключила она. – А теперь прошу прощения, мне надо по хозяйству заняться. А Марыся уж скоро подойдет.
Она вышла, и Лешек с умилением стал разглядывать все мелочи, находившиеся в комнате. Везде тут сказывалась Марысина любовь к чистоте и красоте. Сколько ж пришлось потрудиться ее бедным ручкам!
«Теперь все это кончится», – думал он, и его охватывала огромная радость.
За окнами пошел снег, огромные его хлопья падали все гущи гуще.
«Не заблудилась бы только», – забеспокоился он.
Вдруг он услышал в сенях топот – кто-то стряхивал снег с башмаков. Он был уверен, что это она. Встал посреди комнаты и застыл в ожидании. Дверь открылась. Марыся остановилась на пороге, вскрикнула и упала бы, если бы он вовремя не подхватил ее в объятия. Он осыпал поцелуями ее лицо, глаза, от тепла его ладоней таял снег на ее пальтишке.
Девушка понемногу приходила в себя.
– Любимая моя, единственная, – шептал Лешек. – Счастье мое… наконец ты рядом, жива и здорова… и моя… Все объединились против нас, но теперь уже ничто нас не разделит, ничто не разлучит… Ты, наверное, думала, что я плохой, что забыл тебя… Но это неправда! Клянусь тебе, это неправда! Скажи, что ты мне веришь!
Она прижалась к нему.
– Верю, верю, верю…
– И любишь меня еще?
– Люблю. Люблю тебя больше, чем когда бы то ни было.
– Солнышко мое! Чудо мое! А скажи, ты плохо обо мне думала?..
Он заметил в ее глазах неуверенность.
– Нет, плохо не думала, – наконец ответила Марыся. – Совсем нет. Только мне было ужасно грустно. Я ждала… Так долго ждала… Столько дней.
– Поверь мне, – он вдруг стал серьезен, – ты и так оказалась счастливее меня. Я тоже с трудом пережил столько дней, только были они во сто крат, в миллион тяжелее твоих. Потому что я ничего не ждал.
Он умолк, потом добавил:
– Меня обманули.
Она тряхнула головой и недоуменно посмотрела на него.
– Не понимаю.
Но Лешеку все-таки трудно было сказать ей правду. Наконец он выдавил из себя:
– От меня скрывали, что ты… выжила. Нет, я не думаю, что это было сделано нарочно, с дурными целями. Поначалу твое состояние и в самом деле было безнадежным, а потом… Но ведь никто не знал, что ты для меня – это весь мир. Вот и не сообщили мне.
Она кивнула, в глазах ее блеснули слезы.
– Теперь уж я знаю, теперь понимаю… И… и грустно тебе было… что я умерла?
– Грустно ли? – вскрикнул он. – Марыся! Вот тебе доказательства! Держи!..
Он сунул руку в один карман, в другой, напрасно обшарил всю одежду.
– Должно быть, я оставил эти письма в Людвикове на письменном столе. Но завтра ты их все прочитаешь.
– Лешек, ты писал мне? – удивилась она.
– Не тебе, счастье ты мое! – возразил он и прикусил губу. – Это были прощальные письма. Родителям, друзьям. Я вернулся вчера вечером, сегодня утром написал их. А вечером…
Он посмотрел на темные оконные стекла, до половины заметенные снегом.
– В это время меня уже не было бы в живых.
– Лешек! – в ужасе воскликнула Марыся.
– А зачем мне было жить без тебя?!
Он прижал ее к себе, по щекам обоих крупными каплями катились слезы, смешиваясь между собой. Молодые люди оплакивали уже минувшее страшное прошлое, отчаяние, сердечные печали, которые сгорели в их душах дотла, плакали над своим счастьем, таким огромным, таким безмерным, что они чувствовали себя потерявшимися в его безграничных просторах, маленькими и несмелыми.
Глава 17
Лешек не ошибся. Поспешно покидая дом в расстроенных чувствах, он действительно оставил письма на столе, рядом с неподписанными конвертами. После его отъезда в Людвикове царила полная неразбериха. У экономки пани Михалевской от избытка переживаний начались судороги, а потом, когда ее удалось более или менее успокоить, она стала так путано пересказывать разговор с Лешеком, что прошло немало времени, прежде чем удалось понять, что и почему произошло.
Установить, что же все-таки на самом деле случилось, удалось только благодаря господину Чинскому, за которым, конечно, тут же послали на фабрику. Он не ограничился расспросами Михалеси. От прислуги он узнал, что Лешек вызвал садовника, а тот рассказал, что ему велено было срезать самые красивые цветы в оранжерее.
Само собой разумеется, господин Чинский не упустил из виду утверждение экономки, что она застала Лешека за написанием писем. При этом он был так осторожен, что, несмотря на достаточно энергичные требования членов семьи, никого из них в комнату сына не впустил, а потому смог без помех прочитать все письма.
Но когда господин Чинский погрузился в их чтение, руки у него вдруг задрожали, а на лбу выступили капли пота. Содержание писем, дополненное рассказом экономки, не оставляло никаких сомнений и даже слишком хорошо объясняло причины апатии сына и его внезапного отъезда.
А когда вернулась жена, господин Чинский попросил ее прийти в кабинет и коротко описал недавние события, а также представил всю ситуацию с их сыном.
– Лешек сегодня утром вызвал к себе садовника и велел ему срезать чуть ли не все цветы в оранжерее. Он сказал, что сам заберет их, но не объяснил, для чего они ему. Потом сел писать письма. Но прежде чем я дам почитать их тебе, дорогая Эля, должен предупредить: они уже не актуальны и опасность миновала.
– Какая опасность? – деловито осведомилась госпожа Чинская.
– Намерение Лешека покончить с собой.
Госпожа Элеонора побледнела.
– Какая чепуха! – воскликнула она, нахмурив брови.
– Читай! – ответил муж, протягивая ей исписанные листы бумаги.
Читала она быстро, и только участившееся дыхание свидетельствовало о том, каких неимоверных усилий это требовало. Закончив чтение, госпожа Чинская сидела молча, с закрытыми глазами. Лицо ее внезапно осунулось и постарело.
– Где он? – тихо спросила она после довольно продолжительной паузы.
– Послушай. Итак, письма остались лежать на столе, потому что в комнату вошла Михалевская. Лешек спросил ее, на каком кладбище похоронили ту девушку, о которой он с таким отчаянием пишет в своих письмах. Разумеется, Михалевская удивилась и объяснила ему, что девушка жива. И сказала, где ее можно найти. Можешь себе представить, какое впечатление произвело на него это известие. У него случилось нечто вроде нервного припадка. А потом, точно обезумев, Лешек помчался на конюшню запрягать лошадей. Прежде чем он уехал, ему едва успели поднести шубу и шапку. Поехал он в сторону Радолишек, разумеется, на эту разнесчастную мельницу, где, как тебе известно, живет та самая Марыся.
– Ты послал кого-нибудь за ним?
Господин Чинский пожал плечами.
– Это было бы бессмысленно. А впрочем, он не один, с ним кучер. Я ждал твоего возвращения и пока не принимал никаких решений. Однако же я обдумал сложившееся положение вещей и пришел к определенным выводам. С твоего позволения…
– Я слушаю.
– Итак, прежде всего нам известно, что чувства Лешека к той девушке – это не мимолетное увлечение, а глубокая любовь.
Госпожа Чинская прикусила губу.
– Но это же абсурд!
– Лично я полностью с тобой согласен. Но нам приходится считаться с объективными фактами. А неоспоримым фактом является то, что он ее любит. Никто не собирается кончать с жизнью из-за потери какого-то просто весьма симпатичного человека. Это раз. А теперь он узнаёт, что она жива. И переживает такое потрясение, что пугает всех домашних. Ничего удивительного. Человек, который несколько месяцев находится в крайне угнетенном состоянии духа и обдумывает только, каким именно образом покончить с собой, вдруг обретает все, что он, казалось, потерял безвозвратно. И тут же припоминает, что именно ты, его родная мать, сообщила ему о смерти девушки. Он понимает, что мы оба не удосужились сообщить ему, что она выздоровела. А теперь представь себе, как сын осуждает нас, как он должен нас осуждать!
Госпожа Чинская прошептала:
– Но ведь я ему не лгала. Во всяком случае я была уверена, что говорю правду.
– Да, разумеется, но, когда ты все-таки убедилась, что это неправда, решила утаить ее.
– Я не утаивала. Просто я полагала, что эта девушка не настолько интересует Лешека, чтобы писать ему о ней.
Господин Чинский сделал неопределенный жест рукой.
– Ошибаешься, дорогая Эля. Ты тогда совершенно определенно сказала мне, что Лешеку не следует сообщать о выздоровлении Марыси.
– Но ведь ради его же пользы.
– Это уже другой вопрос.
– Ради его же пользы… Я хотела, чтобы эта связь побыстрее выветрилась у него из головы.
Господин Чинский нетерпеливо заерзал в кресле.
– Неужели ты и сейчас можешь называть это связью?.. Сейчас, когда ты прочла это письмо?..
– Ну, я совершенно не настаиваю на этом слове.
– А кроме того, он пишет, что был с ней помолвлен, называет ее своей невестой и уверяет, что вскоре они должны были обвенчаться.
– Я никогда на это не согласилась бы, – возмущенно произнесла госпожа Элеонора. – Никогда не дала бы своего благословения!..
Господин Чинский встал.
– Я теперь вообще сомневаюсь, принял бы он, наш сын… это наше благословение, даже если б мы его просили об этом! Даже если б умоляли! Эля, неужели ты не понимаешь, что произошло и что могло случиться? Ты не отдаешь себе отчета, что мы едва не убили своего ребенка! Я только молю Господа, чтобы мы не потеряли его навсегда!..
Спокойствие окончательно покинуло его. Он схватился за голову и, расхаживая по комнате, быстро заговорил:
– Я знаю его. Он нам такое не простит! Я знаю его. Он не простит!
– Стас, возьми себя в руки, – слегка дрожащим голосом сказала госпожа Чинская. – Я понимаю твою тревогу и, может, даже разделяю твои опасения. Но хочу только подчеркнуть, что мне не в чем себя упрекнуть. Я по-прежнему полагаю, что обязанность родителей – заботиться о будущем своего ребенка…
– Ему тридцать лет!
– Вот именно. И, несмотря на свой возраст, он хочет дурно распорядиться своей жизнью. Было бы недопустимой слабостью и соглашательством отказаться от своих принципов ради эгоистического удовольствия получить одобрение сына, который собирается весьма глупо испортить свое будущее.
– Иначе говоря, – рассмеялся господин Чинский, – ты предпочитаешь потерять сына, но не отказаться от своего представления о его счастье?..
– Я такого не говорила.
– Тогда что ты сказала?!
– Что я обязана соблюдать свои принципы… но…
– Что «но»?..
– Но у меня не хватает на это сил, и на тебя я тоже, к сожалению, не могу опереться.
Госпожа Элеонора тяжело склонила голову.
– Какой абсурд, моя дорогая! – уверенно отозвался муж. – Допустим, у нас достанет сил и мы не поступимся своими принципами. Во что же тогда превратится наша жизнь?.. Мы выроем пропасть между нами и тем существом, которое является единственной целью нашего бытия, единственным плодом нашей жизни, единственным ее оправданием.
Он положил руку на плечо жены.
– Скажи мне, Эля, что нам тогда останется?.. Что нам останется?.. Ты представляешь себе нашу дальнейшую жизнь?..
Госпожа Чинская кивнула.
– Ты прав.
– Безусловно. А теперь прими во внимание еще и то, что мы не знаем этой девушки. И наша неприязнь к ней основана только на ее низком положении в обществе. Нам известно лишь то, что она служила продавщицей в магазинчике. Однако же мы знаем, что ее полюбил наш сын. Неужели ты думаешь, что он смог бы полюбить вульгарную, неинтеллигентную, глупую особу, словом, существо без всяких достоинств? Разве ты не помнишь, что сама отмечала его наблюдательность, точные замечания о знакомых и критическое отношение к женщинам?.. Почему же, не имея представления о достоинствах девушки, которую выбрал наш сын, мы сразу допускаем самое плохое? Столь же обоснованно мы могли бы решить, что она – неземное создание. И я уверен, а ты знаешь, я не люблю бросать слова на ветер, что бо́льшая часть наших предубеждений исчезнет, когда мы с ней познакомимся.
Госпожа Чинская сидела молча, подперев голову руками и, казалось, неотрывно разглядывала ковер.
– Ну а если в этом случае наши возражения только усилятся, то, поверь мне, – продолжал господин Станислав, – что и Лешек со временем с ними согласится, когда сможет разглядеть ее на нашем фоне, в нашей среде.
– Что ты имеешь в виду?
– Я полагаю, что разумнее всего будет забрать эту Марысю к нам.
– К нам?.. В Людвиково?..
– Естественно. И еще добавлю, что с этим приглашением нам стоит поторопиться.
– Почему?
– Потому что если мы немедленно не выкажем как можно очевиднее свою добрую волю, если Лешек хоть на секунду подумает, будто мы действуем с расчетом и замыслили в дальнейшем оторвать его от Марыси… то будет уже слишком поздно. Кто знает, не забрал ли он уже ее с этой мельницы и не отвез ли к кому-то из своих друзей?
– Тогда что нам делать? – Госпожа Чинская стиснула ладони.
– Как можно скорее ехать туда.
– Куда?.. На мельницу?
– Да. Если еще не поздно.
Госпожа Чинская быстро встала.
– Что ж, хорошо. Вели шоферу подавать машину.
Господин Чинский обнял жену.
– Спасибо тебе, Эля. Мы об этом не пожалеем. Мы стареем, дорогая, и все больше нуждаемся в сердечной теплоте.
Когда он вышел из комнаты, госпожа Чинская смахнула слезы.
Через десять минут огромный черный лимузин выехал со двора. Погрузившись в свои мысли, супруги Чинские не произнесли ни слова, они даже забыли сказать шоферу, куда ехать.
Но он и сам хорошо это знал. В Людвикове все уже знали, куда отправились хозяева и зачем. Да и как могло быть иначе? Есть законы, которые управляют всеми сердцами одинаково, их все чувствуют, они всем понятны.
Длинный тяжелый автомобиль свернул с ровного тракта на боковую дорогу. Многочисленные сани и возы с зерном выдавили в ней глубокие колеи и выбоины, ехать приходилось медленно, осторожно. Снопы яркого голубоватого света от фар скользили вверх и вниз, неожиданно вырывая из темной пустоты силуэты деревьев: ольхи, покрытой шапкой смерзшегося снега, черные заросли вербы, увенчанной тоненькими веточками. Наконец показались покатые крыши построек в хозяйстве Прокопа, с них стеклянной бахромой свисали сосульки.
Снегопад прекратился, и шофер уже издалека заметил стоявшие перед мельницей людвиковские санки.
– Наши лошади стоят перед мельницей, – сказал он, не оборачиваясь.
«Слава богу, они еще тут», – подумал господин Чинский.
На свет фар из дома вышел кучер, который, накрыв лошадей попонами, сам грелся в кухне у печки. Показался и сам старый Мукомол, который считал своим долгом лично встретить господ из Людвикова.
– Сын ваш, господа, – сообщил Прокоп, – тут, в пристройке, у панны Марыси. Позвольте мне проводить вас.
– Спасибо тебе, Прокоп! – отозвался Чинский и, взяв жену под руку, шепнул ей: – Помни, Эля, если мы хотим завоевать чье-то сердце, надо и свое отдать.
– Знаю, мой добрый друг. – В ответ она стиснула его плечо. – И не бойся.
Госпожа Чинская уже переломила себя, в глубине души смирившись с тем, что еще так недавно считала чуть ли не бесчестьем. И вот уже второй раз в жизни судьба вынуждала ее переступить этот порог. Какой-то рок снова провернул колесо, и оно опять замерло в этот грозный миг, в минуту тревоги и сомнений перед домиком с маленькими квадратными окошками.
На стук в дверь Лешек ответил громким, уверенным, может, даже вызывающим голосом:
– Прошу, входите!
Уже несколько минут назад яркий свет фар предупредил его о приезде родителей. Он знал, что это они. Только не знал, с чем они приехали. Поэтому вскочил и встал перед Марысей, как будто хотел заслонить ее от надвигающейся опасности. Лицо молодого человека побледнело и напряглось. Он сжал челюсти, поскольку с губ его уже готовы были сорваться острые, резкие, безжалостные слова. И ждал.
Дверь открылась. Родители вошли. Буквально на секунду застыли на пороге, но он уже все понял. На лице отца была добрая, тихая улыбка, глаза матери покраснели от слез, а губы дрожали.
– Сыночек! – почти беззвучно прошептала она.
Он кинулся к ней и порывисто стал целовать ее руки.
– Мама! Мама!..
В этих двух приглушенных волнением восклицаниях заключено было все: и боль, и угрызения совести, и надежда, и обида, и просьба о прощении, и само прощение. Их долгие страдания, внутренняя борьба, взаимные обвинения и мучительные тревоги, ужасные решения и самые нежные чувства – все поместилось в этих двух словах: «сынок», «мама»; ведь этими словами написаны самые незыблемые трактаты, самые прочные договоры, самые святейшие конкордаты.
Они обнялись, уже ничего больше не говоря, ни о чем не думая, ничего более не желая, кроме одного: пусть то, что вдруг возродилось и вспыхнуло в них столь ослепительной правдой, уже никогда больше, ни на мгновение не омрачится.
Госпожа Чинская первой пришла в себя и тепло произнесла:
– Лешек, позволь же мне познакомиться с твоей будущей женой.
– Мамочка! Ты только взгляни на эту девушку, которую я люблю больше всех на свете… Но она заслуживает гораздо большей любви!
Марыся стояла, опустив голову, смущенная и оробевшая.
– Мы с отцом, – отвечала госпожа Элеонора, – присоединим свою любовь к твоей, сынок, и тогда, возможно, как-то сумеем уравновесить эту несправедливость.
Она подошла к Марысе, обняла ее и ласково поцеловала.
– Ты так прелестна, дитя мое, и я верю, что твоя юная душенька столь же прекрасна, как твое личико. Я надеюсь, что мы подружимся и ты не будешь считать меня своей соперницей, хотя мы обе любим одного и того же мужчину.
Она улыбнулась и погладила порозовевшие щечки девушки.
– Посмотри-ка на меня, я хочу заглянуть в твои глаза, чтобы понять, сильно ли ты его любишь.
– Ох, очень сильно, госпожа! – тихо отвечала Марыся.
– Я не госпожа для тебя, дорогое мое дитя. Я хочу быть тебе матерью.
Марыся наклонилась и прильнула губами к рукам этой надменной дамы, которая еще недавно была для нее чужой, строгой, грозной и недостижимой и которую теперь она имела право называть матерью.
– Позволь же и мне, – господин Чинский протянул руки к Марысе, – поблагодарить тебя за счастье нашего сына.
– Это я счастлива благодаря ему! – улыбнулась наконец чуть осмелевшая Марыся.
– Посмотрите только, как же она прекрасна! – экзальтированно воскликнул Лешек, который до сих пор только наблюдал за всем происходящим в каком-то радостном ошеломлении.
– Поздравляю тебя, молодец! – похлопал его по плечу отец.
– И есть с чем, верно? – Лешек самоуверенно тряхнул головой. – Но вы еще не знаете ее. А когда узнаете так же хорошо, как я, то поймете, что это настоящее сокровище, просто воплощенное чудо!
– Лешек! – рассмеялась Марыся. – Как тебе не стыдно так обманывать! После таких похвал твои родители будут искать во мне хоть какое-то их подтверждение. И тем горше будет их разочарование, когда окажется, что я всего только простая и глупенькая девушка…
– Твоя скромность, – прервала ее госпожа Чинская, – уже большое достоинство.
– Это совсем не скромность, госпожа, – покачала головой Марыся. – Прошу вас, не думайте, что я не отдаю себе отчета, кто я и как тяжело будет мне, сколько усилий, сколько труда придется мне приложить, чтобы хотя бы немного приблизиться к уровню Лешека, и вас, и того круга, в котором вы вращаетесь, чтобы не раздражать и не позорить Лешека моим недостаточным образованием и воспитанием. Я сразу признаюсь, что боюсь этого и не уверена, справлюсь ли. И если я, несмотря на все, отважилась пойти на это… на все возможные… разочарования… унижения… то только лишь потому, что очень его люблю.
Она говорила быстро, не глядя на них, а ее участившееся от волнения дыхание свидетельствовало, что она выплескивает сейчас свои самые сокровенные и тревожные мысли.
Лешек торжествующе смотрел на родителей, точно говорил: «Видите, какую девушку я себе выбрал?!»
– И если я сегодня так счастлива и так горжусь тем, что стану его женой, – продолжала Марыся, – то вовсе не потому, что каждая бедная молодая продавщица мечтает выйти замуж за богатого и элегантного мужчину. Правда, я очень рада, что он, зная стольких прекрасных девушек, равных ему по положению и состоянию, все-таки выбрал меня, никому не нужную сироту. Но вместе с тем я счастлива и горда, ибо он – самый благородный и самый лучший человек из всех, кого я знаю.
Госпожа Чинская привлекла ее к себе.
– Мы понимаем тебя, дорогое дитя. И тем более готовы заверить тебя, что уже успели оценить искренность твоих намерений. Можешь быть уверена, у нас тебе не грозят никакие неприятности, более того, мы примем тебя с открытым сердцем и будем помогать тебе во всем. А теперь уже больше никогда не называй себя сиротой, поскольку с сегодняшнего дня, дорогое дитя мое, у тебя есть мы и наш дом, который отныне стал и твоим домом.
Марыся снова склонилась к руке госпожи Чинской, чтобы поцеловать ее и при этом скрыть слезы, выступившие у нее на глазах.
– Вы так добры, – прошептала девушка. – Я даже представить не могла, что вы так добры… мама…
Господин Чинский, тоже весьма растроганный, улыбнулся, пряча улыбку в усах, и откашлялся.
– Ну а сейчас, – начал он, – если уж мы вспомнили о существовании нашего дома, думаю, лучше всего было бы нам всем туда и отправиться. Мы поможем Марысе уложить все ее лари и заберем ее в Людвиково.
– Конечно, – подхватила госпожа Элеонора. – Нет никаких оснований, чтобы она еще оставалась тут.
Марыся снова покраснела, а Лешек сказал:
– Видишь ли, мама… боюсь, моей Марысеньке будет немного неловко. В Людвиково сейчас столько гостей, совершенно посторонних для нее людей…
– То есть ты хочешь позволить ей и дальше тут оставаться? – удивилась госпожа Чинская.
– Боже упаси! Но у меня есть один замысел. Я хотел бы поехать с Марысей в Вильно.
– Прямо сейчас?.. На праздники?
– До Рождества еще пять дней. А мы должны поехать туда по двум причинам: во-первых, нам следует исполнить свой долг и отблагодарить Косибу, человека честного и благородного, которого посадили в тюрьму только за то, что он спас нам жизнь. Я хочу поручить вести его дело Вацеку Корчинскому. Такой адвокат, как он, сумеет сделать все, как нужно. А я не простил бы себе и малейшей небрежности по отношению к человеку, которому стольким обязан и который так безгранично привязан к Марысе.
– Это совершенно справедливо, – признала госпожа Элеонора.
– А другая причина – это необходимость пополнить гардероб моей королевы. Я лично не придаю этому ни малейшего значения, но не хочу, чтобы она чувствовала себя неловко среди людвиковских гостей. И надеюсь, что с помощью жены Вацека мы как-нибудь решим этот вопрос.
Госпожа Чинская кивнула.
– И тут должна признать твою правоту. Но отнюдь не полностью. А именно: я не могу совершенно положиться на вкус Корчинской. Поэтому я поеду с вами и сама займусь этим.
– Мама! Ты ангел! – восторженно воскликнул Лешек.
Он и в самом деле был благодарен матери за такое решение. Ему хотелось, чтобы Марыся еще до приезда в Людвиково сблизилась с кем-то из его семьи, чтобы она имела возможность понемногу освоиться с новым своим положением. Зная, каким подлинным талантом общения с людьми обладает его мать, он не сомневался, что под ее влиянием такая умная и утонченная девушка, как Марыся, даже за столь короткое время сумеет многое усвоить, а прежде всего перенять ту свободу обхождения, которая в новом окружении дается довольно трудно.
Через полчаса супруги Чинские уехали, поскольку госпоже Элеоноре надо было уложить вещи для путешествия. Лешек и Марыся остались, они должны были отправиться в путь через два часа, чтобы уже на станции встретиться с матерью. А между тем в пристройке появился старый Прокоп и пригласил обоих на ужин. Сам факт, что молодой наследник Людвикова берет себе жену из его дома, был для Мукомола, как он сам утверждал, большой честью. И это стоило отметить. Поэтому на столе появилась даже бутылка вишневой наливки, а хозяин произнес в честь молодой пары длинную речь, обильно сдобренную сентенциями из Священного Писания и собственными философскими размышлениями.
Обычно к ночному поезду прибывало мало пассажиров. Но в тот день, как это обычно бывает в предрождественские дни, в зале ожидания было много купцов из городка, которые отправлялись в Вильно, дабы пополнить запасы своих товаров. Появление Лешека с Марысей в обществе госпожи Чинской вызвало вполне понятную сенсацию. Начальник станции, посчитавший своим долгом лично приветствовать госпожу Чинскую, вежливо осведомился:
– Уважаемая госпожа бежит из наших краев на праздники?
– Нет. Мы вернемся через несколько дней, – ответила госпожа Чинская. – Я просто еду по делам с сыном и своей будущей невесткой.
Начальник даже рот разинул от изумления. А Лешек улыбнулся и с удовольствием подумал: «Ну, теперь уже утром будет о чем поболтать в Радолишках и во всей округе».
Глава 18
За тюремной пекарней лопнула канализационная труба. Заключенные, чьи приговоры еще не вошли в силу, не были обязаны работать, но Антоний Косиба вызвался добровольно. Он предпочитал тяжелый физический труд безделью в душной камере, где вдобавок еще надо было выслушивать рассказы товарищей о разных воровских приключениях, о драках и о предполагаемых предприятиях подобного рода, задуманных на будущее. После таких дней наступали самые изнурительные бессонные ночи. Поэтому он и просился на любую работу. Когда нужно было засыпать уголь, очищать дворы или крыши от снега, носить в кухню картошку, он первый вызывался на работу, а потом, уставший донельзя, засыпал беспробудным сном, так что у него не оставалось времени размышлять ни о себе, ни о Марысе, ни о чем бы то ни было вообще.
Приговор он принял с покорностью. И хотя считал его вопиющей несправедливостью, не бунтовал против нее. Он уже давно привык к несправедливости. Она его не возмущала, не удивляла, даже не огорчала. Он просто знал, что бедный человек должен привыкнуть к ней, как к слякоти или морозу. Господь, который ниспосылает ее, создал разных людей, в том числе дурных, злобных, суровых и безжалостных.
От апелляции Антоний Косиба тоже ничего хорошего не ждал. Его мучила только одна забота, только она не давала ему спать по ночам и тревожила: как там дела у Марыси?
Правда, зная Прокопа Мукомола, Антоний не мог допустить мысли, что в его доме девушку могут обидеть, но разве для такой юной барышни, как она, само по себе одиночество и жизнь на отшибе не были мучительны?.. А ведь он столько обещал! Так ясно представлял их будущую чудесную жизнь под одной крышей. Конечно же, тогда ему пришлось бы начать брать деньги со своих больных, особенно с тех, кто побогаче, чтобы Марысе хватило и на книжки, которые она так любила, и на красивые платья, гораздо более подходящие к тонкой красоте девушки, чем ее обычные наряды из перкали[18]. С утра он работал бы на мельнице, после обеда с ее помощью принимал бы больных, а по вечерам Марыся читала бы вслух своим звонким голоском разные стихи и романы.
И вот все развеялось, как дым. Три года – это достаточно времени, чтобы многое изменилось. А оно и должно измениться. Отбыв срок, он вернется на мельницу, но ее уже там не застанет. И что тогда?
Тогда снова начнется пустая, бесцельная жизнь – ни для себя, ни для людей, ни для Бога, потому что самому ему эта жизнь не нужна, люди ее презирают, а Бог откуда-то сверху с полным безразличием смотрит на все это. И что тогда?
Столько лет носило его по свету, точно бродячее животное, у которого нет иной цели, как только добыть пропитание на день и угол, чтобы переспать ночь. И вот когда в этой пустоте замерцал первый и единственный огонечек, когда он снова стал ощущать в груди живое биение сердца, а в сердце – теплое человеческое чувство, когда понял, что он тоже человек, когда нашел цель и смысл своего существования, на него обрушился новый удар и все уничтожил.
Как живо припоминал он сейчас те страшные минуты, когда Марыся умирала, когда он, почти обезумевший от бессильного отчаяния, сидел рядом с ней, уже не способный ни на какое усилие, ни на малейшую надежду, ни даже на то, чтобы помолиться. Да и тут, во время длинных тюремных ночей, он переживал те же чувства. Точно так же его мысль упрямо кружила над тем вихрем, который втягивал в бездну все, что он любил, ради чего хотел жить, ради чего только и мог жить.
В памяти вновь и вновь пробуждалось воспоминание, туманное и расплывчатое, что когда-то, очень давно, он уже пережил подобное несчастье, утратив все, что имел. Однако напрасно знахарь напрягал свою память. Явственно возникало в ней только одно имя, странное, никогда не слышанное, а все же очень знакомое – Беата. И почему оно столь неизменно возвращалось, самим звуком своим вызывая тревогу? Что оно означало?..
Он лежал с открытыми глазами на твердом, набитом сеном тюремном матрасе и вглядывался в темноту, точно хотел разглядеть в ней что-то. Но память останавливалась всегда в одном и том же месте, останавливалась перед какой-то высоченной, до самого неба, стеной, за которую проникнуть не могла.
…Это была осень, и болотистая дорога, и обычная крестьянская телега, которую тащила маленькая пузатая лошаденка… Он лежал на возу и спал, а голова его билась о дощатое дно телеги, ударялась сильно, было больно. Эта боль его и разбудила.
А что произошло до этого?..
Да, тут и начиналась та высоченная, недосягаемая стена, за которой крылась тайна, и эту тайну невозможно было разгадать. Какая-то неизвестная, забытая им жизнь, зачеркнутая, вымаранная из реальности судьба. Он знал только одно: та его жизнь отличалась от теперешней. Она была как-то связана с миром богатых людей и с этим загадочным именем – Беата.
В первые годы своего бродяжничества он пытался преодолеть эту завесу, которая преграждала его памяти путь в прошлое. Ведь он не мог не понимать, что у него тоже должны были быть детство и юность. Осторожно расспрашивая случайных встречных, он понял, что все, в отличие от него, помнят свои детские годы. Потом он уже никому не признавался в своей странной особенности, потому что ему все равно никто не верил. Над ним только подсмеивались и делали предположения, что он, наверное, имеет веские основания забыть свое прошлое. Но сам он по-прежнему напрягал мозг и все время возобновлял наступление на ту стену, а после каждой очередной неудачи усталый, изнуренный до полного изнеможения, полубезумный, возвращался в свою действительность и обещал себе, что уж больше таких попыток делать не будет.
Проходили годы. Антоний привык и смирился с этим, уже даже обещать не приходилось – он больше не пытался преодолеть стену. Порой только какое-нибудь внешнее событие помимо его воли пробуждало в нем внезапное беспокойство и тот страх, который каждый человек испытывает перед непонятными ему, непостижимыми силами, действующими в нем самом, в его сознании.
Работа была лучшим способом отвлечь себя от этих мыслей, поэтому Антоний Косиба все охотнее и чаще хватался за нее.
В тот день вместе с несколькими другими заключенными он с раннего утра откапывал лопнувшую канализационную трубу. Последние несколько дней стояла оттепель, поверхность земли превратилась в болотистую грязь, но чуть глубже почва еще помнила недавние сильные морозы, поэтому пришлось тяжело намахаться кайлом и заступом.
Около десяти из канцелярии пришел старший надзиратель Юрчак.
– Ого, похоже, кого-то зовут на свидание, – предположил один из наиболее опытных заключенных.
И он не ошибся. Вызвали Антония Косибу.
– К тебе какие-то молодые господа, пара, – сообщил надзиратель.
– Ко мне?.. Это, наверное, ошибка!..
– Не болтай, а иди в комнату свиданий.
Антоний еще никогда не был в этой комнате. Ведь его никто не навещал, и теперь он ломал себе голову, кто это может быть. Если Василь с Зоней, то надзиратель не назвал бы их «господами».
В первое мгновение полумрак в небольшом зале, разделенном решеткой, помешал ему узнать Марысю, тем более что одета она была не в свое обычное пальтишко и беретик, а в элегантную шубу и шляпку. Рядом с ней Антоний увидел молодого Чинского.
Первым порывом Косибы было отступить, уйти. Интуиция подсказывала, что его ждет какая-то неприятность, дурная новость, какой-то неожиданный удар. Почему они вместе и что означает этот наряд Марыси?..
– Дядюшка Антоний! – позвала его девушка. – Дядюшка, неужели ты меня не узнаешь?..
– Добрый день, господин Косиба, – поздоровался и Лешек.
– Добрый день, – тихо отозвался знахарь.
– Вот видите, вам больше не о чем беспокоиться, – весело начал Чинский. – Теперь все будет хорошо. Если бы я раньше узнал о неприятностях, которые с вами приключились из-за нас, то давно бы занялся вашим делом. Вам тут уже недолго сидеть осталось. Мы сделаем все, чтобы ускорить апелляцию, а после нее, я уверен, вас выпустят. Как вы себя чувствуете?
– Спасибо, ну, как в тюрьме…
– Дядюшка, дорогой, ты так похудел, – сказала Марыся.
– А ты похорошела, голубка моя, – улыбнулся ей Антоний.
Она кивнула.
– Это от счастья.
– От счастья?..
– Да, от огромного счастья, которое пришло ко мне.
– Какое же это счастье? – спросил Косиба.
Марыся взяла Лешека под руку и ответила:
– Он вернулся ко мне, и теперь мы уже никогда не расстанемся.
– Марыся согласилась стать моей женой, – добавил Чинский.
Знахарь обеими руками ухватился за решетку, которая отделяла его от молодой пары, точно испугался, что пошатнется и упадет.
– Как это? – произнес он сдавленным голосом.
– А вот так, дядюшка, – с улыбкой отвечала Марыся. – Лешек вылечился и вернулся. Видишь, ты несправедливо осуждал его. Он меня очень любит, почти так же сильно, как я его…
– Наоборот, – весело прервал ее Лешек, – я – гораздо сильнее.
– Это невозможно, – улыбнулась Марыся и добавила: – Скоро мы обвенчаемся. А сюда мы приехали вместе с мамой Лешека. Это она купила мне все эти прелестные вещицы. И как я тебе нравлюсь, дядюшка?
И только тут она заметила странное уныние, овладевшее ее старым другом.
– Дядя, неужели ты не рад моему счастью? – спросила она и вдруг все поняла. – Как же это бестактно с нашей стороны! Ведь ты еще вынужден тут находиться. Не сердись, пожалуйста!
Знахарь пожал плечами.
– А кто тут сердится… Вот только… не ожидал я… Дай вам бог всего самого хорошего…
– Спасибо, мы вам сердечно благодарны, – подхватил Лешек. – Только прошу вас, не беспокойтесь из-за своего положения. Мы передали ваше дело лучшему здешнему адвокату, Корчинскому. Он утверждает, что сумеет вас освободить. А ему можно верить.
– А, не стоит труда!.. – махнул рукой Косиба.
– Дядюшка, да что ты такое говоришь! – возмутилась Марыся.
– Очень даже стоит, – заверил Лешек. – Вы – наш самый большой благодетель. Мы до конца жизни не сумеем отблагодарить вас за все. И поверьте, я на голову встану, а свободу вам верну, господин Косиба.
На лице знахаря появилась грустная улыбка.
– Свобода?.. А… на что мне свобода?..
Молодые люди удивленно переглянулись, и Лешек покачал головой.
– Ваше подавленное настроение – временное явление. Вы просто не должны так думать.
– Дядя, зачем ты такое говоришь?
– Верно, голубушка, – вздохнул Антоний, – и говорить не надо. Не о чем тут говорить. Дай тебе бог радости и покоя, голубушка моя… Ну, мне уж пора, прощайте… И не морочьте себе голову таким стариком, как я…
Он с трудом поклонился и направился к двери.
– Господин Косиба! – позвал Лешек.
Но тот только ускорил шаг и уже был в коридоре. Он шел все быстрее, так что надзиратель, едва поспевавший за ним, рассердился:
– Ты чего так несешься? Помедленней давай. Или мне из-за тебя все ноги стереть?
Знахарь замедлил шаг и теперь шел, опустив голову.
– Кто она тебе, та барышня? – спросил надзиратель. – Родственница или просто хорошая знакомая?
– Она? – Знахарь смотрел на него отсутствующим взглядом. – Она?.. Откуда мне знать…
– Как это – откуда тебе знать?
– Так ведь человек человеку может быть всем на свете, а глядишь, на другой день… уже никем.
– Она тебя дядей называла.
– Называть можно по-разному. Название – это всего лишь пустой звук.
Надзиратель даже засопел от злости.
– Уж больно ты расфилософствовался… Тьфу!
Разве мог он понять, что творится в душе этого человека? Разве мог он хотя бы предположить, что заключенный Антоний Косиба переживает самые тяжелые минуты своей и без того убогой жизни?.. И он, и товарищи по камере заметили только, что знахаря как будто подменили, точно неведомая тяжесть придавила и согнула его. Он совсем перестал разговаривать, всю ночь ворочался на своем матрасе, а утром не вызвался на работу и остался в камере один.
И он совсем не лгал, когда сказал Чинскому, что свобода ему не нужна. Ему теперь вообще ничего не было нужно.
После многих лет одиночества среди посторонних ему людей он лишь для того нашел чье-то теплое дружественное сердце, чтобы тут же его утратить. Когда он узнал Марысю, когда почувствовал, что пробудил в ней ответную привязанность, когда понял, что эта девушка для него дороже всего на свете, он уже начал было верить, что в конце концов обрел цель жизни.
Нет, он никогда не строил никаких планов на будущее. Подозрения Зони о его якобы предполагаемой женитьбе казались ему даже нелепыми. Он попросту хотел, чтобы Марыся была рядом. Разумеется, если б она захотела стать его женой, если б только таким образом он мог обеспечить ей спокойное существование и какой-никакой достаток, а также заботу и защиту от злых языков, он бы с ней обвенчался. Но все-таки предпочел бы, чтобы она просто осталась с ним. И пусть бы она даже вышла замуж за кого-нибудь вроде Василька…
Они жили бы вместе, никогда не расставались бы, и он каждый день видел бы ее ясные голубые глаза, слышал ее звонкий голосок, грел свое старое сердце ее весенней улыбкой. Тогда его жизнь приобрела бы определенный смысл и он понимал бы, зачем работает, для чего зарабатывает деньги…
И вдруг все его надежды разбились вдребезги. Антоний Косиба отнюдь не видел счастья Марыси в том, что она станет знатной дамой, что у нее будет богатый муж. Неведомо почему, но он не любил богатство, не доверял ему. Не доверял он и молодому Чинскому. В том, что этот молодой господинчик влюбился в Марысю, не было ничего странного. И правда, разве кто-нибудь, узнав Марысю, мог равнодушно пройти мимо нее? Ведь и в Радолишках молодые люди ухаживали за ней. А то, что Чинский решился на женитьбу… Ну, просто прихоть избалованного барчука. Он не мог овладеть ею другим путем, но разве он сможет, разве захочет сделать ее счастливой?.. Сумеет ли он понять, какое великое сокровище досталось ему, разве оценит он это сокровище по достоинству, не погубит ли его?..
Пока Марыся жила на мельнице, Антоний Косиба ни словечком не обволвился о Чинском. Он сознательно молчал, хотя и видел, что девушка печалится. Не ускользнуло от его внимания и то, что она нетерпеливо дожидается письма. И когда тянулись одна за другой долгие недели, а письма все не было, в глубине души он радовался.
«Потерпит голубушка, – думал он, – да и забудет. Так-то лучше для нее».
Но Чинскому он и теперь не мог простить его молчания. И сурово осуждал молодого человека. Он представлял себе дело так, как оно ему виделось: скорее всего, когда Лешек выздоровел и вернулся домой, он случайно снова встретил Марысю, которую до этого даже не вспоминал, и давний каприз ожил в его душе. А как долго может длиться каприз у такого вертопраха?..
Впрочем, не только такие опасения мучили Антония Косибу. Его терзало и осознание собственного несчастья. Как же он теперь будет дальше жить и ради чего?.. Марыся, став дамой, не будет уже нуждаться ни в его заботе, ни в помощи, у нее начнется совсем другая жизнь, которая в сто раз дальше от предыдущей, чем людвиковский дворец от мельницы старого Прокопа.
«Я даже видеться с ней не буду», – с грустью думал Антоний.
Чем дольше размышлял он, тем горше становились его мысли, тем меньше хотелось ему жить, пытаться изменить приговор, возвращаться домой в ту самую пристроечку, где так прекрасно, так светло и благодетельно начинала уже складываться будущая совместная жизнь, где каждый предмет обихода, каждая вещь напоминала бы ему Марысю с тех самых пор, как он буквально вырвал ее у смерти…
– Моей она была, только моей, а теперь вот у меня ее отобрали…
Целыми днями просиживал он, молча съежившись в углу камеры. И даже не интересовался передачами с продуктами и табаком, которые теперь часто ему присылали. Без возражений отдавал все сокамерникам.
Так прошли праздники.
После праздников Антония вызвали в канцелярию. Оказалось, к нему пришел его новый защитник, адвокат Корчинский. Это был высокий и довольно полный, хоть и молодой еще брюнет с серьезным выражением лица и живым, проницательным взглядом.
– Ну, господин Косиба, – адвокат протянул ему руку, здороваясь, – я уже ознакомился с вашим делом. Я встретился с коллегой Маклаем, тщательно просмотрел все материалы. В первой инстанции процесс проводился нельзя сказать, чтобы блестяще, и я полагаю, что у нас еще есть с чем поработать. Если даже мы не выиграем дело полностью, а я верю, что будет именно так, то уж точно уменьшим приговор до нескольких месяцев. Я даже предпринял некоторые шаги, чтобы вас выпустили прямо сейчас…
– Да мне все равно, – буркнул Косиба.
– Думаю, вы правы, тем более что рассмотрение апелляции назначено на первое февраля. Так что вам осталось ждать меньше месяца. Ради столь короткого срока не стоило возиться со всеми формальностями, связанными с внесением залога…
– У меня ничего нет, откуда ж взять деньги на залог?..
– Господин Чинский собирался его внести за вас.
– Лишние хлопоты. Я не нуждаюсь в помощи господина Чинского.
– Да почему же?.. Он так тепло к вам расположен. Впрочем, это и неудивительно. Вы спасли жизнь его невесте и, возможно, ему самому. А они оба полностью заслуживали этого. Но вернемся к делу. Я уже собрал некоторые материалы, которые пригодятся для моей защиты. У меня не слишком много времени, поэтому постараюсь покороче. Итак, прежде всего я велел сделать Лешеку и его невесте рентгеновские снимки. И показал их многим врачам. Мнение специалистов было единогласным: операции, которые вы провели, не только были сделаны совершенно правильно, но еще и свидетельствуют о прямо-таки исключительном мастерстве хирурга. Особенно операция перелома основания черепа. Это, как говорят, было феноменально. И теперь мне надо знать, где и у кого вы этому научились…
Знахарь пожал плечами.
– Я не учился.
– Прошу вас, господин Косиба, не скрывайте от меня ничего, – мягко начал адвокат, – если вы хотите, я могу сохранить это в тайне, но я должен знать. Может, вы когда-то работали медбратом в больнице? Или были санитаром на фронте во время войны?..
– Нет.
– А как давно вы лечите людей?.. В каких краях вы были до того, как поселились на мельнице под Радолишками?
– Раньше я не лечил. Только там начал.
– Хм… Не хотите же вы убедить меня, что без всякой практики, просто так умели составлять сломанные кости, примитивными инструментами делать ампутации и тому подобные вещи.
– Я ни в чем не хочу вас убеждать.
– Ваша скрытность только затрудняет мою защиту.
– А разве я просил защищать меня, господин адвокат? Не нужна мне никакая защита.
Адвокат с неожиданным любопытством посмотрел на него.
– Значит, вы предпочитаете сидеть в тюрьме.
– Мне все равно, – угрюмо ответил знахарь.
И тут адвокат рассердился.
– Но мне не все равно! Я сам решил и своему другу обещал, что вас отсюда вытащу. И учтите, я ничего не упущу, ни единой мелочи. Не хотите говорить, я от других узнаю.
– Не стоит утруждать себя, – махнул рукой знахарь. – Мне не нужна свобода, а кому еще есть дело до моей свободы?.. Кому какая разница, буду я в тюрьме или на свободе.
– Глупости вы говорите, но даже если бы вы были правы, то и так хотя бы ради самой справедливости…
– Нет никакой справедливости, – прервал его Косиба. – Откуда вам такое в голову пришло, что справедливость существует?..
Адвокат кивнул.
– Разумеется, я не говорю об абсолютной справедливости. Может, такая и существует, только мы не имеем возможности нашим земным разумом это проверить. Я говорил о справедливости относительной, человеческой.
Знахарь насмешливо посмотрел на него и рассмеялся.
– Никакой не существует. Человеческая?.. Вот вы сами видите, я сижу тут, осужденный на три года тюрьмы. А абсолютная?.. Вы, господин адвокат, никаким разумом не найдете доказательств ее существования. Ее не разумом следует искать, а чувствами, совестью. А если кто по совести только обиды вокруг видит, если осознает, что вся его жизнь – это сплошное горе и обиды, то где та абсолютная справедливость? Ведь не наказание же это! Наказание дается за вину. Только обиды и зло! Ничем не заслуженные!
Глаза у него блестели, а толстые пальцы нервно сжимались. Адвокат помолчал и неожиданно спросил:
– Какое у вас образование?
– Никакого образования у меня нет.
– В ваших документах сказано, что вы окончили два класса сельской школы в Калишском уезде. Но говорите вы, как человек интеллигентный.
Знахарь встал.
– Жизнь человеку разные мысли подсказывает… Я могу уже уйти?
– Сейчас, минутку еще. Значит, вы не хотите говорить со мной откровенно?
– Мне не о чем говорить.
– Как хотите. Я не могу вас заставить. И вот еще… может, вам что-то нужно?.. Теплое белье или, может, книжки?..
– Мне ничего не нужно, – с нажимом ответил знахарь, – а если уж говорить об этом, то одно только: чтобы меня оставили в покое.
Адвокат дружески улыбнулся и протянул руку:
– Ну хорошо. До свидания, господин Косиба.
Выйдя из тюрьмы, адвокат Корчинский уже принял решение: ему следовало поехать в Радолишки, на мельницу, в близлежащие деревеньки, найти там свидетелей, бывших пациентов знахаря, а потом привезти их на заседание суда.
«При случае и в Людвиково на день-два заеду, – подумал он, – а из этого дела сделаю громкий процесс, и если не выиграю его, то адвокат из меня никудышний».
Корчинский был еще молодым адвокатом, однако ж врожденные способности, работоспособность, основательные юридические знания, а также ответственное отношение к делу способствовали его быстрому продвижению в карьере, честолюбие все время толкало его вверх, он стремился пробиться и стать известным не только в местных кругах, но и сделать себе имя, славное по всей стране.
Дело Антония Косибы он взял не только из-за дружбы с Лешеком Чинским, не только ради хорошего гонорара, который он не мог не принять, но главным образом и прежде всего потому, что само дело его очень заинтересовало и он почувствовал в нем те эффектные моменты, которые придают некоторым процессам особо широкую огласку, а защитникам в случае победы приносят славу.
А поскольку, взявшись за дело, он никогда ничего не упускал, то на следующий же день выехал в Радолишки. Два дня он провел в разъездах по округе, вел долгие утомительные беседы с людьми, собирал материалы. Поэтому ему пришлось сократить и свое пребывание у Чинских.
В Людвикове его приняли с распростертыми объятиями. Гости, приезжавшие на Рождество, уже разъехались, в усадьбе остались только супруги Чинские, Лешек и Марыся.
Корчинский подробно рассказывал, что ему удалось собрать, и удовлетворенно потирал руки.
– Моя защита становится все сильнее. Вот увидите, когда я вытащу на стены все мои орудия крупного калибра и открою шквальный огонь, от обвинения останутся только развалины да пепел. Ведь этот Косиба – прекрасный врач! Ни одного смертельного случая, зато излеченных им насчитывается несколько десятков, и я представлю их на суде. Из них почти половина не только не платила ему за лечение, но еще и от него получила кое-какую помощь. Так что мотив корысти отпадает полностью. Вот увидите! Но главный упор я собираюсь сделать на его исключительном мастерстве. Поэтому мне пришла в голову одна мысль.
– А именно? – спросил Лешек.
– Все свидетели, а прежде всего ты и твоя очаровательная невеста, должны быть в городе уже накануне заседания суда. Я не знаю, примет ли суд мое предложение о назначении экспертов. Поэтому у меня в запасе имеется нечто столь же действенное, а может, еще и посильнее. Мне пришла в голову мысль о том, чтобы какой-нибудь известный хирург обследовал всех пациентов перед заседанием. Разумеется, это должна быть такая знаменитость, что, когда он предстанет перед судом в качестве свидетеля, вызванного защитой, суд просто вынужден будет признать его мнение надежным и авторитетным. Значит, нам нужно светило хирургии.
Госпожа Чинская кивнула.
– Такой в Польше только один. Профессор Добранецкий из Варшавы.
– Вы угадали! – хлопнул в ладоши адвокат.
– Ну, это было не слишком трудно, – засмеялся господин Чинский. – Я думаю, гораздо труднее будет уговорить Добранецкого приехать.
– Если вопрос в гонораре, – вмешался Лешек, – то я тебя прошу, Вацек, не стесняйся в средствах.
– Ну, гонорар тоже будет немалый, – смеясь, ответил Корчинский, – но у меня имеются и другие способы. Жена Добранецкого – кузина моей жены. Как-нибудь сладится. Должно получиться, потому что я просто обязан выиграть это дело.
Марыся искренне улыбнулась ему.
– Я так благодарна вам за ваши воодушевление и надежду. Вы понятия не имеете, как я привязана к нему, к этому добрейшему на свете человеку, как я его люблю. Вы даже не представляете себе, какое у него сердце.
– Не знаю, но верю вам на слово. А вот сам Косиба поразил меня своим умом. Он говорил как в высшей степени образованный человек, а это, на мой взгляд, совершенно не сочетается ни с его обликом, ни с неоконченной сельской школой, ни с работой на мельнице или знахарской практикой.
– Вот видишь! – воскликнула Марыся, обращаясь к Лешеку.
– Да, да, – признал Лешек. – Представь себе, Вацек, Марыся уже давно обратила на это внимание. А я даже провел один эксперимент, который подтвердил наши предположения.
– И какой же это был эксперимент? – поинтересовался Корчинский.
– В общем-то, довольно наивный. Я начал разговаривать с ним, употребляя много таких слов, какие простой мужик или даже какой-то недоучка знать не может.
– Ну и?..
– Он все понимал. Мало того, как-то он застал Марысю за чтением стихов Мюссе в оригинале. И совершенно правильно прочитал всю строфу.
– Спорить готова, что не только прочитал, но и понял, – добавила Марыся.
Адвокат задумался.
– Да, это, конечно, очень странно… Но ведь изредка встречаются такие самоучки. Это утверждение тоже могло бы мне пригодиться, если б только Косиба решился заговорить.
– Как это?
– Так ведь он упрямо молчит. Отказался давать мне какую-либо информацию. То ли пессимизм им овладел, то ли мизантропия какая-то, просто черт знает что.
– Бедняга, – вздохнула Марыся. – Мы с Лешеком тоже поразились, когда навестили его. Поэтому и не хотели снова надоедать ему. Он встретил нас сурово, почти неприязненно. Впрочем, я и не удивляюсь, ведь он столько пережил…
– Это пройдет, когда он снова окажется на свободе, – уверенно заявил Лешек.
Я сделаю все, что в моих силах, – заверил адвокат.
– Вы так добры! – воскликнула Марыся.
– Я?.. Добрый?.. Да что вы! Тут нет места для доброты. На этом деле я, во-первых, заработаю денег…
– Ну уж, – рассмеялся Лешек, – не надо преувеличивать…
– …а во-вторых, когда я выиграю этот процесс, то завоюю еще бо́льшую популярность, мое имя станет известным и… у меня появится еще больше денег.
– Фу, – возмутилась госпожа Чинская, – вы бы хоть постыдились строить из себя карьериста.
– О, но я же не притворяюсь. Я и есть карьерист. И совсем не отрицаю этого. Даже наоборот. Я этим хвалюсь при каждом удобном случае. Еще будучи студентом, я обещал себе, что сделаю карьеру, и весьма последовательно этим занимаюсь. У нас повсеместно принято смеяться и осуждать карьеристов. Из этого слова сделали оскорбительное прозвище. А между прочим, что это значит – делать карьеру? Прежде всего это стремление полностью использовать достоинства, которыми наделили нас природа, среда, воспитание и образование; это настойчивое желание извлечь всю возможную выгоду из своих способностей, ума, энергии, искусства общения с людьми. Кто не умеет распоряжаться доставшимися ему преимуществами, тот растрачивает их впустую. И тогда он мот и растяпа. Конечно, бывают и нечестные карьеристы, точно так же как бывают нечестные боксеры, использующие в борьбе запрещенные приемы. Но это уже совсем другой разговор. Я, к примеру, гораздо больше доверяю карьеристам, ибо знаю, что они никогда не подведут, потому что у них есть свои амбиции, устремления, воля к достижению лучших результатов как для себя, так и для дела, которому они служат.
Он засмеялся и добавил:
– Если б я был диктатором, то все значительные посты у меня занимали бы только карьеристы.
Старший Чинский только головой покачал.
– Ваши рассуждения кажутся мне слишком упрощенными, господин адвокат.
– Почему же это?
– Потому что желание продвинуться вверх по карьерной лестнице иногда бывает столь сильным, что оно побеждает чувство долга, если оказывается с ним в конфликте.
– Иногда? – подхватил адвокат. – Совершенно согласен с вами. Но разве не больше потерь приносят нам бездарность и леность разных неумех и добровольных отщепенцев?.. Я думаю, что наш народ именно потому и беден, что мы очень подвержены настоящему психозу осуждения всех, кому удалось самостоятельно добиться состояния или высокого положения. Мы уважаем только тех, кто получил это без всякой собственной заслуги и без малейшего усилия, то есть попросту унаследовал.
– Я вижу, вы – сторонник американского культа миллионеров.
– В Америке далеко не все глупо, – улыбнулся Корчинский.
Но тут госпожа Элеонора все-таки прервала их дискуссию, снова вернувшись к делу знахаря. Потом она пригласила гостя к столу, а вечером Корчинский отбыл на станцию.
– Он производит впечатление человека, который никогда не уступает дороги, – высказала свое мнение после его отъезда госпожа Чинская.
– О да, – подтвердил Лешек. – Поэтому я так надеюсь на благополучное окончание этого дела. И полагаю, нам следует поспешить с обновлением того домика в саду, где мы собираемся поселить Косибу.
А в домике и в самом деле уже неделю шел ремонт под весьма старательным присмотром обоих молодых людей, которым даже в голову не приходило, что их труд напрасен и будущее окажется совсем иным, нежели то, что они запланировали.
Глава 19
Небольшой зал апелляционного суда быстро наполнялся публикой весьма странного вида. Кирпичного цвета тулупы мужиков из окрестностей Радолишек смешались с элегантными шубами городских господ. Процесс вызвал большой интерес не только в юридических кругах, где уже давно распространились волнующие слухи о великолепной защите, подготовленной Корчинским, но и в мире медицины, где он стал сенсацией как с точки зрения содержания дела, так и потому, что на процессе в качестве свидетеля должен был выступить профессор Добранецкий, самый выдающийся польский хирург, пользовавшийся повсеместным авторитетом, уважением и славой.
Среди присутствовавших в суде врачей было немало учеников знаменитого профессора, и вся публика с огромным интересом жаждала услышать его мнение о знахарских методах лечения. Если и удивлялись его участию в процессе, то только тому, что профессора вызвали свидетелем защиты, а не обвинения, и поэтому от него ожидали услышать совершенно невероятные вещи.
А по выражению лица адвоката Корчинского можно было судить, что он все так и задумал. Веселый и разговорчивый, в расстегнутой тоге, он, засунув руки в карманы брюк и небрежно присев на край своего стола, болтал с коллегами по адвокатуре. Рядом на том же столе высились стопки актов и записей, в которые он даже не заглядывал. Видимо, он прекрасно проработал весь материал и подробно выстроил линию обороны.
И правда, адвокат был совершенно уверен в себе, особенно со вчерашнего дня. Накануне рано утром он встретил на вокзале профессора Добранецкого и отвез его в одну из частных клиник, где уже собрались давние пациенты знахаря Косибы. Почти весь день, с небольшими только перерывами, профессор осматривал и обследовал их, изучал рентгеновские снимки и диктовал стенографистке свои заключения.
Адвокат Корчинский не упустил из виду ни одной мелочи, которая могла бы помочь выиграть дело. Он сам проследил, чтобы были доставлены все необходимые ему свидетели, основательно изучил все акты по делу и теперь мог спокойно ждать начала заседания.
Ввели обвиняемого, который безучастно занял свое место под охраной полицейского. Внешний вид Антония Косибы весьма резко контрастировал с радостным удовлетворением, которое выражал его адвокат. Он сидел сгорбившись, с опущенной головой и неотрывно смотрел в пол. Его борода поседела еще больше, кожа на лице пожелтела, под глазами виднелись явственные синие круги и мешки. Он даже не оглядел зал, точно не слышал дружеских знакомых голосов, повторявших его фамилию, а может, и в самом деле не слышал, поскольку и на обращенный к нему вопрос защитника никак не отозвался. Только резкий звонок и приказ полицейского, велевшего ему встать, точно разбудили Косибу. Он тяжело поднялся и снова сел, погрузившись в свои мысли.
В этом зале он был единственным человеком, которого совершенно не интересовал ход процесса и его результат.
Точно автомат, ответил он на заданные ему вопросы относительно его личности и снова замер, впав в состояние апатии.
«Если б тут был суд присяжных, – с улыбкой подумал Корчинский, – одного вида этого бедолаги мне хватило бы, чтобы его оправдали».
Между тем начался хоровод свидетелей. Первым свидетельское место занял старший сержант Жёмек. В ответ на искусно составленные вопросы прокурора он вынужден был дать показания, сильно отягчающие вину подсудимого. Косиба признался в краже саквояжа, не вернул ее законному владельцу, спрятал его и хранил несколько недель, а отдал только под угрозой обыска, во время которого украденный предмет был бы обнаружен в любом случае.
Потом выступил со своими вопросами защитник.
– Свидетель, являясь комендантом участка в Радолишках, ответьте, поступали ли к вам от населения какие-либо жалобы на Косибу?
– Нет, никаких.
– А до случая с присвоением хирургических инструментов могли бы вы дать положительную оценку морального облика подсудимого?
– Конечно. Это очень порядочный человек.
– Почему вы не арестовали Косибу после выявления факта кражи?
– Потому что, по-моему, нечего было бояться, что он сбежит. Достаточно было только обязать его дать подписку о невыезде.
– Известно ли свидетелю, что Косиба появился в вашей округе относительно недавно и в течение многих лет часто менял место жительства?
– Да, я это знал.
– И, несмотря на это, вы верили, что он не нарушит обязательства?
– Да. Так я и не ошибся, он ведь не удрал.
– Благодарю. Больше вопросов к вам у меня нет.
Следующим свидетелем был доктор Павлицкий. Поначалу он заявил, что не может ничего добавить к своим прошлым показаниям, но под нажимом прокурора начал с неохотой говорить.
– Я трижды был в помещении, где проживал обвиняемый, – ответил Павлицкий на вопрос.
– С какой целью?
– Сначала я предостерег его против ведения незаконной медицинской практики, потом меня вызвали из-за несчастного случая и, наконец, был там с целью обнаружения украденных у меня хирургических инструментов.
– Какие гигиенические условия обнаружили вы в этом помещении?
– Плачевные. Одежда обвиняемого была засалена, руки очень грязные. На потолке во многих местах виднелась паутина. Я заметил, что горшки, в которых варились травы, покрыты толстым слоем грязи. Судя по всему, в них готовили еду и наверняка никогда не мыли. Пол был буквально завален всяким мусором и рухлядью. Духота стояла такая, что дышать было тяжело.
– Где Косиба проводил свои операции?
– Именно в этом помещении.
– В таких условиях при более сложных операциях может ли грозить пациенту заражение?
– Разумеется, причем даже не только при сложных операциях. В каждой, даже самой крошечной ранке, если туда попадет грязь, пыль или что-то подобное, может развиться заражение или столбняк.
– Как ответил обвиняемый на ваши предупреждения?
– Он полностью их проигнорировал.
– Видели ли вы те хирургические инструменты, которые знахарь использовал во время операций?
– Видел, но это были не хирургические инструменты. Я видел обычные слесарные молотки, долота, клещи и тому подобное. А также обычный кухонный нож и садовую пилу.
– В каком состоянии были эти инструменты?
– На некоторых виднелась ржавчина. На одном зубиле я заметил следы старой засохшей крови. От них пахло керосином или бензином, которые обвиняемый, вероятно, использовал в качестве дезинфицирующего средства.
– Обладают ли керосин и бензин дезинфицирующими свойствами?
– Да, но в очень небольшой степени.
– Много ли знахарей имеется в районе Радолишек?
– В ближайшей округе с полтора десятка. А во всем уезде их несколько десятков. Это сущее бедствие.
– Чем вы, господин доктор, объясняете этот факт?
– Человеческим невежеством, темнотой.
– Велика ли смертность среди этих людей?
– Очень велика.
– Вас вызывали когда-нибудь к людям, чья смерть наступила в результате знахарских процедур?
– Довольно часто. В актах дела имеется копия моей докладной записки властям, где я указал точные цифры. Я лично отметил семьдесят два случая в течение двух лет. Во всем уезде, согласно данным всех врачей, лечение знахарей вызвало смерть более двухсот человек.
Теперь к свидетелю приступил защитник.
– Господин доктор, вы только что сказали, что вас довольно часто вызывали к жертвам знахарского лечения.
– Именно так.
– Сколько раз вы имели дело с жертвами Антония Косибы?
– Не припоминаю.
– Ах так. Может быть, вы тогда припомните хотя бы один случай такого рода?
– Нет.
– Как странно. Косиба лечил в непосредственной близости от Радолишек, оказывал помощь в безнадежных санитарных условиях, для операций использовал самые примитивные инструменты, и, несмотря на это, господин доктор не слышал о случаях смерти по его вине?.. А может, все-таки слышали?
– Нет, – после минутного размышления ответил Павлицкий.
– И чем это объяснить? У Косибы было мало пациентов?
– Я не считал его пациентов.
– Вы ошибаетесь, доктор. Ваши показания в первой инстанции подтверждают, что вы как раз считали. Я прошу уважаемый суд разрешить зачитать этот фрагмент показаний свидетеля. Том второй, страница тридцать третья, абзац первый.
Председатель суда поморщился.
– Это не имеет значения для дела.
– Я только хочу подтвердить, что у господина Косибы бывало до двадцати пациентов в день, согласно подсчетам свидетеля доктора Павлицкого.
Указанный абзац был зачитан, потом защитник снова обратился к свидетелю:
– Отвечая на вопрос прокурора, вы показали, что трижды бывали в жилище Косибы, в том числе один раз по вызову?
– Верно.
– Зачем вас вызвали?
– После аварии мотоцикла у него было двое тяжелораненых.
– Кто вас вызвал?
– Некий Войдылло, который, как я позднее узнал, и был виновником аварии.
– А кто ему велел вас вызвать?
– Мне кажется, Косиба велел.
– А не припомните ли вы, как Косиба объяснил вам причину вызова?
– Конечно, помню. Было двое серьезно пострадавших в аварии, и он сказал, что сам не справится.
– Просил ли он вас спасти пострадавшую девушку?
– Да, но я посчитал ее состояние безнадежным. И сделал только укол, чтобы поддержать сердце.
– А Косиба просил у вас разрешения воспользоваться вашими хирургическими инструментами, чтобы прооперировать раненую?
– Да, но ни один врач на моем месте не исполнил бы такой просьбы.
– То есть вы хотите сказать, что ни один врач не захотел бы оперировать умирающую девушку только потому, что поверхностный осмотр дал ему основание предполагать, что операция не спасет пострадавшую?
Доктор Павлицкий покраснел.
– Вы не имеете права меня оскорблять!
– Я отклоняю этот вопрос, – сказал председательствующий.
Адвокат кивнул.
– Что заставило вас думать, будто состояние раненой безнадежно?
– Это же был перелом основания черепа с вдавливанием костей внутрь! Пульс почти полностью прекратился.
– А вам известно, доктор, что знахарь Косиба провел операцию и спас пациентку?
– Известно.
– Как это можно объяснить?
Врач пожал плечами.
– Это самый поразительный случай в моей практике. Я думаю, что это произошло только благодаря совершенно исключительной случайности.
– Когда вы приехали на мельницу, знахарь сообщил поставленный им диагноз?
– Да.
– Он совпадал с вашим?
– Да.
– А не кажется ли вам, господин доктор, что Антоний Косиба, поставив правильный диагноз и успешно проведя эту крайне рискованную операцию, продемонстрировал выдающийся хирургический талант?
Врач колебался, не решаясь ответить, но после паузы все же сказал:
– Совершенно верно. Я должен честно признать, что во многих случаях меня это удивляло и заставляло задуматься.
– Благодарю. Больше вопросов к свидетелю не имею. – Адвокат удовлетворенно кивнул и с улыбкой посмотрел на прокурора.
Дальше были зачитаны показания нескольких свидетелей обвинения, участвовавших в прошлом заседания суда, а потом один за другим стали выходить свидетели, вызванные защитой. Показания дали старый мельник, его сын Василий, супруги Чинские, наконец, целый ряд бывших пациентов Антония Косибы.
Все показания звучали почти одинаково: я был болен, мне грозило увечье, а он меня спас, об оплате даже не заикался. А некоторые заявили, что знахарь, про бескорыстие которого известно всей округе, еще и дал им кое-что. Это подтвердил и господин Чинский, от которого Косиба не принял ста злотых, хотя для него это должна была быть значительная сумма и он вполне заслужил ее.
Очень трогательными были показания Прокопа Мукомола, который закончил их словами:
– Сам Господь привел его в мой дом и оказал тем великую милость и мне, грешному, и моей семье, и соседям. А что пришел от Бога, а не от злого духа, то свидетельство этому его трудолюбие, потому как он никогда не отлынивал от работы, которая Богу угодна. После того как Антоний поставил моего сына на ноги, он бы мог потребовать от меня что угодно, мог вообще на печи сидеть и бездельничать, только есть да спать. Однако он не такой. В каждой работе был первым – и в черной, и в той, где смекалкой взять можно. И так до самого конца, до суда то есть. А ведь человек он немолодой. Поэтому мы и просим уважаемый суд освободить его во славу Господа и людям на пользу.
Седая голова старика склонилась в низком поклоне, прокурор нахмурился, а все присутствующие посмотрели на обвиняемого.
Но Антоний Косиба по-прежнему сидел безучастный, с опущенной головой. Он не слышал ни ловких вопросов прокурора, ни контрнаступления защитника, ни показаний свидетелей. Только на минутку пробудил его к жизни тихий дрожащий голосок Марыси. Тогда он поднял глаза и беззвучно пошевелил губами, чтобы тут же снова впасть в апатию.
«Ничего у меня не осталось, – думал он, – ничего меня не ждет…»
А тем временем на свидетельскую трибуну встал самый важный свидетель, чьим показаниям адвокат Корчинский придавал наибольшее значение. Впрочем, не только он один, но и судьи, и публика с одинаковым нетерпением ожидали его появления. Взять слово собирался великолепный хирург, светило науки и лицо номер один в польской медицине, самая значительная персона, как бы там ни было, представитель всего медицинского сообщества, официальный представитель его, председатель и попечитель.
Кто не знал его лично и никогда не видел, именно так и должен был представлять себе профессора Добранецкого. Высокий мужчина в расцвете лет, несколько полноватый, с красивым орлиным профилем и высоким лбом. От каждого его жеста, от самого звучания голоса, от сосредоточенного и внимательного взгляда так и веяло той уверенностью в себе, которую дает только сознание собственной значимости, причем значимости, всеми признанной и подкрепленной высоким положением в обществе.
– Несколько человек обратились ко мне как к хирургу, – начал он, – с просьбой обследовать состояние их здоровья. В свое время все они перенесли весьма серьезные травмы или заболевания, а потом были подвергнуты хирургическому лечению, которое проводил знахарь по фамилии Косиба. Аускультация[19] и снимки, сделанные с помощью аппарата Рентгена показали, что происходит…
Тут профессор стал перечислять по очереди фамилии только что опрошенных свидетелей и описание повреждений, которые у них имелись, присовокупляя оценку их опасности для здоровья, а также оценку проведенных операций и результатов лечения. Щедро посыпались латинские названия, медицинские термины, профессиональные обозначения.
– Подводя итог всему вышесказанному, – закончил профессор, – я должен констатировать, что во всех случаях операции были проведены совершенно правильно, с глубоким знанием анатомии и предотвратили смерть или неминуемое увечье больных.
Председатель суда кивнул.
– А чем вы, господин профессор, можете объяснить тот факт, что человек без всякого образования сумел выполнить столь рискованные операции с благоприятным результатом?
– Я и сам задавал себе этот вопрос, – ответил профессор Добранецкий. – Видите ли, хирургия по природе своей является совокупностью эмпирических знаний, она опирается на опыт и наблюдения тысяч поколений. Операции начали делать еще в древности, во времена доисторические. Археологи обнаруживали в раскопках слоев, относившихся к бронзовому и даже каменному веку, такие находки, которые позволяют утверждать, что еще в те времена умели складывать сломанные кости, проводить ампутацию конечностей и тому подобное. И я полагаю, что среди деревенских жителей, хорошо знакомых с анатомией домашних животных, иногда появляются исключительно умные и наблюдательные люди, которые со временем могут научиться помогать окружающим, постепенно набираясь опыта, которого хватает на лечение мелких и менее сложных случаев.
– Однако же в данном случае, – вступил председательствующий суда, – вы сами, господин профессор, охарактеризовали большинство заболеваний и травм как сложные и опасные для жизни.
– Совершенно верно. Потому и признаюсь, что был крайне удивлен. Этот знахарь должен обладать не только опытом, но и совершенно феноменальным талантом…
Добранецкий задумался и добавил:
– И интуицией… Да, хирургической интуицией, которая встречается крайне редко. Я лично знавал когда-то только одного хирурга с такими уверенными руками и с такой же интуицией.
– А что означает это определение – «уверенные руки»?
– Уверенные руки – это прежде всего точность разреза.
– Благодарю, – сказал председательствующий суда. – Есть ли у сторон какие-то вопросы?
Прокурор отрицательно покачал головой, а вот адвокат Корчинский отозвался:
– У меня есть. Удалось ли вам обнаружить следы заражения у кого-либо из обследованных вами пациентов Косибы?
– Нет.
– Благодарю. Больше вопросов нет.
Профессор поклонился и сел в первом ряду рядом с супругами Чинскими. И только теперь впервые он посмотрел на скамью подсудимых. И увидел там плечистого, исхудавшего бородача, выглядевшего лет на шестьдесят или около того.
«Вот, значит, каков этот знахарь», – подумал Добранецкий. Он уже хотел было отвернуться, но тут его внимание привлекло странное поведение обвиняемого.
Антоний Косиба смотрел на него в упор очень пристальным и одновременно как будто отсутствующим взглядом.
На его губах появилась непонятная улыбка, неуверенная и словно бы вопросительная.
«Какой странный тип», – мысленно решил профессор и отвернулся. Но через какое-то время он снова невольно посмотрел на знахаря. Выражение его исхудавшего лица не изменилось, а глаза буквально не отрывались от профессора.
Добранецкий нервно поерзал на стуле и стал приглядываться к прокурору, который как раз начал свою речь. Говорил он довольно монотонно, возможно, это и лишало убедительности его аргументы и короткие деловые фразы, бесстрастные, но безошибочно логичные.
Прокурор заявил, что люди, руководствующиеся чувствами, могут посчитать приговор первой инстанции слишком суровым. Он также отметил, что обвиняемый Косиба не принадлежит к числу худших представителей вездесущего племени шарлатанов. Признавал прокурор и то, что к совершению противозаконных действий его могли подтолкнуть весьма благородные побуждения.
– Но мы тут не представители милосердия, – продолжал прокурор. – Мы – представители закона. И нам нельзя забывать, что обвиняемый его нарушал…
Профессор Добранецкий старался сосредоточиться на выводах прокурора, но ему не давало покоя невыносимое ощущение: он почти физически ощущал на своем затылке взгляд этого Косибы.
«Чего он хочет от меня? – злился он в глубине души. – Если он таким образом выражает благодарность за мои показания…»
– …Безусловно, в деле имеются и смягчающие вину обстоятельства, – продолжал обвинитель. – Но мы не можем себе позволить игнорировать факты. Кража остается кражей. А укрывание краденого…
Нет. В таких условиях совершенно невозможно сосредоточиться. Взгляд этого человека явно обладал каким-то магнетическим свойством. Добранецкий чуть не со злостью повернулся к нему и поразился: знахарь сидел, опустив голову. Перед ним на барьерчике бессильно лежали его крупные руки.
И вдруг у профессора появилось совершенно нелепое предположение: «Я уже когда-то видел этого человека».
Память его заработала. Профессор верил в свою память. Она еще никогда его не подводила. Вот и теперь, спустя некоторое время, он пришел к выводу, что его просто ненадолго обмануло какое-нибудь мимолетное сходство. Возможно, с каким-то пациентом, которого он лечил много лет назад… А впрочем, у него не было времени слишком долго раздумывать на эту тему, потому что как раз поднялся адвокат Корчинский и зазвучал, электризуя публику, его баритон с металлическими нотками:
– Уважаемый суд! Только по велению слепой судьбы и по недоразумению вот этот человек оказался в зале суда перед трибуналом. Не здесь его место и не этому ареопагу[20] следовало бы оценивать его деяния. Антоний Косиба должен в эту минуту находиться в аудитории нашего университета, должен предстать перед академическим сенатом и ожидать не приговора, а вручения ему диплома доктора хонорис кауза[21] медицинского факультета.
О нет, уважаемые господа судьи, это не вымыслы моей фантазии! Я не ораторских эффектов добиваюсь. И уж точно не стремлюсь к невозможному. И если сегодня немыслимо даже подумать о том, чтобы присвоить знахарю звание доктора, то это только потому, что в нашем законодательстве имеются пробелы. И оно с разной меркой подходит к одинаково ответственным профессиям. Уважаемый суд! Мы не можем согласиться с тем, чтобы человеческая жизнь оказалась в руках врача, чьи знания и искусство не обеспечены законченным курсом медицины. Зато мы без колебаний доверяем эту жизнь инженеру, который строит машины или мосты. А ведь профессию инженера и связанные с ней права может получить любой человек, даже если он не учился в политехническом институте, но своей работой докажет, что обладает достаточным объемом знаний, необходимых для работы в этой области. Должен ли я тут приводить всем известные имена тех ученых, которые делятся своими знаниями с тысячами студентов польских политехнических институтов, а сами не могут похвастаться даже свидетельством об окончании общей школы?
К сожалению, законодатель не предусмотрел такой же возможности для профессии врача. Если бы было наоборот, то стенограммы сегодняшнего процесса оказалось бы достаточно, чтобы Антоний Косиба получил докторскую степень. Неужели можно предоставить лучшие, более убедительные доказательства его знания и мастерства, чем те, которые были собраны в ходе судебного разбирательства, чем показания свидетелей, которые появились тут скорее в качестве вещественных доказательств, живых документов, подтверждающих врачебные способности обвиняемого?
Они пришли сюда, точно воскресшие Лазари, которым он сказал: «Встаньте!..» Пришли засвидетельствовать правду, пришли указать пальцем на своего благодетеля и воскликнуть: «Вот он! Мы были калеками, а он нам ходить позволил, мы были больны, а он нас излечил, мы стояли уже над могилой, а он велел нам жить!»
Однако же господин прокурор видит грех и вину в том, что Антоний Косиба, не имея диплома, осмелился спасать ближних своих. А если бы он прыгнул в воду, чтобы спасти утопающего, ему тоже надо было бы предъявить свидетельство об окончании школы плавания?..
Я не демагог и менее всего хотел бы тут выступать в защиту знахарства. Но тем резче я буду протестовать против уловок, которые использует обвинение. А именно: тут сопрягают якобы случайно две правды. Первая состоит в том, что Антоний Косиба – знахарь, а другая – что знахари – это шарлатаны, которые используют богатый арсенал приемов и уловок, заклинаний, заговоров, очищения от порчи и прочей чуши. Но позвольте же! Именно в этом сопоставлении и кроется зло, поскольку нам известно из материалов судебного разбирательства, что обвиняемый никогда, ни в одном случае, не использовал такого рода обман и фокусы.
В ходе того же разбирательства окончательно было снято обвинение в том, что Антоний Косиба действовал по корыстным соображениям. И ежели в его действиях обвинительный акт все-таки находит преступление, то единственный мотив этого преступления растаял, точно туман, и теперь реальной причиной мы могли бы назвать только манию. Именно так, уважаемый суд! Этот человек – маньяк. Им овладела мания помощи страдающим людям, причем совершенно бескорыстной помощи, ба, даже более того! Ведь он делал это, рискуя собственной свободой, рискуя навсегда запятнать себя званием преступника, предпочитая жесткую тюремную койку своей постели, и заплатил тем, что оказался на этой позорной скамье.
Я не стану долго останавливаться на вопросе, был ли Антоний Косиба хорошим врачом. Вместо меня здесь об этом говорили свидетели, а прежде всего говорил и светоч нашей хирургии, чье мнение может служить самым ценным аттестатом. Не буду я использовать и столь легкую возможность подчеркнуть, что врач Павлицкий, как он сам признался, не имел ни одного случая, когда бы к нему обратился с просьбой о помощи пациент этого знахаря, а вот сам знахарь спас от тяжелого увечья и от смерти двух человек, попавших в аварию. Причем дипломированный специалист покинул умирающую девушку, ибо оказался бессилен помочь ей.
Я хочу сказать, господа судьи, о самой большой вине Антония Косибы, о том, что обвинение выдвинуло на первый план, а именно об антисанитарных условиях, которые были в том помещении, где он проводил свои операции. Так вот, я был в том помещении и должен признать, что свидетели, вызванные господином прокурором, еще очень мягко охарактеризовали антисанитарное состояние этого жилища. Вот только они забыли уточнить, что в окнах полно щелей, через которые дует ветер, что в покоробленном полу множество трещин, откуда тянет влажностью, что потолок протекает, печь дымит и что в этой комнате не только много грязи, пыли и паутины, но еще и тараканы водятся!.. Видел я и инструменты, с помощью которых Косиба проводил операции. Это старые, изношенные и заржавевшие железяки, зазубренные и покривившиеся, перевязанные проволокой и веревками. И вот в таком помещении и такими инструментами Косиба оперировал людей.
Но, милостью Божьей… ведь ни один из прооперированных не умер? Даже заражения не было ни у одного!
Я тут в зале вижу несколько выдающихся и опытных врачей и спрашиваю их: это заслуга Косибы или его вина?! Я спрашиваю их: то, что человек в таких жутких условиях сделал столько опасных, но удачно закончившихся операций, свидетельствует за него или против?! Неужели за это, именно за это он должен получить четыре тюремных стены или он все-таки достоин операционной из фарфора и стекла?!
По залу прошел громкий шум, а когда все стихло, адвокат Корчинский продолжил:
– И еще одно обвинение предъявлено было этому старцу, в жизни которого до сих пор не было ни единого пятна, человеку, которому без колебаний доверяла даже подозрительная обычно полиция: он совершил кражу. Да. Его соблазнил блеск точных сияющих хирургических инструментов, и он их украл. Правда, поначалу он попытался уговорить хозяина дать эти инструменты ему на время, а уж когда получил категорический отказ, украл их. А для чего он сделал это?.. Что толкнуло этого честного человека на преступление?.. При каких обстоятельствах и по какой причине он посягнул на чужую собственность?..
Оказывается, в это самое время в той самой комнате умирала на столе молодая девушка, только-только расцветшая жизнь погружалась в бездну смерти, а он, Антоний Косиба, знал, чувствовал, понимал, что без этих блестящих инструментов он не сможет оказать ей действенную помощь. Я спрашиваю вас: как должен был поступить Антоний Косиба?..
Пылающим взором адвокат обвел зал.
– Как он должен был поступить?! – воскликнул он. – Как поступил бы каждый из нас на его месте?! И на это есть только один ответ: каждый из нас сделал бы то же самое, что и Антоний Косиба, каждый из нас украл бы эти инструменты! Каждому из нас совесть подсказала бы, что это его долг, моральный долг!
Он ударил кулаком по столу и, возбужденный, умолк на мгновение.
– В давние времена в Австрии, – продолжил он, – существовал один необыкновенный военный орден. Его давали за странные поступки: за неподчинение приказу, за нарушение дисциплины, за бунт против субординации. Это был один из высших и реже всего присуждаемых орденов, но считался он самой почетной наградой. Если б польские суды имели право не только наказывать, но и награждать людей, именно такой орден за нарушение закона должен был бы украшать грудь Антония Косибы, когда он выйдет из этого зала.
Но поскольку такой награды, к сожалению, у нас не существует, пусть ему послужит наградой то, что каждый честный человек будет считать для себя честью пожать его натруженную испачканную руку, самую чистую руку на свете.
Корчинский поклонился и сел.
Профессор Добранецкий не без удивления заметил явно выраженное волнение на его лице с полуприкрытыми глазами. Впрочем, профессор и сам был тронут, как и вся публика. Один из судей раз за разом легко потирал согнутым пальцем уголки губ. Другой не поднимал глаз от бумаг.
Казалось, оправдательный приговор был предрешен, тем более что прокурор отказался от ответной реплики.
– Обвиняемому предоставляется право голоса, – сказал председательствующий суда.
Антоний Косиба не пошевелился.
– Вы имеете право произнести последнее слово. – Адвокат Корчинский коснулся его локтя.
– Мне нечего… нечего сказать. Мне все равно, – произнес поднявший со своего места знахарь. И сел.
Если бы кто-то в этот момент посмотрел на профессора Добранецкого, он, безусловно, был бы крайне удивлен. Профессор внезапно побледнел, сделал такое движение, точно хотел вскочить со стула, и открыл рот…
Но никто этого не заметил. Все как раз вставали со своих мест, потому что судьи удалялись на совещание. После того как они вышли, шум громких разговоров наполнил зал, многие окружили Корчинского, поздравляя с великолепно проведенной защитой. Кое-кто вышел в коридор, чтобы покурить.
Профессор Добранецкий тоже направился туда. У него дрожали руки, когда он доставал портсигар. Он отыскал пустую скамейку в отдаленном углу и тяжело опустился на нее.
Да. Теперь-то он узнал его наверняка: знахарь Антоний Косиба был когда-то… профессором Рафалом Вильчуром.
«Этот голос!..»
О, он никогда не мог забыть этот голос. Ведь он годами вслушивался в его звучание. Сначала – будучи студентом медицинского факультета, потом – ассистентом и, наконец, начинающим врачом, которого взял под крыло великий ученый… Как же он мог не узнать этих черт сразу! Как мог не разглядеть их под седоватой щетиной?
Вот это да! Каким же глупцом он был раньше, когда еще не видел Антония Косибы, когда только изумленно разглядывал послеоперационные шрамы на его пациентах! И никак не мог взять в толк, как деревенский знахарь сумел столь гениально провести сложнейшие операции, которые даже его, профессора Добранецкого, заставили бы сомневаться в своих силах.
Он обязан был сразу узнать руку учителя! «Какой же я глупец!»
А ведь были у него и другие подсказки. Среди обследованных больных находилась и та девушка, у которой был вдавленный перелом основания черепа. Добранецкого, правда, заставила задуматься ее фамилия: Вильчур, но он так торопился, что даже не подумал расспросить девушку. Да и фамилия эта встречалась довольно часто, у него самого было несколько пациентов по фамилии Вильчур. Но все-таки следовало задуматься. И возраст этой Вильчур, кажется, вполне соответствует возрасту дочки профессора Вильчура… Когда она вместе с матерью исчезла из Варшавы, ей было… лет семь. Да, теперь понятно…
«Это не могло быть случайностью! Знахарь Косиба… и она…»
Профессор отшвырнул незажженную папиросу и отер лоб. Он был влажен.
«Так, значит, он не умер и его не убили! Укрылся тут, на окраине, под видом мужика и под чужой фамилией, укрылся вместе с дочерью, только вот почему он не изменил и ее фамилии?.. Почему отец с дочерью притворяются чужими друг другу людьми?»
Теперь он вспомнил, что ему сказала та девица во время обследования: «Дядюшка Антоний так заботился обо мне, что даже от настоящего, родного дяди такого нельзя было бы ждать».
Зачем вся эта комедия?.. Ну и еще ее отец! Достаточно было бы, чтобы он встал и сказал: «Я имею полное право оперировать и лечить. Я не знахарь Косиба. Я – профессор Рафал Вильчур».
И его сразу освободили бы.
«Тогда чего ради он так судорожно держится за свою фальшивую шкуру? Он мог бы открыть свое настоящее имя еще во время суда первой инстанции, но предпочел получить обвинительный приговор, обрекший его на три года тюрьмы».
Если бы профессор Добранецкий не знал так хорошо своего давнего шефа и учителя, то, может, и предположил бы, что Вильчур совершил какое-то преступление или злоупотребление и потому решил скрыться. Но теперь он только пожал бы плечами, если бы кто-то подсказал ему такую мысль.
Нет, тут должна крыться какая-то более глубокая тайна.
Как наяву пробудились в его памяти былые дни, первые дни после исчезновения профессора. Неужели мнимый побег госпожи Беаты с дочкой и позднейшее исчезновение профессора Рафала были только хорошо разыгранной комедией?.. Но каковы были ее причины? Они оставили все свое состояние, свое положение в обществе, его славу – все. И бежали, но почему, с какой целью?
Позитивно мыслящий Добранецкий не выносил никаких объяснений, если их не обосновывали какие-либо логические предпосылки или нормальные побудительные человеческие причины.
Но сейчас у него не было времени на разгадывание загадок. Приговор должны были вот-вот объявить. Разумеется, скорее всего, он будет оправдательный, но ведь может случиться и обвинительный.
«Мой долг – немедленно поставить в известность адвоката и потребовать возобновления процесса, чтобы объявить, кого я узнал в знахаре Косибе».
Добранецкий прикусил губу и повторил:
– Да, это мой долг.
Но однако ж не двинулся с места. Слишком быстро проносились в его голове мысли, слишком внезапно начали громоздиться в воображении последствия такого заявления.
Перед тем как принять решение, нужно трезво и тщательно все разобрать, проанализировать, разложить по полочкам… Ну и предусмотреть, чем это может закончиться. Он не умел и не любил действовать вслепую, под воздействием первого побуждения.
– Прежде всего следует взять себя в руки, – пробормотал Добранецкий с такими интонациями, которые употреблял, чтобы успокоить нервных пациентов.
Он вынул папиросу, тщательно раскурил ее и решил, что табак пересох. Кстати, сегодня он выкурил меньше папирос, чем обычно, так что вполне мог бы ограничиться двадцатью штуками в день. Эти простые действия и сопровождавшие их соображения помогли ему обрести внутреннее равновесие, и последствия этого не замедлили проявиться, а именно: он припомнил одну подробность, причем невероятно важную, мелочь, которую до сих пор не принимал в расчет, а между тем она полностью изменяла ситуацию. Ведь знахарь Косиба во время процесса ему улыбался, он совершенно откровенно улыбался профессору!
«Он приглядывался ко мне, как к кому-то хорошо знакомому, кого никак не можешь распознать. И даже не старался скрыть, что пытается узнать, кто я!.. Что это может означать?»
А означать это могло только одно: профессор Вильчур не боялся, что его настоящая личность будет раскрыта под маской знахаря. Профессор Вильчур не боялся! Тогда почему он не прервал процесс, просто заявив, что он – профессор Вильчур? И на это может быть только один ответ: он сам не знает, кто он…
И, сделав такое открытие, Добранецкий вне себя вскочил с места.
«Амнезия. Утрата памяти. Боже! Он столько лет скитался по стране… Опустился до уровня простого поденщика… Потеря памяти…»
Профессор Добранецкий прекрасно знал, что необходимо сделать, чтобы вылечить несчастного. Достаточно просто сказать ему, кто он, напомнить несколько подробностей из его прошлой жизни, показать какой-то знакомый предмет.
Разумеется, вследствие такого обретения памяти может произойти серьезное психическое потрясение. И хотя такая встряска наверняка окажет на него очень сильное воздействие, опасной для здоровья она не будет.
Через пару часов или через несколько дней Вильчур полностью придет в себя и вспомнит все.
«И что тогда?..»
Перед глазами Добранецкого явственно нарисовалась вся цепочка неизбежных последствий. Итак, прежде всего известие об этой трагедии и ее счастливом разрешении разнесется по всей стране. Профессор Вильчур вернется в столицу. Вернется на свою виллу, на свои должности, на свое выдающееся положение в медицинском мире. Причем вернется еще более знаменитый, любимый, славный, потому что вдобавок будет окружен ореолом пережитых несправедливостей, испытанных им несчастий и унижений, ореолом знахаря-чудотворца, который умудрился быть гениальным хирургом без операционного зала, без штаба ассистентов, даже без нормальных инструментов…
«Он вернется, а что тогда станет со мной?..»
И у профессора Добранецкого появился во рту привкус горечи. Что с ним будет?.. С ним, человеком, который полтора десятка лет ценой тяжких усилий и труда карабкался на вершину, добыл первенство, достиг наивысшего положения?..
Несомненно, все с восторгом и рукоплесканиями воспримут его открытие. Он переживет еще один день триумфа. Но что будет потом?..
Силой обстоятельств его отодвинут на второй план, он окажется в тени величия Вильчура… Правда, кафедру у него не отберут, но под воздействием общественного мнения он будет вынужден уступить ее Вильчуру добровольно. А потом и управление больницей… директорский кабинет… Пропали все его новшества, которые он внедрял годами… А председательство в разных товариществах и союзах…
Да, войти туда, в судебный зал, и громко объявить, что этот знахарь – профессор Рафал Вильчур, означает отказаться от всех собственных достижений и завоеваний, от собственных должностей. Перечеркнуть самый славный период своей карьеры и добровольно отречься от всего, что он так полюбил…
И еще одно. В написанной им биографии профессора Вильчура был один небольшой эпизод, который Добранецкий за столько лет так и не смог забыть и которого не мог себе простить, считая его возмутительным проявлением тщеславия. Описывая случай в университетской клинике, он солгал, приписав себе заслугу некоего смелого, но оказавшегося верным диагноза. И теперь еще он краснел, когда вспоминал о том давнем вранье, глупом и ненужном.
А обман этот, пусть мелкий и, в общем-то, малозначительный, разоблачить мог только один человек – профессор Вильчур.
Он мог его разоблачить… но только в том случае, если Вильчур снова обретет память…
Руки и ноги профессора Добранецкого заледенели, в висках бешено пульсировала кровь.
«Как поступить?..»
Совершит ли он подлость, если ничего не скажет?.. Будет ли трагедией для Вильчура остаться в том положении, в каком он жил до сих пор, ведь он должен был уже привыкнуть к нему, разве нет?..
«Это же просто совпадение, что Корчинский именно меня вызвал свидетелем! И я, тысяча чертей, совершенно случайно согласился! Если б не это… Антоний Косиба до смерти остался бы Антонием Косибой и вовсе не чувствовал бы себя пострадавшим».
Вот именно! Это и должно стать истинным мерилом и проверкой справедливости. Если кто-то не знает, что с ним поступают несправедливо, то и нет никакой несправедливости. Вильчур не осознаёт, что был кем-то другим, и считает свою судьбу вполне естественной и закономерной. Нет счастья без его осознания, как нет и несчастья…
В коридорах раздался резкий звук звонка.
– Прошу встать! Суд идет! – донесся из зала голос секретаря суда.
Добранецкий услышал, но не сдвинулся с места. В зале читали приговор.
«А что будет, если его осудят?» – пронеслась в его воспаленном мозгу мучительная мысль.
Он сжал кулаки.
«Нет, этого не может быть, его не осудят», – твердил он себе.
Вскоре из зала донесся рокот голосов, шум отодвигаемых стульев и какие-то крики. Двери открылись. Публика выплеснулась в коридор.
По выражениям лиц этих людей нетрудно было понять, что приговор был оправдательный. Добранецкий с облегчением вздохнул. Ему показалось, что весь груз ответственности спал с его сердца.
Публика из зала проходила мимо него, громко разговаривая и жестикулируя. Мужики в кирпичного цвета тулупах, врачи, адвокаты, мельник с сыном, супруги Чинские. Последним в окружении самой большой группы людей шел знахарь Косиба со своим адвокатом, молодым Чинским и его невестой.
Адвокат Корчинский остановил всех рядом с профессором Добранецким. Что-то весело ему говорил, за что-то благодарил.
Профессор старался улыбаться, жал им руки, но глаз не поднимал. Лишь на секунду, когда он все-таки решился их поднять, он встретился взглядом с Антонием Косибой. И лишь огромным усилием воли ему удалось удержаться, чтобы не вскрикнуть. Взгляд Косибы был тревожным, назойливым и в то же время отсутствующим.
Наконец все ушли, и Добранецкий, совершенно измотанный, опустился на лавку.
Ночь он провел тяжелую. Ни на мгновение не удалось ему забыться сном, все время он ворочался с боку на бок. Благодарный Корчинский заказал ему лучшие апартаменты в лучшей гостинице города. Тут было тихо и удобно. Но заснуть профессор так и не смог. Уже под утро, измученный бессонницей, он нажал кнопку звонка и приказал подать крепкий чай и коньяк.
Только выпив почти всю бутылку, Добранецкий добился желаемого результата: к нему наконец-то пришел сон. Проснулся он поздно и с головной болью. Ему принесли телеграммы из Варшавы. В одной ассистент из больницы напоминал о назначенной на завтра конференции в Закопане, где профессор должен был председательствовать, другую послала жена. Она торопила его с возвращением.
– Приходили еще господа, несколько человек, – сообщил гостиничный слуга. – Спрашивали, когда господин профессор сможет их принять.
– Я никого не приму. Я нездоров. Будьте любезны, так им всем и передайте.
– Хорошо, господин профессор. А что передать адвокату Корчинскому?
– Я же сказал: всем.
Он поднялся с постели только поздним вечером. Следовало собрать чемоданы и ехать в Варшаву. Но состояние, в котором он находился, не позволяло ему сделать даже малейшее усилие. Несколько часов Добранецкий бесцельно бродил по городу, потом купил все ежедневные газеты и вернулся в гостиницу. В газетах он нашел пространные описания процесса и подробное изложение всех оснований оправдательного приговора.
«Итак, все в порядке, – успокаивал он себя. – Я просто слишком болезненно на это реагирую. Надо взять себя в руки».
Но такое решение мало помогло ему. Когда профессор стал укладывать вещи, им вновь овладели уныние и раздражение, и он велел принести в номер коньяк. Несмотря на это, он опять провел почти бессонную ночь.
Рано утром профессор встал с готовым решением. Вышел из гостиницы, не позавтракав, сел в первое попавшееся такси и дал адрес Корчинского.
Адвоката он застал еще в шлафроке.
– День добрый, дорогой профессор, – приветствовал его адвокат. – Я был у вас вчера два раза, но мне сказали, что вы нездоровы…
– Да, да… Господин адвокат, мы можем поговорить наедине?
– Ну конечно же! Прошу вас! – Корчинский встал и закрыл дверь кабинета. – В чем дело, господин профессор?
– Как фамилия той девушки?.. Невесты Чинского?
– Вильчур.
– Ее зовут Мария Иоланта?
– Я точно знаю, что Мария, а какое у нее второе имя, сейчас проверим.
Он вынул из ящика папку с бумагами. Недолго рылся в них, наконец нашел.
– Да. Мария Иоланта Вильчур, дочь Рафала и Беаты, из дома Гонтыньских.
Он поднял глаза от бумаг и посмотрел на профессора. Побледневший Добранецкий сидел, прикрыв глаза.
– Господин адвокат, – точно через силу произнес профессор, – я должен сообщить вам, что она… что она является… что она его дочь.
– Чья дочь? – удивился адвокат.
– Дочь Антония Косибы.
– Не понимаю, господин профессор.
– Неужели Косиба не знал этого?.. И она тоже не знала?..
Корчинский недоверчиво посмотрел на Добранецкого.
– Господин профессор, – начал он, – это какое-то недоразумение, Косиба и в самом деле заботился об этой девушке, а она испытывает к нему очень теплые чувства, но заверяю вас, никакой родственной связи тут быть не может…
Добранецкий покачал головой.
– А я заверяю вас, что это отец и дочь. Антоний Косиба на самом деле носит имя… Рафал Вильчур.
Он выдавил из себя эти слова и, тяжело дыша, умолк.
– Как это?
Профессор долго молчал.
– Да, – заговорил он, точно обращаясь к самому себе. – Я его узнал. Я не могу ошибиться, и я не ошибся. Этот знахарь – профессор Вильчур, который пропал тринадцать лет назад…
Добранецкий вдруг поднялся.
– Где он? Проводите меня к нему.
Адвокат испугался, что с Добранецким случился какой-то нервный припадок.
– Да сядьте же, дорогой профессор, – мягко произнес он, – мне кажется, тут произошла какая-то ошибка.
– Никакой ошибки. Это и есть Вильчур. Вы слышали о знаменитом варшавском хирурге с такой фамилией?
– Разумеется, ведь вы же, господин профессор, директор больницы имени профессора Вильчура.
– Да. Тринадцать лет назад Вильчур пропал. Все думали, что он совершил самоубийство… У него в семье произошла некая трагедия… Но тело так и не нашли… Я был его ассистентом, правой рукой. И после него занял кафедру, взял на себя управление больницей… Да… Так вот, это он.
– Невероятно! – уже с гораздо бо́льшим доверием к словам профессора воскликнул Корчинский. – Но мне все-таки кажется, что вы ошибаетесь, господин профессор. Тогда получается, что он целых тринадцать лет скрывался под чужой фамилией?.. Зачем?
– Амнезия. Утрата памяти.
– Кажется… неправдоподобно. Целых тринадцать лет?..
– Именно так.
– Извините, господин профессор. Собственно говоря, слыша такое от вас, я не должен сомневаться, но разве это вообще возможно… с научной точки зрения?
– Абсолютно возможно. Ретроградная амнезия. В медицине известно много подобных случаев. Регрессивное забывание… Из памяти человека стирается вся прошлая жизнь. После мировой войны были отмечены сотни случаев такого рода.
– Это последствия психического потрясения?
– Причина не играет роли. Амнезия наступает обычно после долгого или короткого периода утраты сознания.
– А это излечимо?
– Вполне, хотя бывают случаи, когда… Давайте не будем терять времени. Где он?
– Косиба?.. Выехал вместе с Чинскими. Они его забрали. Но это действительно потрясающе! И вы, господин профессор, абсолютно уверены?
– Абсолютно!
– Черт побери! Если б я знал это во время процесса! Я бы буквально скосил прокурора и судей! Представляете, какой был бы эффект?!..
Но Добранецкий явно не был расположен заниматься этой стороной вопроса.
– Я осознал это только после заседания суда, – уклончиво сказал он. – А теперь… Господин адвокат, вы можете дать мне адрес этих Чинских?..
– С удовольствием. Вы собираетесь туда поехать?
– Разумеется.
– И вы надеетесь вылечить Косибу или, точнее, Вильчура от этого заболевания?
– Тут не потребуется никакого лечения. Достаточно просто напомнить ему, кто он на самом деле. Если это не поможет… то других способов нет.
– Вы только подумайте! Но ведь он должен что-то помнить, если, к примеру, не забыл своих медицинских знаний?
– Да. Поэтому я очень надеюсь на благополучное выздоровление, – сказал, вставая, Добранецкий.
Глава 20
Поезд, с сопением выпуская пар, остановился на маленькой станции. Было ясное солнечное утро. Крыши домов покрывал толстый слой снега, ветви деревьев сгибались под огромными подушками из смерзшегося белого пуха. Широкий вид, открывавшийся с перрона, казался праздничным; все вокруг, сияя ослепительной белизной, как будто соблазнительно улыбалось и манило уютной пушистой тишиной.
Профессор Добранецкий стоял, всматриваясь в белое пространство. Он так давно не был в деревне. Этот пейзаж в первый момент показался ему несколько искусственным, похожим на слишком реалистическую рождественскую декорацию, вычурную и красивую до неправдоподобия. Прошло несколько минут, прежде чем он отыскал в своей памяти давние ощущения, давние связи с этим заново открываемым миром, давние узы… Ведь он родился в деревне и там же провел свое детство и первые годы юности.
«Тоже своего рода амнезия, – подумал он. – Человек, живя городской жизнью, совсем забывает про этот мир. Он начинает подчиняться болезненному ритму подъема по карьерной лестнице, работы, вечной гонки… И попросту перестает даже думать о существовании этой погоды, тишины… этой иной земли, где истина открывается человеку не благодаря радиодинамику и черным печатным буковкам газет, а совершенно иначе, так просто и непосредственно… А мы забываем об этом…»
Он услышал за спиной поскрипывание снега под чьими-то шагами и голос:
– А вы, верно, в Радолишки?
– Нет, в Людвиково. Можно ли тут нанять какую-нибудь фурманку?
– Почему бы и нет? Можно. Если прикажете, подскочу к Павляку, так он мигом запряжет.
– Сделайте милость, очень прошу.
Этот обещанный «миг» продолжался почти час. А поездка до Людвикова по занесенной снегом дороге длилась еще добрых полчаса. Когда сани остановились наконец перед дворцом, был уже полдень. Привлеченная громким лаем псов, в дверях показалась экономка Михалеся и, прикрыв ладонью глаза – так ярко блестел на солнце снег, – всматривалась в приехавшего незнакомца.
– Вы, очевидно, на фабрику по делам? – спросила она.
– Нет. Я хотел бы увидеть господина Чинского.
– Тогда прошу вас войти. Только ведь господ нет дома.
– Ничего, это не так важно. Собственно говоря, я хотел бы встретиться с невестой господина Чинского, панной Вильчур.
– А ее тоже нет.
– Нет?
– Ну да! Видите ли, они все вместе поехали в Радолишки.
Профессор Добранецкий заколебался было.
– А скоро они вернутся?
– Извините, но это неизвестно. Они поехали заказать оглашение о предстоящем венчании в костеле.[22] Ну а уж ксендз наверняка их просто так не отпустит. Оставит обедать.
– Вот как?.. Это плохо. А не могли бы вы мне сказать… Адвокат Корчинский в Вильно сообщил мне, что господа Чинские взяли к себе некоего Антония Косибу, знахаря, это правда?
– А как же, правда, забрали. Только вот он не захотел тут у нас остаться.
– Не понимаю…
– Да просто не захотел. Такой милый домик ему приготовили… вон там, за садом. А он не захотел.
– Тогда где же он сейчас?
– Да где ему быть? На мельницу поехал, к Прокопу Мукомолу. Говорил, что там ему будет лучше всего. Вот уж старый причудник. Ну, я тут болтаю на морозе, хотя, правду сказать, мороз сегодня не сильный, а вас даже в дом не пригласила. Будьте любезны, войдите…
Добранецкий задумался.
– Нет, благодарю вас. Я должен ехать в Радолишки. У меня совсем мало времени, и ждать я не могу.
– Уж как пожелаете. А ежели хотите увидеть хозяев, то пожалуйте в дом ксендза, там они будут.
– Хорошо. Благодарю вас.
Возница хлестнул лошадку, профессор поплотнее завернул ноги в баранью доху, и санки тронулись с места.
Но, видно, в этот день его просто преследовали неудачи. Когда он приехал к ксендзу, то оказалось, что тут были только старшие супруги Чинские, к которым у него никакого дела не было. Их кучер сообщил профессору, что молодой Чинский с невестой отправились на кладбище, где похоронена ее мать, а по дороге они собирались заехать на мельницу, чтобы повидаться со знахарем.
– Вы их найдете или в одном месте, или в другом, – закончил кучер и, обращаясь к вознице профессора, спросил:
– А ты, Павляк, знаешь людвиковскую пегую упряжку?
– Чего ж мне ее не знать…
– Тогда будь повнимательней. Молодой хозяин поехал на пегих. Как увидишь эту упряжку, так, значит, и хозяин там.
– Известное дело, – кивнул возница и причмокнул, трогая с места лошаденку.
На радолишское кладбище вели две дороги. Ближняя, по которой всегда двигались погребальные процессии, проходила мимо Трех груш. Но, сделав крюк около версты, можно было проехать неподалеку от мельницы Прокопа Мукомола. Именно эту дорогу и выбрал Лешек, потому что она уже была наезжена и потому что при случае можно было проведать знахаря.
В глубине души Лешек был все еще слегка на него обижен. Он никак не мог понять, почему Косиба не принял предложенного ему в Людвикове гостеприимства, почему не захотел поселиться в домике за садом, с ремонтом которого было связано столько их с Марысей хлопот. Ведь он знал, как Марыся любит своего «дядюшку Антония» и как ей хочется, чтобы он жил рядом с ними. Для обоих отказ знахаря оказался неприятной неожиданностью.
Вот и теперь, заказав оглашение о браке, они решили еще раз приступить к нему с просьбами. Правда, Марыся, зная характер «дядюшки Антония», мало надеялась на успех. А Лешек, по натуре очень упрямый, уверял невесту, что сумеет убедить знахаря перебраться к ним.
Они застали Антония перед мельницей с мешком муки на спине. Как раз грузили сани, которые в той округе называли розвальнями.
Он без улыбки поздоровался с молодыми людьми, отряхнул руки от муки и пригласил их в свою пристроечку.
– День сегодня не слишком морозный, – сказал он, – но самовар сейчас вскипит, а горячий чай вам не повредит.
– С удовольствием, – отозвался Лешек. – Мы ведь тут у вас не стесняемся… Чувствуем себя как дома…
– Спасибо за любезность.
– А любезности-то с нашей стороны действительно немало, потому как вы-то нашим гостеприимством в Людвикове пренебрегли, а мы ваше принимаем.
Знахарь не ответил. Он вытащил из-за печи старый сапог, натянул его голенище на самоварную трубу и принялся раздувать потухшие внутри угольки так, что снизу полетели пепел и искры.
– Вы, господин Антоний, – снова начал Лешек, – и в самом деле нас обижаете. Ведь и вокруг Людвикова достаточно будет больных, нуждающихся в вашей помощи. А так нам остается только грустить да скучать по вас…
Косиба слегка усмехнулся.
– Шутите, господа хорошие? Зачем я вам нужен…
– Да как вам не стыдно! – Лешек притворился возмущенным. – Ладно уж обо мне так говорить, но не станете же вы утверждать, будто Марыся совсем к вам не привязалась!
– Вознагради ее Господь!
– Ну и как будет?
– Да вот так, привязанность привязанностью, а жизнь идет сама по себе. Новая жизнь – новые привязанности.
– Здорово! – воскликнул Лешек. – Видишь, Марыся?.. Господин Антоний дает нам понять, что мы ему надоели и он теперь будет искать себе других близких людей.
– Дядюшка Антоний, – Марыся взяла его под руку, – я так прошу, так сильно прошу…
Знахарь отобрал у нее свою руку и погладил девушку по плечу.
– Голубка моя дорогая… Я ради тебя на все готов, только не подхожу я вам, не подхожу. Старый я да грустный. Одним своим видом я бы вам счастье портил. Нет, не следует так делать. Не следует. Вот если иногда захотите меня повидать, заедете сюда, на мельницу, то и… Впрочем, давайте больше не будем об этом говорить.
Он отвернулся к самовару, который, закипая, стал потихоньку шипеть.
Лешек только руками развел.
– Ха, вот жалость-то! Потому как я собирался на новоселье в тот день, когда вы в Людвиково бы перебрались, подарить вам комплект хирургических инструментов…
Он ждал, какой эффект произведут его слова, но знахарь притворился, что не расслышал его соблазнительного обещания. Он снял с полки стаканы, оглядел их на свет и собрался наливать чай.
Когда они уже сидели за столом, Марыся сказала:
– Мы сегодня заказали объявление о бракосочетании. Через четыре недели наше венчание.
– Ну уж на свадьбу-то вы должны к нам приехать, господин Антоний! – воскликнул Лешек.
– Обойдется там и без меня. Не подхожу я этому обществу, чего мне там делать? А я и отсюда вам так же тепло пожелаю счастья, как и рядом стоя.
– Вы не хотите стать свидетелем нашей радости, участвовать в нашем празднике?
– Дядюшка Антоний!
– Почему же нет, – ответил знахарь, – я ведь в костел приду. А стать свидетелем… так ведь я с самого начала был свидетелем всех ваших тревог и радостей. Слава богу, что все заканчивается так, как вам хотелось.
– О нет, господин Антоний, – поспешил уточнить Лешек, – все только начинается. Это только самое начало нашего великого счастья, которое мы добыли после стольких препятствий, ценой стольких слез, печалей и отчаяния… Даже странно подумать, сколько же нам пришлось всякого зла перетерпеть…
– Тем лучше для вас, – очень серьезно сказал знахарь.
– Почему же тем лучше?
– Потому что счастье лишь до тех пор длится, пока человек в состоянии оценить его по достоинству. А для человека ценность имеет только то, что добыто с трудом.
Все трое задумались. Молодые – над открывающимся перед ними счастливым будущим, Антоний Косиба – над своим одиночеством, в котором теперь уже он обречен был жить до самой смерти. А ведь он столько всего пережил, столько натерпелся, но ничегошеньки для себя не добыл. Он бы погрешил против собственного сердца, если б пожалел, что отдал им ту частичку счастья, которую так хотел получить для себя, добавил ее к их великому сокровищу, точно жалкое пожертвование… Нет. Нет, он ни о чем не жалел, но у него было так тяжело на душе, как бывает у каждого, кто уже ничего не ждет от жизни, ни на что не надеется, ничего не желает…
В дверь постучали. Это вошел кучер с коробкой.
– Хозяин, я боюсь, что цветы замерзнут. Слишком долго они на морозе.
– Вот и хорошо. Пусть тут постоят, – сказал Лешек. – Хотя нам все равно скоро уже надо ехать.
– А куда это вы с цветами? – полюбопытствовал знахарь.
– Мы едем на кладбище, на могилу Марысиной мамы. Хотим поделиться с ней своей радостью и попросить благословения, – серьезно ответил Лешек.
– Твоей матери, голубушка?
– Да.
– Это хорошо… Очень хорошо… Ты когда-то говорила мне, что она тут, на радолишском кладбище похоронена. Да, вот как… А когда ты, голубка моя, лежала в этой вот комнате, находясь между жизнью и смертью, я тоже хотел пойти на ее могилу, помолиться о твоем выздоровлении… Заступничество матери не только у людей, но и у Бога должно значить больше всего… Тяжелые то были часы… Только не знал я, где ее могилка…
Он помрачнел, потом вытер лоб и встал. Из угла алькова принес огромный букет бессмертников.
– Возьмите еще и это. Отвезите туда. Эти цветы не замерзнут, не увянут. Это цветы умерших. Положите их на могилу от меня.
Марыся со слезами на глазах обняла знахаря за шею.
– Дядя, дорогой мой, любимый мой дядюшка…
– А может, и вы бы с нами поехали, господин Антоний? Сами бы и положили эти цветы? – предложил Лешек.
Знахарь посмотрел в глаза Марыси, подумал и кивнул.
– Хорошо, я поеду с вами. Отсюда до кладбища недалеко, тогда я уже буду знать, где эта могилка, и иногда смогу туда пойти, чтоб сорняки прополоть, цветочки положить.
Антоний Косиба понимал, как была расстроена Марыся, когда он решительно отказался воспользоваться их гостеприимством в Людвикове, и теперь старался доказать ей: все, что ее близко касается, всегда будет близким и дорогим и для него тоже.
Через четверть часа они втроем сидели в санях. Кони двинулись мелкой рысью и уже скоро оказались на том повороте, откуда как на ладони было видно и часовенку, и весь холм, на котором располагалось так называемое Новое кладбище. От нового в нем, собственно, осталось только название, о чем ясно говорили поломанные ограды, покосившиеся кресты и красный кирпич, проглядывающий во многих местах из-за осыпавшейся штукатурки на стенах часовенки Святого Станислава Костки.
Старое кладбище, находившееся за костелом, чуть ли ни в самом центре городка, уже лет тридцать с гаком было настолько переполнено, что на нем не осталось и метра земли, свободной от могил. А тут, на когда-то голом, а теперь поросшем деревьями холме, хоронили умерших из Радолишек и со всей округи. Между аллеями встречались еще довольно большие свободные участки, на которых не было ни деревьев, ни могил. Должно быть, и деревья не очень-то хорошо росли на песке.
Дорога проходила рядом с кладбищем, и сани остановились у ворот. Отсюда надо было идти по глубокому нетронутому белому снегу, который местами доходил до колен. Навалило его тут очень много. Зато едва они миновали самую вершину холма, как идти стало легко, потому что только на могилах выросли небольшие сугробы.
Марыся остановилась у могилы своей матери, опустилась на колени прямо в снег и начала молиться. Лешек последовал ее примеру. Знахарь снял шапку и молча стоял за их спинами.
Это была обычная деревенская могила с небольшим черным крестиком, увешанным высохшими веночками и до половины засыпанным снегом. Молодые как раз закончили молиться. Лешек вынул из коробки цветы, а Марыся стала отгребать снег от креста. И тогда показалась жестяная табличка с надписью…
Антоний скользнул по ней взглядом и прочел: «Святой памяти Беаты из дома Гонтыньских…»
Он сделал шаг, вытянул перед собой руки…
– Что с вами? Что с вами случилось?! – крикнул испуганный Лешек.
– Дядюшка!..
– Боже! – простонал знахарь. В его мозгу вдруг с поразительной ясностью все всплыло.
Он дрожал всем телом, а из горла рвался глухой нечеловеческий стон. Силы неожиданно оставили его, и он бы рухнул на землю, если бы Лешек и Марыся вовремя не подхватили его под руки.
– Дядя, что с тобой, что с тобой? – шептала испуганная Марыся.
– Мариола, доченька моя… доченька моя, – проговорил он наконец ломающимся, дрожащим голосом и разразился рыданиями.
Они не могли удержать его тяжелое, совершенно обессилевшее тело и как можно осторожнее опустили Антония на землю. Слова, которые ему удалось вымолвить, вызвали у них удивление; особенно поражена была Марыся, когда он назвал ее тем самым именем, которым давным-давно, причем крайне редко, в минуты особой нежности и ласки, называла ее мать. Но у них не было времени выяснять эти обстоятельства. Стоя на коленях в снегу, согнувшись и прижав ладони к лицу, знахарь продолжал рыдать.
– Мы должны отнести его до саней, – решил Лешек, – я сбегаю за кучером, потому что мы сами не справимся.
Он уже хотел идти, когда в аллее показался профессор Добранецкий. Его неожиданное появление тут удивило и обрадовало их.
– Мое почтение, господин профессор! – начал Лешек – У него случился какой-то нервный припадок. Что нам делать?..
Но Добранецкий стоял молча и неподвижно, вглядываясь в табличку на кресте.
– Надо перенести его в сани, – вмешалась Марыся.
Добранецкий покачал головой.
– Нет, позвольте вашему отцу выплакаться вволю.
И, видя широко раскрывшиеся от изумления глаза обоих молодых людей, добавил:
– Да, это ваш отец, профессор Рафал Вильчур… Слава богу, память к нему вернулась… Давайте отойдем в сторонку… Ему надо позволить выплакаться.
Пока они стояли неподалеку, Добранецкий короткими рублеными фразами рассказал им всю историю.
А между тем слезы явно принесли знахарю облегчение. Он тяжело поднялся с земли, но не отошел. Марыся подбежала к нему и прижалась лицом к его плечу. Она ничего не видела, потому что слезы заливали ей лицо, но слышала его тихий голос:
– Ниспошли ей, Господи, вечный покой…
Солнце заходило, все небо на горизонте сияло алыми и золотыми красками, а по снегу протянулись голубоватые тени – первое прикосновение ранних зимних сумерек.
Примечания
1
О неизвестном суду инциденте с выкраденным удостоверением личности пока умолчим и мы: не пойман – не вор.
(обратно)2
Многие из знахарей и ведунов передают свои знания по наследству из рода в род. Существует предание, что знахарь, не успевший передать своего искусства, испытывает тяжкие предсмертные муки и нередко встает после смерти из гроба. – Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907.
(обратно)3
Считается, что, если смерть стоит у изголовья больного, его уже не спасти, если же у изножья – человек выздоровеет. Этот мотив звучит в сказках многих народов мира.
(обратно)4
Панна – обращение к незамужней женщине (польск.); адекватно русскому обращению на «вы» к незамужней женщине. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)5
Дважды дает тот, кто дает быстро. (лат.)
(обратно)6
Благодарю вас, драгоценный мой. (англ.)
(обратно)7
Положение обязывает (франц.)
(обратно)8
Мой принц (франц.)
(обратно)9
Как выше сказано (англ.)
(обратно)10
Коту́рн (платформы) – высокий открытый сапог из мягкой кожи на высокой подошве. Котурны использовались актерами при исполнении трагических ролей – они зрительно увеличивали рост актера, делали его поступь более величавой, как то и подобало персонажам трагедий. Здесь используется в переносном смысле – пьедестал, платформа. (Прим. ред.)
(обратно)11
Пан – обращение к любому мужчине (более универсальное, чем русск. «господин»), а также аналог русского обращение на «вы» к мужчине (польск.).
(обратно)12
Город Вильна (польский вариант названия – Вильно, белорусский – Вильня, литовский – Вильнюс). (Прим. ред.)
(обратно)13
Обращение к замужней женщине или аналог русского обращения на «вы» к замужней женщине (польск.)
(обратно)14
Костяная, пластмассовая или металлическая пластинка для игры на струнных инструментах.
(обратно)15
Роман Г. Сенкевича.
(обратно)16
Регимента́рий – в Речи Посполитой XVII–XVIII веков заместитель гетмана или назначенный королем (или сеймом) командующий отдельной группы войск.
(обратно)17
Фреквенция (лат. frequentia – множество, толпа) – посещаемость, число (среднее) зрителей, учащихся, гостей. (Прим. ред.)
(обратно)18
Перкаль (фр. percale – тряпка) – хлопчатобумажная ткань повышенной прочности из некрученых нитей. (Прим. ред.)
(обратно)19
Аускультация (лат. auscultare – слушать, выслушивать) – метод исследования внутренних органов, основанный на выслушивании звуков, образующихся в процессе их функционирования. (Прим. ред.)
(обратно)20
Ареопа́г (др. – греч. буквально – «холм Ареса») – орган власти в Древних Афинах; здесь – суд (переносн.)
(обратно)21
Почетный доктор (лат. honoris causa – «ради почета») – степень доктора наук или доктора философии/доктора искусств /доктора педагогики /доктора богословия (в зависимости от системы ученых степеней) без защиты диссертации. (Прим. ред.)
(обратно)22
В приходской церкви жениху и невесте необходимо сделать несколько раз предварительное оглашение или объявление о предполагаемом браке, с тем чтобы всякий, знающий о каком-либо препятствии к браку, объявил о том священнику не позже последнего оглашения.
(обратно)


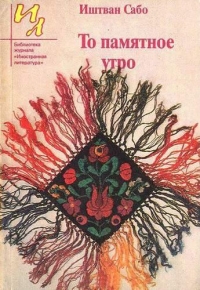





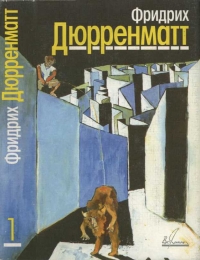

Комментарии к книге «Знахарь», Тадеуш Доленга-Мостович
Всего 0 комментариев