Домашний кинотеатр или исповедь правильной девушки
Однажды мы с подругой вспоминали, о чем мечтали в детстве, какие у нас были игры. Я рассказала, как по вечерам, прежде чем уснуть, вместе с братом и сестрой часто представляли: вот на крыльях ночи мы улетаем из комнаты, а за нами отправляются все наши любимые предметы. И перечисляли, что бы полетело следом. Во-первых, это были, конечно, наши плюшевые мишки. Потом почему-то вспоминали про тапки – видимо, летать без них ночью нам было бы холодно. Затем в очередь вставали другие наши любимые игрушки, книжки, одежда, карандаши и раскраски. А я ещё всегда добавляла связку сосисок.
Перед моими глазами встала этакая вереница, фантастический змей из игрушек и книжек, а в конце – длинный хвостик из маленьких колбасок. Мы с подругой обе по-детски засмеялись, а потом она спросила:
– Слушай, неужели вам никогда не хотелось, чтобы родители полетели вместе с вами?
– Нет, никогда... – ответила я.
Пролог
– Осознавая права и обязанности, связанные с основанием семьи, торжественно заявляю, что, вступая в законный брак с Анной, клянусь,что сделаю все, чтобы наш брак был согласным, счастливым и прочным, – сказал её принц, даже не запнувшись.
Его лицо светилось от радости и выражало безграничную решимость действительно сделать все, чтобы их брак удался.
– Осознавая права и обязанности, связанные с основанием семьи, торжественно заявляю, что, вступая в законный брак с Андреем, клянусь что сделаю все, чтобы наш брак был согласным, счастливым и прочным, – повторила Анна тихо и робко (на видеозаписи её голос еле слышен).
Они стояли перед начальником загса, такие молодые, красивые и счастливые. Ей было очень к лицу белое платье, а он все время держал руку любимой, как будто боялся упустить это счастье.
Гости тоже соответствовали моменту – нарядные, серьёзные и одновременно полные нежных переживаний. Подруги Анны обменялись трогательными взглядами, когда она начала произносить слова клятвы. Тётя Оля, ближайшая подруга родителей невесты, которая собственноручно сделала их обручальные кольца, от торжественности момента покорно опустила голову – словно при молитве. Бабушка Андрея смотрела на молодожёнов как на картину, не отрываясь ни на секунду. Казалось, она каждой клеткой своего маленького тела желает им долгих лет счастья и любви. Сестра Анны не могла и, наверное, уже даже не пыталась сдержать рыданий. Потом она всем говорила, что это были слезы радости, но ей почему-то мало кто верил. Все думали, что ей ужасно горько оттого, что младшая сестра выходит замуж, а у неё самой даже отношений никаких никогда не было.
Родители сидели все вместе. Отец жениха – серьёзный и торжественный, отец невесты – растроганный настолько, что в конце церемонии мать Анны дала ему свой носовой платок. Ей самой тоже пришлось им воспользоваться. Мать жениха сидела прямая как струна и с большим интересом наблюдала за всем происходящим.
Когда церемония закончилась, праздничной вереницей все бросились поздравлять новобрачных, говорили какие-то бессмысленные слова, которые сразу забывались. Брат Андрея был краток и лаконичен. Он сердечно обнял Анну и тихо сказал ей: «Береги Андрюху». Это было единственное, что она запомнила из всех поздравлений.
А потом под крики «Горько! Горько!» Анна и Андрей поцеловались.
И жили они долго и счастливо...
Так обычно заканчиваются все сказки, именно на такой ноте завершаются романтические комедии и женские романы.
Моя жизнь с этой фразы началась.
Итак, приглашаю за кулисы сказки. Что же случилось после того, как принц увёз Белоснежку на белом коне?
Вечером мы оставили гостей догуливать банкет, а сами поднялись в номер. Про первую брачную ночь даже не хочу вспоминать. У меня до этого никого не было, я ужасно нервничала, и у нас совершенно ничего не получилось. Обычно все невесты говорят, что они помнят свою свадьбу как сон, все образы проплывают у них перед глазами. Я так помню первые дни после свадьбы. Включая первую брачную ночь.
На следующий день нам пришлось поехать на ужин к моим родителям – так называемый второй день. Странным образом эта идея возникла у мамы только после того, как стало понятно, что все родственники мужа уедут утром после свадьбы. И их не пришлось приглашать к моим родителям домой. Не важно, что накануне я стала членом семьи моего мужа, все равно важнее оказались мои мама и папа. Андрей кипел от негодования, а я уговаривала его закрыть на это глаза и все перетерпеть, ведь через два дня мы должны были уехать от моих родителей в Швецию, где на тот момент работал мой муж. Я все время повторяла ему: «Когда мы наконец уедем, все изменится» – и свято в это верила. Но оказалось, что если в сказке про Белоснежку все было абсолютно понятно (она надкусит волшебное яблоко и погрузится в сон), то у меня вовсе не было очевидно, что как только я уеду от мамы, жизнь моя развернётся на сто восемьдесят градусов.
Я жила наивными представлениями маленькой девочки, которая думала: достаточно очень хотеть перемен, чтобы они наступили. На деле же моя мама жила во мне: я думала её категориями, принимала её модели поведения, повторяла её слова и – увы! – её ошибки.
Первое время после свадьбы я вела себя как настоящая стерва. Не хотела этого, но все получалось именно так. Да, я была прилежной хозяйкой, с огромной самоотдачей драила всю квартиру, включая ванную, раковины, унитазы, окна и все шкафчики на кухне. Я регулярно стирала и гладила, сама закупала продукты, каждый день готовила на ужин какое-то новое блюдо, училась печь и устраивала приёмы для друзей моего мужа, которых принципиально называла нашими, считая, что таким образом укрепляю наше единство. И считала, что делаю все совершенно не так, как моя мама, которая не особо любила готовить, очень часто вместо тёплого ужина кормила нас бутербродами или салатом, редко делала уборку, гора постиранного белья росла до тех пор, пока все не падало с гладильной доски на пол, а гости были в нашем доме исключительной редкостью, так как для этого надо было привести дом в порядок и приготовить хороший ужин.
При этом (хоть и обещала мужу, что когда мы уедем от моих родителей, все будет по-другому) я оставалась все такой же зависимой от мамы. Она требовала от меня ежедневного общения, а у меня не было сил ей отказать. Каждый день (правда, каждый божий день!) я разговаривала с ней по скайпу как минимум по полтора часа. Иногда мы могли пообщаться с утра, а вечером мама ещё что-то вспоминала, писала мне, я перезванивала – и мы болтали ещё час, а то и два. Теперь меня поражает, о чем можно разговаривать по два-три часа каждый день. Основные новости исчерпываются через пять-десять минут, все остальное является обсуждением одного и того же, перемыванием косточек всем знакомым и друзьям, подробным анализом только что рассказанных мелочей нашей жизни. Я внушала себе, что мама о нас беспокоится, пытается помочь советом, не понимая, что на самом деле это был тотальный контроль.
Каждый день, заканчивая разговор, мы договаривались, во сколько созвонимся назавтра. Если я предлагала другое время, чем мама, мне надо было это как-то обосновать. Сказать, например, что Андрей позже уйдёт на работу («Да? А почему? У него там все нормально?»), мне нужно пойти в прачечную («А что так часто? Я стираю раз в три дня»), съездить за покупками («А это не подождёт? Почему ты не можешь это сделать, когда мы закончим разговаривать?») или же я обещала подруге, что мы вместе сходим на выставку («Ну, понятно, она для тебя важнее, чем я...»). Если же я опаздывала хоть на десять минут, меня ждал допрос, обида, претензии и раздражение.
Я не понимала, что происходит. Думала, что мама просто по мне скучает, что это нормально, ей нужно время осознать, что я вышла замуж и начала свою жизнь. Была уверена, что потом когда-то как-то это все само собой рассосётся. Тем более что пока времени хватало, забот у меня особо никаких не было. Эти бесконечные разговоры не казались мне странными, они даже убеждали меня в том, что я совсем другая, не такая, как она – я ведь рассказывала маме, что готовила, что пекла, как часто делаю уборку, а ей в этом плане похвастаться было нечем. И тешила своё самолюбие тем, что я отличная жена и примерная домохозяйка, что полностью противоречит стилю жизни моей матери. Но при этом не замечала: абсолютно так же, как и она, считаю, что муж обязан мне по гроб жизни за мой непосильный труд, я самая лучшая в мире, проявляю чудеса самообладания, чтобы поддерживать такую чистоту в доме и вкусно готовить, и, в свою очередь, не должна ему ничего за то, что он работает – это ведь обычная мужская обязанность.
Поэтому когда Андрей возвращался с работы, он заставал меня в неизменной позе обиженной принцессы, которой нужно стопроцентное внимание, гимны в честь её хозяйственности и полное подчинение её капризам. Я сердилась на мужа за каждое опоздание домой, не замечая, как ради того чтобы поговорить со мной лишнее время утром, он опаздывал уже на работу. Бесилась каждый раз, когда ему надо было что-то сделать за своим компьютером вместо того, чтобы побыть со мной. Привлекала все его внимание каждый раз, когда у меня болела голова, требовала от него выполнения всех своих планов и пожеланий в выходные, пока в один из вечеров Андрей не сказал:
– Дорогая, я так больше не могу. Я чувствую себя дома как на минном поле, у меня пропадает желание сюда приходить. Если даже ты оказываешь мне какую-то поддержку, то обязательно потом требуешь чего-нибудь взамен. Тебе отданы все мои силы и все моё внимание. Я так больше не могу.
Сначала я, конечно же, обиделась. Но, к счастью, вовремя поняла, что муж говорит серьёзно. И в глубине души почувствовала, что он прав. Теперь я полностью убеждена: в глубине души каждая женщина хочет, чтобы её поставили на место, а не прогибались под неё и каждый её каприз. Для меня же с этого вечера начался долгий путь внутренней работы и переосмысления своего поведения. Это было очень сложно, так как я не понимала, что конкретно мне нужно делать, не понимала, откуда во мне столько претензий и требований, почему меня все время что-то раздражает.
Мне стыдно про это думать, но больше всех досталось в тот период бабушке моего мужа. Я считала, что должна наладить связи со своей новой семьёй. Прекрасно зная, что бабушка значит для Андрея очень много, он её безумно любит, я чувствовала, что ему очень важно, чтобы именно с ней у меня были хорошие, тёплые отношения. Поэтому звонила ей каждый второй день по скайпу, разговаривала с ней безумно часто, даже если у нас особо не было никаких новостей. Я очень старалась.
– Зачем ты это делаешь? – спрашивал меня Андрей. – Тебе не обязательно так часто общаться с моей бабушкой, никто этого от тебя не ожидает.
У меня на это был стандартный ответ, впрочем, как и на все остальное:
– Я не хочу быть, как моя мама.
– В смысле? Ты о чем?
И я ему рассказала.
Сцена 1
Прихожая вся заставлена коробками, чемоданами, рюкзаками и пакетами. Все куда-то бегают, что-то перекладывают, чувствуется сильный мандраж перед дорогой. В комнате звонит телефон.
Мать. Кто это ещё? (Бежит к телефону). Алло!.. Нет-нет, спасибо, я не заинтересована в ваших услугах… Почему? Потому что через полчаса мы уезжаем в Китай на два года. Так что на вашу презентацию я точно не попаду. До свидания!
Кладёт трубку. К ней подходит Аня.
Аня. Мама, а когда бабушка придёт?
Мать. Бабушка не придёт. Мы с ней договорились, что её сегодня не будет, нам сейчас не до этого. Вы же с ней вчера попрощались. В чем дело?
Аня (грустно). Я просто надеялась её ещё раз сегодня увидеть. Мне её будет не хватать... (Слезы появляются у неё на глазах).
Мать. Так, иди, не мешай мне. Не до тебя сейчас.
Сцена 2
Вся семья сидит в машине, багаж уже упакован. У всех какие-то вещи на коленях. Родители нервно в последний раз проверяют наличие паспортов. Наконец-то машина трогается и выезжает из двора. На другой стороне улицы, сразу напротив дома, расположено кладбище. За его ограждением стоит бабушка и грустно машет в сторону машины.
Аня. Вот бабушка! Бабушка!
Все дети начинают махать бабушке. Она улыбается сквозь слезы.
Мать. Нет, всё-таки явилась! Мы ведь просили её не приходить, а она все равно сделала по-своему.
Дети до самого поворота машут бабушке. Отец сидит, не глядя на мать. За поворотом дети начинают всхлипывать. Никто ничего не говорит.
Сцена 3
Отец сидит за столом в своём кабинете. Ему не по себе, он чем-то обеспокоен. Заходит мать.
Мать. Что случилось?
Отец. Получил письмо от друга. Мама очень плохо себя чувствует, ей придётся лечь в больницу. Друг пишет, что, может быть, мне бы стоило к ней приехать.
Мать. А получше советы ему в голову не приходили?! Он в курсе, сколько стоит билет из Китая в Европу? У нас нет таких денег. К тому же, мы через неделю летим в Америку.
Отец (грустно). Ну да, правда.
Какое-то время оба молчат.
Отец (робко). Может, я ей хотя бы позвоню?
Мать (неохотно). Ну, давай. Скажи ей, что у тебя минута, соединение стоит огромных денег, поговори.
Отец тут же снимает телефонную трубку и набирает номер. Пока ждёт соединения, явно переживает, вертит в руках провод. Мать в это время смотрит на наручные часы. Никто из них не знает, что дети незаметно подкрались к дверям кабинета, чтобы послушать разговор папы с бабушкой.
Отец. Мама!.. Привет! Как я рад тебя слышать... Слушай, у меня очень мало времени, соединение стоит дорого, я просто очень хотел с тобой поговорить. А что ты так задыхаешься?.. А, к телефону, говоришь, бежала? Ну, понятно. Ну как ты?.. Да мы нормально, через неделю в отпуск в Америку летим… Дети? Дети тоже хорошо, передают тебе привет… Нет, они не могут подойти, они сейчас занимаются… Ну ты-то как?.. А, понятно… Да нет, что ты, у нас все хорошо. Мы тебя очень...
Мать, ровно по истечению минуты, нажимает на кнопку, и связь прекращается. Дети с недоумевающими лицами тихонько уходят от двери. Отец смотрит на мать.
Мать (как ни в чем не бывало). Ну что, как она там?
Отец (грустно). Да нормально…
Мать уходит, отец подпирает голову руками и долго-долго так сидит.
Сцена 4
Отец с тремя детьми сидит в спальне в доме своих друзей. На столе лежит телеграмма, уведомляющая о том, что умерла бабушка. Все четверо сидят и плачут. Заходит мать. Смотрит на всех с недовольным видом, неодобрительно качает головой.
Мать (очень раздражённым тоном). Что происходит?
Отец. Дети ко мне пришли, они тоже очень расстроились из-за бабушки... (У него ломается голос).
Мать. Вы что, забыли, что мы в гостях? Как вы себя ведёте?
Отец (удивлённо). Я думаю, наши друзья все поймут. Тем более, у них самих два дня назад умерла близкая родственница...
Мать. Я ещё раз спрашиваю, что вы здесь устроили? В конце концов, это неприлично – так привлекать к себе внимание в гостях. Ведите себя нормально.
Дети смотрят на неё расширенными от удивления, заплаканными глазами.
Мать. Я сказала: нормально. Идите, умывайтесь. Мы едем в магазин.
Дети, опустив головы, выходят, похныкивая.
Мать. Что ты устраиваешь? Зачем ты их расстраиваешь?
Отец. Они же сами ко мне пришли.
Мать. Интересно, почему к тебе, а не ко мне? Я вообще-то тоже переживаю. А ты чего себя ведёшь, словно ожидал, что все будет нормально? Ты ведь с ней, по сути, попрощался, когда последний раз разговаривал.
Отец (опустив голову). Да, попрощался...
Эта история возвращалась ко мне снова и снова, она буквально не давала мне покоя. А мой муж каждый раз приходил от неё в ужас. Особенно когда после очередного рассказа до него дошло, что мой отец так и не поехал на похороны своей мамы.
– Как можно было так поступить? – повторял он, имея в виду моего папу. Я же, думая, что он говорит про маму, отвечала:
– Да, у меня у самой это в голове не укладывается. Как она с этим живёт?
– Кто?
– Ну как – кто? Моя мама, конечно.
– Да я не про неё, а про твоего папу.
– А он что мог? Мама ведь ни у кого не спрашивала мнения. Делала, что хотела.
– Нет, я все понимаю, но он ведь тоже мог как-то среагировать, воспротивиться.
– Да ты просто мою маму не знаешь! – возмущалась я. – Она никому жизни не давала. Если бы папа попытался сопротивляться, было бы только хуже. Мама устроила бы скандал, отцу бы влетело, но он все равно ничего не добился бы. Мне его очень жалко. Я знаю, что ему тяжело жить с такими воспоминаниями, и он этого маме не может простить.
– А себе он может простить? – не унимался Андрей.
– Да при чем тут это?! Как же ты не понимаешь! Моя мама – тиран! Она привыкла все решать сама и навязывать своё мнение другим.
Каждый такой разговор между нами заканчивался тяжело, очень эмоционально, почти скандалом. Мне казалось, что я никак не могу донести до Андрея, в какой обстановке мы жили. Или он просто не хочет это принять, поэтому обвиняет во всем отца. Я же во всем винила свою мать – и панически боялась быть на неё похожей. Упорно повторяла, что я – не как моя мама, я ведь не только не ограничиваю отношения мужа с его семьёй, но ещё и сама очень часто с ней общаюсь, однако не понимала, что все это видимость, наружная оболочка, за которой нет никакого содержания.
Первый приезд бабушки к нам был просто катастрофой. Я с ней ругалась по каждому пустяку. Меня доводило до белого каленья, что она хозяйничала на моей кухне, что все время хотела что-то для нас приготовить. Вернее, не для нас, а для мужа. Для бабушки ведь считался только Андрей, она все время давала мне понять: я не знаю, что мой муж любит и как приготовить его любимые блюда.
Со мной случилась истерика, когда однажды, вернувшись из магазина, я застала бабушку со шваброй в руках. Она мыла у нас полы. Я почувствовала себя так, словно меня ударили по лицу этой самой шваброй. Как ей не стыдно! Она показывает мне, что я нерадивая хозяйка! У меня ведь всегда все убрано, а она меня унижает! Нет, всё-таки отношения со свекровью – дело сложное. Я кипела от ярости, кричала на бабушку, обвиняла её в том, что она меня не любит, делает мне назло и специально выводит из себя. Бабушка плакала, чем только ещё больше раздражала. Конечно, прикрывается плачем и выставляет себя мученицей, а сама тем временем хитро у меня хозяйничает и притворяется, что хочет нам сделать как можно лучше и приятнее. Это лукавство меня выводило из себя.
Бабушка видела, что я все время недовольна Андреем, постоянно злюсь и кричу на него. Однажды она сказала мне, что если я не перестану себя так вести, он меня бросит. Это была последняя капля. Когда Андрей вернулся с работы, я все ему рассказала, с плачем пожаловалась, как его бабушка меня обидела, как она каркает на нашу судьбу и как мне ужасно больно, ожидая, что муж встанет на мою сторону и будет меня громко защищать. Но он не стал. Андрей решил по-своему: заставил нас с бабушкой поговорить при нем и все выяснить. Он наивно полагал, что таким путём уладит наши разногласия, не зная, что конфликты между женщинами практически неразрешимы. Мы вроде бы помирились, но на следующий день, когда Андрей ушёл на работу, война возобновилась.
Через полгода бабушка приехала к нам снова. Я клялась и божилась Андрею, что все поняла, и на этот раз все будет по-другому. Я понимала, что даже если у меня есть какие-то претензии к бабушке, я должна их сдержать, ведь все же бабушка – пожилой человек, она правда хочет нам только добра, и мне не стоит так к ней относиться. Моё предание было свежо, и в него даже легко верилось. До второго дня пребывания бабушки. Война началась заново. Я ничего не могла с собой поделать. Бабушка недоумевала, она никак не могла понять, что происходит. Она уже сидела в своей комнате, не высовываясь, но я все равно находила, к чему придраться. Вот, бабушка с утра жарила блины и поставила муку не на своё место! Какое безобразие! Это моя кухня, или её, в конце концов? Я ведь ничего не могу найти! Бабушка плакала, а когда приходил Андрей, сидела молчаливая, не желая быть костью раздора между нами.
Я в глубине души чувствовала, что поступаю неправильно, но не понимала, как нужно, не понимала, почему я злюсь и как мне это изменить. Это был просто кошмар.
Когда у Андрея закончился контракт в Швеции, мы приехали в Россию в ожидании нового договора и новой визы. У мужа не было своего жилья, мы остановились в квартире, в которой жила бабушка и брат Андрея. Это были два с половиной месяца ада. Я скандалила постоянно, была всем недовольна, а все свои претензии высказывала Андрею, ожидая его защиты. Но муж не защищал меня. Он говорил, что я неправа, что незаслуженно сержусь на бабушку и на брата, что они хорошо ко мне относятся, а я все время из-за чего-то выступаю. Я же кипела от злости. Квартира была неопрятной, крышки кастрюль грязные, ручки шкафчиков липкие, везде валялись крошки, сковородки бабушка принципиально не мыла мылом, а только ополаскивала холодной водой, в холодильнике многие продукты засохли или протухли, по всей кухне летали мухи. Я была в бешенстве. И при всем при этом бабушка посмела у нас мыть полы?! Да лучше бы она убралась у себя в квартире, а не выпендривалась передо мной! Все это я высказывала вслух. Мне не нравилось ничего из того, что готовила бабушка, но при этом я умудрилась поправиться на четыре килограмма – и в этом тоже была виновата она.
Я себя чувствовала, как в тюрьме. Деваться нам было некуда, снять квартиру на два месяца было сложно, да и дорого, гостиницу – тем более. Но присутствие бабушки и брата Андрея высасывало из меня все соки. Я хотела своего угла, своей кухни, своего домашнего очага. Мне по ночам снилось, что мы никуда не смогли уехать и остались навсегда в этом аду. Мужу все это было очень тяжело. Когда он получил новый контракт во Франции и ему дали визу, я была на седьмом небе от счастья. Наконец-то мы уедем из этой мерзкой, грязной квартиры, подальше от всех родственников. Я отказывалась понимать, что Андрею тяжело расставаться с самыми близкими ему людьми. Когда вечером накануне нашего отъезда он открыто мне это сказал, я обвинила его в том, что он любит бабушку сильнее, чем меня, думая, что он бросится меня разубеждать, будет доказывать обратное. Но он только молча отвернулся к стенке. Я же от злости всю ночь не сомкнула глаз.
На следующий день мы приехали во Францию. Я продолжала каждый день разговаривать с мамой по скайпу. Теперь, освободившись от родственников Андрея, я чувствовала, что у меня распрямились крылья. Правда, полет был недолгим… Франция оказалась вовсе не нашим местом. На каждом шагу нас подстерегали проблемы, неприятности или вовсе катастрофы. А поскольку Андрей совсем не знал французского, решение этих проблем падало в основном на меня. Это уже была не та беззаботная жизнь, что в Швеции, где у нас все складывалось как-то само по себе, у меня не было никаких забот, кроме домашнего хозяйства, и я коротала время рукоделием. Мне пришлось быстро подтянуть язык, общаться с отнюдь не доброжелательными французами, искать нам квартиру, открывать банковский счёт, искать подержанную мебель, чтобы обставить на год квартиру, снимать машину для переезда, подписывать контракт в агентстве недвижимости, искать врача, когда Андрей заболел, ходить с ним к доктору, а потом общаться со страховщиком по поводу возврата денег за больничный. И так далее, и так далее.
Моё самомнение росло с невероятной скоростью, я ведь порвала все шаблоны моей мамы. Когда мы с родителями приехали в Китай, папа, кроме того что быстро вспомнил хорошенько подзабытый китайский, не только сразу влился в рабочий процесс, но ещё и искал квартиру, решал все бытовые проблемы, а мама только жаловалась и указывала ему на его неудачи. Я же как примерная жена организовала нам быт, сама выучила французский, да ещё и полностью надраила и обустроила очередное наше жильё.
От меня опять ускользала маленькая деталь: я давала Андрею слишком мало внимания и ласки, считала свои успехи и жертвы, но не думала о том, как он себя чувствует в новой стране, на новом рабочем месте. Каждая наша поездка в отпуск, с самой первой поездки через две недели после свадьбы, оборачивалась скандалом и моим недовольством. Я вечно была от чего-то уставшей, мне нужны были внимание и сострадание мужа.
А летом к нам опять приехала бабушка. Я морально готовилась к её приезду, повторяла себе, что я уже другая, что больше не наступлю на те же грабли, что бабушка мне правда не враг, и я просто обязана дать ей возможность насладиться этой поездкой. Никто ведь не знает, сколько ей ещё отпущено… Я действительно хотела, чтобы пребывание бабушки у нас было приятным и весёлым, но уже накануне её приезда поняла, что это невозможно. Эмоции накрывали меня с головой. Бабушка ещё не вылетела из Москвы, а я уже была полна претензий, гадких предположений и догадок. И хотя бабушка уже вообще старалась ничего не трогать и никак мне не перечить, я все равно находила, за что к ней придраться и в чем её обвинить. В результате ещё до отъезда бабушка пообещала, что никогда больше к нам не приедет. Мне было очень досадно. Я чувствовала, что это моя вина, но не понимала, где совершила ошибку, все равно находя оправдание в том, что это бабушка вела себя как-то не так. Потом я стала прикрываться тем, что просто отношения со свекровью всегда очень сложные. И не важно, что формально бабушка мужа ею не являлась, ведь конфликты со свекровью случаются, как правило, не просто потому, что она мама мужа, а потому, что это самая важная для него женщина. Между ней и невесткой возникает настоящая ревность и борьба за то, кого он любит больше.
Короче говоря, бабушка уехала от нас очень расстроенная, а у меня остался горький, неприятный осадок. Я подозревала, что и у мужа этот осадок был, но он со мной особо про бабушку не разговаривал, видимо, не хотел лишний раз теребить эту тему.
Я действительно очень уставала от недоброжелательной обстановки, которая нас сопровождала на протяжении всего нашего пребывания во Франции. Мне приходилось постоянно писать какие-то официальные письма, заполнять анкеты, пытаться вернуть нечестно у нас отнятые деньги. Да просто – доказывать, что мы не верблюды! И каждый день разговаривать с мамой. Я пыталась уменьшить количество времени, которое ей уделяла. Старалась пораньше заканчивать разговор, но мама говорила: «Ну, понятно, вижу, что тебе совсем неинтересно со мной», вынуждая меня отвечать: «Да нет, что ты, мне очень интересно! Давай ещё немного поболтаем»… Если сразу после свадьбы я как дура рассказывала маме многое про нашу жизнь, то теперь поняла, что этого делать не стоит. Она все равно не давала мне никаких дельных советов, могла только осуждать меня и Андрея, внушать, что муж меня не любит и не ценит, и что со временем я это сама пойму, но уже будет поздно признать мамину правоту, потому что она уже к этому времени будет лежать на кладбище. Меня эти разговоры безумно угнетали. Теперь я не делилась с мамой ничем, говорила с ней про всякие малозначительные вещи, а она все время рассказывала про наших знакомых и про то, кто из них и что делает неправильно. От этого негатива у меня уши синели, но я ничего не могла сделать.
Помню, как однажды во время разговора с мамой я была на грани нервного срыва. Молча плакала от злости, пока она мне рассказывала, как неправильно воспитала своего сына тётя Оля. Если бы мама в этот момент сидела рядом со мной, я бы её, наверное, ударила. Но она была по другую сторону экрана – и я не решилась сказать, как меня бесят её рассуждения. Пришлось стиснуть зубы и потакать всему этому бреду.
Когда я заканчивала разговаривать с мамой, я долго сидела на стуле, и у меня часто возникал перед глазами навязчивый образ раны в области живота и потока сил, который из неё вытекает. Мама, очевидно, питалась этим «силотечением», а я не могла ей сказать «стоп» и прекратить его.
Я все ещё, как и в Швеции, старалась ездить к родителям примерно каждые три месяца. Эти визиты давались мне очень тяжело. Каждый раз, приезжая в их дом, я снова чувствовала себя безвольной, беззащитной девочкой. Я не скучала по родителям. Просто знала, что мне надо приехать. И это «надо» убивало во мне все.
В декабре того года случилось ещё одно «надо»: мама потребовала, чтобы мы с Андреем отмечали с ними Рождество. Должны были приехать также мои брат и сестра. Я не могла отказаться. Это было, наверное, самое горькое Рождество в моей жизни.
Сцена 5
Сочельник. В углу комнаты стоит высокая ёлка, украшенная самыми разными игрушками, многие из которых старые, почти антикварные, а некоторые сделаны вручную. Под ёлкой море подарков, они окружают её со всех сторон, даже вываливаются на середину комнаты. За столом сидит вся семья. Горят свечи. Все нарядно одеты, в торжественном настроении.
Отец. Как же хорошо, что мы все наконец собрались вместе. Последний раз мы в таком составе виделись только на свадьбе ребят, а это ведь было целых три года назад! Помните, как вы...
Мать (перебивая). Да, я уж и не верила, что вы все приедете. Конечно, все это здорово, но ведь праздники пролетят слишком быстро, и послезавтра вы уже уедете.
Аня. Ну да, но ведь мы приехали гораздо раньше, чем изначально планировали.
Катя. Как же все вкусно! Мама, пирожки у тебя получились просто прелестные. Мне после Китая так хочется всякой европейской еды, что я даже не знаю, как после всех этих праздников влезу обратно в свою одежду.
Аня. Да, я знаю, о чем ты говоришь. В последнее время я тоже сильно располнела, но не думать же об этом в праздники! Это не самая большая проблема в нашей жизни. Захочу – сброшу потом.
Мать. С лишними килограммами по-разному бывает. Вот Агнешка, например, уже третий год не может сбросить вес после родов. Правда, ей пришлось принимать разные лекарства, из-за которых она снова полнеет.
Андрей. Катя, а ты в Китае чем в основном питаешься? У них ведь кухня очень острая?
Катя. Да, достаточно острая. Но мне это нравится. Я, например...
Мать. Нет, не вся ведь острая. Она просто в основном жирная. Но они и много чеснока добавляют, не только паприку.
Витя. Мама, как же все вкусно!
Мы сидели и разговаривали ни о чем. Мама всех перебивала, чувствуя себя героем по той простой причине, что подготовила праздник. Она устала и считала, что все должны быть ей благодарны. При этом сама была всем недовольна. Мама была уверена, что мы все приехали на слишком короткое время, что недостаточно много с ней общаемся и ведём себя совсем не так, как ей бы этого хотелось. Она была в претензии на моего мужа за то, что он осмеливался спрашивать у моей сестры что-то насчёт Китая, ведь главный специалист по этой восточной стране – папа, а не Катя. И при этом мама не замечала, что на все вопросы все равно отвечает она, а не отец. Она смотрела с гордостью на ёлку и на все, что под ней, считая огромной жертвой со своей стороны то, что придумала для всех подарки, чтобы всем было весело их распаковывать.
Моя сестра в это же время чувствовала себя обделённой вниманием. Она мне потом сказала: у неё было ощущение, что она могла и не приезжать, все равно никто бы не заметил. Для мамы важно было, что приняли приглашение мы с Андреем. Сестре было горько: Она была на стипендии в Китае, жила там одна, очень скучала по всем нам, по дому и по семейной атмосфере праздников. И не могла понять, куда эта атмосфера делась и почему все на так, как раньше.
Я же сидела прямо напротив ёлки и с трудом сдерживала слезы. Видела это бессчётное количество подарков, и, честно говоря, мне было даже стыдно. Нас было всего шестеро, а подарков было больше, чем в целом детском доме. А ведь не в этом суть праздника. Суть в том, чтобы с кем-то этим благосостоянием поделиться. А мы с кем поделились? Люди вывешивают у мусорных баков хлеб для бездомных, а мама его подбирает, потому что, мол, те его не берут, а он пропадает. Вот вам и помощь малоимущим. В доме моих родителей на первом этаже жил человек, который был заведующим организацией, помогающей людям с алкогольными проблемами. Он собирал для них не только одежду, но и постельное бельё, шторы, скатерти, кастрюли, все на свете. Ничего не могу сказать, вещи ему мама относила. Но у родителей ведь не только квартира, но и чердак трещит по швам от ненужных одеял, подушек, старого постельного белья, штор для непонятного размера окон, тазов, кастрюль, сковородок и прочего. Все хозяйство от папиных родителей и от маминой мамы попало на этот «склад», так как других наследников не было. И сколько это все может там лежать? Мама до сих пор сидит, как Плюшкин, скоро вещи её съедят, но она ведь ничем не поделится, жалко. А на Рождество мы все покупали такое количество подарков, что это ни в какие ворота не лезло.
Я смотрела на эту ёлку, и мне дико было. Есть ведь в этом мире люди, для которых это первое Рождество после смерти любимого мужа или жены. Или после потери ребёнка, может быть, даже не рождённого. Кто-то только что узнал, что тяжело болеет и жить ему осталось три месяца. Кто-то только что попал в детский дом. Или в хоспис. А мы устраиваем такой беспредел. Уверена, там было около сотни подарков. Сотни! Если бы каждый десятый отдать нуждающемуся человеку, мир, может быть, стал бы добрее, а мы даже не заметили бы, что подарков стало меньше. Вот оно, общество потребления. Не знает никаких границ.
Может быть, эти ощущения не были бы такими сильными, если бы не вся остальная обстановка. Эти вечные причитания мамы о том, что она устала, что она не успевает, и никто ей не помогает. Я ей пыталась прийти на выручку на кухне. Но она болтала больше, чем делала. Вместо того чтобы прожарить все в два раза быстрее на двух сковородках одновременно, а потом переложить слоями в миску, она пыталась вместить все в одной, из неё все вываливалось, она в процессе пыталась сразу вычистить плиту, не забывая мне при этом рассказывать, как бессмысленно организована жизнь тёти Оли. Мама прыгала вокруг меня, а моя помощь заключалась лишь в том, что я стояла и пыталась осторожно помешивать овощи в сковородке так, чтобы из неё ничего не выскочило. При такой организации готовки и после одного блюда устанешь.
И потом сам праздник. Меня чуть не вырвало, когда я услышала то, что она сказала про Агнешку. «Какие-то лекарства»! За месяц до этого она мне точно то же самое рассказывала по скайпу. Только тогда сказала не «какие-то», а противозачаточные! Вот и весь смысл Рождества: сидеть за столом и изображать семейную атмосферу, в то время как в завуалированной форме ведётся разговор о контрацепции моей подружки и, по совместительству, соседки моих родителей. В этот момент я пыталась отвести взгляд от мамы, но в моем поле зрения была ещё только ёлка с морем подарков. Я правда чуть не заплакала.
Конечно, может быть, я придиралась, может быть, ожидала чего-то необыкновенного. Возможно, я ожидала детского восторга и таинства, которое не могло случиться не потому, что мои родители делали что-то не так, а потому что я уже не была ребёнком. Формально все было хорошо. Вот замечательная семья, все приехали на праздники, все прекрасно. Но в глубине души у меня что-то щемило, не давало радоваться.
Ещё в Швеции у меня появилась привычка часами рассказывать мужу про свою маму и про все, что она делает неправильно. Я делилась с ним всеми нашими с ней разговорами, подчёркивая, как неправильно она себя ведёт, как меня это раздражает. И по-прежнему не замечала, что делаю то же самое, что и она: обсуждаю и осуждаю. Муж спрашивал меня:
– Зачем ты так много про неё говоришь? Закончила с ней беседу – и все. Её тут нет. Зачем уделять ей теперь время, отдавать и свои, и мои силы? Подумай о чем-то другом, пойми, что ты в нашем доме, словно в крепости. Не давай ей здесь поселиться. И вообще, мне кажется, что тебе пора завязывать с этими многочасовыми разговорами.
– Нет, что ты, что ты! Мне совсем не сложно с ней разговаривать! – вдруг с натянутой улыбкой отвечала я. – Я не могу перестать общаться с мамой. Она ведь волнуется за нас, нам с ней порой очень весело.
– Она не волнуется за нас, она пытается нас контролировать. И заодно заполнить свои дни.
– Да как ты можешь так говорить?! Моя мама – не бездельница. У неё очень много дел! Она... она...
– Ну, что она? Что она делает, кроме того чтобы питаться твоими силами?
Ответом на этот вопрос был, как правило, плач. У меня не было никаких жизненных сил. Сил на разрыв с мамой тоже не было. Единственной защитой мог быть плач. Или перевод разговора на то, что и бабушка Андрея ничего не делает, и точно так же тянет из меня силы.
Через полтора месяца после того Рождества, которое мы провели у моих родителей, у Андрея заканчивался первый контракт во Франции, и нам надо было уезжать. Мы уже знали, что вернёмся в эту страну, правда, в другой город и на другую работу, поэтому надо было распродать все имущество, мебель и прочее, собрать все вещи и уехать в Россию. Процесс был очень тяжёлым и напряжённым. Мы в очередной раз убедились в том, что переезд хуже пожара. Особенно когда авиалинии ведут жёсткую политику перевозки багажа, и надо все своё имущество запихнуть в три, максимум – в четыре чемодана. Остальное нужно либо продать, либо подарить друзьям. Наконец настал момент, когда мы отдали ключи от нашей квартиры. В этот же день мы должны были арендовать машину, чтобы со всем багажом доехать до аэропорта. Квартиру мы сдали накануне отъезда, потому что боялись, как бы не возникли какие-нибудь сложности и задержки, и не хотели все делать в последнюю минуту, осознавая, что можем в итоге опоздать на самолёт. Наша подруга предложила нам последнюю ночь провести у неё в квартире, благо жила совсем рядом с нами, недалёко было переносить багаж. Она отдала нам ключи, и когда мы наконец распрощались с нашим жильём, то пришли в квартиру подруги и просто грохнулись на диван. У меня было такое ощущение, словно меня придавил какой-то гигантский контейнер. Через два часа надо было вставать и идти снимать машину, но у нас не было на это сил. Мы словно находились в невесомости, пошевелить рукой или ногой было сложно, и нам стоило большого самообладания всё-таки заставить себя встать.
Когда на следующий день мы ехали в аэропорт, я всю дорогу молилась только о том, чтобы не попасть в ДТП, спокойно добраться до места, вернуть машину, сдать багаж и сесть в самолёт, где можно будет и поспать. А потом – Россия. Если когда-то, ещё перед отъездом из Швеции, меня мучили кошмары, что нам будет плохо и неуютно в РФ, мы никогда оттуда не вырвемся, то сейчас Россия предстала передо мной в роли спасительницы, которая даст нам долгожданный отдых и позволит расслабиться.
Поселились мы опять в квартире у бабушки и брата. Я ничуть не изменила свой подход. Меня все так же бесила неопрятность квартиры и всякая грязь, я просто была слишком уставшая для того, чтобы это постоянно заявлять вслух. Обстановка стала полегче, чем годом раньше, но все равно у меня бывали крупные срывы. Я прямо чувствовала, как накатывает раздражение, пыталась его сдерживать, но в итоге меня все равно прорывало. Каждый раз со слезами извинялась перед бабушкой и перед мужем, но уже стала терять надежду на то, что это когда-либо прекратится.
Морально поддерживала только мысль, что все равно скандалы происходят реже, чем раньше, и у нас даже получилось немного отдохнуть. Через три месяца мы вернулись во Францию. На новом месте у нас была ужаснейшая маленькая квартира в 27 квадратных метров, с видом на стену. Мало того, что мы себя чувствовали как в тюрьме, так ещё к нам вообще никогда не попадал солнечный свет. Нам понадобилось несколько месяцев, чтобы понять весь ужас этого.
Я старалась себя утешить тем, что у нас общий с соседями балкон с красивым видом, что мы не слышали вообще никаких городских звуков, так что могли даже спать с открытым окном и наслаждаться шумом ветра и пением птиц. Изо всех сил пытаясь найти в этом какие-то позитивы, я все равно чувствовала, что это всего лишь самообман. Стены были настолько тонкие, что мы просыпались от будильника соседей, слышали, как чихает владелец дома этажом ниже, чувствовали запах его трубочного табака. Мы делили с соседями холодильник и стиральную машину, что, в принципе, превращало наши квартиры почти в общежитие.
При всей этой обстановке я не переставала разговаривать с мамой по скайпу. Каждый день по часу, два, а иногда и по три. Все меньше и меньше мне хотелось с ней чем-либо делиться – и наше общение становилось все более и более сухим, скучным и напрягающим. Я непрестанно жаловалась мужу, что у меня больше нет на это сил.
– Так прекрати, – отвечал он мне.
– Не могу.
– Почему?
– Не знаю. Я же не могу просто так перестать общаться с мамой. Я ей многим обязана.
– Чем конкретно? – не сдавался Андрей.
– Многим. Образованием, всеми поездками, в которые родители нас брали... Да и до сих пор они нам много помогают.
– Получается, ты расплачиваешься тем, что отдаёшь маме по несколько часов в день?
– Да нет, ну что ты! – возмущалась я. – Как ты можешь так говорить! Она ведь меня любит.
– Если это так, то она и сама должна понимать, что у тебя нет ни времени, ни сил для того, чтобы вести эти пустые разговоры.
– Я не могу ей этого сказать...
– Что тебе мешает? – муж уже даже не сердился, он правда пытался понять.
– Не знаю...
Мне теперь сложно сказать, что во всем этом было причиной, а что – следствием. Может быть, это был просто какой-то общий естественный процесс внутри меня, но перемены вдруг стали происходить с невероятной силой. Во-первых, я стала сильно скучать по России. Страна, в которую поначалу так страшно было ехать, теперь стала мне сниться. Мне казалось, я бы полжизни отдала за то, чтобы пройтись по самому обыкновенному подмосковному жилому району, посмотреть на широченные проспекты, почувствовать запах Москвы.
Я чувствовала, что проблема с мамой заходит в тупик. Понимала, что Андрею все тяжелее слушать мои бессмысленные жалобы и пересказы бесед по скайпу. Понимала, что не хочу и не обязана отдавать матери столько своего времени лишь для того, чтобы слушать, кто и что делает неправильно в своей жизни. Я от этого невероятно устала, но высказать ей это тоже не было сил. И решила поискать помощи в психологии, почитать книжки на эту тему. Мы как раз поехали на машине в отпуск, и я скачала себе первую книжку. Началось все очень невинно: «Три ошибки наших родителей» Курпатова. Казалось бы, никаких революционных идей, достаточно простые истины. Я помню, насколько меня впечатлила мысль, как бессмысленно с точки зрения педагогики ведут себя взрослые, когда, например, говорят ребёнку: «Не говори маме, что я тебя угостил шоколадкой, она ведь это запрещает». Так в малыше укрепляется не мысль, что нельзя есть много сладкого, а наоборот – непонятно почему мама запрещает, но есть кто-то добрее и лучше, кто разрешает. Ребёнок делает вывод: важно не то, съел он шоколадку или нет, а то, узнает ли об этом мама.
Я даже не знаю, что меня в этом так поразило. Может, это просто была последняя капля: в ней самой нет ничего особенного, не важен ни её цвет, ни запах, лишь само присутствие. Она появилась – и чаша переполнилась, из неё полилось её содержимое.
А из меня выплеснулись воспоминания.
Сцена 6
Школа. Дети столпились после занятий в коридоре. За всеми пришли родители. К младшей дочке подходит её мать.
Мать. Ну что, вам вернули ваши контрольные по математике?
Аня. Да, я получила пятёрку.
Мать. Молодец. А что получила Лена? Аня. Четвёрку.
Мать. Что-то она последнее время постоянно получает на один балл меньше тебя.
Аня. Да, забавно.
Мать. Ну, пойдём уже!
Сцена 7
Школьный коридор. У окна стоят родители, ждут своих детей после занятий. Раздаётся звонок. Из дверей всех классов выбегают дети. В толпе появляется Аня, подходит к своей матери. Выражение лица у девочки неясное, но она пытается шутить.
Аня. А сегодня Лёня получила пятёрку за диктант, а я – четвёрку.
Мать. Четвёрку?
Аня (заметно напряжённая) Да...
Мать. Поговорим дома.
Крепко хватает Аню за руку и тащит её из школы.
Сцена 8
Прихожая в квартире. Мать моментально разувается, снимает куртку и идёт в комнату. Слышен характерный стук – так пряжки ремней ударяются о дверь шкафа, когда его быстро распахивают. Аня тут же понимает, зачем его открыли, пытается проскочить в другую комнату, но мать быстрее её. Она выскакивает с большим ремнём, хватает дочь за руку и тащит за собой. Аня пытается вырваться и убежать, но мать крепко её держит, в итоге они обе крутятся на одном месте. Мать одной рукой вцепилась в дочку, другой начинает бить её по попе ремнём.
Мать. Сейчас мы все выясним. Четвёрку, говоришь? И чему ты так радуешься?
Аня (кричит). Мамочка, прости, я больше не буду! Ну, пожалуйста!
Мать (бьёт). Я тебя спрашиваю, чему ты радуешься?!
Аня. Я не радуюсь, правда!
Мать (бьёт). Радуешься! Каким ты довольным тоном мне сказала: «Лена получила пятёрку, а я – четвёрку!»
Аня. Нет, я не радовалась, мамочка, ну пожалуйста!
Мать (сопровождая каждый вопрос ударом ремня). Что – пожалуйста? Что – пожалуйста?! Я тебе говорила: «Учи орфографию»? Говорила?!
Аня. Говорила...
Мать (бьёт). Говорила?
Аня. Говорила...
Мать (бьёт). И почему ты не учила?
Аня. Я учила… Мамочка, ну пожалуйста!
Мать (бьёт). Как пишется «точка»?!
Аня. С мягким знаком...
Мать. Что-о-о?!
Аня вырывается, начинает бегать вокруг стола, мать гонится за ней. Девочка испуганно смотрит через плечо, в её глазах немая мольба о пощаде. Ей хочется, чтобы кто-то её защитил и пожалел, но в квартире больше никого нет. Есть только мать с искривлённым от злости лицом.
Мать. А ну-ка, стой! Стой, я сказала!
Аня. Мамочка, пожалуйста, не надо! Я больше не буду.
Аня забирается под стол и оттуда смотрит умоляюще на маму. Одно запястье у неё все красное от нажима руки матери, девочка заплакана и испугана, глаза расширены от страха, она похожа на мышку, загнанную котом в угол. Аня знает, что ей отсюда уже никуда не деться. Мать наклоняется над ней, смотрит с отвращением.
Мать. Ты – трус! На тебя даже смотреть противно.
Она бросает эти слова с таким отвращением и силой, что Аню от них передёргивает, как от удара электротоком.
Мать (уходя с ремнём в другую комнату). Садись делать уроки.
Аня, явно обрадовавшись, что ремень унесли в другую комнату, вылезает из-под стола, бежит за тетрадками и садится за стол. Вид у неё совершенно растерянный, глаза красные, она не знает, за что браться.
Сцена 9
Утро. Дети собираются в школу. Катя (8 лет) достаёт из шкафчика носки, но спросонья не замечает, что один из них падает. Садится на диван, надевает носок, ищет взглядом другой и видит его у шкафчика. Встаёт и идёт его подобрать. В это время в комнату входит мать. Она тут же начинает кричать.
Мать. Ты что, с ума сошла? Ты зачем ходишь в одном носке?
Катя. А что такого?
Мать. Что такого? Что такого?! У нас дедушка лежит в коме, а ты в одном носке ходишь?!
Катя. А какая связь?
Мать. Какая связь? Я тебе сейчас объясню, какая связь! (Идёт в свою спальню, по дороге продолжая выкрикивать). Нельзя ходить в одном носке! Носки – парный предмет. И если ходить в одном, то обязательно что-то случится с родителями!
Из спальни слышен характерный стук пряжек об дверь шкафа. Вскоре в дверях появляется мать с ремнём в руках. Катя начинает убегать.
Мать. Иди сюда!
Ей удаётся схватить дочь за одну руку. Катя начинает убегать по кругу, мать удерживает её, вращается вместе с ней и бьёт ремнём по заднице, продолжая приговаривать.
Мать. Какая связь? Ах ты, неблагодарная! Мы удивляемся, почему дедушка из комы не выходит, переживаем, а она в одном носке расхаживает! Он ведь из-за тебя умереть может! Как ты папе в глаза потом смотреть будешь?
Аня. Мамочка, не надо, она же не знала!
Мать. Ах, не знала она?! А если дедушка умрёт?!
Катя кричит, продолжая убегать.
Мать (продолжает бить). Стой на месте! Стой, я сказала! Я же тебе объясняю, нельзя ходить в одном носке!
Катя вырывается и бежит к шкафчику, чтобы надеть второй носок. Мать бросает ремень, подбегает к ней, хватает за горло и начинает трясти.
Мать. Из-за тебя дедушка в коме, а ты, как ни в чем не бывало, носочки надеваешь?!
Катя пытается отогнуть пальцы матери. Её крик местами переходит в хрип. Она огромными глазами смотрит прямо матери в глаза. Аня убегает в ванную, встаёт у окна на колени, поднимает ручки кверху.
Аня. Господи, Боже наш, не дай, пожалуйста, маме задушить Катю. Она ведь всю жизнь сожалеть будет...
Сцена 10
Дети (7-9 лет) сидят за столом и делают уроки. У Ани грустное лицо, она вздыхает.
Витя. Что случилось?
Аня (понизив голос и тревожно оборачиваясь на дверь кухни, где мать готовит обед). Просто как-то беспокойно. Мне очень хочется выплакаться, но я ведь не могу этого сделать.
Витя. Почему?
Аня. Мама мне не даст. Сразу засыплет расспросами, что случилось, почему я плачу. И вот это: «Что, кто-то умер?»
Витя. А что на самом деле случилось?
Аня. Не знаю. У меня просто предчувствие, что скоро опять будет скандал.
Витя. Надеюсь, твоё предчувствие тебя подведёт...
Сцена 11
Вечер. Дети сидят за столом, рисуют и раскрашивают.
Катя. Как хорошо, что родители иногда уезжают за покупками, можно спокойно посидеть и поделать что-то вместе.
Витя. Да, это точно.
Аня. И можно поговорить, о чем хотим, никто нас не контролирует.
Катя сидит и очень долго закрашивает одну и ту же точку фломастером.
Аня. Не делай так, родители ведь предупреждали, что краска может протечь через бумагу и испачкать клеёнку на столе.
Катя. Ой да, я забыла.
Поднимает рисунок и видит, что на клеёнке осталось несколько фиолетовых пятнышек. Катя пытается стереть их рукой, но у неё ничего не получается.
Витя. И что мы теперь будем делать?! Может, попробовать замыть мылом, пока родители не вернулись?
Аня подходит к окну.
Аня (с ужасом). Родители приехали!
Дети начинают суетиться. Они испуганы и растеряны одновременно.
Витя. Давайте переложим клеёнку наоборот. На том конце стола никто не сидит, может быть, они и не заметят, что там какие-то пятна.
Дети впопыхах перекладывают клеёнку и как ни в чем не бывало садятся на свои места. Притворяются, что рисуют, хотя чувствуется их напряжение. Входят родители, которые, очевидно, видели через освещённое окно, что дети что-то быстро делали перед их приходом, они же выбегают навстречу матери и отцу, в надежде, что удастся их отвлечь. Но родители сразу подходят к столу и начинают все рассматривать. Они, вроде бы, ничего не заметили, дети даже немного расслабились. И тут родители обнаруживают злосчастную раскраску с жирным фиолетовым пятном.
Мать. Это чей рисунок?
Катя (со страхом). Мой...
Мать. Я же говорила: не делайте такие жирные пятна. Фломастеры быстрее используются, да и краска может протечь на стол.
Она присматривается к клеёнке на месте, где обычно сидит старшая дочка, но ничего там не находит. К столу подходит отец, смотрит на него недолго.
Отец (Кате). А где ты сидела?
Катя (показывает со страхом на своё обычное место). Здесь...
Отец. Нет, здесь!
Он показывает пальцем на противоположное место, где заметно фиолетовое пятно. Даёт Кате пощёчину.
Отец. Почему ты нам врёшь?!
Катя. Папа, извини!..
Мать. Ах вы, заразы такие! Вы нас за идиотов держите? Кто придумал переложить клеёнку?
Дети трясутся от страха, Катя плачет.
Мать. Я спрашиваю, кто это придумал?!
Дети со страхом переглядываются.
Мать. Я спрашиваю, чья это была идея?!
Витя, думая, что это спасёт ситуацию, решает ответить.
Витя. Это была наша общая идея.
Мать. Ах, общая?! Значит, вы все решили нас обмануть? Тогда идите все сюда. (Обращается к Ане). Принеси нагайку!
Аня. Мамочка, нет, пожалуйста...
Мать. Я сказала: принеси нагайку!
Аня трясётся от плача, но, тем не менее, идёт в коридор, передвигает табуретку, забирается на неё и снимает со стены кожаную нагайку. Приносит её в комнату и трясущимися руками протягивает матери. Мать вырывает нагайку у дочери, хватает сначала Катю и начинает её бить.
Катя. Мама, извини, пожалуйста, я больше не буду!
Мать (не прекращая порку). Конечно, не будешь. Я же у вас заберу все фломастеры. Когда сами на них заработаете, тогда и будете рисовать!
Витя. Мамочка, извини нас, пожалуйста!
Мать оставляет старшую дочку, хватает сына и начинает пороть его. Аня пытается сбежать в ванную, но её хватает отец, сильно выкручивает дочери руку.
Аня. Папа, пожалуйста, не за эту руку, у меня там корочка после того как я упала во дворе!
Отец. Ах, ты меня ещё шантажировать будешь?! Нечего было здесь баловаться!
Сжимает руку так сильно, что корочка трескается, и из раны сочится кровь. Аня начинает горько плакать. Всеобщие крики все усиливаются и усиливаются...
Сцена 12
Поздний вечер. Заплаканные дети сидят в пижамах в своих кроватках. Посередине комнаты стоят родители. Идёт процесс примирения.
Катя. Родители, извините нас, пожалуйста. Я просто увлеклась рисованием и забыла про то, что фломастер может протечь на стол...
Мать. Будь осторожнее в следующий раз. Клеёнку-то не жалко, но ведь это могла быть, допустим, хорошая скатерть.
Отец. Мы же вам зла не желаем. Мы просто хотим, чтобы вы научились быть более внимательными и опрятными. Меня в детстве точно так же ругали за халатность. И главное, зачем вы решили нас обмануть?
Аня. Мы просто боялись, что вы будете сердиться. Мы ведь это не со зла сделали, мы хотели...
У Ани ломается голос, она начинает плакать. К ней подходит мать, начинает её гладить по голове.
Мать. Ну ладно, не плачь. Просто больше так не делайте. Нам же обидно, что вы нам не доверяете и пытаетесь обманывать. Ну все, все, не плачь. Идите, умойте личики водой.
Дети вылезают из кроваток и отправляются в ванную. Аня подходит к матери и показывает ей ранку на руке, снова начавшую кровоточить благодаря стараниям отца.
Аня. Мама, дай мне, пожалуйста, пластырь, чтобы это заклеить. Здесь все время идёт кровь.
Мать. Зачем пластырь? Ты просто спи аккуратно, не ёрзай ручкой, и все будет хорошо.
Дети умываются, родители целуют их перед сном и выходят из комнаты, погасив свет. Дружно глубоко вздохнув, дети успокаиваются и готовятся заснуть в обнимку со своими плюшевыми игрушками. Аня лежит, аккуратно положив ручку поверх одеяла. Она ещё не знает, что утром ей влетит за то, что она испачкала кровью постельное бельё.
Мой муж был просто в ужасе. Естественно, ему было сложно себе представить, что могло стоять за моим непонятным, с его точки зрения, страхом перед мамой. Каждый из моих рассказов приводил Андрея в ступор. Он не знал, что на это ответить. Да и правда, что тут скажешь? Муж меня жалел, пытался хотя бы задним числом поддержать, в общем, делал то, что было мне на тот момент просто жизненно необходимо. Так хотелось, чтобы меня кто-нибудь приласкал, сказал, какая я бедная и несчастная. Я была в ужасном состоянии. Во мне словно прорвалась какая-то дамба – и из меня потекли воспоминания. Я не могла их остановить, как одержимая говорила только об этом.
Мы как раз были в летнем отпуске, путешествовали на машине по югу Франции. Когда мы приехали в Бордо, у меня случилось нервное расстройство: поднялась температура, мне было постоянно холодно, меня трясло и знобило. Я лежала без сил на кровати, а все мои мысли кружили только вокруг этих воспоминаний. Мы почти не видели город, а то, что смогли посмотреть, не произвело на меня никакого впечатления. Все, что я отчётливо помню из Бордо, это моё душевное состояние. Я непрерывно плакала, словно пережила все ещё раз. Мы часами разговаривали с мужем. Он никак не мог успокоиться и принять все это.
Хотя историю про мою бабушку Андрей услышал задолго до этого, на фоне новых рассказов она всплывала опять и опять. Муж постоянно возвращался к одному и тому же вопросу:
– Как твой папа мог позволить что-то такое твоей маме?
– Ну как? – отвечала я. – Она нас всех терроризировала. Ты себе не представляешь, какая она страшная в гневе.
– Я понимаю. Но это ведь его родители. Значит, ему было на них плевать?
– Не говори так! – возражала я. – Он их очень любил.
– Тогда как он мог такое позволить?
– Он сделал выбор. Создал свою семью и считал, что теперь жена и дети важнее его матери.
– Но его ведь никто не заставлял бросать семью во имя матери. Дело было только в том, чтобы уделить ей больше внимания, общаться с ней, в конце концов, поехать на похороны.
– Да, я понимаю... Мне его все равно очень жалко, он ведь такой добрый... А мама всегда думала только о себе, при этом всегда придумывая какие-то теории и причины, по которым надо было поступить именно так, как ей хочется.
– Например?
– Во-первых, она построила себе ширму из приличий и вежливости. Что, мол, неприлично так себя вести в гостях, нельзя на себе фокусировать внимание и тому подобное. Бабушка ведь все равно была уже очень больна, и сложно было ожидать другого поворота событий. А во-вторых, мы ведь первый раз в жизни в Америке, ещё несколько лет назад об этом даже мечтать не могли. И как теперь срывать такую поездку? Билеты дорогие, а бабушке это уже все равно ничего не даст, даже если папа прилетит. А нам что делать? Тоже лететь? Или оставаться и без него догуливать каникулы?
– Да, вроде все логично. Но есть вещи, которые логике не поддаются. Это просто не по-людски.
– Я знаю. Мне очень сложно это вспоминать. Я и тогда мало что понимала, но когда вспоминаю сейчас, вообще ничего не понимаю. Как можно было заставить папу не лететь на похороны? Что это за аргумент, что она не может с нами одна возвращаться домой? Нам было 10-12 лет, не грудные малютки. И как матери вообще было не стыдно кричать на нас за то, что мы плачем из-за смерти своей бабушки? Последний раз я её видела, когда мне было девять лет, в день отъезда в Китай. Бабушка стояла за ограждением кладбища и махала вслед нашей машине. А до этого мы с ней проводили очень мало времени, потому что мама всегда была против. Вторая бабушка у нас в это время жила неделями, а с папиной мамой мы виделись не чаще раза в 7-10 дней, и то коротко. Она осталась там одна, дедушка умер тремя годами раньше, кроме нашего папы у неё детей больше не было, и вот в 71 год она оказалась без мужа, сына, внуков и с больным сердцем.
– Да уж... Слушай, а неужели после всего этого вы и правда догуляли ваши каникулы?
– Ещё как догуляли! Мама даже не дала отцу возможности выбора, хочет он поехать на похороны или нет. Возможно, он бы и сам отказался. В конце концов, похороны нужны не умершим, а тем, кто остался в живых, как ритуал проводов. Если верить, что есть загробная жизнь, то бабушка наверняка была рядом с нами. А если не верить, то ей тем более было без разницы, кто был или не был на её похоронах. Но папа теперь всегда может сказать, что это мама не дала ему поехать. Это было не его решение… Через несколько дней после всех этих событий мы уехали на Гавайи. Плавали в море, смотрели красивейшие виды. Ходили на шоу национальных танцев под открытым небом. Ели печёного поросёнка. Теперь я это все вспоминаю – и мне становится тошно. В семье умер один из самых близких родственников, единственный оставшийся родитель нашего отца, а мы сидели и жрали свинью... Мне мерзко это все вспоминать. Как, впрочем, и многие другие сцены из детства.
– Я очень скучаю по родителям моего папы, – сказала я однажды.
– Конечно, я понимаю, – ответил Андрей и нежно взял меня за руку. – Ты их хорошо помнишь?
– Дедушку совсем не помню, а бабушку очень плохо.
– Как? Тебе ведь было девять лет, когда она умерла?
– Да, но мы их очень редко видели.
– Почему?
– У мамы не ладились отношения с бабушкой. Она старалась свести общение с ней к минимуму.
– В каком смысле?
– Они редко заглядывали к нам в гости. Я этого, естественно, не помню, но папа рассказывал, что когда мы были совсем маленькими, то видели их настолько редко, что когда бабушка и дедушка приходили, мы их пугались, как чужих людей. Кроме того, мама часто устраивала разные сцены во время их визитов. То, вместо того чтобы с ними поздороваться, заявила, что они с папой разводятся, то скандал им устроила, что они пришли на пять минут раньше условленного времени...
– И что тогда было?
– Ничего. С тех пор они либо приходили вовремя, либо просто гуляли какое-то время у дома.
– Гуляли у дома?! – возмутился Андрей. – И папа не сопротивлялся?
– У него не было выбора...
– Ну да, ну да, – согласился муж, зная, что меня он не переубедит.
Разговоры о моем детстве стали неотъемлемой частью нашей жизни. Я говорила, говорила, говорила... Андрей меня терпеливо и с участием слушал. Он понимал, что мне нужно выговориться, вылить это все наружу. Глаза у него раскрывались все шире и шире. Я помню его тяжёлое молчание после того, как я ему рассказала историю с фломастерами. Андрей сначала долго безмолвствовал, а потом сказал:
– У меня один-единственный вопрос.
«Интересно, – подумала я, – он, наверное, спросит: неужели нельзя было купить другую скатерть, или почему никто мне не заклеил пластырем рану».
– Какой? – ответила я.
– Откуда у вас дома оказалась нагайка?
Я опешила. Действительно, откуда? Мне этот вопрос в жизни в голову не приходил. Я немного подумала.
– Не знаю... Хотя нет, знаю. Когда мой прадед строил дом, он получал разрешение на перегон скота между ним и домом соседей. То есть он явно держал кого-то вроде коров. Видимо, этой нагайкой он их и перегонял. Она осталась в доме как реликт другой эпохи.
– Да, и твои родители придумали ей просто феерическое применение! – перебил меня с возмущением Андрей. – Я могу многое понять или попробовать оправдать, но нагайка – это уже перебор!
– Да, согласна. Я, наверное, наконец поняла, почему совсем не могу смотреть фильмы или читать книжки про любое насилие, не переношу никакие сцены про эсэсовцев, гестапо, концлагеря, НКВД, ГУЛАГ и допросы. Мне до боли знакомо ощущение жертвы, которая знает, что с ней могут сделать все что угодно. Она не сможет сопротивляться. Её ещё и заставят принести орудие пытки.
– Жуткое сравнение, – ужаснулся Андрей.
– Пожалуй, да, – сказала я, подумав. – Мне самой жутко сравнивать своих родителей с гестапо, но я просто говорю тебе, что и как чувствую. Не утверждаю, что мои родители такие же, как эсэсовцы, но не забывай, что последние проявляли жестокость не по отношению к своим собственным детям... Ты знаешь, меня один вопрос не перестаёт мучить.
– Какой? – поинтересовался Андрей.
– Что же всё-таки заставляло мою маму не доходить до конца?
– В смысле?
– Ведь её, в принципе, не останавливали наши крики, она все равно продолжала порку и побои. Мама ведь тогда правда чуть не задушила Катю. А что её заставило остановиться? Сложно в такой ситуации полагать, что ей вдруг стало жалко свою дочь. А что тогда? Страх перед прокуратурой и тюрьмой? Перед ответственностью?
– О, Господи...
– Нет, ну правда? Ты знаешь, это ужасно. Но ведь если задуматься, гестаповцы и энкавэдэшники делали все ради какой-то идеи. Глупой, бесчеловечной, необоснованной, но – идеи. Более того, они знали, что если будут сопротивляться, то, скорее всего, они и все их семьи тут же станут заключёнными тех же концлагерей и ГУЛАГов. А что двигало моей мамой? Какие обстоятельства могут довести человека до такой жестокости по отношению к собственному ребёнку?
Андрей молчал в ответ. А что ответить на такой вопрос? Он не переставал меня мучить тогда, он мучает меня до сих пор. Я не знаю...
Однажды во время очередного такого разговора мой муж сказал:
– А ведь странно, что тогда, в истории с фломастерами, ты предчувствовала этот скандал, правда?
– Что в этом странного? У меня так часто бывало.
– Правда? То есть тебе хотелось поплакать, просто так тебе это не разрешали, а через день-два случался скандал, после которого ты плакала?
– Да, как-то так.
– А тебе не кажется, что вы все вместе жили в каком-то ритме скандалов?
– Что ты имеешь в виду?
– Ну, как спортсмены, которые тренируются, набирают форму, потом приходит день соревнований, выброс адреналина, состязание, а затем расслабление. Так и вы. Напряжение нарастало, вам хотелось поплакать, а потом это выливалось в огромный скандал, слёзы и всеобщее прощение. И вы расслаблялись – до следующего скандала.
– Да, что-то в этом есть.
– Слушай, а как бабушки и дедушки на это реагировали? Они знали про все эти скандалы?
– Насколько я помню, ни один не случился в присутствии родителей моего папы. Они наверняка видели, что нас особо не балуют и многое запрещают, но вряд ли знали про побои. Ведь мама держала их в стороне от нас.
– А мамина мама?
Сцена 13
Дети сидят за столом с бабушкой, она держит в руках книжку и читает её вслух. У детей лица явно не очень довольные, бабушка это видит, но, тем не менее, продолжает читать. Через какое-то время она закрывает книжку и снимает очки.
Бабушка. Ну, что вы поняли из этого фрагмента? Расскажите мне. Кто начнёт?
Катя. Бабушка, ну какой смысл каждый раз пересказывать то, что мы услышали? Ты ведь ещё после этого заставишь нас все это написать в виде сочинения, да?
Бабушка. Конечно, нужно же закрепить то, что вы узнали.
Катя. Так давай мы сразу все напишем – и дело с концом. Зачем ещё и рассказывать?
Бабушка. К чему эти разговоры? Лучше быстренько расскажи и садись писать. Ты что, совсем не хочешь сегодня заниматься?
На последних словах в комнату входит мать.
Мать. Кто не хочет заниматься?
Дети нервно переглядываются.
Мать. Я спрашиваю, кто не хочет заниматься?
Бабушка. Да они все не особо хотят...
Мать. Все?! Вы что, не хотите заниматься? Бабушка вам уделяет своё время, а вы кривляетесь? Сейчас мы поговорим!
Уходит в другую комнату, раздаётся характерный звук удара пряжек об дверь шкафа. Дети встают и переходят на другую сторону стола, подальше от дверей комнаты. На пороге появляется мать с ремнём в руке.
Мать. Ну что, кто тут не хочет заниматься? Почему вы не слушаете бабушку?
Хватает за руку сына, стоящего ближе всех к ней. Витя вырывается, но мать держит очень крепко. Она ударяет мальчика несколько раз по заднице, потом отпускает, хватает Аню. Та тоже вырывается, плачет, но на мать это не действует.
Бабушка. Ну зачем ты так? Зачем ты их бьёшь? Они ведь не все не хотели заниматься!
Мать. Не все? А кто не хотел?
Бабушка. Катя не хотела...
Мать в ярости отпускает Аню, хватает за руку Катю.
Мать. Ах вот так, да? Значит, из-за тебя влетело твоим брату и сестре, а ты стояла и молчала? Что же ты за трус, а?! Как тебе не стыдно?!
Каждое слово она сопровождает ударом ремня. Катя пытается вырваться, кричит и плачет, но мать не сдаётся, а только повышает тон и впадает в ещё большую ярость. Крики, крики, крики...
Муж был в ужасе:
– То есть бабушка видела все это, но никак не отреагировала? Стояла и молча смотрела?
– Почему молча? Она вроде пыталась нас защитить...
– Сомнительная защита, она ведь, по сути, подставила Катю!
– Да, тоже правда. Я не помню бабушкино лицо, не помню даже, чем все дело кончилось. Знаю только, что она точно при этом присутствовала и все видела. Может быть, она потом поговорила с мамой, хотя мне почему-то кажется, что вряд ли.
Андрей какое-то время молча гладил меня по голове. Мне было приятно его сочувствие, и хотя прошло уже очень много времени, мне было очень нужно, чтобы кто-то меня пожалел и приласкал.
– Слушай, а когда это закончилось? – вдруг спросил он.
– Что именно? – переспросила я.
– Ну, вы выросли, стали самостоятельными. Вас ведь когда-то перестали избивать?
– Избивать – да, перестали. Когда мы стали настолько большими, что могли бы себя защитить. Но моральная власть матери над нами не закончилась никогда.
Сцена 14
Кухня, мать стоит у плиты, что-то жарит на сковородке. Аня рядом чистит картошку, кидает очистки в миску. Мать критично на неё посматривает, на её лице ярко выражено негодование. Аня явно нервничает.
Мать. Мне что, до завтра ждать, когда ты почистишь? Я тебя помочь просила, а это – не помощь! Картошку надо уже варить, а то не успеем к обеду.
Аня начинает ещё больше нервничать, у неё на глазах выступают слезы, но девочка их сдерживает. Она торопится, очистки получаются мелкие и толстые, у девочки все время соскальзывает нож.
Мать. Ну что ты делаешь?! Куда такие толстые очистки?! Тебя никто такую расточительную замуж не возьмёт!
Аня начинает плакать.
Мать. Что ты плачешь? Что, умер кто-то?
Аня. Нет.
Мать. Уйди отсюда, я сама справлюсь.
Аня. Может, я всё-таки помогу?
Мать. Помогла уже, криворукая! Уйди, я сказала.
Аня уходит, утирая слезы. Через три минуты раздаётся крик матери.
Мать. Иди сюда!
Через полминуты прибегает взбудораженная Аня, на ходу застёгивает штаны.
Аня. Что случилось, мама?
Мать. Ничего. Пока тебя ждала, уже все сама сделала. Тебе что, сложно прийти?
Аня. Я была в туалете.
Мать. Ну конечно, где тебе ещё быть, когда я тебя зову? Убирайся отсюда. Никакой помощи от тебя не дождёшься.
Аня уходит, снова утирая слезы. Мать остаётся на кухне и бормочет недовольно себе под нос.
Мать. Никакой помощи от этих бездарей. Крутишься-крутишься весь день, ничего не жалеешь для них, а отдачи ноль. Ей уже пятнадцать лет, а она картошку не умеет чистить! Главное, спрашиваю ведь: поможешь? Она говорит: да, помогу. И какая тут помощь? Я в её возрасте уже отца потеряла, сама справлялась, а эта стоит и ревёт, бестолочь. Как же мне хочется, чтобы меня все наконец оставили в покое!
– Как же ты с этим справлялась? – перебил Андрей мои грустные мысли.
– Справлялась? Никак не справлялась. Я никогда не понимала, за что мне в очередной раз так влетело. Впервые меня наконец удостоили чести помочь на кухне, но ничего не показали, ничего не объяснили, а потом кричат и обижают! Мне было стыдно, когда подруги в школе рассказывали, что сами обед готовят. А мне даже картошку сроду не разрешали чистить. При этом было такое ощущение, что когда мать что-то делала первый раз, у неё сразу все получалось превосходно. Как меня бесило это её: «Что ты плачешь? Что, умер кто-то?» Не могла ведь на слезы смотреть, чувство вины мучить начинало. А так запретила – и все. Умер кто-то? Да, умер! Моя надежда умерла. И вера в светлую материнскую любовь. Откуда мне было знать, что она меня позовёт именно тогда, когда я в туалет пойду? И так ведь было каждый раз, надо было бежать, как собака по команде «Апорт». Чуть задержалась, все – крики, вопли, оскорбления. Меня сразу трясти начинало, когда мать орала, ничего ответить не могла, а она этим пользовалась. Потом сама успокоится, приходит так, как будто ничего не было. Вдруг ласковая, спокойная. Ведь в жизни не извинилась. Подпиталась энергией – и уползла переваривать.
– А если ты, например, занималась в это время?
– Маму это не волновало. Если ей что-то вздумалось, она меня звала, и я должна была тут же прибежать. Закончить уроки можно потом. Важно было только её желание в данную секунду.
Сцена 15
Мать стоит в ванной комнате, причёсывается. Вдруг начинает кричать.
Мать. Аня, иди сюда!
Слышны быстрые шаги в коридоре, прибегает Аня. У неё в руке книжка, страницы заложены пальцем.
Аня. Да, мама?
Мать. Что ты делаешь?
Аня. Книжку читаю.
Мать. Давай я тебе голову помою.
Аня с явным неудовольствием кладёт книжку на табуретку и начинает заправлять воротник рубашки внутрь.
Мать. Чем это ты недовольна? Что ты опять устраиваешь? Я ей голову хочу помыть, а она кривляется! Не хочешь, не надо. Иди к себе, будешь грязной ходить.
Аня (с явным страхом). Нет, мама, извини. Помой мне, пожалуйста, голову.
Аня нагибается над ванной, правой рукой держится за её край, а левой – за металлическую держалку, прикреплённую к стене. Мать стоит справа. Включает воду и начинает поливать дочери голову. Через какое-то время Аня выворачивается из-под струи.
Мать. Что ты делаешь?
Аня. Вода горячая.
Мать. И что, сказать нельзя? Какой смысл поливать ванную водой? Иди сюда!
Хватает Аню за голову и грубо притягивает к себе. Наливает шампунь, вспенивает его, затем смывает водой. Раздаётся телефонный звонок.
Мать. Стой, жди.
Идёт к телефону, снимает трубку и разговаривает. Аня стоит, нагнувшись, чтобы вода не потекла за шиворот. У неё затекает спина, она прикладывает к ней правую руку. Входит мать.
Мать. Что ты делаешь? Ты что, стоять не можешь? Звонил твой отец, сказал, что задерживается на работе. Для кого я обед готовила? Всем плевать на то, что я делаю. Стой уже нормально!
Опять наливает шампунь, нервными движениями намыливает дочери голову. Пена попадает Ане в глаз, она пытается её убрать правой рукой. В это же время её левая рука скользит по мокрой держалке, и на секунду девочка сильнее наклоняется в ванную. Несмотря на боль в спине, она тут же пытается выпрямиться, оставив глаз с пеной и схватившись обратно за бортик ванной. Но уже поздно. Мать, вцепившись в Анины волосы, начинает мотать со злостью её голову.
Мать. Ты будешь стоять на месте или нет?! Ты что, издеваешься? Что ты опять устраиваешь?
Аня. Мне пена в глаз попала...
Мать. А, то есть я ещё и виновата, да? Пена ей в глаз попала! А сказать нельзя было? Я бы её вымыла. К чему этот цирк устраивать?
Аня. Извини...
Мать, прежде чем смыть голову, льёт струю воды прямо в лицо дочке. Та пытается рукой промыть глаз.
Мать. Не трогай, я сказала!
Аня сдаётся. С закрытым правым глазом стоит и ждёт, пока все закончится. Наконец мать закрывает воду, осматривается.
Мать. С твоими цирками я про полотенце забыла. Стой здесь, жди.
Через какое-то время мать появляется с полотенцем. Аня с трудом выпрямляется, так у неё болит спина. Мать грубо вытирает ей голову, дочка уже не обращает внимания на то, приятно это или нет. Затем мать хватает расчёску и начинает нервными движениями расчёсывать Ане волосы. Они все спутаны, расчёска дёргает за узлы, девочке явно больно, она немного отводит голову в сторону.
Мать. Что ты все время за цирки устраиваешь?
Аня. Мне больно, мама...
Мать несколько раз грубо ударяет расчёской Аню по голове.
Мать. Если бы ты не дёргалась, тебе бы не было больно. Стой спокойно!
Аня стоит подавленная, она только сильно закрывает глаза каждый раз, когда мать дёргает её волосы. Наконец мать кладёт расчёску на полку под зеркалом.
Мать. Все, иди. Убирайся отсюда.
Аня. Спасибо, мама.
Аня уходит с опущенной головой. Плечи у неё трясутся. Мать развешивает влажное полотенце, моет руки, бормоча себе под нос.
Мать. Как сговорились все против меня. Я ей голову мою, а она все время кривляется. Я бы хотела, чтобы в моем возрасте моя мама мне столько внимания уделяла, а от этой даже благодарности не дождёшься. Ещё муж все время задерживается. Все торопятся после работы домой, а этот вечно опаздывает. Хоть бы приплачивали за это. Я готовлю, жду его с обедом, а он звонит как ни в чем не бывало. Господи, за что мне такие мучения? Я же все время для них стараюсь, а они мне только назло делают. Как вспомню, какая я была одинокая, когда похоронили отца. Мама была в трауре, все время повторяла, что умер её муж, ей даже в голову не приходило, что это был и мой папа, что я тоже страдаю. На меня никто никогда не обращал внимания. Есть дома было нечего, мать ничего не готовила, я с тех пор сама все делаю. И ведь ни от кого ни грамма благодарности. Помочь хочу, голову ей мою, а она мне все наперекор делает…
– Подожди, так сколько тебе тогда было лет? – спросил с удивлением Андрей.
– Пятнадцать, – машинально ответила я.
– Пятнадцать лет?! И ты сама себе не мыла голову?!
– Да, даже стыдно признаться, но это было так. И я ненавидела то, как это делала моя мать.
– Оно и понятно...
– Вообще, я бы хотела на неё посмотреть, если бы её заставили столько времени стоять неподвижно, так низко наклонившись. И если бы я ещё в это время по телефону разговаривала. Давно уже пора было поставить аппарат с определителем номера, тогда можно было бы не беспокоиться. Не успел ответить, потом посмотрел, перезвонил. Только перезвонить денег стоит, поэтому проще было бросить меня с мокрой головой и пойти отвечать.
– Ты знаешь, в данном случае я бы даже немного защитил твою маму. Она ждала твоего отца с обедом, а тут выясняется, что он задерживается, предупредив об этом в последний момент…
– Ага, с обедом она его ждала! – сказала я с иронией. – Сварила гречку, достала из холодильника куриные сосиски, поставила на стол горчицу или кетчуп – вот вам и весь обед. Меня уже тошнило от этих сосисок. Мы их ели месяцами просто постоянно. Они были на распродаже, вот мать и накупила их, забила ими всю морозилку, а потом размораживала и размораживала. Конца не видно. Хоть бы их сварила, что ли. А потом это называлось: с обедом жду.
– Извини, я не знал, – ответил Андрей.
– Тебе не за что извиняться. Сложно себе такое представить.
– Неужели мама никогда ничего не готовила?
– Очень редко. Она не любила это дело, но помогать себе на кухне тоже не разрешала. Нам уже всем дико надоело есть бутерброды да куриные сосиски. Отрадой было съездить к бабушке или пойти в гости. Хотя в гости мы нечасто ходили, мама ведь почти ни с кем не общалась.
– А со второй бабушкой вы часто встречались?
– Да, конечно.
– То есть к ней было другое отношение, чем к маме отца?
– Совершенно другое. Мы с ней часто виделись, она у нас очень много времени проводила, правда, мать редко разрешала нам ездить к бабушке с ночёвкой, словно боялась хоть на миг утратить контроль над нами. Но вообще мать побаивалась бабушку.
– Но, видимо, не так уж сильно, если вас и при ней била. Ведь не побоялась.
– Тоже правда.
– А как умерла ваша вторая бабушка?
– Она умирала очень тяжело, от рака. Сначала лежала в больнице, а когда её выписали, мы взяли её к себе и заботились о ней до последнего дня.
– И твою маму не смущало, что ко второй бабушке она отнеслась совсем по-другому?
– Нет, нисколько. У меня было даже такое ощущение, что она упивается тем, что в доме произошла беда, что ей надо себя посвятить уходу за бабушкой. Это как-то укрепляло её самомнение. При этом мы, как всегда, совсем не считались.
Сцена 16
Аня сидит за компьютером, у неё очень грустное лицо, на глазах слезы. Переписывается в чате со своей подружкой.
Подруга. Как у тебя прошёл твой пробный экзамен?
Аня. Не знаю, честно говоря, мне сейчас совершенно не до него.
Подруга. Что случилось???
Аня. Вчера ночью мою бабушку на скорой в больницу увезли. Она теперь в реанимации без сознания лежит.
Подруга. Бедная... Я могу вам как-то помочь?
Аня. Вряд ли... Хотя спасибо за готовность.
В комнату входит мать.
Мать. Собирайся, пойдём к бабушке в больницу. Там скоро часы посещения начнутся.
Аня. Хорошо, мама, сейчас иду.
Аня пишет подружке.
Аня. Я как раз сейчас с мамой пойду в больницу. Напишу тебе, как вернёмся. Давай!
Мать. Ты долго собираться будешь?!
Аня, не дожидаясь ответа подружки, выключает компьютер.
Аня. Иду, мама, через минутку буду готова!
Бежит переодеваться, слышно, как у неё хлопают дверцы шкафчиков. Выходит в коридор, надевая на ходу свитер. Мать уже стоит с недовольным выражением лица, нервно притоптывая ногами.
Аня. Уже бегу, мама.
Быстро одевается, накидывает шарф, куртку застёгивается на ходу. Они выходят.
Сцена 17
Мать с Аней идут по улице. Дочь еле успевает за матерью. Они ни о чем не разговаривают. Вдруг у Ани отстёгиваются наручные часы и падают на тротуар, в снег. Она наклоняется, чтобы их поднять, отстаёт на секунду от матери. Та нервно оборачивается и сразу начинает кричать.
Мать. Ты что, издеваешься?! Что ты делаешь?!
Аня. Я только подняла часы, мама, уже бегу.
Мать. Какие ещё часы?
Аня. Мои наручные часы. Они отстегнулись и упали.
Мать. То есть часы для тебя важнее твоей бабушки?
Аня. Нет, конечно. Я же их только подобрала...
Мать. Я сейчас в таком состоянии, что мне плевать на все часы мира. Я бы даже не заметила, если бы они у меня сейчас расстегнулись. А тебе, видимо, плевать на бабушку.
Аня. Мне не наплевать, мама. Я вообще-то очень из-за неё переживаю.
Мать. Нет, не переживаешь. Ты сидишь за компьютером и только делаешь вид, будто волнуешься. Я сейчас ни с кем разговаривать не могу, а ты всем рассказываешь, будто что-то интересное случилось. Тебе наплевать на всю нашу семью.
Аня начинает плакать.
Мать. Ну что ты как размазня какая-то?! Прямо на улице реветь будешь? Что, кто-то умер?
Аня. Нет.
Мать. Прекрати немедленно! Как ты в больнице покажешься в таком состоянии?
Аня. Вообще-то там большинство людей в таком состоянии.
Мать. Ах ты, хамка какая! Как тебе не совестно? У меня мать в больнице лежит, а ты мне хамишь?! Ты зачем со мной пошла, чтобы мне настроение ещё больше испортить?
Мать замахивается на Аню, но та успевает увернуться.
Мать. Ты зачем со мной пошла, я тебя спрашиваю?!
Аня. Я иду бабушку навестить.
Мать. Нет, ты не к бабушке идёшь. Тебе на неё плевать. Только и ждёшь, чтобы вернуться домой и всему миру рассказать, какая ты несчастная!
Аня идёт и молча плачет...
Этим воспоминаниям не было конца. Андрей меня слушал, жалел, пытался помочь. Тогда мне это было очень нужно, хотя сейчас мне кажется, что, может быть, не стоило этого делать. Я переживала все эти моменты заново, опять себя терзала и плакала, хотя это ничего не меняло. А что, собственно, могло измениться от таких разговоров? Было очевидно, что мать думала только о себе. Она считала, что я – хамка и нахалка, которая притворяется, будто переживает из-за болезни бабушки. А единственным человеком, который мог страдать по-настоящему, была, естественно, она. Мать, как всегда, захлёбывалась этой своей теорией о том, что она всем занимается одна, ей никто не помогает и не поддерживает.
Мне же было тяжело и обидно. Мать все время повторяла «моя мама я больнице», словно её мама и моя бабушка – два разных человека. Она считала, что только у неё есть повод для переживаний, а все мои можно облить говном. Да, я переписывалась с подружкой, потому что мне надо было с кем-то поделиться, от кого-то получить поддержку. Больше ведь мне её никто не давал. Всем было плевать на то, что у меня в это время были пробные выпускные экзамены, я ночами плакала, а днём не могла собраться с мыслями. Мама спала тогда со мной, мол, в её комнате лежала больная бабушка, поэтому она и переселилась ко мне. Каждый вечер я её успокаивала, мама плакала, не могла заснуть. А когда она наконец устраивалась поудобнее, и мне нужно было ещё самой успокоиться и уснуть, она начинала меня ругать за то, что я ворочаюсь и ей мешаю. Помню, у меня тогда появлялись мысли, что если бы я в реанимацию попала, тогда, может быть, побыла бы одна, да и пожалели бы меня наконец...
Что тут ещё можно сказать? Все было предельно ясно. Но я возвращалась к этому снова и снова. Андрей пытался у меня спросить, зачем мне это, почему я постоянно копаюсь в этих воспоминаниях и почему раньше не сопротивлялась. Ведь брат с сестрой не поддавались на все эти шантажи, они ясно заявляли свою позицию, на них никто не давил так, как на меня. Я не понимала, о чем муж говорит, упорно повторяя, что у меня не было выхода, что меня заставляли, что Андрей даже представить себе не может, какому сильному воздействию я подвергалась. Против таких аргументов сложно было что-то возразить.
Возможно, моему мужу казалось, что я зациклилась на своих воспоминаниях, что они ни к чему не ведут. Если так, то он был прав только частично. Да, сами воспоминания ни к чему не приводили. Но где-то внутри меня начинало созревать новое понимание реальности. Это невозможно передать словами – словно вода, которая медленно, но верно подмывает камень. Во мне стали происходить серьёзные изменения. И началось все отнюдь не с каких-то перемен в моем поведении по отношению к маме, а с того, что я вдруг переосмыслила свои отношения с семьёй Андрея. В один день я вдруг поняла, что брат и бабушка – два самых дорогих человека для него. У меня перед глазами чётко встал образ, как моя собственная любовь к Андрею проходит через него насквозь и тянется дальше к тем, кого любит он. Я поняла это не головой – почувствовала сердцем. Осознала, что на самом деле эти люди мне так же близки, как и мужу, и что любви не бывает много. Нельзя зацикливаться на своих чувствах к одному единственному человеку, любовь – это действительно неиссякаемый источник, и если она настоящая и сильная, то её хватит на многих.
Я сразу написала об этом брату Андрея. Он так ни разу у нас и не гостил вместе с бабушкой, и я прекрасно понимала, что не приезжает он из-за моих чувств, из-за моей гордыни, из-за того, что на самом деле я к нему относилась свысока. Я написала, как чувствовала, и это было, наверное, самое искреннее письмо в моей жизни. Вечером того же дня брат купил билеты себе и бабушке на поездку к нам.
Этот их визит к нам стал незабываемым. У нас не случилось ни одного скандала, мне даже не приходилось сдерживать своё раздражение. Я расслабилась, и мы все получили море удовольствия.
После их отъезда ко мне опять вернулись навязчивые воспоминания про отношения моей матери с папиной мамой. Мне впервые тогда подумалось, что суть там была не просто в извечном противостоянии невестки и свекрови, которое в большей или меньшей степени всегда будет присутствовать, ведь я полностью убеждена, что как бы обе стороны ни старались, полностью остановить эту борьбу невозможно. Она всегда будет проявляться в мелких подколках, шутках, иногда даже в обидах. Думаю, это инстинкт женщины, которая борется за внимание и власть над своим мужчиной, каждая со своей позиции. Но при определённой доле понимания с обеих сторон эту борьбу можно свести к минимуму, она может идти параллельно совершенно другим эмоциям. Эти две женщины могут дружить и быть близки. Но только при условии, что они обе этого хотят, каждая уважает другую не только как человека, но и как кого-то важного для своего любимого мужчины. Это, безусловно, сложно, но возможно.
И я вдруг подумала, что во всей истории про мою бабушку мама вела себя как посторонний человек, словно она никак не хотела принять участие в её судьбе. Для матери важно было, чтобы она могла спокойно собрать вещи в день отъезда за границу, чтобы папа слишком много денег не потратил на разговоры со своей мамой, чтобы мы съездили в отпуск и чтобы ничто и никто его не нарушил. Бабушка в этом не считалась вообще, я не помню, чтобы мама хоть слезинку уронила после её смерти. И тогда я отчётливо поняла: если любовь к мужу в какой-то степени равняется и любви к близким ему людям, то нелюбовь к ним, скорее всего, обозначает и нелюбовь к мужу. Но так ли это было? Откуда мне знать, любит ли мама папу? Могу ли я быть судьёй их отношений, на самом деле ничего о них не зная? Или зная? И тут я вспомнила...
Сцена 18
Мать. Я же в день свадьбы трубку бросила, когда мы с вашим папой поссорились.
Аня. Как бросила?!
Мать. Да очень просто. Он со мной не согласился, начал повышать голос, и я бросила трубку. Никогда не забуду это ощущение, когда вышла в комнату, уже в свадебном платье, и сказала со смехом своим маме и бабушке: «А свадьбы не будет». Они на меня посмотрели с ужасом: «Как?!» А я засмеялась. Не знаю, о чем я тогда думала, как я себе все представляла. Но, в принципе, была уверена, что папа перезвонит, хотя и знала, что он звонил из автомата, и ему придётся выйти, занять заново очередь, отстоять её и только после этого позвонить. Мне было даже интересно, сколько времени у него на это уйдёт. Кстати, он быстро управился. Перезвонил, извинился, и мы поженились.
Катя. А если бы не перезвонил?
Мама. Тогда, наверное, не поженились бы. Я бы не уступила. Нечего было на меня кричать.
Я слышала эту историю много раз. Мама с каким-то странным удовольствием рассказывала её снова и снова. Такими были её воспоминания о дне их с папой свадьбы. В детстве во мне бурлили очень противоречивые чувства. Мне было противно слушать то, что говорила мама, ещё больше меня выводила из себя манера, в которой она это делала. Мать очень любила рассказывать нам, как все её добивались, как один из её бывших молодых людей избил из ревности её нового ухажёра, как кто-то привёз из Сирии обручальные кольца и пришёл ей делать предложение, как к ней в институте подкатывали парни, и как она с ними ездила на картошку, где они всей группой – и мальчики, и девочки – спали в одной комнате. Меня бесил слащавый тон её рассказов и какая-то несвоевременная кокетливость. Чью ревность она хотела этим вызвать, нашу или папину? Отцу, думаю, уже давно эти истории надоели, да и смешно спустя двадцать пять лет совместной жизни, при трёх взрослых детях, ревновать к историям тридцатилетней давности. А ещё смешнее кокетничать перед собственными дочерьми. Зачем нам знать, кто за мамой ухаживал и сколько раз ей делали предложение руки и сердца? Я бы ещё могла понять, если бы это был разговор по душам, с глазу на глаз, когда дочка у мамы совета спрашивает, и та ей рассказывает о своей жизни. Но не так, за ужином, словно она хвасталась перед нами.
На самом деле, тогда я это все не до конца осознавала. Мне было неприятно слушать, но тяжело понять, что в этом неправильного. Никто не решался с мамой вступать в споры, проще было выслушать и пойти заниматься своими делами. Только я тогда не знала, что это липкое, чёрное отвращение останется во мне, если я не дам ему выйти наружу. Да, когда она заканчивала, я уходила по своим делам, но заниматься-то ими как раз не получалось. Я вилась как уж на сковородке, вспоминая все эти разговоры. Мне было противно, но высказываться было страшно.
Когда потом, с новым понимаем мира, я вспомнила это снова, то подумала: любопытно, что во время своих рассказов мама никогда не смотрела на папу. Он сидел в таких случаях, сложив руки на груди и опустив голову. Интересно, о чем он думал в это время? Неужели ему это было безразлично? Неужели ему было приятно слушать, как мама распинается о своих ухажёрах и возлюбленных? Или отец был в состоянии отключиться от этого унизительного рассказа и думать о своём?
Самое ужасное, что для меня следовало из этой истории – мама на самом деле не любила папу. Она играла в какую-то тщеславную игру под названием «А я всё-таки заставлю его сделать по-своему». Не могу себе представить любящую женщину, которая в день свадьбы ссорится со своим женихом и смеётся над этим. Увы, не могу.
Но была ещё одна важная вещь, о которой следовало задуматься: а что испытывал папа к маме? Чем же она его настолько к себе привязала, что даже такое поведение в день свадьбы не заставило его передумать? После того как они два года ждали свадьбу, потому что мама не могла воспротивиться своей маме, которая, в свою очередь, боялась потерять работу, если её дочь выйдет замуж за иностранца. Они откладывали и откладывали, и все это время мать кормила отца нравственными принципами, которые заключались в том, что в постель можно лечь только с законным мужем. За три месяца до свадьбы мама заявила папе, что лучше им, наверное, не жениться, а то всем её родственникам хуже будет. Передумать уговаривал её папа, а не наоборот. А потом в торжественный день оказалось, что жениху по дороге за невестой надо заехать в издательство, чтобы забрать какие-то рукописи будущей тёщи. Он возмутился, сказал, что не будет этого делать, потому что это, в конце концов, их свадьба. На это мама и бросила трубку. Что заставило его перезвонить, извиниться, попросить передумать и, естественно, согласиться поехать в издательство? Как папа умудрился уже тогда впасть в такую сильную зависимость от мамы? И если до и в день свадьбы он уже был под таким её влиянием и властью, то после дело стало ещё хуже.
Отец не мог противиться ей ни в чем. С одной стороны, он не одобрял побои и все скандалы, которые мама нам устраивала. С другой – не только никогда не пытался нас защитить, но ещё и сам часто в них участвовал. Когда я уже была взрослой, папа много раз говорил мне, что ему было с мамой очень тяжело, что она его шантажировала, доводила до нервных срывов и тут же заставляла их подавлять. Она над ним просто издевалась психологически. А на мой вопрос, почему же он не развёлся, отец ответил, что не хотел терять семью, к тому же думал, что в любом случае нам будет лучше с двумя родителями, чем если они разведутся, и мы останемся одни с мамой.
Оправдание очень трогательное и жертвенное, но в нем немного не хватает логики. Папа всегда утверждал, что мамино издевательство над нами имело место уже тогда, когда мы были совсем маленькими. Например, когда моя сестра не могла уснуть, но при этом не плакала и не кричала, а просто лежала с открытыми глазками и смотрела в потолок, мама устраивала скандалы, в которых обвиняла двухлетнюю дочку в том, что она нарочно не засыпает, мол, демонстрирует, что ей неудобно в кроватке. А раз так, то ей там не место – и девочку укладывали в одной пижамке на холодный пол в прихожей, чем, естественно, доводили до плача и крика, за который опять же следовало жестокое наказание. Так вот, когда мне был годик, а брату с сестрой по три, у мамы не было никакого гражданства. Она отказалась от советского паспорта и долго ждала польского гражданства. Если бы папа тогда с ней развёлся, детей точно оставили бы с ним, а не с неуравновешенной женщиной без документов, работы и собственной жилплощади. У отца все козыри были на руках, но он не захотел ими воспользоваться. Почему? У меня на этот вопрос есть только один ответ: потому что он – тряпка. В нем не хватало мужества защитить своих собственных детей от безрассудных действий обезумевшей, разъярённой жены.
И тут до меня дошло: вот о чем все время говорил Андрей, когда я возвращалась к истории с папиной мамой! Ведь отец действительно не захотел защитить даже собственную мать! Призрачное спокойствие семейной жизни ему было важнее чем то, как одиноко себя чувствовала его мама накануне смерти. Она лежала в больнице одна. К соседкам по палате приходили дети и внуки, а у неё не было никого, кроме нас, но мы были далеко – и бабушку никто не навещал. А после её смерти мы поехали на Гавайи и жрали печёного поросёнка. И папа им не подавился…
Все эти воспоминания были как вершина Айсберга. Я не знала, где они закончатся и к чему приведут. Мне порой было даже страшно. Эти сцены выплывали из моего подсознания совершенно непредсказуемым образом и с невероятной силой. Я понимала, что это не мои выдумки, что это действительно было, но при этом ловила себя на мысли, что ведь ещё недавно этого не помнила. Мне пришлось потратить невероятное количество сил на то, чтобы все эти образы убрать из своего сознания, так как жить с ними было невозможно. Я все это забыла и пребывала в заблуждении, что у меня отличная семья, что мы все очень дружные, просто у мамы бывают срывы, но это нормально, и мне на самом деле жаловаться не на что, ведь у других все ещё гораздо хуже. Но когда иллюзия растаяла, я стала понимать, в каком абсурде и под каким бессмысленным контролем я жила.
Сцена 19
Первое число месяца. Мать выходит из своей комнаты и громко обращается ко всем детям (15-17 лет).
Мать. Дети, сегодня вы опять получаете свои карманные деньги, как и каждый месяц.
Дети (каждый из своей комнаты). Спасибо, мама!
Мать. Я вам их положу на ваши счета. Или кому-то нужно что-то выплатить?
Витя. А сколько у меня денег на счёту?
Мать. Сто семьдесят злотых, а что?
Витя. Ничего, просто хотел узнать.
Аня: Мам, а ты можешь мне, пожалуйста, выплатить 30 злотых?
Мать: Зачем?
Аня. Хочу Лене подарок купить, у неё скоро день рождения.
Мать. Зачем покупать? Я тебе лучше дам что-то из наших подарочных вещей. Не к чему деньги тратить.
Сцена 20
Мать приходит в комнату Ани и даёт ей деревянные серёжки в запечатанной коробочке.
Мать. Это подойдёт?
Аня. Не знаю, она не носит серёжки, у неё уши не проколоты.
Мать. Хорошо, сейчас ещё что-нибудь поищу.
Уходит, через несколько минут появляется снова, на сей раз с розовой тряпочной сумочкой.
Мать. А вот это?
Аня. Ну, не знаю... Она не носит розовые вещи...
Мать. Какая она у тебя, принцесса прямо, ничего ей не подходит!
Уходит с недовольным видом, вскоре возвращается, в руках – большая белая фаянсовая фигурка ангелочка.
Мать. А это?
Аня (безразличным тоном). Да, хорошо, спасибо, мама.
Мать. Я тогда вычту десять злотых из твоих денег. Считай, сэкономила ещё двадцать.
Аня (вяло). Здорово, спасибо, мама.
Сцена 21
Мать обращается ко всем детям (17-19).
Мать. Дети, вы знаете, что папа пока без работы. Пособия, которое ему платят, не хватает почти ни на что. У нас сейчас очень узкое горло в финансовом смысле, поэтому хочу вас попросить, чтобы вы отдали мне все свои наличные деньги. Я запишу, сколько у вас было, и как только папа найдёт работу, вы сможете ими воспользоваться. Но сейчас нам они очень нужны.
Дети, проникнувшись ситуацией, достают свои кошельки и идут к матери, чтобы отдать ей деньги. Первым подходит сын.
Мать. Так, значит, сколько у нас тут? Пятьдесят семь злотых. Сейчас запишу. У меня на счёте было ещё сто шесть твоих, значит, теперь у тебя сто шестьдесят три злотых. Спасибо.
Витя. Да не за что, мама.
Подходит Катя.
Мать. Сколько у тебя?
Катя. Двадцать восемь злотых.
Мать. А что так мало?
Катя. Я себе как раз вчера купила большой сборник эссе Умберто Эко.
Мать. Ты вообще нормальная, нет? Отец без работы сидит, а ты книжки покупаешь! Сколько она стоила?
Катя. Сорок пять злотых.
Мать. Молодец! И что мне теперь прикажешь, суп из неё сварить?
К а т я (самоуверенно). Нет, конечно. Сборник мне вообще-то по учёбе нужен.
Мать: У нас денег нет, тебе это не понятно?
Катя. Понятно.
Мать. Нет, тебе это не понятно! Тебе плевать на наши проблемы!
Катя. Нет, мне не плевать.
Мать. Было бы не плевать, ты бы вчера думала, на что деньги тратишь. Все, убирайся отсюда.
Катя пожимает плечами и уходит с гордо поднятой головой. К матери подходит Аня.
Мать (раздражённо). Сколько у тебя?
Аня. Восемьдесят пять злотых.
Мать (удивлённо). Откуда у тебя столько?
Аня (робко). Ну... У меня просто были заначки на сорок злотых, и я подумала, что если вам так нужно...
Мать (перебивает). Что значит «заначки»?! Откуда они у тебя?
Аня (робко). Ну... Я их скопила, держала на всякий случай...
Мать (злобно). На какой всякий? Ты же у меня на счёте деньги копишь! Или ты хочешь сказать, что чем-то недовольна?!
Аня (испуганно). Нет, конечно, мама! Я... я просто забыла тебе их отдать... А сейчас посмотрела, увидела, что они у меня есть, и решила отдать все, чтобы вам помочь...
Мать. Что значит «нам помочь»? Мы с отцом вообще-то вас содержим! Мне же вас кормить надо. Что значит «нам помочь»?
Аня (ломающимся голосом). Ничего... Ты попросила, я принесла... Извиняюсь, мама...
Мать (раздражённо). Не реви! Что, умер кто-то? Аня (сквозь слезы). Нет...
Мать. Вот и не реви. Хотя от вас я сама скоро умру. Все, уйди отсюда. Мне некогда. Я тебе записываю твои восемьдесят пять злотых и иду заниматься делами. А то ведь кроме меня в этом доме никто ничего не делает...
Сцена 22
Мать приходит к Ане (23 года), которая только что вернулась из Австрии, от брата.
Мать. Ну что, у тебя осталось что-то из денег, которые я тебе давала?
Аня. Нет, я все потратила.
Мать. Как? Все 80 евро? На что ты умудрилась столько потратить?!
Аня (запинаясь). Ну... Двенадцать евро ушло на транспорт... Семь – за вход в музей игрушек, пять – за ёлочную игрушку... Потом, я же ездила в Вену, за поезд заплатила по двенадцать евро в каждую сторону... Там я поела ещё на тринадцать евро...
Мать. А почему ты не взяла с собой бутерброды?
Аня (робко). Я взяла, но все равно проголодалась...
Мать. Ну, понятно. А ещё что?
Аня (опять запинаясь). Там я ездила на трамвае, заплатила за вход во дворец десять евро... Ну, в общем, ещё где-то какая-то мелочь ушла, вот и осталось 2,60 евро.
Мать (забирает монеты). А говоришь, что ничего не осталось. А на какую мелочь у тебя ушло ещё шесть евро?
Аня. Да я уже не помню...
Мать. Вот так и растратишь все деньги. Тут 2,60 евро, там четыре, там ещё двадцать... И того гляди, ничего не останется. Тебе бы надо научиться экономить.
Аня. Наверное, ты права, мама.
Мать уходит, а Аня лихорадочно перепрятывает в дальний угол шкафчика новую брошку.
Сейчас мне даже сложно себе представить, как я могла не понимать, что это полный абсурд, что этому мощнейшему контролю нет никаких логичных оправданий. Мама пыталась навязать мне свой образ жизни, заключающийся в экономии, выходящей за рамки здравого смысла. Она считала, что я в свои 23 года совершенно не умею считать деньги и вечно на что-то трачусь. Слово «трата», очевидно, горело в мамином мозге ярко-красным цветом, оно никогда не могло иметь положительного или хотя бы нейтрального оттенка.
Может быть, мама искренне считала, что должна меня научить обращаться с деньгами. Она с ужасом думала, что я не справлюсь, когда начну жить самостоятельно. Но вместо того чтобы меня реально к этому подготовить, она всеми способами оттягивала этот момент. А пока я оставалась под её контролем, мать проверяла все мои траты. Самое забавное в этом было то, что она считала, будто действительно меня контролирует, не зная, что отец часто втихаря снабжал нас деньгами. Он тоже хотел научить нас с ними обращаться, поэтому пытался дать нам возможность обойти мамину бухгалтерию. И папины деньги, и свои заначки, которые на самом деле у меня все равно были, я тратила, как хотела.
Главным врагом в маминой системе экономии были подарки друзьям. Она считала верхом расточительности покупать что-либо, когда, по её словам, дом ломился от ненужных вещей. В принципе, я и сегодня не могу сказать, что эта мысль совершенно лишена смысла. С другой стороны, смысла лишена её реализация на практике. Почему только мама могла знать, от каких именно вещей ломится дом? Можно было завести коробку с такими «ненужностями», из которой каждый выбирал бы то, что ему как раз подходит. Но ведь нет, всем этим должна была заведовать мать! Она лучше знала, что подойдёт нашим друзьям, сопротивляться даже не было смысла.
Самый же большой абсурд всей этой истории с ангелочком в подарок заключался в том, что мама думала, будто настояла на своём, сэкономила мне денег, а заодно сбагрила из дома ещё одну ненужную вещь. Да, она от неё избавилась, но только я не подарила фигурку подружке. Я её выкинула в уличную мусорку по дороге на день рождения, а на свои заначки купила подруге книжку, которую она давно хотела прочитать.
А брошка до сих пор у меня хранится, хотя я не могу сказать, что уж очень часто её ношу. Просто мне нравятся красивые вещи, а ещё я испытываю удовольствие от самого процесса покупки. Да, брошка мне не жизненно необходима, но когда я на неё смотрю, я улыбаюсь. Она мне нравится.
Распоряжаться деньгами я так и не научилась, пока жила с родителями. Просто не знала им цену. Мне их выдавали по маминому усмотрению, проверяли каждый мой шаг, каждую покупку. Да, возможно, мать уберегла меня от каких-то глупостей или лишних покупок, не спорю. Но в итоге, когда я вышла замуж и стала по-настоящему учиться обращаться с деньгами, мне это не помогло. Как-то я пыталась продать ненужные вещи по Интернету, думая, что это здорово и разумно. Мама меня очень хвалила за это решение. Но она не знала, что жулики притворились, будто хотят купить мои вещи, обвели меня вокруг пальца, как маленькую, и на раз вытащили из меня 450 евро. Хотели вытащить ещё 270, но, к счастью, тут уже муж вмешался. Мне было перед ним очень стыдно. Сама зарабатывать деньги я не умела, но вот так вот мгновенно потратила сумму, на которую он пахал больше недели. Я так безумно увлеклась мыслью, что могу получить деньги за ненужные вещи, что не заметила, как меня легко обманули.
Я не хочу сказать, что конкретно это было виной моей матери. Отнюдь нет. Конкретно это – моя вина. Но, может быть, если бы меня не держали столько лет под колпаком и разрешали делать какие-то ошибки на небольших суммах, я бы не потеряла сразу 450 евро.
К счастью, Андрей меня понимал. Ему, безусловно, было жалко, что я так легко дала себя обмануть, но он меня не упрекал. Муж все время пытался извлекать из моих ошибок и воспоминаний какую-то пользу и урок. Он очень хотел, чтобы я шла вперёд, не просто копалась в воспоминаниях, а делала из них выводы.
Нашим разговорам просто не было конца. Однажды, сидя вечером за чашкой чая, Андрей спросил:
– Слушай, а как ты при таком контроле умудрялась устраивать свою личную жизнь?
– Да никак. По сути, все мои истории выносились на семейное обсуждение, все считали себя вправе высказывать своё мнение по этому поводу, а ещё и подшутить обязательно.
– Ну, а неужели тебе не хотелось сексуальной жизни?
– Конечно, хотелось. Но моя мама считала, что она обязана стоять на страже моей девственности. И выполняла свою функцию с завидной решимостью. Мне всегда надо было отчитываться, куда я иду, во сколько вернусь, с кем встречаюсь. И если этим кем-то был молодой человек, опаздывать мне было категорически нельзя. А потом, по возвращении, я обо всем рассказывала маме.
– Ты рассказывала ей о своих свиданиях?
– Да.
Сцена 23
Мать. Ты уже? А почему так рано?
Аня. Антону надо ещё сегодня поработать над каким-то проектом для заказчика.
Мать. Ну конечно! Работа для него важнее, чем ты.
Аня. Мам, ну почему ты так говоришь? Ты же знаешь, у него отец очень болен, мама не работает, только Антон зарабатывает. Если у него есть заказ, ему надо его выполнять.
Мать. Ну, понятно… Ты у него спросила, о чем тебя Витя просил?
Аня. Ой... Нет, я что-то забыла...
Мать. Забыла?! Ты что, не можешь запомнить, о чем тебя собственный брат просил?
Аня. Мам, если ему так надо, он может сам позвонить Антону и спросить.
Мать. Как ты со мной разговариваешь?!
Аня. Прости, мама. Ладно, спрошу сама, когда увидимся в следующий раз.
Мать. А когда вы встречаетесь?
Аня. Не знаю. Наверное, не скоро. Всю ближайшую неделю Антон работает с заказчиком. А там посмотрим.
Мать. Что значит «посмотрим»? Ему что, наплевать на тебя? Ты что, должна сидеть, как собачка, и ждать его звонка? У тебя ведь тоже могут быть планы.
Аня. Ну, нет, мама, да и у меня ведь никаких планов нет...
Мать. Вот именно! Из-за тебя мы даже ничего спланировать не можем!
Аня (удивлённо). А что ты хотела спланировать?
Мать. Ну, не знаю... Могли бы что-то вместе сделать, куда-то сходить или съездить...
Аня. Так давай спланируем.
Мать. А если Антон как раз тогда захочет с тобой встретиться?
Аня. Не знаю. Скажу ему, что у меня другие планы и все… Честно говоря, я уже от этого устала. Я действительно сижу, как собачка, и жду его звонка. И никогда его не дожидаюсь, вечно сама первая звоню. Знаешь, я, наверное, прямо сейчас ему позвоню, спрошу, что там брату нужно, а заодно скажу, что между нами все кончено. Я уже полтора года жду, что Антон проявит какую-то инициативу, а ему, похоже, на меня действительно наплевать. Ты права.
Мать. Как наплевать? Ты что, серьёзно? Неужели ты забыла, как он тебе помогал организовать благотворительный концерт? Как он приходил за тобой каждый день, когда ты всю неделю работала переводчиком в театре? И как он переживал, когда ты заболела? Ты что, не ценишь это все?
Аня (вздыхая). Ну, в принципе, да. Просто мы все равно так редко видимся, что мне даже порой кажется, что ему это не нужно.
Мать. А как часто вам видеться, если ты сама говоришь, что у него отец так тяжело болеет? Он же все время по больницам и по аптекам мотается. А между этим ещё матери помогает и денег заработать пытается. Неужели ты не понимаешь, как ему тяжело?
Аня. Да нет, понимаю...
Мать. Вот и прояви к нему побольше сострадания и понимания. Ей Богу, всегда тебе мало! Иди лучше ложись спать, времени-то вон уже сколько!
Мать уходит, Аня садится на кровать и долго сидит, глубоко задумавшись.
– И так было каждый раз.
– Что ты имеешь в виду, говоря «каждый раз»?
– Ну, после каждой встречи или телефонного разговора с Антоном. Если я была счастлива, мама начинала мне объяснять, какая он сволочь и что он меня не достоин. А как только я с этим соглашалась, она тут же бросалась его защищать и вызывать во мне тёплые чувства к нему. Вот такие вот эмоциональные качели. Я все время болталась между возвышенными чувствами влюблённости и непреодолимым желанием расстаться с Антоном. За два с половиной года, что мы с ним встречались, я жутко похудела, просто истощала. Эта ситуация из меня все соки выпила.
– А в плане сексуальной жизни у тебя были тогда какие-то желания?
– Несомненно. Но когда я сейчас вспоминаю себя и своё поведение, мне кажется, что я сама себя защищала. Я знала, что эти отношения ничем хорошим закончиться не могут, поэтому не могла решиться на какой-то серьёзный шаг с Антоном. Да и как я могла это сделать при таком контроле со стороны мамы?..
– Ты прости меня за эти слова, но твою маму должна была больше заботить её сексуальная жизнь, чем твоя.
– У неё тогда уже не было никакой сексуальной жизни.
– Откуда такая уверенность?
– По косвенным признакам. Я не хочу про это говорить, в конце концов, это не моё дело, просто знаю, что на тот момент родители уже лет десять спали в разных комнатах.
– У них были отдельные спальни?
– Нет, не спальни. Папа спал на диване в столовой.
– Понятно. А мама, значит, в их спальне, так?
– Нет.
– А где же?
– Она... она спала в моей комнате...
– То есть? А где спала ты?
– Там же. Мама спала вместе со мной в одной комнате... и на одном диване...
– Я так понимаю, это было временно?
– Да. Временно. На четыре года.
Сцена 24
Вечер. Верхний свет в комнате погашен, горит только лампа на письменном столе. За ним сидит дочка, учит что-то. В комнату входит мать.
Мать. Ты скоро ложишься?
Аня. Мне ещё надо подготовиться к завтрашнему экзамену.
Мать. Ты ведь честно учила всю неделю. Не лучше ли выспаться перед экзаменом? Ведь не первый год в институте учишься, уже знаешь, что все эти экзамены не так страшны.
Аня. Я знаю, мама, но этот действительно сложный.
Мать (гладит дочь по голове). Ты у меня такая умная, я уверена, ты справишься (дочка улыбается ей в ответ). Ну, так как, ложишься уже?
Аня. Да нет, ещё поучу немного.
Мать (с раздражением в голосе). Ну как хочешь. Я иду спать.
Ложится на диван рядом с письменным столом дочки. Аня сидит, листает конспекты, но видно, что её мысли совершенно не там, она то и дело поглядывает на мать, которая лежит с закрытыми глазами. Наконец дочка сдаётся, гасит свет и ложится рядом с матерью. Она переворачивается с боку на бок, но не может уснуть.
Мать. Перестань ворочаться, ты мне мешаешь уснуть!
В комнате воцаряется тишина...
Очень тяжело вести такие разговоры с любимым. Почему-то многие думают, что самая сложная грань в отношениях между мужчиной и женщиной – это раздеться перед другим человеком, предстать перед ним уязвимым и незащищённым. Но мало кто думает о том, что ещё сложнее обнажиться эмоционально. Открыть перед другим все тайны своей жизни, которые самому хотелось бы скорее забыть, чем озвучивать. Но я понимала, что наши разговоры становятся похожими на психологическую терапию, и мне нужно все это из себя вылить, чтобы излечиться.
Андрей был в шоке:
– Так ты тогда уже училась в институте?
– Да. Мне было двадцать с лишним лет.
– А почему мама вообще стала спать в твоей комнате?
– Все началось, когда заболела наша бабушка, её мама. Ей нужен был постоянный уход, она сама почти ничего делать не могла, и мои родители решили её забрать к нам. Вот бабушку и положили на диван, на котором раньше спала мама.
– А маме спать было больше негде?
– Был ещё один диван в гостиной, но он очень старый, плохо раскладывается, и маме удобнее было у меня.
– То есть даже при наличии какого-никакого дивана мама все равно решила спать с тобой?
– Да. Ну а я не могла ей отказать. Мама очень переживала из-за бабушки, постоянно плакала, со мной ей было уютнее. Она часто засыпала, прижавшись ко мне.
– Понятно. И как долго болела твоя бабушка?
– Почти пять месяцев. Она умерла у нас дома.
– Погоди. Ты же сказала, что мама спала с тобой четыре года. Если бабушка умерла спустя пять месяцев, почему мать не вернулась в свою комнату?
– Ей было очень тяжело спать на диване, на котором умерла бабушка. Она была в ужасном психологическом состоянии.
– Сколько тебе тогда было лет?
– Восемнадцать. Я заканчивала школу, готовилась к выпускным экзаменам.
– То есть то, что у тебя умерла бабушка, и то, что тебе все равно надо собраться с силами и приготовиться к выпускным экзаменам, никого не волновало, так? А то, что мама в ужасном состоянии, ей нельзя спать одной – это было всем понятно… А как на это реагировали остальные члены твоей семьи?
– Да особо никак. Папа считал, что так неправильно, но боялся поднять эту тему.
– Четыре года боялся?
– Получается, так.
– А брат с сестрой?
– Мне кажется, они думали, что мне это не мешает, даже наоборот – что я благодаря этому ближе к маме, у меня больше поблажек и больше возможностей что-то у мамы выпросить или уговорить её на них не сердиться.
– Например?
– Однажды мы все вместе пошли на вечеринку по поводу дня рождения нашего друга. Брат сильно напился. С ним это случилось всего второй раз в жизни. Он даже сидеть был не в состоянии. Один из его друзей помог нам его привезти домой, втащил его на второй этаж в нашу квартиру, уложил в постель и уехал. Было уже очень поздно, я хотела спать, помылась и пришла тихо в свою комнату, глупо надеясь на то, что мама спит. Но она не спала.
Сцена 25
Мать (раздражённым тоном). Что там случилось?
Аня (наигранно). В смысле – что случилось?
Мать. Что ты дурочку строишь?! Я все слышала! Что там случилось?
Аня (запинаясь). Да ничего, мама... Просто... Витя немного перебрал с алкоголем...
Мать. Что значит «немного»?!
Аня. Ну... немного... Он сейчас спит...
Мать. Вы даже не можете нормально сходить на вечеринку? Обязательно что-то должно произойти?!
Аня. Мама, но ничего ведь не случилось, все в порядке...
Мать. Если все в порядке, то что тогда с твоим братом?
Аня. Мама, я тебе уже говорила. Он немного перебрал.
Мать. Позор! В каком он состоянии?
Аня. Да все с ним нормально.
Мать. Если с ним все нормально, то почему тогда он не мог сам забраться на второй этаж? Ты думаешь, я ничего не слышала?! Я вообще-то спать хочу, а вы мне не даёте!
Аня. Мама, я тоже хочу. Можно, я пойду спать?
Мать. Ах ты, зараза такая! Как ты со мной разговариваешь?! Я тебя спрашиваю, что с твоим братом?
Аня. Мама, ты можешь сама сходить к нему и посмотреть.
Мать. Да что же ты за хамка! И что, ты теперь ляжешь и спокойно уснёшь?! Конечно, тебе же плевать на меня и на то, что я тут беспокоюсь, не сплю по ночам. Ну и спи тогда, бесстыжая!
– Ну и дальше все по тексту. Мама полночи перемывала мне мозги и срывала на мне злость. Брат был пьян и спал, сестра тоже спокойно пошла в кровать, даже не заглянув к маме, а я слушала оскорбления в свой адрес. При этом очень переживала за брата, боялась, что ему станет плохо во сне, и он поперхнётся или подавится. Но я ведь не могла выйти из постели и пойти его проведать. Так что до утра не сомкнула глаз от волнения, даже когда мама угомонилась и спокойно уснула.
– А что же было на утро? Брат, наверное, тоже наслушался от матери?
– Нет, ничуть. Утром мама пришла к нему в комнату, спросила, как он себя чувствует, забрала в стирку его изгаженное постельное бельё и принесла кефир. За ужином брат с улыбкой на лице заявил всем, что у него потрясающая мать. Он, мол, думал, что она ему съест весь мозг, а она отнеслась к ситуации с большим пониманием. И что теперь все друзья ему завидуют, какая у него мировая мама. Я чуть не поперхнулась, когда это услышала.
– Ну, хорошо. Я понимаю, что отношения в вашей семье складывались всегда по одному и тому же сценарию. Но неужели никогда, ни в каком контексте не возникали разговоры о том, чтобы мама всё-таки начала опять спать отдельно от тебя?
– Да, возникали... Только всегда в одном единственном контексте...
Сцена 26
Аня сидит за письменным столом, учится. Из компьютера льётся спокойная музыка. Из коридора слышен плеск воды в ведре, мать моет пол.
Мать. Делаешь, делаешь, корячишься, как ишак, а никто тебе даже не скажет «спасибо».
Аня (подойдя к двери своей комнаты). Спасибо, мама, я очень ценю.
Мать (с издёвкой, как бы передразнивая). Пожалуйста!
Мать наклоняется к ведру, прополаскивает в нем тряпку и протирает пол. Аня какое-то время стоит и смотрит, затем возвращается за свой письменный стол, выключает музыку и продолжает учиться. Мать дальше моет пол, но через какое-то время начинает разговаривать вроде как сама с собой.
Мать. Дома три взрослых человека, но ни от кого не добьёшься ни грамма помощи. Как будто я у них прислугой нанималась. При гостях все такие милые, такие вежливые, все мне повторяют, какие у меня дети замечательные, а на самом деле они все бездельники безрукие.
Так как мать закончила мыть пол, она идёт в ванную, чтобы сполоснуть руки, при этом все время продолжает говорить.
Мать. Если бы я здесь не убиралась, вы бы тут все заросли грязью, задохнулись бы в этой пыли. Но мои усилия даже никто не замечает. Главное – нафуфыриться, нацепить серёжки, бусы какие-нибудь и пойти в институт, как барышня какая-то, а то, что дома все гниёт от грязи, об этом никто... Так, а это ещё что такое? Это что такое?! Я СПРАШИВАЮ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?! Иди сюда, когда с тобой разговаривают!
Прибегает испуганная Аня.
Аня. Что такое, мама?
Мать. Это я тебя спрашиваю, что это такое?! Ты что, оглохла? Я тебя спрашиваю!
Аня. Я не знаю...
Мать. А кто должен знать? Почему весь подоконник завален какими-то вещами?
Аня. Это не мои вещи, это Кати...
Мать. А ты что, убрать их отсюда не можешь? Обязательно оставить тут гору заколок и разного говна для волос? Я же просила, чтобы здесь никогда ничего не лежало! Сутками убираюсь, а вы только гадите. Ты когда последний раз хоть где-то убралась?
Аня. Вообще-то я позавчера всю квартиру пропылесосила, все семь комнат. Мне было интересно, заметит ли кто-нибудь.
Мать. Тебе что, медаль теперь повесить?
Аня. Нет.
Мать. Ну и что ты тогда хвастаешься? Пропылесосила она! А бак для пыли вычистила?
Аня. Нет. Ты же мне запрещаешь это самой делать.
Мать. Опять я виновата?! Да как тебе не стыдно! Неси сюда пылесос!
Аня приносит пылесос, ставит его в коридоре.
Мать. Ты издеваешься? Я только что здесь помыла пол. Теперь мы будем чистить бак для пыли, вся эта пыль будет летать по всему коридору, и мне опять придётся его мыть! Ты мне это что, назло делаешь?
Аня. Нет, мама.
Мать. Да, назло!
Аня. Нет, мама.
Мать. Не спорь со мной! Я знаю, ты только и ждёшь, когда я сдохну наконец!
Во входной двери щёлкает замок, дверь открывается, в квартиру входит Катя.
Мать. А, вот и ты! Ты почему бардак устроила на подоконнике в ванной? Тебя просили ничего там не класть?
Катя. Да, просили, я просто не успела. Сейчас все уберу.
Мать. Ах так?! Значит, осиное гнездо себе сделать на голове ты успела, а убраться не успела? Да ты бесстыжая!
Мать хватает за заколки в причёске Кати и начинает их выдирать из её искусно уложенной причёски.
Катя. Мама, оставь, пожалуйста, я эту причёску полчаса пыталась сделать!
Мать. Полчаса! Ты бы лучше за полчаса убралась хоть где-нибудь!
Выдирает заколки из причёски, волосы рассыпаются по плечам.
Катя. Мама, зачем ты это сделала?!
Катя уходит в свою комнату и хлопает дверью. Аня, которая видела всю сцену, смотрит с болью в сторону комнаты сестры и начинает плакать. Она тоже уходит в свою комнату, закрывает дверь и садится в кресло. Через полминуты дверь широко открывается, в комнату впадает мать. Лицо у неё перекошено от гнева, она тяжело дышит.
Мать. А ты чего сидишь?! Что ты ревёшь?! Что, умер кто-то?
Аня (сквозь слезы). Нет.
Мать. Прекрати немедленно! Ты что сидишь тут, будто ты самая несчастная?! Меня бы хоть пожалела! Я пашу тут на вас, как проклятая, а вам всем глубоко плевать на меня! Я видеть вас больше не могу!
Подходит к кровати Ани, собирает своё одеяло и подушку, уносит их в свою комнату. Аня идёт за ней.
Аня. Мама, ну зачем ты это делаешь? Пожалуйста, успокойся. Ну, извини, пожалуйста, что я не помогла тебе с уборкой. Положи на место свои вещи.
Мать (уже спокойнее, но с досадой). Оставь меня в покое. Я знаю, что ужасно тебе надоела. Просто ты боишься мне в этом признаться. Все, уйди.
Аня. Нет, мама, ты мне не надоела. Ну правда, мне всегда так обидно, когда ты так говоришь...
Мать. А ты думаешь, мне не обидно это ощущать?
Аня. Мама, но это неправда. Ты мне не надоела. Если хочешь, можешь дальше спать со мной.
Мать. А ты хочешь?
Аня пару секунд собирается с силами. Наконец сдаётся.
Аня. Да, мама.
Мать. Точно?
Аня. Да, точно...
Мать берёт своё постельное бельё и несёт его обратно в комнату Ани.
– И зачем ты согласилась? Если уж она сама спрашивала, неужели это не был самый подходящий случай, чтобы сказать: «Нет, мама, я больше не хочу с тобой спать, для меня это унизительно»?
– Теоретически – да, этот ответ сам напрашивался. Но я знала, что она не его ждёт. Я боялась. Для меня это были самые мучительные разговоры, какие только можно себе представить. Я ненавидела спать с матерью, мне было противно чувствовать на себе её дыхание, когда она переворачивалась ночью в мою сторону. Мне было мучительно неприятно осознавать, что у меня нет никакого личного пространства, она следила за каждым моим шагом. Я не могла вечером просто так посмотреть фильм, потому что это разбудило бы маму. Если ко мне приходил Антон, на меня постоянно давила мысль: если он засидится допоздна, то я буду виновата в том, что мама так долго не могла лечь спать. А когда он наконец уходил, мне безумно хотелось просто посидеть на подоконнике, с руками, сплетёнными вокруг коленок, и помечтать. Но я не могла этого сделать, потому что была не одна. Мама тут же засыпала меня расспросами, как мы провели время, о чем разговаривали и что Антон сказал про то или другое. А когда я ночью не могла заснуть, мне оставалось только лежать неподвижно и надеяться, что сон придёт. Мой диван стоял у стенки, мама спала с краю, и всякий раз, когда я залезала или вылезала из кровати, она просыпалась. Так что даже в нашей большой квартире я не могла ночью встать и уйти в другую комнату почитать книжку, потому что мама тут же проснулась бы и начала приставать с вопросами – что случилось, почему я не сплю и о чем думаю. Мне иногда хотелось кричать от этой моральной тесноты, у меня дух перехватывало от негодования.
– Так почему ты все это не говорила маме?
– Не знаю. Мне безумно хотелось ей сказать, что это извращение, что я это ненавижу, терпеть не могу и больше не хочу. Думаю, я просто боялась. Мама на уровне рефлексов привила нам в детстве, что её гнев ни к чему хорошему не приводит. Я знала, что её злость и обида будут безграничны, что скандал из-за моего бунта будет длиться днями, неделями. Мне стыдно это сейчас осознавать, но мне было проще сдаться, чем попытаться постоять за себя. Когда я сегодня про это думаю, то даже не знаю, что было бы на самом деле. Мне сложно это предположить. Страшнее всего думать, что ничего бы не было, а я сдуру все это время молчала. Но почему-то мне кажется, что мама сумела бы отомстить. Она бы мне оставила мою комнату, никогда больше не пришла ко мне спать, но точно бы этого не забыла. Она бы меня все время допекала так же сильно, как и мою сестру. У меня, на самом деле, был только один настоящий выход из этой ситуации: съехать от родителей.
– И почему ты не съехала?
– Мне сложно сказать. Думаю, причин было несколько. И не все из них говорят о моих лучших качествах.
– Какие, например?
– Сейчас я подозреваю, что, прежде всего, из-за отсутствия положительного примера. Мама делала с папой, что хотела, и он никогда не сопротивлялся. Я не видела отпора, попытки защиты своих прав и точки зрения. Папа чувствовал себя жертвой, которую все должны жалеть. Он театрально закатывал глаза к небу, вздыхал, делал за спиной мамы всякие жесты, но ни разу ничего не предпринял. Со временем и я стала чувствовать это мазохистское удовольствие от осознания того, что я – жертва. Мне стыдно об этом говорить, но это развивало мою гордыню, моё ощущение исключительности, незаслуженного страдания. Кроме того, я думаю, что в какой-то степени я не съехала из-за денег. Вроде как зачем тратиться, если можно закрыть глаза на некоторые вещи и жить с родителями. Получается, что ради материального спокойствия я забывала про чувство собственного достоинства, про свою гордость и самостоятельность. Сэкономила эти деньги, но тратить мне их теперь отнюдь не легко.
– А какие ещё были причины?
– Крайняя неприспособленность.
– В смысле?
– В прямом. Нас с детства не приучали к самостоятельности. Я понятия не имела, что такое работа, как надо оплачивать коммунальные услуги, когда надо платить налоги, как заполнять налоговую декларацию. Моя карточка медицинского страхования лежала у мамы. Все телефоны врачей были у родителей. И было бы нереально сложно взять и за один день все это изменить: найти квартиру, подписать контракт так, чтобы меня не развели на деньги, вести домашние финансы, платить все в срок, пользоваться интернет-банком, заботиться самой обо всех сроках посещения врачей. Я ведь даже готовить не умела! Мне было двадцать с лишним лет, но я ничего больше, чем салат, в жизни не готовила. Потом, когда стала в университете ездить на стажировки, начала делать какие-то нелепые попытки готовки в общежитиях и на кухнях друзей, но, даже выходя замуж, понятия не имела, что говядина темнее свинины.
– Я понимаю… Но ведь можно было сначала пожить у друзей. У тебя ведь наверняка в университете были подруги, которые жили не с родителями?
– Нет. Я училась на двух факультетах, причём получилось так, что они были расположены друг от друга в пятидесяти минутах езды. Мне было очень сложно совмещать расписание так, чтобы ещё успевать бегать за автобусами, поэтому на каждом факультете я училась на разных занятиях с разными группами. То есть, за одну неделю я посещала лекции с семью разными группами, в каждой минимум человек по двадцать. На каждые занятия я прибегала впритык и часто убегала до их окончания, если преподаватели шли мне навстречу. Поговорить было просто не с кем.
– Но у тебя ведь были близкие подруги?
– Были две, обе со школы. У одной из них, Лены, были очень консервативные понятия о семье и очень строгие родители, поэтому я сильно сомневаюсь, что они согласились бы, чтобы я к ним переехала по той причине, что не хочу больше жить с моими мамой и папой. Родители второй, Маши, хоть и развелись, но продолжали жить в общей квартире, ведя открытую войну. Отец занимал одну комнату, а моя подруга со своей мамой – вторую. Мне там уже явно места не было.
– Ты с ними часто встречалась?
– С Машей я постоянно виделась в институте. Она училась по такой же системе, что и я, и наши занятия часто совпадали. Вне института мы особо не встречались, так как жили очень далеко друг от друга, Маша занималась танцами, у меня тоже были свои дела и увлечения, времени особо не хватало. А с Леной я виделась только тогда, когда это подходило моей маме.
– Что это значит?
– Это значит, что каждую встречу я должна была обсудить с мамой, подходит ли ей тот или иной день. Приходили мы друг к другу строго по очереди, ничего спонтанного.
– А договориться самостоятельно, без ведома мамы, встретиться где-то в городе? Просто показать свою позицию?
– Это, конечно, было возможно, я не спорю. Но это не имело никакого смысла. Перспектива дичайшего скандала дома отравила бы мне все удовольствие от встречи. И мне бы запретили общаться с Леной.
– Откуда ты это знаешь?
– От моей сестры. Моя мама ненавидела всех её друзей, с ними всеми было что-то не так, вели они себя ненадлежащим образом, семьи у них были странные и так далее. Сестра очень боролась за своих подружек, скандалила, кричала, отстаивала. А потом жаловалась мне, что пусть даже она отвоевала право встретиться с той или иной приятельницей, но удовольствия от этого уже нет, мама слишком методично облила все дерьмом, и дружить она больше с этими девочками не может. У меня за всю жизнь были только две подруги. Я слишком сильно ими дорожила, чтобы позволить маме все испортить, и была скорее готова согласиться обсуждать с ней удобное время для встречи, а потом действительно спокойно с ними общаться, чем отдать их на растерзание матери.
– Меня просто поражает то, что ты говоришь. Я не могу понять, как это возможно. У всех детей есть переходный, подростковый возраст, когда они бунтуют, никого не слушаются, а тебя это словно миновало. Ты все время со всем соглашалась, пусть тебе это было больно, неприятно или даже противно. Но периода протеста у тебя не было. Это ведь противоречит даже обычной физиологии.
– Да какая там физиология! Представь себе, что ты проснулся ночью и не можешь спать. Тебе хочется встать, зажечь свет, послушать музыку, почитать книгу, в конце концов, просто заварить себе чай, сесть в кресло и подумать. Но я не могла этого сделать. Я лежала почти неподвижно, чтобы не разбудить маму, изучала тантрические практики для борьбы с бессонницей, чтобы не валяться так часами, а заставить себя заснуть! Я перепробовала все – от пересчёта баранов до дыхательных упражнений.
– Но ты ведь могла...
– Нет, я не могла! Я была полностью лишена своего мнения, своих желаний, вообще способности самостоятельно действовать, решать, выбирать! Однажды мы ехали в аэропорт, везли моего брата на самолёт. В машине я почувствовала, что мне нужно сходить в туалет. Думала это сделать в аэропорту, но там мы только высадили брата, попрощались с ним и тут же отправились обратно. Сказала родителям, что хочу в туалет, но мама ответила, что парковка бесплатна только первые пять минут, поэтому нам надо ехать. Я по дурости своей подумала, что мы по дороге свернём на какую-нибудь бензоколонку: там туалеты бесплатные, потратим всего минут пять времени, и все будет нормально. Но мама заявила, что мы не будем останавливаться, потому что ей надо ещё успеть заехать к одной подруге, отдать ей лекарства, а то потом уже будет поздно. От аэропорта до дома было 200 км, мы проезжали одну заправку за другой, и я каждый раз чувствовала, что терпеть все сложнее и сложнее. Мне уже было больно сидеть, я не знала, куда деваться. Ещё раз попросила остановиться, но мама сказала, чтобы я не выдумывала, мы скоро доедем. Потом она попросила папу подъехать к той её подруге, не заезжая домой. А она ведь знала, что я мечтаю только об одном! Я выразила надежду, что, может, у её подруги заскочу в нужное мне место, на что мама ответила, что это мне не общественный туалет, и это неприлично. У подруги она простояла в прихожей и проболтала как минимум десять минут. Ей было плевать на чувства других. Мне даже интересно, что чувствовала она в этот момент? Неужели ей доставлял удовольствие тот факт, что она контролирует даже чужой мочевой пузырь? Мне было 24 года, и я не могла сама за себя решить, когда я пойду в туалет.
– Неужели она тебя настолько контролировала, настолько тобой управляла?
– Нет, не настолько – гораздо сильнее! О какой физиологии ты мне говоришь, если мама контролировала даже моё сексуальное влечение?!
Тут Андрей реально напрягся.
– Что ты имеешь в виду?
Сцена 27
Мать с Анной сидят в комнате. На безымянном пальце Ани светится колечко. Мать то ли грустная, то ли напряжённая.
Анна. Батюшка ещё не звонил?
Мать. Нет ещё. Но думаю, как только он что-то узнает, сразу позвонит. Он сказал, что попробует объяснить епископу, что ты из очень религиозной семьи и для тебя это важно. Может быть, всё-таки вам разрешат повенчаться. А Андрей не хочет покреститься, да?
Анна. Он сказал, что если для меня это принципиально, то он покрестится, но я не хочу его заставлять это делать. Это вообще глупо – просить покреститься человека, который не верит. Я буду себя чувствовать, словно это я беру грех на душу. Жалко только, что пока мы ждём согласие на венчание, не можем назначить дату свадьбы. Так можно было бы расписаться и в декабре.
Мать. Да ну, куда вам торопиться! Если дадут разрешение на венчание, то в рождественский пост вы точно не сможете пожениться. Уж до Нового года потерпите. Андрей приедет к тебе на Рождество, проведём его вместе, а потом в январе будет свадьба. Мы с твоим папой два года ждали, а вы что, три месяца не подождёте?
Анна. Просто уже хочется быть поскорее вместе. Прямо не терпится. Но ничего. Я думаю, с некоторыми вещами мы ждать и не будем. Если случится раньше, значит раньше. Чего до свадьбы ждать?
Мать (моментально заводится). Да как тебе не стыдно так говорить?! Вы ждёте такую милость – разрешение на венчание, а ты такие вещи говоришь? Бесстыжая! Мы не так тебя воспитывали! Да ты даже не имеешь право на белое платье на свадьбе. Ни стыда, ни совести!
Анна. Мам, ну неужели ты думаешь, что это так принципиально?
Мать. Думаю ли я?! Да, я так думаю! Да как ты будешь всем в глаза после этого смотреть?! Я не собираюсь краснеть перед всеми нашими знакомыми!
Анна. Мама, извини, я не думала такими категориями. Извини меня, пожалуйста. Я сегодня же с ним поговорю.
Мать (тут же смягчая тон). Ну нельзя же себя так вести, когда ждёшь такой милости. Вам хотят сделать исключение, разрешить венчаться, а у тебя такие грешные мысли. За три месяца ведь ничего не случится, правда?
Анна. Да, мама.
Сцена 28
Анна сидит за компьютером, разговаривает по скайпу с Андреем.
Анна. Послушай, я хочу с тобой ещё кое о чем поговорить.
Андрей. О чем же?
Анна. Я тут думала над вопросом нашей близости, и всё-таки хочу с этим подождать до свадьбы.
Андрей. А что случилось? Почему ты так вдруг передумала?
Анна. Ну понимаешь, я же православная, в православии это не допускается...
Андрей. Понимаю, но ты ведь и две недели назад тоже была православная, но говорила что-то совсем другое. Я ведь не собираюсь тебя заставлять ничего делать. Если ты не будешь готова, то ничего не будет, но зачем так категорично это отрицать? Что случилось? Ты можешь мне сказать?
Анна. Нет, нет, все нормально, просто я передумала и все. Я хочу выйти замуж чистой. Иначе мне будет даже неловко надевать белое платье...
Андрей. Но для меня это не принципиально.
Анна. А для меня – да. Пожалуйста, мы можем с этим подождать? Это ведь всего три месяца...
Андрей. Да, конечно, если ты так хочешь. Я просто не понимаю, что произошло...
Сцена 29
Анна выходит из комнаты, в коридоре встречает мать.
Мать. Ну что, поговорили?
Анна. Да, поговорили. Он согласился ждать до свадьбы...
Мать. Странные у вас отношения, раз вы о таких вещах разговариваете по телефону.
Анна с трудом сдерживает слезы...
Сцена 30
Анна только что вернулась от Андрея. Она сидит с матерью на кухне, они разговаривают.
Мать. А как тебе квартира, в которой вы будете жить? Где она находится?
Анна. За чертой города, прямо на опушке леса. Прелестное месторасположение. И такая большая! Там три комнаты, большой коридор и большая кухня. Я уже не могу дождаться, когда буду там жить!
Мать. Три комнаты? Это действительно здорово! То есть, и гостям есть где расположиться?
Анна. Да, там отдельная гостевая комната. Только... мам... мы спали вместе в одной кровати. Только спали...
Мать (после небольшой паузы). Ну что же, если тебе совесть позволила...
Анна. При чем тут совесть? Ничего же не было...
Мать (переходя на крик). Да как тебе не стыдно! И ты мне так спокойно про это говоришь?! Да он же тебя ни капли не уважает, если способен сделать такое!
Анна. Что? Что сделать? Мы ведь все равно будем жить вместе.
Мать. Ты прикидываешься или действительно ничего не понимаешь? Да мне стыдно за тебя! Мы с отцом два года ждали свадьбу, и у нас даже мыслей таких не было, а вы три месяца подождать не можете?! Да я вообще на тебя теперь смотрю, на то, как ты стоишь, и вижу, что ты уже не девушка. Мразь!
Анна. Как это не девушка? Я – девушка! Можем сходить к врачу, если тебе так это важно.
Мать. Да мне плевать на тебя уже, мне не важно, что скажет врач, я вижу, что ты уже давно все границы приличия перешла. Девушки не стоят так, как ты. Но тебе это счастья не даст. Ты не будешь счастлива в этом браке. Потому что любовь – это не только секс, если ты не знаешь.
Анна (твёрдым голосом). Я знаю, мама.
Мать. Нет, ты не знаешь. Тебе лишь бы в койку прыгнуть. Бесстыжая.
Выходит. Анна садится на стул и начинает плакать.
Это был, пожалуй, самый сложный наш разговор с Андреем. До свадьбы он чувствовал, что в моем принципе есть что-то неестественное и неискреннее. Такая резкая перемена мнения должна была быть продиктована каким-то внешним фактором, и ему было прекрасно понятно, что сама я не могла просто так передумать за один день. Он много раз пытался у меня выяснить, в чем дело и что за этим стоит, но я не кололась. Уж больно страшно и стыдно было признаться в том, что полностью подчиняюсь маме, даже в таких личных вопросах.
Одновременно я тогда искренне верила, что для мамы это какой-то психологически сложный момент, я же была первым ребёнком, который покидал семейное гнездо. И хотя мои брат с сестрой уже давно не жили с родителями, это всеми воспринималось как временные обстоятельства: брат уехал работать за границу, сестра училась там же в аспирантуре. Но формально они ведь не съехали окончательно, никто не знал, вернутся они ещё к родителям или нет, как сложатся их жизненные пути. Я же покидала отчий дом навсегда, мама прекрасно понимала, что с ними младшая дочь больше жить не будет. При этом по наивности своей я была абсолютно убеждена, что наша свадьба станет в некотором смысле переходным днём, в который мама поймёт, что дочка стала самостоятельным, независимым человеком. Я не осознавала двух вещей. Во-первых, что самостоятельными мы становимся независимо от возраста, статуса, семейного положения и окружающих нас людей. Во-вторых, что от власти практически невозможно отказаться. Мама не собиралась меня отпускать. Она контролировала меня всю жизнь, и для неё это было абсолютно нормально.
Мать считала, что при нашем христианском воспитании сексуальная жизнь до брака просто неприемлема, ведь её прадед был протоиереем. Она безумно гордилась тем, что они с папой ждали свадьбу два года, при этом воздерживаясь от близости (хотя кто это проверит?), и считала, что мы должны поступить так же. Иначе что скажут все вокруг?
Меня всегда поражал этот её аргумент – что скажут другие. А почему, собственно, кого-то должно интересовать, с кем я живу, с кем сплю и выхожу ли замуж девственницей? И главное – почему на эти вопросы должна отвечать моя мама? Из-за всей этой бредовой теории каждый раз, когда мой муж приезжал ко мне ещё до свадьбы, мама стелила ему кровать в отдельной комнате. Хотя ведь никто кроме моей семьи не мог знать, что происходит в спальнях у нас дома. Значит, дело было не в каких-то абстрактных людях непонятно откуда, а в очень конкретных установках в голове моей матери.
Кстати, если кто-то считает, что это бред, то на самом деле ему нет никакого предела. Когда мой брат уехал за границу работать, то познакомился там с одной девушкой, с которой у него начались серьёзные отношения. Год спустя он съехал со своей квартиры и снял другую – в одном доме с ней. Всем было предельно понятно, что брат живёт вместе со своей девушкой – во всех смыслах слова «живёт». Всем, кроме моей мамы, на время визитов которой он стелил себе постель в своей квартире, чтобы мама, не дай Бог, не подумала, что они спят вместе. Спустя ещё три года они взяли кредит на совместную квартиру, отремонтировали её и стали в ней жить. Там уже никто не притворялся, что у них отдельные спальни. Это было бы крайне глупо и нелепо, в их 30 лет и спустя шесть лет совместной жизни, да и кого на самом деле интересует чужая интимная жизнь? Но когда брат приезжал к родителям со своей девушкой, мама стелила им в отдельных комнатах – вплоть до того времени, когда они поженились.
Но история моего брата – это его история. И она никак не оправдывает и не смягчает тот факт, что мне было ужасно стыдно признаться Андрею, откуда взялся мой принцип. Мне было ужасно стыдно, что я столько лет тупо потворствовала своей маме, хотя у меня были все возможности стать самостоятельной гораздо раньше. Когда я училась в университете, то четыре года подряд получала стипендию польского министра образования. Это были большие деньги, на которые спокойно можно было снять квартиру или хотя бы комнатку – пускай бы с кем-то делила жильё, лишь бы не с мамой. Но я не хотела. Не хотела тратить деньги. Получается, я просто продала чувство собственного достоинства и свою свободу.
На самом деле, наверное, несправедливо обвинять в этом всем только мою маму. Меня ведь никто не тянул за язык все ей рассказывать. Я сама зачем-то посвящала её во все подробности своей личной и интимной жизни, а потом потворствовала всем её капризам. Я вела себя совершенно, как и мой отец, который строил из себя страдальца, но все терпел и никогда не сопротивлялся. Мне тоже нравилось быть мученицей. Видимо, это тешило моё самолюбие, мою гордыню: посмотрите, какая я несчастная. Да, я была напугана, меня с детства очень эффективно научили не сопротивляться, так что я не только не протестовала, но ещё и сдавала сама себя. Но ведь перед свадьбой мне исполнилось 25 лет! Это уже далеко не детство! Но я, как дура, продолжала все это безумие. Ни мать, ни отец не развили во мне чувства собственного достоинства, мне забивали голову христианскими благодетелями, а про настоящую гордость никто не говорил. Им же самим это было нужно. Особенно матери. Её жажда власти над людьми не знает никаких границ. И безвольная, подчинённая дочка гораздо больше ей подходила, чем гордая, самостоятельная бунтарка.
В итоге я четыре месяца мучила своего жениха своим принципом, который он никак не понимал. Он чувствовал, что тут что-то не то, что это не моё, но никак не подозревал, что это исходит от моей матери, а я боялась ему признаться. Мы оба терзались неосуществлённым желанием, а в итоге, когда после свадьбы принцип исчез, вместе с ним исчезла и свежесть, непринуждённость происходящего. Мы ещё месяц мучились с невероятными проблемами. На самом деле, нам понадобилось два года, чтобы наладить нашу сексуальную жизнь и направить её на верную дорогу. Я все это время испытывала крайне мало удовольствия, постоянно находилась под влиянием матери. Как только она на меня злилась, я откладывала секс в сторону.
Я понимала, что так дальше продолжаться не может, что не хочу этого контроля и морального влияния мамы, но у меня не было никаких сил прекратить это безумие. Это был замкнутый круг. Разговоры по скайпу вытягивали из меня все силы, в то же время этих сил не хватало, чтобы такие разговоры прекратить. Даже когда я пыталась всеми правдами и неправдами сделать хотя бы один день перерыва, мать все равно имела на меня невероятное влияние. Одного её письма было достаточно, чтобы я почувствовала, что она на меня сердится.
Я до сих пор чувствую оттенок каждого слова в её письме. Я знаю, почему мама написала так, а не иначе. Я замечаю, как она меня по-разному называет, иногда ласково, иногда более сухо. Мне достаточно пробежаться по тексту глазами, чтобы понять, в каком она настроении и насколько сильно на меня злится. И как бы я ни пыталась защититься, я чувствую этот негатив.
Помню, я подростком смотрела фильмы про Джеймса Бонда. Там показывали, что герою вводили какое-то вещество под кожу, чтобы контролировать, где он находится и каково состояние его здоровья. Я всегда расценивала это как что-то из области фантастики. Ну да, для сюжета нужно придумать такую фишку, но такое ведь нереально. А на самом деле это реально – и это происходит со мной. Иногда бывает так, что я безумно напряжена и беспокойна, но не могу понять, почему. А потом получаю письмо от мамы, по которому становится ясно, что она на меня сердится. То есть, я это чувствую раньше, чем об этом узнаю. Если бы она была не моей мамой, а любовником, я бы сказала, что она меня приворожила. Я к ней просто патологически привязана.
С кем бы я ни пробовала про это разговаривать, все говорили мне одну очень простую вещь – я могу ей просто в такой ситуации позвонить и сказать: «Мама, я чувствую, что что-то случилось, ты сердишься на меня, а я не знаю, за что. Что произошло?» Только это не имело никакого смысла. Когда мать сердилась, она только этого и ждала. Так уже было миллион раз. Ей только того и надо было, чтобы с ней начали выяснять отношения. Тогда она театрально закрывалась и притворялась, что не хочет разговаривать, не отвечала на вопросы. Я её напрямую спрашивала «Что случилось?», а она отвечала: «Ничего». Но это такое «ничего», после которого только попробуй развернуться и уйти! Она притягивала к себе, как магнит. Она сосала силы и энергию – и не давала возможности сопротивляться. И начинался этот бессмысленный диалог, через который я проходила сотни тысяч раз.
Сцена 31
Анна. Мама, что случилось?
Мать. Ничего.
Анна. Как ничего, я же вижу, что что-то случилось.
Мать. Нет, ничего... Ничего нового...
Анна. В смысле?
Мать. Я-то, дура, думала, что хоть кому-то есть дело до меня, а оказывается, что всем на меня плевать.
Анна. Мам, ну как ты можешь так говорить? Мне же не плевать на тебя.
Мать. Ты так говоришь только из-за страха. На самом деле ты меня не любишь...
Анна. Мама, ну конечно, я тебя люблю!
Мать. Нет, не любишь. Я это чувствую... Все, не трать на меня время, иди, занимайся своим. У тебя есть более важные дела, чем я.
Анна. Мама, это неправда, я тебя очень люблю!
Мать. Ну, любишь и любишь. Ладно. Будем считать, что я тебе поверила. Все, иди.
И так было каждый раз, почти слово в слово одно и то же. Теоретически, конечно, можно было ей сказать: «Да, я тебя не люблю, ты меня достала своими выходками, с тобой невозможно общаться», но ей бы от этого было только лучше. Тогда можно было бы обидеться, закатить скандал, начать плакать, а ещё со спокойной совестью рассказать всему миру, что дочка ей нахамила, сказала такое, чего она всю свою бедную жизнь не забудет. В итоге я все равно была бы виновата, пришлось бы извиняться, а потом до скончания веков мне бы это вспоминали и понукали этим. Если уж отвечать, то надо идти до конца, на разрыв. Я знала, что такого мама не простит, и это будет на всю жизнь, но понимала, что рано или поздно надо будет так сделать. У Андрея силы были на исходе. Он очень хотел мне помочь, но слушать мои рассказы целыми днями, видеть, как я истекаю силами после разговоров с мамой, но ничего не хочу поменять, он больше не мог.
На это наложилась тяжёлая обстановка жизни во Франции. Нам не везло просто катастрофически. На каждом шагу случались неприятности, даже в самых простых вещах. Я чувствовала, что задыхаюсь почти буквально. У меня была депрессия, я плакала целыми днями. Не было сил ни на уборку, ни на покупки, даже суп с трудом себя заставляла сварить. Но при этом я каждый день собирала все остатки сил, чтобы притвориться весёлой и поговорить с мамой. А потом Андрей возвращался с работы и заставал меня лежащей на диване и смотрящей в одну точку на потолке. В конце концов, он этого не выдержал. Мы были уже на грани развода, хотя оба понимали, что не хотим этого. Тогда муж попросил меня переехать в гостиницу на пару дней, дать ему время, тем более что как раз тогда он пытался написать резюме на очередную работу, так как наш контракт во Франции заканчивался через полгода. При мне он писать не мог, так как я ему просто не давала покоя, вот он и попросил меня ненадолго уйти.
Для меня это был страшный удар. Я прекрасно понимала, откуда взялось такое решение, как понимала и то, что для нас это единственный шанс спасти отношения, но мне было невыносимо тяжело. Помню, как целые сутки провела в гостиничном номере. В фоновом режиме было включено какое-то кино, а я тупо лежала на кровати и смотрела в потолок. Размышляла над разными способами самоубийства. Думала выброситься из окна, но боялась, что не разобьюсь, только стану калекой. Размышляла над вариантом с лекарствами. Интересно, человеку становится плохо перед смертью? Или он просто уходит в забытьё и уже не просыпается? Потом, помню, сидела в ванной и думала: вот если я сейчас порежу себе вены и останусь в этой тёплой воде, меня точно не спасут. Гостиничный персонал не будет заходить несколько дней, если заранее оплатить две-три ночи и повесить табличку «Не беспокоить». Я не знала, позвонит ли мне Андрей и когда, так что пока бы он начал звонить и беспокоиться, я бы успела умереть.
У меня была тяжёлая депрессия. Я чувствовала абсолютную безысходность. У меня все силы закончились. И вот тогда вдруг почувствовала, что надо написать маме, объяснить, что больше не буду с ней общаться каждый день. Я это почувствовала с такой силой, что даже испугалась, что через пару минут эта решимость пройдёт, и я из этого не выберусь. В панике выскочила из ванной, кое-как вытерлась, даже не смыв пену, и бросилась к ноутбуку. Быстро написала письмо, а потом закрыла глаза и нажала кнопку «Отправить».
Это был один из самых переломных моментов в моей жизни. Честно говоря, я всерьёз думала, что потолок обвалится. Сидела, свернувшись клубочком, в кровати, словно ждала, что сейчас что-то взорвётся или случится нечто подобное. Но ничего, естественно, не произошло. Вскоре я получила ответ от мамы. Она была очень злая и обиженная. Естественно, ей даже в голову не пришло, что она может быть хоть в чем-то виновата. Я тут же выключила компьютер, боясь, что напишу ответ, в котором пойду на попятную. А потом позвонила мужу и все ему рассказала. Он сообщил, что безумно по мне соскучился, и тут же приехал забрать меня из гостиницы.
Я иногда пыталась поговорить с друзьями о гложущих меня воспоминаниях и тяжёлых отношениях с мамой. На самом деле, это было отнюдь не просто. С одной стороны, я думала, что если этим с кем-то поделюсь, то станет легче. С другой – говорить о таком очень сложно. Стыдно, больно, даже мучительно. Ну как можно рассказать о таком?! При этом, когда я пыталась подобраться к теме издалека, сказать, что мне сложно с мамой общаться, потому что у меня к ней много претензий, многие начинали включать стереотип под названием «Она же все равно твоя мама, её надо в любом случае простить». Если я все же решалась сказать хотя бы то, что нас били в детстве, даже не вдаваясь в конкретные подробности, орудие и обстоятельства, друзья в очередной раз спасались общими фразами в стиле: «Да ладно, ты думаешь, ты единственная такая? Думаешь, никому больше не влетало от своих родителей?»
Этого я даже слышать спокойно не могла. Родители меня всю жизнь кормили именно этим утверждением: «Всех бьют и били, мол, времена такие, это нормально». А кто, получается, эти «все»? Когда я спрашивала напрямую своих собеседников, оказывалось, что их физически не наказывали. Только одну мою подружку отец бил. Он был алкоголиком. Лупил и жену, и детей, причём последних, как правило, когда они за мать заступались. Моя подруга была самая старшая из троих детей, она их всех защищала. Её мать три раза пыталась покончить жизнь самоубийством, подружка её останавливала, откачивала, успокаивала. Да, в этой семье детей били, и жестоко. Только про такие семьи обычно говорят как про исключение. Их в пример не ставят. А нашу семью ставили. Все считали, что она у нас примерная, замечательная. Дети такие умные и воспитанные, тихие и спокойные. И никто даже не догадывался, что скрывалось за этим, что это было скорее не спокойствие, а страх. Все прихожане в церкви считали нас идеальной семьёй. Мы приходили нарядные, брат служил в алтаре, мы с сестрой пели в хоре, просто прелесть! Но никто не знал, что маленькой девочкой я только и делала, что стояла в хоре и смотрела на часы, мне это было неимоверно скучно. Я не умела петь, на меня постоянно кричали, что у меня ничего не получается, но мы никогда не оставались на репетиции, потому что это уже маме было скучно. Она всем показала, что мы отличная семья – и хватит. Мать ходила на исповедь, потом била головой об пол, плакала, каялась. А на следующий день, а нередко и в тот же день, все начиналось сначала. Достаточно было сесть в машину, ещё церковь из виду не пропадала, а уже начиналось обсуждение, осуждение, перемывание косточек всем прихожанам, наезды на нас... И всегда это делалось в таком духе, что «вот, вы слышали, батюшка сказал, что надо прощать близких, надо быть терпимым и не обижаться. А вы что делаете? Он же вам это все говорил!» А ей он никогда ничего не говорил. Её не касались заповеди про терпение, любовь, прощение...
Как-то после очередного потока моих воспоминаний, Андрей задумчиво спросил:
– Неужели все правда было так, как ты говоришь?
В его вопросе не было ни злобы, ни осуждения. Просто действительно, если от этого абстрагироваться, представить на секунду, что все это было не со мной, то это похоже на страшный сон больного физически и морально человека. Если про это снять кино, то все скажут, что персонажи нереалистичны, что это наверняка собирательные образы многих людей, потому что столько жестокости и злобы в одном человеке не бывает. Все равно ведь есть какие-то светлые моменты, тёплые воспоминания...
– Ты знаешь, я иногда и сама задумываюсь, а вдруг все было совсем не так? Но скажи, неужели такое можно себе придумать? Я иногда перечитываю свои дневники, и мне плакать хочется. Я многое уже даже забыла, а оно всплывает опять...
– Но ведь было же что-то светлое, счастливое, настоящее? Я не поверю, что у тебя нет ни одного воспоминания про мамину ласку и её тепло.
Да, вот оно – то, чем все пытают себя утешить: было ведь что-то светлое.
– Ты знаешь, да, были такие моменты. Помню, как мама меня обнимала, мы очень часто обнимались. Подолгу сидели вечерами и болтали, прежде чем лечь спать. Но в этом было что-то похожее на принуждение. Вроде бы мы хорошо разговаривали, но я никогда не могла ей сказать, например: «Мама, я сегодня не хочу болтать, хочу побыть одна, послушать музыку в темноте».
– Почему не могла?
– Она бы обиделась, начал приставать с вопросами: что случилось, почему я грустная и так далее. Я просто сдалась. Мне так надоели все скандалы за период детства и отрочества, что во взрослой жизни мне было проще через силу притворяться, что у нас отличные отношения, чем бороться за свою независимость.
– Но все же, ты помнишь её тепло, например, из раннего детства?
– Да... Я где-то прочитала фразу, что любовь матери чем-то похожа на гусеницу. Её кокон даёт ощущение близости и тепла, но одновременно обезволивает, в нем тесно и душно. Я любовь моей мамы чувствую именно так. По правде сказать, я даже иногда задумываюсь, можно ли это на самом деле назвать любовью. Когда вспоминаю, как в раннем детстве мама меня ласкала и гладила, то всегда вспоминаю свой страх, что она в любую секунду может стать раздражённой, рассердиться, начать кричать или даже отшлёпать. Я поддавалась ласкам, но не ощущала их сердцем, мой мозг в это время усиленно работал, анализируя, все ли хорошо и нет ли поводов для маминого раздражения.
– Неужели она могла вот так вот сразу перейти от ласки и любви к раздражению?
– Да, за секунду. Меня это всегда поражало. Насколько слабой должна быть любовь, или насколько невероятной – злость, чтобы дать себя залить негативом в самые тёплые и счастливые секунды нашей жизни? У неё просто сносило крышу, у неё не было никаких тормозов, это была стихия, которой она поддавалась.
– А как выглядели ваши дни рождения? Неужели даже тогда вы не чувствовали себя самыми главными детьми в мире?
– Ой, я даже вспоминать не хочу... Наши дни рождения – это всегда был праздник мамы. В том плане, что мы никогда не могли в этот день делать то, чего хотели сами. Мы всегда собирались всей семьёй за столом...
– В принципе, звучит прекрасно! Что может быть лучше семейных праздников?!
– Конечно, прекрасно. Особенно когда ты хочешь отпраздновать со своими друзьями, но это никого не интересует. Или именно в этот день ты мог бы быть где-то на экскурсии. Но нет, ты должен сидеть с семьёй, за столом, заставленным едой, приготовленной мамой, которая от этого безумно устала.
Помню, как-то в мой день рождения папа задержался на работе. Это был будний день, дата не круглая, мне исполнялось лет 13, может быть 14. Мама устроила скандал ещё до его прихода. Она была в ярости. Ты знаешь, мне было безумно обидно. Это был мой день рождения, я пыталась ему радоваться, но опять главными были мама и её злость. Пришёл домой отец, мать вылила на него всю свою ярость, она просто смешала его с грязью. А когда папа подошёл ко мне, чтобы поздравить (естественно, он должен был сначала выслушать маму, а только потом поздравить меня!), он в заключение своих пожеланий сказал: «И прости меня, что я такой непутёвый». Я разревелась. Мне было его по-детски безумно жалко. Мне было обидно, что так обернулся мой праздник, день, в который обычно все прыгают вокруг именинника. А мама, увидев это, сказала: «Что ты плачешь, не порть всем праздник. Иди умойся, и мы садимся за стол». Вот тебе и светлое, настоящее воспоминание...
– Ну, хорошо, может быть твоя мама не любила дни рождения. Попробуй встать на её место. Должны же быть какие-то праздники, на которых она вела себя нормально? У вас были какие-то священные семейные традиции?
– Да, были. Мы ходили к бабушке на все годовщины, связанные с её семьёй.
– Какие годовщины?
– О, их было бесконечное число. День рождения и день смерти дедушки, который погиб, когда маме было 15 лет, то есть ни папа, ни мы втроём его даже не знали...
– Почему ты так иронизируешь? Это был папа твоей мамы, для неё это, наверное, тоже были важные дни?
– Да, безусловно.
– Мне кажется, это совершенно нормально, что в такие дни бабушка хотела, чтобы вы были рядом. Это просто прекрасно.
– Да? Прекрасно, говоришь? А то, что мы собирались на дни рождения и смерти отца нашей бабушки, которого даже моя мама не знала? А дни рождения и смерти её первого сына, который погиб ещё до рождения моей мамы?
– В принципе, это тоже можно понять. Каждая мать скорбит о своём умершем ребёнке. Да и дни рождения живых детей всегда важны для матерей, даже если их нет поблизости. Не так ли?
– Да, так, конечно. Только скажи тогда, почему про второго сына моей бабушки, который жил за границей, я слышала крайне редко, и на его день рождения мы никогда не собирались? Только когда он умер, бабушка распечатала его большую фотографию и поставила в серебряную рамку. Только тогда. И после этого мы стали встречаться также на его дни рождения и годовщины смерти. Получается, что для бабушки и мамы память о мёртвых была важнее, чем забота о живых?
– Почему ты так говоришь?
– Да потому, что когда мы все тяжело болели гриппом, с трудом поднимались с кровати и вообще ничего не могли есть, бабушка все равно заставила мою маму собрать нас всех и приехать к ней на день рождения дедушки. Мы сидели полуживые, по-моему, кого-то из нас даже тошнило. В нас запихивали еду, наготовленную в огромном количестве, и бабушка была ещё недовольна тем, что мы все не в духе. А когда мы вернулись домой, нас всех тошнило этим обедом, температура поднялась ещё выше. Но ритуал мы соблюли. Мы приехали и отметили годовщину. Неважно, что это произошло ценой нашего здоровья.
– Подумаешь, один раз пошли на уступку бабушке! Неужели это так сложно?
– Сложно?! Сложно ли один раз пойти на уступки?! Нет, один раз не сложно. Но так было каждый раз. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны были приехать.
Ты знаешь, мы с братом и сестрой ходили в художественную секцию в Дом культуры. Делали витражи. Рисовали «костяк» на большом ватмане, потом вырезали по рисунку окошки и в них вклеивали цветную гофрированную бумагу. Получалось очень трудоёмко, но безумно красиво. Все наши работы заняли места на пластическом конкурсе, где жюри отметило оригинальность рисунка и невероятную аккуратность исполнения. И нас всех пригласили на радио.
– И что в этом плохого?
– Ничего. Просто мы не пошли на эту передачу.
– Почему?
– Потому что её назначили как раз на годовщину смерти нашего прадедушки. Учительница, ведущая секцию, на нас обиделась, она не смогла понять, почему мы отказались. Для неё эта передача тоже была очень важна, ведь там упомянули бы её имя, сказали бы, что под её руководством трудились такие талантливые дети. Но нам пришлось отказаться. И сделать ничего было нельзя. Нам было очень обидно. Ты представляешь, что это значит для ребёнка – пойти на радиопередачу? Какая это честь, как это просто интересно?
– Да, я понимаю. Но почему всё-таки твои родители на это согласились?
– Не знаю... Я вот только и делаю теперь, что думаю, как родители могли согласиться на то или на это, как они могли сделать то, как они могли сказать это... Я не понимаю...
– Я тоже. В любой другой семье это было бы событием месяца! Наши дети на радиопередачи! Это же так здорово! Любые родители гордились бы своими детьми.
– Да. Просто получается, что нами не гордились. На самом деле, нам это открыто говорили. Моя сестра всегда возмущалась и высказывала родителям претензии, что нами не гордятся.
– И что ей на это отвечали?
– Папа молчал. А мама говорила, что гордиться – это грех. И вообще, гордиться нечем, это плохая примета, мол, «хвалили, хвалили и на бок повалили». Мы никогда не слышали от своих родителей этих простых слов: «Я тобой горжусь».
– Ну, хорошо. Может быть, у вашей мамы были на то свои причины. Она наверняка хотела сделать как лучше. Не хотела, чтобы вы зазнались, хотела вас воспитать в скромности. Может быть, она не любила все эти праздники и дни рождения. Но есть ведь и другие случаи, когда материнская нежность берёт своё. Вот, например, во время болезни ребёнка.
– Честно говоря, я это даже вспоминать не хочу.
– Почему?
– Потому что болезнь – это для меня было как наказание. Во-первых, мама всегда на нас сердилась, когда мы болели.
– Как сердилась?
– Вот так. Это был самый страшный момент – прийти на кухню и сказать: «Мама, у меня горло заболело. Мне нужно принять лекарства».
– И что тогда происходило?
– Мама тут же начинала злиться: «Молодец! Давно не болела, да? Я же вас все лечу, лечу, вы мне это что, назло делаете?» Ну и все в том же духе.
– Но вас ведь всё-таки потом лечили?
– Да, по собственной методике мамы. Она давала нам только те лекарства, которые подобрала сама, несмотря на то, помогали они нам или нет. Например, она считала, что кальций помогает при боли в горле.
– При боли в горле?!
– Да. Я ненавидела эти таблетки, у них был отвратительный вкус, меня от них тянуло на рвоту, а при длительном применении у меня начинались запоры. Но на маму эти аргументы не действовали.
– А откуда она это вообще взяла?
– Не знаю. Она утверждала, что ей кальций помогает при боли в горле, значит, и нам поможет. Потом я проверила, что на самом деле он помогает только как профилактика остеопороза и при аллергиях. Кроме того, может незначительно облегчать простудные заболевания. Но, во-первых, незначительно, а во-вторых, простудные заболевания, а не саму боль в горле. Когда я болею чем-то вроде гриппа или ангины, у меня вообще аппетита нет, я ничего глотать не могу. С трудом принимаю какие-то небольшие дозы таблеток, но уж никак не могу выпить три раза в день по стакану этой гадости. Но меня заставляли.
– А вылить куда-нибудь?
– Я и вылила однажды в цветок, который ненавидела. Он засох, мы его выбросили, и больше мне некуда было выливать. Если бы я пошла с кружкой в туалет, мама бы сразу все поняла.
– Неужели она смотрела, с чем ты ходишь в туалет?
– К сожалению, да. Она считала, что когда мы болеем, нам нельзя вставать с кровати, поэтому постоянно проверяла, куда мы ходим. Я не могла долго лежать, у меня начинал болеть позвоночник, но деваться было некуда.
– А чем тебя ещё лечили?
– Ещё нам давали ужасные оранжевые таблетки «от горла». У меня почему-то с раннего детства отвращение к оранжевым таблеткам, и с этими я тоже не подружилась. К тому же, я не могла понять, почему у меня каждая боль горла выливается в совершенно непродуктивный кашель. А потом, прочитав однажды инструкцию по применению этих таблеток, я выяснила, что они вызывают кашель для очищения верхних дыхательных путей. В итоге, у меня просто болело горло, а к этому присоединялся сухой кашель. Я начинала мучиться, а мама запрещала мне кашлять.
– Почему?
– Говорила, что так я только дразню горло и никогда не вылечусь.
– А врачи прописывали вам какие-то другие лекарства?
– Мы не ходили к врачам.
– Как?!
– А очень просто. Мама утверждала, что врачи ничего умного не скажут, они все равно ничего не знают. Выпишут только антибиотики, а это очень вредно. Когда мне было лет 13-14, у меня осенью три месяца горло болело просто не переставая. Причём настолько, что я даже глотать ничего не могла. В меня вливали кальций, давали эти ужасные таблетки, но к врачу меня никто так и не отвёл… Потом, уже будучи взрослой, я стала замечать, что горло у меня болит не только от простуды. Бывает, что оно воспаляется на нервной почве, и я даже могу отличить эти два вида боли. Теперь я понимаю, что, скорее всего, оно и тогда у меня часто именно поэтому болело. И если бы я сходила к врачу, то выяснилось бы, что горло чистое, гланды не увеличены, таблетки пить незачем. Но этого никто не сделал. Когда мне было 15 лет, я заболела свинкой. У меня все лимфоузлы были распухшие, мне было невероятно больно. Но к врачу я пошла только на второй неделе болезни, когда мама поняла, что кальций с этим не справится.
– Но почему? Почему было сразу не сходить с ребёнком?
– Объяснение было очень простое: когда мама была маленькая, у неё тоже была свинка, но её никто дома не оставил, она ходила с этим в школу, пока у неё не вышел весь гной. По сравнению с этим у меня была не жизнь, а малина: меня ведь лечили, меня оставили дома...
– О, Господи...
– Да...
– Но неужели мама тебя никогда не жалела?
– Жалела, конечно. Например, когда у меня была свинка. Она говорила «бедная ты моя», гладила по голове. Но когда приходило время приёма лекарств, она опять становилась неумолимой и жёсткой.
– А при других болезнях? Дети ведь часто болеют, постоянно что-то себе разбивают...
– Ах, да... Разбивают, ещё как!
Сцена 32
Дети возвращаются с санками домой. Их сопровождает мать. Аня хромает.
Мать. Что с тобой? Почему ты хромаешь?
Аня. У меня очень нога болит. Я неудачно съехала с горки, врезалась в санки подруги, и мы вместе доехали до забора. А там её санки очень сильно ударили меня по ноге.
Мать. Подумаешь, ударилась. Если бы я так хромала каждый раз, когда у меня нога болит, вы бы никогда не видели, чтобы я нормально ходила.
Аня. Но она и правда очень болит.
Мать. Послушай, перестань заострять на себе внимание! Иди нормально.
Дома все дети переодеваются после санок. Аня снимает брюки и колготки. На левой ноге у неё широкая рана длиной в несколько сантиметров, которая очень сильно кровоточит.
Мать. Это что такое?
Аня. Это, видимо, от того удара санками.
Мать. Почему ты мне не сказала, что у тебя такая рана?
Аня. Я же и сама не знала, под колготками не видела... Глаза Ани наполняются слезами.
Мать. Не реви! Ты когда-нибудь научишься доносить до меня информацию? Я же тебя спрашивала, что с тобой?
Аня. Я и сказала, что сильно ударилась, и у меня болит нога.
Мать. Ах так, значит, это я во всем виновата? Неужели ты не понимаешь, насколько это серьёзно? У тебя ведь может быть заражение крови! Может, в больницу поехать, зашить? Рана глубокая?
Аня (плачет). Я не знаю... Но мне очень больно.
Мать. Господи, да кому ещё знать, глубокая она или нет?! Перестань плакать! Покажи ногу.
Мать начинает ощупывать рану, Аня вырывает ногу.
Аня. Ой, мама, больно!
Мать. Да успокойся ты! Дай сюда ногу!
Аня с плачем отводит ногу в сторону.
Мать. Ну, не хочешь, не надо. Так ходи.
– И что? Тебя так и не сводили к врачу?
– Нет. Папа был тогда в командировке, к нам приехала бабушка, её положили спать на мамином диване. А мама легла спать со мной. Я всю ночь не могла спать от боли, да ещё и перевернуться толком не могла.
– Почему? Мама тебя зажала?
– Нет. Просто если бы я переворачивалась, особенно на живот, я бы все постельное бельё в крови измазала.
– Как? У тебя кровь даже из-под повязки сочилась?
– Да не было у меня никакой повязки.
– Как не было?! У тебя была открытая, кровоточащая рана! То есть её помазали йодом и не замотали?
– Ничем мне её не помазали. Мама считала, что это все лишнее. На воздухе заживёт быстрее, чем под повязкой. Вот так я и лежала с открытой раной и не могла уснуть от боли.
– О, Господи...
– Да...
– Но, с другой стороны, может быть, ты её всё-таки слишком строго судишь. Ты же сама говорила: отца дома не было, она осталась с вами одна, вот и растерялась, не знала, что делать…
– Да не растерялась она! Это было самое типичное для неё поведение! Так было каждый раз, когда мы что-то себе разбивали. Было такое ощущение, словно нам это доставляет удовольствие, а ей добавляет хлопот.
Сцена 33
На кровати лежит Аня (15 лет), на правой ноге у неё темно-синий отёк величиной с куриное яйцо. Она плачет от боли. В комнату входят родители. Отец берёт её стопу и бесцеремонно вращает. Аня кричит от боли.
Мать. Чего ты орёшь? Ты что, думаешь, что папа тебе вред причинит? (Обращается к отцу) Ну, что?
Отец. Нет, нога не сломана, это просто вывих. Полежит, пройдёт.
Аня (робко, сквозь слезы). Может, к врачу поедем?
Мать. Зачем к врачу? Это же стоит немереных денег! Папа сказал, что у тебя нога не сломана. А что врач? Он тебе только гипс наложит. Тебе это зачем? В гипсе отёк так не уменьшается, у тебя уже навсегда щиколотка шире будет. А мы тебе будем делать компрессы со специальным раствором, чтобы отёк спал, и будем заматывать эластичным бинтом.
Аня. А что я в школе скажу без справки от врача?
Мать (нервно). А зачем тебе справка? Я напишу, что ты болела, и все нормально будет.
Родители уходят, Аня тихо плачет – непонятно, от обиды или от боли.
Сцена 34
Аня лежит в кровати, нога у неё замотана эластичным бинтом. Она елозит ногой по постели, ей явно некомфортно.
Аня. Мама!
Мать. Что такое?
Аня. Мам, а можно мне уже снять повязку, пожалуйста? У меня, похоже, аллергия на этот раствор от отёка, у меня все ужасно чешется...
Мать. Сказано же было, надо пять часов держать, только потом можно на полчаса снять.
Аня. А раньше никак нельзя? У меня уже нога от бинта затекла, очень больно.
Мать. Как ты себя ведёшь? Вот когда у меня мигрень начинается, вот это адская боль! Но я же никому не жалуюсь. А ты что капризничаешь? Не мешай мне. Приду через полтора часа, сниму бинт.
Мать уходит, а Аня мечется по постели от боли и дискомфорта.
Сцена 35
Аня лежит с размотанной ногой. Отёк уже спал, синяк стал более светлого цвета, но вокруг него вся кожа красная от аллергии. В коридоре слышны шаги матери. У Ани сразу вытягивается лицо, она понимает, что сейчас ей сделают свежий компресс и снова замотают ногу. В комнату входит мать с тазиком раствора и принимается за дело.
Аня (робко). Мам, может быть, попробуем другой раствор? Может, на него у меня не будет такой аллергии и раздражения?
Мать. Слушай, у меня уже начинается раздражение на твоё нытьё. Что ты опять устраиваешь? Вот когда я была в твоём возрасте, не было ни обезболивающих, ни вообще никаких нормальных лекарств. И как-то нормально все жили. Я тут вокруг тебя прыгаю, помогаю, делаю компрессы, заматываю ногу, а ты кривляешься.
Раздражённо и очень туго заматывает бинт, Ане явно больно, но она уже не сопротивляется. Мать уходит, а Аня засекает на часах, когда же пройдёт пять часов...
Сцена 36
Гостиная комната, все домашние садятся обедать. Из коридора слышен очень громкий ритмичный стук. В дверях появляется Аня, прыгающая на одной ноге. Подскакивает к столу, садится на своё место, больную ногу поднимает на соседний стул.
Мать. Зачем ты так тяжело скачешь? Ты хочешь, чтобы у соседей снизу вся штукатурка отвалилась?
Аня. А как мне иначе перемещаться? Я же не могу наступать на эту ногу, мне очень больно. Да и отёк может опять увеличиться.
Мать. Ну, а зачем так быстро прыгать? Можно же потихоньку, понемножку перемещаться.
Аня. А у нас нет костылей?
Мать встаёт из-за стола, уходит в другую комнату, вскоре появляется с декоративной деревянной тростью в руках.
Мать. На, держи.
Аня встаёт, пытается опереться на трость. Но та, во-первых, слишком короткая для Ани, а во-вторых, её нижний конец металлический. Так что когда Аня пытается на неё опереться, трость скользит по линолеуму и падает из рук девочки на пол.
Мать. Э, что ты делаешь, ты мне весь линолеум изрисуешь! Не умеешь ею пользоваться, отдай сюда!
Мать уходит с тростью. У Ани удручённое выражение лица. Она смотрит на свою больную ногу, словно умоляя её, чтобы она поскорее зажила. Отец недовольно качает головой, молча грозит кулаком в сторону стула матери и подбадривающе гладит Аню по голове.
Сцена 37
Вечер. Аня собирается мыться. Она распускает косу, вприпрыжку добирается до шкафа и достаёт оттуда чистую пижаму. В комнату входит мать.
Аня. Мама, а можно я пока буду в вашей ванной мыться?
Мать. Зачем?
Аня. Просто я придумала, как мне проще всего забираться в ванную. Я могу сесть на бортик, перекинуть ноги внутрь, присесть в ней и помыться. В нашей ванной это невозможно, потому что там ведь стоит эта жёсткая ширма вместо занавески, мне там не перекинуть обе ноги. К тому же, наша ванная глубже. В вашей будет намного удобнее.
Мать. Ты же мне всю ванную зальёшь, у нас ведь там ни ширмы, ни занавески нет. Что ты опять придумываешь? Между прочим, мы свою ванную не ремонтировали, а вашу сделали заново, под ключ. Чем она тебя опять не устраивает?
Аня. А как мне туда заходить?
Мать. Что значит «как»? Быстро запрыгиваешь туда здоровой ногой и все. Что тут сложного? Чем ты опять недовольна?
Аня (грустно). Ничем...
Сцена 38
Школьный гимнастический зал. Учительница по физкультуре отчитывает Аню.
Учительница. Ты когда собираешься начать упражняться?
Аня. Я надеюсь, уже на следующей неделе. Просто пока у меня ещё слишком сильно болит нога, мне даже до школы сложно дойти, не то чтобы бегать...
Учительница. Я-то все понимаю, но я же не могу так долго разрешать тебе не заниматься. Ты уже две недели говоришь, что у тебя нога болит. Я, конечно, тебе верю, но где подтверждение, что у тебя вообще был вывих? Скоро конец учебного года, мне надо оценки ставить, а у тебя толком отметок-то никаких нет. Если не принесёшь справку от врача, мне придётся поставить двойку и оставить тебя на следующий год.
Аня. Как – оставить на следующий год?!
Учительница. Ну, а как ты хотела? Думаешь, если ты лучшая ученица в школе, то я тебе по физкультуре просто так отметку поставлю?
Аня. И что мне делать?
Учительница. Я ведь сказала: принеси мне справку от врача. Тогда я напишу, что ты была освобождена на большую часть семестра, и у тебя по физкультуре просто не будет никакой отметки. И иди в следующий класс. Ты же у врача была?
Аня. Была...
Учительница. И где справка?
Аня. Он мне её не дал...
Учительница. Не может такого быть! Все, либо ты на следующий урок приносишь справку, либо прямо сейчас переодевайся и иди упражняться. Я не могу на это дальше закрывать глаза.
Аня хромая идёт в раздевалку. Через пять минут выходит, начинает упражняться с гримасой боли на лице. В конце урока она еле доходит обратно до раздевалки.
Мама постоянно мне говорила, что ужасно устала от этих хлопот. Она без конца повторяла свою историю про воспаление лимфоузлов, как будто это имело какое-то отношение к моей вывихнутой ноге. У меня до сих пор в голове звучит это её: «Господи, как же я устала! Мне так хочется, чтобы меня все оставили в покое! Наконец можно будет расслабиться, заняться тем, чем самой хочется!»
У меня же все это время было ощущение, что маме просто приятно доставлять мне боль. Неужели она не видела, как я мучилась от аллергии на это несчастное средство? Неужели она не понимала, что мне действительно больно заходить в ванную, а главное – выходить из неё? Я никак не могу понять, как можно быть такой жестокой. Моя учительница по физкультуре пугала меня, что не пропустит в следующий класс, и она даже представить себе не могла, что я не была у врача. Мне стыдно было ей в этом признаться. Ведь никто даже не поверит. Все с вывихами идут в больницу, делают рентген. Неужели это действительно стоит таких «немереных денег»? Если есть деньги на то, чтобы полететь в отпуск в Китай на три недели, то как может их не быть на то, чтобы пойти с ребёнком к врачу? Меня безумно беспокоило то, что нога у меня так долго болела. Растяжения обычно заживают за несколько дней, максимум – за неделю. Я же почти месяц лежала в постели, но даже потом, когда вроде бы стала уже ходить, нога по-прежнему болела ужасно. Можно было самой сходить к врачу, но я ведь не могла. Мама знала, во сколько заканчивались уроки, и ждала меня дома буквально через пять минут, невозможно было после школы куда-то отлучиться. Да и денег у меня своих не было. Я очень боялась, что у меня могут быть порваны связки, но, видимо, кроме меня это никого не волновало. Отец сидел и махал кулаками, когда мать уходила в другую комнату, но это ведь мне нисколько не помогало…
Я долго потом мучилась с этой ногой. Через полгода после растяжения сменила школу, теперь надо было добираться минут пятнадцать пешком. Выходила из дома минут за двадцать или даже двадцать пять, потому что нога иногда начинала болеть так сильно, что я с трудом преодолевала это расстояние. И прошло больше года с момента травмы до момента, когда она перестала меня тревожить часто и сильно. Со временем эта нога и вовсе прекратила меня беспокоить, только была более уязвимой ко всяким ударам и мелким травмам. Но обычно мне хватало замотать её несколько раз эластичным бинтом, и все проходило.
Интересно, что после того как из меня стали выливаться все воспоминания детства и я перестала разговаривать с мамой по скайпу, моя нога опять начала болеть с невероятной силой. С момента вывиха прошло почти пятнадцать лет, она меня не беспокоила уже лет двенадцать – и вдруг все началось словно заново. Я очень мучилась, ходила к ортопедам, доктора говорили, что, в принципе, с ногой все в порядке. Когда одному из врачей я рассказала историю про своё растяжение и сказала, что рентген мне не делали, он пришёл в ужас. Доктор сказал, что если бы мне не повезло, у меня могли порваться связки, и я бы до конца жизни подволакивала ногу. Что тогда было на самом деле, мы уже никогда не узнаем. Со связками у меня все в порядке, переломов и трещин не было, но не понятно, почему нога так сильно распухла, и почему все это длилось так долго. Кроме того, врачи не могли мне ответить на вопрос, почему сейчас нога снова так сильно болит. С физиологической точки зрения все было в порядке, связки не нарушены, кровоснабжение правильное, словом, все отлично. А я загибалась от боли. Купила себе ортопедическую обувь, носила специальные стельки, но ничего не помогало. А потом, когда меня перестали заливать эмоции и воспоминания, я нашла себе новые занятия и общение, просто отошла от темы детских травм, нога неожиданно сама перестала болеть. Словно это был какой-то символ жестокости моей мамы и всех моих претензий.
Я начала успокаиваться, стала совершенно по-другому смотреть на свои поступки по отношению к маме. Раньше, когда Андрей задавал мне некоторые вопросы, я тут же начинала раздражаться и отказывалась об этом говорить. Теперь была более готова к диалогу.
– Так почему ты всё-таки не съехала от родителей, если толком даже ничего хорошего про них вспомнить не можешь?
– Я тогда старалась верить, что у меня с ними нормальные отношения. Я ведь долгие годы держала все эти воспоминания под замком, заставляла себя всем говорить, что у меня отличная семья.
– Зачем?
– А как мне было жить дальше, сознавшись себе в том, что меня не любили и надо мной издевались? Я была в постоянном в страхе, у меня не было сил начать самостоятельную жизнь. Мне не оставалось ничего другого, кроме как уверять себя и других, что у меня все отлично.
– И замужество стало для тебя своеобразным бегством?
– В принципе, да...
– Скажи честно, тебе не было страшно выходить за меня замуж, учитывая тот факт, что мы были знакомы всего три месяца, когда решили пожениться, а когда расписывались, были знакомы ровно восемь месяцев?
– Честно говоря, не особо. Были, конечно, мысли, что ты можешь оказаться кем угодно, но я кинулась в эти отношения с головой.
– Интересно. Отделиться от родителей тебе было страшно, а выйти замуж после восьми месяцев знакомства – нет?
– Да, получается так. Вообще, ты знаешь, я всю жизнь думала, что ужасная трусиха, что всего боюсь. Я не могу смотреть никакие ужастики, не читаю детективы, не могу смотреть сцены насилия и убийств. Когда мне было 23 года, я смотрела с братом фильм «Шестое чувство». Ты его видел?
– Да, хороший фильм.
– Хороший, конечно. Только когда я закончила его смотреть, меня трясло. Боялась сама до комнаты дойти. Умоляла брата постоять рядом со мной, пока чистила зубы, а потом заставила его проверить, что под моей кроватью нет никакого трупа, подождать, пока я лягу, и только потом погасить свет и уйти из моей комнаты.
– Да ладно!
– Правда. Я три ночи совсем не могла спать, просыпалась от кошмаров, вся в поту, а потом не могла заснуть снова.
– Ну и как это противоречит тому, что ты трусиха?
– А никак. Только интересно подумать, как много других решений я принимала стихийно, ничего не опасаясь и несмотря ни на чьё другое мнение, не боясь никаких последствий.
– Например?
– Например, направление обучения в университете поменяла с социологии на русскую филологию почти за два дня. Визу в Россию и транзитную белорусскую поехала выбивать за три дня до поездки, потому что приглашение только тогда пришло. Все махнули рукой, сказали, что ничего не получится. А я поехала, добилась своего. И даже когда у меня была перспектива ночевать на вокзале (знакомая знакомых в последний момент отказалась меня принять на ночлег), мне было не страшно. Любопытно, но я боялась только того, что скажет мама, поэтому не решилась ехать на вокзал, а позвонила родителям, они договорились со своими знакомыми насчёт ночлега, чем потом ещё и попрекали. Мне было страшнее мнение мамы, чем соседство бомжей и ужасные сквозняки на вокзале.
– Да, это интересно.
– Так это ещё только цветочки! Пойдём дальше. Как-то ко мне пристал в Кремле солдат, который был уверен, что я нелегально работаю переводчиком, хотя я просто болтала с американцами. У меня не было с собой паспорта, а московской прописки не было и в помине (прописана была в Питере), но даже тогда я не начала паниковать. Мне хватило наглости убедить его, что нечего у меня проверять, и он отстал. А паспорт я и потом так же оставляла дома. Затем наш брак. Выйти замуж я решилась в считанные минуты, хотя мы ведь провели вместе всего десять дней из трёх месяцев знакомства. Не зная, из какой ты семьи, не боялась нашего будущего, просто ринулась сломя голову. Я уже не говорю о том, как потом уговорила тебя поехать в Индию, а в Индии – сплавиться на рафтинге, на надувных лодках, которые продырявливались за секунду, пока мы ждали посадку, и которые крепились на совершенно проржавевшие конструкции. И меня даже не испугало то, что нам не дали шлемы.
– Да уж, эту поездочку я долго не забуду... Это было скорее похоже не на бесстрашие, а на безрассудство.
– Ну да. А вспомни автошколу, в которую я записалась во Франции, при очень сомнительном уровне знаний французского языка. И после двадцати часов с инструктором села спокойно за руль нашей машины.
– Не напоминай, я тогда состарился лет на пять как минимум...
– Ты состарился, а я не боялась. Вернее, не было страха, что не справлюсь. Я боялась только рутинной проверки, на которой мы влетим на несколько тысяч евро. Мне было жалко денег, но за машину я не боялась. Знала, что справлюсь, хоть и делала много ошибок. Более того, я несколько раз ездила без прав совсем одна, раз даже по ошибке съехала не туда на круге и попала на автостраду, помнишь?
– Слава Богу, я об этом тогда не знал, ты мне рассказала, когда вернулась домой.
– Ты думаешь, я боялась? Ни капельки! Что уж говорить, мои храбрость и бесстрашие иногда плавно перетекали в браваду, неосознанность рисков или сумасшествие. Я не боялась спать с бомжами на вокзале, не боялась выйти замуж за едва знакомого человека, не боялась утонуть в Индии или умереть там от столбняка, не боялась разбиться на машине, не имея прав, а боялась исключительно четырёх вещей – насилия, фильмов, в которых его показывали, темноты и гнева мамы. Интересная смесь, правда?
– Да, действительно. Видимо, твои страхи касаются только того, что хотя бы косвенно касается матери или твоих о ней воспоминаний?
– Да, похоже на то. Я боялась насилия, потому что меня били в детстве. По той же причине боялась маминого гнева. Подсознание подсказывало, что если я сделаю что-то не так, меня накажут, и вполне возможно, что физически. Ровно по той же причине боялась фильмов, в которых показывали насилие или хотя бы на него намекали (как всякие детективы): я слишком близко воспринимала то, что происходило с героями. И только теперь, перешагнув порог страха перед мамой, я стала свободно воспринимать триллеры и перестала бояться темноты.
– Но ведь теперь ты всё-таки как-то освободились от влияния своей матери?
– Да, хорошо сказано: как-то...
Формально я действительно освободилась от мамы: больше не разговаривала с ней часами по скайпу, письма писала раз в неделю, а порой даже реже, по телефону звонила раз в полгода. Но все равно каждый раз, когда понимала, что надо бы написать письмо, потому что уже давно не писала, это «надо» сжимало мне горло железным обручем. Я со слезами заставляла себя делать это, хотя рассказывать было не о чем, так как своей жизнью я с ней делиться не собиралась. Ограничивалась заметками о погоде и короткими замечаниями о работе.
В промежутках между письмами я думала о маме постоянно. Просто постоянно. Воспоминания скандалов и обид не выходили у меня из головы. Я не спала по ночам, а когда засыпала, мне снились страшнейшие кошмары про побои, про то, что родители убивают кого-то из нас, мне снилась сестра с избитым до крови лицом, мать, которая колотила меня головой об пол или целилась в меня из пистолета. Я подскакивала с такими криками, что пару раз даже Андрей от них проснулся. Пыталась прибегнуть к помощи снотворных, но они не особо помогали. Сон приходил быстрее, но вместе с ним приходили и кошмары, после которых я просыпалась от ужаса.
Пришлось обратиться к психологу. Я очень надеялась, что она поможет мне отвязаться от мамы и при этом контролировать свои страшные вспышки гнева и раздражения, повод для которых всегда найдётся. Но дело не в грязных крышках, разбросанных носках или пересоленном супе, дело во мне. Однако я никак не могла понять, где первоисточник этого раздражения, почему из меня извергается такая разрушительная сила, которая при каждом скандале грозит снести напрочь мой брак?
Благодаря психологу я поняла, что моё раздражение было проявлением поломки основы человеческого организма. Каждый умеет сам себя успокаивать. Сначала ребёнку в этом помогают родители: когда он плачет, его обнимают, убаюкивают, чтобы он уснул. Именно поэтому люди придумали колыбели: ровное покачивание успокаивает малыша. Когда он вырастает, и колыбелька для него уже мала, его носят на руках, по-прежнему возят в коляске. Со временем ребёнок понимает, что ничего страшного ему не угрожает, нет необходимости громко плакать каждый раз, когда стало страшно или больно. Когда проблемы становятся более сложными, в нем уже не срабатывает ни рефлекс плача, ни страха и неразрывно с ним связанной агрессии. У меня же ни одно звено из этой цепочки не работало. Нас никто не убаюкивал и не успокаивал, на руках нас принципиально не носили и даже гостям это запрещали – мол, дети к этому привыкнут, а потом будут только хныкать и капризничать. Более того, нам даже плакать запрещали. То есть, получив определённую дозу страха или дискомфорта, я не только не могла надеяться на то, что меня поймут, пожалеют и помогут, но мне ещё и слезы приходилось сдерживать, потому что если я начинала плакать, на меня сердились, меня унижали, устраивали скандалы, в общем, становилось ещё хуже. В итоге, мельчайший дискомфорт в теле или в окружении вызывал мощнейший взрыв негатива. Годами я эти взрывы контролировала, но когда поняла, что Андрей даёт мне много свободы и не требует от меня, чтобы я себя сдерживала, вся эта негативная энергия, накопленная годами, стала нас заливать с невероятной силой.
Благодаря психологу я это все поняла – и количество скандалов у нас резко пошло на спад. Я научилась просить мужа о помощи в момент раздражения, а не ждать, когда этот негатив выльется в крайне неадекватной форме. Таким образом, мы не только перестали отдаляться друг от друга из-за скандалов, а стали сближаться, чувствуя взаимное доверие и нежность.
Одновременно благодаря работе с психологом я стала мелкими шагами дистанцироваться от мамы. На меня все меньшее влияния оказывали её настроение и капризы, я стала понимать, что любые её письма – это всего лишь слова, катастрофическое значение которым придаю я сама. Мне стало легче за собой следить, и я заметила, что действительно могу не накручиваться, получив неприятное письмо от матери. Её настроение – это всего лишь её настроение, оно не сможет мне передаться, если я сама этого не захочу.
Единственное, что не переставало удивлять ни меня, ни Андрея, это почему я всегда так близко воспринимала мамины эмоции, почему у неё была надо мной такая власть, словно я привязана к ней какой-то невидимой нитью. И вдруг на одном из психологических сеансов передо мной всплыл ещё один образ.
Сцена 39
Жаркая летняя ночь. В комнате на двуспальной кровати лежат мать и Аня (6 лет). За открытым окном поют цикады, пахнет можжевельником, морем и летом.
Мать. Анечка?..
Аня. Да, мама?
Мать. Ты не спишь?
Аня. Нет, а что?
Мать. Ты можешь кое-что для меня сделать?
Аня (немного испуганно). Да, конечно. Что случилось?
Мать. Ты можешь снять низ пижамы и сделать мне компресс своей попочкой? У меня очень болит живот...
Аня без слов спускает низ своей пижамки и делает все, как просит мать. Мать вздыхает с облегчением.
Мать. Ой, спасибо, ой, как хорошо, мне сразу стало легче...
Мать прижимается сильнее к Ане и постанывает с облегчением. Дочь, пытаясь уснуть, легонько потряхивает правой ногой, качаясь таким образом в такт какой-то внутренней мелодии.
Мать (раздражённо). Что ты делаешь? Перестань трясти кровать! Ты мне мешаешь спать...
Я была в ужасе, вспомнив это. И никак не могла отвязаться от мысли, что бы про это сказал Фрейд. Вот вам спальня, кровать, два человека в ней, голое тело, прикасающееся к гениталиям, и стоны облегчения, то бишь – наслаждения. Только эти два человека не муж с женой, а мать с дочкой... Я знала, что это неправильно, неприлично и отвратительно, но даже не сразу поняла, почему. Только потом, когда вернулась от психолога домой, до меня вдруг дошло, что ведь у мамы на самом деле ничего не болело! Если бы у неё действительно были рези в животе, она бы выпила лекарство или заварила себе травяного чая. Мы были тогда на каникулах без папы: у него не хватало отпуска на всю нашу поездку, он должен был к нам приехать через две недели. Вот почему я оказалась с мамой в одной спальне. Получается, что в отсутствие папы я выполняла для неё роль эдакой наивной секс-игрушки, которая ни о чем не спрашивала и свято верила в то, что у мамы болит живот, в то время как она просто мастурбировала.
Моя психолог сказала, что, по её мнению, после такого поведения настоящее материнство уже невозможно. Не знаю, согласна ли я с ней полностью, но доля правды в этом точно есть. Осознав всплывшее воспоминание, я опять задумалась про все наши последующие отношения с мамой. Про то, как она меня расспрашивала про мои отношения с Антоном, про то, как она спала со мной несколько лет в одной кровати, про то, как она пеклась о моей девственности и считала себя вправе решать, как мне в этом вопросе поступать. Это ведь было просто продолжением той сцены летней ночи! Она играла мной и моими чувствами к Антону, накручивая меня то на разрыв, то на примирение. Когда я про это рассказала психологу, та констатировала: «На самом деле роман с Антоном был не у вас, а у вашей матери». Не знаю и знать не хочу, какие фантазии приходили маме в голову, когда она спала со мной в одной кровати. А уж вопрос моего принципа до свадьбы был самой извращённой сексуальной игрой, какую только можно себе представить! Я, сама того не осознавая, чувствовала себя не дочкой, а предметом, принадлежащим маме. Я с детства привыкла реализовывать её фантазии и никак не могла от этого отделаться, поняв, что это моя жизнь и моё личное пространство, на которые я имею полное право.
Та ночная сцена позволила мне понять ещё один нюанс. Я никак не могла вспомнить, когда и почему приобрела привычку трясти ногой, когда засыпаю, теперь же поняла, что это навык из очень раннего детства. Он, очевидно, должен был имитировать колыбель, помочь мне расслабиться и заснуть. Но мама не хотела и не собиралась этого понимать. Ей это мешало, поэтому я должна была это прекратить. Любопытно, но эта привычка, несмотря ни на что, осталась у меня до сих пор.
Мне было крайне противно думать про все это. Помню, однажды я проснулась ночью и, находясь ещё в состоянии между сном и явью, ещё не до конца понимая, где я, издала стон отвращения, осознав, что рядом со мной спит моя мама. Каково же было моё облегчение, когда, окончательно проснувшись, я поняла, что нахожусь у себя дома, а под боком спокойно дышит Андрей! Однако сама мысль, что раньше на его месте лежала мать, была настолько неприятной, что я долго не могла уснуть.
Я думала о материнстве и об отношениях между родителями и детьми. Принято считать, что человек в долгу перед своими матерью и отцом, потому что те отдали ему много любви, внимания и сил. И когда дети вырастают, они должны заботиться и быть внимательными к пожилым и слабым родителям. Но что если человек в детстве не почувствовал этой любви? Как можно, например, нормально общаться с матерью, понимая, что у каждой ласки была своя извращённая подоплёка? Мне стало совершенно ясно, что мы никогда не были для мамы живыми детьми, которых нужно любить и защищать. Мы были для неё объектами, с помощью которых она реализовывала какие-то свои планы и намерения.
Мама очень часто нам рассказывала, что ею в детстве никто никогда не занимался и не интересовался. Бабушка строила карьеру, дедушка тоже много работал, да и семейными отношениями он не был доволен, поэтому искал приключений на стороне. А на маму никто не обращал внимания. Поэтому она решила, что сделает все наоборот, не будет работать и все своё внимание отдаст своим детям. Мать взяла нас под полный контроль, она знала абсолютно все подробности и детали нашей жизни, всех наших учителей, одноклассников и друзей. Она не хотела дать нам ускользнуть от неё хоть на два дня на школьную экскурсию или даже к бабушке на выходные (такие поездки у нас случались раз в несколько лет, хотя и мы, и бабушка очень хотели, чтобы это было чаще). Мама перестала общаться со своими друзьями, так как эти отношения требовали иногда приглашать кого-то домой или оставлять нас одних и идти к кому-то в гости. Она же ревниво сторожила каждый семейный вечер, который мы обязательно должны были проводить вместе, несмотря на планы и желания каждого из нас. Она действительно все сделала иначе, чем бабушка. Вот только забыла дописать один маленький пунктик в список-сравнение себя со своей матерью: «Моя мама меня не любила, поэтому я буду очень сильно любить своих детей».
Проблема в том, что эта гонка никому не пошла на пользу, и в первую очередь – ей самой. Со знанием семи иностранных языков, с блестящим образованием, мама сидела дома, не находя никакой возможности для самореализации. Она всегда повторяла, что её это вполне устраивает, что ей ничего больше не нужно. Но чем дольше все это продолжалось, тем сложнее было поверить в её слова. Мать, безусловно, задыхалась в домашней обстановке. Она перестала следить за собой, со временем перестала следить и за квартирой. Была постоянно всем недовольна, и своё неудовольствие выплёскивала в фантастические скандалы, которые были больше похожи на садомазо-игры, чем на обычное, хоть и неприятное выяснение отношений в семье. Кожаные ремни, нагайка, зажимание пальцев на шее – все это неизменные атрибуты садомазохизма. И мать, очевидно, получала от этого противоестественное удовольствие. Только ведь это были не игры. Все происходило отнюдь не по обоюдному согласию, мы не только не могли эту «игру» сами прекратить, но ещё и подвергались настоящей опасности. Помню, несколько раз у меня такие синяки оставались на теле, что мне было стыдно переодеваться перед физкультурой.
Теперь же, когда мы выросли, она стала требовать от нас внимания и времени. Я не знаю, как можно нормально общаться после всего, что было. Во мне не осталось никакой нежности к родителям. Ни капли. Честно говоря, мне их даже жалко, потому что я понимаю, что в итоге они сами несчастливы и очень страдают. Но во мне нет ни сил, ни желания, чтобы как-то на это реагировать. Да и почему, собственно, я должна это делать? Я не хочу больше быть мазохисткой, посвятившей свою жизнь людям, которые сами не справились со своими детскими, подростковыми и брачными проблемами. Их жизнь была их выбором. Они сделали с нашим детством то, что сами захотели. Теперь я буду делать со своей жизнь все, что сама захочу.
Тем не менее, как бы глубоко я ни была убеждена в правоте своих рассуждений, применить свои решения на практике было очень сложно. Окончательно отвязаться от мамы я так и не смогла. Думала о ней практически не переставая, даже не всегда это осознавая. Дома, на работе, на улице, в магазине, у врача, в отпуске, в гостях, в театре, во сне, днём и ночью… Это было похоже на сумасшествие. В принципе, я понимала, что в определённом смысле мои страдания являются результатом моего желания. Пока я сама хотела разговаривать с мамой, я разговаривала. Когда я реально дошла до предела, я сама же это прекратила. Вроде бы и тут вопрос был в том, чтобы я сама захотела перестать думать о маме. Но, к сожалению, мыслями отнюдь не так легко управлять.
Это как с сигаретами. Вроде бы хочешь бросить курить и думаешь: все, все, я завязал, больше не курю, выбросил все сигареты и все пепельницы. Ты понимаешь, что все делаешь правильно, потому что у тебя уже тяжёлый кашель, врач пугает тебя раком лёгких, а из-за затрат на папиросы ты уже несколько лет не был в отпуске. Все предельно логично: курить вредно, дорого и бесполезно, бросить курить – единственное правильное решение. Но организм все равно хочет. И как бы ты ни старался, все твои мысли крутятся вокруг папирос, дыма, запаха табака и прочего. Так же было и со мной. Головой я понимала, что мне нужно прекратить это безумие, что долго мне так не выдержать, из меня это все соки выжимает. Я превратилась в зомби, который везде, всегда и при любых обстоятельствах хотел спать, но нигде не мог уснуть. Из-за недосыпа у меня очень сильно стали падать давление и пульс, я задыхалась, никак не могла отдышаться, а организм никак не реагировал: вместо того чтобы ускорить кровообращение, он работал с неумолимо ленивым пульсом 48-50 ударов в минуту. При этом у меня была постоянно повышенная температура. Я испугалась не на шутку – и отправилась сдавать анализы. Результаты были превосходными. Я пошла к кардиологу. Врач сказала, что ЭКГ у меня просто прекрасное, а низкое давление вместе с заниженным пульсом свидетельствуют, скорее всего, о нервном истощении. Вот, прямо в точку. Нервное истощение.
У меня осталась последняя надежда: загрузить себя по максимуму делами, постоянно отвлекаться на что-то другое. Я купила абонемент в спортзал, стала искать дополнительную работу, решила стать волонтёром в благотворительном фонде, взялась за рукоделие, стала маниакально смотреть фильмы. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что эта терапия поможет. Я не хочу больше думать про самоубийство, не хочу лежать по ночам в страхе, что мне приснится очередной кошмар, не хочу чувствовать на шее этот железный обруч слова «надо». Хочу своей жизни. Своей, а не маминой. Или ради мамы. Или наперекор маме. Я хочу жить с Андреем, а не с фантомами прошлого. Хочу освободиться от всех плохих воспоминаний. Не знаю, получится ли это у меня. Не знаю. Но надеюсь…
Сцена 40
Вена. Вечер. Идёт небольшой дождик. Анна с Андреем гуляют по улице. Они держатся за руки, чувствуется, что они счастливы. Андрей смотрит на Анну нежным любящим взглядом. Мимо проходит ещё одна счастливая пара с зонтом диаметром полтора метра.
Андрей. Прикольный зонт. Так удобно, наверное.
Лицо Анны резко меняется, её как будто передёргивает от боли.
Андрей (испуганно). Что случилось? Что с тобой?
Анна (тихо). Меня били таким зонтом...
Андрей бережно её обнимает, начинает гладить и успокаивать. Анна выпрямляется, вытирает слезы, смотрит по сторонам.
Анна (немного наигранным, но весёлым тоном). Смотри, какая классная кондитерская. Давай купим себе по мороженке?

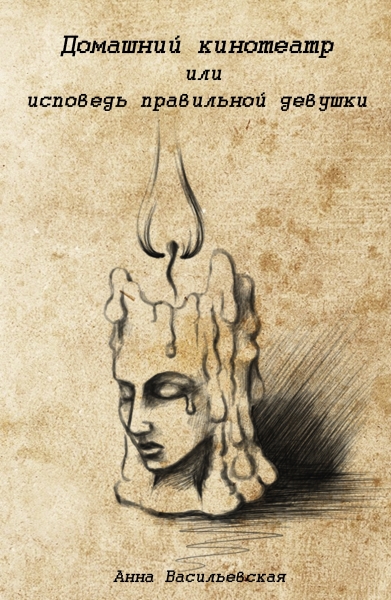




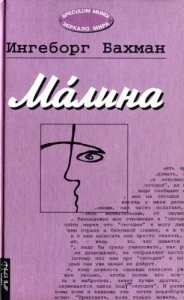
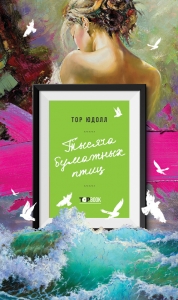




Комментарии к книге «Домашний кинотеатр или исповедь правильной девушки», Анна Васильевская
Всего 0 комментариев