Катя Пицык Город не принимает
Издательство благодарит Антона Аверина за помощь в получении прав на издание книги.
© Права на текст. ООО «Антоним», 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Катя Пицык написала очень свежую и очень точную книгу – про город (у Кати вообще поразительное чувство города), про нас, про грусть, про любовь. Это настоящая книга (таких очень мало) и про настоящее время – эти вовсе наперечет. Потому что мало кому удается нащупать этот нерв, вот который прямо сейчас, под рукой. Кате Пицык удалось.
Марина Степнова,прозаикЛюбовь – это северное сияние. Искусство – это вор из подворотни. Город – это Питер.
Инга Кузнецова,поэтСам процесс чтения этой книги доставляет такое острое наслаждение, что вас начнут разрывать на части противоположные желания. Одно – чтобы она никогда не кончалась, эта плотная проза, так густо насыщенная смыслами, так часто вспыхивающая головокружительными метафорами, преподносящая в подарок целые страницы, которые вам захочется перечитать вслух. А другое желание – поскорее прочитать до конца, чтобы узнать, что все-таки станет с героями, которых вы успели полюбить.
Ирина Богушевская,певица, композитор, поэтКонстантину Крикунову, Аркадию Драгомощенко
Пролог
Никого красивее. Никого и никогда. Никакие Хепберн, Кински, Ламарр даже втроем не удовлетворили бы эстетической потребности человека в той мере, в которой могла она. Чтобы хоть как-то сравняться с нею, Моне Лизе пришлось бы раздеться и показать нам грудь.
Я увидела ее в вещевых рядах. Она торговала цветными колготками. Рынок кишел. Мы с мамой пробирались промеж навесов, укрывавших от снега спортивные костюмы, песцовые шапки, мужские трусы, бумажные цветы, веера, сервизы и тапочки с собачьими глазами. Люди праздно наваливались на прилавки. Под ногами дрябла пропесоченная ледяная земля. Мы прошли теснину и свернули в параллельный ряд. А продавщица колготок осталась в прошлом.
– Мам, можно вернуться? – спросила я. – Посмотреть там, на девочку…
– С колготками?
Мама дала мне десять минут и велела нагнать ее у обувного развала. Найдя подходящую щель между прилавками, я пробралась из ряда в ряд – насквозь. И посмотрела на девочку сбоку, тайком. Она курила. В дыре шерстяной перчатки светлела кожа. Время от времени профиль девочки исчезал в завесах пуховиков. Время от времени вид на нее иссекали опадающие дождем китайские колокольчики; они, мелко растущие на шелковых лианах, каждым дыханием ветра приводились в движение и тонко звучали. Девочка улыбалась покупателям. И как только она не шалела без шапки? Парочка крупных снежинок застряла в прядях ее расслабевшей косы. Джоконда будущего. Вряд ли природа рождала нечто подобное хотя бы еще в одном экземпляре.
Когда мы пришли на рынок через неделю, я сразу спросила разрешения взглянуть на продавщицу колготок. Мама ничего не имела против. В общей сложности я видела девочку четыре раза. В апреле она пропала. Один знакомый басист сказал, что Джоконды больше нет в городе. Она уехала в Санкт-Петербург. Свалила с первой волной миграции дальневосточных рок-музыкантов. Спустя полгода я переходила Аничков мост.
Дождь только что кончился. Фонтанка блестела, как лаковая резина. В воде отражалось высокое барокко цвета розы с примесью грубого мусковадо. Держа курс на Лавру, я спустилась к восточному берегу канала. Горел красный. Пешеходы в состоянии глубокого транса не сводили глаз со светофора. Выше неистовствовал шеститонный конь. Туристы заглядывались на скульптуру. В ногах скакуна пульсировала мощь. По бронзе вздувались вены. А вот грудь укротителя казалась упитанной слишком гладко. Интересно, кого-нибудь из одиноких манило взобраться на пьедестал и лобзать железное мясо? На бронзовом торсе обсыхали потеки смешавшихся с пылью струй. Но блеск сытых мышц не унимался. Я отвела глаза. И увидела девочку – ту самую, с нашего рынка. Она стояла на противоположной стороне дороги, забивая своей красотой звучание целой горы Растрелли. Не верилось! Но это была Джоконда. Расстегнутое пальто смотрелось огромным. Грубые, тяжелые, по-церковному черные полы, расходясь, открывали сборки старческой юбки. Загорелся зеленый. Что было делать? Остановить? Под каким предлогом? В голову ничего не пришло. Мы разошлись, едва не коснувшись друг друга. Но она посмотрела. И не то чтобы бегло. А внятно и адресно. Узнала? Невероятно. Перед ее прилавком за день проходили сотни одинаковых мешковатых людей в тяжелых шубах. Может ли быть, что она замечала, как я наблюдаю за ней из засады? Ступив на тротуар, я не вытерпела и оглянулась. Зеленый погас. Пешеходы давно накрывали волною мост. А Джоконда, совсем одна, торчала по центру проезжей части, уставившись на меня. Машины сигналили, явно на взводе. В три широких шага я выскочила на середину дороги и толкнула Джоконду к парапету. Под рясой оказалась коричневая рубашечка, окропленная мелкими зайчиками. Через ткань прощупались ребра, слишком уж тонкие.
– Ты что?! – крикнула я. – Тебя бы сейчас задавили, кошмар какой-то…
Она не ответила.
– Прости, я тебя знаю, ты на нашем рынке работала, я тебя видела там несколько раз, у тебя очень запоминающаяся внешность. Я потом… короче говоря, потом случайно выяснилось, что у нас есть общие знакомые.
Она так и молчала. Становилось неловко.
– Ты… извини, я просто подумала, может, ты узнала меня тоже?
– Какие-то части будущего проходят перед нами даже сейчас, – она обвела жестом панораму и с радостью прильнула ко мне, дав возможность вновь ощутить ее странные воробьиные ребра.
– Время – это не линия, это наполнение. Каждая точка будущего влияет на какую-то точку прошлого уже сейчас. Мы – в прошлом, – сказала она.
Я совершенно потерялась. И за неимением прочих идей представилась:
– Меня Таня зовут. А тебя?
– Валечка.
Ну и ну. Валечка? Зачем же так о себе? Меня бросило в краску. Кроме того, еще не успев обдумать, я почувствовала: нет, она меня не узнала. Вернее, она не видела меня на рынке и не запоминала моего лица. Валечка выделила меня из толпы только что и по каким-то совершенно иным причинам.
Она пригласила в гости. На троллейбусе мы промчали Невский, потом перешли Дворцовую и свернули в переулок – Мошков. За пространными коваными воротами открывался убористый дворик. В дальнем пределе его чернела низкая прямоугольная арка. Мы нырнули туда. Я пригнула голову, рефлекторно. Прокислую шахту освещала единственная дрожащая лампочка. По верхним углам тянулись разного сорта толстые провода. Беспорядочно перекрученные между собой, они, хоть убей, производили впечатление органической массы. Просохшие за годик-другой неочищенные кишки. Или мертвые змеи. Могли ли они укусить человека? На всякий случай я держалась центральной оси, опустив руки по швам. Выйдя из туннеля, мы чуть ли не носами уперлись в высоченный брандмауэр и тут же резко ушли направо, снова под арку, на этот раз – сводчатую, но донельзя тесную – в такой узине не разошлись бы и двое! Карликовый грот изгибался дугой. По внутренним стенкам черепа побежали мурашки. В моих представлениях так выглядели желудки средневековых узилищ. Петербург неожиданно сбросил свой редингот и запустил нас внутрь полного крыс бельевого кармана.
– Тебе не страшно тут жить? – спросила я.
– Я люблю быть ночью на море, люблю лес – человеку нужно быть в контакте с землей. Здесь очень спокойно.
В общей сложности мы прошли через три туннеля. Валечка проживала в четвертом дворе – тупиковом. Компактном. Квадратов на сто. Без единой травинки. Имевшем одною стеной глухой крепостной брандмауэр, в подножии которого вкрадчиво мерцали сливки непросыхающих сточных вод. Ни скамейки, ни кошки, ни детской коляски. Само собой возникало чувство, что это желтое каменное влагалище работает только на вход. Место побезысходнее одиночки. Литой котел. Как люди жили здесь? Как входили сюда поздним вечером? Что чувствовали, когда ежедневно покидали поверхность земли, чтобы вернуться домой – в камерность недр? В ту минуту, пребывая в пылу эстетического шока, я даже не представляла себе, что Петербург напичкан такими дырами, как самый наипористый сыр.
Валя распахнула дверь в парадную. На второй этаж вела винтовая лестница. Деревянная! Окрашенная на манер советских полов – в откровенно коричневый цвет. От половины высоких тощих фигурных балясин остались занозчатые огрызки. То есть довольно большие участки перил не имели под собой никакой опоры и провисали в воздухе, как провода. Ступени изрядно косили, особенно на повороте, заваливаясь с внешней стороны лестницы. Голова закружилась.
– Здесь можно ходить? – спросила я. – Здесь точно живет кто-то? Валя? Это не опасно?
Валечка уверенно шагала наверх. Трухлявое дерево гулко скрипело. Я опробовала носком ботинка первую ступеньку.
– Эй? Ты слышишь? Постой… Ты давно здесь живешь? Это точно не рухнет?
Приостановившись, Валя обернулась. Она светилась от счастья. И, кажется, не вполне понимала, чего именно я добиваюсь.
Мы вошли в коммуналку, выдержанную в духе предвосхищавших ее интерьеров, – смутную в своей протяженности и планировке, мерклую и замогильно глухую. Больше всего эта квартира походила на размашистый склеп, выстроенный на очень широкую ногу и спустя лет пятьсот с крайней аскезой обжитой залетными лишенцами. Героиня войны и труда – хозяйка, сдававшая комнату Вале, лишь на мгновение блеснула броней перстней и растворилась в глубинах. В Валиной комнате на фоне неплохо побеленной стены стояло пианино. Из полости инструмента была изъята дека – в полированном гробу хранились закатанные на зиму помидоры. Помимо мертвого пианино, в комплект меблировки входили вбитый в холодную стену гвоздь, тумбочка, кипятильник и сероватый матрас. В плацкартного цвета скомканных простынях валялась скрипка. На голом дощатом полу лежала нотная тетрадь. Я полистала. Гайдн. Соната номер пять. Соль мажор. Между страницами теплилось групповое фото: государственный дальневосточный симфонический оркестр. К чаю у Валечки отыскалась морщинистая антоновка. Но самого чая не было. Кипятком запивать даже лучше. В лесу мы могли бы заварить в котелке брусничный лист, но, увы, не все дается нам сразу: к жизни в лесу необходимо стремиться. Выслушав этот бред, я отказалась от кипятка и попрощалась. На следующий день мы прямо с утра отправились к моему однокурснику Юре – урожденному петербуржцу, проживающему в псевдоготическом доме на Старорусской улице. В лифте, набравшись терпения, я сказала со всей вразумительностью, на которую была способна в двадцать лет:
– Валя, съешь сколько сможешь. И даже больше. Даже если тебе не будет хотеться. Впихивай через силу. Просто сделай, пожалуйста, так, как я попросила.
Юрина мама все поняла без слов. Она наметала на стол разносолов и тихо вышла из кухни, велев сыну продолжать обстоятельное угощение. Валечка сидела на подоконнике, свесив ноги, и через плечо поглядывала на дно двора. Глубокий старорусский колодец был полон света. Немытые окна бликовали на солнце. Голубь уходил в пике. Кто-то смотрел футбол. Голос комментатора резонировал в каменном театре. Юра разогревал оладьи. Горящее масло шипело. Я смотрела на Валю. Сколько она весила? Килограммов сорок пять? А из них половина – губы. Прежде чем раскрыться для тихого слова, эти губы медленно отлипали друг от друга. Между ними натягивалась и рвалась ниточка прозрачной слюны. В те времена никто еще не слышал о силиконе. Валя была натуральной, от первого до последнего вздоха. Природа выступила в качестве художника – проявила неожиданное желание форсануть маньеризмом. В этом присутствовал вызов: якобы – вот вам, утритесь, полусведущие любители женщин, засуньте в задницу чемоданы грима и осветительные приборы – то, что вы хотите увидеть, сделать могу только я. На пол упал кусок хлеба. Валя наклонилась поднять, и ее детские гладенькие пепельные волосы, пересыпаясь с висков, повисли, как шелковое знамя в безветренную погоду. Недостаточно было бы просто сказать, что Валя обладала неземной красотой. Гораздо точнее звучало бы утверждение о том, что ее красота презентовала неземную цельность. Наверное, приблизительно так выглядел ангел Иерахмиил, без конца наблюдавший за воскрешением мертвых.
Речь Валечки, в принципе, была связной, но в основном внепредметной. Юра сказал мне, что такое явление называется «аутизм»; я не знала значения этого слова. Извлечение из Валиных говорений хоть какой-то толики смысла требовало нечеловеческой концентрации внимания. На первых порах знакомства мне удалось составить лишь некоторые представления: похоже, Валю выперли из оркестра, потом с рынка, потом она, видимо, переспала с каким-нибудь ударником или бас-гитаристом, бегущим делать мировую карьеру, с перепоя купила билет и на хвосте отъехала с Дальнего Востока – в Санкт-Петербург. Сестра Валечки отбывала срок где-то на Сахалине. Родители оставались под вопросом.
Однажды вечером, возвращаясь с абонементного филармонического концерта, я проходила мимо ресторана на углу Мойки и Невского. Из зарешеченных окон сочился медовый свет. Гардеробщик принимал оснеженные шубы. Должно быть, в скрытой от глаз горячей кухне французский повар бросал в молоко цветки турецкого шафрана. Тончайшие бокалы летели, толпою съехав к краю подноса. Богатые люди читали меню. Просунув руку между коваными прутьями, я растерла варежкой дырку в наледи и приблизила лицо к стеклу. В конце ресторанного зала стоял рояль. Длинноволосый студент аккомпанировал истощенному скрипачу. Будущее всплыло передо мной с обжигающей ясностью. На следующий день я приехала к Валечке и швырнула на матрас «Мелодию» Глюка.
– Послушай, – сказала я, тряханув Валю за плечи. – Каждый день с семи до одиннадцати вечера я занимаюсь музыкой в университете. На кафедре мне дают ключи от аудитории с инструментом. Я договорюсь на вахте, чтобы тебя пускали. Ты будешь приезжать к нам в Озерки. Мы будем репетировать. Потом устроимся в ресторан. Поиграем недельку. Тебя сразу увидят. Ты выйдешь замуж за миллионера. И нам больше не надо будет выгадывать, в каких бы гостях тебя еще покормить. Понимаешь?
Она кивнула. И обняла меня за шею.
Каждая вторая нота, взятая Валей, была фальшива. Но меня переполняла решимость.
– Будем работать, – говорила я.
Однако чаще всего Валечка просто не приезжала на репетиции. Я резалась в гаммы по три часа в одиночестве. Стрелка делала за кругом круг. Снег падал. Переставал. И падал снова. Я понимала, что Валечка сбилась с курса. Неведомый маленький кормчий, скрытый под ее лобной костью, водил Валечку бесконечными галереями идеальных пустот, образованных идеальными гранитными объемами. До костей промерзая, она брела по щиколотку в водянистом снегу, растворяя в нем кромку сборчатой юбки, и не могла вспомнить, зачем и куда идет. Через пару месяцев я бросила Глюка под кровать. И забыла о ресторане.
Глава I
Большой и красный. Это первое. Impression. Вареный рак, упавший в сырость земли. Таким я запомнила Государственный университет гуманитарных наук. Сросшиеся по-сиамски корпуса общаги и учебного здания, стоящие неэкономно, отложив подле себя прямоугольные яйца – лектории, галереи, площадки, парапеты. И гектары грязи вокруг. Обвисшая сеть проводов. Плохая погода. Темные птицы в планирующем полете. Столбы фонарей, обреченные на век без любви, как дубы и рябины. Уныние. Бесцветная заря одиночества. От остановки трамвая до главного входа – метров триста болотистых почв. Дорогой срывало шапку. Щеки драл ледяной сквозняк. Пятнадцать лет назад я, Таня Козлова, приехала в Санкт-Петербург учиться искусствоведению. И первой петербургской страницей в мою утлую память легла не парадная открытка, а именно эта пространственная ведута: пустырь и гигантский кирпичный лангуст-мутант, развалившийся посередине. Отпрыск робкой, сухомятной, беременной кубиками архитектурной мысли восьмидесятых – дом Наркомата тяжелой промышленности, прошедший через десятилетия кровопролитий как через ушко иголки, – обмелевший, зажатый, бездарный рахит, умножающий скорбь студентов, удаленных от всякого отчего.
– Триста шестьдесят третья… есть место, – комендантша перелистывала умащенные кожным салом страницы, – триста шестьдесят седьмая… есть, хм.
Она не торопилась.
Стулья в кабинете были завалены постельным бельем – по виду крахмальным до треска. Я присела на свой чемодан. Пахло утюгом. Наконец комендантша снизошла:
– С севера? Самолетом летела?
Я кивнула.
– Долго летела?
– Девять часов.
– Расскажи о себе. Что ты за человек?
– Я люблю чистоту.
– Понятно.
Старуха посмотрела пытливо.
– Понятно, – повторила она. Как и почти любой, эта видалая женщина прочла в моих самых обыкновенных, серых, невыразительных глазах то, что придумала сама.
– Знаю, куда тебя. В четыреста пятнадцатую. Там у меня девочка, Инночка, пятый курс. Очень любит чистоту. Очень хорошая девочка. Так сильно, как она, у меня больше чистоту никто не любит. Вы подойдете.
Это была ошибка. Мы не подошли. Определенная мне соседка любила порядок. А не чистоту.
Калининградка Инна Сомова изучала экономическое право. «Шла на красный диплом». Поклонялась собственному отцу и домашнему очагу. Владела искусством игры на виолончели. Имела сдобную грудь. Короткое тело. Русый ежик. Греческий нос. А над носом большие, бледные, выкатывающиеся глаза, полные айвазовской влаги, – два яблока из морской воды, перенявшей способность ртути отливаться в шары.
– Тань, слушай, я только сразу тебя попрошу… – начала Инна. – Без обид. Я ничё не хочу сказать, что ты, там, должна или что, но я привыкла так, я в этой комнате пятый год… И каждое утро заправляю кровать «диванчиком».
– Что?
– Я покажу. Это просто. Занимает полторы минуты.
Инна сдернула с койки клетчатый плед. Вдоль стены лежала наивная конструкция – особым образом примятая подушка стыковалась с так же примятой второй подушкой, смыкающейся с одеялом, свернутым в рулет, идентичный подушкам по высоте и ширине. Смехотворная колбаска имитировала спинку дивана. Инна играла во взрослую мирную жизнь, жертвуя Гестии по полторы минуты от каждого дня.
– Очень хочется, чтоб поуютнее… Понимаешь? Хоть что-то такое домашнее… Какая-то индивидуальность комнаты. Чтобы душа была. Я очень люблю свой дом… и мне важно просто, понимаешь, чтоб было что-то такое, что именно мое.
Я не ответила. Мое молчание Инна приняла за согласие. Советских детей не учили вести переговоры.
Общежитие состояло из стен и темноты. Под ногами стелился линолеум. В концах коридоров еле брезжили окна, дающие света метра на полтора. Время от времени продольное сумеречное пространство затекало в небольшие шкатулки, интарсированные изнутри кафелем и облупками штукатурки. То были общие кухни и душевые. В них капала вода.
– Я могу поменяться с кем-нибудь комнатой? Я хочу переехать.
Кастелянша раскладывала грязное белье по тряпичным мешкам. Комендантша прихлебывала запаренный сбор из стакана, не вынув ложки. Женщины переглянулись.
– Инночка такая девочка хорошая, – сказала старуха, облизывая губы.
– Хорошая, – кивнула я.
– Так чего бежать? Привыкли матерям коней выкидывать.
Комендантша отломила от песочного печенья.
– Все переселения после зимней сессии, – сказала она, домовито пригладив рукой закрытый журнал, как шершавый круп холеного поросенка.
– Чего бежала по коридору так? – кастелянша обратилась ко мне, оторвавшись от трудов с тряпьем. – Бегать надо на улице. Вон у нас сколько вокруг голого места. Бог дал. Нечего по коридорам.
Инна испытывала ко мне неприязнь: по утрам я небрежно набрасывала плед поверх кое-как расправленного одеяла и, что еще хуже, носила большие очки. Пластмассовая оправа крем-брюле. Диско. Два прозрачных круга закрывали половину лица. Верхние дуги выше бровей, нижние – чуть ли не до середины щеки. Эту подводную маску имени Пикассо я нарыбачила в детстве из темноты кладовки. Очки валялись в маминой хрустальной вазе вместе с пуговицами, «собачками» от молний, обмылками для черчения выкроек и сережками «по одной». Я приметила оправу лет в двенадцать, а по окончании школы отмыла, отнесла в оптику и заказала линзы. Новую жизнь аксессуару суждено было проживать в чужой, враждебной ему эпохе: второе рождение очков аккуратно совпало со смертью Джеки Кеннеди.
В середине девяностых слово «фрик» не употреблялось. Поэтому при взгляде на мои очки Инне не на что было опереться. Она просто не понимала, что происходит. Воды в ее глазах откатывались вовнутрь, оставляя полусферы пустыми и безжизненными, как стекла в мороз. Инна могла объяснить себе, почему я не пользуюсь косметикой: потому что дура. Но почему я ношу такие очки, когда меня никто не заставляет силой, – этому Инна объяснения не находила. Я тоже не знала, почему ношу такие очки. Слово «бунт» не приходило мне в голову. Проще всего дикая выходка объяснялась моей якобы утонченной тягой к предметам времен маминой молодости. Так или иначе, но очки мне не шли и никем из окружающих восприняты не были.
Инна встречалась с местным парнем Кириллом, мальчиком «из хорошей семьи», точнее – «приличной семьи», с каким-то надуманным верхнесословным преторианским оттенком. Щетинистый, жирный, мнящий себя самцом и денежным человеком Кирилл сходил с ума по автомобилям. Родители его были богаты «баснословно», и по этой причине он имел возможность принимать за дело жизни мечту о собственном автосервисе. Кирилл строил планы. Совершал в день несколько встреч с друзьями (потенциальными бизнес-партнерами), пил кофе, тер базары, катался на машине по городу, иногда снимал баб, иногда, в дождливые грустные дни, оставался дома. Приходя к нам в гости, он прямо в верхней одежде разваливался в Иннином кукольном мире, раскрывал ляжки на сто шестьдесят градусов и подминал локтем «спинку» «диванчика». Он смотрел на казенный быт, ухмыляясь. Кривил мясистые, слегка выворачивающиеся губы. Клал руку на яйца. Втягивал голову в плечи. И всеми силами источал небрежность и насмешничество, относящееся к черни, к коей Кирилл на всякий случай причислял «все, что движется». Инна тем временем хлопотала над завариванием чая. И тихо стыдилась моих полоумных очков.
Я не любила Инну не меньше, чем она меня. Меня раздражало в Инне все. Мещанство. Внешность. Способность ее глаз стекленеть (по сути, это онемение взгляда сопровождало оцепенение мысли, которая, как ленивая и неуверенная собака, застывала в кусок теста перед каждым незнакомым барьером). Но больше всего в Инне меня раздражал Розенбаум. Моя соседка обожала Розенбаума. Она собирала кассеты, учила наизусть песни (тексты которых открывали животворящие смыслы библейской силы), ездила с подружками на Васильевский остров – пялиться на дом, в котором певец якобы жил, и пыталась, стоя на холоде, интуитивно узнать окно его квартиры, чтобы через вид физического отверстия метафизически проникнуть в чужую теплую, знаменитую жизнь и стать его эмалевой пряжкой, зубной его щеткой и т. д. Инна не пропускала ни одного выступления артиста. За несколько дней до концерта она собирала соратниц. С самых дальних порогов нашего «рака», из тупиков коридоров, с непроницаемых глубин океана поднимались неприметные до поры девочки в разноцветных халатиках и стекались к нам в комнату – на свет фанатской сходки. Они приносили шербет. Ставили чайник. Зажигали свечи. И до четырех утра шептались, какие цветы покупать кумиру.
После концертов Инна возвращалась опустошенной. Катарсис очищал ее от жизненных соков. Она падала на кровать в гипотоническом кризе. И смотрела в потолок. За все это я считала Инну глупой. Тогда слово «глупость» заменяло нам множество прочих. Его концентрация, превышавшая норму в сотни раз, сообщала речи удивительное свойство – способность наслаиваться на живых людей, постепенно образуя твердую, непрозрачную корку. Именно так, нашими молодыми усилиями, обеднялся объемный мир и укреплялся мир плоский.
Однажды, вернувшись вечером, я застала следующую картину: Инна лежала на кровати, уткнув лицо в магнитолу. Звучал «Вальс-бостон».
– Привет, – сказала я, сваливая ноты на стол.
Инна не подняла головы. Я вспыхнула. Подумать только! Корова заснула под музыку, и теперь все должны были слушать, как песнячит усатый бард.
– Инна, проснись.
Я легонько ткнула ее. Она подняла лицо, воспаленное, блестящее от слез.
– Ты плачешь?
Она встала и, ничего не говоря, рванула из комнаты, хлопнув дверью. Я выключила музыку и улеглась читать. Инна вернулась минут через двадцать. Все это время она, судя по мокрой футболке, ревела и умывалась. Потеряв много воды, ее глаза уменьшились, ослабли и теперь были на три четверти проглочены булочными, как на дрожжах опухшими веками. Инна достала из шкафа махровое полотенце, промокнула лицо, залезла на кровать, села спиной к стене, подтянула колени к подбородку, обняла ноги и стала смотреть в одну точку, периодически втягивая носом сопли.
– У тебя что-то случилось? – спросила я с неохотой.
– Мне очень плохо, – ответила она. Упадок ее голоса поражал и пугал не меньше, чем болезненное скульптурное перерождение лица. Я молчала.
– Кирилл сказал сегодня, что такая девушка, как я, никогда не сможет стать его женой.
– Почему?
Инна запрокинула голову, пытаясь таким образом удержать от пролития новые слезы. Она глубоко подышала.
– Из-за носа.
– Что, прости? Из-за чего?
– Ну, из-за носа. Носа, – она потрогала пальцами свой порозовевший нос.
– В каком плане «из-за носа»?
– Мой нос – слишком большой.
Она прижала полотенце к лицу обеими ладонями и подалась вперед, толкаемая силой рвавшегося беззвучного рыдания.
– Он сказал мне… Инусь, ты хорошая, нормальная девчонка, и в постели ты ничё, и как женщина… хозяйка нормальная, и потрещать с тобой нормально. Мне с тобой хорошо. Но жениться я на тебе никогда бы не смог… Ты не обижайся, типа, я тебе как другу, но с такой внешностью я б женщину не взял… Не, все нормально у тебя. Ну, то есть он хотел сказать, что конкретно для него внешность женщины – это все, это он такой, что именно он всегда хотел, чтобы жена была… это важно, чтобы она красивая… И я его спросила: а что? Что не так? И он сказал: ну, фигура и главное – это нос. Слишком большой. Он говорит: детка, типа, ты прости меня, но этот нос – это слишком для меня. Но самое главное, что он мешает. Понимаешь? – Инна высморкалась. – Это просто какой-то пиздец, – прошептала она. – Мешает.
– В смысле?
– Мешает делать минет. Ну… Получается, когда я беру в рот его член, там как-то получается, что нос мешает… Ой, я не знаю, короче, я просто в таком состоянии… Мне очень плохо, понимаешь, я вообще уже ничего не понимаю. И… он сказал, что не смог бы прожить с этим всю жизнь. С таким носом. В смысле с таким минетом. А я ему говорю: ну, хорошо, допустим, если я сделаю пластическую операцию, тогда ты будешь со мной? А он, такой, типа, не знаю, посмотрим, говорит.
Наверное, у меня был шок. Кажется, я испугалась. Точнее, я не отдавала себе отчета в собственном страхе. Но теперь я примерно могу понять, что именно происходило. Та самая твердая, непрозрачная корка из слов вроде «глупая» или «корова» вдруг треснула, как скорлупа. Через трещину показалась склизкая кожа птенца. Плоский мир внезапно пробила пуля. В дырочке задвигался мир объемный. Инна слушала плохую музыку, не читала Гомера, не смела идти против моды, заостряла ногти, жила умом своего отца, поклонялась дурацким культам вроде колбаски из одеяла – все это так, да, но вдруг выяснилось, что Инна была живая. Господь вложил в нее, как и в прочих, способность чувствовать боль. Инна была пригодна для жизни. У нее было все, что необходимо человеку: одиночество, любовь, разум. Но, в отличие от меня и моих друзей, у нее не было ни «Лед Зеппелин», ни бунта, ни огромных очков – ничего, ничего, что могло бы ее защитить от Кириллов. Сколько у Инны впереди? Лет шестьдесят? На мгновение передо мной открылся этот мученический путь – Инне суждено было слепо собрать всю боль, какую только сможет она унести, ей предстояло пожизненно идти зарослями геракловой травы, обжигаясь и обжигаясь, забивая себя болью, как про запас, оставив незаполненными только маленькие места, уже занятые музыкой Розенбаума и проспектами клиник пластической хирургии. Вот что я увидела. Не увидев, правда, того, что у Инны оставалась возможность пойти и другим путем.
Глава II
Свою будущую подругу я узнала сразу. Просто увидела и узнала. Не то чтобы я обнаружила в ее внешности какие-то признаки близости мне по духу или прочее – нет. Просто узнала человека, который окажется рядом и через пять лет, и через пятнадцать. Я пленилась не столько Ульяной, сколько собственным будущим, в невидимой глыбе которого Ульяна маячила, как селеницереус крупноцветковый, застывший в массиве айсберга. Пытаться передать в словах чувство близости к будущему (к судьбе) – все равно что пытаться объяснить физические ощущения во время оргазма. В каждой клетке происходит маленькое, едва уловимое структурное изменение – единовременно в каждой. И тело звучит, как оркестр. Этого, правда, никто не слышит, даже ты сам. Но ты чувствуешь механику извлечения звука. Как глухой, прикасающийся к клавиатуре. Что-то похожее произошло со мной первого сентября, после торжественной линейки, когда мы – первокурсники – ждали в аудитории декана, запаздывающего на приветственную речь: мой взгляд остановился на Ульяне, и я увидела ее так ясно и так крупно, будто она сидела там, в классе, совсем одна.
Первым ударяло в голову сходство: Мэрилин Монро. Выбеленные волосы, старомодно уложенные. Невысокий рост. Покатое тело. Тонкая талия. Круглые бедра. Плавные плечи. Белая кожа, будто не попадавшая под солнце ни на минуту, – как снег! Но, в отличие от Мэрилин, Ульяна Королева не благоухала жизнерадостностью. Ни капли этого смеха, который брызжет, как сок. Ни капли красной помады. Никакой детскости. Формально она выглядела как Мэрилин. По сути – как гойевская маха. То есть это была Мэрилин с темной стороны луны. Царица ночи. В облике ее присутствовал шик, сообщавший нам о непомерной цене, отданной за него (большей, чем просто деньги или просто время). Ульяна выглядела как женщина, сошедшаяся с дьяволом слишком близко, – суть как человек, зашедший слишком далеко. Иными словами, пребывающий в точке невозврата. Можно было подумать, что ее внутренности уже давным-давно расфасованы по канопам.
Помимо меня, на нашем курсе подобралась еще парочка поступивших на искусствоведение после музыкальных училищ. С первых же дней нам разрешили брать ключи от кабинетов с инструментами. Музицирование приветствовалось. Вечерами мы – невзрачная кучка фанатиков – закрывались по комнатам и тарабанили под завязку: в десять часов уборщицы разгоняли пианистов швабрами, как собак. Все музыкальные классы располагались в небольшом аппендиксе основного здания, застекленном в конструктивистском ключе, – нечто вроде галереи, по которой можно было пройти в университетскую библиотеку «не через улицу». Там-то и произошел наш первый разговор. Прижимая к груди расползающуюся охапку нотных тетрадей, свободной рукой я очень неловко пыталась попасть ключом в замок.
– Вам помочь?
Ульяна стояла у меня за спиной. Белые волосы светились в сумерках, как кошачьи глаза. Похоже, она возвращалась из библиотеки последней. «Вам».
– Нет-нет, спасибо. Темно… не могу попасть.
Она поинтересовалась, почему так поздно.
Я объяснила. Тогда она попросила сыграть для нее что-нибудь. Попросила с таким восторгом, будто рояль придумали неделю назад.
– Поздно вообще-то, в десять выгоняют, – сказала я.
– Но ведь там же еще кто-то играет, – она указала на дверь соседнего кабинета. Ухо резануло «ведь», произнесенное звонко, по правилам сценической речи, не «вить», а «ведь».
– Ну пожалуйста! На пять минут, пожалуйста! – подпрыгивая, она всплескивала руками.
Я сыграла двенадцать тактов из рахманиновского концерта. И Ульяна расплакалась. Испытала катарсис. Это показалось нездоровым. Двадцатый век на дворе! Кого удивишь вступлением ко Второму концерту? До гардероба мы прогулялись вместе. По дороге Ульяна высказалась насчет огромного счастья учиться теории искусства. Я пожала плечами. Счастье сидеть за партой? Не слишком ли выспренно?
– Но… Ты же поступила сюда зачем-то? – спросила она и, осекшись, сразу поставила вопрос иначе: – Ты же выбрала этот факультет… – слова прозвучали в полувопросительной-полуутвердительной форме.
– Да мне все равно было, куда поступать.
– Как это?
– Так. Просто надо было уехать с севера. В консерваторию с моим уровнем не поступить, в ЛГУ – тоже, а сюда брали кого попало… На искусствоведение – легкие экзамены.
Мои слова привели ее в недоумение, чуть ли не в шок. Она не могла понять, как целью может быть какой-то там Питер, а не чистая радость постижения наук. Питер? Подумать только! Да что в нем? Я пояснила. Филармония. Мариинский театр. Человеческий климат. «Макдональдс».
– Что ж, похоже, ты хорошо понимаешь, чего хочешь, – сказала она.
На прощанье я сообщила Ульяне номер своей комнаты и пригласила зайти в общежитие, в гости, «как-нибудь». Пригласила между прочим, скорее из вежливости, чтобы завершить разговор на дружеской ноте. Но каково же было мое удивление, когда на следующий день Королева стояла на пороге. Черное платье. Белое пальто. Шаль, перекинутая через руку. Туфли из крокодиловой кожи. Кинематограф в дверях. Брешь в видимой реальности, которую ни с того ни с сего в отдельно взятом месте вдруг пропитала «Коламбия Пикчерз», подобно рому, пропитывающему бисквитный корж – насквозь. Эдакая Мэрилин, перебинтованная в виссон.
Моя Инна еще торчала на парах. Я предложила гостье стул, чай. Она попросила повесить пальто «на плечики». Беря его в руки, я почувствовала запах – богатый, глубокий, вечерний, сытный, как старое вино; такой запах можно было бы есть на завтрак, запивая чаем без сахара. Ульяна села к столу. В каждом (в каждом!) движении этой женщины присутствовала филигранность, как в партитурах моцартовских концертов – ни на одну долю не приходилось ничего случайного. И ничего намеренного. Только чистый гений. Концентрат.
Казалось, под ее строгим платьем непременно найдется тончайшая комбинация, до середины бедра, из тех, что теперь не носят, и ты, еще не успев сообразить, что нижняя шелковая сорочка – лишь плод твоей собственной фантазии, уже жалел об отринутом прошлом. Ты понимал: отметая комбинацию, мы отметаем мир. Мы многое потеряли. Разрушили Александрийскую библиотеку. Закатили солнце.
– А что за музыка играет? – спросила она, кивая на магнитофон. Платье на ней имело круглый, очень широкий вырез, почти одинаковой глубины и спереди и сзади. Благодаря этому вырезу взору открывалась часть гладкой, мягкой спины, бликующей во фламандском стиле, наравне с виноградом и хрусталем. – Хвостенко? А кто это?
Я рассказала про «Чайник вина». Прослушав парочку песен, она назвала их божественными. Божественными! Полагаю, даже сам Хвост не бывал о них столь высокого мнения.
Речь почти сразу же снова зашла об учебе и открываемых ею фантастических горизонтах. Ульяна превозносила преподавателей. Все это представлялось мне творением питательной для культов среды и вызывало смутное отторжение.
– Для тебя так важно искусство? – спросила я резковато.
Ей не потребовалось даже маленькой паузы на обдумывание.
– Только настоящее искусство может дать человеку ответы на волнующие его вопросы. Настоящее искусство показывает настоящую жизнь, подлинную реальность. Все мы строим иллюзии, а реальность – игнорируем; реальность видят только самые проницательные из нас. А искусство расставляет точки над «i». Ты приходишь в Русский музей и понимаешь: вот она – правда. Тогда ты говоришь себе: хоть я и отворачиваюсь от правды, но то-то или то-то есть в моей жизни. И надо что-то делать. Ври себе или не ври, но… Когда ты осмеливаешься посмотреть правде в лицо, она дает ответы на мучающие тебя вопросы.
Пожалуй, я поняла бы Ульяну теперь, когда мне столько же, сколько было ей на момент нашего знакомства. Но тогда эту речь о правде и прочих бесцветных вещах я сочла пустой. Общие фразы.
Инна вернулась около пяти. Королева сразу же поднялась, намереваясь откланяться. В короткой церемонии знакомства и последовавшего тут же прощания меня заняла одна деталь – то, как Ульяна посмотрела на Сомову: холодно, правильнее сказать – ледяно. Безжалостно. Это был взгляд демона, прозревающего ценность каждой отдельной личности непредвзято – из позиции, находящейся за пределами гуманизма. Так сказать, фермерский взгляд на представителя поголовья. Наблюдение бодрило. Впрочем, Сомова ничего не заметила. Вернее, заметила, но другое – ее просто ошеломила непрактичность белого драпа.
– Нет, ну вот сколько раз можно сходить в таком пальто? – все поражалась Сомова даже спустя час после ухода Ульяны. – Не знаю… А когда манжеты уже черные, выбрасывать его? Это твоя однокурсница? Она учится?! Господи, а сколько ей лет?
– Тридцать с чем-то, кажется. Может быть, тридцать два.
– Офигеть, – Инна покачала головой. – У богатых, как говорится, свои причуды.
Чуть погодя она в который раз вернулась к теме.
– Слушай… А чё она, откуда приехала?
– Ниоткуда. Она из Петербурга.
– А! – воскликнула Сомова с облегчением, будто найдя недостающее подтверждение выстраданной доктрине. – Ну, это такие люди, да, с воспитанием, типа Кирюхи.
* * *
Мы стали сидеть за одной партой. Вместе ходили в буфет, ездили в Эрмитаж на лекции по археологии. Посмотрели пьесу Брехта. Ульяна открывала мне мир. Точнее, не просто какой-то мир, а мир альтернативный, производивший впечатление реальности куда более параллельной, чем загробная жизнь или жизнь на Марсе. Рислинг, «Мазерати», «Труссарди». Умозрение то и дело простреливали ярчайшие вспышки, освещавшие фрагменты какого-то удаленного в запределы бытия, в стиле Жана Беро. Оказалось, шерстяные вещи нельзя стирать дома вручную: только химчистка. Оказалось, в ванну перед приемом стоит выливать две бутылки белого вина: полезно для кожи. Оказалось, вечерами в парижском «Максиме» добрая половина публики в зале – русские, которые, оказалось, вынуждены бронировать столик за месяц. Оказалось, в определенных кругах люди, глядя на одежду друг друга, могут безошибочно определить марку и стоимость каждой вещи. Последнее окончательно выводило меня из себя.
– Бред! – восклицала я. – Как можно знать, какой модельер выпустил это или это? Вещей до фига. Какую надо память иметь, чтобы запоминать что, где и почем продается?!
Для наглядности я оттягивала на себе блузку, казавшуюся мне безупречной:
– Если я приду в какое-то там «общество» в этой кофточке, откуда кто-то может знать, сколько она стоит?
– Поверь. Если ты придешь в «какое-то там» общество в этой блузке, общество с предельной точностью определит, кто ты, что ты, откуда ты и какие у тебя планы.
Я злилась.
– Таня, в этой блузке тебя сочтут чужой. Тебя не примут. И ты сама все почувствуешь. Неприятно станет прежде всего тебе.
– Да брось! – я не могла успокоиться. – Ты считаешь, твое дурацкое «общество» так трудно обмануть?
– Смотря в чем.
Она вздохнула и, подумав, добавила:
– Мы говорим о людях, полагающих, что все на земле имеет цену. Оценивание – принцип их мышления, образ жизни, если хочешь. Пытаться обмануть их в вопросах стоимости блузок, часов или пароходов – бессмысленно. Такие люди прогорают на другом. Они обманываются в вопросах, касающихся вещей бесценных. Любви, например.
Как-то она не пришла на занятия. Заболела? У меня не было ее телефона – просто не возникало необходимости взять, мы ведь и так виделись каждый день. А тут вдруг она пропала. Не появлялась неделю. Наконец все-таки появилась, но странным образом – заглянула в аудиторию прямо во время лекции и поманила меня в коридор. Я вышла.
– Что случилось?
Вместо ответа она зашагала к лифтам – энергично, нервозно, удаляясь от меня на свет далекого окна. Уже другое, не белое, а бежевое пальто клокотало на ней, как парус. С каждым ее шагом, с каждым ударом каблука нарастала тревога и энергия необратимости, будто она шла по длинному, накрытому к свадьбе столу – шла, рассекая шпильками белые торты и подминая носками белые лилии. Мы встали у окна. Она сказала:
– У меня сифилис.
Ульяна достала из сумочки носовой платок и промокнула глаза.
– Правда, я не уверена…
– Почему ты решила, что у тебя – сифилис?
– Мне сказал адвокат.
Теперь она закрыла платком все лицо и прислонилась лбом к стене. Я бездействовала. Приобнять ее? Провести рукой по спине? Двери затасканных лифтов сходились и расходились, содрогаясь лихорадочно, как больные. Солнце над пустырем вляпалось в грязные облака. Мы погрузились в тень. Словно ушли под воду.
– Какой адвокат?
– Адвокат моего мужа. Мужа арестовали неделю назад, он в тюрьме, в смысле, в Крестах.
Она высморкалась, постаралась выровнять дыхание. Я молчала, обдумывая следующий вопрос: прилично ли интересоваться, по какой же причине муж оказался в тюрьме? Или все-таки из соображений корректности остаться в рамках сифилиса?
– Мужа взяли за ограбление… Во время ограбления инкассаторской машины. Мой муж – профессиональный грабитель. Господи… В этот раз там все сорвалось… вообще случилось убийство, какого-то парня… пристрелили инкассатора… Теперь мужа закроют надолго.
Она подняла на меня заплаканное лицо. От слез белая кожа сияла еще сильнее – тончайший костяной фарфор, пропускающий внутренний свет. Должно быть, из-за света по границам сознания, немеющего с окраин, скользило впечатление о размытости Ульяниного лица, будто я видела ее через мокрое стекло.
– Но муж не проблема, – уточнила она неожиданно сухо. – Чем больший срок он получит, тем лучше. Я очень рассчитываю на максимально жесткий приговор, я хочу, чтобы мои мальчики успели окончить школу и… вообще успели вырасти без него… Господи! Я очень, очень, очень на это рассчитываю. Господи! Я рассчитываю на тебя! Ты слышишь?!
Она обратилась к Богу так горячо! Пронзительно и прямо. Без обиняков. Между тем я и понятия не имела о ее столь близких отношениях со Всевышним.
– Когда все это произошло, я увезла детей сразу, в Старую Руссу, к бывшей однокурснице, подальше от всего… Позавчера вернулась, а адвокат говорит: тебе привет от Королева, типа, спасибо Уле за сифилис. В смысле, это Королев так сказал: спасибо Уле за сифилис. Я его наградила якобы. Но это неправда! – воскликнула она, простирая к окну руки и грозя невидимым врагам мокрым носовым платком.
– Неправда! Я ему не изменяла! Боже! Ведь это абсурд – изменять моему мужу. И он об этом прекрасно знает. Ну какой же идиот додумается ему изменять? Только самоубийца. Я – мать двоих детей. Разве может мать добровольно нарваться на пулю в лоб?! Какая чушь!
Я не представляла, что отвечать. В целом история не удивляла. Скажем, то, что Инна Сомова собиралась отрезать нос ради Кирилла, – вот это да, это являлось покушением на увечье моего мировоззрения. Но то, что какие-то люди убивают инкассаторов на улицах Петербурга, – нисколько не трогало. Внутренне я всегда была готова к чему-то такому – к тому, что Мариинский театр обрамлен Россией, а не отишием музея. Преступность, насилие, смерть – в кварталах, где я выросла, эти абстрактные образы были утрамбованы живым мясом всех возможных конкретных смыслов. Другое дело, я просто не представляла, как утешить эту экзотическую женщину, эту ходячую полость, тщательно промытую изнутри пальмовым вином. Я уже давно подозревала, что стоит тряхнуть ее жемчужное тело, и оно извергнет поток чистой мирры, и всех нас покроет лавой благовония, и неизвестно даже, чем это для нас обернется. Каково это – быть погребенным миррой? Хорошо или плохо? Отсутствие ответа тревожило до кончиков волос. Похоже, меня уже начало накрывать. Я стояла у подножия извергающегося вулкана. Бежать? Слишком поздно. Есть женщины, от которых поздно бежать.
– Таня, мой муж – страшный человек. Он отстреливает банкирам пальцы, по одному пальцу, до тех пор, пока ему не отдают все деньги. Боже мой, здесь не Париж и не Москва. Это – Петербург. Мой муж пытает людей. Да мне и в страшном сне не пришло бы в голову изменять. Он просто насмехается надо мной. Эта тварь подцепила сифилис и теперь глумится надо мной из тюрьмы.
Королева разрыдалась. Прозвенел звонок.
* * *
Я ждала Ульяну под дверью кабинета врача. Кожно-венерологический диспансер выглядел как морг. И не просто морг, а морг закрытой психиатрической клиники – секретный морг, в который сбрасывали отслуживший для опытов человеческий материал. То есть пол и стены были облицованы не просто кафелем, а самым последним кафелем в мире – кафелем, не пригодившимся даже на вокзальный туалет – этаким кафелем для свиней. Почерневшие борозды стыков плит впитали и кровь, и лимфу, и эпителий, и пот безымянных палачей. Стены стояли на пределе, едва сдерживая в себе накопленную годами бактериальную флору, готовую с минуты на минуту прорваться и прыснуть кому-нибудь на пиджак или, хуже того, прямо в рот. Выбор больницы (в депрессивном спальном микрорайоне) Уля объяснила неким Семеном Петровичем, способным устроить срочные результаты анализов. Выйдя из кабинета, она подала знак: быстрее, как можно быстрее сваливаем отсюда. И зашагала к выходу в своей энергичной манере – кафель аж затрещал под каблучищами, как россыпь глиняных черепков.
На улице она вдохнула воздух. С силой. Словно аромат.
– Я так устала, – сказала она. – Я так устала.
– По домам?
– Может… пройдемся? – предложение прозвучало с некоторой робостью.
Мы шли по обочине. Справа – нечто невразумительное, вроде складов и станций техобслуживания. Слева – хрущевки, характерного гнойного цвета, подернутые черной сыпью. Рвань объявлений на дверях. Тесно посаженные балконы – порок текстуры, кап. Белье на веревках, прохваченное грязным ветром. Скислые стены, слитые в цвете с землей, преющей под одеялом листьев. Фонари, похожие на стоящие вдоль дороги душевые стойки, обливающие землю желтушным светом.
– Семен Петрович сказал, что видит там вроде бы очень маленький шанкр. Но, может, это и не шанкр. Посмотрим… Боже, боже мой…
Она оглядела небо. Мимо пронесся автомобиль. Мы взяли в ларьке два горячих чая и сели на скамью под навесом автобусной остановки. Мне стало жаль Ульяниных пальто и сапог. Такие вещи портились на лоне микрорайона. Веревочку чайного пакетика, свисающую через край бумажного стакана, порывом ветра перебросило на Ульянину кисть руки, выхоленную и белую, горевшую перламутровой луной. Глядя на эти мягкие барочные ручки, просто нельзя было не подумать о том беззубом комфорте, который они сулили: куда безопаснее рта, и куда влипчивее. Такими руками можно без труда покорять Нил, хоть каждый день.
– Боже мой, – снова повторила Королева. – Здесь так хорошо. Я бы осталась здесь навсегда.
Реплика не соответствовала пейзажу до неприличия.
– Ты не представляешь, каким преследованиям я подвергаюсь дома. Боже мой, вчера они помыли после меня ванную! Демонстративно. С хлоркой.
– Кто они?
– Мать и сестра… в смысле тетка моего мужа. Стоило спрятать от них детей, как тут же начался террор. Геноцид! Адвокат рассказал им про сифилис, и теперь они, видите ли, боятся заражения. Я чувствую себя в собственном доме как неугодная собака. Меня до сих пор не пнули сапогом только потому, что я – единственная ниточка, связывающая их с мальчиками. А я ведь не сказала, куда я их увезла, пойми. Поверь, если бы не мальчики, эти люди запиздили бы меня ногами до смерти и сделали бы это с наслаждением. А так они боятся потерять мальчиков. И, кстати, не зря.
На последних словах ее глаза опять блеснули тем самым зловещим демоническим холодом, уже привлекавшим меня и ранее. По ощущению, эти глаза состояли из тончайших слоев слюды, переливающихся от серого к синему, имитирующих таким образом жидкое вещество, но лишь до поры – покуда брожение переливов не останавливалось и не оголялась суть камня – не происходило разоблачение тверди – далекого айсберга, находящегося где-то на оборотной стороне реальности и подглядывающего за нами через прорези Улиных глаз.
В те дни Сомова находилась в Калининграде, уехала «обнять папочку». Во избежание геноцида я предложила Уле переночевать в общаге. Уставшие, голодные, мы кое-как уболтали комендантшу и спрятались в комнате, будто в прогретой норе. Дабы не пятнать себя варварством, мы решили не прикасаться к кровати Сомовой и спать вдвоем на моей. Было тесно. При погашенном свете Ульяна представлялась большой птицей в черном оперении – огромным павлином, дышащим и полнокровным, угольного убранства, отливающего серебром. Я переживала особенное чувство – чувство ребенка, которому в кровать вместо искусственного медведя подложили живую Одиллию – вот только выдернутую из-под свежайшей, начищенной содой луны, – пресноводную, пропитанную приозерной землей, пахнущую мокрой травой, дубовым мхом, «О д’Эрмес», бурбонской геранью, сценой, пудрой и канифолью. Должно быть, на перьях еще не высохли отпечатки Ротбарта и Зигфрида. Я лежала замерев. Казалось, одно неосторожное движение – и крылья расправятся, тысячи перьев с хрустом распустятся, от стержней разойдутся бородки, и мириады ворсинок расцепятся, как мириады ресниц, открывая пахнущее тепло черной кожи.
– Таня?
Я обмерла.
– Если даже завтра окажется, что у меня действительно сифилис, то… то, что мы лежим на одной кровати, – не опасно. Ты не заразишься от меня, и… я хотела бы поблагодарить, спасибо тебе за все. Я схватилась за тебя, как за соломинку, и… тебе не придется за меня волноваться. В ближайшее время я сниму квартиру.
– Ты же говорила, у тебя нет денег, собственных.
Она зашуршала под одеялом, меняя позу. Кашлянула.
– Деньги не проблема.
Ответ прозвучал сухо, деловито.
– Надо просто устроиться на работу. Главное – разобраться с сифилисом. И все.
У меня екнуло сердце. Она ведь любила учебу больше, чем кто-либо.
– А как же университет?
– Университет – днем. Работа – ночью. Я устроюсь в гостиницу. Я проститутка.
Сказать по правде, для меня – человека, всего-то месяц назад выкопавшегося из сугроба, – слово «проститутка» не означало практически ничего. В принципе, это слово, как и «любовь» или «свобода», давно утратило смысл в силу безграничной вместительности. Проституцией, как и любовью, как и свободой, можно было бы называть практически любые жизненные явления – наличие связи гарантировалось тем широчайшим ассортиментом содержаний, который предлагали упомянутые слова. Я села в кровати.
Размер истории равнялся среднему размеру анекдота. Родители – развелись. Ульяна жила вместе с папой, оканчивала университет (тогда еще имени Жданова), восточный факультет, филология и история стран Ближнего Востока. Папа тяжело болел. На пятом курсе Уля начала «тусоваться» в гостинице «Астория». Клондайк, плезир, подруги, шампанское проливалось на платья, лямки сползали, бусы – рвались, по спинам струился пот. Тела скользили друг по другу, как мокрые тюлени. В лобби трудился пианист. В груди коптилась паренхима. Деньги на дорогие лекарства сыпались с неба. Но папа умер все равно. Вот и все.
– А дальше… Конечно, я получила профессию. Но мне было не до восточной филологии, я на улице оказалась, и вообще.
Квартиру на Репина отобрали мать и старший брат. Последовала тяжелейшая депрессия. Аллергия, язвы на коже, страх, одиночество, жизнь у подруг. В девяносто первом – выход из штопора, карьерный рост: Ульяна перешла из «Астории» в «Женеву» – отель высшего класса, потолок. Там же познакомилась с рецидивистом Королевым Денисом Дмитриевичем. Съехалась с ним. Жила. Уезжала с ним за границу. Сидела в гамбургской тюрьме. Расставалась с Королевым. Снова работала в «Женеве». Снова сходилась с Королевым. Вышла за него замуж. Родила близнецов. Вырастила мальчиков. И когда им перевалило за три, попросила у Королева денег на платный университет. Решила стать искусствоведом.
– Завтра утром я не пойду на занятия. Поеду узнаю насчет работы. Может, меня возьмут обратно в «Женеву», почему нет…
Мы поднялись засветло. Ульяна приняла душ. Попросила фен. Крем для обуви. Одежную щетку. Я сказала, что щетки нет.
– Нет щетки? О… Господи, помилуй и спаси… Господи, помилуй и спаси…
Она снимала с костюма по ворсинке. Пальцами. И пальцы ее дрожали.
– Черт… плохо видно. Может, включить свет? – отчаялась она. И добавила: – Верьхний.
Мягкий знак после «р» убил наповал. Кто ее так научил? Покойный папа? Я нажала на выключатель.
– Почему ты так нервничаешь?
Она отвлеклась от костюма и тяжело опустилась на стул.
– Ты не знаешь Шишина. Это такая тварь, редкая тварь, подколодная змея. Змей. Змеище. Нацистская морда. Моральный урод. Типа мужа моего. Только Королев из бандитов, а этот – из силовых. А они же, твари эти… методы у них разные, а цель – одна.
Я посмотрела вопросительно.
– Что непонятно? Цель какая? Простая, Таня, цель. Истреблять людей.
Мы помолчали. Я перелистывала конспекты (в поисках листков с лекцией, неизвестно в какую тетрадь заложенных второпях) и чувствовала, что начинаю тяготиться долей поэзии, столь присущей почти любым высказываниям Ульяны. Нужные мне листки пропали. Перетряхивая тетради, я все больше раздражалась. Мы проговорили ночь, заснули в полпятого утра. Тело горчило. В лобных пазухах жгло. В плечах ощущалось угнетение, вроде давления тяжелого коромысла. Мысль о надвигающемся учебном дне наполняла отвращением. Черные птицы пилотировали над пустырем. Небо было густым, как топленый бараний жир в заморозке. И тут мне пришла в голову свежая мысль: прогулять.
– Хочешь, я пойду с тобой? – спросила я.
Ульяна прослезилась.
* * *
Она попросила водителя остановить за триста метров до «Женевы», пояснив: «Освежимся». Мы вышли у Казанского. Малахитовый купол навевал мысли о сырной плесени. Он торчал – инкрустированный в субстрат, как изумрудное солнце. Не грел, но умягчал желудочный сок. Оттягивал. Отвлекал мысли от серости, которая так уж всех убивала. В остальном воздух стоял холодцом. Непроницаемые хмари. Опухшее небо имело цвет помойной воды. Как будто в нем полоскали тряпку, которой вытирали опрокинутую манную кашу. Но когда мы свернули на Мойку, все переменилось. Ее кварталы тянулись пестрой лентой в тумане. Она была вставлена в город, вроде другой страны. Не река пролегала через Петербург, а другая страна пролегала через Петербург. По берегам Мойки росла другая страна. Как могли бы расти по берегам условной реки ухоженные цветы. Вид Мойки вызывал из самых глубин путника очень тонкое, щемящее, острое чувство: из сердечного зуба тащили нерв. Это было чувство непричастности к чужой прекрасной жизни. Такое чувство испытывает человек, который за минуту до выхода в ледяную ночь бросает последний взгляд на кота, удобно спящего на подушках.
Мы шли мимо «Женевы». Шли не спеша, к служебному входу. Ульяна держала руки в карманах. Смотрела под ноги. Сосредоточивалась. Меня же захлестывала краска за краской. Над окнами первого этажа висели темно-вишневые ракушки маркиз. Мощеный тротуар выглядел стерильным. Внутри гостиницы горели люстры, по-оперному тускло, как гроздья церковных свечей. В ресторанах, видимо, только что кончился завтрак. Люди в белых перчатках перетирали бокалы. У центрального входа блестели черные машины, словно киты, только что из пучины, отекающие лаком воды. Хлопали дверцы. Звучали клаксоны. Швейцары открывали стеклянные двери. В недра «Женевы» уползали бархатистые дорожки винно-красного цвета. Плескались государственные флаги, пять или шесть. Коридорный толкал перед собой тележку, полную багажа. Сумки резали глаз. Господи, они были чище, чем мое пальто! До меня не сразу дошло: не чище, а новее. Новее. Добротнее. Эстетичнее. Сумки, набитые барахлом, болтавшиеся в трюмах, валявшиеся на транспортерах, битые в багажных отделениях, выглядели лучше, чем мое пальто. Собственно, мундиры швейцаров тоже выглядели лучше. Даже ковры. Можно сказать, я вдруг ощутила запах комфорта. Комфорт пах свежестью – как девственный корешок новой книги в момент первого разлома. Комфорт пах чистотой – так, будто еще вчера ничего не было, будто Господь создал мир к завтраку и жизнь начиналась с нуля. Это поражало до головокружения. Я устыдилась собственной ничтожности – вымаранности во вчерашнем дне, в собственном прошлом. Формула родилась во всей своей ясности: чтобы чувствовать себя чистым, достаточно горячей воды и мыла; чтобы чувствовать себя новым – необходим комфорт.
Служебный вход – уже не со стороны Мойки, а за углом, со стороны маленькой перекрестной улицы, выглядел попроще.
– Куда? – спросил охранник.
– К Шишину Сергею Романовичу, – ответила Уля.
– По какому вопросу?
– Насчет работы.
– Вас ожидают?
– Нет. Но… Меня знают. Я – Королева, Ульяна Королева.
К моему удивлению, охранник не послал нас подальше – просто ничего не ответил. Отошел в глубину вестибюля и передал что-то по рации. Рация трещала. Из динамика звучали голоса. Слов было не разобрать. Внутренне я готовилась к самому худшему – к тому, что нас сдадут в милицию или что-нибудь в этом роде. (Вообще-то, я предпочла бы подождать Ульяну на набережной.) Через пару минут нам подали знак проходить.
– Сумки открываем.
Нас «прозвонили» металлоискателями. Заставили вытаскивать из карманов мелочь, ключи. Потом повели задворками отеля – коридорами, выкрашенными по-больничному нейтрально.
– Присаживайтесь, – охранник указал на банкетку напротив двери с латунной табличкой. – Ожидайте.
Некоторые кабинеты стояли открытыми. Разрывались телефоны. Подрагивал люминесцентный свет. Мимо то и дело проходили женщины в синих костюмах. Под их решительными каблуками новенькие прорезиненные полы скрипели от чистоты. Одна сотрудница прошла, зажимая между плечом и ухом трубку радиотелефона, руки ее были заняты деловыми бумагами. Судя по всему, местные не валяли дурака, работа кипела. И, похоже, оплачивалась достойно. В глаза бросались наливные лица. Ухоженность волос, белизна воротничков, гладкость макияжа, безупречность костюмной ткани, отпаренной по правилам. Я вчиталась в табличку на двери. Верхней строкой значилось крупно: «Шишин». Ниже – слишком мелко, не разобрать.
– А кто твой Шишин? Директор? – спросила я шепотом.
– Да что ты, какой директор. Станет директор «Женевы» сидеть в этой аскезе, на выселках. Это начальник службы безопасности.
Ульяна заложила ногу на ногу, взяла со стоящей рядом невысокой стойки глянцевый буклет. Нервно листая, она машинально покачивала острым носком сапога.
– Он координирует работу девочек. Его поляна.
Минут через пять перед нами появился мужчина.
Высокий, широкий в плечах. Темно-серый костюм. Светло-серый галстук – «в рубчик», без рисунка, в тон пиджаку. Жидковатые волосы. Русые? В общем, мышиного цвета. Классическая стрижка, «под расческу». Маленькие глаза. Круглый череп. Римский лоб. Тяжелые надбровные дуги. В книгах таких называют «безликая внешность». Или – «чекист». Потомок убийцы кота Торопуло. Или того хуже – потомок Шарикова, впрочем, тоже убийцы котов.
– А, Королева? Привет, красавица, – сказал он в интонации управляющего плантацией. – Где пропадала?
И, не дожидаясь ответа, спросил обо мне:
– А это кто? Сразу говорю, работать не возьму. Кто телку с таким лицом будет ебать в номерах? Смеетесь? Ей в детском саду на пианино надо играть.
– Это моя подруга. Она просто пошла со мной… за компанию, поддержать.
– Королева, ты… – он с раздражением отвернулся, посмотрел за спину, в стену. Цыкнул. Затем выдохнул – вроде как перевел дух. Как будто сплюнул оскомину. И продолжил: – Ломишься без звонка, без нихуя, как в проходной двор, приводишь с собой каких-то детей, млять. «Подруга». Может, это дочка твоя? Слушай, у тебя как не было мозгов, так и не приросло, ни на грамм, вот говорят же, люди не меняются… Подстава ходячая. Заходи. Как сказали сейчас, что ты пришла, аж сердце защемило. Королева одна, без пиздеца, не приходит, млять.
Он рванул на себя дверь. Через проем я увидела семимильный рабочий стол, заваленный бумагами. Телефоны, вымпелы, грамоты. Фикус. Левитан. Жалюзи. Военная чистота.
– Ну, как жила все эти годы? Родила? – спросил Шишин, садясь за стол, в солидное кожаное кресло.
– Да. Близнецов, мальчиков, двоих.
Шишин присвистнул.
– Сколько лет?
– Маленькие еще, Сергей Романович.
– Присаживайся, Королева, в ногах правды нет, – широким жестом он указал Ульяне на стул.
И, лишь только она присела, тут же одернул:
– Дверь закрой.
* * *
На улице шел дождь.
– Ну что? – спросила я.
– Все нормально, – ответила Уля.
Свернув, мы пошли вдоль гостиницы, к Невскому. Дождь усиливался. Небо загустевало. Стало темно. Внутренний свет набрал полноту: лампы и люстры испили силу подавленного дня и воспламенели, затопляя помещения жаром.
– Зайдем?
Я не успела ответить, как она уже открывала дверь гостиничной цветочной лавки. Звякнул колокольчик. Ульяна нырнула внутрь. Через стекло витрины хорошо просматривалась тесная комната, забитая цветами. Орхидеи разных сортов. Ведра с тюльпанами, плотно пригнанными: сотня к сотне. Коралловые, белые, бледно-пурпурные, фиалковые. Мелкие бургундские розочки. Охапки, снопы! Я никогда не видела таких толстых букетов. В целый обхват рук! И никогда прежде не видела таких красивых, изысканных, каких-то странных карликовых цветов – слишком ажурных, чтобы быть настоящими. Они стояли там – на полу, на прилавке, на полках, – напоенные вязким электрическим светом, как сахарные петушки в гречишном меду, оттененные черно-зелеными лианами вьюнов, спускающимися с необозримых верхотур. Уля стучала мне изнутри кулачком в застекленную дверь, показывала: заходи. А я не могла сдвинуться с места. Не понимала: как можно ворваться туда в грязных ботинках и мокром пальто, вот так вот запросто – из холодца в кремовый торт. Ну зачем?!
Колокольчик звякнул. Дверь распахнулась, цветочная лавка выдохнула на улицу янтарную эссенцию – наружу вырвалось цветное вещество, на мгновение вторглось в черно-белое и столь же мгновенно было вобрано внутрь, отгородившись захлопнувшейся дверью. Довольная Ульяна протянула мне розовый тюльпан, новорожденной нежности, дрожащий от холода.
– Дарю!
Я взяла его двумя пальцами, прямо под основание бутона, под чашечку, за самое тонкое место – за шейку, и почувствовала пульс: вибрацию желеобразного тела – кратковременного и беззащитного. Цветок был обречен на смерть. А я – на удержание процесса смерти в руках.
– Господи, зачем же ты его так берешь? Ты же его задушишь.
Я не помню, что на меня нашло. Наверное, я пожалела, что пошла, что прогуляла лекции, что вообще связалась с этой невероятной женщиной. Не помню. Возможно, это был первый приступ отторжения от чужих людей, от чужого города или даже, скорее, от его фундаментальной декоративности, вернее – декорационности, то есть от всего неудобоваримого, превышающего пределы восприятия красоты, ее глубины и веса. Не знаю. Но почему-то я закричала:
– Слушай, я терпеть не могу таскаться по улице с цветами, это только мешает, уж лучше воздушный шарик купить!
Она забрала тюльпан и отдала обратно в лавку. Без всяких денег. Просто отдала. «Там ему будет лучше».
– Я хочу сходить в церковь, – сказала Уля.
– Ну пошли.
– Пойдем в Исаакиевский?
– Так ты в церковь хочешь или в музей?
– Я хочу в Исаакиевский собор.
– Но это не церковь.
– А что же это?
– Это недействующая церковь, Уля.
– Этот собор строил обыкновенный, земной человек. Который пролил много крови. Поэтому собор недействующий. Но красоты-то он – божьей! Мы просто подойдем, посмотрим, и все.
Асфальт перед собором блестел. Пленка воды покрывала твердь живой кожей, струящейся от затерянного центра к краям. Гранитные колонны смотрелись как ноги слонов, бредущих в воде по самые глаза. Мы встали под южным портиком. «Храм мой храм молитвы наречется». Уля стояла между колоннами, под краем крыши, на границе отвеса дождя и защищенного сухого места. Она протягивала руку вперед и касалась падающей воды.
– Так что тебе сказал Шишин?
– Сначала спросил, как живу, где деньги беру на жизнь. Пробивал.
– И что ты ответила?
– Сказала, что замужем была, за Касьяном Радчиком.
– А кто это?
– Так, тусовщик один. Модный парень. Много тусил в начале девяностых, наши девочки часто с ним работали. А в меня он был влюблен, хотел жениться. Хороший мальчик.
– А почему не женился?
– Ему мама не разрешила.
А кз, к же… Ты обманула Шишина?
– Угу.
– А если Шишин узнает?
– Не узнает. Как можно узнать? Радчик давно в Цюрихе, ему и дела до нас до всех нет.
– Так, а сейчас как ты сказала, как живешь сейчас?
– Сказала, Радчик бросил меня. Променял на целку из Мигдаля.
– Чего?
– Неважно. В общем, сказала и сказала. Дело вообще в другом. Шишин за вход просит штуку баксов. В смысле за месяц, говорит, плати вперед. Я говорю: отработаю, пусти только. А он артачится, типа, держит понт, знаешь, человек такой – принципиальный. Вернее, это он так о себе думает.
– Уля… Какой вход? За что штука?
– Ой, ну плата, просто ежемесячная плата, обыкновенная, только он хочет, чтоб я отдала вперед, не через месяц, как заработаю, а сразу, сейчас, словом, предоплату просит.
– А плата за что?
– За место. В «Женеве» работает семь-восемь девочек. Каждая отдает за месяц плату, штуку. Правила такие.
Меня потрясло до глубин. У меня просто залип язык!
– Э… А сколько же там зарабатывают?
– По-разному, можно и пять штук заработать. Можно и три. Можно вообще не заработать. Только в долги залезть. Это уж как масть. Как сезон.
Она прислонилась к колонне спиной.
– Мы сюда приходили с папой, часто. У меня в детстве от красоты Исаакиевского собора температура проходила. Я трогала его руками и выздоравливала. Представляешь? Знаешь, я иногда достаю свои локти и кусаю их до крови. Столько красоты прошло мимо меня! Столько любви прошло мимо меня! Столько смысла, столько папы… Все просыпалось сквозь пальцы. Я не могу тебе передать этого чувства.
По лестнице поднимался бомж. Я думала, он хочет спрятаться под портиком от дождя, но, оказалось, оборванец нацелен обратиться к Ульяне. Остановившись в паре ступеней от нас, он простер руки и, жестикулируя, замычал что-то, быстро и скомканно проговаривая какие-то слоги, должные, видимо, складываться в слова, но вместо того складывающиеся в пугающие, нечеловеческие звуки. Наверное, дефект речи.
– А? Что? – Ульяна поморщилась. – Что вы хотели? Непонятно. Непонятно! Что? Не понимаю вас!
Бомж продолжал гугнить. И вдруг Ульяна обрушилась на этого несчастного прокаженного – вспылила внезапно и с такой яростью, будто он ворвался к ней на участок и вытоптал урожай. Она кричала на него по-французски, кричала, метая искры. Я совершенно потерялась. Бомж, испугавшись, скатился с лестницы и, прихрамывая, пошел прочь.
– Что произошло? – спросила я.
– А на что он рассчитывал?
– В смысле?
– Он обратился ко мне, зная, что понять его невозможно. Бэ-бэ-бэ, мэ-мэ-мэ, сэ-сэ-сэ… На что он рассчитывал?
– А зачем ты говорила по-французски?
– Затем, чтобы он почувствовал то, что чувствуют люди, когда он к ним обращается.
Ткнув пальцем в уже далекую фигуру бомжа, она добавила назидательно:
– Вот! И он почувствовал!
Глава III
Однажды моя однокурсница Света Шилоткач возвращалась из магазина. Стоял морозный вечер. Минус двадцать. В двойном пакете друг друга стесняли три пакета чипсов, десяток яиц, бутылка подсолнечного масла, четыре «Балтики» и пол-литра водки «Привет». Войдя во двор общежития, Шилоткач посмотрела наверх. Шестой этаж. Окно комнаты не горело. Дома не было никого. Почему бы не покурить? И Света присела на скамейку. Расслабив тело, она почти мгновенно поймала волну особого состояния – разновидность чисто русского куража, протекающего латентно: Свете стало лень. Но даже не вопреки, а благодаря этому ее сердце раскрыло поры навстречу природе. Свете удалось ощутить прелесть текущего мгновения и пережить непреодолимое желание его остановить. Она выпила водку с пивом прямо на улице, пренебрегая возможностью подняться в тепло. Утром у Светы адски болело горло. В тот же день на семинаре преподаватель культурологии попросил ее высказаться насчет типологии Рисмана. Света взялась рукой за горло, символически удушая саму себя.
– В чем дело? – спросил культуролог.
– Она не может говорить, – пояснил кто-то. – Горло болит.
Культуролог подошел к Светиной парте.
– Так сильно болит? Почему же вы пришли на лекцию? Идите домой.
Света замотала головой. Ударила себя в грудь, а затем подняла вверх большой палец: чувствую себя во! Культуролог пожал плечами.
– Тогда что у вас с горлом?
– Ходила на футбол, – прошептала Света.
– Что ж, – преподаватель пожал плечами, – на следующем семинаре начнем с вас.
Шилоткач была конченой двоечницей. Она кое-как просидела штаны в школе архангельского предместья. Родители Светы продали машину и устремили дочь в платный университет силой. После инцидента с горлом мы вооружили Шилоткач к семинару до зубов. Это был первый и единственный выученный урок в ее жизни. Но преподаватель просто забыл о Свете. За десять минут до конца пары он откинулся на спинку стула, вытянул ноги и ослабил галстук.
Света тянула руку.
– В чем дело? Вы что-то хотели?
Она встала.
– Я… это. Хотела еще маленько сказать по Ясперсу.
Фраза вошла в анналы и многократно использовалась нами как самоироничный заход на реплику. Над Светой мы, конечно, смеялись. Но без злобы. Цинизм, невротический интеллектуализм и практика взаимного унижения отсутствовали в нашем учебном заведении как факт. Мы будто и не догадывались о существовании внутригрупповой ревности и самоутверждения. (О подобных вещах я узнала гораздо позже, познакомившись со студентами МГУ. До сих пор я так и не знаю, шла ли речь о разнице между университетами или все-таки между Москвой и Санкт-Петербургом.)
Нас было тридцать. Половина иногородних, половина местных. Среди местных выделялись дети из хороших семей – отличники, окончившие специализированные школы, люди с активной позицией, запоминающиеся лица, завсегдатаи библиотек, одинаково первые в очередях и на зачет, и в буфет. Некоторые из них приезжали на собственных автомобилях. Неслыханно для середины девяностых. Перво-наперво внешний вид коренных петербуржцев сообщал: утро прошло удобно. Булочка, кофе, свежие джинсы с запахом стирального порошка.
На их фоне мы – приезжие – смотрелись довольно тускло, и даже не потому, что жили в шестиметровых комнатах и стирали вещи в тазах в душевой; думаю, причиной нашего унылого, отсутствующего вида являлось ложное удовлетворение: бежав в мегаполис, мы полагали главное дело собственной жизни уже сделанным. Оставалось всего ничего – выпросить у Господа побольше денег. И вложить их в поиск любви. Подобное умонастроение делало нас аморфной, безликой массой, из которой торчали мои макроочки и Осмолова Женечка.
Ее называли не Женей, а Женечкой. В магазинах ей не продавали спиртного, зато в кассах музеев всегда предлагали детский билет. Женя выглядела ребенком – маленькая, смешливая, в октябрятских локонах, розовокожая и мягкая, как медуза, налитая медом и перламутром. Она носила длинные цветочные юбки, многорядные ожерелья, пекторали, лакотские чокеры, обматывалась пропахшими благовониями индийскими платками, обвязывалась шнурками из оленьей кожи, подкалывала волосы гребнями и тряпичными розами, набивала карманы орлиными когтями, семечками и костяными богами, деньги хранила в мешочках, расшитых бисером, никогда не пила, не курила и не ругалась матом. Но главное – Женечка была вегетарианкой. Практиковала и исповедовала сою. В девяностых – чрезвычайный изыск.
– Ноги протянешь, – пророчила Шилоткач.
Женя парировала:
– Света, вот скажи, у коров много мяса? Много. А как оно выросло без белка?
Вряд ли Света знала, при чем здесь белок. Вместо ответа она спрашивала, копируя Женину интонацию:
– Женечка, вот скажи, у коров много мяса? Много. А зачем им оно?! Если Господь создал коров не для еды, тогда зачем нагрузил их лишней сотней кило? Чисто чтобы поржать?
В риторике Женя не преуспевала.
У нее были очень большие ресницы. Крупные. Каждая толщиною с кошачий ус. Подобные тем, что Макс Фактор наклеил на веки Хейвер в 1927 году. Только гуще. И взаправду живые. Иногда она подводила глаза – мастерски, толстым мягким карандашом, синим, бывало, даже коричневым, выводя очень острые кончики стрелок, клинками дроп-пойнт. Иногда посыпала ресницы блестками, иногда наносила изумрудную тушь. Эти ночные бродвейские тени на мраморном лице херувима смотрелись пикантно. Агнец, занятый в бурлеск-шоу. Шарм Жени не обволакивал, а проникал – вскрывал восприятие хирургическим путем. Ее можно было слушать как музыку. Потому что вместе с ней двигались сотни коралловых бусин, муранских стекол, бисерных нитей, латунных колечек, ракушек каури и бирюзовых камней. Она звучала как ссыпающийся песок. Как волна, перекатывающая мелкую гальку. Женю любили все. Любили, безотчетно причисляя к лику святых.
Однажды во дворе общежития на Женечку напал грабитель. Выхватил сумку, ударил. Женя упала в сугроб, на живот. Из нее, как из разбитой копилки, просыпались янтарные шарики, рябиновые ягоды, монетки и смятые трамвайные билеты. Грабитель побежал. Белый нахоженный снег скрипел под его ногами.
– Стой! – закричала Женечка, приподняв голову. – Подожди!
Человек остановился и обернулся. Девушка не пыталась встать. Она тяжело дышала ртом. Облако пара расходилось от лица.
– Паспорт отдай! – Женя медленно встала на четвереньки, затем на колени. Она молитвенно сложила руки в оснеженных варежках – ладонь к ладони. Грабителя парализовало.
– Я прошу тебя, отдай мне паспорт. Пожалуйста!!! – Женин вопль пробил толщи мороза. Человек вздрогнул, сделал неуверенный шаг, покопался в сумке, подошел еще ближе и остановился метрах в пяти от своей жертвы. Она посмотрела ему в глаза. По белым щекам стекала шоколадная тушь. Пахло морем, медом и цитрусовыми маслами. Парень подумал, бросил сумку на землю и убежал налегке.
Мы жили на одном этаже. Через пару дверей друг от друга. В отличие от меня, у Жени была не одна, а целых три соседки. Свою комнату они всегда разносили в кашу: страшный бардак. Полоски обоев, надорванных чуть ли не под потолком, свисали до самой земли. Кто это делал? Книжные полки ломились от пакетов с фасолью. Шиповник, гречка, мешки с лекарственным сеном. Из щелей треснувшей дерматиновой обивки стульев торчал поролон, будто заклеванный галками, – гости Женечки машинально щипали его захватанную мякоть и, забываясь в экзистенциальных припадках, швыряли на пол ошметки. На лоне этого крошева из грязной посуды и недораспакованных чемоданов Женечка принимала паломников со всего общежития. К ней шли с головной болью, проблемами позвоночника, невыплаканными слезами. Женя благословляла на поступки, отпаивала травами, делала массаж, подравнивала волосы, выдавала сборники коанов.
Избегая общества Инны, я ходила к Женечке просто так. Мы читали Шекспира вслух. «Но разве я, ведя войну с тобою, не на твоей воюю стороне». Теперь это кажется странным. Но тогда, в отсутствие компьютеров, мы развлекались сонетами. Мы переписывали от руки тексты Хвостенко в нескольких экземплярах, специально, чтобы хором петь «Чайник вина». Мятые листки со стихами валялись повсюду, они были рассованы по карманам халатов, проваливались в утробы пододеяльников, западали за спинки кроватей. По ширине двух метров черным маркером на стене было написано: «Ты меня без меня не забывай». Иногда я просто валялась на Жениной кровати, пока сама Женя смешивала в глубокой глиняной миске пророщенную сою с растительным маслом. Я слушала проповеди. Слоны, бегемоты, носороги – самые большие и сильные животные мира – росли без мяса. Как строились их необъятные мускулы? Судя по всему, на белке, полученном из растений. Будто учтя ошибки Льва Николаевича Толстого, Женя подводила к учению не с нравственной стороны, а с естественно-научной – не обращала к покаянию, а развлекала фактами. Я никогда не спорила. Мне было плевать на слонов. Мне просто нравилось слушать Женины манифесты. Все сказанные ею слова растворялись кристаллами ванилина в эфире, оставляя в душе сплошное десертное пятно.
Сразу после истории с сифилисом я свела Ульяну и Женю поближе.
* * *
Анализы были готовы в день посещения «Женевы». Результат – отрицательный. Но об этом Ульяна узнала, не доезжая до диспансера. По пути от Исаакия она высматривала телефон-автомат, собиралась звонить какому-то Диме, просить денег взаймы. Мы шли, захлебываясь дождем. На углу Большой Морской и Кирпичного наконец-то попалась будка. Втиснувшись внутрь, мы закрылись и сразу почувствовали сильный запах псины – мокрой натуральной шерсти. Это пальто Королев купил в Дрездене. Немецкое качество.
– Ты же знаешь, Дим, они все деньги только в руки матери, строго матери, у них приказ.
Капли, ударяясь о землю, разлетались вдребезги, покров пузырился, брызги отскакивали во все стороны, складывалось впечатление, что слой воды, покрывающий мостовую, кипел наподобие шипучей газировки – низом простиралась дикая водная пыль, как белая полоса тумана. Теперь, когда дождь не хлестал в лицо, не заливал глаза, не попадал в рот, в тишине укрытия я почувствовала воды, пригретые у корней волос. Они стекали к затылку. К спине. Горячие струйки спускались за ушами, уходили под нижнюю челюсть, сползали в надключичные впадины. Теоретически этому чувству можно было отдаться. Порадоваться жизни. Но я предпочла бы сидеть сухой на лекции по авторскому праву.
– Да, спасибо, пока, – Ульяна повесила трубку. – Какая же Королев гнида, мразь, ну мра-а-азь…
Она коснулась носом запотевшего стекла и, пребывая в мыслях, начала плотнее прижиматься к холодной поверхности, сплющивая кончик носа кверху, в пятачок. Слово «мразь» было произнесено более чем широко, практически нараспев, с удлинением каждого звука, даже «зь».
– Дима говорит, с сифилисом они сами накосячили, Королев просто решил писануться перед парнями в Крестах. Типа, он не при делах, его наградили. Ну какой дурак… Боже, мой муж – дурак! Ты представляешь, Таня? Мой муж – дурак.
Вечером того же дня она преподнесла свекрови бумагу с результатами анализов.
– Бесполезно, – сказала Уля следующим утром, за пять минут до начала лекции по этнографии. – Бесполезно.
– А чего они от тебя хотят?
– Смерти моей хотят. Смерти, Таня.
Молодой этнограф зашел в аудиторию, несколько сторонясь, не поздоровавшись, как чужой: он страшно стеснялся студентов.
– Видишь ли, – продолжала Королева, раскрывая конспект, – есть такие люди… Они не могут понять сути достоинства. Они думают, что достоинство есть у того, кто на данный момент унижает другого. Они должны посрамлять, обвинять, уличать, они боятся остановиться. Потому что они думают, что стоит им лишь на мгновение остановиться, и мир перевернется! Бдщ! Бдщщ!
Она всплеснула страницы тетради, изображая процесс деструкции мира.
– И тогда унижать станут их. Они думают, жизнь – это борьба. Любовь – это борьба. Отношения – борьба. Работа – борьба. Они думают, мир состоит из борьбы. Они не могут понять сути достоинства. Не могут.
– Почему?
– Почему? Пфф… Да почему-почему… Так получилось. Все события их жизни… укрепляли иллюзию борьбы. Иллюзию победы. Эти люди поверили в безнаказанность. У них просто сложилось превратное впечатление о жизни. Вот и все. Но это всегда кончается плохо. Любым иллюзиям приходит конец. Рано или поздно – ёбнет.
Разгладив возбужденные только что страницы тетради, Ульяна ударила ребром ладони по центру разворота:
– Уж ёбнет так ёбнет!
Скосив взгляд на преподавателя, я прижала пальцы к губам:
– Тсс!
– Боги, он уже здесь. Ох, какой неприметный мальчик.
* * *
После занятий Королева купила коробку конфет и обольстила нашу комендантшу на разрешение «перекантоваться» в моей комнате до возвращения Сомовой. Вечером мы отправились к Женечке ужинать.
– Ты теперь будешь жить с нами в общаге?! – спросила Женечка с обыкновенной для себя интонацией, налитой чистейшим мажором.
– Да!
Я немного подивилась такому ликованию.
– Это же здорово! – завопила Женечка и залилась смехом – ярким, молодым, истым. Так смеялись дети Ульяны еще совсем недавно – до того как научились говорить. Я взглянула на Королеву и поняла, что она восхищена на небеса любви и благоденствия.
– Входите, входите же.
Женечка потянула Ульяну за руку. Комнату обуревал бардак. Развязный, вышедший из-под контроля, имевший характерный холодящий привкус, – схожий с тем, что придает интерьеру обыск, ограбление или природная стихия. Оборванные шторы. Пучки сухой травы, привязанные к батарее. Стихи Хвостенко в салатнице. Сугробы вещей на стульях. Со спинки одного из них Женечка сгребла одежду в охапку и бросила на свою незастланную кровать. Затем, убрав с сиденья пустую жирную сковородку, предложила Ульяне присесть.
– Сейчас будем ужинать, – сказала Осмолова и тыльной стороной предплечья лихо сдвинула груду книг и немытых кружек к краю стола. Освободившееся место она обдула и «на чистое» высыпала пачку муки. Умело замешивая тесто, Женечка рассказывала:
– Организму человека необходимо железо. Но разве мы едим ножи и вилки?
Стремясь сделать свою речь как можно более дидактичной, она хватилась какого-нибудь столового прибора и, нашарив нож, занесла его над головой, попутно вспоров мешок с фасолью. Фиолетовые глянцевитые зерна со стуком просыпались на пол. Такие красивые, как обзерненный гранит. Или взорвавшиеся от счастья бусы. Уля бросилась поднимать.
– Не надо, оставь, – Женечка взмахнула рукой, жестом окропляя бардак – благословляя хаос слыть законом природы. – Будда умер от отравления свининой, – продолжала она.
Погибшего в Ульяне востоковеда подбросило на два метра. Ссутулившись, Женечка энергично мяла тугой, неподатливый ком вегетарианского теста. Ее толстое плетеное ожерелье мерно покачивалось над столом, как пустые качели на ветру. Украшение отяжеляли подвески – грозди мелких деревянных лошадок, выкрашенных в ядреные фосфорные цвета.
– А почему ты решила, что Будда умер от отравления свининой? – спросила Ульяна.
– Будде дали свинину. Он съел. Свинина – это вепрь. Вепрь – одно из воплощений Вишну. Будда съел Вишну и не смог этого пережить.
На общей кухне капала вода. Голые окна открывали вид ночи без проблеска над пустырем. Ветер шел с голомени, с разлета, одичалый от одиночества и темноты. В расхлябанных рамах подрагивало стекло. Лампочку выбили. Светить оставалась одна накаленная духовка. За жирным стеклом маслилось желтое марево. Там, внутри, как в кукольном домике, потрескивали вегетарианские пирожки.
Мы курили на лестнице. Женя, набросив на плечи куртку, вышла постоять за компанию. На площадке уже курили Света Шилоткач и Регина – очень женственная блондинка, пианистка с нашего курса, обстоятельно гримировавшая лицо перед каждым выходом из дому. Родители Регины снимали для нее квартиру неподалеку. Вечером она заглянула в общагу, к Свете на огонек. На Регине отменно сидело помпезное фиолетовое пальто. С лисьим воротником.
– Представляете, девочки, я вчера испытала оргазм одновременно с Андреем, – сказала она. – Мы кончили вместе, прям на одну и ту же долю, понимаете?
Все молчали. Женечка вообще была девственницей.
– Это так… – на глазах Регины блеснули слезы. – Я не знаю, как объяснить, но в этот момент я почувствовала, что это жизнь, что я внутри жизни, понимаете?
Лошадки светились в темноте. Тлел табак. Я никак не могла понять, почему Регина носит мех в октябре.
– Мы кончили, и я заплакала, слезы сами полились, я даже не сразу поняла, что плачу, просто почувствовала, что щеки мокрые от слез… Мне кажется, в этот момент я была абсолютно счастливым человеком.
Еще секунду мы стояли в молчании. Вдруг Женя протянула к Регине руки, схватила за плечи и потрясла, заливаясь кристальным смехом. Колодец лестничного пролета зазвенел, как купол храма. Куртка сползла с Жениных плеч и упала на пол. Я подняла.
– Ну так это же здорово! – Женечка притянула Регину к себе, обняла и, встав на носочки, поцеловала. – Это же чудо! Это надо отметить! – добавила она, имея в виду зеленый чай. Шилоткач и Регина пошли вместе с нами.
Мы выдвинули стол на середину комнаты. Расшторенное окно блестело отраженным электрическим светом. На грязном стекле разворачивалась фиктивная карта несуществующего мира: отпечатки пальцев, следы, потеки, разводы – океаны и континенты. Можно было подумать, что с внешней стороны выстлана черная бумага. Ночь давила в окно – там, снаружи, прильнув к стеклу, стояла Вселенная, непроницаемая, как океан смолы. Непривычно согбенная, она просилась внутрь маленького, парящего в ней корабля, она хотела согреться и, будучи проигнорированной нами, затаивала злобу, коей суждено было разрастись, уплотниться и, взорвавшись, пронизать осколками наши жизни по всей длине. Но мы, беспечные, не чувствовали этого массивного, обындевелого черного тела, дышащего в растрескавшиеся рамы, завидующего согретости, обремененного тяжелым уродством бессмертия и беспредельности. Фасоль перекатывалась под ногами. Осмолова спела про желтый осенний лист. Спела легко, круто взяв все самые высокие ноты Юдановой, и даже достроила местами кое-какие авторские мелизмы, как какая-нибудь легенда джаза.
Еда была невкусной. Правда, это ускользало от нашего понимания. Женя готовила с неизменным вложением духа, нота которого открывала во вкушающем скрытые до поры возможности воспринимать еду, отключая рецепторы. Набивая животы рисом, мы приобщались к очищению помыслов и понемногу, по самым верхам, ласкали свою гордыню. Но на самом деле еда была невкусной. Соя. Пироги с рисом. Тесто на воде, вымешанное в обход сливочного масла. При такой пище насыщение случалось в желудке. Но не в теле! Тело оставалось мятежным. Сердце стукалось о нутро, набитое гравием растительного белка. И в этой динамичной обстановке вызревала бессонница, столь богатая межеумочными идеями.
* * *
– Какая девочка! У нее глаза Казанской Божьей Матери, – сказала Ульяна.
Мы уже выключили свет. Я пыталась заснуть. Вспыхнувшая взаимная симпатия между Королевой и Женечкой подействовала на меня снедающе.
– Послушай, может, я все-таки перелягу на кровать Сомовой?
Видеть, как Сомова по возвращении ляжет в постель, не подозревая о том, что в ней спал чужой человек? Нет, я не могла нарушать принципы. Уля вздохнула:
– Как скажешь…
Будильник разрывался, будто взрезанная свинья, – трещал не металлический язычок, бьющийся о часовые колокола, трещала сама ткань времени, рвалась с искрой, как ацетатный шелк: мы отрывались от вчерашнего дня и от того, что на ночь пульсировало смыслом. Я нажала на кнопку. Тишина. Королевой в постели не было. Встала?
– Доброе утро, – сказала она, потягиваясь.
Ульяна лежала в кровати Сомовой. Лежала сладко. Как ни в чем не бывало. Прямо-таки одалиска, преподнесенная султану накануне, – нетроганая, несеченая, полагающая себя на попечении у Фортуны. Отчего она нежилась? Чему улыбалась? В ее обстоятельствах подобная радость казалась немыслимой.
– Ты все-таки перелегла? – спросила я вместо приветствия. Риторический вопрос сорвался с досады. Но его бессмысленность раздосадовала еще больше. Зачем спрашивать об очевидном? Я должна была укорить.
– Слушай, ну невозможно же спать на одной кровати, это издевательство, все тело болит, – сказала она снисходительно. – Попросим у комендантши смену белья, только и всего.
– Да? А «диванчик»? Ты разрушила «диванчик».
Она накрылась одеялом с головой и смеялась в подушку, сдавленно повизгивая, смеялась минуты три-четыре, а потом сбросила одеяло и, обессилев, откинулась на спину. Небо постепенно выбеливалось. Птицы уже мчались куда-то по-деловому ни свет ни заря. Я потушила бра. Мы завтракали во мгле. Уля забралась на стул с ногами и натянула майку на свои женственные колени.
– Мне очень хорошо здесь с вами. Добрые девочки, добрые мальчики, все по-человечески. Я потихонечку выздоравливаю, – сказала она.
Я молча размазывала по хлебу холодное твердое масло. Пыталась размазать. А она все говорила и говорила. О том, как долго жила в жестоком мире. Жестоком и жестком. Опасном. Ни дня без страха. Такая жизнь превращает человека в шиншиллу. Смерть может наступить мгновенно. Разрыв сердца. От хлопка двери. И, что самое страшное, в этот момент рядом может оказаться только свекровь. Или жены королевских друзей. Непроходимые, жадные, ухватистые, интуитивные. Могущие часами обсуждать только одно: где и как оперировать грудь.
– Боже мой, – она вздохнула. – Ведь сиськи обвисают, хоть ты делай с ними все что угодно или не делай. А эти люди все вбухивают только в то, чтобы каждые полгода отрезать от себя по кусочку, все деньги во внешность. Одна мысль в голове: что бы еще такое купить, чем прикрыть обвисающие сиськи?
– По-твоему, деньги не стоит тратить на внешность? Надо тратить на внутренний мир?
– Хм… Заниматься внутренним миром заставляет совесть. Если совести нет, можно купить место хоть в Оксфорде, читать тома Сартра, Кафки, Бальзака, Маркеса, кого угодно – внутреннего мира не будет. Без совести книги уйдут через задний проход. А совесть – это талант. Она или есть, или нет.
Как и почти все из того, что она говорила, сказанное ошеломило меня эпидейктической пустотой. Совесть? Бальзак? Эти слова представлялись чем-то вышедшим из употребления, вроде табличек из букваря. «Мама мыла раму». «Тут Ната и Анна». И тому подобное. Втайне я считала себя умнее.
* * *
Поиграв часов до девяти, я сорвалась в общагу: Королева обреталась в моей комнате, это мешало сосредоточиться на Шопене. В здании общежития две трети лампочек обыкновенно были выведены из строя. Стены напоминали гигантские километровые соты, сдерживающие в себе вязкий серый кисель. На этаже слышались знакомые голоса. По мере моего приближения картина, проступающая из полумрака, становилась все четче и содержательнее – Ульяна и Женечка тащили что-то тяжелое, вроде тумбочки, изо всех сил упирающейся во вздыбину линолеума. Наши комнаты были брошены распахнутыми.
– Погоди! – одергивала Королева Женечку. – Ты что, не видишь? Надо примять волну.
– Волну нельзя примять! – хохотала Женечка. – Волна сама спадет!
Подойдя, я спросила, что происходит. Оказалось, пятикурсник, отбывающий на преддипломную подготовку, оставлял в подарок Женечке холодильник. Дело застопорилось у порога.
– Представь себе, выглядываю на шум, а она одна тащит его! – сокрушалась Королева. – Несносная девчонка.
«Несносная девчонка». Ульянина речь изобиловала угловатостями – из живого, реального ее потока то и дело выбивался ископаемый театральный реквизит. Войдя к себе, я свалила ноты на стол с особенной разухабистостью. Моя ревность осознавалась мною не как ревность, а как некая сила, распирающая пищевод, – какой-то огромный студеный рыбий глаз величиной с теннисный мяч, застрявший на входе в желудок. Я называла свою ревность «гастрит». И всерьез полагала, что именно он придает всему окружающему такой тонкий оттенок ситца, выстиранного в хлоре, – все виделось обескровленным, чуть подмороженным, отдаленным, как если бы, глядя на мир через грязные очки, я не могла в точности определить расстояние до предметов и, пытаясь схватиться за жизнь, постоянно промахивалась в пустоту.
При комнатном свете холодильник оказался желтоватым. Эдакий труп. Снулый, загаженный тараканьим дерьмом. Ульяна застонала:
– Умм… Боже мой. Ты что? Взяла его немытым?
– Да.
– Погоди, ты что, вообще ничего не сделала с ним?
– А что я должна была сделать?
– Ты меня спрашиваешь? Дихлофосом залить, с головы до ног! И оставить на лестнице на сутки. Как ты вообще додумалась притащить гроб с тараканами в комнату?
Женечка пожала плечами. Обойдя холодильник, она удалилась в свой угол, плюхнулась на постель.
– Его надо убрать, пока не поздно, – горячилась Ульяна. – Иначе у вас тараканы через неделю будут жить даже в волосах и в зубной пасте!
Женечка уселась спиной к стене, вытянув ноги поперек кровати. Дубоватые ботинки (на очень толстой подошве) едва не касались простыни, торчащей по краю постели из-под сбившегося покрывала. Приняв эту кукольную позу, Женечка начала ковырять ногти. Ленинские кудри заслонили склоненное лицо. Похоже, она погрузилась во внутреннее созерцание. И, похоже, ей было на что посмотреть, кроме собственной травоядности.
– Вставай же! – взвивалась Ульяна. Женя не реагировала. – Вставай, надо вытащить его, немедленно.
– Прости, я не хочу.
– То есть как?! «Не хочу»? Ты собираешься бросить его вот так?
– Не знаю.
– Нет, позволь, ты – не знаешь?! Тараканы должны дать тебе время подумать? Надо вынести его, сию же секунду.
– Прости, я не хочу, – Женечка встала и начала собирать грязную посуду, – у меня дела.
Составив посуду пирамидой, Женечка высыпала на освобожденную столешницу пакет сои. Зерна раскатисто застучали по дереву, часть, разбежавшись к краям, попадала на пол. Тук-тук.
– Какие у тебя дела?
– Мне надо перебрать сою, – уточнила Женечка не оборачиваясь.
* * *
До возвращения Сомовой оставалось два дня. Дима, которому мы звонили из автомата, принес полторы сотни баксов. Вместо полутора тысяч. Ульяна лежала на сомовской кровати в позе Федры в воплощении Кабанеля – на животе, подперев рукой лоб, за гладкой статуарной белизною которого кишело воспаление мозга. И тут я совершила этот смертельный номер: предложила ей денег. В долг. Я решила отдать ей все, что мама оставила мне до окончания года: деньги на оплату второго семестра, деньги на еду, одежду, билеты в филармонию – словом, все, что у меня было, – решила отдать женщине, о которой почти ничего не знала. Ни адреса, ни телефона, ни общих знакомых. Я не могу вспомнить, почему так поступила. Греха безрассудства за мной не водилось. Неуважения к деньгам – тем более. Я давала частные уроки музыки с семнадцати лет. Ездила к ученикам в пургу. Вставала в шесть. Чистила зубы со слезами. В сезон нанималась в поля – собирать турнепс. Я не могла рисковать суммой, от которой зависело столь многое. Но почему-то рискнула. Хотела прослыть человеком лучшим, чем Женя? Неужели мне было так обидно? Так одиноко? Возможно, я отдала деньги под влиянием будущего: просто сделала еще один шаг, предопределивший нашу с Ульяной связь на долгие годы. Не знаю. Так или иначе, я поехала в банк и сняла все до копейки. «Я верну через пару недель, – сказала она. – В конце концов, если не заработаю, украду». Таков был зарок.
Она нашла квартиру за день. В Озерках. Пять остановок от университета. Трамваем. «Удобно». Однушка. Зеленый диван. Четвертый этаж. Тараканы. Кухня маленькая, как сортир. Отслоившиеся обои. На рамах следы клея (сорванные полосы скотча). Вид из окна – супермаркет: бетонный короб. Фуры, грузчики, лязгающие ворота. Задний двор, захламленный тарой. Дождь. И на первом плане длинная, косоватая береза, с зачесом прутьев на сторону (от многолетнего стояния на сквозняке) – тонкая, как церковная копеечная свеча. Я поняла: Ульяна не выбирала. Ничего не искала. Просто сорвала первое объявление и тем же вечером перевезла от свекрови наряды, баночки с кремом и несколько книг. «Тропик рака».
– Этот человек – большой философ, – говорила она, развешивая платья.
В квартире не было ни телевизора, ни магнитофона, ни радио. Стояла мертвая тишина, в которой позвякивали вешалки.
– Таня, он очень много говорит о сексе, да. Но он делает это только для того, чтобы раскрыть сознание читателя. Он пишет о членах и прочем только для того, чтобы выбить почву из-под ног. Он шокирует намеренно. Читатель обалдевает! И перестает себя контролировать. Заслонки отпадают. И вот, когда отпадают заслонки, человек остается голенький, вот тогда Миллер начинает вливать в человека фундаментальные философские мысли, выстраданные, приобретенные ценой большой боли. И ты начинаешь пить эту воду, и… она исцеляет тебя.
Зеленый диван задел меня даже более, чем общее ангедоническое состояние снятой квартиры. Колючая обивочная ткань цвета бильярдного сукна. «Надо будет чем-нибудь застелить, чтобы не пачкалось». Он стоял посреди комнаты. Как Женин холодильник. Вопия о себе. Символизируя патологию отношений человека со съемной квартирой: главное – лечь. Он не просто стоял – он молчал. Не обращал на вас никакого внимания. При более чем красноречивом виде. Он декларировал: счастье? – фантазии девочек; комфорт? – лишние траты; какая разница, как мы умрем, – небытие всегда одинаково: и для тех, кто купался в розах, и для тех, кто замерз в снегу, не приходя в сознание. То есть обстановкой востребовался холостяк с каким-нибудь приговором типа цирроза или рака предстательной железы: зеленый диван просматривался из любой точки комнаты, и потому на нем должна была бы располагаться голая женщина, стоящая на четвереньках, причем сугубо порнографической школы – в позе, выхолощенной от любого чувства будущего, как от грязи. Мне стало нехорошо.
– Может быть, чаю? – спросила Ульяна.
Мы пошли в супермаркет. Изнутри этот бетонный мавзолей вдруг разразился веером базарных площадей. Я обалдела. В глазах рябило. Подводный мир Карибского бассейна. Коралловые рифы. Бугристая, мерцательная среда. Микро– и макроорганизмы. Стаи серых людей сгребали это цветное неоднородное море в металлические корзины. Ульяна взяла пачку чая, сыр с крупными дырками, упаковку семги. Цена семги шокировала меня. Тем более Ульяна располагала в каком-то смысле моими деньгами. Я отдавала их тратить на спасение жизни, а не на красную рыбу.
– Только сегодня, – сказала она. – Мы же не каждый день.
И, подумав, уточнила:
– Я верну тебе все до единой копейки. Сейчас эти деньги мои, и я тебя угощаю.
Мы встали в очередь в кассу. Люди перед нами подталкивали тележку, вид которой прямо-таки взрывал воображение: полная с горкой. Цветные пакеты, консервы, свертки, йогурты – десятками, фрукты – сетками, конфеты – коробками. Из этой телеги можно было построить рай! Закатить оргию размаха Гелиогабала. Я и понятия не имела, что жизнь может быть настолько богатой. Отсюда, из супермаркета, наши упражнения по возрастанию духа на рисе казались потугами, фальшивыми и жалкими. Какого черта мы нахваливали Женечкину сою? Копчено-вареный карбонад! Вот что всегда было и остается ценностью. Мужчина и женщина в четыре руки выкладывали продукты на транспортер. Наблюдая за этим, я пообещала себе какую-то пошлость в духе М. Митчелл – поклялась сделать все возможное и невозможное ради денег на полную корзину. Надо сказать, это бульварное обещание, данное в сутолоке, наскоро, между рыбой и кассой, запечатлелось клеймением и с годами не только не выправилось, а, напротив, развилось в полноценный страх – страх не риса, не скудного стола, не голода как такового, а страх непричастности к изобилию супермаркета. Драгоценности, автомобили, путешествия – непреодолимая пропасть между мной и подобными вещами не внушала и тысячной части той боли, что разверзлась между мной и телегой с продуктами. Именно в тот памятный день, в том супермаркете я приняла на себя ослепление новой эпохой.
* * *
«Они оскопили модерн» – так говорила Королева об интерьере лобби-бара «Женевы». Я видела его на картинках в буклете. Наборный паркет (пять пород дерева). Витражи. Извитые ножки конфетниц. Гравировка гостиничных вензелей на бокалах. Стены, в цоколе обитые дубом, выше – пепельным шелком. Основной элемент орнамента, повторяющийся на каждом этапе декора, – глазок павлиньего пера. Зрячие пятна, напоминающие тела нейронов, в лучах дендритов. Сине-желтая протоплазма. Очи несчастного Аргуса. Колорированные леденцы, покачивающиеся на ножках аксонов, по которым в мозг передавалась чистая красота. Дистиллированная. Восхищающая до боли! Орхидеи. Кофе. Сигары. Мои глаза застилал жженый сахар. В детстве я полагала, что запертые шкатулки населены микромирами: клавикорды, китайские вазы, господа и дамы с обложки «Консуэло» издательства «Художественная литература» 1955 года. Женевский лобби был не чем иным, как вывернутой наизнанку барочной шкатулкой. При рассматривании фотографий в памяти оживали и шевелились детские сокровения. Сердце прошибал сладкий пот. Эти страницы практически пахли шоколадом.
– Тебе что, не нравится?
– Таня, это глупый намек на модерн. Глупый. Не говоря о том, что они уничтожили памятник архитектуры. Преступники. Этим людям надо заниматься дизайном конфет, а не реставрацией.
– Неужели тебе не нравится? – шептала я, не отдавая себе отчета в том, что спрашиваю вслух.
– Хм, – она взглянула на меня повнимательнее обычного. Пожала плечами: – Ну… Там довольно-таки чисто. Это не может не нравиться.
Первый рабочий «день» ушел на светские суеты. Ульяна отдала Шишину деньги. Познакомилась с девочками. Поговорила о погоде. Присмотрелась к клиентуре: туристы, конгрессмены, банкиры, пьяные русские. Обсудила дресс-код, таксу. Триста долларов за два часа. Пять сотен – за ночь. Выяснила график дежурств и субботников.
– Что такое «субботники»?
– Сауна с охраной, по субботам, – ответила она, зевая. На лекции Уля явилась без опозданий. «Спала три часа». Я все-таки не понимала, как она собиралась совмещать гостиницу с университетом.
Из старых знакомых в «Женеве» работала только некая Лилька Зубарева. О ней Королева отзывалась весьма уважительно: большая умница. Личность. Недавно переехала в трешку на Лесной. Ремонт. Черный фольксваген (подбросила Королеву к подъезду). Старший сын переходит на будущий год в Аничков лицей. Лилька молодчина. Глубоко образованная женщина. Мать троих детей. Верная жена.
– Как?
Вот черт. Я определенно не ослышалась.
– У нее что, есть муж?
– Н-да, есть. Он сидит дома, с младшими детьми. Занимается всем этим… Картошкой, стиральными порошками, уроками.
– А как же… Как она… Что она говорит? Где бывает ночами?
– На работе. Работает администратором в гостинице. В ночную смену.
– А… А если он когда-нибудь узнает?
– Каким образом?
– Мир тесен. Кто-то что-то скажет… при ком-то, кто-то услышит, случайно… Не знаю, как это бывает. Что-нибудь может случиться.
– Мир тесен уже давно. То, что могло случиться, уже случилось, поверь. Если муж не знает, как жена зарабатывает деньги, значит, это его выбор.
Культуролог вошел в аудиторию. Она раскрыла тетрадь. Размяла корешок, с аппетитом. И, вскинув подбородок, уставилась вперед в готовности отгрызть гранита.
Во второй рабочий день Ульяна не стала болтать, села одна, взяла эспрессо. Пианист исполнял «Муки любви», несколько злоупотребляя стаккато. Пытаясь растрясти музыку до фокстрота. Официанты и бармены тоже пребывали в байроновском духе. Королева закурила. Жизнь медленно проваливалась в ад. Но это не могло быть поводом к прекращению жизни. Оставалось смотреть на собственную смерть, следить за развертыванием событий, миллионами секунд ссыпающихся в Тартар, как в воронку песочных часов. Сиди и смотри, сказала она себе. Сиди и смотри. В конце концов, чем плохо? Белые рубашки, классическая музыка, колумбийский кофе, крепкая сигарета, шпон из махагони. Тепло и сухо. Мужчины не на войне. Женщины не в блокаде. Деньги на такси – в кошельке. Дети здоровы. Королев в Крестах. Ульяна склонила голову и выпустила дым через нос. «Скорбь жгучую не стал я изливать. Я заключил ее, как драгоценность, в своей груди и думал лишь о деле». Делай то, что должна. Душевная боль – не оторванная рука. Не острый пульпит. В душевную боль можно всмотреться. И принять как часть себя. Душевная боль не должна вставать между человеком и миром. Контакт с реальностью – вопрос дисциплины. Если не гигиены. Залог здоровья. Неплохо было бы возобновить обливание холодной водой по утрам.
Внимание привлекала группа за соседним столом. Четыре человека. При галстуках. Виски. Тяжелые зажигалки. Мужчины вели осмысленный разговор, не ждали у моря погоды. Но один из них поглядывал. Вроде бы между прочим, оставаясь в беседе. Лев Евгеньевич. Так она назвала его. Человек в подтяжках. Обширный, открытый круглый лоб. Перспектива облысения. Пробор. Кустистые брови. Здесь напрашивался монокль. Но дело обходилось очками. Лев Евгеньевич в очередной раз взглянул на Ульяну, будто случайно. И, не ожидая, похоже, ответного взгляда с ее стороны, тут же отвел глаза. Королева почувствовала клиента. Работа пошла. Сегодня лодка не вернется пустой.
– Привет, – прозвучало над ухом. – Я правильно иду?
– Что, простите? – Ульяна подняла лицо. Слева стоял хлыщ. Длинный, худой, бритый наголо. Очень пижонистый. Черепаховая оправа в стиле двадцатых. Круглые линзы, тонкие дужки, заправленные глубоко за уши. Клетчатый пиджак. Узкие брюки. Темно-вишневые броги. Аффективный парфюм, бабочка. То есть – Коровьев. Только этого не хватало.
– Я правильно иду?
– Боюсь, я не вполне вас понимаю.
Он отодвинул кресло и присел за столик. Сиденье было низким, длинные конечности Коровьева сложились по-кузнечьи, острыми углами к потолку. Коленные чашечки отчетливо проступали через ткань фасонистых брюк.
– Пьешь кофе на ночь? – спросил парень, чиркая гостиничной спичкой. – Это правильно. Самое время.
Он закурил смачно, обильно дымя в сторону Ули, не пытаясь отвести сигарету. Демонстративно не пытаясь.
– Ты похожа на Мэрилин Монро.
– Я польщена, – ответила Королева сухо.
Лев Евгеньевич соблюдал вид человека, которого не касалось происходящее за чужим столиком.
– Так и хочется спросить тебя, на какой же ты стадии – все еще сосешь у де Дьенеса за пару долларов в час? Или уже дождалась своего Джона Хайда? Хотя если бы дождалась, то тут бы, наверное, не сидела.
– Профессиональный интерес? Ждете, когда де Дьенес освободится? Боитесь упустить вакантное место?
У Коровьева случился нервный тик. Он отвернулся, будто начал высматривать кого-то вдали, у барной стойки, при этом постукивал перстнем по малахитовой столешнице. Ульяна в нетерпении следила за Львом Евгеньевичем. А он, кажется, и позабыл о переглядках. Красивый – вдруг мелькнуло в сознании. Пронеслось, как мотоцикл по пустому ночному шоссе. Из ниоткуда в никуда. Исчезнув прежде, чем было замечено. Красивый? Кто это сказал? Ульяна собралась. Лев Евгеньевич был полноват. Но не грузен. Скорее грациозен. В каком-то смысле. Во всяком случае, естественные драпировки рубашки играли тонко, графично, предвосхищая силу бицепсов и широкую грудную клетку, покрытую шерстью, похоже уже седеющей. В нем грезилось что-то от белого быка, с огромным подгрудком и маленькими жемчужными рожками, с пролегающей меж ними тонкой черной полосой.
Неожиданно Коровьев резко, по-звериному повернулся обратно к Ульяне и, налегая на столик, нервно бросил:
– Ладно.
Королева вздрогнула: отвлекшись, она успела вычеркнуть Коровьева из жизни. Лицо парня перекашивала гримаса высокого презрения. Правая носогубная складка чуть вздергивалась кверху.
– Я так понял, что все-таки правильно пришел. Готова поработать?
– Не уверена.
– Значит, придется поработать неготовой. Такое бывает. Сколько?
– За ночь – пятьсот.
– Что?!
Он вытянулся в струнку. Вытаращил глаза.
– Фак! Фак! Бля, за пятьсот баксов ты должна ходить за мной неделю, не вынимая хуя изо рта! Фак! Шит! Ты шутишь? Скажи, что ты шутишь!
Он замотал головой. Вскочил. Приоткрыл рот и начал легонько постукивать перстнем по передним зубам.
– А-а-а… – стонал он, пружиня в коленях, будто вот-вот готов был обмочиться. – Это грабеж, слышишь, это грабеж, Норма Джин, ты грабишь людей.
Лев Евгеньевич возобновил свои взгляды к Ульяне. Более того, и его собеседники стали оборачиваться на сцену, закатываемую Коровьевым. Меж тем членистоногое животное переходило на визг.
– Грабят! О боги! Грабят! Меня грабят! Это грабеж! Фак! Фортуна играет со мной злую шутку! Фак!
Ульяна испугалась. Кокаин. Вне всяких сомнений. Кокаин, деньги и дурное воспитание. Триединство, открывающее доступ сатанинской силе к мозгу человека.
– Меня хотят ограбить! Блядь, в пятизвездочном месте, шит, шит, шит. Я думал – я в Европе. Пятьсот баксов! Пятьсот! Это кидалово, господа!
Люди оборачивались. Зубарева смотрела сощурившись. Ее вычурно тонкие, выщипанные в нитку фигурные брови сошлись над переносицей. Лицо переняло у платья немного черного цвета. Лиля отвечала за порядок, была «старшей». Бармен протирал винные бокалы, высматривал пятна на свет, но от Ульяны не ускользнула ухмылка, переданная барменом официанту. Позор. Платье Зубаревой продолжало растворяться в атмосфере и отделять черный цвет, как чайный пакетик, – камерный свет лобби заваривался все крепче, в процессе переэкспозиции краски темнели и сливались, как перед грозой (может быть, это давление?), музыка уменьшилась, где-то упала ложка, где-то скрипела пробка, туго идущая по горлышку бутылки. Шпок! Ульяне захотелось выпить. Под языком со слюной отделился металлический привкус. Господи, в первый рабочий день! Такой скандал. Шишин вышвырнет ее вон, в шею, пнет ногой и заложит за ворот грязного мата. Не дав сказать и слова в оправдание. Деньги плакали. Долги. Придется стоять на коленях перед свекровью. Отдать детей на целование старческим прохудившимся ртам, капающим мокротой. Ульяна почувствовала спазм в горле. Только не плакать! А почему бы и нет, кстати? Может быть, горячие слезы прижарят эту беду, как лазер? Может, люди пожалеют и не растопчут? Дыши. Говорила она себе. Дыши. Внимай. Смотри на собственную гибель, стенографируй, не отрывайся. Не раскисай. Смотри. Каждый миг жизни – бесценен. Каждый миг ты выбирала сама. Кроме смерти отца, разумеется. Кроме смерти отца. И тут слезы все-таки выступили, обожгли сетчатку. Коровьев поплыл. Уля взялась за сумочку, встала и зашагала прочь, опустив глаза.
– Э, ты куда? Норма Джин? Э? Са ва бьен, сестра, стой. Ты хотела меня ограбить, а теперь хочешь вот так уйти? Не попрощавшись? Камон, ну, брось, хорош…
Он увязался за ней.
– Пожалуйста, оставьте меня в покое, прошу вас, – процедила она, приостановившись как раз на уровне столика, за которым сидел Лев Евгеньевич.
– В покое? Ты хочешь покоя? Нет, я уеду из этой страны! Вы слышали? – Коровин схватил Ульяну за локоть, буквально вцепился. И обратился ко всем присутствующим. Открыто. Просто заорал на все лобби: – Она хотела меня ограбить! А теперь она хочет покоя!
На происходящее обратила внимание охрана. Зубарева привстала. Один из людей Шишина уже шел к месту событий, оправляя на ходу фалды черного пиджака. Вот тут сердце Ульяны сжалось в камень. Пропустило удар, другой и сбилось с ритма, заработав с большой амплитудой, сумбурно, как от удара кувалдой. Вот сейчас уже можно угодить прямо в тюрьму, Королеву на смех.
– Я прошу прощения, – Лев Евгеньевич поднялся и даже вышел из-за стола, – проблемы?
Коровьев опешил.
– Девушка с нами, – сказал Лев Евгеньевич спокойно, доброжелательно. – Нам с коллегами необходимо было обсудить нечто конфиденциально, и она любезно предоставила нам такую возможность, пересев за отдельный столик. Теперь, когда разговор о делах завершен, мы просим ее вернуться. У вас что-то случилось? Я могу вам чем-то помочь?
В одну секунду мир изменился. Будто из горла выдернули огромную кость. Будто она вылетела, как пробка в потолок. И горлом хлынула кровь, пошла под напором, как комета вина. Кровь, силы, жизнь. Ульяна вытекала сама из себя – так это было. Она опустилась в кресло в изнеможении. Ей купили бутылку шампанского. И оно заняло место в освободившихся венах, раскатилось, покалывая, и опьянило, как лесной кислород.
В начале первого Лев Евгеньевич попросил ее на разговор тет-а-тет. Они отошли к парадной лестнице.
– Я хотел бы пригласить вас в свой номер. О цене…
Она перебила его прикосновением к руке.
– Я не возьму денег, – прошептала Ульяна, слегка качнувшись назад. – Вопрос решен.
На двоих они выпили еще полторы бутылки какого-то старого мерло. Вино – под стать номеру, классическому люксу, предпоследнему сверху в ценовой категории: дороже стоил только президентский. Восемьдесят квадратных метров. Сиенский мрамор. Ослепительная ванная – просто разверзшаяся пасть самой чистоты. Бронзовые с патиной ручки смесителя. Копия Кранаха Старшего. «Три грации». Компромиссная картина, угождающая и мужчине, и его жене, в случае, если супруги путешествуют вместе. Маленькая дипломатия большого отеля.
– Что ты делаешь в Петербурге?
– Занимаюсь организацией аукциона.
– Что будешь продавать?
– Возможности, – он налил ей еще немного вина. – За тебя. И за твои успехи.
Удар бокалов прозвучал высоко и чисто, как фа третьей октавы, взятое на педали.
– Какие возможности ты продаешь?
– Возможности делиться деньгами.
Ульяне не нравилась эта игра. Облизывая пальцы, выпачканные в шоколаде и ликере, она сощурила левый глаз.
– Ну хватит. Если не хочешь рассказывать, просто скажи, что не хочешь рассказывать.
– Я продаю богатым возможность отдать большие суммы на благотворительность.
– Что значит «продаешь»? А почему они не могут сделать это бесплатно?
– Потому что, делая это бесплатно, они теряют всю сумму, которой жертвуют. А делая это через меня, они теряют только первую половину суммы. Потому что вторую половину я возвращаю им после того, как они отдадут мне всю сумму целиком.
Ульяна почувствовала легкий разбег мурашек – от основания черепа к макушке, плечам и спине. Легкий катарсис. Она еще не понимала сути описанной схемы. Но кожей почувствовала прикосновение к новой эпохе, мерцающей во внутреннем зрении, как неопознанный летающий объект.
Лев Евгеньевич принимал душ. Его рубашка висела на спинке стула. Чистая, как с мороза. Ткань высшего класса. Хлопок. Пряжа двойного кручения. Ульяна провела рукой. На ощупь почти что шелк. Пуговичные петли обметаны вручную. На сантиметр шва – восемь машинных стежков. Италия. Очень дорого. Вот почему эта рубашка так антично драпировалась, давая повод для толков о теле: играла силуэт. Хорошая вещь обладала автономным интеллектом. Вода перестала шуметь. Хлопнула дверь. Стал подошедши поближе. Лев Евгеньевич оказался мягким. Дыханье его благовонней. Чем запах лужаек. Начал ей кожу лизать. Все произошло очень быстро. Ульяна раздвинула ноги, и Лев Евгеньевич вошел в нее тут же, так естественно, будто к себе домой, будто еще не успел забыть ее лоно, с тех пор как лежал там маленьким, соединенным с женщиной пуповиной. Время ускорилось. Попало под пресс. И через пять-семь минут наступило утро.
Ульяна спала поперек кровати. Непокрытое тело – опустошенное, как тело Осириса, перележавшее в натровом щелоке семьдесят дней. Бык, уже выбритый, одетый, надушенный, почти готовый отбыть к скипетру, положил перед ней пять тысяч. Она не хотела оскорблять его вопросом. Просто подняла лицо и посмотрела. Он не хотел оскорблять ее молчанием.
– Я сказал тебе вчера, что людям, жертвующим деньги через меня, возвращается половина суммы, – начал он, завязывая галстук. – Но я не сказал тебе главного. Людям, жертвующим целую сумму, возвращается больше, чем целая.
* * *
Ульяна вернула мне деньги. Оплатила квартиру на несколько месяцев вперед. Оплатила второй семестр учебы. Отправила денег детям. В ознаменование налаживающейся жизни мы решили сходить на концерт. Я, Ульяна, Женечка, Света Шилоткач, Юра и еще один парень с нашего курса – Олег Долинин. У метро Женя как-то очень увертливо исчезла, можно сказать, соскользнула в цветочный ларек. Там она купила большую ветку качима (единственный цветок, оказавшийся по карману). Шел первый снег. Редкие, водянистые хлопья. Слаботельные, истаивающие на подлете к земле. Пушкинская стояла пустой. Черный асфальт блестел. Окна почти не горели, может, три-четыре на квартал. Целые этажи без света. Никто не жил? Или жили не просыпаясь? Петербургские стены были как-то особенно отвесны. Ряды черных, бездыханных прямоугольных окон наводили на мысль о многоэтажных холодильных установках в морге с горизонтальными ячейками для хранения мертвецов. Фризы, непоколебимо идущие в точку схождения перспективы, усиливали впечатление коридора – прохода между шкафами, набитыми мертвечиной, книгами, столами, посудой и детскими деревянными лошадками. Пушкин стоял посреди всеобщей обесточенности, скрестив руки. Спокойный, непрошибаемый. Самурай у моря. Не равнодушный, а именно спокойный. Приемлющий Петербург как собственное тело. Чего бояться? Голые кроны раскинулись над ним, как скелеты зонтов – обвисшие спицы, с которых содрали нейлон. Это лишь подчеркивало неуязвимость поэта. Он не нуждался ни в чьей защите.
– Вы ваще одупляетесь? Куда мы идем? Какой клуб? Тут тихий час по ходу, – сказала Света.
– Не волнуйся! Мы тут уже сто раз были, – ответила Женечка, уверенно шедшая во главе колонны, шурша цыганской юбкой, складки которой схлестывались над мокрой землей. Рослую ветку качима Женя держала как факел, исходивший сухой пеной вместо огня. Ульяна помалкивала. Наконец Юра отпер дверь парадной:
– Прошу.
– Сюда?! В подъезде клуб?
Женечка подтолкнула Свету в спину:
– Проходи-проходи, подымаемся…
Исписанные стены потихонечку шли прахом.
Пивная банка затрещала под острым каблуком Ульяны.
– Куда поднимаемся? Вы гоните, девочки.
– Света, пойдем, пойдем, на шестой этаж, – Женя потащила Шилоткач за руку.
Музыка гремела целую вечность, без передышки. Клуб в квартире. Сколько там было метров квадратных? Шестьдесят? Семьдесят? Ну уж, во всяком случае, меньше, чем в классическом люксе отеля. Комната, в которой играли музыканты, была полна людей. Темень, острый запах подмышек, густой табачный дым. Пол, пропитанный пивом, просоленный потом. Последний кабак у заставы. Много пьяных. Много влюбленных. На крошечной сцене (выше пола сантиметров на двадцать) подпрыгивал лысый, жилистый, белокожий парень, имевший вид онкологического больного, безбровый и бледный. Он пел, артикулируя, и тонкая кожа, обтягивающая его череп, морщила, будто яичная скорлупа, приобретшая вдруг эластичность. Музыки Ульяна не понимала. Точнее, не могла различить ее – музыка была слишком неявной на фоне духоты, шума и какой-то глупой ритм-секции, бьющей по мозгам, – ударник частил по тарелкам, забивая медью все остальное. Ульяна стояла в шевелящейся толпе, как айсберг в Индийском океане. Белая, неподвижная, руки в карманы, пиджак на голое тело, подплечники. Брючный костюм «Армани» сидел на ней так, словно был великоват, снят с мужского плеча. Он даже не ниспадал, он падал. Падал и был пойман в падении – пойман в кадр. Это был не костюм, а неповторимый миг падения ткани, миг между небом и землей.
Ульяна пришла в «Фиш Фабрик» впервые. Грязно, но ничего особенного. В Гамбурге такие на каждом шагу. Андеграунд на шестом этаже. Остроумно. Но уже через полчаса ей стало плохо. Мелодия или хотя бы какое-то подобие энергии никак не высвобождалось из звуковой каши. Пьяные толкались, проливали пиво. Какая-то девушка, танцующая в первом ряду, была поднята парнем на плечи и, возвысившись над толпой, тут же сорвала с себя футболку. Оставшись в одном бюстгальтере, она размахивала футболкой над головой и победно кричала. Ульяна хотела выйти из толпы, но не решалась растолкать себе дорогу. Бросив взгляд в окно, она увидела снег: белые комья падали в черный колодец двора. За пределами стен дышало космическое спокойствие. Природа. Природа, в которую торчало Адмиралтейство – самая длинная игла на спине ежа, прилипшего к заднице Вселенной. Господи, если сейчас начнется пожар, люди передавят друг друга на лестнице, раздробят в кровь, будут падать в пролет, передохнут в дыму, господи, кто я? Что я делаю здесь? Господи, тот, кто находится где-то, не видя ясно необходимости находиться там, может ли на что-то претендовать? У Ульяны начался приступ клаустрофобии. Связки суставов стягивало, происходила усадка, как с вещами от стирки, но в ускоренном режиме – связки уплотнялись и натягивались все сильнее, кто-то крутил маховое колесо вовнутрь, и тело Ульяны стремилось свернуться в точку; время и реальность распались: из вроде бы неделимого целого выявились две самостоятельные субстанции. Как это произошло?! Непонятно, но это произошло, и время, освободившись от реальности, вдруг двинулось в отдельном темпе – быстрее, быстрее, как скатывающаяся с горы неуправляемая колесница. Ульяна почувствовала давление в основании черепа и рефлекторно подняла руки, чтобы освободить себя от тяжести несуществующего коромысла. Увидев кисти рук, Ульяна поняла, что больше не осознает пропорции собственного тела – руки стали маленькими и далекими, как атрофированные двупалые передние конечности тираннозавра. Она закрыла глаза. И услышала вопрос. Готова ли я к новой жизни? Так ли уж это правильно, уходить из дома, оставаться в полном одиночестве, без жилья, без родных, без связей, с двумя маленькими детьми на руках, в этом прекрасном городе, затменном собственным великолепием? Так ли уж правильно получать образование в тридцать с лишним лет? Так ли уж правильно отвергать прошлое? Так ли уж правильно идти на риск? Ради чего? Ради достоинства? Ради свободы? Ради того, чтобы сыновья выросли людьми? Разве ради этого я здесь? Тут музыка исчезла. У Королевой заложило уши. Она открыла глаза. Как последний раз. И вдруг увидела Женечку.
Женечка без всякого стеснения сидела на краю сцены. Между огромными черными динамиками и микрофонными стойками. Сидела лицом к залу. Просто устала танцевать и решила передохнуть. Музыканты не обращали на нее никакого внимания. Длинная цветочная юбка стелилась по полу. Женечка держала в руках ветку качима и срывала с его белой шапки по цветочку. Гадала на любовь? Локоны поблескивали в меняющих цвет лучах прожекторов. А на заднем плане дергался лысый солист, зачерпывая тяжелыми армейскими ботинками кучи проводов. Казанская Божья Матерь. Ульяна вошла в изображение Женечки, как в икону. Ей не вредила никакая обстановка. Девочка сидела на грязном полу, в подножии оргии, в грохоте и срывала белые цветы, будто тут была лужайка парка, прилегающего к монастырской школе. Порой Женечка поднимала глаза и, переглядываясь с кем-нибудь из толпы, улыбалась. Значит, все нормально. Значит, эти люди не обделены ангельской опекой. Значит, пожара не будет. Вернее, может не быть. Ульяна почти мгновенно выросла обратно – до своих пятидесяти с небольшим килограммов – и, вернувшись к ощущению габаритов, пошла вон из толпы, в соседнюю комнату, к барной стойке.
– Водки. Три порции.
– Лимон?
– Нет, благодарю вас, ничего не нужно.
Глава IV
У нас капала вода. У них тикали часы.
– Мне вчера приснилось, что я уехала в Америку, – сказала Регина.
– Жить?
– Э… нет, не знаю даже… как-то без конкретики. Просто снится, что я в Нью-Йорке и так чувствую себя, будто каждая клетка открывается и дышит! Столько надежды вдруг, и надежда такая сильная, во всем теле… Как оргазм.
Регина с подругой снимали двушку в семи остановках от универа. Спальный район. Взрытые земли. Высотное строительство. Снаружи – каменные отвесы, выскобленные от архитектурной пены, отвердевший холод, темнота, атмосферная пыль, обморожение, вдох. Внутри – электрический свет, тихий ток насекомых под коркой обоев, нагретый запах, телевидение, размножение, выдох. Родители присылали Регине приличные деньги. Квартира слыла «уютной». Тюль из органзы в снежинку (бархатное напыление), ламбрекены, бра с подвесками, махровые халаты на двери ванной, и не два, по числу жильцов, а четыре или даже пять – словом, гора, из которой где-то в сторонке выбивался лепестком фуксии кусочек пеньюара. На батарее сушились носки детских молочно-десертных цветов, аквамариновые полоски перемежались морковными, лимонными и прочими «нежными-нежными», как сказала бы их хозяйка. Самым выдающимся предметом интерьера была клеенка на кухонном столе: сплошной ковер перезрелых распахнутых полупионов-полуроз. Они жались друг к другу, импрессионистично стекая рыхлыми головами, и стеной заслоняли невидимое небо. Жостовские краски, приторные и порочные, плавились под верхним светом, и при виде клеенки в голове у меня всегда крутился советский торт, забытый пьяными людьми на столе новогодней ночи, обветрившийся, повядший и ставший ядовитым к двум часам первого дня.
Я приезжала к Регине с ночевкой нередко. Уже с первого полугодия между нами сложилась традиция: готовиться к семинарам, зачетам и экзаменам вместе. Мы раскладывали на ковре книги и разрозненные лекции, читали вслух, ели много сладкого, что-то заучивали и, конечно, писали шпаргалки, упорствуя в попытке загнать имя Сущего на острие иглы. Начиная работу, мы обыкновенно планировали готовиться до утра и, не ложась, отправиться в университет. Однако часов в пять в глазах начинало жечь. Тягучий горький мед, в котором слипались веки, затекал в сознание и обволакивал мысли. Ныли спина и шея. Учение заходило в тупик. Регина выдавала мне байковую пижаму. Гасила свет. Пахло чистым моложавым бельем. И оказывалось почему-то, что силы не на исходе. В нас просыпался аппетит. Кто-нибудь вставал и приносил из кухни конфеты. Мы начинали разговаривать в темноте.
– Американцы ж придурки, – сказала я, раскрывая фантик. – Питаются консервами, все холодное, разогревают готовое, судятся друг с другом. У тебя что-то связано с Нью-Йорком?
– Нет! В том-то и дело, что нет, абсолютно. Никогда не была и не хотела, я ничего не знаю об этой стране. Ну да, Задорнов говорит, там придурки. Я мечтаю побывать в Париже. Но снится мне – Америка. Где-то раз в полгода. Нью-Йорк. И там я чувствую себя счастливой, сильной, как будто все проблемы можно решить, можно начать новую жизнь, как будто ты – это не ты… то есть все, что не получалось раньше, не считается… Все прощено, и жить не страшно. Сны об Америке – самые прекрасные сны.
Пустые фантики, собравшись на животе Регины, мерцали, как месторождение светлячков. Регина была выдающейся девушкой. Каждое утро она вытягивала при помощи расчески и фена отбеленные кукольные волосы и подворачивала плойкой концы прически вовнутрь. Затем накладывала на ресницы слой мясистой туши, сушила и накладывала слой поверх, снова сушила и снова накладывала, снова и снова и после четвертого круга пронизала слипшиеся комочки иглой, выдернутой из подушечки (в форме балетной туфельки) ручной работы, повешенной за атласные ленточки на гвоздь, вбитый слева от трюмо.
– Хотя нет, – сказала она, приподнимаясь на локте. – Точно такие же чувства, один в один, как и во снах про Америку, бывают, когда снится, что я беременна и скоро рожу или что рожаю, и когда появляется ребенок, я чувствую то же, что и в Америке: все, что было до ребенка, не считается, все, что после, – настоящая жизнь.
Мы помолчали.
– Ну, фиг знает, – сказала я. – Может, тебе в детстве чего-то читали? Сказки про Америку? Может, у тебя там родственники?
– Нет… У нас в Болгарии только бывшая жена маминого брата… но у нас хорошие отношения, у нее там дом.
– А как выглядит Нью-Йорк? В твоих снах.
– Да никак… Типа как Озерки. Спальные районы, такие же, как наш. Один раз во сне я добиралась до центра Нью-Йорка, это пару лет назад, на третьем курсе музучилища мне снилось.
– И чего?
– Там в центре площадь, а на площади – огромный католический собор. Там было очень много танцовщиков в испанских костюмах, они танцевали фламенко. Очень красиво, такие красные воланы, знаешь, много-много воланов, эти юбки… а потом из собора вышел Папа Римский и стал спускаться по огромной лестнице. Собралась толпа, ближе к лестнице как бы, и я вместе со всеми тоже пошла, и Папа Римский увидел меня, посмотрел прямо мне в глаза, именно мне, и в эту секунду я поняла, что все будет хорошо, как будто он коснулся меня волшебной палочкой. Он мне все простил и впустил в мир без горя и зла.
– А почему?
– Не почему. Просто потому, что я приехала в Америку, оказалась в нужное время в нужном месте.
Вообще, традиция ночевать у Регины родилась в процессе подготовки к экзамену по зарубежной литературе. Все знали: получить зачет с первого раза у Адриана Григорьевича Истрина было практически невозможно, а получить оценку выше четверки невозможно в принципе. Мы называли Истрина цыганом. Причиной тому были его смоляные, непроницаемо черные глаза, обсидиановой плотности блеска. Они впадали глубоко в череп, кожа вокруг проваливалась и темнела, и это усиливало впечатление могильных ям. Адриан напоминал утку, не проданную в первый день, – немного залежалый в мясном ряду труп с вывернутой шеей, свисающей через край каменного прилавка, восковой, пупырчатой, в подтеках крови, спекшейся внутри птичьих вен. Выпотрошенный облик дополняли черные волосы, собранные в тонкий стареющий хвостик, и глянцевый шейный платок под расстегнутым воротом элегантной рубашки.
Несмотря на столь очевидные признаки нездорового увядания, Адриан считал себя сексуальным. И, что странно, большая часть студенток была с ним единого мнения. Девушки никогда не воспринимали Истрина как только преподавателя: сначала он был мужчиной – мужчиной оценивающим, мысли которого всегда находились как бы в эрегированном состоянии, и только потом – литературоведом. Либидо Истрина не умещалось в худом и впалом теле и источалось вовне, не оставляя окружающим выбора, как душный парфюм. Адриану Григорьевичу даже не надо было ничего говорить или делать, «запах» желания оседал на каждой женщине, находившейся с ним в одном помещении. Думаю, сам Истрин мнил себя даже не Дон Жуаном, испортившим ужин и игру в лото, а Асмодеем, прорывающим девственную плеву тяжелым взглядом.
Конфликт произошел между нами уже в первом семестре первого курса. Легко обманувшись моей внешностью, Истрин принял меня за человека, полного кротости и невинности, замешенной на доброкачественной провинциальной серости. Он был поражен, увидев меня с сигаретой. Это случилось на лестнице, на седьмом этаже.
– Вы курите? – спросил он, доставая из кармана пачку Мальборо. – Не знал.
Истрин щелкнул зажигалкой, как-то сценично отвел руку с дымящейся сигаретой и подошел ко мне близко, обозначая стремление прильнуть телом. Я сделала полшага назад. Рядом стояли какие-то студенты. Адриан предложил подняться выше, на самую последнюю площадку, с единственным ходом на чердак.
– Я хочу поговорить с вами с глазу на глаз, – сказал он так, чтобы это услышали все.
Он хотел смутить меня. Я должна была испытать стыд перед невольными свидетелями и еще испугаться, подумав, что Истрин собирается приставать; он хотел спровоцировать во мне амбивалентное состояние – я должна была растеряться, одновременно чувствуя его похоть и не веря в то, что преподаватель может иметь столь дурные намерения среди белого дня. Он хотел распять меня между нормой морали и моей же собственной интуицией – распять в переносном смысле, подразумевая прямой. И, по его расчету, я должна была все равно подняться наверх, не найдя в замешательстве никаких приемлемых слов для отказа.
Адриан вел себя глупо. И, что особенно досадно, принимал меня за человека, которым я не являлась. Мои щеки пылали.
– Я вас смутил? – спросил он, мягко улыбаясь, и снова встал ближе, выдаваясь вперед до самого последнего предела дозволенного, оставляя между собой и скандалом тончайшую пленку, но все-таки оставляя, демонстративно не разрушая презумпции.
– У вас зарделись щеки.
Он смотрел мне в глаза, пытаясь обжечь светом вулканического стекла. Порок, которым сочился его взгляд, должен был испачкать мою девичью белизну. Для разрядки я кашлянула. Но Адриан не почувствовал подвоха.
– У вас очень нежная кожа.
Между фразами он делал паузы гипнотического свойства.
– Вы, наверное, вообще очень нежны?
Я пожала плечами. И от нечего делать посмотрела в окно. По мерзлому пустырю двигались темные фигурки. На дальнем плане краснел трамвай.
– Я хотел бы погулять с вами по Петербургу. Показать вам город… Мы пройдем путь Александра Сергеевича к дому Олениных, путь Федора Михайловича к дому Белинского, отыщем тот самый дом княгини Голицыной… Мы выйдем с вами вместе, сядем в трамвай, дорогой будем болтать… Во время прогулки вы замерзнете… А потом, как знать, может быть, выпьете со мной чашку горячего кофе…
– Сегодня? – спросила я.
Он немного опешил. Но позиций не сдал. Он быстро нашелся, отыскав спасение в остатках румянца, дотлевавшего на моих щеках.
– О нет. Сегодня уже не получится. К сожалению, я занят. Но это обязательно случится, – сказал он сладко и тут же откланялся, резко разрывая сплотивший нас сгусток интимности – поскупившись на обещание любить меня вечно, не дрогнув, стирая последним жестом даже намек на созревшее (как предполагалось) во мне желание запустить обе руки в теплоту его внутренних карманов.
Он сбежал вниз по лестнице. Я расслабила мышцы и с облегчением достала из пачки новую сигарету. Чтобы наконец покурить в полной мере.
Прошло два дня. Со звонком Адриан вошел в аудиторию и сразу же, отыскав меня глазами, перехватил мой взгляд. В одну секунду учитель понял все. Не знаю как, но он понял, что я и думать забыла о нашем с ним перекуре. Он понял, что я не томилась в ожидании зарубежки, не мучилась недосказанностью и кости мои не обмякли в разлуке. Я просто-напросто не заглотила крючок. Но не потому, что Истрин не представлял для меня интереса как сексуальный объект. А потому, что я относилась к малому проценту людей, не поддающихся гипнозу ни при каких обстоятельствах. Это был страшный промах. Произошло незапланированное обнажение истины: Адриан вообще не представлял интереса как сексуальный объект, он просто гипнотизировал женщин. Он купился на мою светло-русую провинциальную косу. И прогадал. Теперь я была живым свидетелем ритуального танца, создавшего учителю славу Дон Жуана. Образ был отделен от человека. Отводя глаза, Истрин чуть ли не сплюнул. С этого дня тема четверки по зарубежной литературе была для меня закрыта. Помимо ненависти ко мне, Истрин питал ненависть еще к одному студенту нашего курса – Долинину Олегу.
* * *
– Не растаман ли ты? – спросил Долинин.
– Нет, – ответил Юра.
– Тогда покурим?
С этим вопросом Долинин резко, по-солдатски развернулся и целенаправленно зашагал к выходу.
– Может, на лестнице все-таки? – окликнул Юра.
Долинин лишь неопределенно мотнул головой и продолжил решительное движение через проходную на улицу. Он остановился только за углом корпуса психфака:
– Все, вот здесь – ништяк.
Долинин тут же извлек из внутреннего кармана косяк. Юра опешил.
– Ты что, собираешься здесь раскуривать? Здесь?!
Вместо ответа Олег деловито вытащил спички. После первой затяжки он протянул папиросу Юре и довольно сощурился на солнце. Эту историю, происшедшую в первые дни сентября, Юра открыл мне глубокой осенью.
– Парень абсолютно без тормозов, – сказал он о Долинине. – Траву курит, как сигареты. А вчера он мне кассету принес, «Криминальное чтиво». Просвещает меня, – добавил Юра смеясь.
Олег Долинин вырос в Кировском районе: рабочие кварталы, «мальчик-жиган», сигарета за ухом, «Депеш Мод». Кастет (всегда при себе). Дискотеки в парке имени Девятого Января. В праздники – остроносые туфли под тренировочные штаны. Никто и подумать не мог, что в семье фрезеровщика подрастает искусствовед. Но Олег всех обманул. Не то чтобы он зачитывался Вергилием или хотя бы Алдановым – нет, он так же, как все, сплевывал вечерами семки под облупленную скамью, заедал водку водой из-под крана и ходил на разборки. Однако от сверстников его отличало скрытое знание: из этой жизни надо рвать когти. Плана Олег не имел. Но в себя верил безоговорочно.
Отслужив в погранвойсках, Долинин вернулся домой; в гостиной стоял гроб отца. И знамение, и новая веха. Олег предложил овдовевшей матери начать новую жизнь. Уговорил разменять квартиру на две: одна оставалась в прошлом – на улице Танкиста Хрустицкого, другая перемещалась в будущее – на сугубо противоположный конец, в Озерки. Первую Долинин сдавал. Во второй жил вместе с мамой (как раз в том самом дворе, в котором Ульяна сняла себе карцер с диваном). Работать устроился в Пулково, в военизированную охрану. Стерег таможенные склады. И на втором году несения вахты внезапно прозрел – понял свое призвание, почувствовал, что хочет навсегда остаться в пулковской таможенной службе, но только не в качестве солдафона, а в качестве искусствоведа, оценивающего перевозимые через границу иконы и подсвечники. Выбор вуза лежал на поверхности: сын кировских заводчан, спустивший юность на совершенствование по части изготовления бульбуляторов, мог метить только на платное отделение, а скорее даже и проще – в платный университет, который весьма кстати располагался в пяти остановках от дома.
В курилке я не раз слышала, как, обсуждая Олега, девочки использовали эпитет «ариец». Светлые брови. Бесцветные глаза. Прямой нос, отвесный, почти без вмятины в области переносицы. Жестко очерченный овал лица. Челочка, плотно прилегающая ко лбу. По мне, типичная римская скульптура – Август, Траян. Не знаю, считал ли Олег себя красивым, и на чем вообще зиждилось его донжуанство, но он не мог воспринять в женщине человека – не способен был отделить процесс общения от взаимодействия полов. Все его поведение осуществлялось в пределах гендера: манера говорить, двигаться, звук голоса – все отливало маскулинным блеском доспехов, которые, приходя даже в самое незначительное движение, производили лязг, заставляющий окружающих оборачиваться. В каждом фрагменте любого, даже самого короткого разговора, даже самого прозаического, касающегося погоды, бутерброда с колбасой или сравнительной характеристики собачьих пород, Олег продолжал соблазнять. Он соблазнял ту девушку, за которой на данный момент стоял в очереди, или ту, с которой, например, ехал в лифте. Были ли у него предпочтения в цвете волос? В размерах груди? Интерес к определенным типам лица? Скорее всего, вопрос стоило бы ставить иначе: отличал ли он в принципе каждую конкретную женщину от каждой другой конкретной? Возможно, женщины представлялись ему единой материей, разрозненной механически и существующей в виде отдельных частей.
Как-то на перемене Ульяна осталась посидеть в аудитории, полистать альбом. Американский абстрактный экспрессионизм. «Энергетическое письмо». «Смелые мазки». Точнее сказать, не мазки, а рубцы – масляные, жирные, разноцветные, полнотелые сопли, брошенные на холст в порыве высвобождения от насаждаемых ценностей. Накрап в десяток слоев, неотдаленно напоминающий ляпы блевотины на асфальте. Недопереваренный суп. Символ расторжения оков общепринятого. Уля подолгу застревала на каждой странице. Рассматривала с глубоким вниманием. С каким иные читают Библию. На лице ее очевидными были признаки абсорбции: она поглощала послания. Можно сказать, само пространство над книгой набухало смыслом.
– Прошу прощения, вы позволите? – вторгся Олег, поклонившись.
Ульяна подняла глаза. Но промолчала. Долинин присел за соседнюю парту. Ко всем женщинам он обращался на «вы». При помощи этого «вы» и некоторых других стилистических средств он имитировал галантность – пытался держаться в духе общего гласа времен онегинской молодости. Так он одновременно и подчеркивал почтение к даме, и придавал своей интонации декоративность, указывающую на условный характер общения: мужчина переходил на язык женщины, как взрослый – на язык ребенка. Надо сказать, что столь тонкую дуалистическую игру Долинин вел при скудном арсенале «галантных» слов, перемещаемых в сознание из далеких воспоминаний детства – из советских костюмированных кинокартин, двух с половиной романов Майн Рида и старосветских разговоров, подслушанных на Владимирском рынке.
– Как вы находите эти полотна? – спросил он Королеву.
– Это репродукции.
– Кхэ… Что ж, хотите по гамбургскому счету? Извольте. Для начала, это краски, брошенные на холст. И ничего более. Каста алкашей кидалась красками, а вы отыскиваете в этом сюжет.
Ульяна посмотрела на Долинина, как заседающий судья, в котором неподкупность и беспристрастие вытеснили все прочие человеческие качества.
– Можно кидать камни в воду, – сказала она, – а можно кидать камни с балкона, по головам прохожих. Как видите, глагол «кидать» не определяет смысл действия. Да, эти, как вы выразились, алкаши кидали краски. Но они пытались попасть в мишень. Расположенную в космическом пространстве. И иногда им это удавалось.
Олег чуть переменил позу, заложил ногу за ногу.
– Н-да. Вы знаете, Ульяна, по молодости я пытался плавать в море различных абстрактных течений в искусстве… э… но со временем, знаете ли, стал относиться к этому проще. В большинстве работ сквозит грусть… по поводу того, что все, что можно было придумать, уже придумано еще эдак лет пятьсот назад.
Ульяну раздражали «манеры» Олега. Меня – смешили. Кроме того, я чувствовала, что своим неумелым фразерством он пытается не только обозначить разницу между полами, но и оторваться от собственных корней – от языка окраин. На внешнем уровне он метил территорию, как кобель. На внутреннем – расставлял флажки с маркировкой «Я больше не гопник».
– Так что, – он хлопнул себя по ляжке, – с любителями Джексона Поллока нам разговаривать не о чем.
– Но это, насколько я вас понимаю, не повод молчать?
Ульяна была единственным человеком в нашей группе, обращавшимся к Олегу на взаимное «вы». И уж она-то пользовалась данным местоимением не в условном значении, а в самом прямом.
– Что ж, – Олег сел ровнее, достал из кармана голубой берет десантника и ловко надел его, станцевав одной головою, – вижу, вы не любите болтовню. Посему позвольте, так сказать, минуя формальности, сразу перейти к делу.
Он встал, выправил торс, раскрыл грудь и произнес во всеуслышание:
– Разрешите предложить вам руку и сердце.
– На какой срок? – спросила она. И все, кто на тот момент находились в аудитории, загоготали в полный голос.
У Долинина была девушка. Поразительно, но, ухаживая за женщинами, он этого не скрывал. Напротив – бравировал этим. Пугал! «Если бы моя Вера сейчас видела нас с вами, она бы выцарапала вам глазки». За всего лишь первый месяц учебы мы успели пресытиться легендами об отъявленной красавице Вере Орловой. То она выбила пару зубов соседке Долинина (ревность), то порвала служебный пиджак капельдинеру малого зала (старуха не так посмотрела), то «отжала» у арендаторов квартиры Долинина пять сотен баксов за оставленную открытой форточку (во время ливня намочило обои). Мы подумывали, Олег врет. Болтает о девушке специально, чтоб никто не принимал его за мужчину серьезных намерений. Но однажды Вера подтвердилась.
– Долинин меня вчера со своей девушкой познакомил, – сказал Юра в обеденный перерыв.
– Да ты что?!
– Да, мы ходили к ней в гости.
– Даже так?! И что там с красотой? В десятке самых красивых женщин мира? – спросила я с показушной издевкой.
– Угу.
Ответ прозвучал неожиданно тихо. Юра не шутил. Я чуть стушевалась.
– Ну… типа чего? Одри Хепберн?
– Ой, не знаю, Тань.
Его голос дрогнул. Я поняла, что он потрясен.
– И как все прошло?
– Да никак… У нее мать занимается оккультизмом. Короче, мы пришли, а там везде стоят палочки ароматические. Запах этот, дым. Ну, мать подожгла. А Долинин собрал их и выкинул в окно. Начался скандал. Слезы… Там, вся эта байда, истерики…
– И что?
– Мы ушли. Мы там и десяти минут не пробыли.
Однажды на перемене Шилоткач ворвалась в курилку:
– Слышите, Долинин привел свою телку в библиотеку!
Мы бросились к дверям. Бежали вниз по лестнице, разверзая пространство, как стадо кабанов. (Разумеется, Ульяна не приняла участия в смотринах.) У входа в читальный зал, отдышавшись, мы попытались разыграть естественный вид, войти не гуськом, а как-то порознь, скрывая подлинную цель визита. Но конспирация не удалась. Вера сразу «узнала» нас. Сразу! Еще издали, метров с двадцати. Почуяла. Как собака, пущенная по следу. Вскинула голову, посмотрела открыто и прямо. Черные глаза блестели на нас, будто два ониксовых шара, только что поднятых из воды. «Животное». Именно это слово прозвучало у меня в голове. Животное. Комок нервов. Существо с переразвитой сенсорной системой.
– Шальная баба, – сказала Шилоткач одобрительно.
– Девочки, давайте сразу не пойдем, а то подумают, что пришли посмотреть и ушли, давайте тут поболтаем… как будто ждем кого-то, – предложила Регина.
Пока мы стояли у фикуса, изображая непринужденность, я посмотрела на Веру еще несколько раз. Я переживала странное, обширное чувство, раскрывающееся во мне наподобие ядовитого цветка, причем большего, чем я, по размеру, – чувство отчуждаемости от Веры. Мы принадлежали к разным биологическим видам. Кто-то из нас не являлся человеком. И при необходимости я скорее бы согласилась признать, что именно я не являюсь человеком, чем признать то, что мы с Верой – братья по разуму. Она не сделала ничего плохого. Обычная девочка. Такая же, как и мы. Студентка, слегка за двадцать, филологический, темные волосы, простая футболка. Она приехала позаниматься в библиотеке нашего университета, побыть рядом с любимым. Просто сидела над книгами. Но, помимо перечисленного, моему восприятию само собой открывалось нечто большее. Время от времени Вера склоняла голову, заводила руку тыльной стороной к лицу и, запустив пальцы под длинную челку, с форсом отбрасывала ее назад, усиливая движение поворотом головы. Во всем существе этой девушки – в моторике, в нездоровом блеске глаз, в слишком нарративной пластике, в то и дело проскальзывающих слишком определенных, слишком легко читаемых выражениях лица – то недовольства, то высокомерия, то раздражения Долининым, то презрения к окружающему, то полного осознания сексуальности собственного силуэта – во всем проявлялось нечто инородное: она не жила, а реагировала на мир, обтекавший ее субстанцией куда менее важной, нежели центр – сама Вера.
Ближе к концу декабря с Верой было покончено. «Навсегда». Мы поняли это с порога. Долинин появился ко второй паре. Вошел, опустив голову. И, не поздоровавшись, проследовал через весь класс неумеренно деятельной походкой – прошел до последней парты с видом человека, пренебрегающего полутонами междисциплинарной общественной жизни, отсекающего эти полутона в пользу предстоящей концентрации на чистом свете знания. Он швырнул сумку на пол, забился в угол. И поднял лицо лишь с приходом преподавателя. Тогда мы увидели то, что уже успели почувствовать по походке: фингал. Красочная гематома. Нежная и пышная, как свежевзбитый мусс. Переспелый инжир, фиолетовая воспаленная мякоть которого вот-вот протечет через потрескавшуюся кожу. «Ах», – сказала Регина. На перемене Долинин объявил, что Новый год будет праздновать с нами. Теперь мы одна семья. Более того! – елка у нас будет живая. И не покупная. А привезенная из лесу. Мы добудем ее своими руками, в паре километров от Дибунов – срежем молоденькую под корешок, легко, как по маслу – будто бы коренастый белый. К празднику она – парная, вспотевшая смолой, зеленая, как майская лиственница, – встанет в углу Регининой гостиной и, отогревшись, раскроет павлиний хвост, чтобы исторгнуть запах секвойи.
– Слышь, отец, ты хоть знаешь, как елка выглядит? – спросила Шилоткач.
Решено было, что в лес с Долининым необходимо отправить кого-нибудь здравомыслящего. Выбор пал на меня.
* * *
Мы тащились через бурелом. Ломились, загребая снег в сапоги. Погода стояла сырая. Тропическая влажность. Воздух цвета жижи с овсяной каши. Тот самый, от которого так сильно хочется спать. Оттепель. Морская зима. Анемичные краски, будоражившие «эго» Саврасова. Ни ветерка. Казалось, мы идем через студень: на дне – толстые куски темной плоти, выше – мириады тонких мышечных волокон, убывающих в застывший серый жир, не имеющий ни конца ни края. Елок не было. Уже сорок минут мы перешагивали через поваленные слоновьи ноги. Застревали в мокром, как глина, снегу. Но елок не было. Даже не подходящих по размеру.
– Послушай, а вдруг в этом лесу вообще не растут елки? – спросила я.
– Обижаете, Татьяна. Я сказал – растут.
– У нас скоро не останется сил на обратную дорогу, понимаешь? Мы не выйдем отсюда.
– Я вынесу вас на руках, – ответил Долинин и, зацепившись за корягу, чуть не чвакнулся в липкий сугроб.
Наконец через полчаса мы все-таки увидели ее. На поляне. Маленькую. Единственную. Убогую. Отросшую вкось: опушенную лишь по одной стороне, да и то неравномерно, клочками. Елка походила на курицу, ощипанную наполовину.
– Решайте, – сказал Долинин.
Он присел на колоду, воткнул топор в снег и достал из внутреннего кармана готовый косяк.
– Пластилину?
– Нет, спасибо, – я села рядом.
Табак с гашишем трещал, как костер. Конопляный запах расходился все жарче. Еорючий Пакистан проедал дыру в водянистой природе отечества.
– Слушай, девочкам не понравится эта елка.
– Откуда вы знаете, что не понравится девочкам?
– Она лысая. С одной стороны почти нет веток.
– Но с другой же стороны есть? – он взглянул на меня. Вскинул брови. Голос его изменился. Глазные яблоки порозовели. Просто не верилось: так быстро?!
– Татьяна, я не настаивал бы, не будь я тем, кем я… тот, кем я… тем, кто я есть. Девочкам не нравятся совершенно другие вещи. Уж поверьте старому солдату, который намедни чуть не лишился глаза только потому, что одной девочке кое-что не понравилось.
В снегу чернели обломки сучьев. Вспархивали птицы. Конопляный дым поднимался сигнальной струей. Спаситель принимал привет. После недолгой паузы я спросила:
– Почему вы поссорились?
– Потому что она не кончила.
– То есть?
– То и есть. Мы трахались. Я кончил, а она – нет.
– Да брось. Гон какой-то, Олег. Это не повод для ссоры.
– Послушай…
Я впервые услышала от него «ты». Не ко мне, а вообще, «ты» к женщине.
– Может, тебе не стоит курить? – перебила я. – В лесу… Может, когда выйдем, потом?
Долинин отмахнулся.
– Послушай. Я пришел к ней со смены. Из Пулково на Просвет. Помылся и упал. Я устал. Она захотела трахаться. Я – готов. Я же военный…
Он усмехнулся.
– Я готов сделать все что угодно, только бы мне не ели мозг. Но я устаю. Днем – универ, ночью – Пулково, выматываюсь, как подзаборный пес. Короче, проехали. Легче сделать усилие и трахнуть ее, чем объяснять, что то, что я устал, не означает то, что я ее разлюбил. И тут я кончил, а она еще нет. Ну, я думал, это понятно, двадцать восемь часов на ногах зачтутся мне, примитивному животному. Отвалился на подушку. Но нет, твою мать. Пошел наезд. Почему, типа, после твоего… В смысле – моего, шпрех? – он ткнул себя пальцем в лоб. Я кивнула в знак понимания. – Почему после моего оргазма спать должна она. Слово за слово, полетели предъявы, получил по ебалу вазой. Оделся, пошел в полтретьего ночи пешком в Озерки.
Он встал, сплюнул и направился к елке. Дерево молчало. Долинин начал рубить, но с каждым новым заносом топора движения становились все более смазанными. Олег прилаживался к стволу, перешагивал то так, то эдак, пошатывался, залипал в снег, наносил неточные удары, иногда совсем вялые, с плавного, медленного размаха. Казалось, небольшой топор все тяжелеет. Я поняла, что у Долинина резко упало давление. Кровь отлила, и даже не в ноги, а в орудие труда. Центр тяжести сместился в предплечье. Тело заваливалось за рукой. Долинин крошил елку: не убивал, а бил. И с каждым ударом тонкие выи берез вздрагивали, как стаканы от пьяного кулака.
– Тебе плохо?
Он разогнулся.
– С чего вы взяли?
По лицу Долинина стекал крупный, теплый, зернистый пот.
– Олег, давай без елки обойдемся. Все равно она уродливая. Ты еще не дорубил ее, она еще, может, вырастет.
– Татьяна, отойдите, пожалуйста, в целях вашей же безопасности.
Он не отрекся от своей работы. Я стояла и смотрела. Что можно было поделать?
* * *
По широкой накатанной тропе прогуливался человек в тулупе. Около рысью шли русские борзые. Их бело-рыжий окрас гармонировал со злаками, выбившимися из-под сугробов. Шагнув из лесу в поле, я посмотрела на матовое небо. Солнце все-таки было там. Но не свет его, а растушеванный контур проступал через атмосферные толщи – в густом непрозрачном воздухе зависало огромное, неповоротливое, дебелое яйцо. Оно смотрело на нас через бельмо. Вдруг небо заворочалось, само в себе. Отечные облака вздувались вроде взошедшей опары. Вороны, занервничав, вопили над полем. Я стояла, запрокинув голову, и смотрела на то, как из безграничной небесной утробы готовилось развалиться огромное тесто. Наконец пошел снег. Посыпался, будто из вспоротой перины, – густо, бело, прямо валом. Борзые завеселились. Щелкая зубами, они ловили на лету перистые снежинки. Следом за мной из лесополосы выступил Долинин. Воспаленные глаза его выделялись на фоне монотонной русской природы, как два куска свежего мяса. Елка, взваленная на плечо, похлестывала ветками в ритм шага. Хозяин собак проводил нас осуждающим взглядом. Долинин пер вперед по-пьяному, поступью раненого командора. К моему удивлению, он взял курс сильно левее платформы.
– Олег! Куда ты?
– Мы идем ко мне на дачу.
Я просто похолодела.
– Какую дачу? О чем ты? Где?!
– Татьяна, доверьтесь мне. Все будет хорошо. Мы сейчас придем… Все будет. Чай горячий… все.
Он говорил с трудом, почти каждое слово – на выдохе, через паузу, как тифозный больной, которому уже послали за священником.
– Олег… Олег! Давай я понесу елку, господи, дай мне ее…
– Не смейте меня оскорблять.
Вагончик стоял у самой железной дороги. Внутри – опрятно. Красное войлочное покрытие. Двухконфорочная плита. Электрический чайник. Пачка индийского, сахар. Маленький телевизор. Все штепсели аккуратно лежали выдернутыми из розеток. Долинин бросил елку на пол. Еле-еле освободившись от куртки, швырнул и ее, прямо на елку.
– Сейчас все будет…
Промямлив это, он сделал пару шагов к столу, планируя, видимо, заняться чайной церемонией. Но дорогой упал. И, плюнув на все, пополз на четвереньках к тахте. Забравшись на скупо застланную постель (прямо в сапогах), он повернулся к стене и сник в позе эмбриона.
– Говенный гаш… – бормотал он, задыхаясь. – Сильно мажет. Плохие люди по шишкам терли грязными руками… Инфекцию занесли, уроды.
* * *
– Хм, не знаю, кончила, не кончила…
Уля пожала плечами – дала понять, что претензия Веры некорректна, а значит, обсуждению не подлежит.
– Как-то это все… манипуляции. Это все манипуляции, – добавила Королева со вздохом.
В ресторане было темно, как в церковном приделе. Свечи. Хрустящие скатерти. Море букетов. Море лепнины. Кессоны, расписанные красками. Тридцать первого утром Ульяна уезжала к сыновьям, а вот тридцатого решила закатить пирушку – «на двоих». Машина свернула со Староневского в переулок, мы вышли из теплого такси и по слякоти пробежали к парадному входу. При дверях стояла густая бархатная елка. Горели лампочки. Швейцар кланялся, и в золотых пуговицах мундира отражались огни. Официанты, крахмальные, будто платья на свадьбу, держались исключительно фотогенично (кажется, мысленно пребывая в чине дворецкого). Стояла библиотечная тишина. В клетке поскрипывал кенар. Чай подали в толстопузом заварнике, писанном красной сиренью. Ульяна перебирала белыми пальцами по бокалу, в котором не прерывался полет пузырьков. Лицо ее сияло. Оно всходило в оранжерейном мраке серебряной луной. «Я очень рада нашему знакомству. Каждая минута общения с тобой доставила мне безграничную радость». Мы чокнулись. Но, заметив, что я сама не своя от восхищения цветением засахаренного интерьера, она тут же добавила к произнесенному тосту: «Таня, это гипсокартон».
– При чем тут манипуляции? – спросила я, прожевывая рис с креветкой.
– Ну… видишь ли, ведь сексом люди занимаются не для того, чтобы кончать.
Никто из сидящих за соседними столиками не обернулся. Официант не дрогнул. Но я почувствовала, как внимание присутствующих, отльнув от предметов их разговоров и дум, разом приникло к последней фразе Ульяны. По-видимому, в мой мозг поступила информация об изменениях пейзажа. Ультратонкость этих подвижек, происшедших в позах, звонкости ножей, сухости кашля, плотности звуков и направлениях воздушных потоков, делала их уловимыми только для органов чувств – слухом и зрением засечено было нечто, в сознании возникшее сразу в виде готового вывода: нас слышал весь ресторан. Даже у кенара будто выбило почву. Он вскинулся песней, несмотря на то что вне стен стоял переплеск мозглой зимы.
– Ведь что такое секс? – спросила она никого. – Это же не то, что тебе нажимают на нужные точки и ты переживаешь возбуждение и… потом случается отток крови от матки и все это… Нет. Это не секс, а, строго говоря, онанизм. А секс – это состояние. В котором тебе кажется, что весь белый свет в твоих руках. Если люди доверяют друг другу, если каждый знает о другом, что тот не сделает ему ничего плохого… когда наступает момент доверия, то эти… органы – они становятся передатчиками. Человек наполняется состоянием сам и получает возможность передавать другому. Если это получается…
Она опустила глаза:
– Тогда человек может жить, сворачивая горы.
Она вздохнула:
– Остальное – от лукавого. Манипуляции.
– Манипуляции в чем? Вера обиделась на него за то, что она не кончила. По-моему, это не манипуляции, а глупость какая-то.
– Она не обиделась. Она его обвинила. Фактически обвинила его в эгоизме. Она – его, а он мог ее обвинить с таким же успехом. Мог взять и обидеться на то, что она не кончила. Этому нет конца и края, Таня, нет конца и края.
– С какой стати ему обвинять? Разве от нее зависит…
– Конечно. Она не кончила, потому что не расслабилась. Не о том думала. Собственно, например, когда я любила Королева, я кончала, делая ему минет. Получала удовольствие от процесса. Боже мой, это не говоря о мощном эстетическом удовольствии! Не будем забывать, что половой член имеет эстетическую ценность.
Мне стало смешно.
– Ну, не каждый, конечно, – пояснила Ульяна. – Бывают и страшные, хотя… Все зависит от человека. Смотря кто как покажет. Некоторые покажут так, что… без слез не взглянешь.
Она досадливо покачала головой. Со мной случился приступ хохота. Я не могла успокоиться несколько минут. Демонстрация членов! Как бы это могло быть? На приемном экзамене? На арене цирка? Под барабанную дробь?
– Чему ты радуешься? Ты думаешь, я с тобою шучу? – спросила она.
Зажав рот рукой, я давилась смехом. Королева грациозно откинулась на спинку стула. Ее бескровные волосы мерцали. Губы блестели. Чуть жила улыбка. Руки стекали с подлокотников: бескостные, шелковые, охочие до покоя. Обольстительная Мэрилин на фотографии Блэкуэлла. До Нового года оставалось чуть более суток.
– Ты веришь в чудо? – спросила я, переведя дух.
– Чудо – это результат человеческого труда, – ответила она не шелохнувшись.
– Да ну? Например?
– Например, рождение ребенка. Разве это не чудо?
Я опять рассмеялась:
– Ну, точно не труд. И потом, какое же это чудо? Это физиология.
Королева недовольно поморщилась.
– Операция по разделению сиамских близнецов, – сказала она.
– Да почему же это чудо? Это наука… ну, операция. При помощи инструментов, всяких приспособлений хирурги совершают ряд проверенных действий…
Она воспрянула в кресле. Взяла вилку и, поставив локоть на стол, представила эту вилку у меня перед носом.
– А что в твоем понимании чудо? Ты хотела бы, чтобы я сейчас посмотрела на вилку и вдруг – хуяк! – она загнулась пополам усилием моей мысли?!
* * *
На глаза Регины наворачивались слезы: развесистость елки была неприемлемой.
– Это же символ… – шептала Регина, сглатывая подступающие рыдания, – он знаменует будущее.
– Да забей, – сказал Юра, следящий за событиями из прихожей.
Он, в расстегнутом пуховике, уже обутый, нетерпеливо потрясал сложенным вчетверо списком продуктов. Я зашнуровывала ботинки. Олег ждал нас на улице. Мы отправлялись на Апрашку – за «Монастырской избой» и куриными окорочками.
– Захлопните дверь. – Регина была настолько расстроена, что даже не поднялась проводить нас, а так и осталась сидеть на полу, перед елкой и раскрытой коробкой новогодних шаров.
На улице подморозило. Неожиданно крепко. Нагруженные сумками люди толкались у ларьков, выдыхая пар. Ресницы слипались. В помещении запотевали очки. Очереди двигались медленно. Ручки пакетов то и дело рвались. Юрин рюкзак раздулся и постоянно кого-нибудь задевал.
– Сайра? – спрашивал Юра.
– Взяли! – кричала я. И Юра вычеркивал сайру из списка, прислонив листок к спине Олега. В устье Садовой людей и машин было особенно много – впадая в Сенную, толпа застревала на входе, и в эту новогоднюю базарную кашу въезжал трамвай, оглашая площадь душераздирающим звоном. Олег предложил заглянуть в пивную: передохнуть. Мы вошли в прокуренный бар. Пахло мокрыми сапогами. Герои «Капричос» провожали старый год. По краям залапанных кружек подсыхала серая пена. Теплый воздух стоял жирным и дымным веществом, приобретшим оттенок желчи, вроде того, что наводняет глазные склеры у больных гепатитом. Свободных столиков не было. Мы кое-как пристроились у стойки. Рядом с нами пил пиво молодой мужчина – скуластый индеец с длинными, прямыми, смолистыми волосами. Он попросил у Олега сигарету.
– Брат, ты видишь, я с друзьями беседую, ты меня перебиваешь, берешь за плечо, смотришь на мою девушку, вымогаешь… зачем быкуешь? Это невежливо.
Мы с Юрой переглянулись. Я почти машинально схватилась за пачку «Бонда», но Олег придержал мою руку.
– Татьяна, не суетитесь. Пусть Чингачгук ответит, почему он не покупает сигареты в баре?
Юра залился краской. Мне тоже стало не по себе. Индеец улыбнулся. Он запустил руки в карманы твердого кожаного плаща и выгреб оттуда мелочь. Ссыпав монеты на стойку, он спокойно сказал, глядя Олегу в глаза:
– Это все мои деньги. На пачку не хватит.
– Так возьми поштучно, брат.
Парень сдвинул копейки в нашу сторону.
– Я хочу купить у тебя одну сигарету, – ответил он.
– Откуда ты, Большой Змей? С Лиговки? – спросил Олег, смягчившись.
– Из Москвы, – ответил индеец.
– Приехал в Эрмитаж?
Олег выпустил дым индейцу в лицо. Тот равнодушно снес унижение и спокойно сказал:
– Мне захотелось отметить Новый год в Петербурге. Девушка на Московском вокзале попросила донести ее больного ребенка до остановки. Ребенок забрал себе мой бумажник. И вот я здесь.
Он улыбнулся. Белые, стальной ладности, плотно пригнанные крупные зубы блеснули в тумане.
– Ты музыкант? – спросил Олег, протягивая ему сигарету.
– Нет, я печник.
– Ну и где собираешься печь? До Нового года осталось восемь часов.
– Не знаю. Пойду на Невский, посмотрю фейерверк.
Я невольно окинула взглядом его длинный негнущийся плащ.
– Вы собираетесь провести ночь на улице? – спросил Юра.
Он пожал плечами:
– А что? Человеку не так много нужно. Звездное небо, сигарета, – произнося эти слова, индеец бережно прятал нашу сигарету во внутренний карман.
– Боже… Вы заболеете. Ночью будет под минус двадцать.
– Тогда, может, вы подскажете место, где тут можно встретить Новый год?
– Лучшего места, чем с нами, ты не найдешь, – сказал Олег.
Расплатившись, мы нагрузили индейца пакетами и двинулись в Озерки.
Троллейбус шел битком. Разные по конфигурации пассажиры, будучи в плотной пригонке, вминались друг в друга, взаимно преображая плоть. Сумки застревали в стороне, между чужими телами, связывая и без того литую толпу какой-то дополнительной внутренней тягой. Несмотря на это, на второй от метро остановке в троллейбус втиснулось еще прилично людей – в основном пожилые дамы с покупками. Индеец, во всю дорогу до Озерков не проронивший ни слова, вдруг спросил:
– Кто эти старухи?
Дышалось трудно. Полы пальто засосало в прощелины человеческого фарша. Но я все-таки отозвалась:
– Как это кто? Ветераны войны, труда… коренные жительницы.
Троллейбус остановился. Несколько человек вышли. Но партия готовящихся войти казалась большей по размеру. Опять пожилые женщины, затрудненные винтажными авоськами. Они карабкались в салон, как козы в крутую гору. Казалось, тугая внутренняя среда непроницаема. Но стоило какому-то сильному человеку надавить на бабушек сзади, и вся группа врубилась внутрь. Двери закрылись. Троллейбус тронулся. Я очень осторожно пыталась вывернуться в естественное положение относительно оси позвоночника. Хотелось хотя бы чуть-чуть высвободить легкие от стеснения ребер. Было даже немного страшно. Троллейбус остановился. Монолитная начинка его на мгновение накренилась. Двери открылись, и раздался вопль:
– Блядь! – крик поразил. Все мои внутренности опрокинулись вниз, к тому же кричал не кто-нибудь, а наш индеец. – Еще одна блокадница, и нам пиздец!
До самого дома Регины мы делали вид, что не знаем этого человека. Только на лестнице мы позволили себе отсмеяться до изнеможения.
– Ну ты баран, – сказал Олег, хлопая индейца по плечу. – У вас в Москве все такие?
* * *
В новогоднем шарике отражалась молекула спального микрорайона, подожженная электрическим светом. Праздник разгорался на славу. Но около двух ночи Регина вошла в кухню с озабоченным видом. Прикрыла за собой дверь. И шепотом сообщила о пропаже кольца. Золотого. Подарок родителей на шестнадцатилетие. Девочки стали искать, заглядывать под столы и стулья, перешептываться. Посвященные в драму закрывались в ванной, совещались приватно. Протрезвевшие ледяные лица замелькали по квартире.
– Чё за терки у вас? – спросила девочек Шилоткач, откладывая гитару. – Случилось чё?
– Все нормально, – ответили ей скорбно.
В какой-то момент индеец встал из-за стола и прошел в коридор. Увидев, что он ищет в завалах шуб свой дубовый плащ, я выбежала следом:
– Куда вы?
– Пойду посмотреть город, – ответил он, тепло улыбаясь. – А то не знаю, когда еще доведется здесь побывать. Хочется увидеть бессмертную архитектуру, город-музей, Растрелли.
– Так здесь же нет Растрелли, вы в Озерках, это метро… далеко от центра, пешком не дойдете… там мороз.
– Ничего.
Он поклонился и шагнул за порог.
– Куда москвич свалил? – спросил Юра.
– Он понял, что его подозревают в краже кольца. И ушел.
– Кольца?! Какого кольца?! Блин, два ночи… О чем думают, блин, люди… Он что, совсем свалил? В смысле вообще?
Юра бросился на лестничную клетку. Лифт не шел. В подъезде происходило брожение. Соседи пели. Кто-то долго загружался в лифт площадкой выше. Двери съезжались и разъезжались вхолостую. Где-то разбилась бутылка. В пролет потекло шампанское. Даже в намертво разорванной струе продолжали агонизировать газы. Слышался женский плач. Пахло печеной бараниной.
– Безнадежно, – сказал Юра. И вдруг его осенило: – Слушай, пойдем на этот… общий балкон, черт, туда…
Дверные пружины скрипнули изрядно. Мороз обжег нас с головы до пят. Мы встали к бетонному борту. Внизу хлопнула парадная дверь. Парень вышел из подъезда и направился через двор, в сторону незастроенной пустоши.
– Эй! – крикнул Юра. – Саша!!! Вернись!
В черном воздухе расплывались фиолетово-розовые пятна света – долгое послевкусие от ожогов неба петардами. Индеец даже не обернулся. Он уверенно шагал поклоняться зодчеству в морозную ночь.
Золото нашлось: лежало под кружкой. Весь фокус был в слишком вогнутом дне. Кольцо поместилось без проблем. Никому и в голову не пришло поднять кружку и посмотреть! В полшестого утра Регина плакала на кухне. Черная тушь плыла по мокрым румяным щекам. Белые волосы потускнели, пряди слегка иссалились.
– Я не хотела никого обидеть.
Оставшиеся гости спали по комнатам вповалку. Я сносила на кухню грязную посуду.
– Перестань, ты никого не обидела, а этот парень… он вообще, если б не мы, остался бы на улице без копейки денег.
Она не унималась.
– А если утром найдут его обмороженный труп? Где-нибудь неподалеку… Господи, как иногда мы бываем слепы! – Она вытерла лицо куском туалетной бумаги. – Мы думаем о себе хорошо. Мы думаем, что поступаем нравственно, по вере. Но ведь ты понимаешь…
Я сбрасывала в мусорное ведро объедки с тарелок. Высморкавшись, Регина подняла на меня красное, натертое лицо:
– Таня, ты понимаешь, что тот, в кого мы верим, может быть, вовсе не Бог.
– А кто?
– Дьявол.
– В смысле?
– Дьявол хитер, циничен, безжалостен, он приходит к нам в образе Божием, выдает себя за Господа и соблазняет нас поклоняться ему, толкает нас совершать то, что… под видом добрых дел, понимаешь?
Она схватила меня за руки, возбужденно. Все говорило о внезапно пережитом ею прозрении:
– Так можно проверить! Проверить, в кого ты веришь на самом деле, понимаешь?
Я помотала головой в знак отрицания.
– Когда ты делаешь что-то хорошо… делаешь правильно… но, когда при этом ты становишься лучше, чем другие, когда из-за того, что ты что-то делаешь правильно, другие в чем-то виноваты или… ты их презираешь… тогда, значит, тебя подтолкнул сатана. То, что правильно, – не то, что хорошо; хорошо и правильно – не одно и то же.
– Тебе надо поспать, – сказала я. – У тебя нервный срыв, из-за усталости. Ты целый день готовила, сутки на ногах, вон уже светает. Ты когда поспишь и проснешься потом, тебе покажется все, что сейчас ты чувствуешь, незначительным.
Она прижалась головой к моему животу и снова заплакала.
– Это все из-за елки… Все из-за елки. Надо было покупать елку на улице. Я бы дала деньги.
* * *
Снег сошел, обнажив горелые петарды и зелень шампанских бутылок, брошенных по зиме. Запахло гнилой листвой. Древесиной, отходящей с мороза. Мякотью земли. В середине апреля мы с Долининым случайно столкнулись во дворе.
– Мое почтение, Татьяна. А что это вы здесь делаете?
Я показала на дом, в котором снимала квартиру Ульяна, объяснила, что часто гощу здесь, иногда ночую.
– Так, может, по-соседски заглянете вечером? Посмотрите, как я живу. Кроме того… однажды мне не удалось проявить себя, как… быть хозяином. Надеюсь, вы позволите мне реабилитироваться? Так сказать, дадите шанс… возможность доказать гостеприимство.
Я наскоро согласилась. Не помню, по какой причине. Из любопытства? Возможно, просто потому, что Долинин был красивым парнем. Вечером он отворил дверь, провел в гостиную (по совместительству – личный кабинет). Мама была дома. Но не казала носа – по словам Олега, смотрела сериал в своей комнате. (На деле чувствовалось, что он запретил ей высовываться.) Горели свечи. Коробка конфет была открыта. Не начата! Свидание? Разговор как-то не клеился. Язычки пламени отражались в полированной «стенке». За стеклом поблескивал хрусталь. Даже не поблескивал, а намекал на себя: грани фужеров играли светом едва-едва, не дыша, то ли из страха перед хозяином, то ли с отвычки за давностью употребления в деле. В дополнение к хрусталю на стеклянной полке лежала искусственная белая роза. Олег предложил посмотреть фильм. Кассета оказалась заблаговременно вставленной в магнитофон. «Легенды осени». Я села на пол, расстелив юбку по китайскому акриловому ковру. Олег жил на первом этаже. В открытую форточку было слышно, как под окнами ходят люди. Лед на дороге хрустел. Припарковывались машины. Пахло весной. Герои фильма увязали в любви. Я скучала и жалела, что пришла. За полчаса до окончания легенд мы занялись сексом. Тело Олега оказалось прекрасным. Но почему-то, кроме прекрасного тела и громкого цветового пятна (пурпурного стеганого одеяла), в этом сексе ничего больше не состоялось. Когда кончилось пиво, Олег предложил прогуляться к ларьку. Мы оделись. На улице было еще светло. Я шла в расстегнутом пальто. Прихлебывала «Балтику» из горла.
– Татьяна, не хотите ли присесть?
На мой вопросительный взгляд он пояснил:
– Тут место есть одно, очень уютное, э… скамья, там, беседка… мы поболтаем с вами о том о сем.
Я пожала плечами. Долинин повел меня в один из соседних дворов. Дорогой он приумолк, как-то нервически, будто опаздывающий человек, мыслями весь находящийся в точке прибытия, напряженно примеряющий расстояние ко времени и потому потерявший контакт с миром внешним. Вечер становился все неприятнее. Никакой беседки на месте не оказалось. Так, пара детских качелей и заплеванная скамья. Мы пили пиво. Долинин рассказывал о будущем – о том, как по окончании университета станет три шкуры драть за выдачу разрешений на перевоз культурных ценностей через границу. Взятки Олег представлял в виде толстых котлет бумажных купюр. Ритмично пиная ботинком остаток обледенелого черного снега, Долинин грезил о Харлее. Около десяти мы наконец разошлись по домам.
Спустя пару дней я описала наше «свидание» Юре.
– В этом дворе живет лучшая Верина подруга, – ответил Юра, и все встало на места. Долинин затеял пустое, натянутое рандеву ради того, чтобы попасться кому-то там на глаза. Он хотел, чтобы Вере передали: Долинин гулял вечером с девушкой. Меня одолела тоска.
– Знаешь, мы с ним недавно тут курили, и… мне так не понравилось… – сказал Юра. – Он упомянул, ну так, типа, вскользь, что видел Веру на дне рождения общего друга. Говорит, она стала плохо выглядеть, опустилась. Блин, ну зачем это делать? – спросил Юра с горечью.
Я даже не сразу поняла, что именно его так раздосадовало.
– Зачем делать что?
– Зачем он говорит о ней плохо? Ну расстались, поссорились, ну все понятно, ну встретил ее где-то там, в компании, ну была она не причесана или что там, я не знаю, круги под глазами, цвет лица… Но зачем рассказывать?
В данном эпизоде всего более меня поразил следующий факт: если бы нечто подобное о Вере от Долинина услышала я, то не сочла бы сказанное непорядочным. Просто не обратила бы внимания. Возможно, позлорадствовала бы. В сказанном я почерпнула бы информацию только о Вере. А вот Юра почерпнул информацию о Долинине – сплетнике, молодое слепое самолюбие которого уязвила любимая женщина. Пример видения реальности в объеме был тут же подхвачен мною на вооружение. Однако впоследствии выяснилось, что способность Юры нельзя просто взять и перенять.
Вечером Олег поинтересовался моими планами: не собираюсь ли я опять ночевать у Королевой и не нужно ли меня проводить после занятий домой. Вместо ответа я спросила:
– Почему ты не объяснил мне, зачем мы идем в тот двор? Мог просто сразу попросить, я бы и так сходила с тобой, если надо засветиться.
– Вы очень странная девушка, Татьяна, – ответил он грустно.
* * *
Хорошие преподаватели на факультете искусств были редкостью. Помимо штатников кафедры, нас учили приглашенные специалисты – художники, музейщики, этнографы. Они бубнили, бредили наяву, не понимали, что делают и зачем. По сути, им было плевать на каких-то чужих малограмотных детей. Некоторых отличало разве что особое зверство – они цинично проваливали нас на экзаменах, например, за непримечательную ограду, неверно названную по снимку элемента ковки (длиной в полсантиметра). Преподаватели вели себя так, полагая, что жесткими методами искореняют невежество. На самом же деле они не искореняли невежество, а всего лишь защищались от него – охраняли свои искусства, расистски отметая и вместе с тем отвращая от искусства тех, кто не собирался отдаваться ему в служение.
Адриан относился именно к таким педагогам. Он любил литературу фанатично, считая свою любовь чем-то вроде нормы жизни или человеческого долга. Неспособных жертвовать собой ради литературы он держал за жвачных животных, годных только для унижения их полноценными людьми. Таким отношением Адриан добился ничтожно малого: все, кто хотел получить у него что-нибудь получше тройки, с придыханием изображали маниакальную страсть к какому-нибудь Шиллеру, не особенно располагающему к эмоциональным потрясениям, тем более двадцатилетних. Будучи по природе лицедеем, Истрин неосознанно воспитывал в учениках лицедеев, разводя нас с дипломом и скармливая наше будущее недрам лжи.
Адриан Григорьевич обожал шокировать. Особенно первокурсников. Вдруг, на двадцатой минуте лекции, он лез в карман, доставал пачку Мальборо, усаживался поудобнее, клал ноги на стол (не переставая говорить), медленно разминал сигарету и закуривал (хотя это было строжайше запрещено). Студенты не верили своим глазам. Как?! Ректор ненавидел табак до трясучки. Еще на первом году моего обучения курильщиков согнали с лестниц поганой метлой. Мы коптились в пятиметровых курилках, коих было, кажется, всего пять на весь главный корпус величиной с город. За сигарету в аудитории Истрина могли уволить, вышвырнуть как собаку. Но это только подслащало удовлетворение от эпатажа. Адриан хотел, чтобы первокурсники поняли: он здесь король. Он – король университета. Король Санкт-Петербурга. Служитель искусства. Член ордена. Человек, пожертвовавший себя делу без остатка и получивший взамен свободу. Он давал понять: вот что имеет истинный адепт; отказавшись от себя, вы получите целый мир, в котором сможете устанавливать правила по собственному вкусу. Кроме того, в момент эпатажа Истрин, конечно, эякулировал, глядя на растерянных, недоумевающих девственниц, прибывших учиться из далеких сибирей.
Как-то речь зашла об «Испанской трагедии».
– Под пером Кида кровавая резня стала философской драмой нравственного возмездия, – Истрин нервно расхаживал перед доской, широко дирижируя собственными мыслями. – Жажда мести приводит Иеронима к безумию. Впервые в английской трагедии появляется человек совершенно сумасшедший, безумие выступает как страсть! Создан образ злодейства без границ!
Остановившись, он чуть ослабил узел шейного платка, восстановил дыхание и продолжил:
– На грани коллапса, охваченный болью, Иероним отправляется на поиски убийцы сына. Он обходит множество городов и стран.
Адриан снова забегал. Говоря, он то и дело оттягивал платок от горла, а потом и вовсе развязал его и, резко рванув, отбросил куда-то в угол. Оторвав от тетрадного листа небольшой кусочек, я написала на нем: «я вся такая противоречивая» и подложила Юре. Тем временем Адриан перешел к декламации.
– Старик, ты стань моим Орфеем; коль не сыщешь нот для арфы. Пусть звук исторгнет боль души, пока мы не упросим Прозерпину мне право мести за убийство сына даровать. Тогда я всех порву!!!
На последних словах, испустив истерический вопль, Истрин неожиданно запрыгнул на учительский стол. То есть встал ногами. В ботинках! Причем не в каких-нибудь сандалетах, а в громоздких «тимберлэндах», поутру месивших весеннюю грязь. Так называемая тракторная подошва была грубо припечатана к желтоватому ламинированному ДСП.
– Вот так и так! И эдак! И загрызу! И прожую, и выплюну потом!!! – кричал он, стоя на столе и энергично разрывая какие-то бумаги в мелкие клочья, летевшие в лица сидящих за первыми партами.
Юра подсунул мне мой же кусочек бумажки, на котором под цитатой из фильма было дописано «пидор?». Но Адриан не был геем. К концу второго семестра его любовницей стала наша однокурсница Марина Зуйкович. Красивая, яркая девушка. Медалистка. Воительница. Общественница. Она красила губы алой помадой и в честь собственного имени носила аквамариновый плащ. Зуйкович обращалась к Адриану на «ты». И делала это с апломбом. Разумеется, они афишировали связь – приезжали в университет вместе и, подходя к центральному входу, держались как пара, у которой недавно был завтрак, а перед завтраком секс, третий по счету за последние восемь часов. Я не общалась с Мариной. За годы мы перемолвились, может быть, парой слов. Но во всю жизнь мне не забылись ее активные духи, броские косынки и шум, производимый энергичной, уверенной походкой, – шум, причиной которого могли быть только слои сотни нижних юбок под кринолином, но на самом деле были всего лишь две полы зеленого расстегнутого плаща.
* * *
Неплохой общий язык с Истриным сложился, как ни странно, у Королевой. Они сошлись на почве кино. Как выяснилось, Ульяна была помешана на кинематографе.
– Феллини сделал очень важную вещь, – говорила она.
Я плохо представляла себе, о ком идет речь, но инертно спрашивала:
– Какую?
– Понимаешь, вот, скажем, человек поскальзывается на банановой шкурке или… задумался и, допустим, врезался в столб, ну что-то такое, и всем смешно, да? А если человек ломает спину? Уже не смешно. Все осознают его боль, ах, боже мой, все смотрят на человека с поломанной спиной и понимают, что это может случиться с каждым – завтра, послезавтра, через час, понимаешь, всем страшно и невыносимо. О банановой шкурке все позабыли. Так вот, Феллини проследил цепочку событий, предшествующих перелому спины, и, можешь себе представить, Таня, оказалось, что на каждом этапе событий, ведущих к трагической развязке, человек вел себя как полный мудак, он выглядит смешно, понимаешь? Перелому позвоночника предшествовала банановая шкурка и глупое падение. Трагический результат – это конец цепи комических эпизодов. Феллини показал это.
Вдруг она опомнилась:
– Ты слушаешь меня?
Я кивнула.
– Ты… ты смотрела Феллини?
Я помотала головой.
– Как же…
Она тяжело вздохнула.
– Почему же ты кино не смотришь? – спросила она. Вопрос прозвучал так, будто речь шла о моем нежелании учиться читать.
Королева решила начать с культа. «Завтрак у Тиффани». Два «Оскара»! (Как будто для меня это могло иметь какое-то значение.) Приехав к Уле после занятий, я вымыла руки, переоделась в домашнее, распустила волосы и, прихватив пару бутербродов, нехотя села перед экраном телевизора, которым холостяцкая одиночка дополнилась к весне – дела у моей подруги шли в гору: помимо телевизора, она приобрела видеомагнитофон, музыкальный центр, гладильную доску, утюг с паром, кое-что из посуды, раскладное кресло для гостей (меня), с полторы сотни книг и несколько десятков видеокассет. Феллини, Бергман, Куросава.
«Завтрак у Тиффани» не произвел на меня никакого впечатления. Всю ночь мне снилась Одри Хепберн и то странное комплексное чувство, которое внушал ее гений, – чувство тревоги за нее, чувство тревоги против нее и чувство собственной громоздкости на фоне ее маленького живучего тела.
Утро выдалось добрым. Солнечный май. Полная ясность неба. И этот характерный, столь болезненно скоротечный, неудержимый, сахарно-зеленый флер на деревьях – туман, на миг задержавшийся в ветвях, – молочный лист, налетевший на кроны роем. Улица манила поближе к себе, звала залезть к весне под платье. Не став сушить голову после душа, я разодрала волосы гребнем и прямо мокрыми заколола в тугую кичку. Выпила крепкого чаю с лимоном. Надела клетчатую юбку и голубой свитер с одной широкой поперечной розовой полосой на груди. Отражение в зеркале глубоко удовлетворило меня. Цвета спектра «Столовой» Кандинского животворили дух. День начинался ладно. Ульяна спала (решила идти ко второй паре). Стараясь двигаться как можно тише, я прошла в прихожую, обулась в легкие летние лодочки и повернула ключ в замке. В это же мгновение железная рука схватила меня за горло. Понимание того, что именно происходит, отставало от реальных событий на пять – десять секунд. Сначала я почувствовала хват на шее и только потом поняла, что схвачена рукой, которая пробилась в щель меж стороною проема и краем отпертой двери. Один в один детский кошмар. Пальцы, не просто сильные, а какие-то неорганические, твердокаменные, сдавили мое горло с механистическим бесчувствием, как сработавшие створки турникета или двери вагона. Рука принадлежала человеку в маске. Удушая, он протащил меня в комнату, повалил на пол, зажал мне рот. Взглянув в сторону прихожей, я увидела две ноги. «Мартинсы». Ворвавшихся было двое. Дверь захлопнулась.
– Дай вон ту тряпку, серую, – сказал Первый, тот, что держал меня.
Второй бросил ему жилетку. Первый поймал ее с лету. И сел на меня, прижав своим весом. Клинч оказался таким же мертвым и императивным, как хватка пальцев. По мне будто отлили металлический гроб.
В области зеленого дивана происходила возня. Второй управлялся с Ульяной. Но прежде, чем я успела обдумать это, Первый приставил к моему горлу нож. Туго свернутая кичка мокрых волос теперь давила в затылок, как камень. Будто я лежала на дне ручья.
– Слушай внимательно, – сказал он. – Сейчас я уберу руку, ты сможешь говорить и дышать. Но если заорешь, порежу. Поняла?
Я моргнула. Он убрал руку. Обернул мою голову серой жилеткой. А поверх густо обмотал скотчем, оставив небольшую дырочку для носа и рта. Покончив с головой, он повернул меня на живот и, заведя мои руки за спину, обмотал скотчем запястья. Затем перешел к ногам. Я ничего не видела. Стоял страшный треск от резко разматываемой липкой ленты.
– В квартире нет денег, – говорила Ульяна.
– Туфту гонять не надо, – отвечал Второй.
– Хули ты базаришь с вафлисткой? Утюг включай, – прошипел Первый.
– Боже! – взвыла Ульяна. – Да нет здесь денег! Не-е-ет!
– Заткнись, сука.
Судя по звуку, Ульяна получила по лицу. Первый поднял меня с пола и бросил на кресло. Я почувствовала, что он отошел взглянуть на плоды своего труда. По всей видимости, картина удовлетворяла.
– Короче, раскладка такая, – начал он, выдохнув, как бы отряхивая напряжение с натруженных мышц. – Телефон твой слушали неделю, ходили за тобой три дня, знаем, что бахар тебе отвалил десятку, мне время терять не в цвет, ты говоришь, где деньги, и мы уходим.
– Денег нет.
– Денег нет? – спросил Первый, приходя в бешенство. – А на что ты газовала с блядями в китайском ресторане? На Итальянской в среду зависала, ты хавальник набивала с четырех до семи! Слушай, мы по майданам не бегаем, у нас своя работа, если я здесь, значит, и деньги здесь. Или ты думаешь, что я за золотыми часами пришел?
Они крушили квартиру на винегрет. Отворяли дверцы, выгребали нутро, швыряли на пол бумаги, белье, посуду. Высыпали из мешков фасоль и сою (влияние Женечки). Вспарывали подушки. Пинали книги. Я слышала, как бьется стекло, трещат ткани, рвутся тетради. Я чувствовала, как «мартинсы» топчут субтильные Ульянины платья, вываленные из шкафа на пол. «Живанши», «Труссарди», «Армани». Все, что она так любила. Пока я заслушивалась звуками апокалипсиса, ко мне постепенно возвращалась чувствительность. Оказалось, в кулаке я зажимаю ключ. От квартиры. Конечно! Значит, еще до вторжения железной руки я успела вынуть ключ из замка. И не выронила – очевидно, рефлекторно сжала кулак. Я не знала, зачем мне в такой ситуации ключ. Но по наитию разжала пальцы, выпустив его, как рыбку, в щель между сиденьем и спинкой раскладного кресла. Ключ тихо провалился в недра. В аффекте мне показалось, что я услышала, как он сказал: прощай. Мысленно я ответила. Будто это был последний мой провожатый на территорию агрессивно распростершего объятия небытия.
Выпотрошив квартиру, грабители взялись за утюг. Первый угрожал. На слух я изо всех сил пыталась понять, насколько близко он подносит утюг к телу Ульяны. Она кричала.
– Господи! – говорила она, хрипя, со слезою в голосе. – Да почему вы такие тупые?! Мальчики, вы не понимаете?! Деньги в банке. Не в консервной. Банк! Вы знаете такое слово?! Блядь, передайте своему хозяину, что ему надо было окончить хотя бы восемь классов! Псы!!!
Она снова получила удар, на слух – весьма хлесткий. Но, кажется, «мальчики» приуныли. Сквернословя, они побродили по разгромленной квартире еще минут десять. С кухни послышалось:
– Обеих?
– Да, поникаем и валим.
Я не понимала, почему они так смешно разговаривают. Это производило впечатление дешевой постановки. Будто, затеяв воскресный спектакль на веранде, бандитов изображали творческие дачники, которые, по случаю прикрываясь ролью, давали волю всему дерьму, каким обладали втайне от самих себя. Почикаем! Я прямо-таки залилась краской. В общем-то, речь шла о нашем убийстве. Но это не мешало стыдиться текста, которому впору было быть написанным детской, наивной, некрепкой рукой, не ведающей правды и тяжко угадывающей ее через слова. Я подумала о маме, о телеграмме, которую она получит. И вспомнила книгу Моуди, валявшуюся во времена перестройки в каждой квартире. Бумажная потертая сиреневая обложка. Увижу ли я белый свет в конце туннеля? Послышался звук расстегиваемой молнии. Похоже, они укладывали в спортивную сумку музыкальный центр и видеомагнитофон. Мучило то, что на слух никак не получалось ясно определить, где это происходит. Как близко? Сколько шагов отделяет меня от человека с ножом? Раскалывающей рассудок несправедливостью казалось то, что я лишена права увидеть расстояние до палача и определить точку отсчета до моей последней минуты. А что если я не почувствую приближения? Не услышу чужого дыхания? Не смогу ощутить изменения температуры и запаха? Что если он уже рядом? Сейчас склоняется надо мною? Что если лезвие ножа в сантиметре от моей кожи? А я сижу и даже не подозреваю об этом, как маленький шелковистый щенок, спящий в корзине, несомой к реке, уже уготованной принять его в бурые воды волей теплой и твердой хозяйской руки.
– Давай эту почикаем, а малую – оставим.
Первый ответил:
– Да на хуя геморроиться с лярвой, бог все видит, крысу помажет, я руки пачкать не хочу.
– Может, на хор ее поставить?
– Ага! – возразил Первый со всей доступной ему степенью иронии. – И на конец себе наварить?
Они довольно захихикали. Ехидно, как пятиклассники, ощупью совершающие первые корявые шаги в утверждении собственного превосходства над недолюдьми.
– Короче, трогать вас не буду, – сказал Первый, придав своему голосу немного дикторского официоза. Он презентовал финал:
– Провода перерезаны. Все ключи у нас. Дверь закрываем с той стороны. Сдохнете и так через три дня, в говне.
Застегнув сумку, они вышли несолоно хлебавши, не подозревая еще, что уносят с собою двух «Оскаров», оставленных с вечера в магнитофоне. Хлопнула дверь. Ключ повернули три раза. Мы остались одни. На меня моментально снизошло высочайшее вдохновение – какой-то разворот внутренних крыл, напоенных соком свежей силы.
– Уля! Не волнуйся, сейчас… все будет.
С уверенностью физически всемогущего человека я начала отводить запястья друг от друга. Странно, но лента поддавалась! Скотч растягивался. В конце концов я вывернула руки из обмотки. Сорвала с головы кокон, допрыгала до дивана и сняла с глаз Ули повязку.
– Ты цела?
– Да, – ответила она. И в этом «да» я услышала все, включая просьбу о прощении, благодарение Богу и надежду на то, что сила, позволяющая верить в будущее, не убыла сегодняшним числом ни на микрон.
Я привстала, намереваясь отпрыгать в кухню за ножом, но Королева протянула ко мне связанные руки и удержала за юбку.
– Таня, я хочу, чтобы ты услышала меня и приняла то, что я скажу тебе сейчас, максимально близко к сердцу.
– Ну, так это… я хочу за ножом, чтобы разрезать скотч, я сейчас, минуту…
– Нет. Постой. Сядь, успеется разрезать. Ты должна услышать это сейчас, немедленно, это важно, – она тяжело дышала, будто только что финишировала на стометровке. – Они не собирались нас убивать. Запомни это на всю жизнь. Они могли бы нас убить в случае экстренной необходимости. Но в принципе – не собирались. Это люди моего мужа. Он послал их не убивать, а наказать, поиздеваться.
– Почему они так дурацки разговаривают? Неестественно как-то…
Я рассмеялась.
– Потому что они умственно неполноценны. Это ограниченные, жестокие, зависимые существа. Они делают то, что им говорят. И говорят то, чему научились в стае. Они не умеют складывать слова в произвольном порядке. Они даже не знают, что у них есть такая возможность. Они не знают, что язык дан им для выражения собственных мыслей и желаний. Они думают, что язык существует в виде готовых связок, а жизнь – в виде готовых ситуаций, обязывающих к произнесению строго определенных фраз. Это ходячие мертвецы.
Она посмотрела мне в глаза:
– Я все сказала. Можешь прыгать за ножом.
– Ага.
– Боже мой, как нам выйти теперь отсюда?
– Есть ключ! – сказала я бодро, подивившись собственной нахлынувшей веселости.
* * *
Часам к пяти мы с Юрой управились с погромом.
– Напрасно вы затеваетесь с платьями, – сказала Ульяна вяло. – Я не буду их надевать, ни под каким предлогом, ни после какой химчистки. Можете вынести их на помойку.
Весь день она провела на диване – по обыкновению (относящемуся к тяжелым жизненным ситуациям) лежала на животе, в позе Федры, рукой помогая лобной кости препятствовать разрушительной силе мысли. Слесарь врезал новый замок. Юра домывал полы. Я протирала книги, разглаживала мятые страницы. Чайник кипел. Четыре мешка ошметков уже отлеживали свое в мусорном баке.
– Может, попьешь с нами чаю? – спросила я. – Юра привез зефир.
– Нет, благодарю, – она даже не обернулась.
В шесть приехала Зубарева. Та самая Лилька.
Старшая в смене. Квартира наполнилась запахом глубоких духов. Трением шелка. Хрустом дорогого сукна. Скольжением тяжелого жемчуга по глянцу блузки. Зубарева повесила пиджак на спинку стула. И, вымыв руки, долго вытиралась. Все перехватывая и перехватывая уже давно сухими пальцами полотенце, она смотрела на Ульяну, вышедшую к столу в ночной рубашке. Ссадина на скуле растягивалась аж до уха. Щека чуть вспухла, несмотря на лед, который мы с Юрой скололи со стен морозилки. Не зная, с чего начать, Лилька достала из маленькой твердой сумочки золотую зажигалку. Я разливала чай по оставшимся целыми чашкам. За распахнутым окном занимался вечер. Запах цветения и асфальта. Салатовая пена на деревьях перецветала в мятный. Я слышала Баха. Хоральная прелюдия будто бы доносилась из глубины земли. Но земля при этом вращалась внутри меня. Поэтому, кроме меня, музыку никто не слышал. Петербуржцы покидали универсам и наторенными тропами возвращались домой, к обиходу. Меня занимали Лилины губы. Они сочились росой. Налитые, как дольки мандарина, аккуратно очищенные от пленок, только розовые, они были не покрыты помадой, а мироточили ею. Тонкая сигарета, взятая в их лоно, готова была растаять. Зубарева прикурила. Откинутый колпачок зажигалки элегантно щелкнул в тишине. И в этот же момент Ульяна, до сих пор рассматривавшая пол, отчетливо произнесла:
– Он украдет детей.
Ее воспаленные глаза вмиг обильно налились слезами.
– Лиличка, что же делать? – прошептала она как-то странно, с взвизгом, будто ее внезапно прорезала боль в животе. Сгорбившись, она скомкала руками подол.
Зубарева тут же прижала к пепельнице бычок и знаком показала нам с Юрой уйти. Мы поспешно встали. Дверь захлопнулась. И сразу за тем в кухне раздался нечеловеческий адский крик. Ульяна металась в замкнутом пространстве, как дикая птица. Добивала остатки посуды. Колотила в застекление двери.
– Пусти! Пусти меня!!!
Я уткнулась в колени и закрыла уши руками. Но эти вопли пронизали не то что ладони – стены. Дом раскалывался. Мне представлялось разъятие материи. Проходя через препятствия, звуковая волна разобщала молекулы. Даже через подушку, которой я накрыла голову, было слышно, как Ульяна кричала, захлебываясь слезами и слюной.
– Почему?! Как я могла так поступить с собой?! Как я могла выйти за него замуж?! Как я могла так поступить с собой?! Мой бедный папа, мой бедный папа, Лиличка, мой папа! Он все видел, он видел оттуда, он видел, как я совершила над собой надругательство, он видел, как я выбрала именно этого мужчину, господи, какой позор, какой позор, какую боль он испытал, увидев, что я сделала с его любимой дочерью, господи…
Наверное, истерика продолжалась не более пяти минут. Но мне казалось, что я сижу под подушкой час. Сижу под дверью стоматологического кабинета и слушаю, как за стеной человека сверлят живьем с головы до ног. Когда же сумятица на кухне наконец прекратилась, Зубарева выглянула к нам. Блузка ее была надорвана, прическа растерзана. Бусы запрокинуты за спину. Она протянула Юре свой кожаный надушенный сбитый бумажник и отослала нас за водкой.
На следующий день Ульяна уехала в Старую Руссу. Зубарева нашла для нее квартиру в центре. Улица Марата. Ворота во двор на кодовом замке. Консьержка. Цветы в парадной. Две просторные комнаты. Кровать для няни. Газовая колонка. Ванная с окном. Мы с Юрой упаковали коробки за пару дней. К приезду семейства поставили в вазу большой букет сирени. В университете я появилась только спустя неделю после вторжения. И сразу же столкнулась с Истриным в полупустой столовой. По неловкости мы сели за один стол. Адриан Григорьевич смотрел на меня мрачно. Я портила аппетит.
– Вас не было на прошлом занятии.
– Угу, – ответила я с набитым ртом, прихлебывая сладкий чай. – Я плохо себя чувствовала, очень.
– Вы принимаете наркотики? – спросил он.
– Нет. Никогда не принимала. Я против наркотиков.
– Просто… В вас есть что-то… Почему вы всегда себя так ведете? – спросил он неожиданно простым, человеческим голосом, не сценическим, без подачи и широты, спросил, разламывая черный хлеб.
Я не знала, что отвечать. Мне хотелось побольнее уязвить его. Отомстить ему за гордыню, самоуверенность, самовлюбленность. За неуважение к юным, в особенности – к женщинам. Случай выпал более чем подходящий. Кто знал, доведется ли когда-нибудь еще оказаться в частной беседе? По наитию я прицелилась в самое воспаленное место.
– Я очень люблю секс, – сказала я. – Часто меняю партнеров, пробую… Много времени провожу с мужчинами. А секс дает много энергии, сами ж, наверное, понимаете.
Он перестал есть. Откинулся на спинку стула. Погасил дьявольский взгляд. И посмотрел на меня из глубины глазниц.
– У вас проблемы с учебой, – сказал он тихо.
Я молча обмакнула кусочек хлеба в остатки майонеза.
– А зачем вы вообще учитесь? Зачем вам университет? Если так уж тяжело… Какой смысл тратить годы?
Мы помолчали еще некоторое время.
– Зачем вы мучаете себя и нас?! – воскликнул он.
– Не знаю, – ответила я. И это была чистая правда.
Спустя пятнадцать лет я случайно услышала от бывшего однокурсника, что Адриан и Марина поженились, а на восьмом году счастливой совместной жизни почему-то погибли. Остались ли у них дети? Я не спросила. Кроме того, спустя те же пятнадцать лет, читая «Испанскую трагедию», я с удивлением обнаружила, что старик Иероним не исхаживал тысячи городов и стран, а перерезал врагов, не отходя от родного дома. Сначала это вызвало улыбку. Бедный Истрин! Задним числом он оказался обыкновенным полусведущим любителем, шарлатаном, поленившимся прочесть недопереведенную Аникстом трагедию до конца, а может быть, не удосужившимся прочесть ее вовсе. Это было смешно.
Забив имя Адриана в поисковик, я узнала из его биографии, что после армии он три раза поступал в театральный. И все три раза Истрина не приняли «из-за слишком красивой, броской, вычурной внешности». Через неделю, после некоторых размышлений, я поняла, что он читал и Аникста, и всю трагедию целиком на языке оригинала. Он читал, переводил, любил. Он шел по тексту с закрытыми глазами. Да. Но тогда, на лекции, он просто наврал нам. Элементарно наврал. Истрин гнал гофмаршала по миру, подальше от испанского двора, чтобы тот, охваченный безумием, волочил пенный язык по чужой земле, выбивал неизвестные двери, рыскал по площадям, рынкам, турнирам, опрокидывал столы, задирал юбки, рубил портьеры, искал, искал, искал и находил врагов, и доставал из щелей, и без устали резал, и кромсал из них кипящий кровью мясной тартар. Адриан был актером. Несчастным актером, сосланным в беззвучный, плоский, черно-белый, измельченный мир текста. Ожидая, пока мы спишем с доски, Истрин смотрел в окно и видел там вместо нашего пустыря правый берег разлившейся Темзы, столпотворение на мосту, медведей, бьющихся на арене в глубокой грязи, и флаг, поднявшийся над театром «Роза».
Глава V
– А… вызвать такси… как? – спросила я.
Она воспылала:
– Ты вообще меня послушаешь когда-нибудь сегодня?
Бровями Ульяна изобразила эдакий взмет ястребиных крыл.
– Няня вызовет такси! Ты вообще не должна думать об этом! Ты должна забрать детей, сесть в машину, доехать, расплатиться – всё! – Королева встряхнула тетрадным листком. – Но не всё!
На листке красовался план. «1) 9:00 – быть у няни; 2) не забыть пакет; 3) 9:15 – сесть в такси; 4) расплатиться по счетчику („счетчику“ – подчеркнуто двумя чертами)». И так далее. Двадцать два пункта. Ульяна улетала в Москву. Клиент предложил сопровождать в столицу. Три дня. В один из которых ко всеобщей сумятице у няни возникла «ситуация». Близнецы оставались мне. Транспортировка, кормежка, досуг. Ничего сложного. У тебя все получится. Очень спокойные мальчики. С девяти до девяти. Всего-то – полдня! Суп в холодильнике. Котлеты в кастрюле. Первый звонок из Москвы – в шестнадцать ноль-ноль. Два прозвона по одному гудку. На третий можно снять трубку. План расписан до мелочей. Все продумано.
– Таня… Танечка! – Королева вцепилась в мои запястья. – «Чип и Дэйл» – ровно четыре серии. И ни серией больше. Ни минутой больше! Ты слышишь? Никаких уговоров… Даже если они начнут отгрызать свои руки у тебя на глазах!
Она прослезилась. Панический страх трехдневной разлуки. Вернее, страх расстояния. Вдруг что-то пойдет не так? Из Москвы горло беде не перегрызть. В течение часа до места не доберешься. Уже в самолете руки, отнятые от пульса, начнет крутить от тоски. Она сплела пальцы и заломила кисти, изжимаясь всем телом. Пойми, я доверяю тебе жизнь моих сыновей. Ну что же здесь непонятного. Однако вся эта история немало тревожила: все лето я провела в деревне у бабушки, с детьми Ульяны знакома была пока только вскользь – один раз мы ходили в кафе на Рубинштейна, поели мороженого, но из этой беглой встречи я вынесла скудные впечатления: мальчики показались замкнутыми и красивыми. Прямые соломенные волосы. Чуть удлиненные стрижки. Белая кожа. С собой – тетрадки и цветные карандаши. Когда один из них захотел в туалет, к моему изумлению, Ульяна сказала: «Терпи». К чему такая строгость? Но, разумеется, я и не подумала совать нос в чужие дела.
В первую ночь Улиной командировки близнецы оставались у няни, на Васильевском. Мне поручалось забрать их утром, доставить домой и провести с ними день. В час икс я прибыла по адресу. Биржевой переулок. В квартире пахло ухоженностью, завтраком и утюгом. Опрятная, поджарая, чернявая няня одевала детей. Зеленая клетка – Антон. Вишневая – Глеб. Все просто. Переживать не стоит.
– Я б и не поехала, это самое, чего мне ехать, но без моей подписи они дочери не поставят это… и вчера ездила, такая бюрократия, а вчера у меня внуки, поэтому она этих сюда, иначе не успевали, и вот сегодня опять, так я еще предупредила ее, еще когда… она вроде сказала: езжай, а тут это… ну, ты не волнуйся, ничего, я приеду, и поедешь, а то, может, останешься, там я наготовила, все чистенько, увидишь… Так-то они не шкодные, мамка у них строгая… показать тебе, как отличаются? По уху можно…
Женщина наметанным жестом взялась за голову мальчика и костистой куриной рукой зачесала белые волосики, показав кроткое ухо. Вникать не хотелось. Идея казалась неудобоваримой.
– Они же в разной одежде, – возразила я сухо.
– Ага, в разной. Вот и в разной. А то разденутся? Запутают…
* * *
Таксист бесился. Высовывался в открытое окно. Тельняшка его задиралась, отвлекая прицел на кожу рыжеволосой спины.
– Млять… Авария, наверное, – предположил он уже в пятый раз.
Мы волочились по набережной Макарова минут двадцать. Метр за метром. Трогались, тормозили. Трогались, тормозили. Сентябрь выдался жарким. Машины разогревались в давке. Терлись боками. Блестели на солнце. Ползли на брюхе, как стадо ластоногих. Воняло бензином. Железные увальни психовали, дергались, рычали всем телом. Их мучил внутренний зуд – зуд с внутренней стороны атома: для того чтобы почесаться, им пришлось бы сначала содрать с себя всю кожуру, а затем и вовсе распасться ядерно, прямо здесь. Предощущение пекла угнетало.
– А мы скоро приедем? – спросил Глеб.
– Чё за… мля… там авария, наверное… Как же достали чмошники…
Таксист не понравился мне еще больше, чем няня. Хабальная тварь ерзала в водительском кресле. Била рукой по рулю. И в конце концов все-таки вдавила клаксон по самые гланды. Волга взревела на ровном месте, сигналя неподвижным машинам, носами упирающимся в зады таких же неподвижных машин. Этим звуком можно было счищать зубную эмаль. Я посмотрела на детей. Глеб равнодушно глядел в окно. А вот Антон сполз к самому краю сиденья, обмяк. Наподобие тряпичной куклы, уперев подбородок в грудь, он смотрел в одну точку, где-то на спинке переднего кресла. Глаза малыша слегка затянуло мутно-голубоватой пленкой – как случается у засыпающих сидя котят.
– Тебе плохо?
Он молчал.
– Еще долго ехать? – спросил Глеб.
Я тронула Антона за плечо. На ощупь он оказался совсем маленьким.
– Что с тобой? Приятель, ау, поговори, пожалуйста.
– Сейчас я буду бокать, – ответил он одними губами, не шелохнувшись и не сводя глаз с далекой планеты.
– Его тошнит, – Глеб разъяснил четко. Таксист тут же вывернулся из штанов.
– Э-э-э, девушка, я на это не подписывался, за химчистку салона будете платить, мне эти напряги не надо, я на детей не подписывался… я только вышел на смену, я этим всем дышать не собираюсь, вы мне на целый день этой байды…
– Сейчас я буду бокать, – повторил Антон.
– Остановите машину.
– А она что, едет, что ли? Х-хе, эт-что, Европа? Вы же видите, мля, какое… еще неизвестно, что на мосту, я полдня потеряю по такой хери…
На подъезде к Биржевой площади он кое-как прижался к тротуару. Я высадила Антона. Малыша тут же вырвало. Завтрак сверкал на асфальте. Зеленое клетчатое пальто пострадало. Глеб стоял рядом.
– О, зачем же ты вылез?
– Дядя сказал.
Водитель, растянувшись оборотистым телом, пролег через пассажирское кресло и выставил наш пакет из салона. Игрушки попадали на дорогу. Пластмассовая машинка закатилась под колесо. Что за черт? Собирая вещи с земли, я еще не осознала намерения таксиста. Он захлопнул переднюю дверь, заднюю – абсурд! Волга тут же тронулась и, хамски протолкавшись, съехала в сторону университета. Я не могла поверить. Сбежал! Посреди белого дня, заправленного золотом осеннего солнца, словно игристым лаком растительного масла.
Бабье лето. Каменная природа торжествовала. Лужа блевоты переливалась в лучах. Мы остались одни. Таня Козлова и двое сыновей опасного рецидивиста, отцом прозреваемых через стены Крестов силой тысячеокой гидры с собачьими головами. Двое ангелов! Дичь! По следу коей спущена свора тупых уголовных псов. Я чувствовала себя человеком, опоздавшим в бомбоубежище. Ближайшим укрытием мне представилась Валечка. Мошков переулок в десяти минутах. Утро. Где Валечке быть? Конечно же, дома. Покрепче сжав смирные, сполна умещаемые в моих ладонях детские ручки, я повела близнецов через Дворцовый. Нева закипала. Блеск реки резал глаза. Течения как такового не наблюдалось: хаос. Одна вода перебивала другую воду. Вода шла против воды, вода тянулась к воде, струилась через себя и прорезала саму себя струями – река просто кишела невидимыми аллигаторами.
– Жирафы! – крикнул Глеб, указав пальцем в сторону Шмидта. На горизонте чернели тонкие силуэты согбенных шей. Портовые краны.
– А скоро мама приедет?
* * *
Ванна занавешивалась клеенчатой шторой, той же, что год назад (кстати, может, не год, а все пять или десять). Цвет – классический голубой. Просторный, как небо, в складках которого блуждали бурые тараканы – беременные медведицы, щеголявшие наглостью, до дна испивавшие чашу вседозволенности, причем без всякой цели, просто так – чтоб даром не пропадала. Соседями Валечки были одни старики. Медвежья охота выходила им не по зубам. Валя, полагаю, считала жизнь насекомых неприкосновенной. А больше там и некому было блюсти людские границы. Две из шести коммунальных комнат принадлежали отъехавшим: внутренности навесных замков давно срослись; на оставшиеся четыре приходилось четверо героев блокады. Супружеская чета в девятом десятке, слепая вдова (бывшая сотрудница Эрмитажа) и владелица сразу двух комнат, собственно, Валечкина арендодатель. Старики жили по-черепашьи – смотрели телевизор в ползвука, ступали, не задевая воздух, зачерпывали суп, не касаясь ложкой посуды, а жевали так деликатно, будто боялись сквозь работу челюстей прослушать, как пища вдруг вскрикнет, принажатая слишком властным протезом.
В тот непостижимый фатальный день – фатальный в самом бескомпромиссном, бессмысленном варианте, – день, в который жизнь позабавлялась нами с тем же отсутствием цели, с которым тараканы, пользуясь немощью стариков, забавлялись излишней свободой, – день, в который жизнь поиграла нами не для того, чтобы мы что-то поняли, а только для того, чтобы поиграть, используя нас в качестве цветных передвижных кукол, – в тот запредельный день в мошковской коммуне стояла обыкновенная тамошняя вакуумная тишина. Одна вода журчала, да и то в тихом регистре, пущенная тонкой струей не по центру стока, а сбоку, с наката. Я застирывала пальто Антона. Дверь ванной болталась распахнутой. Хозяйка Валиной комнаты полола на даче и ожидалась к ноябрю. Одна из соседок шаркала мимо. В знак приветствия она едва заметно кивнула – предельно осторожно, так, чтобы в поклоне не скакнуло давление и не отвалились волосы, готовые отсохнуть в любую секунду, как пух одуванчика. Взяв в кухне какую-то баночку, старуха проследовала обратно к себе. Шагнув во мрак несуразно большого, раздутого общего коридора, она растаяла, точно брошенный в темную воду сахар. Здесь, в Мошковом, мы, заживо заключенные во чрево кита, никуда не плыли, потому что кит давно уже умер и туша его обветривалась на вселенском краю. «У тебя отдыхаешь душой», – говорила я Вале об этом.
Глеб равнодушно дергал скрипку за струны. Валечка разместила близнецов на матрасе. А сама занималась чаем. Промокая сухим полотенцем застиранное пальто, я поторапливала: надо быстрее доставить детей домой. Как ехать? Метро? Или выйти на набережную и просто поймать машину? С одной стороны, обращение к Вале не имело очевидного смысла. С другой стороны, в глубине души я верила, что Валя меня понимает. Вернее, факт непонимания с ее стороны я не считала доказанным. И говорила с ней, как с человеком, пребывающим в коме: сам шанс на то, что мои слова все-таки понимают, отнимал у меня моральное право их не произносить.
– Можно мы поиграем в крота и орла? – спросил Глеб.
Антон вскочил, раскинул в стороны руки и побежал вокруг матраса. Глеб вел его, целясь из воображаемого оружия. Через пару минут крот застрелил орла, и тот, спланировав на матрас, пал замертво. Орел лежал на спине, уставившись в потолок. Белые волосы, распластанные по простыне, напоминали лепестки хризантемы, легкомысленно сорванной и брошенной лицом вниз – сердцевиной бутона к пыльной дороге. Глеб сидел над телом, выпрямив спину.
– А в чем прикол? – спросила я.
– Тсс! – Валя приложила палец к губам. – Он сейчас в таком состоянии, как будто он подключен сразу ко всем библиотекам мира.
И вот тут послышалось это: топот. Даже не топот – бег. Складывалось впечатление, что в квартиру очередью вбегала рота солдат. Дом затрясся. Сказать, что я испугалась, – не сказать ничего. Я переживала страх, внушаемый чем-то необъяснимым. То есть не просто боялась. А еще и не знала, чего именно я боюсь.
– Что это?
– Лошади, – пояснила Валечка безмятежно.
В дверном проеме встал человек. Лет тридцати.
Короткая стрижка, черный свитер, черные брюки. Татарское сложение лица. Обычный парень. Такие, случается, курят в тамбурах электричек или переводят старушек через дорогу. Увидев нас, он как-то болезненно просиял. Изумился. Но справился с растерянностью на корню. И приветственно кивнул. Я взглянула ему в глаза и выронила полотенце. Со страха у меня отнялись руки, прямо от плеч. Мне было так плохо, как бывает только во сне. Что-то вроде паралича. Подобное случалось в младшие школьные годы: упав с яблони на спину, я полминуты не могла закричать – казалось, ударом из легких выбило воздух – весь подчистую.
– Здравствуйте, – сказал он подчеркнуто любезно.
– Здравствуйте, – ответила Валечка. Дети, обнаружив воспитание, прервали игру и, пусть наспех, но поздоровались тоже. – Хотите чаю?
– Нет, благодарю, – отказался гость. – Прошу вас, присядьте.
– Там мертвый орел, – заметила Валечка с укоризной.
– Валя! – вызвался Глеб. – Я его сейчас похороню!
Малыш схватился за воображаемую лопату. И начал копать матрас. На лбу черного гостя выступила испарина. Парень нервничал. Но в то же время демонстрировал неизвестной природы выучку: контролировал эмоции. Он повторил свою просьбу:
– Пожалуйста, присядьте, ни о чем не беспокойтесь, просто все вместе сядьте на постель и посидите немного не двигаясь.
– Где постель? Вы же видите, человек копает могилу, – возмутилась Валя.
Наконец я услышала собственный голос:
– Валя, это ограбление.
Взгляд ее был полон недоумения, доверия и тепла. Со стороны коридора слышались шаги, хлопали двери. Не особенно ясно, но вроде бы прозвучал сдавленный крик. Скорее даже не крик, а возглас. Что-то будто упало, а может, просто всей тяжестью опустилось на пол.
– Глеб, пристрели Валю, – попросила я. Мальчик нацелил палец в самое сердце моей подруги. Бах! И вторая сбитая птица прилегла на матрас рядом с охотником. Я села на краешек, подобрала колени к груди. Глеб споро копал. Татарин скрылся из проема, но было ясно, что он не ушел, а просто временно отступил. Мысли мои метались на дикой скорости от вопроса к вопросу. Зачем грабители здесь? Какие деньги искать в оскобленной изложистой раке?! Почему татарин не в маске? Каждые полминуты он вновь показывался в проеме, убеждался, что мы на месте, и вновь прятался за стеной. Естественно, в план ограбления не входили лишние люди. Ребята рассчитывали застать трех доходящих блокадников и девчонку. Вошли налегке, не стали переводить чулки понапрасну. Хотя все-таки почему? Собирались передушить стариков? А Валю? Так, заодно? Не жалко? Через таких земля не оскудеет рабочей силой? Но тут вдруг дети. Да еще и такие милые крошки. Плюс – Таня Козлова. О боже. Может, бабушек уже покромсали? А нас? На десерт? Как они собирались действовать? Перетряхивать каждую комнату по порядку? Выгребать соль, макароны, пуговицы, перо? Выдирать стельки? Резать подкладки? Шесть комнат. За полчасика вряд ли управиться. Сколько мы будем сидеть? Предположим, налетчики не убийцы. Значит, в свой черед переведут нас в соседнюю комнату. А сами изрубят на куски пианино? Порежут матрас, расщиплют вату? Будут искать носок, набитый валютой? Если мы выживем, Ульяна меня убьет. Но это не так уж и важно. Гораздо острее стоял вопрос иного характера: как мы будем смотреть в глаза близнецам? Если сейчас здесь начнется вся эта эпопея со скотчем, угрозами и утюгами… Одно дело – пережить ужас. И совсем другое – пережить ужас вместе с маленькими детьми. Господи, как же все-таки мы будем жить дальше? Останемся ли друзьями? Глеб все копал и копал с неподдельным усердием. Валя с Антоном, похоже, шерстили библиотеку Йельского университета. Последние минуты? Да неужели?! Неужели этот улыбчивый и учтивый татарский мальчик оставит после себя полную коммуналку неповинно перерезанных шей? Он снова заглянул в комнату. Я посмотрела ему в глаза.
– Ни о чем не беспокойтесь, пожалуйста, – сказал он уверенно и снова шагнул из проема.
Он не появлялся с минуту. Потом еще с минуту. В коридоре будто бы стихло. Прошло еще какое-то время, может быть минут пять. На четвереньках я отползла от матраса и попыталась выглянуть за порог. Ничего.
– Таня, нам нужна живая вода, – сказал Глеб. – Ты можешь достать живую воду? Их надо полить.
– Конечно. Только охраняй их хорошо, понял? Отвечаешь за них головой, не отходи ни на минуту, если их украдут, то они никогда не проснутся, ведь только мы знаем, как их оживить.
* * *
Дверь на лестницу приоткрыта. Тишина. Пустота. Сквозняк. Отсветы на дощатом полу. Никаких разрушений. Плащи на вешалках. Ботинки рядком. Коробки, перевязанные бечевкой, не сдвинуты ни на сантиметр. Полный порядок. Никаких признаков жизни. Как в руинах после ядерной катастрофы. Рассудок пылал. Что же здесь происходило? Украли самих стариков? Я боялась пошевелиться, но все-таки в огромном сердцебиении, задерживая дыхание, на цыпочках прокралась вглубь коридора. Дверь к вдове была распахнута настежь. Старуха замерла посреди комнаты, прямо по центру, как-то странно, не к месту, будто торшер, который забыли приставить к стене. Маленькое впалое тело остановилось в только что начатом жесте. Можно сказать, в воздухе зависал полупустой бледный халат. Лунные волосы. Рыбьи глаза.
– Здравствуйте… Это я, это Таня… Козлова, Валина подруга, э… часто у вас тут бываю… вы меня знаете.
Я обращалась к ней из темноты коридора, оставаясь за порогом, не смея шагнуть внутрь, не смея приблизиться, не понимая, с чего начинать, как себя повести; старуха стояла напротив, в контровом свете двух окон на фоне черных силуэтов алоэ.
– Подойдите, – сказала она.
Обстановка шокировала. Все четыре стены во всю свободную площадь были занавешены картинами. Старинные рамы, потрескавшиеся холсты, полупарадные портреты, екатерининский век, гравюры, цветочные натюрморты. Буфет ломился от гарднеровского фарфора, в настольном рябом зеркале отражалась керосиновая лампа. Слепая бабушка коротала век, держа при себе сокровищ на полноценный антикварный магазин. Господи боже! Широкоплечие подсвечники. Медные кувшины. Отложения пыли в пене бронзовых кружев. Я протянула к женщине руки, дав опору. Пальцы ее оказались сухими и ледяными. Старая пятнистая кожа блестела, будто галька, годами окатываемая волной.
– Что они вынесли? – спросила старуха.
– Да вроде ничего.
Вдова охладела, углубилась в себя.
– Сейчас я задам вам несколько вопросов. Будьте внимательны, отвечайте точно, – заговорила она с расстановкой, предоставляя мне время на восприятие каждого слова. – Посмотрите на стену, ту, что справа от меня. В среднем ряду, вплотную к углу, икона – висит?
– Нет… не знаю… Висит такая сирень…
– Все, неважно, – она сжала мою руку. – Дальше. За моей спиной, между окнами, под самым потолком, икона – висит?
– Нет.
– Теперь смотрите дальше, на стену слева от меня. Над фортепиано, по центру, между иконой Богоматери и портретом восемнадцатого века что-нибудь висит?
– Пусто.
– Можете идти, – старуха сникла.
– А… Где остальные? Соседи? У себя?
– Не знаю, – ответила она равнодушно. – Меня вывели в кухню и удерживали там. А их, должно быть, удерживали в комнате, не знаю, не знаю, посмотрите…
У меня заложило уши. Рельеф общей картины произошедшего вдруг выступил из эмоционального хаоса и поразил сознание задним числом: никто не собирался обыскивать нашу комнату и уж тем более нас убивать. Люди в черном тихо сломали замок и вынесли три иконы, не обронив ни одного волоса с голов стариков и детей. Господи, они даже бронзовой пепельницы не прихватили. А ведь она так удачно бросалась в глаза, маня танцующей по краю чаши наядой, вырезанной из слоновой кости. Как впоследствии емко сказала об этом Ульяна, «люди искусства».
– Э… Можно идти вызывать милицию? – спросила я.
– Как хотите.
* * *
Я решила все рассказать. Естественно, с упором на то, что во всем виноват таксист. Конечно! Да, после его побега можно было тут же, на месте, попытаться поймать другую машину. Но, во-первых, не факт, что кто-то стал бы возиться с пассажирами посреди затора, а во-вторых, могла ли я позволить себе сесть с детьми к совершенно случайному человеку? Ведь это известно и первоклашке: водитель может оказаться маньяком.
– Понимаешь, я подумала, что с Валей мы вместе сможем… безопаснее и проще…
Она остановила меня жестом: молчи. В молчании прошла пара минут. Потом еще пара. Няня звала к столу. Уля махнула рукой, отправляя меня на кухню. Мы поели с детьми, втроем. Ульяна не подошла. После обеда, войдя к ней, я застала ее сидящей в том же кресле, в той же позе. На мое появление она никак не отреагировала.
– Ты со мной не разговариваешь теперь?
Королева помотала головой. Вроде бы имея в виду: нет, разговариваю, но сейчас – не отвлекай. Так мне показалось. Я вышла, прикрыв дверь, неплотно. Мы поиграли с близнецами в крота и орла, разбегаясь в обход маминой комнаты, используя детскую и прилегающие территории. Няня шинковала капусту. Потом развешивала белье на балконе. Спустя час я снова заглянула к Ульяне: она сидела. Не знаю уж как, но я прочла ее мысли. Два с половиной часа Королева напряженно обдумывала, куда бы уехать. Уехать из этой страны. Но в каком бы направлении и в каких бы усилиях ни продвигалась по цветной поверхности глобуса мысль, реальность вставала непреодолимой стеной, перекрывая перспективу и вынуждая возвращаться к одному и тому же ответу: никуда. У Королевой не было никого на этом свете, никого. Мать, которая ее ненавидела и вышвырнула на улицу. Брат, который грозился ее убить, если она заставит нервничать мать. Муж, который и так уже убивал ее, самим фактом существования. Помощи ждать было неоткуда. Наконец она подняла лицо.
– В Москве квартира стоит миллион долларов, представляешь? – сказала она, изумляясь собственным словам. – Когда-нибудь они срежут наш Эрмитаж и перенесут к себе на Рублевку. Понимаешь? Они поставят столики у полотен Рембрандта и будут обедать. А мы погибнем здесь от воспаления легких. Еще до того, как москвичи пригонят сюда экскаватор, чтобы срыть Петербург на украшения для усадьб. А еще, знаешь, в Москве вообще нет красивых женщин. У меня было там свободное время, немного, днем… Я ходила в Третьяковку, в Новодевичий… Красивых женщин нет на улицах. Их нет. Они не ходят по улицам, представь себе! Это непостижимо уму.
Я кашлянула.
– А где они? Почему они не ходят?
Она всплеснула руками.
– Ездят. В автомобилях.
Почуяв, что мама немного раскрепостилась от душившего ее неведомого горя, близнецы просочились в комнату и начали виснуть на Ульяне, обцеловывая ее белую шею.
– Слушай! – воскликнула я. – А может, Валечку отвезти в Москву?
– Хочешь устроить жизнь больному человеку? – спросила Уля. И тут же ответила: – Не получится. Валечку не продать…
– Почему?
– А ты можешь себе представить, кто, кому и каким образом мог бы продать «Троицу» Андрея Рублева?
Я пожала плечами. Прижимая к груди детей и аристократически их лаская, она продекламировала:
– Есть красота, которая продается. И покупается. А есть красота, которая существует вне категорий. С ней ничего нельзя поделать. Она принадлежит природе.
Глава VI
В начале декабря Истрина положили в больницу. На замену пришла незнакомая женщина. Кажется, основным ее местом работы был государственный университет. У нас она что-то читала на вечернем; словом, мы увидели Татьяну Борисовну впервые, и, если быть точнее, даже не вполне увидели: такую женщину замечаешь не сразу. Юбка «трапеция». «Телесные» колготки. Белая рубашка. Металлическая оправа. Папка с бумагами. Короткие волосы. Коричневые? Вроде бы да.
В текущем семестре зарубежка начиналась в девять. Прогуливать Истрина никто не смел. Подниматься приходилось в семь. Стояли морозы. Контакт человека с будущим во сне ослабевал, и, проснувшись по будильнику, в темноте было куда труднее припомнить те причины, по которым ты жил еще вчера; сознание высасывало из пятнистого сна через узкое предсмертие; человек открывал глаза и покидал постель, как утробу матери, – из теплого киселя в мир, отстоящий и грубый, как декорация, выстроенная из наждачной бумаги. Мир приживался к коже гораздо медленнее, чем шла вперед часовая стрелка. Никакое другое время суток не истощает душу больше, чем русское зимнее утро, в которое голому приходится отбросить прочь одеяло, чтобы в легком ознобе натянуть пальто и с мокрой головой выйти из подъезда в холодную ночь.
Заведующий кафедрой представил Татьяну Борисовну и вышел. Она села за стол. Кто-то зевнул. От окон несло, как от морозилки.
– Очень тяжело начинать работать? – вдруг спросила она так, как если б мы были артистами балета, пришедшими на утренний класс в неотапливаемый зал и нам, пьяным ото сна, предстояло проливать тут кровавый пот, по волокну расплетая мышцы в цветы. Тяжело? Работать?! Мы не восприняли вопрос. Хотя он метил в самое средостение. Касался текущих чувств. (Да, конечно, ежедневный подвиг героев классического танца нам и не снился, но нас тоже терзали наши маленькие допотопные страхи – страхи застывших на холоде рыбок, которым предлагалось вникать в классические тексты.) Однако мы не привыкли к тому, чтобы кто-то интересовался нашими чувствами.
Татьяна Борисовна вела урок, сидя за столом. Голос ее был блеклым. Впервые за два года ничто не отвлекало нас от литературы. После перемены она задала еще один вопрос:
– И как вам роман?
Мы молчали. Татьяна Борисовна не спешила. Первой из оцепенения вышла Надя Косых.
– Бредовая книга, – сказала она.
Мы очнулись. Косых была признанной дурой. Утверждение «все мужики козлы» она считала главным фундаментальным обобщением последнего тысячелетия, вобравшим в себя эмпирический опыт миллионов, – этот закон бытия прояснял для Нади абсолютно все подоплеки абсолютно любых событий. Строго говоря, Косых незачем было учиться, но мама сказала: без корочки ты никто, и Надя стала студенткой. Университет был для нее большим, и ладно бы просто большим, так еще и долгим. Он был как «Титаник» без сердца – «Титаник», из которого выдрали бархатные, хрустальные и слащеные внутренности, то есть «Титаник» для бедных, фактически контейнеровоз «Эмма», оголенные от обивки пустоты которого были заполнены незрелыми людьми, не достигшими просветления и что-то еще неутомимо искавшими, в то время как тема мироустройства уже давно обнаружила непробиваемое дно – мужской козлизм. «Господи, что вы хотите от мужиков?» В отличие от меня, Надя по-настоящему мучилась в университете. Ей было скучно. Она злилась. И единственным сердечным местом в этом морском кошмаре Профейна ей оставалась столовая. Там Надю каждый день поджидала выпечка, источавшая аромат жизни, не пораженной гангреной бессмыслия. Косых любила свежие булки. Любила глубоко, как любят живых и теплых.
– Бредовая?
– Да.
Подсознательно мы полагали, что Надя не умеет говорить. И вдруг. Отсутствие деспотичного, тщеславного учителя вскружило ей голову. Но Татьяна Борисовна оставалась спокойной. Она откинулась на спинку стула, скрестила руки.
– Можно узнать почему?
– А чё за бред? – ответила Надя. Мы стали переглядываться. – Сидят в ресторанах целый день, не работают, ничё не делают, говорят ни о чем. Весь роман по принципу: заказали – выпили, заказали – выпили, то вино, то шампанское, и больше ничего не происходит. Бухают с утра, извините. И еще какие-то проблемы… Я таких затянутых книг не знаю больше.
Марина Зуйкович, сидевшая за первой партой, оглянулась и показала Наде рожу. Пока любовник валялся в больнице, тоскующая, но сильная Марина пыталась хотя бы частично представлять его интересы, демонстрируя неприязнь к невеждам.
– Надя, я тебе завтра принесу по-настоящему затянутую книгу. Там человек только просыпается триста первых страниц.
Прокатились смешки. Татьяна Борисовна улыбнулась.
– А потом еще семь томов думает, как бы ему переспать с Альбертиной! – крикнул кто-то с последней парты.
Татьяна Борисовна подняла бровь и склонила голову набок.
– А в чем Надя не права, кстати? – спросил кто-то еще. – Зачем это все? Позавтракали в отеле, пообедали на террасе, поужинали в ресторане, заказали перно и содовую, подали кофе, по полу полз таракан, взяли такси, взяли вина…
– Сорок пять сантимов!
– За полтора литра!
Все заржали. По едва уловимой отдаче где-то в ключицах угадывалось, что Татьяна Борисовна вытянула под столом ноги и сняла туфли.
Кто-то встал с раскрытой книгой в руках и зачитал: «Письмо оказалось банковским счетом. Остаток равнялся 2432 долларам и 60 центам. Я достал свою чековую книжку, вычел сумму четырех чеков, выписанных после первого числа текущего месяца, и подсчитал, что остаток равняется 1832 долларам и 60…»
– Вообще никакого действия, – резюмировала Надя Косых. – Какой-то телеграфный стиль, – добавила она прицыкнув.
Становилось все веселее. Татьяна Борисовна выпрямилась. Мы успокоились.
– Скажите… Вам понятно, что имел в виду Хемингуэй, говоря о принципе айсберга? – Она сняла очки и закусила дужку.
Мы не знали, что такое «принцип айсберга».
– Хемингуэй сравнивал свои произведения с айсбергами. Они на семь восьмых погружены в воду, и только одна восьмая часть видна. Видимая часть – это текст. Подводная часть – подтекст, то, о чем автор не стал говорить, то, что мы можем понять без слов – по жестам и позам героев, по обстановке, по погоде, по отдельным словам…
– Лично я не поняла, – сказала Надя.
– Как вас зовут?
– Надежда.
– Надежда, вы пойдете сегодня в столовую?
Мы опять переглянулись. Пришлый человек распечатал нашу Надю на третьей минуте?
– Собираюсь.
– Предположим… – Татьяна Борисовна вздохнула и легонько постучала карандашом по лбу, – в очереди перед вами окажется человек пять. Все они будут совершать простые действия – читать ценники, брать блюда, ставить на подносы… Ничего интересного, скучно, затянуто, ни о чем. Стоит ли про это писать?
Надя моргнула.
– А если бы вы узнали, что один человек из стоящих перед вами неизлечимо болен? Допустим, ему осталось жить полгода?
Наши желудки вздрогнули. Надя пожала плечами и скривила рот.
– Так ему в больницу надо, а не в столовую.
Несколько человек опустили лица. Кое-кто даже зажал рот рукой. Татьяна Борисовна перевела взгляд в окно. Над пустырем вошел в полную силу день.
– Представьте, Надя, ведь неизлечимо больной человек видит одни и те же с вами банальные вещи – ценники, сосиски в тесте, компот. Но, в отличие от вас, он видит их последние месяцы. В один прекрасный день вы встанете в очередь, а этот человек будет лежать в земле. Скажите, наполняет ли такая деталь обыкновенные стаканы и сосиски каким-нибудь новым смыслом?
Надя передернула плечами.
– Наверное.
– Однако внешне этот смысл не проявляется ни в чем, не меняет цвет компота.
Она дала нам десять секунд.
– Можно сказать, вся наша жизнь подчиняется принципу айсберга. Мы спускаемся в метро, читаем книгу, приходим на работу, обратной дорогой покупаем в гастрономе чай и масло, но это только видимая часть, да? Метро и прочие скучные вещи покоятся на костях. Семь восьмых айсберга, невидимых, – это, например, смерть. Насильственная смерть. Смерть, отложенная на полгода или на пять лет. Или смерть, которая стоит за дверью. Словом, это боль, которая может настигнуть каждого из нас. Ее можно ощутить как субстанцию, как живой океан. Этот океан рядом, мы слышим, как он дышит. И не только мы выбираем, окунаться ли нам в его воды. Он тоже выбирает. И нет никакой возможности узнать, кого он выберет в следующую минуту, будет ли это один из тридцати или миллион из миллиардов, – Татьяна Борисовна сделала неопределенный жест рукой. – Но мы не видим океан, а видим друг друга и эти вот парты… Как вы думаете, можно было бы описать невидимый океан боли, ссылаясь только на находящиеся здесь предметы… используя парты, тетрадки и освещение в качестве косвенных признаков того, например, что все мы с вами рано или поздно умрем?
– У конкретных героев Хемингуэя в чем боль? Какие проблемы у них? Им ходить по ресторанам больно? – спросила Надя.
Татьяна Борисовна надела очки. Придуманное только что объяснение прошло мимо цели. Голыми руками Надю было не взять. Камни в наших головах были подогнаны слишком плотно. Такую кладку не подковырнуть ни ногтем, ни ломом. В мизерные щели меж твердью наших извилин мог просочиться только чистый свет – свет ослепительной мысли, которую с ходу Татьяне Борисовне придумать, увы, не удалось.
Марина резко обернулась:
– Вообще-то, Надь, речь идет о людях, переживших войну.
– О боже! – Косых взвизгнула. – Нет, я, конечно, понимаю, алкоголизм можно и этим оправдать! Да если б все, кто воевал, начали хлестать с утра до вечера, то уже б все люди повымерли.
– Господи, объясните уже кто-нибудь Наде, в чем дело, а то невозможно же уже это слушать, – зашипела Марина, морща нос и по-кошачьи вздергивая верхнюю, как всегда, в алой помаде губу.
– Главный герой – импотент, – сказала Света Шилоткач, размеренно штрихуя что-то в листочке. – У Джейка Барнса пипирка не стоит.
Надя вспыхнула и вжалась в собственное тело, как зверек среди чужих, которому посветили фонариком в глаз.
– Короче, Надюх. Он не может с девушкой любимой это самое… – добавила Шилоткач и для наглядности соединила кончики указательного и большого пальцев правой руки, а указательным пальцем левой несколько раз потыкала в обозначенное колечко. Воистину, если мы еще жили на Земле, то Татьяна Борисовна, видимо, уже высадилась на Терре Небесной и действительно разделяла досуг с гитаристами и кретинами. Но, похоже, не умирала от скуки.
Слово «импотенция» произвело эффект внесенного в комнату топора или браунинга. Несмертельное. Но до поры. От страха мы стали кричать. Хемингуэй ненормальный (можно ли доверять человеку, который торчал от убийства быков?!); невозможность иметь детей лишает мужчину будущего (отсутствие будущего является метафорой потерянного поколения); надо ли иметь детей от алкоголички и нимфоманки (может, и к лучшему?); нимфоманка потеряла на фронте любимого и могла бы покончить с собой, но выбрала жизнь (не это ли подвиг?!); леди Эшли бесилась с жиру, таскалась по кабакам и трахалась, извините, со всеми подряд (кто б не выбрал такую жизнь?!); и, наконец, зачем писатель написал эту книгу? Почему он не показал нам реального выхода из сложившейся ситуации?!
Вдруг средь гвалта возвысился нежный голос блондинки.
– Послушайте! – Регина встала и приложила ладонь к тягучей ложбинке между двумя великими грудями. – Вы помните фильм «Красотка»? – спросила она взволнованно.
И нас скрутило от хохота. Истерика продолжалась несколько минут. Тридцать человек смеялись до слез. До сведения мышц. Как на представлении гениального комика. Хлопая себя по коленкам и проливая слюну. Не смеялась только Женечка.
– Да вы что?! – Женечка крикнула так сильно, что обнаружились даже кое-какие акустические возможности аудитории, не использовавшиеся ни разу за семнадцать лет стояния стен. Татьяна Борисовна испугалась. Мы замолчали.
– Регина, говори, – сказала Женечка, применив интонацию, подсмотренную в каком-то чернобелом кино о советской пионерии.
Тяжелые, нагроможденные тушью ресницы Регины отбросили тени на обе щеки. Охота поделиться соображениями прошла.
– Я смотрела фильм «Красотка», – добавила ко всему Женечка, у которой вегетарианство и милосердие отнимали все время и по этой причине редкие просмотры фильмов принимались Женечкой за отдельные вехи в работе над собой.
Регина вздохнула. Мы обидели ее. И не стоили внимания. Но все же она, не считая возможным позволить обиде взять власть над человеком, сказала:
– Главные герои в этом фильме не целуются в губы. Они только… Они занимаются сексом без поцелуев. Потому что они плохо знают друг друга, они друг другу – никто. Они целуются только тогда, когда становятся близкими людьми, уже в конце фильма. Это значит, что в сексе главное не…
Нас разрывало изнутри. У некоторых выступили слезы. Но Женечка сдвинула брови и держала каждого под прицелом. «Попробуйте только заржать, и я засвидетельствую, где надо», – говорил этот взгляд. Поэтому мы крепились. Никто не хотел палиться перед человеком, вхожим к великому Будде, как к себе домой. Татьяна Борисовна посмотрела на часы и жестом попросила слова. Она явно приняла какое-то решение.
– Послушайте… – Татьяна Борисовна запустила руку в волосы и слегка помассировала висок. – Нам не обязательно уделять внимание только программным писателям. В том, что вам не нравится Хемингуэй… – она осеклась. – Желательно оставаться в рамках того периода, который мы изучаем. Подумайте, какие писатели этого периода вам нравятся, о каких книгах вам хотелось бы поговорить? Вы можете сказать. Прямо сейчас.
Для начала мы заказали «Мост короля Людовика Святого». И мы его получили. Вообще же литература оказалась игрой. Игрой без правил. Игрой в крота и орла. Чтение и анализ возвращали нас в детское состояние, то состояние, когда ничего не надо знать и уметь, для того чтобы прикинуться зайчиком или лисичкой и, находясь под маской, выдать за чужие мысли любую собственную мишуру слов, размножающихся иной раз в целые непригодные, но ах какие приятные миры. Однако через месяц Истрин выписался из больницы. Литература опять превратилась в массив высокого сверхчеловеческого мастерства. Айсберг восстал из воды на все свои полные восемь частей, охлестнув нас девятибалльной волной слюны, вскипающей в ораторском запале. Быть детьми с этой глыбой? Конечно, нет. И вскоре мы позабыли о зачавшейся было нежной дружбе с великими Торнтонами и Эрнестами.
* * *
Ближе к Новому году, занося порцию стихов в редакцию университетской газеты, я столкнулась с Татьяной Борисовной на кафедре. Она сказала: «Вам нужна среда». А потом, что-то еще додумав, пригласила меня в гости. «Соберите все, что у вас есть, приведите в приличный вид и привозите». С пакетом стихов в назначенный час я вышла на Удельной. Татьяна Борисовна встречала меня под козырьком за стеклянными дверями. Бабушки торговали сигаретами и варежками. Мы шли между ларьками.
– Может быть, возьмем пива? – спросила Татьяна Борисовна. Протянутые мною деньги она отвергла.
Дворы были маленькими, зажатыми. Дома – низкорослыми. Какая-то старая рухлядь. Разбитый асфальт. Местами щебенка. Местами сыроватая грязь. Тенистые ходы. Как будто бы дело шло внутри земли, а не снаружи. Подъезд тоже оказался тесным. Карликовая лестница, нависшие потолки, плетеные коврики, запахи пищи, приготовленной двадцать лет назад. И тем сильнее стало впечатление от контраста, составленного квартирой: пустая коробка. Побеленные стены. Свежая краска. Больше ничего. В этой зияющей пустоте зашуршал пакет, два бутылочных дна гулко коснулись стола, консервный нож поддел жестяную юбку, щелчок: пробка сошла с рубца, и зашипел газ. Я вытерла руки жестким полотенцем, вышла из ванной и встала в дверном проеме кухни. Желтое пиво светилось в граненых стаканах. Нет, что-то там, конечно, было. Кроме стола – два табурета, тахта и фотография в рамке. Маленькая девочка в один рост с какими-то городскими цветами. Короткое платьице. Солнечный день.
– Это моя Мышка, – сказала Татьяна Борисовна.
Она закурила. Я окинула взглядом пустые полки над раковиной. Даже тарелок нет.
– Все деньги я трачу на адвоката.
Мне стало плохо: интуитивно я распознала растворенные в воздухе признаки взрослой жизни. Из сказки, пронизанной ожиданием чуда, меня заманили в реальность, один только дух коей гнал от себя юных, как гонит волка запах кумачовых флажков.
– Мой муж отобрал у меня ребенка. Посчитал, что научный работник не может быть хорошей матерью. Я переехала сюда недавно. Продала квартиру на Большой Морской. И вообще все продала. Библиотеку, все, все, что имела. Поэтому здесь так… не удивляйтесь. Мой бывший муж – влиятельный человек. Мне требуется очень много денег, чтобы противостоять ему.
– А у вас есть шансы? – спросила я, пересилив животный страх.
– Какие-то есть. Но шансы не главное. Главное – каждый день делать все возможное для того, чтобы моя Мышка снова была со мной, – она затушила окурок, вытряхнула пепельницу, помыла и перевернула ее стекать на спартанскую вафельную салфетку.
– Вам нужна среда. Университетская газета ничего не дает. Это песочница. Вас надо куда-то пристроить, может быть к Сосноре, к Кушнеру, не знаю, кто там сейчас занимается с молодежью. Вы оставите мне стихи, я покажу их своему другу, и он поможет мне придумать, куда вас определить. Ну, доставайте, – она посмотрела на часы. – В семь у меня встреча с адвокатом. А пока два часа поработаем, посмотрим, что там у вас.
Через пятнадцать лет я забила ее имя в поисковую строку. Татьяна Борисовна оказалась автором многочисленных трудов, посвященных (неожиданно) каким-то узкоспециальным проблемам пушкиноведения. Она, как и прежде, читала лекции сразу в нескольких университетах. Но ни в одном из разделов «Наши преподаватели» не было ее фотографии. Вернее, именно ее фотографий не было. Только ее. Чтобы хоть чем-то унять тоску по Татьяне Борисовне, я решила перечитать «Фиесту». Отторжение началось со сцены в такси, по дороге в кафе «Селект»: все эти «могу», «не могу», «не трогай меня», «милый» и тому подобное. Особенно напрягало «люблю». В предисловии говорилось: «Настойчиво звучит в романе щемящая нота любви двух изломанных войной людей, для которых полное счастье уже невозможно». Спустя пятнадцать лет эта «невозможность» предельно обмелела. Счастье невозможно для тех, кто не любит друг друга. Для всех остальных дороги открыты. Импотенция слишком уж мелкая проблема – повод, надуманный для того, чтоб с садистской медлительностью изничтожать любовь. «Счастье уже невозможно»! Невозможность поместить половой член внутрь влагалища, представленная в качестве препятствия для близости, неимоверно бесила. По меньшей мере, это было неуважительно по отношению к людям, разлученным смертью или неволей. По большей – просто невежественно. Пожалуй, только малолеткам можно впарить импотенцию под видом крупной любовной драмы. Я бросила книгу под кровать. Решила не тратить время.
Но «Фиеста» не давала покоя. В чем же дело? В многочисленных биографических справках мелькнула Дафф Твисден. «Скандальная личность», «дочь аристократки и лавочника», «британская шпионка». Вот откуда выросли ноги «бесившейся с жиру нимфоманки». Любовный треугольник, фингал под глазом. В Памплоне Твисден переспала со всеми, кроме Хемингуэя. Потому что последний не изменял жене. Получалось, что образ импотенции вырос из верности. Препятствием для близости на самом деле был брак. Ну, в это еще можно поверить. Однако при чем тут любовь? Бесконечные биографии и рецензии пестрили ссылками на «потерянное поколение». Но ясности это не добавляло. И вдруг (наконец-то!) до меня дошло, что «Фиеста» была написана в 1926 году. Автор блистательной прозы, участник войны написал свою книгу в двадцать семь лет!
Наверное, война ускоряла взросление. Война, словно пушечное ядро, проходила сквозь ткань времени, сквозь время жизни. Но ускорение придавалось только отношениям человека со смертью. Половое созревание тем временем протекало в естественном темпе. То есть ядро войны, проходя через жизнь, разрывало природу самого человека, разрывало живое мясо, отделяя способность любить от способности умирать. Так возникал парадокс, из которого родилось странное, загадочное произведение – гениальный, чрезвычайно взрослый текст, описывавший смешную, чрезвычайно детскую проблему. Собственно, Джейк был прав, говоря по дороге в кафе «Селект», что это смешно. Да, это смешно. И, кроме того, уничижительно по отношению к сексу. Смысл секса определяется все-таки качеством ощущения между кожей и кожей, а не координатами мест на ней. В конечном счете секс – это все-таки поцелуй. Регина была права. Мы напрасно смеялись – мы и предположить тогда не могли, что оргазм как таковой спустя каких-то пятнадцать лет станет одним из самых легкодоступных и незатейливых удовольствий (если не самым), а вот с поцелуем (уж у тебя-то, Джейк, он был!) все окажется куда сложнее.
Глава VII
Философию читали в поточных аудиториях. На лекциях присутствовал весь факультет – актеры, хореографы, сценаристы. Спускаясь по лестнице к кафедре, профессор Дмитрий Валентинович Тимаков оглядывал студентов. Сотни полторы человек! Но он успевал получить примерное представление о том, что его занимало, а именно: в каком составе представлена наша группа. Взойдя на трибуну, Тимаков бегло приветствовал зал и обращался со стандартной просьбой.
– Мои друзья искусствоведы, – говорил он.
Это означало, что нам надо встать: показаться из общего фона. Мы послушно поднимались, по аудитории прокатывалась волна шума, бились сиденья откидных стульев, кто-то покашливал, кто-то оправлял юбку, у кого-то падала сумка, слышался звук покатившейся по полу шариковой ручки. Тимаков прищуривался и, тыкая в воздух карандашом, считал вставших. С этой принужденной процедуры для нас начинался и Платон, и Декарт. В дополнение к осмотру профессор требовал от нашей старосты список присутствующих искусствоведов. На перемене Тимаков обстоятельно читал столбик фамилий, сверяя его с внешними впечатлениями. Староста стояла у кафедры, теребя подол.
– Терещенко был? – спрашивал преподаватель, скептически прицениваясь к списку.
– Да.
– Н-да? А где же он сидел?
Староста заливалась краской. (В конце концов прогульщики перестали просить ее о прикрытии: все поняли – Тимакова нельзя ввести в заблуждение.)
Избирательности в подходе к учащимся философ ни капли не стеснялся.
– Во-первых, танцоры устают, – пояснял он со вздохом. – Банальное недосыпание может кончиться для них остановкой сердца. Во-вторых, можно совершенствоваться в балете и при этом иметь весьма поверхностную гуманитарную базу. А вот для того, чтобы посмотреть балет и определить его место в мировой художественной культуре, необходимо учиться.
Тимаков разрешал брать на экзамен конспекты. Но о послаблении речи не шло. Фокус состоял в том, что за неделю до экзамена Дмитрий Валентинович собирал конспекты и проставлял на каждой странице роспись – знак подлинности рукописного текста, подтверждение того, что он появился на странице в процессе лекции. По первости мы пытались хитрить – безбожно прогуливали философию, но оставляли в тетрадях пустые страницы, чтоб ближе к экзамену взять у отличников конспекты и списать на белые места пропущенные темы. Очень скоро выяснилось, что и это недомошенничество абсолютно бесполезно. Лекции, списанные задним числом, Тимаков отличал по почерку. И безжалостно выдирал страницы.
Прием экзамена Дмитрий Валентинович начинал с пролистывания используемых студентом тетрадей – выискивал вклейки, тексты на полях, вписки между строк. Тимаков никогда не нервничал. Не принимал оправданий. Не давал никаких комментариев своим действиям: поймав студента на жульничестве, он просто откладывал конспект на край стола и переставал замечать человека. Переставал видеть. Не делал вид, что не видит. А именно избирательно слеп. Это означало: «Можете идти. До встречи на пересдаче».
Все перечисленные затруднения меркли в сравнении с главным – самим моментом экзаменационного ответа. Даже имея при себе чистокровный, трудоемкий конспект, даже вконец изнурившись библиотеками и бессонными ночами, студент не мог быть уверен в успехе. Тимаков был непредсказуем. Он никогда не давал манипулировать собой. Его нельзя было очаровать или заболтать. Поразительным образом ему удавалось устанавливать прямой контакт с интеллектом студента, минуя то впечатление, которое студент всеми силами пытался произвести. При этом в Дмитрии Валентиновиче не было ничего демонического. Седина. Легкая небритость. Без галстука. Ворот рубашки расстегнут. Философ никогда не повышал голос, слушал весьма отстраненно – вглядываясь в отсутствующую даль. У новичка могло создаться впечатление, что Тимакову в принципе плевать на то, что там болтает эта дубоватая молодежь. Но в самый неожиданный момент профессор мог прервать отвечающего каким-нибудь предельно простым вопросом. И почему-то в девяти из десяти случаев вопрос сбивал человека с ног, как известие о смерти.
Женечка боялась Тимакова до озноба. На летней сессии первого курса мне довелось экзаменоваться в одной с нею пятерке. Я видела, как Женечка прошла к учительскому столу и, расправив юбку, села отвечать. Румянец горел на голубоватобелом лице. От сердцебиения пол ходил ходуном.
– Первый вопрос, – сказала она хрипло. – Учение о субстанции в философии Лейбница.
Я поняла, что у нее пересохло во рту.
– Слушаю, – пригласил Тимаков и, как обычно, уставился в дальнюю стену.
Она молчала. Прошло полминуты. Дмитрий Валентинович отвлекся от созерцания миров и сфокусировал взгляд на Жене. Она продолжала молчать. Тимаков почесал за ухом. Полистал бумаги. Переменил позу.
– Я слушаю вас, – повторил он.
Женечка не шелохнулась. В лихорадочном румянце ее выступили отдельные малиновые пятна. Мы поняли, что она переживает тяжелый нервный срыв – физически не может совладать с собою. Вдруг Тимаков спросил:
– Осмолова, вы дура?
Женечка вздрогнула, как от удара током. Она ожидала всего. Но не хамства же! Нас просто оглушило. Разве так можно?
– Нет, – ответила она. Судя по голосу, Женя вышла из ступора слишком резко. Смена окаменения на агонию стала большой физической перегрузкой.
– Нет? – спросил философ. – А я думаю, что вы дура.
Ситуация производила впечатление полного выхода из-под контроля. Нам казалось, что экзамен уже без пяти минут сорван. Сейчас Женечка швырнет ему в лицо тяжелую книгу, грохнет оземь парочку стульев, кто-нибудь побежит вызывать скорую, дай бог, чтоб обошлось без дыр в головах. Но тут Тимаков продолжил как ни в чем не бывало:
– Вы всегда производили на меня впечатление человека, который принимает собственную привычку питаться соей за целое системное мировоззрение. А между тем религия, которую вы исповедуете, требует от человека много большего, нежели соблюдения диеты.
– Религия ничего не требует от человека, – голос Жени звенел от напряжения. – Религия дает. Она дает человеку силы. Как и творчество, она выявляет в человеке лучшее, что в нем есть. Природа может рождать цветы, точно так же художник может рождать картины… в творчестве рождается лучшее из того, что человек может создать руками. В религии рождается лучшее из того, что человек может почувствовать.
Тимаков побарабанил пальцами по столу.
– Прекрасно, прекрасно, – сказал он. – Ну, что там насчет субстанций у Лейбница?
Женя дала блестящий ответ. И получила пятерку. Мы лишний раз убедились в том, что Тимаков не просто помнит каждого студента в лицо и не просто имеет мнение о каждом, а знает каждого так, будто воспитывал с колыбели.
* * *
Зимней сессией второго курса, в последнюю ночь перед экзаменом по философии мы собрались у Регины. Олег привез трехлитровую бутыль жидкости чайного цвета. Таможенный конфискат. Привет из Франции. В представлении Долинина – элитный коньяк, который должен был разогреть нашу кровь и разогнать ее по мозгу со скоростью двести километров в час. Мы учили билеты и пили отчаянное пойло, от которого зверели на глазах. Регина слегла с двух глотков. Долинин ползал на четвереньках. Юра упал в туалете и разбил висок. В дверь позвонили. Я открыла. На пороге стояла женщина в пестром халате и велюровых тапочках на босу ногу.
– Вы что-то льете… – сказала она с сомнением. – Что-то льете нам на окно. Какой-то борщ.
Я решила, что она сумасшедшая питерская бюджетница, ошалевшая от реалий. И захлопнула дверь перед ее носом, но следом увидела Долинина, свесившегося в открытое окно. Мороз колом стоял во всю кухню. Олег блевал с девятого этажа. Ах, вот какой борщ мы лили соседям на подоконник! Я кинулась к Долинину и потянула его за ремень.
– Не сейчас, Татьяна. Я буду к вашим услугам чуть позже, – сказал он, качаясь.
– Дебил, – ответила я.
С трудом удерживаясь на ногах, Юра подошел к нам и, задыхаясь, пробормотал:
– Таня, вылей эту штуку, ее нельзя пить, совсем, мы можем ослепнуть или умереть. Может быть, мы уже умираем.
– Не сметь! – возопил Долинин. – Несме-е-еть…
В сознании сгущались сумерки. Поле зрения уменьшалось. К центру видимого стягивалась нефтяная пленка. В конце концов через сузившийся просвет, как через щель замочной скважины, я видела только раковину, в которую лился французский коньяк из опрокинутой мною горлом вниз бутылки.
Было еще темно. Сквозь сон я слышала шум фена. Я понимала, что это Регина. Но кем я прихожусь Регине и кто я вообще такая, вспомнить не получалось. Тело болело как лишнее. Регина застегивала сапоги на молнии. Дверь захлопнулась. Настала тишина. Остатки памяти поглотил мрак. Когда я проснулась в следующий раз, на часах было десять тридцать. Долинин спал в ванной, на кафельном полу, принакрывшись Регининым пеньюаром. В волосах Олега и на воротнике его рубашки засохли следы свекольной рвоты. Из заднего кармана джинсов торчал берет десантника. Я умылась. Растолкала Юру. Вместе мы поливали Долинина холодной водой. Но он так и не пришел в сознание. Не дождавшись лифта, в истерике мы бежали вниз по ступенькам и застегивались на ходу; превозмогая тошноту и боль, загрузились в трамвай. Приехав на место, бросились к главному входу. Роняя перчатки, путаясь в собственных одеждах, спотыкаясь, как перегоняемые пленные, мы перешли обмораживающий пустырь и ворвались в главный корпус без пятнадцати двенадцать. Под дверью аудитории никто не сидел. В классе гулял ветер. Экзамен кончился. Из последних сил мы с Юрой бежали по коридору к кафедре философии. По совпадению Тимаков как раз выходил из кабинета.
– О! – сказал он любезно. – Привет.
Мы дышали, потели и еле стояли на ногах.
– Опоздали? Ничего, бывает. Я, правда, уже уезжаю, вот прямо сию минуту. Но… Терещенко, давайте вашу зачетку.
Юра порывисто бросился в рюкзак. Не сходя с места, используя в качестве твердого основания папку с бумагами, Дмитрий Валентинович нарисовал в зачетке оценку. Расписавшись, он пояснил:
– Вам, Терещенко, я ставлю тройку. А вас, Козлова, я жду на плановой пересдаче, дата будет висеть там, внизу, как обычно…
Начиная лекцию, Тимаков часто делился впечатлениями о том, как провел предыдущую. Обращаясь не то к аудитории, не то к самому себе, он как-то вскользь сообщал:
– Сейчас журналистам очень хорошо прочел.
Иногда профессор, напротив, в нетерпении разочаровывался в себе. Он делал характерный жест руками, будто отмахивался от недавнего впечатления:
– Сейчас у культурологов так бестолково прочел, что-то я… – Тимаков оттягивал ворот рубашки, мял рукой затылок. Но через полминуты, собравшись, вскидывал голову и говорил:
– Запишите тему.
И в голосе его чувствовалась готовность отдать аудитории и то, что причиталось ей, и то, что недополучили культурологи. Дмитрий Валентинович хотел отдать все. Все, что мог. Им двигала жажда отдавать. Не показывать, подобно Истрину, красоту науки или свою собственную красоту. А отдавать знания, преобразовывать их в нашу энергию, располагая которой мы должны были выстроить будущее.
Дмитрия Валентиновича не любил один-единственный человек – Надя Косых. Как-то, после третьей проваленной пересдачи, она сказала нам, что Тимаков приставал. Якобы предложил поцеловаться. А когда Косых отказалась, выдвинул ультиматум: или в выходные она приедет к нему на дачу и получит пятерку, или этот экзамен она не сдаст никогда. Наде никто не поверил. Регина чуть не упала в обморок. Все заплевали Косых и с омерзением махнули на ее бредни рукой. Но меня история повергла в мрачные думы. Я, как и многие пишущие люди, обладала повышенной чувствительностью к этимологии текста. Суть, Косых была слишком глупа. Она имела плоское, непредприимчивое сознание, не способное к воплощению фантастических картин. Надя не могла выдумать событие. Поцелуй… Поцелуй в кабинете, через стену от человечества, способного дернуть дверь без стука в любую секунду. А уж тем более – дача! Эти живописные подробности находились слишком далеко от норм, для рывка в столь тенистые дали, помимо каких бы то ни было мотивов, требовался волевой, взволнованный ум, легко выбивающийся из насущной колеи в драматургию. Надя не стояла и рядом. Однако делиться соображениями мне не захотелось. Ни с Ульяной, ни с Юрой, ни с кем. Описанный случай стал одной из первых моральных дилемм, осознанно пережитых мною в полном одиночестве. Я поняла, что Косых не врет. И поняла, что поняла это только я. Но после некоторых тяжелых размышлений решила не менять своего отношения к любимому преподавателю. И ни с кем решение не обсуждать. Ибо твердость его была заведомо окончательна. Дмитрий Валентинович Тимаков, бесспорно, являлся лучшим преподавателем нашего университета. И умом, и сердцем мы чувствовали, что Тимаков желает каждому своему ученику только самого лучшего. Возможно, желая трахнуть Косых у себя на даче, он просто планировал сделать лучшее из того, что в принципе можно было сделать для Нади.
* * *
Помимо Тимакова, влияние на наши судьбы оказала Анастасия Дмитриевна Зандер, доцент кафедры искусствоведения, член Союза художников и комиссии РАН, как мы говорили – Настя. Деятель. Мать. Богиня. Копия Симонетты Веспуччи. Впивавшаяся в память смуглая фамилия Насти (как нам представлялось, цыганская) отторгалась от северного, выбеленного, мифогенного облика рожденной Венеры. Анастасия Дмитриевна походила на картину Боттичелли, как мать пятерых детей, отпахавшая на кафедрах двух институтов, походит на свою фотографию, сделанную в девичестве, закатившемся за горизонт. Все, кроме спелости кожи, воплощалось с удивительной, прямо-таки казусной точностью – выражение глаз, их опущенные внешние уголки, целомудренные брови, чуть отечные веки, заплаканный нос, необузданность дикой льняной косы и, главное, цвет – не масть, а цветовая гамма: создавая Анастасию Дмитриевну, Господь передрал у Боттичелли уникальную палитру, в которой каждая краска была одновременно и розовой и серой, и трупной и живой, и отрешенной и источающей фимиам.
Зандер носила только прямой пробор. И только широкие юбки в пол, складчатые и монументальные, как театральный занавес. Она вела несколько не связанных между собой дисциплин, касающихся Египта, Средних веков и технологий в «изо». Вела слишком тихо, как меланхолик, накрытый пудовой подушкой. Уже за третьей партой нельзя было расслышать ни слова. На лекции Зандер ходили не слушать, а просто так – побыть с ней рядом. Годы напролет студенты держались за ее клешеную темную юбку. А потерявшись, безотчетно искали в толпе расплывчатое, перламутрово-желтое пятно стеклянной ваты – сухой, распутавшейся Настиной косы. Как и профессора Тимакова, Анастасию Дмитриевну от прочих учителей отличала щедрость. Щедрость в наставничестве. Она не страшилась делать других лучше себя самой. Не сумев докричать про алебастровые глазные белки погребальных голов, она сумела нас воспитать – предопределить решения и поступки. И в основном ее вмешательство в наше будущее умещалось в довольно узкую текущую задачу: Зандер бросала все силы на то, чтобы привить нам хороший вкус. Будто она знала, что умение отличать хорошее произведение искусства от плохого в будущем развернется в умение отличать вообще. Она стала нашей Венерой на асценденте. Ее бескорыстными стараниями мы обрели по меньшей мере одну ценность – ценность качества.
Зандер водила поколения студентов на экскурсии в мастерские самых лучших художников Петербурга. Она приближала учеников только к отборным гениям. В некотором роде представление Анастасией Дмитриевной студентам-искусствоведам художника создавало последнему репутацию: весь город знал – Зандер водится только с чистокровными ремесленниками. Среди избранных ею не было ни одного акциониста, ни одного концептуалиста, «новатора», копрофила, словом, ни одного человека, имевшего проблемы, например, с мелкой моторикой, родителями, усидчивостью или образованием. Зандер воспринимала только тех, кто работал художником, а не представлял себя таковым. Одним из таких мастеров был скульптор-анималист Игорь Владимирович Строков.
* * *
Два козла целовались. Прямо как люди. Рот в рот. Головы наклонены контргалсом, глаза закрыты. Как-то не верилось, но они и впрямь целовались – встав на дыбы друг против друга, обнимаясь передними ногами. Целовались взасос. При этом козлы выглядели реалистично. Даже реалистичнее, чем настоящие козлы: жевательные мышцы чуть более вздутые, чуть более явно выдающие собственную упругость; ушные хрящи чуть более истонченные к краю и завиты в чуть более экспрессивной манере; скакательные суставы чуть более заострены, с чуть более каллиграфическим росчерком сгиба. Но именно «чуть». Идя от центра тяжести тел, взрывная волна сдвигала пределы анатомической нормы ровно до тех границ, за которыми начинался маньеризм. Поэтому козлы все-таки смотрелись естественно. Вернее, слишком естественно. Даже волоски, набегавшие с пут на копыта, распадались на разные по ширине прядки. Кое-где по телу попадались выбившиеся шерстинки. Шерстинки! Однако в целом лепка была грубой. Художник работал, не срезая излишков глины, не затягивая рванин, не затирая мазков. Он нашлепывал материал лихо, выставляя напоказ и степень его пластичности, и даже степень давления пальцев. «Открытая фактура», – записала в тетрадке Регина.
В мастерской был адский бардак. Пахло старостью Мойки. Канализацией, прелыми стенами, тяготами немытого тела. И, что еще хуже, эти септические тона слипались с минеральными: гнилостные пары наслаивались на стоячую гипсовую и каолиновую пыль, образуя взвесь; казалось, кто-то разобрал протухший сливовый джем на молекулы и равномерно распределил их в воздухе, да так густо, что каждый входящий оказывался помазан этим дерьмом, забивавшимся в ноздри, в поры, под веки, под ногти и под обод воротника.
Из примерно двухсот квадратных метров три четверти были заставлены скульптурами. Козлы, зайцы, волки. Некоторые накрыты рогожей. Парочка, очевидно, находилась в начальной стадии: массивы глины, пронизанные прутьями металлического каркаса, вызревали в подобия надутых грудин и изогнутых шей, покоясь на деревянных подпорках, отдаленно напоминая части женского мяса, подсыхающего в пустынях Грича. Но беспокоило даже не это. У козлов, возле которых мы стояли, были человеческие гениталии. У каждого по пенису, исполненному хрестоматийно, – в натуральную величину и предельно достоверно. На пике эрекции. Надо полагать, козлы были любовниками. И, получается, геями.
– Прямо как живые, – прошептала Регина. – Так страшно…
Шилоткач жевала сильно пахнущую клубничную жвачку.
– У нас в Архангельском краеведческом музее тоже так, – сказала Света и надула большой пузырь. Лопнув, он повис на ее остром статуарном носу. Шилоткач соскребла розоватую пленку пальцами и затолкала обратно в рот.
Лицо Регины исказила мука отвращения:
– Бо-о-же… Света, у тебя же такие грязные руки, господи.
– Слышишь, мать, у некоторых сиськи волосатые. А у меня всего лишь руки грязные.
– Прекрати. Меня сейчас вырвет.
Мастерская находилась на Мойке. Двор напротив Конюшенного ведомства. Было около половины четвертого. Наверное, Зандер уже устала. Во всяком случае, тени на ее веках сгустились. По мастерским она водила нас небольшими группами, «чтобы не натоптали», и это был уже не первый подход за день. Она стояла спиной к окну. И говорила что-то о подглазурных пигментах. На улице шел зимний дождь. Водянистые хлопья снега сползали по внешней стороне стекла, будто улитки, оставляя слизистые следы. Время от времени с крыши падали тяжелые капли. И ударялись о подоконник, как о дно пустого ведра. Типичный февральский день. Петербургский. Так сказать, фрагмент общей патологии места – один из тех дней, в какие электрический свет включают в три часа пополудни – на момент, когда человек еще не сделал и половины того, что хотел. Лампа накаливания символизирует смерть светового дня. Поэтому в такие вот «пасмурные» погоды неявное присутствие смерти оказывало влияние на бессознательное: смерть пробиралась в мозг человека с черного входа, не заявляя о себе, и человек в три часа дня, находясь в полноте сил и надежд, ни с того ни с сего начинал чувствовать собственную беспомощность и уже в четыре упирался в большую и необъятную, как земля, бессмысленность бытия (которая всегда тем очевиднее и яснее, чем меньше видна ее причина).
– Ангобы… так называемые… – говорила Анастасия Дмитриевна, – пигменты, натуральные минеральные краски… наносятся акварельно, в некоторых случаях на необожженную скульптуру…
Со спины ее охватывал молочно-кислый свет из окна. Отличники, обступившие ее, – Марина и прочий актив – прислушивались и записывали, держа тетрадки на весу. Я, Шилоткач, Регина, Юра и Женечка стояли отдельно, поодаль, спрятавшись за целующимися козлами.
Скульптуры действительно выглядели как живые. Зритель чувствовал все – толщину костных тканей, натяжение фасций, тесноту мышечных корсетов, прохладу хрящей, влажность носов. Но главное, все мы ощущали еще и это: животные знают, что мы здесь. Они наблюдают за нами. У нас своя реальность. У них – своя. Едва ли обделенная чувственной данностью. Скорее наоборот – перенасыщенная ею. Да, перенасыщенная. Возможно, именно это вызывало тревогу. С животными было что-то не так. Им угрожала опасность? Из той – их реальности нам были видны лишь тела – остальной массив обстоятельств оставался за кадром. Мы не видели ледяных слоев наводнения или занесенного лезвия, сжатого волосатыми руками. Но мы чувствовали, как, возбужденная неосознанным пока страхом, внизу живота слегка набухает тонкая кишка.
Некоторые из животных находились, мягко говоря, в неудобных позах. Какой-то козел до неузнаваемости растянул позвоночник в шейном отделе, пытаясь достать до собственного члена, изогнувшись через правую ногу. Вероятно, желая у себя отсосать. Два зайца, подогнув головы к грудинам, теснились валетом в чем-то походящем на гроб. Большой кролик сидел, развалив ноги, как мастурбирующая женщина, и тупо глядел в собственное треснувшее пивное пузо. Художник знал анатомию как «Отче наш». Он мог бы лепить, даже ослепнув. Анатомия движения, равно как и анатомия покоя, были виртуозно вынесены вовне, сообщая о структуре тела на данный момент. Но, помимо этого, вовне была вынесена и анатомия усилия – зритель мог понять переживаемый животными дискомфорт или даже боль, боль на грани физической катастрофы, на грани гибели. От этого Регине и было страшно.
Сзади нас беленькая худосочная козочка стояла на передних ногах, упираясь в пол тонкими копытцами. Тело ее, будучи вертикально воздетым, находилось практически перпендикулярно земле. Подогнутые задние ноги упирались в стену на высоте полутора метров. То есть коза делала нечто вроде березки, только наоборот, не грудью к подбородку (как на физкультуре в школе), а затылком к спине. Можно себе представить, что она чувствовала! Холод в задних конечностях. Огустение крови в передних. Онемение таза. Давление в коленных суставах, готовых вот-вот соскочить с чашечек. Удушье. Неустойчивость. Малейшее дуновение – и тело козы могло ослушаться, не податься балансу, взять крен в совсем ненужную сторону – и перелома шеи не избежать.
– Господи… – прошептала Регина. – Такое впечатление, что сейчас упадет…
– Не ссы, мать. У нее в жопе кронштейн, – сказала Шилоткач.
– Что?
– Что, что… к стене прибита лошадка.
– Свет, ты не видишь разве, это коза?
– Она просто занимается йогой, – пояснила Женечка.
К нам подошел Олег.
– Вам, Женечка, нельзя на это смотреть, – он кивнул на мужские пенисы.
– А чё? – спросила Шилоткач. – Все как у тебя. – Света надула пузырь, который тут же лопнул, поддав вырождающимся клубничным газом прямо Олегу в лицо.
– Да тихо вы! И так ни фига не слышно…
– Для подкрашивания глазури, как и для ангобов, используют оксиды хрома, дающие зеленый цвет… и меди… Для какого? – спросила Анастасия Дмитриевна. – Не помните?
Все молчали.
– Для бирюзового, – ответила она сама себе.
– А вот есть там такой, мм… кролик… салатовый…
– Салатовый?
– Ну вон там, такой зеленоватый… оливковый… Этот цвет как получается?
Зандер улыбнулась. Серьги в ее ушах дрогнули.
– А это уже секреты мастера. Гарик? Ум? Как ты делаешь оливковый цвет? – от хитрости вокруг ее глаз сложились очень красивые морщинки. Скульптор молчал.
В эту секунду, когда она назвала его по имени, вот так запросто – Гарик, будто он был мальчиком из рок-группы, а не богом, я его и увидела. Увидела, как он стоял. В профиль к студентам. Глядя в пространство. Вислорукий, как обезьяна. Крепкий, тяжелый – не толстый, не оплывший, не раскачанный, а тяжелый. Высеченный из камня. Костоправ. Гоплит. Мясник. Осмирид. И горящие из него два лакированных глаза – две переспелые вишни в античном черепе, сочащиеся медовой слезой, – два бликующих глаза кого-то того, кто смотрел на мир из тяжелой туши, одетой в потную футболку с широкой горловиной.
В этот момент я уже знала, что пересплю с ним. Он не понравился мне. Да и как мог понравиться? Человек в резиновых сапогах. За сорок, яйцеголовый, живущий в дельте реки, обвязанный фартуком, выпачканным гипсом и пластилином. Когда он мылся? Кто знает. Раздеться? Вдохнуть его запах? Разве это возможно? Представить такое я не могла. Но в чем-то неназванном, в чем-то вроде пластов времени произошел тектонический сдвиг, и слой прозрачного будущего слегка наполз на непроницаемое настоящее – ощущение физической близости между нами уже находилось здесь. Оно пришло в эти комнаты раньше, чем секс. Я понимала, что видимое мною сейчас, включая козлов, битые конечности и колбы с пигментами, – картина, привычная глазу той Тани Козловой, которой я стану. И испытала влечение. Влечение не к мужчине, а к собственному будущему, к собственному пути, нащупанному вот так вот вдруг, без всякого труда, просто пойманному вслепую, даже не наугад, а случайно! – вечно ускользающий в небытие, горячий, жирный и изворотливый хвост судьбы просто так вляпался в мои без дела растопыренные пальцы, и я сжала их прежде, чем поняла зачем. Такие накладки случались в моей жизни еще, но к тридцати все реже и реже, а после совсем перестали – видимо, за некоторой гранью человек теряет способность ловить скользкую рыбу руками и вступает в эпоху будильника, сетей и труда. Но тогда, в двадцать лет, я посмотрела на Гарика и поняла, что мы – будущие любовники. Про это понял и кот, подвизавшийся при мастерской крысоловом. Старый, бородатый, прокуренный и засаленный, как гимнастерка, он прошел мимо, запрыгнул на козлы, заваленные кистями и шпателями, лизнул лапу, приуселся и посмотрел мне в глаза. Будучи представителем мира живущих во времени, устроенном как-то иначе, чем линейно, он узнал меня. И высокомерно не поздоровался.
Зандер попросила спуститься и подождать у парадной. «Парадная» была разбита в хлам. Ступени крыльца проедал могильный лишай. В эмалированную миску, оставленную для собак, падал жидкий снег – прямиком в почерневшие остатки еды. В сугробе размокали бычки. Мокрый угол вмерзшей цветной газеты, высвободившись из-под стаявшего льда, трепался на ветру. Между окнами второго этажа зияло несколько четких выбоин, пять или шесть. Военных времен или нынешних – оставалось только гадать. Традиционный охристый желтый, которым закрашивают весь нелицевой Петербург, на доме Строкова почему-то зацвел зеленцой. Местами стены опаляла ржавчина. То есть здание выбивалось из общего ряда, как мертвый зуб, хранящий в себе мумию нерва, захлебнувшегося гноем еще лет сорок назад. Это было слишком даже для человека, привычного к питерским подворотням. Дом стоял буквой «Г». И впечатление усугублялось тем, что левую границу двора образовывала стена соседнего дома, которого, собственно, больше уже и не было. От него осталась только эта одна стена. Толщиной не более метра. Облупленная особенно откровенно – желтый слой кожи, отпав большими кусками, обнажал мышечную массу красного кирпича.
Просто стена. Как в кино про бомбежку. Даже с какими-то нишами для нимф или муз. С дырами под окна и дверь. Она торчала остро, вторгаясь в бессознательное напролом, через лобную кость, должно быть используя энергию и силу инерции той бомбы, которая при неизвестных обстоятельствах поддала ей когда-то с высоты прямо в самый хребет. Стена грубо разламывала интимный компромисс между бесконечной грудой несостоявшейся пока любви и куцей, как двадцатисантиметровая линейка, дистанцией жизненного пути. Стена могла бы разбередить в душе панический страх. Но нам, молодым, разве что было немного не по себе. Мы чувствовали себя детьми, подглядывающими без разрешения мамы в окно на оркестр и соседа в гробу.
Шилоткач выбила сигарету из пачки.
– Пиздец, – сказала она, рассматривая стену. – Просто пиздец. Если б я здесь жила, я бы повесилась.
– Если бы, Светлана, вы здесь жили, вы бы продали квартиру и открыли бы в Архангельске ночной клуб.
Олег дал Шилоткач прикурить, прикрывая зажигалку от ветра.
– Им в Архангельске не нужен ночной клуб, – сказал Юра. – У них там есть краеведческий музей.
Мы засмеялись.
– Валим, – сказал Олег.
– А Настасья? Она же просила подождать.
– Потом спросим, чего она хотела. Пусть они подождут, – Олег кивнул в сторону кучки отличников и тех, кто всегда подмыливался к ним в актив.
Мы подошли сказать, что уходим. Еромче всех выступала Надя Косых.
– Буэ-э-э, буэ-э-э… – Надя сгибалась, хватаясь за живот, изображая безудержную рвоту. – Какой-то маньяк. Хочется помыться. Меня тошнит.
– Некоторых тошнит от правды, – заметил кто-то.
– От правды? Какой правды? В чем?! В том, что человек садист и ему нравится представлять издевательства над животными? – ответил кто-то за Надю.
Все стремительно перевозбудились и захотели обижать друг друга. Зандер никак не спускалась. Поднялся спор на повышенных тонах.
– Отвращение – это такая реакция на искусство у ограниченных людей! Все, что ума не хватает понять, сразу отвратительно…
– А что предлагается понять? Человек не любит животных. И растрачивает талант на выражение своей ненависти. Несчастный мужик…
– Ага. Мог бы не растрачивать талант, хуярить садовые фонтанчики и процвести.
– Да вы же!.. – Женечка сделала шаг вперед и с силой швырнула на землю рюкзак. Он вляпался в февральскую жижу. Женя гневно потрясла кулаками. – Да вы же… Вы же все носите кожаную обувь!
– Псс… Господи, а это к чему?
– К тому, что каждую минуту на бойнях умирают животные! Их поливают из душа, потом оглушают молотком или током, а потом подвешивают за ноги и сдирают кожу. Они едут в конвейере, как в концлагере, и их никто не спрашивает, хотят ли они умирать! А потом вы покупаете в магазине ботинки из кожи и почему-то вам ботинки не отвратительны, а эти статуи – отвратительны. Вы едите мясо и не считаете себя маньяками… А этого человека считаете…
Мы растерялись. Марина Зуйкович подняла Женин рюкзак и протянула ей.
– Успокойся, малышка, – Марина обвела нас взглядом. – Вы глупые, что ли, совсем? Вы вообще понимаете, что такое техника исполнения? Мастерство? Вы не чувствуете, насколько это мощно и точно? Вы не чувствуете, что за таким знанием анатомии годы титанического труда? Вас это не потрясает? Вы не понимаете, что для того, чтобы так лепить, надо отказать себе во многом? Надь, ты не беременна? Тебя слишком часто тошнит. Проверься.
Чтобы как-то ускорить прощание, я решила уйти.
– Подожду вас на набережной, – сказала я, дотронувшись до Регининого рукава.
У парапета было холоднее и ветренее. Двое мужчин стояли на нижней площадке спуска к воде и разливали водку в домашние рюмочки.
– Я ему говорил сразу, чтоб он четыре брал, – сказал один из них.
Я глянула вниз и увидела крысу. Она покоилась внутри льда. Заморожена в белом, как бабочка в янтаре. Даже пятнышко выдавленных кишок не утратило красноты. Конюшенное ведомство было изношено до предела. До мелового привкуса во рту. Просто пожрано герпесом, как какой-нибудь молочный павильон одесского привоза. Наверное, Стасову, лежащему в Некрополе мастеров, часто снился гнусный кошмар про то, как во рту часами крошатся зубы.
Порывом ветра с центральной башни сорвало жестяной лист. Он с дребезгом полетел в сугроб. Тут же в истерике чайка взвилась над рекой и заорала, как мать, получившая похоронку. Я вздрогнула.
– Так он так и должен был, изначально, – ответил второй мужчина, хотя со времен реплики первого прошла уже целая вечность.
Они опять замолчали. Второй аккуратно наполнил стопки, завинтил пробку и убрал бутылку в карман куртки, по-родственному припрятав поглубже от ветра, чтобы она не простыла. Я вернулась к воротам. Натянула рукава свитера на перчатки, взялась руками за прутья и, раскачиваясь, стала смотреть на однокурсников. Они курили и кричали. В стороне безучастно, молча, ковыряя носком сапога ледяную кашу, стояла только одна девочка. Имя которой я постоянно забывала. В ту минуту про себя я назвала ее Саббет, из-за «конского хвоста». Правда, он был не рыжим, а белым. Но все равно – тем самым, «конским», длинным и развевающимся на ветру, метавшимся как шелковый флаг на рее. Я поймала на себе ее взгляд. Странный. Мрачный. Как будто она знала, что сейчас меня сметет пьяная машина, но нарочно не говорила, полагая дело решенным. Зандер уже спустилась и что-то объясняла, держа руки в карманах.
* * *
– Что она сказала? – спросила я у Регины.
– Ну, там, сначала она сказала, что можно будет взять творчество маньяка темой курсовой, по современному искусству. Вот… И Зуйкович, и вот эта Оля… сразу захотели.
– Какая Оля?
– Ну, такая, с белым длинным хвостом.
Значит, Саббет звали Олей.
– Странная, кстати, баба, – заметила Шилоткач.
– Она из детдома, вы знаете? – Регина сморкалась в нежный платочек, расшитый пасхальными яичками.
На Конюшенный мост поднялась черная открытая карета. В ней сидели иностранцы в заячьих шапках и пили «Арарат». Кучер пропускал автомобили. Лошади срали в снег. Мы остановились у фонаря, чтобы скинуться на пиво.
– Из детдома? Оля с хвостиком? – спросила Женечка, выскребая из кошелька деньги вместе с какой-то кедровой шелухой, тут же подхваченной ветром и разметенной в прах. – На, купишь мне сок, пожалуйста, – она протянула Юре мятую бумажку.
– Да. Ее воспитывали приемные родители, – ответила Регина. – Вы заметили, она такая спокойная-спокойная, скромная-скромная. За два года почти ни слова не сказала. Представляете, может быть, она девственница.
Мы перешли на другой берег и двинулись в сторону Невского.
– Ну и что? – Женечка возмутилась на свой обычный манер – по-пионерски, сдвинув брови. – Я тоже девственница.
– Вам это мешает? – спросил Олег, элегантно подав Женечке руку, чтобы ей легче было переступить лужу. – Евгения, если эту проблему надо будет решить, то вы всегда можете рассчитывать на меня. Я гарантирую вам компетентную помощь…
Мы свернули во дворы капеллы. Темнело. Под аркой между вторым и третьим двором пахло жареной мойвой. Там мы и встали. Где-то была открыта форточка. Потому что мы слышали живую песню. На стихи Рюккерта.
– Ну где этот олень? – Шилоткач нервно оглянулась.
Юра как раз бежал, позвякивая пивом. Олег открыл бутылки зажигалкой. Два маленьких мальчика гоняли мяч в проеме арки, шаркая ногами. Мяч стукался о тени в сгущавшихся сумерках. Зажглись фонари. И слякоть заблестела.
– Но вообще-то… – Олег запрокинул голову и сделал несколько больших глотков из горла. – Вообще-то, – сказал он, вытирая губы тыльной стороной ладони, – козлы с хуями – это, признаюсь, кхе… не отплеваться.
– От глиняных хуев не отплеваться, а твой, наверное, мироточит, – сказала Шилоткач.
– Я, простите, Светлана, свой в Гамбургском вокзале и в Британской библиотеке не выставляю.
– Ха! – Света ткнула пальцем в плечо Олега. – Слышишь, ты в библиотеке по три телки в неделю снимаешь. Жениться обещаешь. А потом эти дуры чисто на телефоне, ждут твоего звонка, вместо того чтобы жить свою жизнь. А ты не помнишь, как их звать и сколько их было. Живешь как во сне.
– Параллели, которые вы проводите, э… Светлана, не успеваю уследить за вашей логикой.
– Логика простая. В музее хуй каши не просит. Деньги заплатил, посмотрел, не нравится – ушел, нравится – подрочил. Сам выбираешь.
– Интересно, – Олег затянулся. – Я, кажется, никого насильно в койку не укладываю. Момент выбора присутствует.
– Ну да, – Шилоткач втянула сопли. – Только если б ты говорил им сначала: «Любезные, отсосите у меня бесплатно, я проститутками брезгую, хочу девочку из библиотеки», то они могли бы выбирать.
– Светлана, мне кажется, вы не вполне понимаете, что такое ситуация отсутствия выбора. Слава богу, жизнь вас, наверное, пощадила.
– Знаешь, брат, меня мать моя пощадила. Когда аборт не стала делать от такого же баклана, как ты.
Стоять стало холодно. Мы вышли на Конюшенную.
– Ой! – воскликнула Регина. – Смотрите!
К скамье был привязан алый гелиевый шар, весь мокрый от снега. Регина отвязала его, продела веревочку под погоном на кожаной куртке Олега и затянула двойной узелок. Мы вышли на Невский. И нас оглушил час пик. Света продолжала беседу.
– Никогда не понимала этого! – кричала она, раздирая горло. – Почему если двое оказываются в постели, то ответственность за это несет женщина?! Если это ее инициатива, то она виновата в том, что мужик согласился. Если это инициатива мужика, то она, сука, виновата в том, что она согласилась! – Остальное поглощал грохот машин, разверзающих волны грязи. Шарик рвался над нашими головами.
– Не выбрасывай его, – сказала Женечка, когда мы прощались у Гостинки.
– Не волнуйтесь, Евгения. Я высажу его в горшок. У меня как раз на днях скончалась герань. Умерла от старости. Освободилось место, – заверил Олег, целуя Женечкину маленькую руку, перемазанную чернилами. Индийские колечки блеснули, поймав огонь фонаря.
Перед тем как спуститься в переход, я последний раз посмотрела на город. Невский – широкий, мокрый и плоский, гранитный блин, оплеванный и облеванный, обтекающий пивной пеной, – с одной стороны, вроде бы лежал под ногами, но, с другой стороны, двигался, как скатерть, стягиваемая за угол. Он засасывал сам себя, во всю свою ширину, вместе с горячими ресторанами и билетными кассами, витринными сервизами и свадебными платьями, толпами гопников и напомаженными нищенками, навьюченными тюками, – засасывал в Аничкову перспективу и тут же с треском разрывающегося фейерверка выхаркивал обратно бенгальские искры – выплевывал в лица идущим ослепительные огни дальнего света.
* * *
Я даже не позвонила. Я просто пришла. Спустя месяца полтора. Сказала подругам, что влюбилась. Съела на дорогу плавленый сырок. Надела черный берет. Вышла на Сенной. И отправилась вниз по реке. Это была первая неделя апреля. Лед уже сник и треснул. Глыбы начали отделяться, заголяя участки бурой воды, но еще особенно не расплылись и местами стояли густо. На них валялись пивные банки, пластиковые бутылки из-под колы, попалась даже одна канистра. Под Певческим мостом выделялась длиннющая льдина с идеально ровным левым краем – тем, что всю зиму прилегал к стене канала и теперь отклеился сразу пятью десятками метров. Край этот был черен, как подступы ада. Его в два слоя покрывали бычки. Вот так, глядя на реку, можно было многое понять о людях: газированные напитки, сигареты, нечистоплотность. Вечная молодость, легкомыслие, безродность. Беззащитность, злоба и суицид. Северная Венеция. Я шла и думала, что хоть какой-нибудь студент консерватории мог бы хоть раз в жизни швырнуть с берега нотную тетрадь! – но нет. Он предпочитал не творить историю. Революционный шаг держали ценители фанты и пепси-колы.
У парапета стояли три старшеклассника. Они плевали в канал и любовались на полет тяжелых харчков. Я остановилась напротив дома. Страшно ли это – прийти к мужчине без приглашения? Страшно ли это – заявить о своих желаниях? Страшно ли это – остаться непонятой, отвергнутой, посрамленной? Страшно ли это на самом деле, или все-таки это страшно потому, что должно быть страшным? Я посмотрела вниз. И увидела два голубиных крыла, замурованных во льду. Они были вморожены симметрично, прямо как в магазине на продажу – как могли бы изображаться на схеме крепежа к спинке новогоднего костюма. И даже перышки были распущены веером. Я вспомнила о том, что в прошлый раз здесь выставлялась крыса. Я подумала, что это хороший знак, и сделала первый шаг к воротам. Так что же все-таки страшного в том, чтобы прийти к человеку и сказать ему: я не могу тебя забыть, я каждый час думаю о тебе – что? Ничего. Страшно дать руку на отсечение. Страшно оказаться в тюрьме. А прийти к мужчине – не страшно. Даже если он плюнет в лицо. Не может быть страшно. Не должно. В конце концов, плохо кончил Онегин. За Татьяну не приходится волноваться.
Я просто пришла. За полтора месяца я могла бы что-то придумать, зайти на кафедру, попросить телефон, родить какой-то учебный предлог. Но я просто пришла. Поднялась на последний этаж, обтирая полами голубиный помет. Сжала кулак и постучала костяшками по твердому краю, заголившемуся от дерматина. Ленточка Мойки еще держала меня на привязи – не поздно было вернуться на землю, броситься вниз, ломая ноги, упасть в прохладный апрельский воздух, добежать до ларька и купить бутылочку фанты, чтобы остаться со всеми, а не стоять здесь под самой крышей в полной изоляции – в полном одиночестве: только я и мои мокрые ботинки. Но я осталась. И дверь открылась.
– Привет, – сказал он запросто, будто жене, вернувшейся из магазинов. И, отирая руки замаранной тряпочкой, добавил: – Рад, что ты пришла.
Я ощутила эту радость. Определенно. Как ощутила бы запах разломанного в полуметре мандарина. Можно сказать, скульптор очистил эмоцию от обязательного здесь недоумения или неловкости, и свет оголенной радости пролился в меня с размаха. Ну кто бы еще из мужчин оказался способен? «Рад, что ты пришла». Он просто оставил свое чувство как есть – в первоначальном виде. Великий человек был велик во всем.
С точки зрения логики на тот момент в мире вряд ли существовала хотя бы еще одна женщина, способная заявиться к гениальному художнику спустя полтора месяца после того, как побывала на сорокаминутной экскурсии в его мастерской в числе еще пятнадцати человек – побывала, не обмолвившись ни единым словом. Но Строков встретил меня так, будто знал, о чем я думаю все эти полтора месяца. Предвидение было взаимным? Я расстегнула пуговицу. Он помог снять пальто, принял его со спины, в дореволюционной манере, и повесил на крюк, поверх груды сросшихся со стеною окаменелых с войны бушлатов, досыта напитанных минералом, потом и перегаром. Денег на химчистку у меня не было. Многократное заражение местным издохшим воздухом через пальто стало теперь неизбежным. Но углубляться в брезгливость не имело смысла, раз уж я все равно решила раздеться тут догола и где-нибудь даже лечь.
Коридор был до одури тесен. Не коридор, а щель. Проросшая внутрь хламом живая щель, которая сплющивала вошедшего, и тот чувствовал себя вобранным в некое окончательно больное нутро, загроможденное гроздьями тромбов.
– Я тебя ждал, – сказал он на вздохе.
В зал с козлами мы не прошли, а свернули в оказавшуюся сбоку маленькую комнату, комнатку, такую же кишкообразную, облегающую человека с головы до пят, но обжитую с тщанием, как вагончик с видом на океан. Справа стояла кровать, покрытая по-солдатски, без складочки. Слева – квадратное море книг. От пола до потолка. От угла до угла. Только ряды корешков, пригнанных плотно, на совесть, не хуже, чем чешуя леща. И прямо – треснутое окно. На подоконнике – облезлая жестяная банка – осколок империи, грузинский чай. Первый сорт. Чаеразвесочная фабрика имени Ленина. Я села. И натянула подол до колен.
– Сейчас кофе заварим, – он взял с подоконника банку и тряханул. Внутри что-то глухо, нехотя шлепнулось. – Армейский приятель привез, из Африки… Сейчас… Чайник… Кипятил уже, только вот снял с огня, и ты постучала… А?! Как знал, – он рассмеялся. Очень заразительно, трогательно. И, торопясь, вышел.
На полке, по центру моря, пред жмущими друг на друга спинами книг, стояла черно-белая фотография. Женщина. Лето. Малинник. Пестрое платье. Вьющиеся волосы. Височные пряди сколоты сзади. Спутанная челка. Счастливая улыбка. Комсомольское сердце. Спортивная кофта.
– Все, сейчас закипает, и можно будет залить, – он появился в проеме. – Потому что только крутым кипятком можно заваривать, иначе ничего не случится. Иначе просто щепка взойдет в холодной воде и это уже не кофе, а сплав бревна по реке.
– А у вас что, не растворимый?
– Ну, милая, обижаешь. Растворимый – для одиноких барышень. Мы же с тобой все-таки не смотрительницы Петродворца, можем себе позволить…
Он поднес к моему лицу открытую банку. Африканский кофе с виду походил на грязную муку.
– Вот, Степа, болтался на экваторе с легионом: в Афгане не навоевался. Поймал пулю, и, видимо, так понравилось, что захотелось еще.
От удивления я приоткрыла рот и глотнула воздуха.
– А что ты думаешь? – сказал он, с вызовом вздергивая подбородок. – И пуле пара нужна.
Вкус кофе устрашал. Чашка обжигала. На пальцы пришлось натянуть рукава. Исходившая паром мутная хлябь. Может быть, мы пили цикорий. Может быть, глину. Может, пыль. Или молотые кости бездомных собак. Скульптор ушел за вином. Я осталась одна. В принципе, счастье и так достаточно меня опьянило. Голова перевешивала туловище. Запаха – полный нос. Выпитая дрянь обволакивала песком горло и пищевод. Я прилегла. Треснутое оконное стекло было еще грязнее, чем кофе. Где я? Что там? Вид на Мойку или на смежный двор? Или там нет ничего, холод и пар? Стоит ли тогда уходить? Может, остаться здесь навсегда? Функцию окна взял на себя линялый снимок женщины, через который открывался вид на солнечный Советский Союз, зелень, юг, взморье, пионерские лагеря, полет стрижей, классики на асфальте и горячий хлеб. Сердце выбивалось из тела. Барабанные перепонки пульсировали в такт каждому удару. Лежать больше не было сил. Я встала и пошла посмотреть на козлов.
Очень крупный беляк сидел на заднице. Длинные уши опущены к полу и заведены за спину. Передние лапы – два понурых отростка, имевших недоношенный вид, – безвольно висели над брюхом. Между задними лапами, разваленными по сторонам, зияли лепестки гениталий, во всем их блеске взорванной мякоти апельсина или раскрытых веером жабр. Причем левую заднюю лапу заяц (или уж тогда зайчиха?) подобрал под себя. Внимание привлекал коленный сустав. Он был явно увеличен. Гипертрофирован? Я уставилась на это надутое колено. И вдруг, в один миг, меня пронзила трезвость. Боже, я вспомнила, где я его видела: везде. Так выглядело любое человеческое колено подогнутой человеческой ноги – обыкновенная коленная чашечка под кожей, натянутой до глянца. Я огляделась. По плоскости видимого беззвучно прокатилась рябь с эффектом стерео. Человеческие черты полезли из зверей – колени, локти, ягодицы, предплечья. Они всплывали на поверхность зримого, как пузыри на воде, – пивные животы, обвисшие щеки, сухие старческие щиколотки, характерно стекающая ткань икры с острой женской голенной кости. Из животных проступили люди. Господи, люди. Вот что казалось нам тогда странным. Это были люди, тщательно замаскированные под животных. То есть это были, конечно, козы, и, конечно, зайцы, и, конечно, шакалы, волки, олени, да, да, и они на первый взгляд были точными копиями – слепками с самой природы, ведь даже головки половых членов не бросались в глаза, вернее, бросались, но только во вторую очередь – в первую бросалось сходство: животные как живые, гиперреализм, черт, черт, черт.
Я пошла по залу. Теперь я увидела их. Мне удалось то, что не удалось в первую встречу. Я увидела их. И они ответили мне взаимностью: животные со мною заговорили. Та самая козочка, с кронштейном в жопе, в «березке наоборот», сказала: «Я на грани. Но я делаю вид, что это норма. Потому что так принято». Заяц с расколотым пузом сказал: «Я люблю пить. Я лопнул от того, что выпил слишком много. Но я не мог остановиться. У меня нет воли. Моя любовь оказалась сильнее меня. Но я не делал ничего плохого. Я просто любил пить». Козлы-геи сказали хором: «У нас вечный стояк. Двадцать четыре часа в сутки. От этого мы страдаем бессонницей. Женщина быстро кончается. У нее слишком хрупкое влагалище. После того как влагалище ломалось, мы пробовали трахать женщину в мозги. Но и это не помогло. Мы решили трахать друг друга, представляя, что кто-то из нас двоих – женщина». Заяц, пробитый чугунным ломом, сказал: «Я истекаю кровью. Я умру через десять минут. Но я не могу в это поверить. Я никогда не смотрел реальности в лицо. Не могу посмотреть и сейчас. В любом случае смерть лучше, чем прощание с иллюзиями». Олениха с повязкой на глазах сказала: «Те, кто ослепил меня, сильнее. Их много. Они диктуют. И если они попросят меня раздеться на сорокаградусном морозе догола, мне придется сделать и это». Заяц, зажатый в каменной коробке, сказал: «Я проснулся в гробу. Я всю жизнь боялся этого. И теперь, когда это произошло, я спрашиваю себя: это произошло потому, что я этого боялся? Или я боялся этого, потому что чувствовал, что это обязательно произойдет?» Постепенно их голоса слились в гул, от которого воздух плавился и дрожал, как над огнем. Я закрыла рот руками. Африканский кофе скребся наружу, расцарапывая мне пищевод. Дверь хлопнула. Строков принес бутылку красного водянистого мерло, впрочем, теперь, на отдалении, мне кажется, что в те времена мы пили только такие – кислые, худые соки отечного винограда, всходящего из неведомых, малых и небогатых, набрякших от дождей земель.
Строков заметил, что я посматриваю на фотографию советской женщины.
– Красивая?
Может, это была его мать? Допустим, в молодости. Я неуверенно кивнула.
– Ну… Да. Красивая.
– А то! – он взял снимок правой рукой, а левой сделал народно-сценический замах с оттяжечкой и понарошку приударил по женщине тыльной стороной ладони. – А! Красотка?! Скажи? Эх! Это она на картошке.
Он наполнил бокалы.
– Раньше художников тоже на картошку, как и всех, посылали черпать вдохновение в полях. И вот, мухинцы целыми днями на четвереньках… копаешь землю, дышишь землей, к вечеру – уже на сорок процентов состоишь из земли, потом в сельпо за водкой, потом танцы, потом мордобой. Счастливое время. А это с моего потока, Наташка Орловская, жена друга моего, ей тут восемнадцать. Сейчас ей, как Настьке, за сорок. Она на пару лет меня помладше, я-то в Муху пришел после Афгана, а они после школы… Но вообще, я тебе скажу, она сейчас выглядит точно так же. Вот точно. Богом клянусь. Никакой старости, никакого увядания, только одно цветение, только краше и краше.
Строков сунул фотографию мне в руки. Ничего не оставалось, как взять.
– Ни капли не изменилась. Вот то, что ты видишь, вот то и сейчас, – он посмотрел в окно. Будто Орловская ждала нас на улице. Из вежливости я пялилась на фотографию с минуту.
– Это ваша любовь?
Он рассмеялся.
– Милая моя, мы так хорошо знаем друг друга… Любовь между нами невозможна. Любовь живет там, где остается место для домысла. Или для вымысла, если угодно. Человек любит то, что придумывает сам. Кто угодит тебе лучше тебя самого? Не родился на свете еще ни один мужчина, который был бы краше того, которого ты придумаешь там, – он легонько ткнул пальцем в мой лоб.
Африканская кошка опьянела и устроила в моем пищеводе пожар.
– А у вас водички нет?
Строков вышел из комнаты. Наконец-то я поставила фотографию на место и от нечего делать взяла с полки книгу, которая выделялась тем, что стояла не спиной ко мне, как положено, а обложкой, как Наташка Орловская. То есть книга занимала особое положение – того, кто, как и Наташка, слишком хорошо узнан. Сероватая, она имела дряхлый, слоящийся вид. Буквы на обложке до смерти исшелушились. Мне захотелось посмотреть внутрь. Приоткрытые свету страницы затрепетали. Они выглядели трухляво – хрупче бабочек и сыроежек, как письма с фронтов, найденные в земле вместе с костями солдат. «Наука». 1968. Книге не исполнилось и тридцати, а выглядела она на все триста. «Рукопись, найденная в Сарагосе». Название возбуждало какие-то тонкие, практически неуловимые, безымянные чувства, редко приводимые в действие (наподобие мелких спинных мышц), – нечто вроде детского благоговения перед медицинскими энциклопедиями или динозаврами. Переплет хрустнул. Где-то в недрах его текущего предсмертия порвалась еще одна нить. Я чертыхнулась и резко захлопнула старую устрицу, но не успела поставить на полку. Скульптор уже вошел со стаканом воды.
– О… – пропел он сладко. – Это фантасти-и-и-ческая вещь. Сам не верю, что владею! Ян Потоцкий, «Рукопись, найденная в Сарагосе». Тебе даже смотреть не дам, ты еще маленькая.
– Почему?
– Потому. Некоторые книги надо заслужить. Заслужить, ценой собственной жизни.
– Она что, антикварная?
– Антикварная.
– Так там же написано: 1968 год издания.
– Так ты уже открыла и посмотрела?! Ну ни на минуту вас, барышень, нельзя оставлять.
– А что? Я аккуратно. Просто открыла… я ей ничего не сделала…
– Ты ей нет. А она тебе? Откуда я знаю?!
– И чего теперь будет?
– Ну… Увидим. Завтра проснешься, а на голове рожки.
– А про что там?
– Хм, ты что, думаешь, я сейчас вот так просто возьму и расскажу?
– Ну, так, в общих чертах.
– Ты не поймешь. Эта книга для тех, кто готов. Ее написал человек, которого персонально пригласили в мир иной. Это человек избранный. Он присутствовал… Он пережил минуты, максимально наполненные смыслом… Отважнейший из отважных. И потом он написал об этом. Но явно не для того, чтобы юные барышни в студенческом общежитии баловались его знанием в перерыве между стишками и мальчиками.
Мы допили мерло и пошли гулять. Весна выветривала граниты. Между льдинами рябила вода. Она была желтой, такой яблочно-желтоватой, будто в кубок темного вина слили мочу больного, а потом, соответственно, опрокинули в небо – сгущались тучи. Над землей взметало целлофановые пакеты и обрывки газет. Глаза колол песок. Начинало темнеть. Скульптор повел меня «короткой дорогой». Ни до, ни после я больше не встречала человека, настолько хорошо знающего старый город. Собственно, мы просто шли через стены. Строков знал каждый двор, каждый пролет, каждую сквозную парадную. «Знал» – мягко сказано. Не то чтобы знал – постиг. Он вник в нагромождение разновеликих дворов, то и дело смыкающихся перед пешеходом в глухих тупиках, полных черной мерцающей слизи. Он вник в то, что простому смертному представлялось саморастущим каменным хаосом, рассеченным меридианами улиц и скудными параллелями рек, и, вникнув, извлек из разваливающегося на крупные кварталы песочного торта скрытую между слоями времени тончайшего плетения паутину лабиринта, через который научился протекать, как жидкость.
Окна цокольного этажа были выбиты подчистую. Из глубины помещений светился маленький опрокинутый стульчик. На детской площадке гнили деревянные ящики. Рядом стояли парни в гондонках. Вздутые ветром куртки, сутулые спины, поднятые воротники, нервный тик, красные руки, семечки под качелями. Мы шли через двор диагональю, в дальний угол, который не предвещал продолжения. Трое парней смотрели оценивающе, а четвертый, стоящий спиной, оглядывался на нас, брезгливо подергивая головой. Мальчики мерзли от скуки. Обмирая в праздности, их души, как последнего спасения, алкали и брани и боя.
– Здесь раньше детский садик был, неплохой, – сказал Строков.
– А вы вообще не боитесь так ходить?
– Как?
– Ну, такой двор… Сомнительный, какой-то нежилой, вон гопники жуткие.
– Чего это жуткие?
– Вы что, не видите, как они на нас смотрят?
– Ты боишься, что ли?
– Конечно. И зачем мы туда идем? Там же нет прохода. Вы… Как отсюда выйти? Знаете?
Он остановился. Уж совсем некстати. Мне казалось, впору бежать.
– Со мной можешь забыть о страхе. Будешь гулять с другими кавалерами – будешь бояться. Со мной можешь отдыхать. Вот уж что-что, а бояться – это точно не со мной.
– Да я…
Он перебил меня:
– Милая моя, у меня черный пояс.
Я прыснула:
– Прикалываетесь?
– Послушай, – он положил мне руку на плечо, – я человек военный. Барышни, которые меня хорошо знают, когда со мною на прогулке, если что, бросаются хулиганам в ноги с криками: «Миленькие, не надо! Только не трогайте его! Иначе кости переломает и имени не спросит! Миленькие, бегите, умоляю!» Я семь человек раскидаю за минуты. Отставить бояться!
Это было смешно. Хотя интонация казалась неоднозначной, а шутка вовсе не очевидной. Кто знает, может, он не шутил. Да и шутят ли такими вещами? Хвастовство? Тогда не слишком ли грубо? Как я должна была реагировать? Отказаться от предложения ощутить себя в безопасности? Вечер проходил божественно. Мне было весело. Все представлялось сказкой. Будто бы я проникла в собственный сон. Или в ночной Париж. Будто бы грудь жгла запазушная золотая рыбка. Одно желание определенно исполнилось: мужчина, которого я задумала, стал явью, шел по улице рядом, живьем, во плоти, дышал, источал тепло, говорил и даже держал руку у меня на плече. Дело оставалось за малым. Два желания в запасе. Лучшее впереди. На носу эпическая любовь. Мир недозавоеван на каких-то две трети. Чудо. Вот как все это называлось. Чудо, явленное мне персонально, как медаль за отвагу. Так сказать, Тане Козловой, наравне с Яном Потоцким, выпал знак из мира иного. Стоило ли в этот блистательный момент придираться к словам? Черный пояс так черный пояс. Я взяла под козырек и крикнула:
– Есть!
Мы прошли до упора, угол растянулся, раскрылся, вытек в щель, раздулся нишей, Строков взял меня за руку, потащил внутрь, в сгущение тьмы, и в две ступени мы упали под землю, оставив на улице бледный вечер. За горящей спичкой мы прошли, пригнув головы, под лестницей, на изнанке которой я успела прочесть бордовые буквы: «Воронина – my love».
– Хорошее название для романа, – сказал он.
Под ногами хрустели стекла. Огонь погас. Строков навалился на темноту. Скрипнули петли. Пахнуло свежестью. И вдруг передо мною открылась просторная набережная, вышина неба и глянец черной воды.
– Где это мы?
– На Пряжке.
– Ого! Да как же?! Как мы сюда попали?! Блин, не понимаю! – я смеялась. Восторгу, как воздуху, не было предела.
Мы прошли еще немного, Строков потянул на себя тяжелую дверь и завел меня в ухоженную парадную.
– Мы в гости идем?
– В гости, – ответил он, поднимаясь по лестнице. – Уже пришли.
Скульптор встал у окна, на площадке между этажами. Я осталась на первой ступени и смотрела на него снизу вверх, ожидая разъяснений. Мне мерещилось, что я вижу себя его глазами и что мои глаза сверкают от влаги.
– В гости к Блоку.
– О! Он здесь жил?
– Тихо. Чего кричишь? – скульптор приложил палец к губам. – Он здесь и сейчас живет.
Дверь в музей-квартиру была приоткрыта. Самую малость. Внутри горел свет.
– Пойдем? – спросила я.
– Вот дурочка, куда пойдем? Поздно уже. Закрыто сто лет. Ночь на дворе.
– Так свет же горит!
– Так что ему, без света сидеть? Как ему, по-твоему, в темноте стихи писать?
Я села на подоконник. Пошел дождь. Первый дождь в году. Строков присвистнул.
– С весной тебя.
– Спасибо, – я приложила лоб к стеклу. – Наверное, он здесь курил, – сказала я. И почему-то именно эта фраза запечатлелась в сознании по-настоящему навсегда: весь остальной роман со Строковым раскрошился на невнятные, мутноватые смальты, а эта фраза встала в памяти сросшимся из четырех слов холодным камнем. Именно в ней максимально точно выразились приметы юности: сигареты, скудная фантазия, позерство. И сегодня, много лет спустя, именно в ней для меня сконцентрирован весь тот стылый ужас, в котором, как в околоплодном киселе, мы плавали, лгав и расточая, принимая собственную ограниченность за естественное проявление родственной нам материнской, единственно возможной среды. Наверное, он здесь курил. Иногда эти слова настигают меня, отвлекают внимание от повседневности, ослабляют контроль над мышцами и, раскрывшись, как непрошеные цветы, проливаются из архивов в центральный канал спинного мозга бесцветной мерзлотой. В такие моменты я цепенею и спрашиваю себя: как я выжила?
– И слушал шум крушения старого мира, – добавил Строков.
Из, как мне тогда казалось, сухого, чистого, белокаменного подъезда, светлого, как дворцовый холл, приютного, как полость елочного шара, мы шагнули на тротуар под самый ливень. Мне сразу затекло за шиворот. Стемнело. Город блестел от воды. Скульптор проводил меня до общежития.
* * *
Я шла по коридору, как обычно, полная решимости. Шла, дожевывая на ходу сосиску в тесте, и, перед тем как постучать, слегка, как бы и невзначай, отерла руки о юбку.
– Войдите.
Я приоткрыла дверь и просунула голову в щелку.
– Можно?
– Да-да, Козлова, пожалуйста, проходите.
Чтобы не показаться невежливой, я все-таки потопталась на пороге, изображая стеснение. Тимаков сидел за столом, проверял конспекты. Я осмотрелась. На кафедре философии все было не так, как у нас. Никакой толкучки, бардака, никаких наваленных книг, свертков, корреспонденции, стенгазет, ничего. Тишина. Покой. Пустые столы. Прибранные тетради. Электрический чайник. Строго выметенные ковры. Комнатные цветы. И пластмассовая леечка в пупырышках.
– Присаживайтесь, – сказал Дмитрий Валентинович, не поднимая головы от работы.
Я выдвинула деревянный конторский стул и села.
– Вы по поводу семинара?
– Нет, – я прокашлялась. – По личному вопросу.
– Слушаю вас.
– Дело в том, что я влюбилась.
Дмитрий Валентинович потряс шариковой ручкой, которая, очевидно, перестала писать.
– Я познакомилась с мужчиной, ему сорок четыре года.
Профессор начал поочередно доставать из стаканчика разные видавшие виды ручки и расписывать их на уголке страницы.
– Пока что у нас ничего с ним не было.
Одна ручка упала и покатилась по полу. Я вскочила, подняла ее и подобострастно шлепнула на середину стола.
– Благодарю, – кивнул Дмитрий Валентинович.
– Ну так вот. Мне очень нравится этот мужчина. И мне хотелось бы… То есть у меня чувства, а чувства – это целая веха.
– Да. Пожалуй.
– В общем, я хотела бы найти с ним общий язык. Понять, что он за человек. Я так… я просто сама по себе не смогу его заинтересовать… Короче говоря, я была у него дома и там видела книгу. Он придает ей большое значение, говорит, что она – особенная.
Дмитрий Валентинович окончил проставлять подписи в конспектах и отложил пачку тетрадей в сторонку.
– Вы не голодны?
Я помотала головой.
– Пить только хочется.
– Тогда включите, пожалуйста, чайник. Откройте вон ту дверцу, возьмите чашки, прямо берите, доставайте, доставайте оттуда все, и заварку тоже, и сахар…
– Димочка! – послышалось из смежной комнаты, дверь в которую была открыта. – Будьте так любезны!
– И третью чашку, – сказал Дмитрий Валентинович.
Продолжая болтать, я выставила из тумбочки кружки и отметила про себя, что вымыты они были прилично, как могли быть вымыты только очень умной женщиной.
– «Рукопись, найденная в Сарагосе»? – Дмитрий Валентинович откинулся на спинку стула. – Это же Ян Потоцкий, польский романтик, путешественник, археолог… это какие-то сказки, вроде авантюрные новеллы, честно говоря, я уже не помню… Типа «Тысячи и одной ночи». Истории в историях. От лица офицера. Ну, там, да, есть какая-то ирония, он был блестяще образован, лез в политику… А собственно, в чем проблема? Возьмите в библиотеке, прочтите, если уж так… хотя… Пакетики сразу выбрасывайте, сразу, там под этим, да-да, урна, вон там, правее…
– Понимаете, может, я и прочту ее. Только я ведь могу не понять.
– Не понять чего?
– Он сказал, что в этой книге содержится какое-то знание. Свидетельство. Она редкая и доступна только избранным. Вернее, ее смысл открывается только тем, кто готов.
Дмитрий Валентинович недоуменно поднял брови.
– Козлова, послушайте, я два года наблюдаю за вами. Вы производите впечатление человека, не тонущего в воде и не горящего в огне. Думаю, через медные трубы тоже пройдете, если что, – он подул на кипяток. – Неужели вы не видите? Не чувствуете каких-то простых вещей? Мужчина, демонстрирующий сверхъестественные книги! Господи, фиглярство, и ничего более. Смехотворно, – Дмитрий Валентинович энергично помешал в чашке ложечкой.
Из смежной комнаты к нам вышел заведующий кафедрой философии. Так близко я видела мэтра впервые. На перекурах поговаривали, ему исполнилось сто два года. Дедушка в лощеном костюме, в ослепительно чистой рубашке, при галстуке густых кровавых тонов, седой, как сахар, двигался осторожно, словно боясь разломиться дорогой. Хрипло дыша, он добрался к столу Тимакова и поставил перед нами изящную коробочку печенья. Руки заведующего дрожали от старости.
– Угощайтесь, – сказал он, переводя дух.
– Александр Ефимович, – обратился к нему Тимаков, – в тот день, когда, кроме книг, мне нечего будет предложить женщине, убейте меня.
Дедушка засмеялся.
– Увы, не могу обещать, мой друг. Возраст чреват!
– Таня, если мужчина демонстрирует вам нечто, возвышающее его над вами, если с наскока приманивает на роковые книги, или, скажем, на те же дорогие автомобили, или бог знает еще на что, то, скорее всего, это значит, что внутри этот мужчина слаб. А любая слабость – болит. Я бы на вашем месте не связывался с больными людьми. К сожалению, зачастую это небезопасно.
– Но он рассказывал мне не только о книге!
– А о чем же еще?
– Ну… о многом. Он очень хорошо знает Питер, мы гуляли несколько часов, ходили в музей Блока; еще он говорил о любви, сказал, что любовь есть там, где есть место для домысла… или для вымысла.
– Место для вымысла? – переспросил дедушка. И переглянулся с Тимаковым. – Н-да… Место для вымысла, – повторил он мечтательно. – Это что-то вроде, знаете ли, офицерского корпуса, видимого из окон женского пансионерского… Я имею в виду на территории особого приюта для неизлечимых помешанных, – он снова рассмеялся. Хоть и немощно, но с большим удовольствием. И добавил: – Впрочем, не знаю, на что открывается вид из женского корпуса, не знаю. На самом деле я ведь не бывал. Вам не приходилось? – он лукаво прищурился. – А то, говорят, одно из самых живописных мест Санкт-Петербурга. Говорят, совершенно потрясающий северный модерн, дивные красоты.
Старик с трудом поднял чашку и побрел обратно к себе – на вершину Олимпа.
– Таня, вам, на мой вкус, эта книга не особенно нужна, – Дмитрий Валентинович потер лицо ладонью. Может быть, у него болели глаза. От усталости. Или от сожаления. – Нет, конечно, прочтите, если хочется. Вы, кстати, с Женей Осмоловой любите петь песни Хвостенко. Так вот, история про Орландину как раз оттуда, из «Рукописи». Но вообще-то вам надо читать то, что поможет писать. Читайте тех, кто делает что-то с языком. Вам надо учиться точности высказывания, метафоре, надо идти к себе, знакомиться с собой, открывать собственные возможности, пытаться делать что-то с внутренними ограничениями, как-то двигать… Для этого нужен Набоков, наверное, не знаю, и прочие, словом… – он пожал плечами. И взглянул, как мне показалось, на дверь.
Я тут же встала и одернула юбку.
– Забирайте печенье.
Обалдевшая, я изобразила нечто вроде книксена на прощанье. Окликнув, Тимаков задержал меня в дверях.
– Лучше бы вам не тратить пока что много времени на мужчин, – сказал он с осторожностью. – Пока. Потом успеете. Лучше бы вам сейчас побольше читать и писать. Потом это все вернется… и в виде мужчин в том числе, только, я думаю, каких-то толковых.
Я захлопнула за собой дверь, прижала коробку с печеньем к груди и побежала по лестнице в библиотеку, спрыгивая с каждой предпоследней ступеньки. Кафедра философии произвела неизгладимое впечатление. Стакан с допотопными шариковыми ручками. Растения. Гигиена. Любовь друг к другу. Никакого интриганства. Полное искоренение хищничества и стяжательства. Философы не нуждались даже в книгах! Только чай и природа. А, В, С. Перевернутые птички. И Древняя Греция, вознесенная в память, как город детства. Грандиозно! Олимп стоил культа. Но шутки про «Скворечник» я просто не поняла. А советам внимать даже не собиралась. Потоцкого не оказалось на месте. Я села на диван и за десять минут съела все, что мне подарили. Потом заснула. Вырубилась прямо в читальном зале, придерживая на коленях коробку со сладкими крошками.
Глава VIII
В том году случилась странная, дикая весна. Семнадцатого апреля город бросило в жар. Еще накануне без шапки болели уши, голые ветки стучали на ветру, пальцы в перчатке немели, горы ледяной грязи никли по чайной ложке, и вдруг – раньше всякого представимого срока, за каких-то полдня! – температура подскочила до двадцати. После обеда лопнули почки. В трамвае стало нечем дышать. Рельсы блестели на солнце. Шерстяные костюмы падали в обморок. Как будто слуги дьявола искусили весну явить знамение. И она, разгоряченная потерей рассудка, станцевала нам на столе.
Я шла по набережной, перекинув пальто через руку. Над верхней губой проступил пот. Блузка липла к спине. Парадная остудила. Пахло подвальными кошками. Строков открыл.
– О, привет! – воскликнул он радостно. – А перед тобой Ася вот только ушла.
– Кто?
– Ася, Ася. Настя, ваша училка.
– А…
– Приходила жаловаться на жизнь. Пла-а-ака-ла, прямо ой-ой-ой! Ай-ай-ай… Мишка плохо себя ведет.
– Кто такой Мишка?
– Ну Мишка Зандер, муж ее, вернее… – Строков рассмеялся. – Она – его жена. Ты что, не в курсе Михаила Зандера? Але? «Мортификация»? Ася не водила вас? В Русский музей?
Я помотала головой.
– Ну ты и темная. Ей-богу, мать, пугаешь. Бегом на «Мортификацию».
– Куда?
– На выставку Мишину, в Русский музей. Два дня у тебя осталось. Миша – бог. Это мы тут…
Он сделал кислую мину и в полунаклоне легонько всплеснул рукой над полом, обозначая нашу общую мелкотравчатость.
– А Мишка, он, знаешь ли, уже оторвался от земли и полетел.
Строков приподнялся на цыпочки и потянулся рукой к потолку:
– Мишка уже там давно.
– А хоть про что его картины?
– Слушай, ты б молчала. Ты Мишка не знаешь, кто такой есть. Тебя б уже пять минут назад как надо было на мороз выставить.
– Там плюс двадцать.
– Конец света, – пробормотал он под нос и кинулся надсадно заметать на совок битую форму. – А Аську жаль, Аську жаль… Аська хорошая тетка, мамская тетка. Вон сколько детей родила. Только женой художника быть – служение. Монашескую юбку надевают не для того, чтоб под нее сластей набить, правда же? А потом приходят плакаться: «Гарик, Гарик! Что мне делать, Гарик?!» – он с грохотом сбрасывал осколки гипса в жестяное ведро. Вздымалось облако пыли.
Я испытала укол смущения. Студентка невольно подсмотрела интимную жизнь преподавателя. Боже мой, Настасья Дмитриевна сидела здесь только что и ревела о гулящем муже. Место еще не остыло. Слезы на досках не высохли. Какой-то ужас. И почему Строков выдал ее? Это было как-то странно. Кроме того, казалось странным и то, что наша Настя, мечущаяся от кафедры к кафедре, по Васильевским, по Озеркам, из трамвая в трамвай, из погоды в погоду, из хранилища в фонд, по ученым советам, мастерским, галереям, разрывающаяся на сотню студентов и четырех сыновей, – наша Настя, не имеющая минуты для лишнего глотка чая, брела на досуге по Мойке, чтобы обнажиться про измены и пьянство некоего Мишки. Вообще-то, на картине Сандро Боттичелли Анастасия Дмитриевна изображалась одна. Конечно, Флора, Зефир, розы, но мужа там не было однозначно. В груди забрезжило смутное предчувствие какой-то очень крупной, чуть ли не осязаемой мысли, которая, по ощущению, скользила где-то рядом, будто дельфин, среди блуждающих во мне океанических бездн. Но, увы, эта прохладная мысль осталась непойманной, поскольку была игнорирована из-за художественного сострадания, которым я прониклась к Настасье вмиг – как в драмкружке над листками с ролью сочувствующего чьей-то горькой жениной доле. К горлу подкатил скороспелый комок.
– Так вот так. Вот так. Вон у Витьки Шарыгина жена – ни одной молекулы от этой жизни для себя не взяла, ни одной. Ни матерью не была, ни женщиной – ни минуты! Ни на что не претендовала. Отслужила гению двадцать лет. В пустой квартире. Голые стены. Кипяток без заварки. Витька получит грант сорок тысяч долларов и на все купит водки. Пьет ящиками, не выходя из комнаты, лежа на раскладушке, из горла, одну за одной, уже ходит под себя, потом белая горячка, а Валька все это время сидит на кухне. Просто сидит. Неделями сидит. За хлебом боится выбежать.
– Почему?
– А потому: ждет. Как только Витька начинает умирать, она тут же – за телефон, быстренько, быстренько скорую, обмоет Витьку, туда-сюда, погружает и на Литейный, в Мариинскую. Там неделями сидит около него в палате. Потом отвозит домой. Благодаря ей он жив еще, пишет неистово, прямиком в бессмертие. Так что… Редкая женщина может быть женой художника. Очень редкая… Мало кому по вашим девическим силенкам такое.
Слушая Строкова, я бродила по залу берегом фауны. Я уже начала чувствовать себя как дома. Через грязные окна пробивался свет бешеной весны. Какое счастье, что она наступила! В платьях придет любовь. К голым ногам. Дождались. Лучи пронизали суспензию, выводя в фокус калейдоскопические частицы разномастной грязи. Радиолярии переливались в разогретом воздухе, как в киселе, и медленно плыли с потоками солнца в долину козлов. Я заглянула в стоящую на подоконнике чугунную ступку. Внутри поблескивало битое в крошку стекло. Такова, наверное, мужеподобная пища кряжистых аскетичных полубогов.
– А зачем стекло толчешь? Ты его ешь?
– Ты что, дурочка? – энергичными движениями он соскребал с поворотного столика остатки пластилина. – Это для глазури. Вас вообще Аська учит чему-нибудь? Или вы там в куклы играете?
– А что, бывают такие гранты?
– Какие?
– Сорок тысяч долларов.
– Конечно.
Он скатал с пальцев пластилин, вытер руки тряпочкой, снял фартук. Мы пошли в комнату, пить шиповник – подарок семинаристов, копавших летом курганы в южном Приладожье.
– Прямо на домах мертвых растет, представляешь? Фактически на костях. Трудно даже осмыслить вообще… сколько там информации, в этих горошинках!
– Что за мертвые дома?
– Захоронения, гробницы. Называются «дома мертвых». Погибал человек на войне, и хоронили человека вместе с его конем, и все туда, в яму – и жену, и детей, и скот, и блюда золотые, и бусы, и оружие – все. Вот как провожали на тот свет. Вот какая вера была – чтобы горы двигать! И на такой вере теперь шиповник плодоносит, можешь себе представить чем.
Строков священнодействовал раз в неделю. В кипятке ягоды мякли, их животы разбухали, межклеточные стенки расползались, и в воду проливалась кирпичная кровь наших предков. Через пару часов взметенный ложкой осадок придавал настою специальный бальзамический цвет. Стоило сделать глоток, и внутриклеточное дыхание нарушалось, а потом выравнивалось, но уже в подбор к ритму погребальных обрядов; удары древнего бубна отдавались в мышцах – шиповник связывал поколения, разорванные тысячелетиями: человек обретал сверхцелостность. Из приличия я отпила полчашки. Разницы с африканским кофе практически не ощущалось. Строков рассказывал о том, как, получив в Стокгольме премию, прилетел в Пулково со спортивной сумкой, набитой пачками долларовых купюр. И, стоя в очереди на паспортный контроль, пинал сумку ногой, а потом купил бывшей жене двухкомнатную квартиру на Петроградской стороне. Я смеялась. Строков выпил рюмку водки. И почти через минуту еще одну. И следом – третью, после которой вдруг обмяк, опустил плечи и, пошатнувшись, оперся спиной о книжные полки. Задетый гримуар Потоцкого шлепнулся и застыл на полу, как пожилое мертвое тело. Вдруг Строков сказал:
– Женщину надо понимать.
Я молчала. Он смотрел. Не на меня, а в пространство, будто исповедуясь пред толпой. В нахлынувшем ни с того ни с сего волнении он потер ладонью яйцевидный череп и, слегка заикаясь, продолжил:
– Надо просто понимать, что она не должна быть одна в какие-то там… минуты, не должна мерзнуть, бегать куда-то по слякоти…
Вот тут-то, на этих словах, разразилась ясность. Передо мной стоял лучший из мужчин. Брат мой. Такой же, как я. Тот, кому не надо ничего объяснять. Мы одной крови. Наши жилы натянуты с одинаковой силой. Мне станет больно, и ему станет больно. Слова не понадобятся. Мой выбор не случаен. Все это – и предвидение, и решимость, и направленность стоп, и полнота в сердце – пришло извне. Я встала с кровати. Спиной к треснутому окну. Строков отделился от книг и навалился на меня дышащим влажным телом. Я только успела подумать: «Мешок с дождем». И мы поцеловались. На внутренней стороне стекла, в уголках рамы, скопилась вода. Наверное, это были слезы, сползшие с верхушки пресловутого айсберга. Так сказать, пролитые в знак скорби о смерти, скрытой от глаз. Поцелуй оказался вялым. Вялым и водянистым. Строков явно не знал, что язык, подобно члену, может продолжиться внутрь чужого тела и поселиться там хоть и слепо, но, в отличие от члена, не пассивно вливаясь и безропотно принимая предлагаемый диаметр того или иного отверстия, а ощупью обосновываясь по-хозяйски, со всеми негами квартиранта. Строков слюняво пожевывал мои губы и, кажется, совсем не понимал моих попыток найти контакт. Поцелуй не клеился. Что-то было не так. Дельфин опять тихо прошел где-то над небом, но я даже не собиралась формулировать этот вопрос: если не так, то что? – я была счастлива. Все придуманное мною заранее и выношенное в фантазиях происходило наяву. Мир подступил живьем, и я снимала с него заляпанную футболку, как фольгу с шоколада.
В дверь постучали. Строков, чертыхаясь, натянул свое вретище и кинулся открывать, вытащив по пути заткнутую за книжную полку штору, служившую вместо двери. Послышались голоса, смех, возня. «Здравствуйте!» «Просто жара!» «Прямо настоящее лето!» Я вспомнила, что Саббет с Зуйкович взяли Строкова темой для курсовой. Конечно, они увидели в коридоре мое пальто и сумку. Подняв с пола рукопись, я пригладила замявшиеся страницы и с лету отдалась капитану валлонской гвардии, принимая его и мужчину в соседней комнате за одно и то же лицо. Уголки страниц тлели меж пальцами, оставляя пыльцу на подушечках. Шиповник, насосавшийся древних генетических кодов, почему-то не вызвал сверхцелостности и не отозвался музыкой в венах, а по капельке сочился из желудка – назад в пищевод, растравляя изжогу. За стеной оживленно беседовали, размешивали сахар, перебирали рыхлые листы с набросками. Я наслаждалась жизнью. Минут через сорок девочки собрались уходить. Похоже, они возблагоговели. Переживаемый ими гигантский восторг от общения с гением достиг фазы удушающего воздействия – патока обволокла сердца моих сокурсниц настолько, что теперь их попросту рвало сладостным восхищением, и, слипшись в узком проходе, они, счастливые, все раскланивались в преддверии, не в силах наблагодариться. Наконец скрипнули петли, грохнул дряблый замок, Строков отогнул штору, заскочил в комнату, расцеловал меня в лицо и под каким-то беспокойным предлогом ушел из мастерской «на десять минут».
Я валялась на кровати. О чем я думала? Испытывала ли желание понять, что, собственно, происходит? Почему я здесь? Чем так хорош этот мужчина? Я помню, что меня увлекало ощущение чуда, преобразования отчужденного мира в мир пластилиново-плотский, гибкий, проминающийся под руками – мир, в который можно было залезть по локоть и прощупать луну. Все казалось «каким-то сном», «каким-то волшебством». Строков обогащал пространство смыслом и светом, словно святые мощи. Вокруг него образовывалась церковь. Церковь из грязи, воздуха и искусства. Церковь из слов. Небо на земле. Со скульптором было «весело», «интересно». Он был «такой умный» и «такой сильный». Он спустился до меня, как Рафаил, с алавастром в руке, чтобы, исцеляя, провести остриженным птичьим пером между левой грудью и правой. Я входила в круг его света, как в другую страну, западая между целлулоидными кадрами, между фазами движения Белого Кролика и, проваливаясь в запредельное, вслед за Алисой, Элли Смит, Люси Певенси, Сарой Вильямс, воскрешая из мертвых такой большой кусок детства и переживая слияние с собственным мозгом: все предметы вокруг так и просились в стихи – каждый упавший лист умирал от чахотки, каждый валявшийся камень был сиротой, каждая пивная бутылка хранила тепло чьих-то рук, каждая муха, вязнущая в плевке, искала счастливый билет. Вот что я помню. Наслаждение, весну, запах дождя, запах воды, запах пота, запах переполненных пепельниц, пачки стихов.
Регине, Женечке, Юре я говорила, что влюбилась. Между собой мы вообще говорили – «влюбился», «влюбилась». Теперь я не помню, что это значило. «Я влюбился». Теперь смысл этого слова исчез. Вернее, произошло изгнание из этого смысла. Теперь я выставлена вон. Наверху открыто окно. Там горит свет. Там, на студенческой кухне, заляпанной сладким шампанским, жарят картошку, поют под гитару и говорят: «влюбился», «влюбилась». А я снаружи, внизу, в темноте. Мне скоро сорок. Вокруг меня теперь другое слово – «любовь». Она черна как ночь. Она так черна, потому что она есть Господь: требует безоговорочной веры и не хочет себя показать.
* * *
Лучшим другом Строкова был живописец Иванов. Мастерская Иванова находилась в семи минутах энергичной ходьбы, за домом Пушкина, в аккуратном метеном дворе, смежном с первым от Мойки двором капеллы. Строков бегал туда каждый день. Минимум раз. То за олифой, то за сверлами, то покурить. Там была его церковь. Там он отдыхал – от козлов, от прели, от своего задохшегося места в жизни. От трудов. Строков работал как Моцарт. С шести утра. И больше, чем Моцарт. Весь день он лепил козлов. Ночью гнался куда-то. Никогда не спал. Не бывал в ресторанах. Втаскивал велосипед на шестой этаж, сбрасывал дождевик, промокал лицо полотенцем, поджигал конфорки, разогревал в кастрюлях все эти нечистоты, на ходу разворачивал из газеты зяблую колбасу, вытирал руки о футболку и, не меняя мокрых по колено брюк, приступал к работе. Он полагал праздность зловонием. Он боялся остановиться. Боялся, что на кровати может начаться гангрена. И поэтому без передышки годами ворочал глину, сколачивал каркасы, паял прутья, пил водку, курил и лепил. Выстилал и выстилал животные крупы, матки, грудины, выи, прорезал ноздри и очи. Лепил до изнеможения. До крови.
А в мастерской Иванова стояла кофе-машина. Коньяк, душ, глубокий диван, микроволновая печь. Пельмени в морозилке. Распахнутые окна. Можно было дышать. Можно было вдыхать. Неподвижно сидя с бокалом в руке, можно было лететь, раскачиваясь в амплитуде от кислорода до хеннесси и обратно. Под музыку Фримля в исполнении Армстронга или Маккука, а то и вдруг под прямо в сердце пролезавшую тонкую, как тропическая птица, голубоватого вкуса, откровенную в своей залюбленности, голую, бесстыдную Addio del Passato: продирижированная кем-то очень медленно, заторможенно, в резиновом стиле, она ползла по комнате, подгребая, влача туберкулезное тело, и, вытекая в окно, уходила в небо, едва перебирая крылами, надорванными бурей дыхания. Строков, никогда не бывавший в опере, не знавший музыки, не понимал, что происходит, но чувствовал только, что кровь в сосудах тлеет и вот сейчас он, такой тучный, воловьей силы муж, просто заплачет, заплачет, как маленький, заплачет оттого, что все вокруг пахнет деревом Гофер. О Боже. Великий. Услышь моленье. И жизни минувшей прости заблужденья.
Картины Иванова продавались «на Запад». Разъезжались по миру. На Манхэттен, в Токио, даже в Сидней. Ночные клубы, банки, отели стояли за Ивановым в очередях годами. У Иванова было очень много детей. Очень много. Некоторые из них являлись общими детьми Иванова и его жены. Некоторые – детьми жены и тех мужчин, с которыми она жила в перерывах между четырьмя браками с Ивановым. Все дети проводили сытое, счастливое детство в двухуровневой квартире толстовского дома. Своим благополучием они были обязаны гению отца. Строго говоря, Иванов рисовал фотографии. На огромных полотнах, маслом. Имитировал фотоизображение. Только не простое, а сделанное пьяным человеком. Какие-то женщины причесывали волосы. Какие-то люди неслись по литорали в момент отлива. Какие-то любовники спали одетыми. Все они изображались «отснятыми» в пасмурный день, при закрытой диафрагме и очень долгой выдержке, руками человека, выпившего две бутылки рислинга на голодный желудок. То есть Иванов искусно, вообще-то немыслимо искусно, передавал на холсте эффект смазанного кадра, учитывая даже разницу в степени смазанности между статическими объектами и движущимися, между теми, что находились в резкости, и теми, что нет. Более того, Иванов чувствовал силу отраженного света так ясно, будто бы сам был покрыт зернами серебра, и они болели на нем, как плоть от плоти его, как кожа вампира под солнцем.
Живописец Иванов обладал редчайшим даром: он досконально знал законы той короткой жизни, что проходит, подобно жизни микроорганизмов, всегда незримо и бесславно, что пролетает от открытия до закрытия затвора, – жизни в период доступа света, полной самых драматических отношений между целым миром и пленкой, – смертницей, покрывающейся ожогами ради искусства (хорошо, если ради него). Воистину, если все земные дети вышли в этот мир через просвет материнского тела, то Иванов вышел к нам через отверстие диафрагмы, прочувствовав на себе острие каждого из ее лепестков. И тем более поражало то, что Иванов воплощал свой дар в живописи. То есть он воспевал на холстах закулисный процесс, имевший отношение к смежному, пожалуй, в каком-то смысле конкурирующему искусству. Причем исполнение процесса Иванов доверил третьему, несуществующему лицу – некоему фантому, медиуму, напившемуся по-свински и на четвереньках бросившемуся в погоню за мгновением.
Картины Иванова выуживали из памяти какие-то без вести пропавшие фрагменты, какие-то прибрежные вечера, смятые юбки, путаные косы, шипение пены шампанского, безлюдные пирсы, след от резинки, округлости ягодиц, песок на скулах, мокрые столы, ветер в рукавах, белые штаны, какие-то запахи, какие-то вкусы во рту, какие-то слова, сказанные давно разлюбленными или давно покойными, слова, внезапно обретшие смысл задним числом, открывшие нехоженые туннели в прошлое. Каждая картина Иванова производила эффект фотографии двадцатилетней давности, внезапно выпавшей из книги: человек начинал ощущать то, что давно онемело; сок жизни, как горячий жирный бульон, прорывал плотину и проливался в мертвые, засохшие участки мозга; сознание обжигала боль, и поражало чувство линейного времени. Иванов был одним из самых востребованных русских художников десятилетия. Свою анекдотическую фамилию он считал промыслом Божьим: лучшей фамилией для русского, продающегося на экспорт, могла быть разве что Пушкин. По сей день все мужчины моей жизни делятся на похожих на Иванова и нет. Человека, столь же внешне красивого и столь же внутренне притягательного, я так больше и не повстречала.
На протяжении многих лет весь Петербург следил за отношениями Иванова с его женой Гульнар. В детстве Иванов украл Гульнар у родителей. За то ему обещали отрезать голову, и во спасение он отправился служить в армию. Гульнар отдали в благородную семью, замуж за юношу Азамата. Но, поскольку невеста оказалась не девственницей, семья Азамата вернула Гульнар обратно родителям на третий день после свадьбы. На свет появился первый маленький Иванов. Вернувшись из армии, большой Иванов поселился на лестничной клетке, под дверью семьи Гульнар. На подоконнике он разместил бутерброды с докторской колбасой, учебник Баммеса, переписку Аттика и Цицерона, читал, курил и, не теряя времени, зачем-то еще перерисовывал карты Помпония Мелы. Отсидев за все это пятнадцать суток, он вернулся под дверь обратно. Гульнар, вместе с ребенком, отдали Иванову и его маме. Мама Иванова была потрясена тем, что девочка Гульнар не говорит по-французски и выходит к обеду в спортивном костюме. Когда Гульнар не хватало денег, она била посуду и швырялась в Иванова котлетами. Иванов оканчивал Муху, писал диссертации чужим людям, разгружал фуры, но денег все равно не хватало. Гульнар забрала ребенка и ушла к мужчине по имени Махар. Но почти сразу же выяснилось, что секс – это больно. Оказалось, телесные удовольствия женщине доставляет вовсе не секс как таковой, а непосредственно Иванов. Гульнар вернулась. И скоро на свет появился сын Махара. Квартира затрещала по швам. Иванов получил первые триста долларов за картину. Но их не хватало на евроремонт. Гульнар забрала детей и ушла к кому-то еще. Стало понятно, что истории этой не будет конца.
Каждые десять минут, вне зависимости от контекста, Иванов обязательно говорил о чем-нибудь, начиная со слов: «Моя жена Гульнар сказала, что…» Любая встреча с Ивановым в принципе, любое общение с ним всегда начиналось с того, что «сегодня Гульнар…» сделала или сказала. Ко второй половине девяностых Иванов был уже настолько богат, что позволял себе не только платить за друзей в ресторанах, но и иметь мобильный телефон. Каждые пятнадцать минут раздавался звонок. Иванову звонили Гульнар, мама, мама Гульнар, старшие дети, средние дети, младшие дети, сантехники, электрики, прорабы, начальники ЖЭКа, стоматологи, классные руководители, репетиторы, менеджеры банка – Иванов решал проблемы. Абсолютно все проблемы всей своей огромной семьи. И это давалось ему не так уж и тяжело: у Иванова была феноменальная память. Он думал и говорил на четырех языках, читал по три толстых книги в неделю и запоминал их наизусть. В глубине души я испытывала тихое, слепое, недооформившееся в зависть чувство – чувство тоски о той жизни, что проживали дети Иванова, – тоску по не доставшейся мне, протекавшей вчуже судьбе, тоску по отцу – такому, какого имели дети Иванова, – по мужчине в самом лучшем, божественном смысле этого слова.
* * *
Отметив у Иванова Первомай, мы со Строковым, пьяные и сытые, вышли со двора на берег. Было пасмурно. По Певческому реку переходил шатающийся человек с бутылкой коньяка в глубоком кармане старомодного плаща. На Дворцовой репетировали парад. Сотни солдат кричали «Ура!», и воздух вибрировал, как в полости колокола на момент удара. Едва войдя с тумана, мы начали целоваться. Но почти сразу же Строков сказал, что ему необходимо отойти «буквально на десять минут». Опять?! От неожиданности я чуть не расплакалась. Он тряс меня за плечи, смеялся и говорил, что я не успею и оглянуться, а пока могу поспать. Я была в ужасе. Поспать? Зачем?! В растерянности я вышла провожать его в коридор. Он переобувался, завязывал шнурки, суетился. В дверь постучали.
– Это еще кто? – в попытке меня насмешить он состряпал по-клоунски удивленное лицо. – Ты кого-то ждешь, дорогая?
Я пожала плечами. Строков открыл. На лестнице стояла Саббет. Во всей своей красе. Бледная. В беленьких кроссовках, невинная, выкупанная, накормленная и причесанная родителями, как на открытый урок.
– Ну, чего застыла? Проходи, проходи.
Возникла неловкая ситуация. Хотя, по сути, ничего неловкого в ней не было.
– Я… Я за материалами… насчет керамогранитов…
– Так, а чего глаза-то такие испуганные, а? Это Танька, она не кусается. Давай, залетай, материалы почти собрал, вот сейчас еще принесу тебе две книги, как раз такие девичьи, с картинками, иду… вот… Ладно, барышни, вы тут разбирайтесь, я убежал, – всем своим видом он показывал, как сильно спешит. Дверь бахнула как следует. С потолка посыпалось.
Я села на диван и собралась рассказать, что здесь можно пить чай и даже кофе, но для этого необходимо выяснить, где, собственно, плита и посуда, и что мы можем вместе пробраться в адов чулан, фигурирующий здесь как кухня, и посмотреть.
– Тут, э… знаешь… – но я не успела договорить и трех слов. Вдруг Саббет грохнулась передо мной на колени и, обняв мои ноги, исступленно зашептала:
– Я все знаю, я все знаю… Милая, я все знаю… Не надо ничего говорить. Все хорошо.
Во рту пересохло. Я потеряла дар речи. Она уткнулась лицом в мои бедра. Продолжала что-то шептать, как в бреду. Всхлипывала. Ее белый, как всегда туго собранный под резинку высокий хвост, медленно съехав со спины, повис, достав непорочным концом до грязного пола. Я осторожно протянула руку и по-тихому положила хвост обратно на спину. Чтоб он не пачкался. Почувствовав прикосновение, она замерла на секунду и, приняв, наверное, мой жест за проявление нежного участия, вскинула свое блинное, детское, порозовевшее, мокрое от слез лицо. Не мигая, глядя мне прямо в глаза, Саббет начала судорожно мять кисти моих рук.
– Я все знаю, я понимаю… Это ничего. Ничего страшного, ты не бойся. Ты, главное, ничего не бойся. Ты полюбила. Это главное. Думай об этом.
Казалось, она сломает мне пальцы. Я поднатужилась.
– Любовь оправдывает все. Знаешь… – она отвернулась к окну. Отбросила хвост. Сосредоточилась. И, собравшись, произнесла, по всей видимости, нечто, на ее взгляд, сенсационное: – На твоем месте я поступила бы так же, – довершила она с «металлом в голосе».
Я находилась в состоянии шока. Сильнейшего шока. Я понятия не имела о том, что она – такая. Я понятия не имела о том, что вообще существуют такие люди! До той самой минуты я никогда прежде не встречала человека со столь герметичным, непроницаемым разумом, законсервированным в пределах тургеневских идеалов. Что это было? Какое-то психическое расстройство? Пребывая в панике, я тяжело дышала. Хотелось позвать маму. Хотелось бежать к маме на руки с одним только вопросом: кто это?! Мне хотелось сбросить Саббет с себя, отползти к стене. Будучи не в состоянии анализировать происходящее, я просто ощутила неприязнь. Интуитивно я почувствовала, что природа сего феномена – не нравственная чистота, не девственность, не безгрешность, а насилие. Кто-то, кто-то очень сильный и могущественный, с маниакальной устремленностью заковал сознание этой девочки в тяжелую непробиваемую броню, и так она и выросла, в чугунном пыточном корсете, надетом на мозг, – выросла в человека, совершенно оторванного от реальной жизни.
Она встала. Вытащила из кармана клетчатый носовой платок, безупречно сложенный вчетверо, с тщанием отутюженный. Вытерла лицо. И, сделав пару шагов к окну, стоя спиной ко мне, сказала глухим, низким, омертвевшим голосом:
– Такой человек, как Игорь Владимирович, стоит даже самого низкого падения.
Я поняла, что она влюблена.
Строков нагрузил ее какими-то учебниками и справочниками, отсыпал в карман конфет, привезенных ему детскосельскими музейщиками, прочитал на дорогу Ахматову и очень тепло спровадил долой.
* * *
Раздев его, я почувствовала запах мыла. Судя по всему, он только что принимал душ. Где-то там, откуда пришел. Где? Иванов, при нас закрыв мастерскую, побежал домой. Где же Строков помылся? В Мойке? Обдумывать было некогда. Стоило ковать железо, пока горячо, ведь до этого вечера сексу все время что-то препятствовало. Я предпочла порадоваться: человек решил быть чистым со мною в постели. С учетом местной специфики это показалось галантным. Мы легли на кровать. Что-то мешало Строкову. Как будто систолическое давление упало до восьмидесяти. Вес тела стал непропорционален силе мозга. Строков ворочался, как в тугой жиже ночного кошмара. Руки не слушались. Член не стоял. Что делать с женщиной, мой возлюбленный, похоже, представлял себе смутно. Попытки высечь из этого теста хоть какую-то энергию и тем более направить ее – ни к чему не вели. Строков обваливался из рук, как будто я пыталась, стоя в море, обниматься с водой. В конце концов, он слег. Опрокинулся на спину, посмотрел в потолок и вдруг, тихонечко застонав, стал тереть бедро.
– У тебя что-то болит?
– Ну а то, конечно. Погода, вон, видишь какая, – ответил он. – Осколок болит.
– Осколок?!
– Да, да, – он вымученно улыбнулся, – сувенир вот привез, из Афгана. Так особенно жить не мешает, а как на улице дрянь, вот эта свинцовая крыша над городом – так сразу война напоминает о себе… В принципе, правильно, чего… Нелишне время от времени вспоминать, что обещал себе обязательно сделать по выходу из Панджшерского ущелья.
– А его нельзя вытащить?
– Слушай, у меня их там знаешь сколько… До конца жизни можно вытаскивать, больше времени ни на что не останется. – Он хитро улыбнулся: – А ну-ка, давай-ка я тебя поглажу.
Он приподнялся, оперся на руку и, чуть надавив на мое плечо, жестом велел повернуться на другой бок – так, чтобы я оказалась к нему спиной. Строков действительно начал гладить. Водил рукой. Вроде бы нежно. Но удовольствия я не получала. Кажется, вопреки упрямому нежеланию реагировать на реальные события, я начала понимать, что секса не будет. Ни сегодня, ни когда погода станет получше. Строков выглаживал выемки на моем теле, касаясь очень легко, робко, будто я состояла из расплавленного солнцем пластилина, донельзя чувствительного к прикосновениям. Некоторые изгибы привлекали Строкова сильнее: вознося руку к вершинам снова и снова, он снова и снова соскальзывал пальцами в углубления, вышлифовывая определенные, наверное, особенно анатомически занятные места. В узких надключичных впадинах, в ямках плечевого сустава и в ложбинке под копчиком он проводил пальцем, будто снимая лишнюю акварельную воду с листа. Я распознала желание Строкова показаться искусным, утонченным любовником – так сказать, охотником, забившим десятикилограммового палтуса ради граммовой щеки, – любовником, знающим толк в разнообразии неприметных заток, знающим, где и как соскоблить тончайшие прозрачные слои удовольствия, тусклые, приглушенные, но гораздо более сложно тонированные по сравнению с клейкой, смолистой, концентрированной, оглушительно-приторной сладостью меда внизу живота. Будь тогда на мне духи, я могла бы сказать, что Строков собирал с моей кожи недоиспарившиеся крупицы эфира. Но в те времена духов у меня не водилось.
В очередной раз я предпочла поверить в то, во что мне предложили. Я лежала, прислушиваясь к скольжениям, расслаивая касания по разным степеням шероховатости, взывая внутренне к нужным нейронам, рассеянным среди миллиардов собратьев, пытаясь пробудить их к восстанию и поджогу, но сигналы рецепторов уходили мимо, попадая в какие-то мглистые невразумительные окраины, имеющие отношение к чувству стеснения. Может быть, даже стыда. Или жалости. Мне было стыдно за нас. Но не так, как бывает стыдно за деяния. А так, как было бы стыдно тем, кого насильно пригнали под свет софитов, заставили раздеться и заняться любовью перед комиссией, сидящей в добротных костюмах, крепко курящей, избранной из тайной секты порнографов. Грудь Строкова была гладкой. Волосы на ногах выглядели впервые увидевшими свет. Мне было грустно. Как матери, соблазняющей собственного ребенка. Строков сказал, что пора бы и поработать. Застегивая молнию юбки, я спросила, можно ли мне прийти в выходные.
– В эти выходные не получится, – ответил он. – Девятое мая, душенька. Главный праздник ветеранов боя на высоте три тысячи двести. Я каждый год отмечаю одинаково, это, знаешь ли, святое. Езжу к фронтовому другу. Беру ребятишек, на электричку и – в Тосно.
– Каких ребятишек?
– Моих, пацана моего и доченьку. Им же нравится! Я форму надеваю, ордена – все как положено. Мы с ними торт покупаем, букет. Выходим на перрон. Петька нас встречает, люди смотрят… Ребятишки гордятся отцом. Это у нас поважнее Нового года!
Он засмеялся. Напряжение спало. В глубине души я понимала, что мы прощаемся.
* * *
Девятого мая Уля велела прийти к ней на работу – есть пирожные в честь праздника Победы. Дворецкий в мундире сдержанно улыбался. «Женева» сияла изнутри. Солнце, одетое в Росси. Отражения анфилад сбивали вошедшего с толку. Я очень боялась врезаться в зеркало лбом и попасть через то на пожизненные каторжные работы. Зашлифованное золото перил бликовало, опаляя сетчатку. Отсветы мрамора парили, как мыльные пузыри, а при малейшем повороте головы вдруг срывались из поля бокового зрения стаей медуз. Я поднималась по лестнице. Ступени под ногами сливались, плыли, кружилась голова. Уля ждала меня за столиком в атриуме. Закованная в черное, академичная, как высокого ранга сотрудница Букингемского дворца. Она курила тонкую сигарету. Арфистка в пене органзы исполняла «Граве» Иржи Бенды. «Граве», как и почти любая музыка в переложении для арфы, производило впечатление своего собственного скелета, зачищенного до жемчужного блеска. Трам-трам-трам. Девушка в безупречно синем костюме положила передо мной крахмальное меню.
– Выбирай что хочешь, – сказала Уля сухо. Погасила сигарету. И почти сразу взяла новую.
– А тебя не будут ругать за то, что ты меня сюда приглашаешь?
– С какой стати?
Я пожала плечами.
– Ну, не знаю…
– Проститутки работают в лобби-баре, на первом этаже, с девяти часов. До девяти я обычный посетитель. Могу приглашать и угощать гостей.
Я уткнулась в меню. По белым рифленым страницам бисерным почерком тянулись английские слова. Над стеклянной крышей плыли облака. Звучала иностранная речь. Звенела посуда. Как и во всех огромных помещениях, все звуки хоть и отдавались эхом, но в то же время были «притушены левой педалью» – утоплены в толщах воздуха и неосознаваемого шума вентиляционной системы. Мне очень нравилось это. Напоминало вокзал. Или аэропорт. Словом, место, где человек на несколько часов добровольно покорен собственной судьбой и может позволить себе слиться с ней в экстатическом рабстве. Я выбрала миндальный торт. И осмотрелась. Хрустально-седые венецианские старушки, сидящие неподалеку, поймав мой взгляд, улыбнулись. Я тут же отвернулась.
– Строков, кажется, импотент, – сказала я, прожевывая первый кусок, сломленный слишком жадно и не помещавшийся потому во рту.
– Импотенции не бывает, – ответила Уля.
– В смысле? – я даже отложила серебряную вилочку.
– Бывает сахарный диабет. – Прикурив новую, она добавила: – Например.
– А при чем тут сахарный диабет?
– При том. Импотенция – это симптом какого-то заболевания. Сердечно-сосудистой системы, эндокринной. Список велик.
Мы помолчали.
– У меня был клиент, – сказала Уля, – шестидесятилетний, француз. Он попросил просто поспать с ним до утра. Заплатил полную стоимость за ночь. Мы выпили шампанского. Оказалось, он любит Жана Виго.
Уля погасила сигарету.
– Я спросила его, в чем проблема. Он сказал: уплотнение аорты. Я решила, что помогу. Не каждый день встретишь человека, смотревшего «Аталанту» на французском. В конце концов, это перст Божий. Я делала ему минет два часа. И у него была эрекция. Он кончил. Через два часа.
– Два часа?! – я не верила.
– Два часа.
– Да ладно!
– Не ладно, а два часа, – Уля говорила серьезно.
– Но ведь… Ну так же не может быть! Это невозможно! Челюсти же…
– В перерывах можно сделать пару глотков воды.
– Кошмар. – Чтобы сменить непосильную тему, я предположила: – Импотенция – это же проблемы с головой, разве нет?
– Таня, а проблемы с головой, по-твоему, это не болезнь?
– Ну, не знаю.
– А кто знает?
Я молчала.
– По-твоему, проблемы с головой придуманы только для того, чтобы обсираться в постели?
Вопрос Ули был непонятен. Я соскребла с тарелочки остатки миндальной крошки.
– Люди, имеющие проблемы с головой, каждый день копают себе могилу. Каждый день. Каждый день, Таня. Как на работе. Они роют дерьмо, без устали, чтобы в один прекрасный миг оказаться на дне колодца, из которого нет возврата. Есть ли у них при этом проблемы с эрекцией, нет ли – дело десятое. Ты понимаешь?
На всякий случай я кивнула. Уля посмотрела на часы. «Лонжин» на черном кожаном ремешке.
– Тебе пора.
Я выпрямилась и взялась за ручку сумки.
– Таня, ты бы лучше привела к Строкову на какую-нибудь пьянку свою аутистку, Валю. Познакомь ее с художниками. Кто-нибудь наверняка предложит ей работу натурщицы. Вот увидишь. Все же лучше иметь копейку в день, чем ничего.
Я встала, взяла пальто, наклонилась к Уле, чтоб она могла поцеловать меня на прощанье. И, вздернув на плечо сумку, ушла.
* * *
Колбасу порезали на оберточной бумаге. При виде натюрморта в сердце обреталось родство – сначала отдельно каждого с Пуховым, а затем через Фому, как через центр круга, каждого с каждым: нам было хорошо вместе. Строков потянулся рукой к дальнему краю стола – вынуть из стоящей там банки отмокавшие кисти, чтоб переложить в корыто с водой. Дорогой прямо на яства с кистей слетела пара капель пинена. Накрытый стол послужит для поминок. Венчальные цветы украсят гроб. Какой-то длинноволосый черный человек сказал, что за один только перевод Рюккерта Константину Константиновичу надо кланяться в ноги. Для пущей выразительности черный человек согнулся до земли. Этот мавр был грузен и пьян. В наклоне его повело, он стал заваливаться, захрипел, придержался рукой пола, я даже успела пожалеть о том, что сейчас он умрет от кровоизлияния в мозг и испортит вечеринку, но вдруг, совершенно неожиданно, он вскинулся, забросив назад сальную прическу, и заорал:
– Я коршуну сказал: «О, выклюй образ милый, запечатленный в сердца глубине: переболеть, ни позабыть нет силы…» – Он взял паузу, сощурился, обвел взглядом присутствующих и возвышенно кончил: – «Уж поздно», – молвил коршун мне.
Валя была в восторге. Она сидела на коробке. Божественная, в мужском свитере пятьдесят второго размера. Губы горели от красного вина. Глаза блестели от слез. А художники блестели от Вали. Уля ошиблась. Шел второй час праздника, присутствующие уже готовы были лизать подошвы Валиных ног, уже приглашали Валю в Коктебель или по крайней мере на кофе, в мастерскую, «посмотреть работы», но никто-никто и словом не обмолвился о нужде в натурщице. Уля мыслила отжившими категориями: ненасытность Репина, вглядывавшегося в каждое лицо, рыскавшего в песках обочин и пряностях рынков, рисовавшего в блокнот каждый нос, каждый ножик, пуговицу и ременную пряжку, осталась в прошлом. Ныне художники не интересовались реальностью – пропуская краеведческую деятельность, они бросались в работу – сразу на совет Льва Николаевича Толстого: начинали искать непременную серьезную основную мысль. «Основная мысль», как правило, находилась на потолке.
Иванов держался обособленно, чуть поодаль от компании. Принесенное им вино густого, соевого, венозного цвета пахло как только что срубленный черешневый сад. Иванов немного грустил о том, что столкновение красок жизни и смерти природы в пластиковом стакане сникало до несчастного «приятного запаха», но дарить другу полновесные бокалы все равно полагал делом бессмысленным, ибо знал, что Строков истолчет их в ступе «на глазурь». Я стояла рядом с Ивановым. Как рядом с Иисусом Христом. Не сказать, чтобы я надеялась на то, что соприкосновение с рукавом его свитера каким-то образом повлияет на митральный стеноз, но двигало мною нечто именно в таком духе. Мы смотрели на всеобщее огневое веселье и чтение стихов. От столика с колбасой отделился пожилой человек. Пошатываясь, он направился к нам. Его седая воздушная борода напоминала слегка припыленную сладкую вату. Дедушка нес рюмку. Водка выплескивалась на заветренные, вспученные пальцы. Кожа рук имела серый оттенок, на сгибах виднелись застарелые трещины, навек забитые газовой сажей и жженой костью.
– Клим, дружочек, почему вы не пьете водку? – спросил он, подойдя.
Вместо ответа Иванов прогнулся назад, протянул руку к стене, снял с гвоздя бывшую консервную банку, теперь имевшую вид жестяного круга – боковой стенки без крышки и дна – и надел себе на голову вместо короны. Бородач обратился ко мне:
– Почему он не пьет водку?
Я пожала плечами. Старик посмотрел проникновенно.
– Водка – это молитва, – сказал он.
Не зная, как реагировать, я взглянула на Иванова, ища подсказки. Он положил мне руку на плечо и подтвердил:
– Так оно и есть.
Я рассмеялась. Бородач с чувством выпил. И методом стряха скинул из рюмки последнюю каплю.
– Как она смеется… – задумчиво сказал он. – Как она смеется… – повторил он и обратился к Иванову: – Ты нравишься девушкам. Ох, как ты нравишься девушкам! Ты – андрогин. Он – андрогин!
Иванов манерно поправил железку на голове.
– Он нравится всем, – пояснил старик. – Все влюблены в него, все! И женщины, и мужчины… И я, и он, и он. И он.
Дедушка тыкал пальцем в каждого из присутствующих.
– Э-э-э… – пропел он, с укоризной качая головой, – Зевсу не удалось разрезать тебя пополам, ага! А ты и рад. А вообще, ты скажи мне… Вот скажи. Ты. Мне. Чего ты хочешь? Все у тебя есть – двадцать детей, деньги, молодость, вся любовь, всех женщин… Что тебе теперь осталось? Мир-то завоеван, а! Чего теперь ты хочешь?!
– Стабильности, – ответил Иванов.
– Стабильность тебя ждет в гробу, – сказал дедушка, с тоскою взглянув в пустую рюмку. – Вино… Поэтом можешь ты не быть, но выпить водки ты обязан, – добавил он с прохладцей.
– Паш, давай рюмку, я принесу.
Взяв у дедушки рюмку, Иванов отошел к столу. Там говорили о последних достижениях в области американского симфонизма. Валя следила за беседой с неослабевающим восторгом, как ребенок в цирке. В отсутствие рюмки дедушка Паша впал в спячку. Он стоял неподвижно, прикрыв глаза, древний, заросший, отшельник первых веков, монолитный и бледный, как отлитый восковой сноп, на котором неторопливо текла жизнь миллионов проволочных крученых волос. Внезапно он заговорил:
– Вы знаете Чарлза Айвза?
Меня так и шибануло: оказалось, чешуйчатый гриб не спит и даже слышит, о чем беседуют у стола.
– Я собирал все его пластинки. Умм… – протянул старик с истомой. – Вы любите Айвза?
– Нет, – ответила я.
– А что так?
– Не понимаю сложной музыки.
– Знаете, мне один человек сказал, что ему не нравятся мои картины. А я ему ответил: не отчаивайтесь.
Иванов вернулся, подал дедушке полную рюмку и аккуратный бутербродик, сделанный для Паши с нескрываемой любовью – кусочек колбаски на черном хлебе украшался маленьким соленым огурчиком.
– Ты знаешь, что она мне тут сказала? Она не любит Чарлза Айвза.
Иванов улыбнулся, зажмурив глаза. На стоящие рядом кузлы запрыгнул Мурзик. Полосатый, битый, вскормленный мясом соленых балтийских крыс, он потерся об Иванова, как мне показалось, со знанием дела – по всей видимости, прицельно обмакивая тело в энергетическое поле андрогина. Сведущий в ваяниях кот знал, как правильно жить.
– Не понимает сложной музыки, ты слышал такое? А какая же музыка вам нравится?
– Красивая, – ответила я.
– Красивая? – прошептал бородач. – Красивая… Это ж какая? Климушка, милое дитя, красивая музыка – это что такое?
Иванов запел, громко и широко:
– Иду к Максиму я, там ждут меня друзья, там жар сердечный ценят, там дружбе не изменят! Там смех, там-там-там… мм… Забыл, ну, подпевай!
– Я не знаю слова! – крикнула я в ошеломлении.
Иванов обратился к коту:
– Мурзик, ну же, мм… там чувствам нет преград, там честью дорожат, там женщины беспечны, зато чистосер де-е-ечны!
Иванов пел очень красиво. Как настоящий артист оперетты. Заполняя звуком все свободное пространство, до миллиметра. Пел и дирижировал коту. Но Мурзик оставался нем. Иванов призывал его:
– Чего ж ты не подпеваешь, старик? Ты меня раздражаешь, слушай, ну не молчи, ну ты же знаешь, ну так нельзя, ей-богу!
Дедушка Паша загрустил. Он очень медленно вглядывался в свою опять пустую рюмку.
– Это ария графа Данилы, – сказала я ему, чтобы немного развлечь.
– Что?
– Ария, из оперетты «Веселая вдова».
– Хм, так вы любите оперетту?
– Да, оперетту. Оперу, балет. Музыкальный театр.
Иванов, ничего не говоря, просто вытащил рюмку из дедушкиной клешни и пошел к общему столу, снова налить. Паша даже не обернулся. Он стоял как стоял, даже не сжав пальцы и не расслабив руку, – застыв, как подсвечник для водки.
– Мне было пять, когда нас с сестрой привезли из Парижа в Петербург, – сказал он тихо, не меняя позы. – В первый же вечер мы остались с няней, родители пошли в Мариинский, на балет. Ближе к ночи вернулись, я выбежал в коридор… У папы была такая шуба, громадная, енотовая. Он снял эту свою шубу перед зеркалом. И пробормотал: «Срамота».
Я молчала.
– Срамота… Это все, что мне известно о балете, – добавил старик.
* * *
Мы со Строковым доволокли Валю до туалета. Она осела перед унитазом. Как кусок мяса.
– Черт, черт, черт! – я чуть не плакала. – Ей нельзя столько пить, блин…
Мы осторожно наклонили Валю, Строков прикоснулся двумя пальцами к ее губам, приноравливаясь разжать зубы.
– Господи, Игорь, надо хотя бы руки помыть… Черт…
Он выбежал. Валя подняла на меня мутные глаза. Сортир напоминал рот с гнилыми зубами. Батареи истекали ледяным потом. Стульчака не было. На месте креплений торчали ржавые штыри. Обод был обоссан лихо, без сомнений фанатиком – ценителем творчества великого князя Константина Романова. Валю вырвало. А после неведомая сила сдавила ее гортань. Она задышала тяжело, со стоном, все крепче обнимая унитаз, как будто это был ее плюшевый медведь, ее последний друг на земле.
– Успокойся, попробуй дышать носом…
Строков стоял, прижавшись спиной к косяку.
Он был растерян. Выдвинув ногу вперед, он придерживал дверь открытой, иначе мы просто не поместились бы в туалете. С внешней стороны – со стороны коридора, оказывая сопротивление, на дверь налегали груды пальто и прочего хлама. По виску Строкова стекала струйка пота.
– Она не такая, как все, – сказала я.
Первый приступ удушья прошел, выбившиеся пряди волос прилипли ко лбу и щекам. Соскребая эти водоросли с лица, Валя прошептала еле слышно:
– Все хорошо… все хорошо…
– А что с ней?
– Мы сами не знаем. Мой друг говорит, что она аутистка. Я не знаю… Она читает, все-все понимает, абсолютно все, играет на скрипке. Она на базаре торговала, ну давно еще, у нас там, на севере… Она только ничего не может рассказать. Не может сама звонить…
– Куда звонить?
– Ну, вообще. Ей надо звонить. Надо к ней приходить и брать ее с собой.
– Куда?
– Ой, ну просто, так, вообще куда-нибудь. Понимаешь, нельзя просто сказать ей: приди туда-то во столько-то, она не придет.
– Почему?
– Никто не знает почему. Она же ничего не может объяснить!
Валю вырвало снова. Еще и еще. Затем снова начался приступ удушья. Она хрипела, гудела, таращила на меня глаза, хватала ртом воздух, но воздух нашего мира исчез для нее, как будто передо мной изнемогала не реальная женщина, а голограмма женщины, находящейся в бункере, из которого откачали кислород. Валя вышла в открытый космос. Но она продолжала видеть меня. Возможно, кусочек рвоты попал в дыхательное горло, я не понимала. Пару раз Строков хлопнул Валю по спине. Мы наклоняли ее. Просили дышать носом. Это не очень-то получалось. Я поймала себя на мысли, что точно-то и не помню: возможно ли в принципе дышать носом в такие моменты? Валина юбка спуталась. Ноги заголились. Безукоризненная детская кожа вся перепачкалась. Волосы совсем расплелись. Горловина чужого свитера съехала вбок, обнажив плечо и лямку майки. Наконец невидимый демон разжал тиски. Валя прокашлялась. Гортань раскрылась.
Строков отогнул штору, и мы пролезли непроторенной до сих пор мною тропой в чулан, именуемый кухней. Пока Строков придерживал штору, я подвела Валю к раковине. Потом стало темно. Вместо окна – форточка, почти под потолком. Я слышала: Строков набирает в кружку воды. Я чувствовала: Мойка за стеной. Улица – там. Близко. Мы не провалились под землю. Вечеринка закончится. Все мы выйдем отсюда. Воздух пробьет нутро. Валя заснет в своей пижаме. Этот кошмар закончится. Мы отдохнем. Я не понимала только – возьмут ли Валю когда-нибудь в жены? Сможет ли кто-нибудь выстоять перед красотой? Найдется ли хоть один человек на земле, способный не искуситься и не сожрать ее на месте, чавкая и трясясь, не пытаясь превозмочь неистовство собственной утробы? Поймет ли кто-нибудь, что умопомрачающий облик – это только большая кукла, оболочка, внутри которой живет неведомый кормчий, управляющий изнутри этими ногами и руками, – бесполый, неопознанный, непредсказуемый, существующий автономно не только от собственной внешности, но даже от естественных для нас земных законов? Найдется ли человек, столь сильный, столь мужественный и суровый, способный не наделять красоту душой, а наоборот – наделить красотой даже очень странную душу? И если он найдется, то где? Должны ли мы идти на поиски? Или же предназначением сам он явится пред очи: наше дело – ждать? А если он опоздает? Тогда? Валя состарится и умрет в приюте для душевнобольных?
– Дай ей воды, – Строков сунул мне мокрую кружку. И вышел, заткнув напоследок штору так, чтобы к нам попадал свет из прихожей.
Иссяклое, желтовато-дымчатое марево чуть рассеяло мглу. Проявились детали интерьера. Валя качалась над краном. Края раковины были обглоданы. На тумбочке валялся пакет. Шиповник, ссохшийся с песком. Остатки. На полу стояли разные пластиковые бутылки, наполненные то ли известью, то ли кефиром.
– Прополощи рот.
Она не реагировала. Мы стояли в тишине. Стояли медленно, как мертвецы. За окном проехала машина. У меня ныли колени. Вдруг Валя сказала:
– Город не принимает.
– В смысле?
– Город не принимает.
– Слушай, ты можешь просто прополоскать рот и выплюнуть? А потом попить, побольше.
Она посмотрела на меня. Под ее глазами проступила чернильная тьма – алкоголь подтопил шлюзы, и внутренний космос пролился под кожу век.
– Мы – ничто. Он сам решает, когда принять нас и принять ли вообще.
– Черт, – я вздохнула.
И тут ее снова вырвало. Мне брызнуло по ногам. Поразил неожиданный, какой-то алюминиевый звук. Я посмотрела вниз. Сточная труба обрывалась на половине. Под раковиной стоял таз. Туда все и стекало. То есть Строков жил как в деревне. На седьмом этаже, в центре Петербурга, но как на даче. Жил не ради себя. А ради того, чтобы жить. Я завязала Валины потухшие волосы узлом, кое-как умыла ее губы, руки. Вытираться было нечем. Я подула Вале в лицо. Она улыбнулась. И заморгала. Почерневшие веки смыкались, как павлиньи крылья нимфалид. Самая красивая женщина планеты никому не принадлежала. Но моя некоторая причастность к ней давала возможность почувствовать себя сотрудницей музея, ответственной за Джоконду. Мы вернулись в зал. Было чертовски накурено. На остатках колбасы серебрился пепел. Увидев пропавшую музу, мужчины возликовали. Муза, не дойдя до насиженной прежде коробки, упала на мешок с какой-то белой мукой, наверное каолином. Вспыхнуло облако меловой пыли. Валя стала гречески-белой, как кондитерское изделие, обвалянное в сахарной пудре, а шанкры винной рвоты, залипшие на подбородке и за ухом, – розовели, как вишни.
– Зачем тебе эта хуйня? – спросил Иванов Строкова, снимая с головы корону.
– Так отличная обечайка, стекло просеивать, – Строков нервно вырвал из рук Иванова железку и с силой повесил обратно на гвоздь.
* * *
Иванов, я и дедушка Паша ждали на улице. Белая ночь находилась в жемчужной фазе. Брандмауэр дома, относящегося к соседнему двору, ощерился кирпичной кладкой. На колотых ступенях строковской парадной время образовало корки гроздевидной наружности – кладбищенские мхи, из растровых точек которых от всматривания в ночи проступали трехмерные изображения Девы Марии. Кто-то рассыпал при входе таблетки. Они светились, как выпавшие рыбьи глаза. Разрушенная стена торчала в полный рост. В темноте она обрела силуэт: на подступах к вышнему черная ткань стены рвалась, и кое-где через дыры просвечивали вялые перламутровые северные звезды. Запрокинув голову, дедушка патетически прошептал:
– Величественно.
Город поднимался к небу. Хладнокровно. Безэмоционально. Полагая себя самозачатым и самородным. Отрясая от ног всякое болото, всякую золу, тлен, битую тару, собачий кал, бензин, ларьки, любовный плач, жар тесных пирожковых и лед круглосуточных аптек. Он, город, столь угнетенный токами и испарениями вод, возносился молча. Бескровный. Не чувствующий собственных незарастающих ран. Высокомерно отрицающий собственную гибель. Восставал, головой окунаясь в небо и охлаждаясь в бессмертии, при тихом непрерывном истлевании и размывании корней.
– Вы знаете, – Паша обратился ко мне, – я живу в Бруклине… И там, знаете ли, сломалась изгородь…
Дверь парадной открылась. Строков вынес Валю на руках, словно невесту.
– Ты что, потащишь ее до дома?
– Она спит.
– Но тут минут пятнадцать идти.
– Через Марсово поле – пятнадцать. А тем, кто с головой дружит, – семь минут.
Валя была белой, как Баядерка в третьем акте. С болтавшихся на весу ног сползали туфли. Тело источало мраморный свет. Длинные щиколотки в узине своей напоминали пармиджаниновские суставы – вытянутые донельзя – прямо две струйки тугого клейкого меда в самых своих тонких местах. Я сняла с этих бледных вычурных ног затоптанные лодочки. Чтоб понести в руках. Дедушка Паша сказал:
– Какой красивый город…
– Да пиздец, – ответил Иванов по-хозяйски.
– Ага-ага, – подтвердил Строков. – У нас даже поребрики некоторые напилили из гранитных плит капища двенадцатого века, это вам не виды Венеции, не открытки для барышень.
Дедушка не унимался:
– Ты обрати внимание, Игореша, какой город у нас красивый.
Строков нес Валю, посапывая, как Винни-Пух. Не поднимая глаз, он пробормотал:
– Да, нарядный город, нарядный. Конфетно. Отрадно.
– Удивительно! – продолжил Паша. – Человек здесь упакован в архитектуру! Упакован в шедевр! У нас в Бруклине нет такого, – у нас вот в понедельник изгородь сломалась… А здесь – нет щелей. Пешеход идет через искусство, как через воду по дну океана!
Мы шли через искусство по Мошкову переулку. Заложив лодочки под мышку, я толкнула калитку кованых ворот и придержала свободной рукой, чтобы дать Строкову пронести Валю во двор.
– Куда?
– Прямо, – я указала на арку-нору.
Строков вступил в Аид первым. Мы – следом.
Иванову пришлось пригнуть голову. Чиркнув зажигалкой, он осветил путаные ряды проводов, густо-густо положенных поверху. Крысы, отпрянув к стене, посматривали раздраженно, полагая час слишком поздним для визитов. Выйдя из туннеля к подножию брандмауэра, Строков оглянулся.
– Дальше? – спросил он шепотом.
– Направо, – ответила я.
Строков без колебаний выбрал точный вектор – шагнул в темноту, безошибочно попав в черную гущу второй арки-норы. Судя по всему, и этот мошковский, самый глубокий и витиеватый карман Петербурга был им вполне изучен. Ему пришлось двигаться боком. Иначе с Валей в руках было бы не пролезть. Мы шли по дуге бетонной трубы, друг за другом, в свете зажигалки. Проволочные волоски Пашиной давинчиевской бороды норовили уцепиться за стены.
– Что происходит? – спросил он. – Ваша сильфида проживает в бомбоубежище?
– Тсс! Люди спят, – огрызнулся Строков.
Мы вынырнули во двор.
– Налево, – я махнула рукой.
– Боже правый, мы еще не пришли? – Паша изумился. – Это невероятно… Фантастика…
Строков положил Валю на матрас. Вытер пот рукавом. И, пятясь, начал торопливо раскланиваться. Я поняла, что он протрезвел и взалкал работы: пора к козлам. Происходящее уже давно тяготило его. Слишком (по его меркам) тягучей была вечеринка.
– Мне еще Пашу провожать, – сказал он раздраженно. И досадуя, и чувствуя вину. – А тебя Клим доставит.
Шагнув за порог, Строков тут же бросился вниз по ступеням. Деревянная лестница содрогалась под ним, как висячий мост. Иванов ждал у окна, между этажами. Скрестив руки. Опершись о перила, как раз в том месте, где было выломано подряд штук пять балясин. Это зияние под тонкой планкой в сочетании с кривизной лестницы придавало Иванову какую-то дополнительную зыбкость и неоправданность: блондин в глуши. Творец. Аполлон. Семьянин. Вундеркинд. Осколок мира, провалившийся к нам в преисподнюю. Я спустилась вниз, ступенек на десять, и встала рядом.
– Все в порядке? Уложили? – спросил он. Я кивнула. – Пошли?
– Нет. Я здесь останусь.
– Почему?
– У нас завтра дело. Там парень один, музыкант, в Израиль уезжает, на ПМЖ. И ноты раздает бесплатно, всем, кому надо. Мы завтра утром забираем, мне все равно за ней заезжать пришлось бы, остаться удобнее… Мы там Шумана забили, сонаты Моцарта и Брамса.
На Иванове был серый свитер с горлом, шерстяной, затасканный инженерами из советских производственных кинодрам. Под свитером обозначались широкие плечи, немного вздернутые, как у балетных танцоров. Я не помню, почему это произошло. Но мы с Ивановым поцеловались. Ни по чьей инициативе. В таких случаях говорят: получилось само собой. Именно это место – сближения, первого соприкосновения – вытерто из моей памяти. Как будто на пленке с записью событий гвоздем зацарапали двадцатиминутный отрезок. Что послужило толчком? Я силюсь, я в сотый, в двухсотый, в трехсотый раз ковыряю эту слипшуюся на краях сознания ветошь – эти полумертвые, окислившиеся и выдохшиеся файлы с молочной ночью, деревянной лестницей, серыми колючими нитками, но ничего не могу найти на отрезке между Брамсом и чувством. Вот этим безымянным, ни с чем не сравнимым чувством попадания в центр круга: когда безотчетное отчуждение от жизни вдруг преодолевается, так просто и так мгновенно. Ты просто прикасаешься губами к губам другого человека, и там, внутри, все тот же скользкий, обжигающий и изворотливый хвост судьбы, но только не бегущий от тебя в туман – достающийся не в погоне, развивающей мускулатуру, а загнанный в ловушку. Ты просто оказываешься во рту у другого. И все. Секунды времени перестают, отрываясь, падать в братскую могилу, перестают отсекаться от жизни вместе с твоими родными клетками тела, а складываются вовнутрь, оседая на сердечной мышце, облепляя ее силой веры.
Я даже прослезилась. Но, вернее будет сказать, не от счастья, конечно, а от великолепия, производимого точностью соответствия поцелуя Иванова тем желаниям, к которым я была пожизненно приговорена.
– Это когда-нибудь произойдет? – спросила я.
– Не знаю. Я связан клятвой. У нас с женой договоренность. Если я изменю ей, то ослепну. И не смогу больше писать.
Я сглотнула. У меня даже онемели руки.
– Это… шутка?
Он не ответил.
– А как же… Она же все время уходит от тебя…
– Понимаешь, она честна со мной. Она никогда мне не изменяет. Она просто уходит к другому.
– Не понимаю.
– Мы храним друг другу верность, э… никто не нарушает условия договора; верность можно хранить только друг другу, понимаешь? Иначе нет смысла. Если верный хранит верность неверному, значит, кто-то из двоих болен. Либо тот, либо другой. Либо оба. У нас дети. Половина – маленькие. Дети не должны расти в нездоровой обстановке. Это вопрос гигиены.
– Не понимаю… Не понимаю. Если женщина уходит, бросает своих детей, это здоровая обстановка? Гигиена?
– Во-первых, никто никого не бросает. Во-вторых, гигиена – это процесс. Это – работа. Это не цветные картинки из букваря.
Все показалось чушью. Высокопарной чушью. Плодами воспаленного воображения двух несчастных, дурно воспитанных психов. С одной стороны. С другой стороны, не поверить Иванову не представлялось возможным: а кому тогда верить? Внутри, под кожей, стало жарко. Я оттянула горло кофты.
– Слушай, а кто этот дед бородатый? – спросила я злобно.
– Такой американо-русский художник. Павел Дрон. Знаешь, триптих «Подаяние»? Самая известная его работа, такая, масштабная.
– Черт, не знаю я никакого «Подаяния».
– Забей.
* * *
Валя спала не дыша. Над Невой проявлялся рассвет. Голову тяжелили и туманили кошмары. Страшные сны о сектантской клятве. О муже и жене, смыкавших перерезанные запястья. Под утро я просто лежала, пялясь в потолок. Уснуть не получалось. Изнутри тело разрывало томление. Опаляла изжога. Хотелось пить. Но страшно было вставать. По набережной зачастили машины. Поцелуй с Ивановым был подлинным чудом. Точнее, знамением. Как встреча с Папой Римским во сне Регины. Может быть, знак новой жизни? Может быть, прямо сегодня и начнется? Может, уже началось? Я сбросила одеяло и побежала к окну – обозреть новый Петербург. Дворцовая имела свой самый обыкновенный вид: непреклонный, монументальный, до смешного не расточивший державности при давно ушедших вперед обстоятельствах. Плоский и протяженный пейзаж. Визуальное воплощение длиннот адажио Сэмюэля Барбера. Кино на широком экране. Валя зашевелилась. Выпроставшись из постели, она села поперек матраса, вытянув ноги перед собой, и уперлась руками в колени. Длинные волосы свесились, заслонив лицо.
– Доброе утро, – сказала я. – Ты как? Тебе плохо? Я сейчас сделаю чай.
Она подняла голову. Волосы рассыпались, открыв заспанные, припухлые, желтоватые веки.
– Ты вчерашний вечер до какого места помнишь? – спросила я, прекрасно, однако, зная, что любые разговоры с Валей сводились к типу разговоров с телевизором.
– Главное, что мы вместе, – ответила она. И нежно улыбнулась. – Главное, что мы вместе.
– Угу.
– Никому не удавалось изменить мир в одиночку. Мир меняется, когда двоим удается договориться.
Я взяла электрический чайник и пошла за водой. В коммунальном коридоре еще не рассеялись остатки ночи. У меня немного плыло в глазах и подкашивались ноги. Шнур в нитяной оплетке волочился за мной по дощатому полу, гремя вилкой. Окно кухни было зашторено. Через ситцевые худые растения прорастал набиравший соки свет дня. Проходя через штору, как через церковный витраж, свет вбирал в себя краски узора и наполнялся серо-розовым тоном. Хозяйка Валиной комнаты протирала ваткой листья алоэ. На чьей-то плите варился кофе. Аромат растравлял нутро. Я подставила чайник под кран и резко открыла воду. Струя шибанула по дну. Началось утро.
– Чего такая невеселая? – спросила ведьма язвительно. – Голова болит?
– Нет, – ответила я сухо. – Душа болит.
– А там есть чему болеть?
Я закрутила кран.
– В смысле?
– Ладно, что у тебя стряслось?
– Ничего особенного. Хочу переспать с мужчиной. А он женат. И жене не изменяет.
Я подняла шнур и забросила себе на плечо, чтоб не гремел. Ведьма снимала турку с огня. В столь ранний час птичьи, когтистые, скорченные артритом пальцы старухи уже облагались серебряными перстнями царского периода. Разминая папиросу, она сказала:
– Настанет день, и ты возблагодаришь свою блядскую судьбу за каждого женатого мужчину, с которым тебе не удалось переспать.
* * *
Мы сели в трамвай где-то в районе набоковского дома. Солнце блестело. В вагоне было жарко. Мы заняли два последних свободных места у окна, друг напротив друга. Валя расплывалась в блаженной улыбке. На стекле хорошо просматривались отпечатки пальцев. Я смотрела на улицу. Сказать, что я чувствовала то, что мы называли «влюбленностью», или нечто похожее, было нельзя. С самой первой минуты знакомства с Ивановым я очень четко, очень определенно ощущала его недосягаемость. Нельзя же было быть влюбленным в Моцарта или, например, в Иосифа Бродского. Собственно, Иванов давно уже умер. В каком-то смысле. Он умер для будущего тысяч женщин. Питать к нему чувства представлялось делом бессмысленным и нелепым. Иванов являлся частью петербургского мифа. Сам по себе факт нашего знакомства уже казался невообразимым жизненным успехом! А что если мы вчера вовсе не целовались? Что если это придумано мною? Я как следует ощупала ноги и руки.
– Валь, ты когда-нибудь влюблялась в голливудских артистов? Может, в детстве. Ну, там, Кларк Гейбл?
– Иногда, одиночество и люди – это одно и то же, – ответила Валя.
Я попыталась было от нечего делать внедриться в коан, но бросила почти сразу, отчасти по лености ума, отчасти подозревая Валю в полнейшем отрыве от какой-либо сути, и снова уставилась в окно. На третьей остановке в переднюю дверь вагона вошли человек пять. Трамвай качнулся и поплыл вперед. Вдруг надо мною крикнули:
– Во молодежь! Ты посмотри на них!
Я испугалась. От неожиданности сердце подпрыгнуло и больно ударило в ребра. Повернувшись, я увидела нависающего над нами мужчину: мясистое пористое лицо, красная кожа, расстегнутый жилет с накладными карманами на заклепках, серенькая футболка, облегающая шар живота.
– Оборзели, откормыши! – гаркнул он с апломбом. И мякоть его богатого салом тела колыхнулась.
– Это вы мне? – спросила я, еще до конца не придя в себя.
– Тебе-тебе, чего развалились? Ни в одном глазу! Не видите, женщине пожилой надо место уступить?
Действительно, за жирдяем виднелась мелкая старушка в шейном платке и канонических буклях. Она стояла у противоположного окна, держась за поручень обеими руками. Я приподнялась, но Валя, выбросив руку вперед, отчеканила:
– Сядь.
Я плюхнулась на сиденье, совсем уже потерявшись.
– Чего-чего? – Жирдяй искривил лицо, затопляя свинячьи глазки желчью.
Знаком Валя показала мне: «Молчи».
– Таня, – добавила она хладнокровно, – не вздумай вставать.
За два года общения с Валей я впервые слышала от нее абсолютно связный, приуроченный к текущему моменту ясный текст. К тому же она назвала меня по имени! Ни с того ни с сего бес освободил ее от своего присутствия, и Валя вступила в настоящий, стройный диалог с окружающим миром.
– Ты, мокрощелка, наркоты объелась? – спросил ее наш собеседник.
– Дома жену и дочь свою будешь называть мокрощелкой, – отрезала Валя.
– Ты ебанулась, сестренка?
– Да нет, – процедила Валя сквозь зубы, – это ты ебанулся, боров. Ты чего к ней пристал? Она – женщина. И будет сидеть. Посмотри вокруг! Одни здоровые молодые мужики на стульях. Чего б тебе к ним не доебаться?!
Когда мы вышли из трамвая, я, совершенно обессилев, рухнула на скамью под навесом остановки. Как будто бы из меня откачали три литра крови. Припав щекой к занозчатым, крашенным в голубое доскам, я лежала и понимала только две вещи: во-первых, двадцать килограммов нот нести я сегодня физически не в состоянии, во-вторых, я совершенно ничего не понимаю в жизни. Абсолютно ничего. Абсолютно. Как будто бы родилась минуту назад.
Глава IX
В коридоре темно. На картине темно. Мадонна в синем плаще, преисполненном кобальтовых глубин. Они испаряются. Наполняя собой весь воздух. Оттого становящийся сизым. Становящийся дым. Марии не привыкать. Прииде заутра, еще сущей тьме. Иисус воротил нос. Не глядел на невесту. Не готовил кольца. А она стояла, возложив руку, как велел фотограф: кисть свободна, большой палец отставлен в пространство средь железных шипов. Она стояла у своего колеса. По венам шло белое молоко. Над головой вращалась голубая пластинка флекси. Господь смотрел не на нее. А на меня. Щекастый и недовольный. Ротик пупком. В точности мальчик с черно-белого снимка, вставленного в центр красной звезды. Смотрел в глаза. Пока другой Господь смотрел в темя, отлагая гнев. А я смотрела на нее. Где ты теперь? В базилике Четырнадцати Святых? В музее холодного оружия? Где твои кости? Там палец, там десница, там голова. А что если я пойду к тебе в Египет, прислонюсь к мраморной раке, остужу горячую щеку и попрошу: хочу иметь женихом своим не иного, как только равного мне. Помоги! Ты слышишь? Вот я иду, ты ждешь? Я иду, я ползу на вершину Синая, гора отвесна, и так нельзя, но я понимаю это, когда уже подо мною бездна, и сразу вспоминаю, что монастырь у подножия, значит – надо обратно, какого черта, почему я не осталась внизу, но теперь неважно, потому что я все равно разобьюсь насмерть, и я падаю на угол Мойки и Невского, в ресторанах тепло, горит мандариновый свет, гламурные женщины из кожи и глаз, золото «Живанши», тяжелый макияж, много пудры, идет охота, они тоже надеются на тебя, а я в черном пальто, мне надо по адресу, где-то здесь его дом, но я захожу в супермаркет, я хочу сладкого, я вижу салаты, селедку под шубой, прошу четыреста граммов и вдруг вспоминаю, что у меня нет денег. Где ты, Иисус?! Ты же только что был здесь, передо мной.
– Не спать!
Глаза открылись. Сначала они открылись, а потом я поняла, что это открылись мои глаза.
– Взбодрись, сестренка, – Шилоткач ткнула меня локтем.
На коленях лежала книга. Разворот: «Мадонна с младенцем и шесть святых». Я вспомнила, где мы. Идет экзамен. В доме у Агаты. Я жду своей очереди. Я готовлю анализ картины. Боттичелли. 1470. Дверь открылась. Юра вышел. Коридор опалило светом. Мы увидели кусок комнаты. Там работал вентилятор. Агата сидела в инвалидной коляске, разодетая, как цыганка.
– Ну что? – спросила Света.
– А… – Юра мотнул головой, немного более нервно, чем приличествовало бы молодости.
Лицо его покрылось красными пятнами.
– На осень, – сказал он.
– Чего? Да ты что? Не сдал?! – изумлялась Света. – По ходу старуха каннибалит.
Юра вышел на площадку, ни с кем не прощаясь. Отличники переговаривались вполголоса, по-стариковски:
– Все, все, она уже устала, все…
– Да-да, шесть человек – ее предел, уже устала.
– Н-да… очень быстро устает, да еще и эта жара, – говорили они кивая, в интонации людей, осведомленных о ситуации особо.
Агата Игнатьевна Калягина читала нам Возрождение. С первого дня учебы студентам внушалась мысль (должная со временем выродиться в святую веру) о том, что возможность получать знания от Агаты – чудо. Счастье. Жизненная удача. «Агата Игнатьевна – искусствовед старой школы», – говорили нам шепотом, толсто намекая на источенье ученым сил за отечество и, конечно, владение тайными знаниями. «Уникальная женщина», – произносил декан с придыханием и прикладывал руку к губам, будто придерживая готовые хлынуть через рот слезы раболепного счастья. Агата была ровесницей Джотто. Ее волосы выпали. Родинки переспели. В глазах скопилась кашица. Она уже не могла ходить. В университет ее привозил ректорский водитель. К черной машине подкатывали инвалидное кресло. И пока кто-нибудь держал наготове (в зависимости от времени года) зонт, плед или веер и бутылку воды без газа, четверо мужчин пересаживали грузное тело горгоны, кишащее слоями юбок, астматическое, в оползнях тканей, опутывающих прислужникам руки. Разум старухи мутился. Она не отличала старшие курсы от младших, не узнавала людей, студенты были для нее однолики и вечно просящи – нахлебники алчущие, нахлебники берущие, нахлебники отнимающие. Себя как человека, способного и призванного отдавать, Агата не представляла. Пребывая в статусе великого ученого и памятника петербургской культуры, Калягина превыше всего блюла собственную сохранность. Иногда в связи с прославленной калягинской мигренью экзаменоваться студенты принуждены были ездить на Петроградскую сторону, к Агате домой. Так случилось и во время нашей летней сессии второго курса.
Квартира была большой. В недрах ее студентам бывать не доводилось. Агата принимала в одной из «передних» комнат. Всего же комнат имелось восемь. В них, кроме хозяйки, проживали четыре няни – женщины, на завуалированных основаниях сдавшиеся в услужение деятельнице искусств. Эти тихие, дородные, грудастые, еще вовсе не старые няни, возможно, имели в миру мужей, детей и внуков, но по какой-то причине предпочли отказаться от любви по родной крови и жить в воздержании и труде на благо чужой им старухи, во всю жизнь не родившей себе ни мужчины, ни ребенка, ни собаки. Няни готовили, вели дом, подстригали Агате ногти, купали. Бодрствовали по-монастырски – в молчании. Их богатые формами, покрытые шалями телесные тени беззвучно появлялись то тут, то там, почти неразличимо в сгустках тьмы, в слишком узких для нянь пространствах, оставшихся не занятыми холстами и книгами, пожравшими пустоты комнат до сердцевины.
Какая-нибудь из нянь выносила к нам поднос с билетами. Мы тянули. Получали на подготовку сорок минут. Пока один человек отвечал, шестеро сидели в коридоре – на полу или на приставленных наскоро с кухни табуретах. Или стояли, прислонясь к стене. Окна в доме Агаты никогда не открывались. Мертвые деревья, лежа вдоль стен, больше не чуяли углекислого газа, а вместо того вбирали в себя запах увядших человеческих клеток: тысячи книг пахли старением.
– Из шести, э… – я не знала, как их назвать, – человек… только двое смотрят на нас: младенец и Екатерина смотрят зрителю в глаза. Это очень контрастирует с тем, что остальные персонажи картины поглощены своими мыслями и смотрят на Иисуса или друг на друга, еще куда-то… На фоне того, что святые и сама Мадонна абсолютно самодостаточны, взгляды Екатерины и младенца создают впечатление контакта…
– Какого контакта? – перебила Агата резко.
– Контакта с нами, – ответила я.
– С нами? – она раздраженно усмехнулась. И обратилась к двум няням, хлопотавшим около. – Извольте радоваться! С нами кто-то контактирует! Вздор.
Ноги Агаты пребывали в тазу с водой. На подоконниках, на полу и на круглом столе, покрытом скатертью ручной работы, стояли комнатные растения. Вращая головой, напольный вентилятор проходился по ним волною ветра слева направо и обратно. Няни растворяли порошки в стаканах с водой. Стучали ложечками по краю, сбивая лекарство до последней капли. Отсчитывали таблетки. Перекладывали подушку под спиною хозяйки. То вносили что-то, то выносили, дверь открывалась, закрывалась, открывалась снова. Цветы то гнулись, как в бурю, то выпрямлялись, возвращая исходную безмятежность. Старуха стонала со слезою в голосе и торопила своих наложниц.
– Поспешите за ради бога! – кричала она. – Шевелитесь! Ну же, пора, уже на глаз сейчас пойдет! Уже идет! Уже идет на глаз!
Агата кричала страшно, артикулируя, открывая каждую гласную, как для последнего ряда партера. И няни оборачивали махровым полотенцем мешок со льдом, чтобы прикладывать к виску Агаты. В какой-то момент возникло ощущение, что меня просто нет в этой комнате. Между тем я не рассказала и третьей части из того, что знала о картине. На коленях лежали исписанные листки. Ответ был выстроен композиционно: мысль раскрывалась в нестандартной последовательности, должной, по моему расчету, пробудить слушателя, усыпленного рутиной.
– Что она там несет? А? Совершенно не возьму в толк… Контакт? – она хохотнула, слегка прыснув, и пожала плечами.
Я даже не сразу сообразила, что речь идет обо мне: Калягина задала вопрос будто бы няням, но даже скорее куда-то за спину, подчеркивая видовое неравенство между мной и остальными присутствующими.
– Я хотела объяснить, почему картина производит такое необычное впечатление…
– Так, хватит. Перечислите фрески Сикстинской капеллы работы Боттичелли, – она выдохнула носом, отвернулась в окно. – Быстрее.
– «Искушение Христа», – ответила я тихо.
– Где? – спросила она, не отводя взгляда от окна.
– Где? – я не поняла вопроса.
– Да-да, господи, где, где, на какой стене, в каком ряду, живее.
– Я не знаю.
– Дальше.
Я опять не поняла, чего хочет Агата. Стекло, в которое она смотрела, очевидно демонстрируя нежелание смотреть на меня, было грязным. По плотному слою пыли засохли дождевые бороздки. Сквозь их усыпительный орнамент к нам проступало лето, стоящее снаружи в великом веселии безразличия. Там, под палящим солнцем, в ожидании очереди, у парадной томились мои однокурсники. Вдруг Калягина швырнула от себя сверток полотенца и по полу с грохотом рассыпались кубики льда.
– Нет, ну ушло на глаз уже! – крикнула она с досадой, злобой, чуть ли не в бешенстве, в манерах кокаиниста, по неловкости просыпавшего в Неву только что купленный на последние деньги порошок.
Две няни бросились собирать лед в четыре руки.
– Просила поторопиться, нет же! Изволите упорствовать! – выговаривала она женщинам, тем временем ползающим на четвереньках. – Последовательность желаете возводить в достоинство, с утра и до ночи проводите рылом в землю.
Тут она указала жестом на дверь:
– Можете быть свободны.
– Я?
– А кто же?
– Но я же не ответила по билету… Дальше не надо рассказывать?
– Зачем? Вы не знаете фрески Сикстинской капеллы. Значит, вы не знаете ни-че-го. Вы не знаете Боттичелли. Вы даже не знаете, что вы не знаете Боттичелли.
Я опешила. И в замешательстве перестала придерживать лежащие на коленях листки. Их тут же разметало по комнате проходящей струей воздуха от вентилятора.
– Свет… – процедила Агата в нарастающем раздражении.
Одна из нянь подскочила и стала закрывать шторы. Собирая с пола листки, я успела увидеть, как уже обе грузные няни, приставив к ближнему к Агате окну стремянку и табуретку, полезли заправлять за карниз шерстяное зеленое одеяло.
Выходя из комнаты, я столкнулась с Олегом. Он так торопился к Агате, что даже слегка задел меня плечом. Постукивая по ноге плотной трубочкой, свернутой из листков, он поклонился и сказал:
– Э… Добрый день. Разуваться?
– О боже, – Агата сипела, закашливаясь, – боже… Вы в Петербурге, а не в мечети.
И за Олегом закрылась дверь.
* * *
Мне было так плохо, что, сославшись на боль в животе, я даже не стала ждать Регину и Свету. Я села в троллейбус. Петроградская походила на другой город. В ней не было ничего от оперных декораций. Ничего от вскопанного и брошенного под луной месторождения охры. Город не вставал над человеком, как некто, способный и даже стремящийся остаться человеком покинутым. Петербург – единый и непреодолимый – лежал в стороне, там, за рекой. А это был просто какой-то город, город для жизни и смерти, который мог быть изображенным на любом спичечном коробке или коробке конфет. Сеть проводов. Череда автомобилей. Люди, производящие приятное впечатление массовки восьмидесятых. Они спешили на работу, с работы, несли в руках сумки, обедали, опаздывали в театр или в гости, возвращались домой. Глядя на них, можно было подумать, что на земле есть счастье. И многим оно доступно. Мне было очень плохо. Но я не могла понять почему. Анастасия Дмитриевна посвятила нас в тайный закон: абсолютно любой человек может анализировать абсолютно любую картину. Даже в тех случаях, когда картина человеку неизвестна. Надо просто смотреть и думать. Подбирать коды. Вспоминать детство. Вспоминать вчерашний день. Представлять собственную смерть. Искать среди событий и снов те, что оставляли впечатления, схожие с впечатлением от картины. Никогда не сдаваться. Пытаться взломать сейф, даже не имея инструментов. Если надо – пробивать толстые стены руками. Главное – помнить: эти стены, отделяющие созерцателя от смыслов, находятся не перед картиной, а внутри самого созерцателя. Я пришла на экзамен с открытым сердцем. Я знала о Боттичелли то, что сам о себе он узнать не успел, потому что умер раньше, чем я родилась. Но мои знания оказались шлаком. С этого дня мой интерес к изобразительному искусству медленно угасал. Картины, воспринимаемые ранее как телеграммы из космоса, постепенно высвобождались из красивых панцирных доспехов сверхсмыслов и в итоге, оголившись до предела, превратились в плоские цветные карточки. А музеи – в места, от которых болели спина и ноги.
Понадобились долгие годы, для того чтобы понять – что именно произошло со мной на экзамене у Агаты. Анастасия Дмитриевна учила нас думать. Калягина – обмирать. Анастасия Дмитриевна учила строить новые мысли. Калягина – брать готовые, и отнюдь не об искусстве, а о себе самой. Она не дала нам ничего, кроме практики сотворения кумира, столь заразной и столь порочной. Неспособность Агаты к наставничеству с лихвою прикрывалась ролью авторитета, за которым, как всегда, вместо ожидаемого новогоднего чуда – источника душеспасения – прятались лишь банальные слабость и власть – две головы одного змея, питающегося мясом человека, но в нашем случае принявшего столь не по-военному невинный, обыденный вид естества университетской среды.
Калягина не имела права унижать людей. Но все вокруг вели себя так, будто имела. Я могла выключить вентилятор, швырнуть листки с ответом Агате в лицо и обозвать ее старой коровой. Но я об этом не знала. Потому что в двадцать лет об этом не знает никто. Мы находились в метре от того, чего не понимали. Это нечто (получившее впоследствии убористое и блеклое имя – Выбор) лежало рядом, бескрайне дышало и бескрайне переливалось, но ничем, ни одной черточкой, ни одним звуком или движением не выказывало своего присутствия. Уподобляясь духу умершего, Выбор следил за нами, оставаясь невидимым. Мы были глупы. Но не лишены кожи. И кожей мы чувствовали близость субстанции, в которой блистали наши неролившиеся решения и поступки – блистали тем же блеском, каким блещет мокрое мясо, только что выскобленное из матки, приговоренное к смерти до своего рождения. Вот почему мне было так плохо. В метро я пыталась читать. Но буквы не помещались внутрь. Воздуха не хватало. Тогда я даже и представить себе не могла, что возвращалась с последнего экзамена в этом университете.
Я вышла из трамвая и направилась к общежитию через пустырь. Было жарко. Лето вошло в разгар. Просохнув, земля затвердела. Навстречу мне ехал велосипедист. Он только что выплыл из-под центральной арки главного корпуса и теперь рос, приближаясь. Нечто в этом двухколесном пятне неуловимо напоминало о Строкове. Мысленно я даже успела осмеять собственное параноидальное восприятие мира. Но уже через пару секунд не осталось сомнений: педали крутит мой недавний возлюбленный. Так оно и есть. Просто не верилось.
– Привет! – воскликнул он, спешиваясь. – Чего такая невеселая?
– Экзамен не сдала.
– Ну, братец, бывает.
– Ага.
– А я вот приехал к тебе.
Строков подступил и даже слегка прислонился. Тело его горело: через мягкую, сыроватую, немного липкую, подобную пленке круто взбитого подсыхающего белка и очень бледную кожу шел поток характерного тепла, случающегося при воспалениях. Строков был пьян. Возможно, болен. Запах перегара выедал глаза.
– Я думал, ты пустишь меня… – зашептал он, касаясь губами моего уха.
– Конечно.
– Я думал, мы полежим, я тебя поглажу, сказочку тебе расскажу…
Он развернул велосипед. Медленным шагом мы направились к главному входу. Я не могла воспринять происходящее. Как Строков оказался здесь? Прокатился от Мойки к окраине? Чтобы побыть со мной рядом? До этой минуты я считала, что наш роман бездарно и однозначно окончен. Собственно, даже в период расцвета романа Строков не отдавал предпочтения моему обществу. Иванову, армейским товарищам, паломничествам, пленэру, таинственным заплывам в ночной Петербург – да, но никак не мне и уж тем более не сексу. Мы встречались, потому что я приходила к нему домой. О том, что и он может прийти ко мне, не шло и речи.
Я плелась к общежитию в дремотном состоянии, недоумевая и в то же время пассивно принимая приглашение в некую непредвиденную ситуацию, которая предположительно сулила новую, недостающую краску жизни. Но ничего не случилось. Наше рандеву длилось сорок минут. Потом он вскочил и начал поднимать с пола одежду. Звякнул ремень. Я лежала на боку. За окном над кирпичными корпусами блистало голубое небо. Жарились неподвижные облака. Строков приискивал горловину у майки.
Я могла бы спросить, зачем он пришел. Могла бы спросить, как давно с ним случилось это. И можно ли сделать что-то для того, чтобы его член стоял – руками, ртом, как-то еще. Я могла бы спросить, занимается ли он онанизмом. Нужен ли ему секс без полового акта, и если нужен, то какого черта он ведет себя как корова семейства дюгоневых, выброшенная на сушу. Я могла бы спросить его, что, по его мнению, происходит. Если он не умеет и не хочет заниматься сексом, то не лучше ли было остаться дома с козлами. А может быть, придя ко мне, не помешало бы объясниться, не дожидаясь вопросов. Но я молча смотрела на Строкова, застегивающего штаны. В советском детстве на предмете «Этика и психология семейной жизни» (на коем мальчиков и девочек разводили по разным кабинетам) биологичка рассказывала нам о дезинфекции простынных лоскутов: во многоразовом использовании их наличествовала существенная деталь – прокаливание утюгом после каждой стирки. Биологичка любила «отдыхать левую ногу», вынимая стопу из остроносой туфли, и упоминать лучшую подругу Раису. Потирая левой стопой правую щиколотку, биологичка говорила: «Скажем, Раиса. Зайдет ко мне в гости. А в дороге у нее началось, – последнее она произносила выпучив глаза. – Так у меня в шкафу все стопками. Отглажено, стерильно. Я просто даю ей, и все. О чем вы говорите… Ни одного микроба!» Вопросы же, касающиеся взаимоотношений не то чтобы даже мужчины и женщины, а просто любых двух человек, остались для нас нетронутыми, застыв в том самом невидимом духе выбора, через который мы шли, как через голый воздух. Строков одевался. А я молчала. Потому что не знала о существовании ни одного из резонных вопросов. Я знала другое: дни, подобные текущему, называются «неудачными». Именно они составляют подавляющее большинство дней в году. Такова воля природы.
Вечером я зашла в университет – поесть в столовой горячих сосисок в тесте и забрать свежие экземпляры газеты с моими стихами. На литкафедре сообщили, что меня разыскивает какая-то дама. Она оставила номер. Его записали на клочке бумажки. Лаборант поставила на угол стола телефон. «Только быстро», – сказала она. Но все равно никто не ответил. Я сунула бумажку в задний карман, прихватила пачку газет и вышла. В коридорах было сумеречно и пустынно. Летняя сессия заканчивалась. «Титаник» погружался в межсезонье. Ректор экономил электричество. В полумраке светились сизалевые волосы Регины. Только в ту минуту я поняла, кого она напоминала мне на протяжении двух лет знакомства: Катрин Денев. Конечно. Два кукольных глаза. Белая волокнистая прическа. Tie идеал, а прообраз идеала. Вернее, сама причина его возникновения. Женщина Ева. Мать всего сущего. Я подошла. Регина прижималась к стене. Была грустна. Растеряна. Агата поставила ей трояк. Но дело не в том. Экзамен – пустяк. Беда в другом.
– Я сегодня ходила к врачу, – голос ее дрожал.
– Ты беременна?
– Нет. У меня давно есть проблема… Я просто не говорила. У меня артроз.
– Что это?
– Заболевание суставов, – она подняла кисти рук. – У меня болят пальцы.
– Так надо лечиться.
– Это не лечится. У меня генетическая предрасположенность. Мои суставы будут деформироваться, на пальцах появятся шишки… Это вопрос ближайших лет. Я не смогу больше играть. И тогда, если я не стану искусствоведом, я не смогу устроиться в музыкальную школу.
Регина побледнела и, как будто в попытке удержать пальцами оттекающую кровь, ощупывала лицо.
– Понимаешь, я не смогу найти работу… Не смогу даже частные уроки давать и… – Она перешла на шепот: – Если у меня не будет мужа, мне не на что будет жить.
Я поразилась. Не будет мужа? Работы? Прекрасное будущее казалось тогда неотвратимым. У нас не было ничего стабильнее грядущего счастья. И вдруг такие страхи. У блондинки с огромной грудью, кончавшей в постели одновременно с партнером.
– Ты с ума сошла? Почему ты не станешь искусствоведом?
– Мы ничего не знаем… Все может случиться. С нами, со страной.
– Почему у тебя не будет мужа?
– Кому нужна женщина с наростами на пальцах?
Я совершенно потерялась. В голове открылась распирающая тишина. Регина шмыгнула носом.
– Через неделю мы с Андреем поедем в Старую Ладогу, к целительнице. Говорят, она продает травяной сбор, который поможет. Мы заняли денег… Купим на год.
– Откуда вы узнали о ней?!
– По объявлению в газете.
– Господи! Да вы не…
Регина коснулась рукой моего плеча.
– Не надо, – сказала она. – Я должна верить.
Этот момент вошел в память, как тончайшая спица в кремовый мозг. При словах о целительнице во мне мгновенно вспыхнула энергия: необходимо было бросаться и вытаскивать подругу из огня бесплодных надежд, спасать от роковых трат, растаптывать стяжателей. Но останавливающий жест Регины подействовал как ледяной душ. Какая-то сила сковала легкие. И велела молчать. Впоследствии я вспоминала этот разговор неоднократно и каждый раз благодарила ту ледяную мощь, что запретила моим неумелым молодым рукам по локоть залезть в отношения человека с самим собой. Минуту мы постояли молча. Потом обнялись. Я уезжала на каникулы к бабушке. Мы расставались до осени. Мы виделись последний раз.
* * *
На следующий день я отстояла душную очередь на Московском вокзале. Хотелось уехать к бабушке как можно скорее. Ближе к обеду, с билетом в кармане, я отправилась к Валечке – попрощаться до сентября. В предчувствии каникул тянуло устроить кутеж. Купив по дороге сыр, батон, брикет масла, двести граммов корейской моркови и пачку чая, я шла по городу, забросив пакет через плечо. На Миллионной толпились студенты. Они курили, кучковались, то и дело взрывались хохотом. Девушки отбрасывали пряди длинных волос. Запрокидывали головы. Обнажали зубы. Молодые люди смотрели долу. Затирали ногами окурки. Водосточные трубы нагревались, как батареи. В костях возникла любовная легкость. Через три дня я окажусь в доме детства. Что-то готовит мне праздное лето? Блины? Голубцы? Ведра лисичек, палые абрикосы, Генриха Гейне, смерть Марии Стюарт в картинках, грошовые бары. Я пропрыгала через мошковские катакомбы, заныривая в дырку за дыркой, представляя себя проходцем зрелого сыра.
За дверью лязгнула цепочка. Валечка отперла сияя. Аллилуйя! Она разучила десятка два тактов из «Цыганских напевов». Мы разложили на полу квадрат клеенки. Накрыли «стол». Простерев ноги, я валялась поперек матраса и слушала Сарасате. Скрипка то и дело пьяно взвывала. Качество исполнения не существовало для Валечки как категория. Хочешь играть – играй. И все. Женечка обнималась с березами. Валечка пилила по струнам. Гармоничные люди просто брали от жизни куски и прислоняли к сердцу, не дожидаясь от общества права на присвоение благодати. Примечательным здесь являлось то, что на взятые ими куски жизни, кроме них самих, не претендовал никто: свобода гармоничных людей имела гораздо более сложную структуру, чем казалось на первый взгляд. Из заднего кармана просыпалась мелочь. Собирая монетки, я засовывала их обратно. В углу кармана обнаружился мусор – то ли замятый фантик, то ли билетик. Подковырнув пальцем, я вытащила его, чтобы выбросить. Расправив комочек от нечего делать, я увидела телефонный номер – тот самый, что дали на кафедре накануне, – и, прихватив бутерброд потолще, вышла в коммунальный коридор.
– Алло.
Женский голос звучал предупредительно. Трубку сняли слишком быстро. Здороваться пришлось дожевывая.
– Мм… Я Таня Козлова. Мне на литкафедре дали ваш номер.
– Здравствуйте, Таня. Меня зовут Наталья Орловская. Я жена Игоря Владимировича Строкова.
Телефонный аппарат висел на стене. Около зеркала с тумбочкой. На нее-то я и осела.
– Вы видели мою фотографию в мастерской, – сказала женщина.
Придя в себя после короткого шока, я стерла крошки со рта. И посмотрела на свое отражение. Лицо показалось упитанным и старым. В голове плескалась какая-то мутная каша. Вдруг в разобщенном мелькании всплыл апрельский вечер, худое вино, сарагосская рукопись и ее соседка по полке – черно-белая карточка: Наташка, красотка, жена однокурсника, мы так хорошо знаем друг друга, любовь невозможна, возможна, место для домысла, вымысла… Вспомнилось все.
– На картошке? – выговорила я еле-еле.
– Да. Только не на картошке. В Геленджике.
– А. Ну, тогда это другая… там…
– Нет, это именно та фотография. Она стоит на полке, рядом с книгой Яна Потоцкого. Игорь Владимирович сам снял этот кадр в семьдесят седьмом году, во время нашего отпуска.
– Э… Но… он говорил, что вы… то есть что то – жена его однокурсника…
Выдохнув, я решила взять себя в руки. Не вполне понимая, правда, для чего. Но взять. И не поддаваться. Неизвестно кому, но не поддаваться. То, что сейчас происходило, могло быть чем угодно – розыгрышем, западней, надувательством, сном. Безумием. Вдруг сознание пронзило: о боже, ведь нельзя было признаваться, что мы со Строковым знакомы! Я испугалась. Сердце заколотилось. Но следом пришла альтернативная мысль: Строков холост. Свободен. Тайны не было, нет. Черт. Я не могла думать так быстро. Я делала что-то не так. Я обратила внимание, у моего отражения под глазами расползлись темные тени. Я глупая? Я некрасивая? Всего более я не понимала, почему эти болезненные вопросы пришли мне в голову именно сейчас. Я постаралась выровнять дыхание:
– Послушайте. Я не знаю, кто вы такая, я ничего о вас не знаю… У Игоря есть жена. Бывшая. Он в разводе шесть лет. Они, та жена и дети, живут на Петроградской… Сын и дочь. Он никогда не скрывал… Ничего другого я не знаю.
– У Игоря Владимировича действительно есть двое детей. Но он никогда не состоял с их матерью в браке. И, насколько мне известно, с детьми он не общается.
– Не общается? Может быть, вы не знаете?
– Может быть, – ответила она спокойно.
Я обмякла.
– Девятого мая он брал детей в Тосно. Ездил к другу, с которым воевал в Афганистане, – пролепетала я.
– Игорь Владимирович никогда не служил в Афганистане. Он вообще не служил в армии. В армии служил его ближайший друг – Клим Иванов. Вы знакомы.
Она придерживалась интонации, взятой сначала: деликатной. Кажется, даже излишне бережной. Говорила тихо, мягко, врачуя. Игорь Владимирович не бывал на войне. Он поздно поступил в училище имени Веры Игнатьевны Мухиной, потому что по окончании школы несколько лет пролежал в больнице. Он не имел наград. Не был ранен. Последний раз навещал сына и дочь два года назад. Девятого мая был дома. Праздничный день они провели по обыкновению вместе. Утром ходили на Владимирский рынок. Потом принимали гостей. Присутствие Игоря Владимировича за столом могли бы подтвердить не менее десяти человек. Девятого мая он был дома. Повисла пауза. Наконец я с трудом, но все-таки разлепила губы:
– Дома?
– Дома. Мы живем недалеко от мастерской, на Грибоедова девять. Вы обращали внимание, Игорь Владимирович часто уходит куда-то? Оставляет вас в мастерской одну…
Я молчала. Оказывается, за разговором я незаметно для себя сдавила пальцами недоеденный бутерброд. Теперь, разжав кулак, я высвободила кусок хлеба, смятый в снежок.
– Как вы думали, где он живет? В мастерской? Но разве может человек жить в таких условиях? Вы же видели, что там творится, вы же знаете, что каждый должен мыться, стирать вещи, отдыхать, где-то хранить продукты.
Я поняла, почему тогда – перед первой попыткой заняться сексом – от Строкова пахло мылом. А ведь в тот вечер можно было просто спросить: ты только что мылся? А где? Ведь происходящее казалось странным. Несуразным. Так почему же я не спросила? Испарина на коже мгновенно остыла, как на ветру.
По какой-то причине женщина оживилась. Ее речь зазвучала более натурально. Она заговорила взволнованно: о, она не собирается ни в чем меня упрекать. Да, да, у нее и не могло быть ко мне никаких претензий. Она искала меня совсем по другой причине. Это важно. Крайне важно. Я должна отнестись с пониманием. Со всем возможным пониманием. Она рассчитывает на мою чуткость. Она знает, что я – особая девушка. Я – человек взрослый. Я трезво мыслю. В отличие от моих сверстников, мне хватает здорового цинизма. А вот за Олю Назарову просто страшно. Действительно страшно.
– Простите, – я перебила ее. И, прокашлявшись, спросила:
– Кто такая Оля Назарова?
– Оля? Кто Оля? Хм… – похоже, женщина немало удивилась вопросу. – Оля Назарова, ваша сокурсница. Вы учитесь в одной группе. Такая милая девочка, с длинными белыми волосами. Носит высокий хвост.
Значит, Саббет. Вот так-то.
– Да, понятно.
– Я хотела поговорить с вами о ней. Дело в том, что Игорь… Они встречаются. Может быть, вы не знали… Я не знаю, может быть, вам неприятно это слышать…
– Нет, нормально.
– Да. Так вот, они встречаются. Таня, Оленька влюблена в него. Серьезно влюблена. Возможно, это ее первая любовь. Она совсем еще ребенок. Чистый, невинный. У нее нет такого опыта, как… э… у вас. Вернее, у нее нет вообще никакого опыта. Она девочка, вы понимаете? Совсем девочка. Родители взяли ее из детдома в раннем возрасте, кажется в три. Они воспитали ее в строгих правилах, слишком рачительно. Ее чрезмерно ограждали от любой грязи… От всего! Такой человек совершенно незащищен… Она принимает мир… Господи, это чрезвычайная ситуация. Ее надо спасти. Вы понимаете?
– Так, а я что могу?
– Поговорите с ней.
– Я?! О чем?
– Расскажите Оленьке правду. Убедите ее бежать оттуда. Она послушается вас. Вы авторитетный человек, вы – поэт. Творческая личность. Расскажите ей все, что знаете.
– Я уезжаю к бабушке. У меня билет… Мы с ней не видимся вообще-то. И не общаемся. С этой Олей.
– Она сейчас у него. В мастерской. Поезжайте, поговорите. Таня, я прошу вас. Иначе случится беда. Вы не представляете, каким ударом могут обернуться для нее эти отношения. Я умоляю вас. Эта девочка, она так трепетна, так нежна…
* * *
Я не помню, что сказала Вале. Не помню, как дошла до Мойки, как поднялась по лестнице. Я постучала. Потом еще раз. Отперли тихо. И там – внутри – тоже было тихо. Тихо и темно. Как при покойнике. Строков приоткрыл дверь на треть. И встал в щели. Будто боясь, что я могу проскочить.
– Привет, – сказал он надменно. – Извини, я работаю.
– Ну ладно, – ответила я.
– Ага-ага, – закивал он с прохладцей, как побирушке, которой уже выдавали сегодня на хлеб.
Я свернула от Певческого на Дворцовую. Прошла через площадь. Где-то на Адмиралтейском проспекте нашлась телефонная будка. Записная книжка рассыпалась в руках. Гербарий. Грязь. Счастливые билетики. Билетики, цифры на которых в сумме давали семерку. Номер Иванова был записан отдельно, на титульном листе, широким росчерком, крупно, без подписи, как номер роддома или похоронного бюро. Важно. Но не навсегда.
– Клим, – мне было непросто. Одно дело приходить к незнакомым скульпторам, раздеваться, признаваться в любви первой, читать стихи перед полупустой аудиторией. И совсем другое дело – позвонить из одной жизни в другую жизнь, признавая тем самым факт последней – берега дальнего, лучшего и того, которого не достичь. – Я хотела зайти к тебе, поговорить. На минутку. Мне надо поговорить.
– Я не в мастерской. Где ты?
– У Адмиралтейства.
– Иди к Исаакию. Жди у главного входа.
Я дошла до собора в отупении. Поднялась по ступеням. Села у подножия колонны. Остудила лоб о гранит. Динозавр Монферрана раскрыл надо мной свои крылья, забирая под тень. Я всегда считала его уродом. Мезозойский ящер в парадной форме, гремящий барельефами и золотой чешуей, распадающийся на многотонные высоты, непригодные для осознания их человеком как единого целого. Странно, что в этот вечер мы встретились так близко. Я и чудовище, над которым я насмехалась.
* * *
– Ты знал, что никакой войны не было?
Иванов рассмеялся:
– Строго-то говоря, была.
Я дернула его за рукав.
– Ты знал, что он не служил в Афганистане и орденов не получал?
– Ну… да, что-то слышал.
Иванов ответил небрежно, как будто речь шла о запамятных сплетнях, касающихся далеких людей из газет. Эта вялая, беглая реакция произвела эффект второго взрыва, которого уже никто не ждал: теперь стоило переосмыслять последние полтора часа моей жизни, прошедшие с момента первого. О господи. Он «слышал». Судя по всему, случившееся не представлялось Иванову темой. Говорить было не о чем. Сделалось досадно от того, что я вообще попросила о разговоре.
– Пойдем покушаем, – сказал Иванов.
Будто это что-то решало. Будто ради еды мы стояли здесь, у Исаакия, как на острове, посреди вздернутого подо мною прошлого, в клочьях взорванного сознания, обрушенного столь неожиданным изъятием некоторых смыслов задним числом. Я пожала плечами. А что было делать? Покушаем так покушаем. Я указала на Большую Морскую:
– Там котлетная одна, очень крутая.
– Котлетная? Слушай, может, пойдем в нормальное место? Может, в «Асторию»?
Он легонько потянул меня за руку.
– В котлетную, – сказала я. – Это рядом.
– Стало быть, – вздохнул Иванов.
В те времена у меня никогда не имелось денег, достаточных для оплаты более пяти котлет за раз. Речь шла о замызганной забегаловке, знаменитой в Адмиралтейском районе: бумажные тарелки, пластиковые стаканы. Студентам казалось, что тамошние котлеты сочились амброзией. Два первых года жизни в Петербурге я мечтала о том, как, разбогатев, приду в это место – взять свою вершину блаженства. И тут Иванов подвернулся, с большим кошельком, в пяти шагах от! – просто как радуга к Пасхе.
– Двадцать, – сказала я раздатчице в белом чепце. Иванов схватился за голову.
– Таня?..
Котлетки шипели на огромном черном кругу раскаленной плиты. Раздатчица цепляла их совочком. И отработанным жестом отпускала соскользнуть в тарелку. Лицо этой дамы выражало пресыщенность. Абсолютно всем. В том числе и усталостью, характерной для человека, день за днем губящего тело на стоячей работе. Прокоптившись в чаду, помышления сердца раздатчицы слиплись в комок. Она не любила нас. Но она и не помнила о том, что она нас не любила.
– Двадцать, – подтвердила я Иванову. И на этом слове взор раздатчицы хоть и едва заметно, но все-таки увлажнился жизнью.
Прилавок под кассовым аппаратом был застлан куском прозрачного пластика. Под пластиком лежала свадебная открытка. Какие-то розы, прореженные орхидеями. Россыпь жемчуга. Кружева. Два золотых кольца в складках парадной скатерти. Два голубя, касающихся друг друга клювами. В ожидании суммы по чеку я успела подумать о том, что никогда ранее не задавалась вопросом: а почему свадебные открытки оформляются в столь новорожденных тонах? Что есть от эстетики нежнейших сливочных фактур в решении двух взрослых людей основать новую ветвь родства по крови? Я взглянула на Иванова, копающегося в бумажнике. Неужели то, что связывает его с фатальной Гульнар, хотя бы в какой-то части своей содержит нечто единородное сахарному умилению? Когда? В откровениях? В родовых муках? В темноте опочивален? В наготе? В соприкосновении их тела раскрываются изнеженною белизной голубят? Когда анонсированное художниками птичье молоко разливается между мужчиной и женщиной? Оно случится со мною в замужестве? По идее, на свадебной открытке два золотых кольца должны были бы лежать на черном квадрате Малевича, символизирующем вечную веру, затвердевающую в вечной неизвестности.
– Идем? – сказал он, приподнимая поднос.
Мы сели у окна. Солнце лупило в висок. Я придвинула к себе тарелку с горой котлет. Иванов глотнул желтого пива. Он молчал. Я ела. Я спрашивала себя: зачем люди врут? А если завтра окажется, что меня подменили в роддоме? Я позвонила Иванову как раз для того, чтобы задать ему эти вопросы. Но теперь порыв казался дурацким. Наверное, Иванов чувствовал это. Наверное, он понимал, что, оставляя происшедшее без комментариев, работал заодно с теми, кто, лгав, пронизал реальность, выедал ее плоть, подобно червям умножая пустоты, принимаемые нами за всенарастающий, обезличенный и неизбежный холод абсурда. На одиннадцатой котлете молчание было прервано.
– Я не знаю, кто из них врет. И зачем. Не знаю, – его голос сел.
Всегда столь очевидную красоту Иванова, возносящуюся знамением, подернула горечь. На мой плотный, жаркий мясной обед упала тень. Иванову было трудно говорить со мной о близком друге за спиной близкого друга. Однако мне не хотелось входить в положение.
– Каждый человек – пучина.
Он посмотрел на потолок, припоминая что-то.
– Куда страшно заглянуть… Да. Я люблю его. Но я не знаю его. Следовательно, люблю не его, а кого-то другого… Но ведь все равно люблю.
На глазах Иванова блеснула пленка слезы. Я отложила вилку.
– У меня нет времени разбираться в его прошлом, в его мотивах… У меня много детей, жена, мама… Я работаю день и ночь, у меня нет времени просто сходить в Эрмитаж… Познание человека может отнять всю жизнь. Мне не жаль своей жизни, но у меня физически нет времени на то, чтобы разобраться – кто он такой. Я не боюсь правды, но правда каждого столь велика, что… У меня нет таких сил, Таня. Нет! У меня нет времени на подлинную, настоящую любовь к нему. Но это не прекращает, не отменяет ту любовь, которую я чувствую… Я люблю его, я люблю, что он приходит ко мне… ставить ему пластинки, ждать, что он скажет… Я люблю его работы, он очень большой художник, в отличие от меня… Ведь я зарабатываю деньги, у меня дети, я принял такое решение… Он – другое. Я люблю его за то, что он принял другое решение. Может быть, он врет мне… Но меня это не ранит, не унижает… Мне все равно, кто он такой.
Лицо Иванова застыло. Как могло бы оно налиться кровью, так налилось усталостью и внутренним мраком.
– Повод ли это отказаться от него? – спросил он. Не меня, конечно. А так.
Котлеты остыли.
– Лично мне за почти тридцать лет он не причинил никакого зла.
– Тебе нет. А Оле Назаровой причинит.
Глаза Иванова сверкнули.
– Кто сказал?!
– Кто-кто! Жена.
– А почему ты вообще на хуй ее не послала? – в раздражении Иванов повысил голос. Впервые на моей памяти.
– А что, можно было? – я спросила язвительно и, взявшись за вилку, продолжила есть.
Иванов приуныл. Он выпил еще пива. Пена уже осела и померкла. Да и солнце поблекло. Огненный шар пошел на посадку. Морская сползала в тень, время съезжало к полднику.
– И что… – заговорил он с меньшим раздражением, – он ее расчленит?
Вместо ответа я отодвинула бумажную тарелку с последней котлетой на дальний край стола.
– Фух, – я уронила голову на руки. – Больше не могу. Все. Спасибо.
– Ну, лишит он ее девственности, ну и что?
Я вспыхнула. Я-то знала, что даже самый яростный и лаконичный, прямо-таки по-шампански брызжущий свежей кровью прорыв тореадора через плеву был бы для Оли Назаровой куда менее чреват в сравнении с месивом, предлагаемым Строковым под видом секса.
– Что? Таня? Ты что-то знаешь?.. В чем дело?
В ту же секунду мне пришло в голову простое соображение: Иванов понятия не имел о том, что не все мужчины умеют и могут заниматься любовью.
– Тебя что-то конкретное смущает в связи с этой девочкой?
– Нет-нет-нет, – я замотала головой.
– Ладно, – сказал Иванов, отрываясь от спинки стула. – Я что-нибудь придумаю.
Он улыбнулся.
– Теперь в Эрмитаж.
Я не могла поверить, но это проступило ясно, как свет: оставшуюся долю дня Иванов отдает мне.
В двенадцатом часу мы спустились под землю. Иванов взялся меня провожать. Мы могли поймать такси – Иванов был явно взволнован тем, что опаздывает домой, но почему-то решили прокатиться в метро. Там оказалось пусто, с нами в вагоне ехало не более десяти человек.
После тридцати мое сердце, как если бы некогда забытый в родильном доме ребенок, явилось ко мне и сказало: ты бросила меня, ты меня уничтожила, а теперь я тут, в тебе, теперь я, зарубцевавшаяся рвань, буду твоей обузой до конца твоих дней, ты будешь жрать и отхаркивать мой страх и мое дерьмо, пока не умрешь или пока я не умру вместе с тобой. Но тогда, в двадцать лет, молодое сердце ходило легко, как новенький, хорошо промасленный механизм, как будто оно качало тогда не кровь, а чистую невесомость – я не чувствовала его, никогда не говорила с ним, не знала его судорог, не слышала от него криков – оно позволяло мне жить так, будто бы я была совершенно одна: беспечно. В тот же невероятный вечер с Ивановым сердце вообще исчезло. Лопнуло, как мыльный пузырь. А оставшееся пустым место сплошь заполнилось чувством. Грандиозным. Ничего общего с поросячьей радостью, «женским» счастьем, влюбленностью – нет. Это было чувство точного попадания в такт после изматывающего блуда в пространстве, лишенном темпа. Безусловно, в самой природе женщины заложена необходимость быть рядом с таким мужчиной, как Иванов. Поэтому в приближении к нему я чувствовала приближение к себе – к тому замыслу, которым озадачивался Творец, а следовательно, и к самому Творцу. Встреча с мужчиной – не с человеком, наделенным соответствующими половыми признаками, а именно с мужчиной – большое чудо в жизни женщины. Тогда я осознавала развертывание чуда перед собою. Я даже точно помню, что про себя именно так характеризовала происходящее. Слово «чудо» определенно вертелось в голове. Каждая минута неприступного мира раскрывалась и давала себя потрогать, время позволяло залезть в него целиком, как в воду, и нащупывать в море краски Понтормо, утираться алым платьем Мадонны, находить под шерстяным джемпером твердые мышцы и слышать голос живого Бога. Поэтому мне и в голову не приходило претендовать на нечто большее. Я понимала, что мы никогда не станем любовниками. Я отдавала себе отчет в том, что эта встреча может оказаться последней. Никаких надежд, никакой боли. Я довольствовалась тем, что происходило. Не имея в ту пору еще навыка формулировать тексты предполагаемых посланий, интуитивно я угадывала смысл: в этой встрече Господь ободрял меня, говоря: мужчины существуют, жди, не сдавайся, верь.
Мы поцеловались. И тут, кажется на Петроградской, в вагон вошла компания, человек шесть, пьяные, в мишуре, поролоновые заячьи уши, рожки на пружинках, угар, волосы, слипшиеся от мартини. Потные, в сбившихся криво пиджаках и рубашках, они хлестали из горла, обнимались, смеялись, рыдали и снимали друг друга на камеру. Увидев нас, оператор перевел в нашу сторону объектив и крикнул, чтобы мы целовались. Его друзья, мгновенно воссияв слезами умиления, стали аплодировать и свистеть. Я посмотрела на Иванова вопросительно.
– Пусть будет, – прошептал он. И я еле-еле, скорее просто по губам, разобрала этот шепот.
В дневниках, которые теперь называю «детскими», я нашла следующее: «Мы позировали на камеру не по глупости и не по беспечности, а потому, что предчувствовали, что момент, равный ценностью этому, может не повториться. Этот момент затмевал собой все, как тень монферрановского, только наоборот. Это был инстинкт самосохранения, мы инстинктивно пытались сохранить, у чужих людей, без возможности когда-либо найти, вернуть и присвоить себе хотя бы в виде воспоминания минуты счастья». Сейчас непонятно, «монферрановского» чего? – но, по всей видимости, творения. Мой конфликт с собором в те годы был по-юношески велик. И представить невозможно было, как через пятнадцать лет мало станет значить эстетика столь пылко опротестованного мною храма и как много – факт нашего прошедшего по касательной знакомства, достигшего пика близости в прохладе, опалившей мой лоб, прислоненный к розовому граниту. Также невозможно было представить себе и то, как мутирует смысл послания, взятого мной через поцелуй Иванова. Верю ли я в существование мужчин? Может быть. Только теперь уж ясно, что одной веры в чудо недостаточно. Акт веры, выкристаллизовавшись, оказался не алмазом, а только одной его гранью, одной сияющей гранью многогранного подвига – победы над собой. Ожидание любви – бессмысленно. Ожидать следует смерти. К тому, кто ожидает ее честно, любовь непременно придет. Какая-то такая запись могла бы быть в моем «взрослом» дневнике, если бы я его вела.
Глава X
Поезд шел не торопясь. Как сквозь вату. Железнодорожные полотна стекались и растекались, сплетались и расплетались, как щупальца осьминогов, как веночные ленты, как волосы или пальцы. Я вышла в тамбур постоять у окна. Солнце припекало пыль на стекле. Двадцатые числа августа. Я возвращалась от бабушки. Травы, поля, березы. Травы, поля, провода. Мачты, горы угля, гравий в мазуте. Однообразие склонов и плоскостей время от времени нарушал борщевик, на две головы переросший равнину, торчащий навытяжку, грязный, серый, окаменелый к концу лета – странный в своей кипарисовой стати, парадоксальный в выправке своей, при известной смертоносности так просто и открыто возвышавшийся над остальной, еще зеленой травой.
Уже в поезде что-то пошло не так. Проводница была бледна, груба, нервна, отводила глаза, избегала ходить по вагону. Она отказывалась принимать за постель русские деньги. А когда все-таки согласилась, то запросила чудовищную цену – пятьдесят рублей за комплект – дороже обычного в шесть с половиной раз. Поднялся скандал. Люди требовали объяснений. Абсурдная цена, грабительская! В конце концов, она не соответствовала цене в гривнах. Пассажиры кричали. Но это ни к чему не вело – проводница терла руки о фартук. «Только доллары беру, а так нет», – бормотала она, отворачивалась и лезла в свою нору под одеяло. Конфликт кончился тем, что эта напуганная и озлобленная девушка решила выдавать за русские деньги один комплект на двух человек.
Юра ждал меня на перроне, зашел в вагон, помог вынести вещи, чемодан, коробку с яблоками. Как только ноги мои коснулись тверди земли, Юра сказал:
– Бутылка подсолнечного масла стоит сорок три рубля.
Эти слова были первыми. Не «здравствуй», не «как ты доехала», а именно это. Я опешила.
– Шутишь?
– Сейчас сама все увидишь, – ответил он на усилии, подхватывая с земли чемодан.
– Может, сначала покурим? – спросила я.
– Бросил, – ответил Юра. – Пачка Мальборо знаешь сколько теперь стоит?
Всю дорогу до общаги я думала, что Юра врет. Преувеличивает. Рассказанное им казалось бредом. Доллар взлетел, ценники меняли три раза на день, какие-то родственники скупали крупы, какому-то соседу в очереди у обменника выкололи глаз, кто-то скончался в вестибюле банка, инфаркт, слезы, разорение – разве это могло быть правдой?
Юра внес в мою комнату вещи и сразу пошел в главный корпус, по каким-то делам в деканате. Не помыв рук, не присев даже, я бросилась на улицу. Через двор, в нетерпении, но я все еще шла, ускоряя шаг, а через пустырь уже бежала, бежала что было сил к ближайшему продуктовому. Трущобы высились так же, как и раньше. Они не выросли ни на йоту. Сам эмпирей тем более не приблизился к нам и не расщедрился ни на малейшее проявление к смертным: небосвод был так же высок, обособлен и нем, как обычно. Светофоры – исправны. Трамваи – на ходу. Никаких признаков ядерной зимы. Все выглядело нормально. Никакой паники. Хорошая погода. Я бежала быстрей и быстрей. Я почти убеждена была, что Юра хотел меня напугать. Или сам хотел испугаться. Люди склонны драматизировать. Разве шли бы они сейчас от остановки так спокойно, протыкая каблуками сбитую в пудру землю, похрустывая накрахмаленными воротниками, подставляя лысины солнцу, промокая потные шеи платками, – разве беспокоила бы их эта августовская жара, если б их деньги сгорали тем временем на каком-то пожарище апокалипсиса? Нет, мир не мог измениться. Ведь мы не делали ничего плохого. Влетев в торговый зал, я осмотрела полупустые полки. Бутылка масла стоила сорок три рубля. Я поняла, что сумма, из которой я должна была оплатить два семестра учебы, год проживания в общежитии и год полноценного питания, годилась теперь на номер в «Женеве» или на трехдневную экскурсию в Мюнхен, на пивной фестиваль. Кроме того, мои деньги хранились в банке. А там, по слухам, нынче умирали люди.
На следующий день я поехала к Валечке. Оттуда позвонила родителям. Мама сказала, что я могу вернуться домой. Она поддержит любое мое решение. Если мне хочется, я могу собирать чемодан. Хоть сегодня. Я повесила трубку. Вышла из квартиры. Спустившись на пару ступенек, я остановилась там, где весной мы впервые поцеловались с Климом. Я закурила, лицом к окну. Подоконник находился на уровне моих стоп. Я коснулась стекла носком туфли. Моросил дождик. Слегка перегнувшись через перила, я посмотрела вниз: под домом несколько толстых холеных крыс растаскивали мусор из пакета, видимо сброшенного из окна чьей-то квартиры. Крысы действовали спокойно, можно сказать – размеренно. Имей они проигрыватель, то беззастенчиво крутили бы какой-нибудь чинный вальсок Рене Обри. Погода их не смущала. Капли дождя скатывались с их просаленных шкур. Вид крыс говорил: это наш город, мы здесь родились, мы ели его известку и пили его Неву; вы видите лицо города, а мы населяем его кишки, вы любите его зрелищность, а мы знаем, как у него болит; вы стяжатели, мечтатели, временщики, вам всем хочется невозможного, вы развесили в кронах свои грешки и портреты Иисуса, а мы – при корне, мы знаем дату смерти, поэтому никогда не держим деньги в банках.
А что если Валя права? Город не принимает? Я слегка отбивала такт носком по стеклу. Звук получался ветхий, старческий. Пожившая, дряблая шкура дома дрожала даже от удара женской ноги. Мысли мои мелькали. Я вспомнила дом, кровать, изголовье, пятно на стене – стертый орнамент обоев в том месте, где я во сне прикасалась лбом. И в груди защемило, остро, как будто сердце было связано пуповиной с далеким концом материка, и теперь пуповину дернули и потянули. Я курила, я тяжелела от белого дыма, а пуповина накручивалась на мысли о родине, как на ядро земли. Вот тут я подумала: а что если правда? Вернуться, устроиться в детский сад аккомпаниатором, всегда иметь кипяток на казенной кухне, мешок картошки под шкафом, быть рядом с теми, кто тебя любит, чувствовать их любовь, как масло и вино, перекатывающиеся в ранах, а главное – спать на своей кровати, на своей – той, что врастает ногами в землю, в которую со дня рождения уходили мое тепло, мои опавшие волосы, мои остриженные ногти, уходили и, перегнив, всходили обратно, травой и хвоей. Ведь эта кровать существует, она стоит далеко, но она материальна и ее можно потрогать. Мысль ослепила. Я осознала возможность прильнуть к собственному прошлому – его можно вернуть, хотя бы какие-то части из него еще живы и пока дышат. Конечно, они доживают, как рыбы, выброшенные на берег океана памяти, но к их дыханию все еще можно присосаться: жизнь не обязательно менять. Это поразило меня. Я оглянулась на дверь: сейчас я поднимусь, войду в квартиру, сниму трубку и скажу родителям, что возвращаюсь. Я сделаю так? Крысы продолжали степенно работать над мусором.
Спустя годы, вспоминая эти минуты, я укреплялась во мнении: пережитое тогда не являлось моментом выбора, это было всего лишь максимальное приближение к его существу, просто контакт – почти интимная близость с жизнью. В глубине души я понимала, что не вернусь домой. Я хотела быть «известным поэтом» (что подразумевалось под этим? Хотела ли я собирать стадионы? Не помню), хотела встретить мужчину «умного и богатого», хотела слушать живую музыку, посещать филармонию, иметь дорогую одежду, и все сие, конечно, вероятнее становилось в Санкт-Петербурге, а не в маленьком северном городе с населением в сотню тысяч. Как и все мои сверстники, почти все, я верила в лотерею. Не то чтобы верила, нет, думаю, я воспринимала лотерею как нечто неотъемлемое: каждому обстоятельству соответствовало то или иное число шансов на успех, вероятность успеха менялась по мере перемещения человека в обстоятельствах, только и всего. Представить себе какую-то иную систему, думаю, я просто не могла. Разумеется, я ни о чем не жалею. Я не была тогда ни глупой, ни умной, ничего особенного. Я просто делала то, что я хотела. Возможно, поэтому теперь, в ретроспективе, каждый отдельно взятый день моей жизни производит впечатление прожитого неверно, иногда преступно, иногда постыдно, но все они вместе, в сумме, все дни моей жизни представляют собой путь единственно верный и единственно для меня возможный.
Вернувшись в квартиру, я подошла к телефону, сняла телефонную трубку и позвонила Алику Померанцу.
– Мне нужна работа, – сказала я.
– Приходи в офис.
Через неделю я забрала документы из университета, сняла комнату «с инструментом» на Римского-Корсакова, с окном, выходящим прямиком на Никольский собор, устроилась на работу и начала новую, странную жизнь, через студенеющую сентябрьскую ткань которой то и дело проносились, как стада ошалелых быков, люди, охочие до стирального порошка или гречки «по старым ценам».
* * *
Алик Померанец был лучшим другом петербургских поэтов. И не просто каких-то любых поэтов, а только бездарных. В девяносто третьем Померанец создал региональное общественное объединение – «Союз молодых авторов», который, естественно, назывался «Северная Пальмира» и к девяносто восьмому объединял под своим крылом пару сотен тунеядцев. Взносы были смешными. Кажется, двадцать рублей в год. С возможностью рассрочки. Впрочем, никто ничего не платил. Журнал испещрялся списками должников. Их лишали права выдвигаться от Союза на областные поэтические конкурсы. Но бездельников и алкоголиков это не ранило. За год касса объединения собирала столько же, сколько за день шапка безногого, просящего подаяния на Лиговке в грязную погоду. Но Алик не унывал. Всегда гладко выбритый, в свежей рубашке, улыбающийся, доброжелательный, он постиг инженерию сознания донатора, он понял принцип просветления: он не ждал от облагодетельствованных им людей ничего, кроме ничего.
Померанец арендовал актовый зал на Обводном, в одном из корпусов заброшенного завода. Нутром заводские строения походили на анфилады парижской канализации: настоящий некротический пик! Стены крошились, как творог. Но, несмотря на это, почти все помещения были разобраны под склады или «офисы». И вот в это гнездовье дельцов, отвлеченных от санитарии, два вечера в неделю стекались поэты. С семи до девяти – читка. Потом – попойка. За Аликов счет. Каждую среду и пятницу молодые люди в длинных кожаных плащах, мальчики, похожие на Есенина или Блока, девочки, таящие в себе чреворастлевающий трагизм, прокуренные лесбиянки, барды, вышедшие по УД О представители самодеятельности и прочие собирались в давно уже отгулявшем свой век актовом зале и рассаживались на откидных стульях, обитых перештопанным на сто раз черным дерматином. Чтецы выступали за трибуной, некоторые декламировали в артистической манере – со сцены. На головы слушателей время от времени опадала штукатурка имперских времен.
Выступление лимитировалось – по три стихотворения на душу. Сам Алик на чтениях присутствовал редко. Он появлялся к семи, подвозил ящики пива, чипсы, кое-что покрепче. Здоровался, очень приветливо. Улыбался, выслушивал просителей, кивал (кому-то он уже издавал сборник, кому-то обещал издать, кому-то содействовал в устройстве мамы в центр глазной хирургии) и, минут через пятнадцать, поднимался в «офис» – смежные комнаты, арендуемые двумя этажами выше, такие же убитые и смердящие могилой, как и весь остальной интерьер. После девяти поэты рассредоточивались по залу и коридорам, курили, спорили, харкали на пол, пели голосом Высоцкого. В одиннадцатом часу бились бутылки, раздавались всхлипы. Некоторые авторы блевали, обнимая ржавые вентиляционные трубы или свесившись через перила в лестничный пролет. Рвота символизировала апогей. Очищение. Так сказать, сток творческой энергии в гипотетический поддон – некое подпольное болото, которое, вздумай кто-нибудь ковырнуть его, изошлось бы аммиачными парами.
Вообще-то к Союзу примыкали и дельные молодые люди – думающие, опрятные, причесанные, работоспособные, иногда действительно ярко одаренные. Их образ жизни предполагал постоянную активность: они перебегали из лито в лито, от Кушнера к Кривулину, от Сосноры к Лейкину, от союза к объединению, они искали наставничества, хотели все знать, везде быть, не пропускали ни одного события в петербургской поэтической жизни и, соответственно, в рамках своей ненасытности влипали время от времени прямо в клоаку на Обводном. С ними было интересно поговорить, они читали, обладали способностью вчувствования, думаю, они легко могли бы приглашать на ужины в свои образованные родительские дома с пяток оборванцев из Союза по разику в неделю. Но никто этого не замечал. Сильные, талантливые натуры почему-то терялись на общем фоне. Собственно, и стихи талантливых не были услышаны – просто гасли, как звезды, упавшие в реку народного творчества.
Считалось, что «богатый человек» «может себе позволить» содержать молодежное объединение. Между тем Алик зарабатывал торговлей кабелем. Покупал и перепродавал километры черных проводов. Кому, зачем – все это оставалось за кадром. Удивительно, но августовский кризис Алик пережил, и легко – видимо, провода нужны были людям не меньше, чем крупы и масло, – никаких финансовых затруднений, никаких депрессий Померанец не претерпел. Фирма его состояла из трех человек. Он сам, бухгалтер Альбина и дизайнер Димас – верстальщик предвыборных агиток, изданием которых фирма занималась в дополнение к кабелю: время от времени какие-то лысые оплывшие галстуки заказывали Померанцу листовки, брошюрки и четырехполосные жидкие газетки с депутатскими программами и обращениями к петербуржцам. В каждый номер в обход заказчика Алик непостижимым образом умудрялся втискивать по паре-тройке стихотворений поэтов Союза – на коряво сверстанных полосах предвыборную агитацию теснила любовная и философская лирика – бесследная Нева, безмолвные глаза, неисцелимые огни, побег бездонных фраз, осколки плеч в руках, неприступная нежность вех, золотые пески револьвера и тому подобные вещи, сочиненные в состоянии затяжного аффекта.
Алик взял меня на работу из жалости. Он понимал – девочка в чужом городе, ни одного родственника, бросила учебу, потеряла прописку в общаге, дефолт, на носу зима, образования – ноль, не считая культпросветучилища на краю земли.
– Будешь моей секретаршей, – сказал он.
– Что делать? – спросила я.
– Найдем работу, – ответил Померанец со вздохом. И назначил мне оклад в тысячу рублей.
Так началась моя новая жизнь, в которой большую часть дня я проводила на южной границе старого города, на берегу Обводного канала, имевшего прошлое открытого коллектора – сточной канавы в подножии фабрик, рабочих казарм и кабаков.
Делать в офисе было нечего. Телефонные звонки, на которые я должна была отвечать, раздавались от силы три раза в неделю: все вопросы по кабелю и пиару Померанец решал «на трубке». В первый рабочий день Альбина показала мне игру «Лайнз». Из вежливости я сделала вид, что заинтересовалась. Но вообще-то компьютер был мне чужд. И не только потому, что я не умела им пользоваться. Праздные цветные шарики на экране странным образом подчеркивали, как бы оттеняли всеобщий некроз. Монитор мерцал во мраке единственной живой клеткой, полной цитоплазмы. Он светился среди всякого рванья, бюстов Ленина, завалов жухлой технической литературы и прочих потрохов, ассоциируясь с больным в коме, забытым в больнице во время эвакуации. Он символизировал одиночество. Поэтому я выключала его. Гасила. Дни мои протекали за чтением. На подоконнике как нельзя кстати обнаружились залежи книг о конструктивизме и прочем – Родченко, Татлин, башня, «постановка глаза под контроль осязания» и т. д. Я очистила эти книги от ороговевшего слоя, выбила из них клопов, грубо, безжалостно оттерла мокрой тряпкой их сыпучее нутро и наслаждалась канувшей эпохой, прихлебывая обжигающий растворимый кофе, – с комфортом: сняв ботинки, сложив ноги на стол, оттянув за кончики носки – так, чтобы внутри носков можно было расслабить пальцы и перебирать ими, ощущая приятный ренессанс.
На первых порах, помимо ответов на несуществующие звонки, в мои обязанности входил «порядок». Я убирала офис после пьянок. Они случались от трех до пяти раз в неделю. Алик появлялся на работе вечерами, около семи. И почти каждый вечер пил – с друзьями, с деловыми партнерами, с заказчиками, с одноклассниками, с девочками из сауны, реже – с избранными поэтами, а иногда просто вдвоем с Альбиной. Меня отпускали домой в семь: столы «накрывали» без моей помощи. Но утром я мыла стаканы, вытряхивала пепельницы, собирала в мешки мусор, сортировала объедки – пригодные для хранения складывала в шкафы, непригодные относила собакам. В дни читок мне надлежало задерживаться на работе до самого последнего поэта. По окончании чтений я обязана была собирать пустые бутылки. Водочные – выбрасывать. Пивные – складывать в сумки, поднимать в офис и составлять на стеллаж.
Я спускалась в актовый зал к семи-восьми. Иногда даже читала что-то сама, слушала, наблюдала за людьми. Тусклые, неопрятные, не знавшие никакой другой жизни, кроме бедной и полной непонимания со стороны родителей, никакого другого города, кроме большого и мокрого, никакой любви, кроме невзаимной, горячечной, старившей органы и кожу, – любви анархической, вырастающей в груди живучим остервенелым гельминтом, пьющим из влюбленного сок, вынуждающим снова и снова прижигать воспаление самым дешевым коньяком. Свалявшиеся свитера, жидкие бородки, пробивающиеся усики, драные ногти, фенечки, густые брови, спутанные челки. Лица молодых, выросших без солнца. Поражала та драма, с которой они культивировали сочинительство. Стихи! Стихи! Поэзия! Поражало то, что они вообще сидели там вечерами и слушали друг друга, будто никого не тянуло в дансинг или на кутеж с мордобоем.
Маленькие девочки упирались локтями в спинки впереди стоящих кресел, заламывали запястья, вдавливали подбородки в ладони, выпускали дым через ноздри, запускали в волосы обкусанные пальцы, сжимали в руках исписанные листки, слушали, слушали, слушали и, слушая, переглядывались, чтобы шепотом оценить: «Хармс», «Бродский», «толстая жопа». Меня поражала их радикальная готовность воспринимать стихи на слух и не менее радикальная – пить, в любое время, сколь угодно часто и беспредельно много. Но главной загадкой оставалась нежизнеспособность на общем творческом фоне редких, по-настоящему талантливых стихов.
Бездарные, бескостные, бесцветные, полные глагольных рифм, идиотских метафор и мата, похожие один на другой стихи могли литься с трибуны часами. Публика не клевала носом, а слушала и, слушая, одобрительно кивала, ухмылялась – эх! – девочки многозначительно переглядывались, выражение их лиц красноречиво сообщало о полном понимании тонкого и скрытого юмора, о распознавании глубоко запрятанных цитат Мандельштама, Рильке и Лорки. Особенно пустым и бездарным авторам порой даже аплодировали со свистом. Бывало, любимцев публики приветствовали и до чтения: во время восхождения к трибуне. Но стоило появиться на сцене какому-нибудь залетному кушнеровцу, кривулинцу или прочему, выделяющемуся из серости, стоило прелый воздух, набрякший над рядами сидений, прорезать красивым словам, емким мыслям и музыкальному ритму, как публика начинала скучать. Внимание рассеивалось. Кто-нибудь обязательно вставал, не придержав сиденья, и выходил курить. Некоторые начинали переговариваться. Все выглядело так, будто зал и автора отделял специальный экран, не пропускавший света – не пропускавший нужные и точные слова.
* * *
Работа уборщицы не угнетала меня. Я была молода. Здорова. Закалена, как сталь. Физический труд представлялся мне процессом, имеющим очистительную силу. Мне нравилось приезжать по утрам на Балтийскую. Выходить на подчеркнуто строгий, бессердечный осенний воздух. Приветствовать храм Вознесения Христова. Отдавать дань памяти мертвецам: и тем несчастным, при жизни плачевным травоядным, обделенным сытными красками алкоголизма, – членам братства трезвости, кто жертвовал на храм; и тем поколениям самоубийц, растворенных в матовой бурой воде канала, кто устремлял в сторону храма взгляд, неотчуждаемый от последней в жизни мысли. Мне нравилось созерцать Обводный – границу, на которой окончательно иссякал музей и оставался только этос – гордыня, самодостаточность города, не признающего в человеке творца, города, изнывающего от горячего копошения в своих кавернах живой размножающейся плоти, отягощающей его, не дающей ему возвыситься в беспредельность по отвесной линии классицизма. Шагая по набережной, я упивалась суровостью пейзажа и взаимной с городом неприязнью. А он, город, принявший меня в свое тело, был, несчастный, нем – он не мог говорить, и пьянчуги, пользуясь его немотой, тем временем расстегивали ширинки и ссали на его стены.
Мне нравилось заступать на безобразную территорию завода, подниматься по оцинкованной лестнице, идти по следам инкубуса, прилипая подошвами к пятнам пролитого накануне ликера, подбирать пробки от шампанского, отряхивать эти исконные русские самобраные столы, накрытые пепельницами и крошками торта. Мне нравилось ходить за водой в туалет, пораженный ложной мучнистой росой. Ставить в раковину ведро. Развинчивать ржавый кран. Слышать, как ледяная струя ударяет в дно. И металл бросает в адскую дрожь – пустота ведра разбивается вдребезги, в ушах ликуют тысячи дырявых колоколов. Я совершенно не уставала. У меня было много сил. И я даже не подозревала, что они когда-нибудь кончатся. Я таскала ведра с холодной водой, оттирала сладкие ляпы, припорошенные пеплом, волокла мешки с мусором на помойку, курила во дворе, стоя в расстегнутой куртке, и даже не подозревала, что силы уже уходят, обратный отсчет стартовал. Я не понимала, что заранее умираю. Я думала, счастье дается трудно. И в этом труде я ощущала наличие некой высшей справедливости, осуществление которой связывало меня со Всевышним.
* * *
«Комната с инструментом» (черный «Ноктюрн» с позеленевшими басами и колками, вбитыми по самую шею) стоила четыреста рублей в месяц. Конечно, «Ноктюрн» расслаивался на чешуйки, как икона пятнадцатого века, а дерево вирбельбанка имело силу мышцы грудного младенца – с таким же успехом колки можно было вкручивать в брикет сливочного масла, но сам по себе факт наличия комнаты с фортепиано, в центре Петербурга, с огромным видом на зелень сада, на Никольский собор, купола которого вваливались в окно, как золоченые груди Гурии… неслыханная удача! Письменный стол. Раскладной диван. Примчавшись по объявлению, я не могла поверить, что это не сон. На моих глазах из комнаты спешно выселялась японка – студентка консерватории. Маленькая, как ребенок, она волоком тащила баулы на лестницу и поглядывала на меня черными глазами, напуганная чем-то, как мышь.
– Русский совсем не понимает, – пояснила владелица квартиры Анна Романовна.
Эта женщина – хозяйка – показалась мне простоватой. Крепкая фигура, химическая завивка, кофта на пуговицах, надетая поверх халата. Похоже, старуха не красила брови, не посещала балет, не переживала блокады, не перелистывала Генриха Гейне на досуге. Окинув Анну Романовну взглядом, я решила, что без труда заменю ей дочь. И великая комната станет мне домом уж по крайней мере не меньше чем на год: моя печатная машинка крепко встанет на этот стол, мои ноты основательно лягут на этот прекрасный, издыхающий, харкающий древесным жучком, дряблый «Ноктюрн».
Первые дни все шло идеально. На общей кухне после меня не оставалось признаков жизни. Ни крупицы сахара подле сахарницы. Ни капли на раковине. Я следила за каждым зубчиком каждой вилки. Чистила унитаз, мыла полы во всей квартире. Отбеливала ванну. Через неделю после заселения, в магнитную бурю, старуха, сославшись на мигрень, попросила выгулять на ночь старого пекинеса Мотю. Полагая, что собака укрепит дружбу, я согласилась. Чего не сделаешь ради комнаты с инструментом. Еще через неделю наши прогулки с Мотей преобразовались в традицию. Почти каждый вечер у Анны Романовны «раскалывалась» голова, и почти каждый вечер мы с пекинесом-астматиком плелись по темноте в невидимые горизонты – до мусорных баков и обратно (дабы заодно избавиться от полупустого пакета с дрянью, «чтоб не вонял»). Что и говорить: воздух был свеж, звезды сияли, длинный поводок волочился по земле – Мотя сопел и едва переставлял ноги, подметая желтыми волосами тротуар. Я же терпела, вдыхая ночь, и, не теряя концентрации на живописных видах Римского-Корсакова, высекала из созданного псом синильного состояния крупную искру смысла: мне нужна была музыка, мне нужна была дешевая комната, мне нужна была горячая вода, мне нужен был этот город. Я жила ради будущего.
На второй неделе нашей совместной жизни, помимо головной боли, у Анны Романовны появились внуки. Второклассники Саша и Лиза «ночевали у бабушки» большую часть недели. Вроде бы бледные и астеничные, энергией они не превосходили Мотю – тихо валялись на бабушкиной кровати, тихо крошили в кухне, тихо сосали из телевизора Тома и Джерри, тихо, как белые тени, слонялись из комнаты за бутербродами и тихо гадили в идеальный порядок, с таким трудом поддерживаемый мною. Однако на третьей неделе внезапно выяснилось, что «они – неуправляемы», «плохо ладят между собой» и «уже немолодая» Анна Романовна «просто не в состоянии» что-либо с этим поделать. В связи с чем меня попросили оставлять мою комнату открытой: Лизе необходимо было учить уроки отдельно от Саши, который якобы отвлекал сестру. Вместе с этим выяснилось, что девочка «стала ходить на музыку», и меня попросили «по возможности» заниматься с нею «хотя бы по полчасика» гаммами и пьесами типа «Белочки» и «Петушка». Я ставила табуретку со стороны басов и следила за тем, чтобы Лиза «играла по нотам». Белолицая, бескровная, хрящевидная, заторможенная девочка устремляла длинный, стеклянный, непостижимый в своей бессмысленности взгляд в раскрытую нотную тетрадь. Белки ее глаз выкатывались наружу и застывали, как костяные шары застывают на краях луз: казалось, замирает не Лиза, а сама жизнь, сам шанс на событие, само право времени на следующую секунду! – но все-таки, ах, тихий ангел выдавливал-таки над нами скупую слезу, и раз в четыре минуты Лиза тыкала жидким бескостным пальчиком в до или соль первой октавы. Между делом Мотя налегал передними лапами на дверь, та со скрипом открывалась, и пес, цокая когтями по лущившемуся паркету, входил к нам «послушать музыку». Он садился посреди комнаты. Смотрел в никуда. Сочился старческими коричневыми слезами, выедавшими шерсть в уголках его черных глаз. И вдруг, в очередной каторжной паузе между взятыми нотами, начинал, подгребая лапками, ехать на заднице по полу, должно быть, по пути загоняя в анус с десяток заноз.
* * *
Деньги в банке выдавали частями. Маленькими частями. Но слава богу, что выдавали. Большинству людей не светило и это. В общем, судьба благоволила. У меня была работа, комната, пианино. Все остальное продавалось на Сенной: сигареты блоками, чай, подсолнечное масло, картошка, свекла, капуста. К ларькам на Сенной стояли очереди: купить дешевле, чем там, нельзя было нигде. Я посещала этот «рынок» по выходным. Я экономила на еде. Собственно, больше экономить было и не на чем: во всем остальном пришлось себе отказать.
Однажды, возвращаясь с Сенной, я застала на лестничной площадке соседа. Он копался в глубоких карманах черного драпового пальто, искал ключи и без стеснения рассматривал меня, пока я поднималась по лестнице. Парень понимал, что я понимаю, что он рассматривает меня. И понимал, что я понимаю, что он понимает. В этом определенно имелась поза. Выставление напоказ хамоватости, вальяжности. Под брючиной на секунду высверкнула куриная кожа: туфли сосед носил на босу ногу. В конце-то сентября! В сердце кольнуло.
– Здрассте… Новая жертва? – он процедил это подчеркнуто пренебрежительно, как будто устал от нескончаемых соседок, ждущих от него любопытства.
– В смысле?
– Снимаете комнату?
– Да.
– Из консы?
– Нет.
Я поставила пакеты с продуктами на пол. У двери. И повернулась к парню лицом. Мне захотелось открыться, показать, что я не враг Раскольниковых и прочих.
– Долго не продержитесь. Месяц – максимум. Никому еще не удавалось продержаться.
Про себя я подумала: только не мне. Может быть, японские дуры не в состоянии удержать такую хорошую комнату, под сенью крон и крестов, но я своего счастья не упущу.
– Почему съезжают?
– Ведьма ссыт квартирантам в фарш для тефтелей! – сказал он и рассмеялся «демонически», намеренно переигрывая. Разнеслось эхо. В столь же театральной манере парень продолжил, меняя драматические позировки:
– Вот увидишь, ты свалишь отсюда и забудешь наши имена, все вы, пианисты, отваливаете к себе в вашу осмысленную жизнь, оставляете нас в выгребной яме, в средоточии порока…
Сценизм монолога производил странное впечатление. Пошло, не смешно. Для профессионального алкоголика слишком плоско. Может быть, это всерьез?
– Андрей, – он поклонился. – Предлагаю отметить твой будущий отъезд из ада прямо сегодня, – добавил он, высоко приподнимая пакет, висевший до того на запястье. В пакете, судя по абрису, лежала бутылка. – Друзья подарили Андрюшке виски. Ты такого никогда не пробовала и, может быть, не попробуешь. Выдерживался в бочках из-под мадеры. Я обещаю, ты охуеешь. Мяу.
Наконец он открыл свою дверь. И уже стоя в проеме, через плечо, бросил шепотом:
– Жду тебя дома.
* * *
Анна Романовна раскатывала в кухне тесто.
– Почем подсолнечное масло брала? – спросила она, глядя на выкладываемые мною продукты.
– По двадцать пять.
Старуха отряхнула руки от муки и, взяв бутылку масла, занесла ее над головой, посмотреть на свет.
– Осадок, – сказала Анна Романовна. Как-то смачно. Почти с удовольствием. – Осадок, говорю тебе, смотри, вот он, видишь?
Я перекладывала лук и чеснок из пакетов в специальную коробку. Отвечать про осадок мне не хотелось. Да и что отвечать? Не ваше собачье дело? Такой ответ мог испортить с тщанием пестуемую дружбу. Я сделала вид, будто мои действия требуют сосредоточенности, – дала понять, что слишком занята стремлением не обронить мимо коробки землю и шелуху. Анна Романовна вернула масло на «мою» половину стола. Я тут же спрятала бутылку в шкаф.
– Где, говоришь, брала?
– На Сенной.
– Х-хе… Так просроченное масло-то. Оттого и осадок. Дай-ка сюда, – она опять бросила тесто и, отирая руки о фартук, прошла через всю кухню на «мою» половину.
Встав совсем рядом, старуха сказала нетерпеливо:
– Ну, дай, дай-ка.
Не в силах воспринять происходящее, хоть и с неохотой, но я все-таки достала бутылку из шкафа, который закрыла полминуты назад. Старуха поднесла масло к моему лицу:
– Вота, вон он, видала? На Сенной тебе и не такое еще продадут… Ха… Дурочка, кто ж покупает чего на Сенной-то. Там тебе и мочу конскую продадут вместо масла.
Она поставила бутылку на стол. И на этот раз в жесте мне привиделась брезгливость. Во мгновение я испытала отвращение к маслу, которое минуту назад так нравилось мне. Смогу ли я есть его? Фартовое, купленное за бесценок. За сумасшедший бесценок. Подарок судьбы! Тут же отвращение к маслу раскололо мое сознание, и через трещины корпуса видимой реальности, как вода, хлынуло отвращение к жизни. К нищете, к дисциплине, к аскетизму, к труду, к терпению. К Богу, который все это допустил.
* * *
Я подняла крышку «Ноктюрна», раскрыла Ганона, попыталась сосредоточиться, отвлечься от масла, от сцены на кухне. Мне нравились упражнения. Даже первое не состарилось за годы, не осточертело, не утратило терапевтической силы, усмиряющей плоть. Я старалась играть хорошо. Я хотела, чтобы кисть не провисала, но в то же время не утрачивала гибкость. Я представляла себе, что где-то там, в запястье, между лучевой и полулунной костями, растирается теплое жирное молоко. Мне надо было достичь состояния транса, в котором я могла представить себе некую обратную последовательность усилия – как будто не пальцы оказывают давление на клавиши, а, наоборот, клавиши поднимаются вверх и приводят в движение пальцы, сообщающие движение кисти, внутри которой прокатывается теплое жирное молоко, и кисть переливается, как щупальце осьминога. Я хотела быть продолжением моего фортепиано. Я хотела, чтобы оно являлось кем-то, а я только чем-то, растущим из его китовой туши. Я хотела, чтобы все было хорошо. В дверь постучали.
– Тань, а Таня? – Анна Романовна заглянула в комнату и, повиснув на дверной ручке, подалась телом вперед. Не переступая порога, видимо, в знак уважения моего пространства.
Сняв руки с клавиатуры, я обернулась к двери.
– Поди, чё покажу, пойдем-ка… – она призывно махнула рукой.
Твердый, устойчивый, как табурет, корпус старухи, приходя в движение, не рассекал пространство, а попирал его. Следуя за ней, нельзя было не почувствовать себя на манер ее же отсталых внуков – бесплотным, астеничным организмом, из которого откачали кровь, костный мозг, а заодно и врожденную потенцию к смыслу. Почему-то на фоне Анны Романовны мое неотъемлемое право быть сущим вдруг начинало вызывать сомнения. Мы вошли в комнату.
– Присядь, – кивнула она на диван, прикрытый гобеленом.
На подоконнике зеленели цветы. Ухоженные, деликатно источающие покой, с той же долей умеренности, с которой французская женщина – аромат. Во всем чувствовался комфорт. Старинный комфорт. Праотцовский. Не купленный за баснословные деньги, а выросший из-под слоеного теста времен, пробившийся наружу диапировыми складками и телами. Крахмальное макраме, коричневая полировка, будильник с колоколами, сточенный карандашик, газета, сложенная вшестеро, и оставленные подле роговые очки, свидетельствовавшие о некоем интеллектуальном процессе, едва прерванном, оставившем по себе сгусток тепла над столом.
Она показала мне брошь.
– Смотри, да? Красиво, да? Н-да… Настоящие изумруды и опал, вот это вот, розовый, видишь, раньше как зеленое и розовое сочеталось. Вроде несовместимые цвета, а мастера умели, что совмещались, что вроде бы есть в этом, да, какая-то эта… изюминка… На.
Анна Романовна сунула брошь мне в руку.
– Прабабушки моей. Представляешь, какая старая. И машину могла бы зятю купить, а не продам. Такое дело не продают. Бабушка кровь за нее сдавала.
Старуха разминала слова на языке с аппетитом, смакуя. Итак, ее бабушка закладывала брошь в моменты отчаянной тоски по сытой жизни. Кормила детей. А следом, в припадке не менее острой тоски, но уже по отчужденной от себя броши, бросалась в донорский пункт, «как на работу», и, насобирав денег, выкупала вещь обратно к сердцу, до следующей тоски по еде. Я не поверила.
– Таким, видишь, букетом, отсюда так вот, лучи… и тут раздваивается, как росток. Еще придумать надо было красоту, да? Такое ведь не каждый придумает, головастый только. Для дел хороших голова нужна.
Покивав в меру актерских способностей, я вернулась в комнату и села играть. Ганон не шел. Заболела спина. Через десять минут я поняла, что не могу, вернее, обнаружила, что не играю, а сижу на диване. И смотрю в пол. Без всякого дела. То есть незаметно для самой себя я бросила упражнения, пересела на диван и впала в ступор. Что случилось? Ответ мог быть только один: ничего. Потому что ничего не случилось. Зачем показывать брошь ценой в автомобиль бедному человеку, не имеющему собственной крыши над головой, нигде не прописанному, не евшему мяса черт знает сколько, – зачем? Мне что-то мешало. Как если бы у меня заложило уши. Или бы я не могла вспомнить фамилию известного артиста. Чего-то не хватало. В общем-то, происшедшему наверняка существовало какое-то очень простое, обыденное объяснение, без глубин. Старухе стало скучно, она решила поделиться со мной избыточным эстетическим наслаждением. Что тут такого? Старуха сглупила. Просто не подумала. Я так и сидела на диване. Захотелось выпить. Гортань сжалась, напряглась, как перед прыжком, заявив о желании раскрыться в чем-то более мощном, чем крик: ее пустота взалкала глотка, как пустота в бутоне плотоядного цветка алчет насекомого.
* * *
Я стояла под дверью, держа наготове пачку печенья.
– О… Да ты не с пустыми руками! Ха-ха-ха! Сто лет не ел печенья!
– А ты всегда так разговариваешь?
– Как?
– Как артист.
Я шагнула внутрь. Дверь за мною закрылась с тяжелым ударом: бац – и лестничная акустика схлопнулась, будто я зашла не в гости, а в бункер. Стало тихо, как в вате. И черным-черно.
– А я артист, – ответил Андрей, удаляясь в глубины квартиры.
Пятно его спины утопало в гущах темноты. Мне приходилось идти на звук шаркающих тапок. Складывалось впечатление, что стены обклеены черной бумагой. Можно было подумать, что тут печатали фотографии.
– Экономлю электричество. Не обессудь.
В комнате горели свечи. Обстановка отсутствовала. Стены, матрас. Грязная посуда у изножья, бычки в тарелках. Магнитофон. Целое море разбросанных по полу кассет. В стиле Валечки, только заляпано и прокурено, как в месяцами немытой плевательнице.
– Я знал, что ты придешь.
– Да… Так говорят все мужчины.
– Мне, знаешь ли, сестренка, поебать на то, что говорят все мужчины.
– И так тоже говорят все мужчины.
– А-а-а! – завопил он. – Тебя без сахару не схарчишь!
– На улице же светло еще. Окна можно расшторить, и не надо будет экономить электричество.
– Э нет. Я никогда не расшториваю окон. Ни-ко-гда.
– Почему?
– Потому что я маньяк. Я расчленяю здесь детей. Таких невинных, типа тебя.
Виски оказался вкусным. Как мед. После каждого глотка на нёбе оставалась пыльца каких-то дивных, заморских тонов, словно снятая с крыл диких бабочек жарких стран. Я быстро опьянела, пряность разлилась во мне до кончиков пальцев и даже волос. Это было красиво. Андрей сидел на табуретке. Я на матрасе. Мы смеялись. Он рассказал о себе: танцор, хореограф. Был изгнан из Вагановки в пятом классе. Последние годы работал в Гамбурге. Танцевал в стриптизе. Недавно был депортирован. Каждый день ездил на кастинги, просмотры, собеседования. Искал работу. Состоял на учете в психдиспансере. С родителями не общался. Мечтал о месте бармена в гей-клубе на Техноложке. Два часа пролетели. Андрей ставил музыку за музыкой. Гарольд Маберн, Ирмин Шмидт. Покатываясь со смеху, я мотала головой:
– Нет! Только не Найман! Только не Найман!
– Как насчет Колина Уолкотта?
– Да! Да! Да! – скандировала я.
Мы устроили танцы, поскакали немного по комнате. Было весело. Из-за свечей на стенах плясали тени – метались и прыгали вместе с нами. Что происходило за окном? Еще день? Уже вечер? Может, ночь? В паузе, во время передышки, под «Гошакабучи» Андрей вдруг сказал:
– Если ты сядешь ко мне на колени, об этом никто никогда не узнает, обещаю. А ты сделаешь мне приятно. Слушай! – он подскочил с табурета и упал передо мной. – Может, отдашься мне, в рамках милости и сострадания? Ты же такая милая. Это видно. Мяу.
В воздухе разлилась характерная тишина. Я знала, что все в итоге сведется к сексу. Раз уж я не настоящая пианистка, а всего лишь уборщица, раз уж я так далека от тыла и всякого отчего, раз уж пришла – сама! – напилась, не побрезговав сесть на матрас с душком, то почему бы заодно и не поддаться на уговоры? Раз уж у меня не хватило сил окончить школу с золотой медалью и поступить на бесплатное отделение в государственный университет, то откуда же мне взять силы отказать такому веселому парню, с такой коллекцией кассет, наливающему от щедрот? Я знала, что вечер кончится этим, ровно как и знала, что мне не стоило приходить, что мой сосед – скучный человек, предсказуемый, одно фиглярство, только и всего. Вечер испортился. Веселость лопнула, как дождевой гриб под ботинком ребенка: красивая жемчужная шкурка настроения, натянутая на реальность, за три с половиной часа растянулась донельзя и порвалась, обнажив черную волчью пыль – табак, темноту, тоску. Андрей потерся головой о мои колени. Судя по всему, изображая кота.
– Ау? Мяу. Почему? Тебе нужны шампогни? Хачи в тазиках? Английских тазиках, за пол-лимона баксов?
Я отклонила его, сказала какую-то грубость, которую не могла вспомнить наутро, и ушла. В коридоре я застала Анну Романовну сидящей у трюмо. Она перебирала на коленях рассыпчатую записную книжку. Должно быть, собиралась звонить кому-то.
– Ум… Ты выпила, что ль? Таня?
Я разувалась молча.
– Ты зачем к соседу ходила?
Не отвечать получалось невежливо. А отвечать – странно. Нецелесообразно. Впрочем, ситуация, как всегда, представлялась безвыходной: казалось, что адекватного ответа не существует в принципе. После стольких сигарет и виски хотелось лечь. Я прошла через коридор, мимо нее, к своей двери. И в спину услышала:
– Ты зачем туда ходишь? К больному человеку, а? Тань? Он с головой не дружит, к нему даже папа с мамой не ходят, а ты зачем? Ты оттуда мне сюда заразы присеешь… сифилис, и туберкулез, и этот… может быть, прости господи… СПИД. Ты зачем грязь в дом носишь?
Я повернулась к ней лицом. Это все, что я могла для нее сделать в ту минуту.
Глава XI
По пятницам мы с Димасом сдавали бутылки. Снимали со стеллажа, укладывали в полипропиленовые баулы и в две ходки носили в ближайший пункт приема. Вырученные средства сдавали Алику. Официально нам разрешалось брать из каждого поступления «бутылочных» денег ровно на два пива «для себя». Мы открывали их ближе к вечеру, в ознаменование надвигающихся выходных.
Димас носил спортивный костюм из гладкой, блестящей, тянущейся ткани. Костюм решался в трех тонах: основные детали кроя – в насыщенном изумрудном и кроваво-красном, лампасы – белые. За всю историю работы в Союзе я не видела Димаса в другой одежде. Только этот костюм. И кожаная парка сверху.
Выходя на улицу, Димас делал резкий выдох:
– Х-ху!
Смотрел на облачко пара у рта и восклицал:
– Свежо!
Он сидел в соседнем со мной кабинете. Целыми днями играл в компьютерные игры. Трах-трах-трах!!! Бах-бах-бах!!! Но звук никогда не превышал определенного предела – того, внутри коего соблюдался комфорт человека за стеной – то есть меня. В общем, мы неплохо ладили. Иногда я заходила к Димасу с чашкой кофе, посидеть на столе, свесив ноги, попялиться в окно. В свои тридцать восемь мой сослуживец не имел семьи, носил волосы до плеч, располагал определенными воззрениями на Ельцина, на иномарки, на футбол. Он охотно делился соображениями. Жизнь – говно. Хачи достали. «Ситроен» – говно: слабый движок. Деньги есть только у жадных и беспринципных. Сериалы затрахали. «Хонда» – говно: лажовый пластик. «Ментов» смотрит стадо. Загробного мира нет. На хрена тужиться оставлять след в истории. Зачем себя обманывать? Только придурок берет тачку, которую надо каждую десятку загонять на сервис.
Как-то Димас посмотрел за сутки двадцать серий «Ментов». Кто-то дал ему кассеты.
– Ненавижу. Не-на-ви-жу. Игра никакая, сценарий никакой, из детского сада…
– А зачем ты смотрел?
Он не отвел взгляда от монитора, продолжал играть. Но по вздыбленным бровям и некоторой остекленелости глаз я могла судить о высшей степени недоумения, раздражения и бессилия, вызванных риторичностью вопроса. Мог ли он объяснить мне что-либо?
– М-дя… – произнес Димас с глубоким вздохом.
* * *
Раз в неделю к нам приходили свидетели Иеговы. Приносили литературу. Дарили Библию, журналы. Две женщины. В целомудренных пальто. Очень бедно, но тщательно прибранные. Старомодная цебовская обувь, косынки в мельчайшем цветочном крапе. Ни пятна, ни затяжки, ни выбившейся пряди. Ни одного замятого или сбившегося края. Умытые лица. Высокие лбы. Облезшие брови. Горящие глаза. Упорядоченный вид женщин внушал покой. Каждый раз они предлагали поговорить об Иисусе. Не кажется ли мне, что Бог несправедлив или даже безразличен к людям? «Иногда», – подчеркнуто уточняли они, не желая оскорбить меня подозрением в досужей спеси. Приходит ли мне в голову мысль о непостижимости Господа? Возможно, я ощущаю в этой непостижимости нечто родственное непостижимости пределов Вселенной? Задумывалась ли я о том, что произойдет, если все-таки акт постижения Господа (или конца Вселенной) состоится? Как мне кажется, истина могла бы изменить мою жизнь? Они всегда говорили со мной тихо, с тончайшим налетом раболепия – прозрачным, придающим интонации едва уловимый блеск, ласкающий слух и вызывающий известные мурашки. Мне – человеку, живущему не при матери, не при мясе (белковой пище) и не при любимом, – эта ласка ловцов человеков давала нечто вроде отдохновения. Являлась глотком воздуха. Собственно, глотком ласки.
Я не пускала их в кабинеты. Держала на пороге. Но они не обижались. Вели себя как собаки. Как невхожденцы априори. Только посматривали мне за спину, справедливо подозревая, что в глубине комнат есть кто-то еще, чья душа может оказаться вполне пригодной к спасению. Сегодня опять не могу поговорить? Что ж, ничего страшного, отложим. Путь к Богу тернист. Не все сразу. Сопротивлением их не удивишь. Мне случалось быть обманутой? Что я чувствовала при этом? Боль? Унижение? Страх? А что бы почувствовала, узнай, что мне всю жизнь лгали о Боге? Все просто. Кто-то, кому мы доверяли, лгал нам о чем-то. А кто-то, кому мы доверяли, лгал нам о Боге. Все прошли через это. Все доверяли родителям, учителям. Такова жизнь. Нам даже не приходило в голову, что взрослые заслоняют своими фигурами свет истины, принуждая чад расти в тени. Трудно представить, во что возвысился бы скромный росток, случись ему судьба расти под солнцем. Ну что ж, может быть, в следующую пятницу найдется двадцать минут. Да-да! Всего лишь. Чужое время необходимо ценить.
Однажды, в какую-то пятницу, я, видимо, одурела от Родченко, от Димаса, от одиночества, от сигарет, от сырости.
– Как у вас сегодня? Нет времени?
В уме я с самой первой встречи прозвала эту женщину Ией Саввиной. Она спросила, склонив голову набок, понимающе улыбаясь, всем видом выражая готовность к моему «нет» и способность к его безоговорочному принятию. Она как будто взывала: бей, бей меня, плюй на меня, мочись на меня, ты и миллионы таких, как ты, – вы заранее прощены, вы – дети, вы – жертвы собственного неведения, я иду к вам на заклание осознанно, я не жду от вас пощады, я освобождаю вас от ответственности.
– Мм… Время есть, но я не могу пустить в кабинет без разрешения начальника, а его нет и…
– О, что вы, мы можем позаниматься на улице. Там, кажется, есть где присесть… э… скамья… да? – обратилась она к напарнице. – Что-то там мы видели такое?
«Такое» оказалось огромной бетонной балкой, лежащей посреди двора, у ржавых бочек, под старым кленом. Ия Саввина раскрыла Библию на коленях. Предложила начать с Бытия. Я не возражала.
– И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма, – закончила она читать какой-то стих. – Хорошо весьма. Угу?
Я пассивно кивнула.
– Дальше Бог поселил первых людей… где? В саду. Видите, в саду. Не на свалке же, да, правда? Ешь плоды с деревьев, почву удобрять не нужно. Это сейчас – нужно. А раньше – нет. Ох… И как мы докатились до такой жизни, хи-хи-х… – она переглянулась со мной и напарницей, игриво, прищурившись, и даже слегка зарумянилась, радуясь своей шутке.
– Только с древа познания нельзя было есть плоды. Сегодня как люди разбираются в добре и зле?
– Плохо, – ответила я.
Она улыбнулась, но вымученно. Похоже, шутить ей хотелось бы только самой.
– Нет, сегодня люди разбираются в судах. А в раю стояло дерево познания добра и зла. Ну, понятно, что оно росло не для того, чтобы варить консервы.
Мне стало скучно. Интеллектуальный уровень моих новых подруг обескураживал. В подпорожных беседах, за рекламой, они смотрелись куда мощнее – практически стяжали стихом. И вдруг… Эта разница в степени владения русским показалась подозрительной, какой-то необъяснимой. Вдобавок хотелось курить. Но в компании верующих сие представлялось неудобным. Не то чтобы они могли выказать недовольство, нет, напротив: они дали бы дымить им в лицо, усиливая таким образом атмосферу моего скотства.
– И прекрасно человек существовал без всякого мяса и не голодал. Господь все устроил так, что и питание полноценное, и здоровье, и всех витаминов хватало, без всякого убийства.
– А как же ягнята? – спросила я.
– Какие ягнята? – Саввина переглянулась с напарницей. Та ринулась в Библию и, наскоро послюнявив палец, начала судорожно перелистывать страницы.
– Ну, ягнята. Которых в жертву приносили.
– A-а!.. Ха-ха… – Саввина с облегчением всплеснула рукой. – Так это ж уже после потопа, после греха. Адам был вегетарианцем. Ной – уже нет.
– А почему?
– Без пролития крови нет прощения грехов.
Ответ прозвучал с интонацией исчерпывающего.
– А почему? – спросила я.
– Хм… – она вздохнула, провела рукой по шее, словно бы утешая гортань, натруженную в бесконечных увещеваниях невежд. Посмотрела в невидимую точку.
– Это закон. Закон есть закон. Именно за этим Иисус был послан на жертвенную жизнь и жертвенную смерть. Сын Бога сам на это согласился. Иначе нельзя!
– Понятно, – сказала я и, скрывая улыбку, наклонилась поправить шнурок.
– Но скоро все кончится, – произнесла она с теплотой в голосе, подаваясь особенно близко к моему лицу, настолько, что я почувствовала запах ее дыхания, довольно неприятный, характерный для людей, увлекающихся растительным питанием и очищением организма.
– Откроем Книгу Исаии, – предложила она.
Обе женщины начали листать Библии, каждая свою.
– Глава одиннадцатая, стих седьмой. Видите? Лев будет есть солому. Понимаете? Дни сатаны сочтены, лев будет есть солому. Это было реально в раю. И в перспективе – реально.
Уклоняясь от неприятного запаха, я встала, почти рефлекторно. Они тут же засобирались. Начали складывать книги и ручки в свои выстиранные авоськи. Пора на работу! Хорошенького понемножку. Но мы не прощаемся. Они не оставят меня. Они будут приходить по пятницам и, если надо, не только. Они будут заниматься со мной изучением Библии. Ведь изучать Библию необходимо: именно таким образом человек получает возможность вступить в диалог с Творцом напрямую.
– Ведь эта книга написана не какими-то там людьми… Она написана Богом. Бог пользовался сорока мужчинами, чтобы написать ее. И все они по национальности были евреи. Только евреями Бог пользовался… Хотя… Ну! – Саввина махнула рукой, отгоняя какую-то несущественную мысль. – Это ладно, это уже личные такие вещи…
Еще некоторое время я сидела на балке. Курила, наверстывая. Смотрела на желтые листья, вмятые в грязь. В ржавых вогнувшихся крышках бочек стояла дождевая вода. Скрюченные сухие листки плыли по ней, кружа, не к месту символизируя скольжение изогнутых птиц по лаковым гладям. Где эти птицы? Из подкожных глубин обводной канавы выветривались столетние запахи – солода, мыла, жженой кости, бычьей крови, бродяжьей мочи. Мной безраздельно владел дух немощи. Росла тоска. В ней, в тоске, даже выделялись отдельные кистообразные сгустки острейшей боли, но о чем болело и что? Душа? Я не понимала, что настоящая осень земли являлась предчувствием будущей осени моей жизни – осени, к которой я продвигалась в дырявых ботинках, со шваброй в руках, на пустой желудок – нелюбимая, небеременная, не постигающая наук.
– Без пролития крови нет прощения грехов! – крикнула я из коридора, снимая пальто.
Димас отозвался с места:
– Без пролития крови бабла в этой стране не заработаешь…
Изучение Библии расхолодило. Я решила открыть пиво пораньше. Оно озлатило комнату, как само солнце. Свежий летний полевой аромат щекотал ноздри. Снова хотелось жить. Шишки хмеля пробили вязкий заводской воздух ясностью хвойного леса. Легкие распустились. Конструктивизм поблек, как блекнет на лоне природы абстрактный бумажный мир. Глотнув, я заглянула в брошюрки о Боге, скопившиеся от иеговистов. На себя обращало внимание качество верстки, добротные шрифты, ритм заголовков, запах хорошей свежей бумаги. Петербургским депутатам, верстающимся у Померанца, дизайн такого высокого полета был просто неведом. Политики тяготели к презентованию себя на материалах функциональных, пригодных служить селедочной или туалетной бумагой. Господь же предпочитал консерватизм, выделку, стиль пяти звезд. Это внушало. В брошюрах обнаружились до боли знакомые вопросы – те самые, что так искательно и угодливо задавались мне при дверях. Значит, Саввина и напарница приступали к человекам с хорошо отрепетированными, заученными текстами. Написанными кем-то третьим. А уже «на скамье» имел место экспромт. Впечатления сложились в единую картину. Мне открылась степень отчуждения этих женщин от текста Библии и от самих себя. В сплаве личности каждой было только по три активных компонента: абзацы агитации, актерское мастерство и полная управляемость. Цирковые медведи! С паспортами. Способные самостоятельно чистить зубы, покупать молоко и гречку, утюжить свою одежду, платить за квартиру, ездить в метро. Я прослезилась. И запьянела с трех глотков.
Глава XII
Постепенно «секретарство» в Союзе усложнялось и обогащалось оттенками. Помимо телефона, уборки и бутылок, в круг моих обязанностей вошел ряд новых занятий: предисловия к книгам наших поэтов и дружба с Альбиной. Альбина приезжала в офис к обеду. Если быть точнее, стала приезжать к обеду именно в эпоху моего секретарства. До меня наша бухгалтер, как и сам босс, бывала на работе вечерами, днем же колесила по городу: банки, налоговая, переговоры. В сущности, жизнь Альбины состояла только из бухгалтерского учета. Ни мужа, ни детей, однушка, Купчино, «девяносто девятая», кактусы. Она не пила, не курила, не читала книг, не имела никаких интересов, таскала на себе толстенные папки с годовыми отчетами. По ночам не спала: группировала активы и пассивы. Она даже не ела. При росте сто шестьдесят пять сантиметров Альбина весила около сорока килограммов. Она понятия не имела о том, что такое креветки, «Колибри», «Кристалл», Москва, «Женева», свидетели Иеговы, магазин «Живанши» на Староневском, Ла Скала, ария Каварадосси, «Нора», малосольная семга. Она никогда не плавала голой, не блевала в лифте, не пробовала черную икру, не залезала в склепы на кладбище Александро-Невской лавры, не отстаивала пасхальную утреню, не курила анашу, не смотрела «СОБ». В ее представлении мир ограничивался Петербургом и дошираком. Она носила старомодные остроносые туфли-лодочки белого цвета. Мини-юбку. Колготки «с лукрой», стесняющие точеные костлявые ноги с гимнастически крепкими икрами. Альбина полагала себя успешной, занятой, самостоятельной женщиной. Что, в общем, формально соответствовало истине и не вызывало бы такого уж расфокуса в восприятии, если бы при всем перечисленном Альбина же не считала себя «любовницей богатого человека».
Первое время мы с Альбиной почти не разговаривали. Обменивались приветствиями. Коротко касались оргвопросов. Но мало-помалу она пристрастилась к совместному чаю и зачастила в офис днем, без Алика, всегда, впрочем, под рабочим предлогом – распечатать документ, забрать почту и т. и. В наших малосодержательных беседах о петербургских погодах стал время от времени всплывать некий безымянный мужчина, закрепленный за кодовым местоимением «Мой». Поначалу между прочим: «Мой вообще спокойно относится к коротким юбкам»; «Мой-то все эти передачи не смотрит»; «Вчера, пять часов – уже на бровях!» Затем более предметно: «Мой в субботу приехал повесить карниз и провалялся два часа на диване, я говорю, ну, это самое, уже ладно» или «Я же не говорю никогда, что я устала или что-то, но тут я попросила о простой вещи! У него вроде с головой-то нормально, с памятью. Такое впечатление, что просто наплевать…». В один прекрасный день она предложила прокатиться в кафе. Угол Измайловского и какой-то Красноармейской. На кофе с булочкой. Надо заметить, форма приглашения соответствовала горним высотам дипломатии – Альбина не просто учла мое финансовое положение и предупредила, что заплатит за меня, а интонационно вложила в предупреждение особый смысл: она заплатит за меня потому, что эта поездка и булочка нужны прежде всего ей самой. Она обращалась ко мне с просьбой! Думаю, я даже приблизительно не являлась человеком, заслуживающим хоть толики подобной деликатности. Но, похоже, одиночество Альбины достигло пика, и она возвысила меня, как свойственно одиноким людям возвышать неодушевленные предметы.
Между мной и Аликом никогда не происходило прямого разговора об Альбине. Но по косвенным признакам я поняла, что получаю свою зарплату и за общение с Альбиной в том числе. Мне ясно дали понять: у бедной девочки рабская работа. Она одна тащит на себе четыре фирмы. Без выходных. На ней держится ВСЕ – ценой чудовищных перегрузок, ценой ее молодости, красоты. Мы должны молиться на нее. И при малейшей возможности препятствовать обрушению аварийного здания единства ее тела и духа. Итак, если Альбине необходим был собеседник, значит, ей необходим был собеседник. Алик решил проблему.
Со временем мы стали ездить на Измайловский почти каждый день. Альбина сжимала горячую кружку обеими руками, объяв ладонями так сильно, что кончики пальцев, встречающиеся на переднем плане, слегка расплющивались, а края ногтей белели: отливала кровь. «Богатый человек» был женат, имел двоих детей, слыл в описаниях нежным и преданным семьянином. Он относился к тем, кто не разводится никогда. Но, собственно, Альбина не ждала предложения руки. На чужом несчастье счастья не построить. Да и чего желать? «Мой» опекал, дарил, давал деньги. При упоминании денег я с трудом удерживалась не смотреть на ее худое мальчишечье тело, казалось не обласканное не то что мужскими деньгами, а даже самим собою – безгрудое, обезжиренное, жесткое, проступающее сквозь холодную однотонную кофту из тонкого постного трикотажа. В общем-то, я, как и Альбина, не спала на шелковых простынях. Но бездна разверзалась между тем, что у Альбины (хотя бы в теории) была такая возможность, и между тем, что в реальности она эту возможность не только не использовала – она не знала о самом существовании такой возможности. Не знала, что может одеваться теплее. Не знала, что может иметь подруг, ходить с ними в ресторан, соблазнять мужчин, наслаждаться прогрессом, иметь абонемент в филармонию. Она не знала, что мир способен льнуть к ее истощенному телу совсем другими температурами и цветами. И для того, чтобы не выдать лицом переполнявший меня по данному поводу ужас, мне приходилось представлять в уме что-нибудь смешное. Например, Теней из третьего акта, выходящих на цыпочках из задней кулисы под арию Раджами: стройными рядами, легкими стопами, баядеры в рощу спеша-а-ат…
Теории отношений полов Альбина набиралась у соседки Марии – сотрудницы Санкт-Петербургского отделения ЮНЕСКО; насколько я могла понять из пересказов – импозантной женщины за сорок, имевшей домработницу, шпица и белые ковры. Мария считала, что правда никому не нужна: правда делает тебя врагом. Ум никому не нужен: ум делает тебя врагом. Толерантность никому не нужна: тем, у кого нет денег на нормальный парфюм, место в халдейской. Доброта никому не нужна: доброта делает прислугу свиньей. Понимание никому не нужно: понимание делает мужчину свиньей. И прочее, прочее, прочее, что не особенно отвлекало меня от выпечки до тех пор, пока Мария не посчитала, что «оргазм никому не нужен».
Я поперхнулась.
– В смысле?
Альбина поморщила лоб.
– Ну, это самое… Машка говорит, что мы все думаем, что мужчинам нужен секс, а на самом деле… Им не это главное. Не оргазм там какой-то, это все… Им надо доказать, что… как бы самим себе, что они могут. У нас с моим стало меньше, реже… Может, уже два раза в неделю, раз. Бывают такие недели, что вообще ни разу. Я понимаю все, что работа, он устает, но вот Машка мне говорит, что он просто уверен в себе, как бы ему ничего не надо доказывать и… он не то чтобы не хочет, он же знает, что он может, и не суетится под клиентом просто, не делает из секса культа. Но мне не надо давать ему понять, что я понимаю… Как бы женщина просто не должна быть умнее своего мужчины, женщина не должна показывать свой ум, понимаешь? Мужчины вообще не любят, когда у женщины есть свое мнение какое-то или это самое… Машка говорит, надо молчать и улыбаться: выигрывает тот, кто хорошо играет.
Она пожала острыми плечами и расплылась в улыбке. Я почувствовала резкий скачок давления. Как будто в груди разорвался полный воздуха шар, и ударная волна отогнала кровь, поприжав к краям – к коре головного мозга, кончикам пальцев, зубным корням. Я осознала масштаб катастрофы: конечно, мир так прекрасен, он течет по Измайловскому, за окном, как в кино про рыб, – люди, трамваи, светофоры, волглые небеса, но вся эта видимая безобидность хрупка! Стоит мне и Марии столкнуться в потоках рыб, сойтись в одной точке, и мы убьем друг друга. Просто убьем. Компромисс между нами непредставим. Похоже, его нет! Мир держится от кровопролития на волоске, существует до первой встречи Марий и Немарий. Долгострой гуманизма есть результат расслоения среды: многообразие пространства позволило нам проскальзывать мимо друг друга. Поэтому мы дышим. А вовсе не потому, что способны к диалогу.
Мы сели в машину. Альбина разговаривала по телефону (дорогое удовольствие оплачивал «Мой»), Она с усилием направляла рычаг коробки передач, сжимая его мартышечьей рукой. Сухое запястье. Тощие бедра. Затяжки на колготках. Короткие жесткие волосы, рыжеватые, смятые в беспорядке. Черные стрелки сухим карандашом. Веснушки. Маленький нос «кнопкой». Она могла бы быть кем-то другим. Или она должна была быть кем-то другим? Где-то в сердцевине моего настроения открылась скорбь. Альбина чуть опустила окно со своей стороны. И пользуясь тем, что стало шумно, я тихонько загудела про себя, звуча, как оркестр, взвывая голосом Отса: «О, баядера, о, баядера, не верю я, что ты рядом со мной».
* * *
Основную строку в моем меню занимал свекольный салат. Отварная свекла с чесноком. И подсолнечным маслом (вместо майонеза). Однажды, в какой-то обычный субботний день, глядя на мелкие, винного цвета скользкие перышки, сползающие с металлической терки в горку на дне кастрюли, я почувствовала, что больше не могу это есть. Влажность, сахарный запах, свежесть несвертываемой фиолетово-йодистой крови, мелкие брызги, ложащиеся на руки и лицо, как морось, – все это больше не трогало меня. Мне нужна была горячая еда, горячий жир, разошедшийся в густом бульоне, желательно томатном. Мне нужна была пища, согревающая изнутри. Удовлетворяющая. Дающая телу облегчение, гораздо более протяженное, чем оргазм. То есть во мне созрела не то что тоска, а целая мука по пресыщению. Клетки изнывали о мясе, как о воде. Сорвать дисциплину и купить курицу я не могла: это стало бы предательством по отношению к себе, практически воровством – я обрекла бы саму себя на голод в грядущие дни.
Вдруг мне пришли на ум вегетарианские голубцы. Женечка заворачивала в капустные листья рис, смешанный с тертой морковью. Мысль о горячих голубцах молниеносно расстроила нервы. Я накинула пальто, выбежала из дому, бросив на столе все как было – кастрюлю, терку, чертовы брызги, – то есть впервые со дня заселения ушла, не убрав за собой. Собственно, я вернулась с рынка всего через полчаса, но Анна Романовна уже крутилась у холодильника по каким-то делам. Я поставила на стол тяжеленный пакет. Извинилась за «бардак». Объяснила что-то обо всем. Старуха вроде бы и не имела никаких претензий. Но стало понятно без слов: войдя в кухню после улицы, я почувствовала очень насыщенный, прямо-таки непроницаемый запах свеклы и, главное, рубленого чеснока. Запах стоял сплошь, как завеса. Такой запах можно было резать ножом. И я поняла, что Анне Романовне он неприятен. Вернее, поняла, что ей неприятно само по себе воздержание, само умерщвление плоти. Она испытывала отвращение к отсутствию полноты некоторых ощущений. Вид боли, пробуждаемой скудостью ощущения, отвращал ее, как вид проказы, – вот что я поняла. Но одно дело – понять и совсем другое – поверить в то, что понимаешь.
Я угробила на голубцы полдня. Кипятила листья, делала срезы по толстому месту каждого черешка, отмеряла точные порции риса с морковью, заворачивала с мастерством, как будто укладывала парашют или даже бутон розы. Я старалась. Но есть готовое блюдо оказалось невозможно. В отсутствие мяса рис прямо-таки обосрался белесым клеем. Конечно, голубцы, как я и хотела, были горячими. Но, по сути, они ничем не отличались от свеклы. В корне ничего не поменялось. Желудок наполнялся материалом. Но клетки оставались холодными и пустыми. Кожа остывала и пуще прежнего кричала об одиночестве. В какой-то момент я просто положила вилку на стол и решила, что ужин необходимо прекратить. Уж лучше свекла. Надо было набраться мужества и признать позорное поражение: деньги потрачены зря, время потрачено зря, продукты придется выбросить, сколь ни кощунственно последнее по отношению к героям войн и тех, кто, собственно, в текущую минуту дох от голода, просто дох.
Вот тут-то я вспомнила об Андрее. В отличие от меня, он не ел неделями. Отдать? Сбросить несъедобное с людского стола, как свиньям, курам? Это могло оскорбить человека, почти наверняка. Я задумалась. Опорожнить кастрюлю? Вывалить кило, а то и все два – часы труда! – в ведро? Так почему бы тогда не попробовать отдать голодному? Теоретически голубцы могли приглянуться Андрею. Я просидела на кухне без всякого занятия около пятнадцати минут. Я пыталась понять: чью проблему решаю? Стремлюсь ли загладить вину перед собой за бесполезную трату денег и за слабость – нежелание есть говно? Или хочу помочь нуждающемуся? Или и то и другое сразу? Я очень волновалась. Мне было страшно ошибиться. Помочь из соображений гордыни или не помочь из соображений страха уличения в той же гордыне? Что менее преступно?
* * *
Он даже не выложил их на тарелку. Ел из кастрюли – не помня себя, жадно заглатывая, пропуская через уголки рта излишки сока и слюны. По подбородку текло. Лязгала ложка. Мои представления о голоде были расширены. Ни о каком нанесенном мною оскорблении не шло и речи: наверное, Андрей понял, что получил в угощение нечто неугодное моему желудку, но, дабы не вгонять меня в стыд, никак не обозначил понимания. Процедура прошла безупречно. Вытерев рот, он сказал:
– Погуляем?
Мы направились в Юсуповский сад. Осень давно шла на убыль. Отпламенела. Ветер дорывал остатки листьев, жмых; на черных скелетах осин болтались какие-то картофельные очистки. Но главное, щеки то и дело обжигал холод. Невидимые лезвия и штыки, беспощадные и слепые, секли эпидермис, прорываясь в подкожные ткани. И в этом выражалась какая-то высшая правда. Система. Как холод неотвратим, так неотвратима смерть, никого не пощадят. Воистину, архангел Михаил пах не тройным одеколоном, а крепким морозом.
– Сегодня ночью у меня была одна девушка, – сказал Андрей. – Она кончила со мной семь раз подряд.
Я взглянула на него. Бледная кожа с просинью. Седые виски. Голая шея, без шарфа. Драповое пальто, заношенное. Зачем он врал? Вернее, понимал ли, что врет? В мыслях я пыталась сконцентрироваться и узреть пространство, отделяющее абстрактную ложь от конкретного живого человека, ее произносящего. Есть ли такое пространство? Как функционирует человек, продуцирующий ложь? Разумеется, Строков был не первым фантазером в моей жизни. В детстве я знала девочку Настю. Дочь соседей по лестничной клетке. Она часто рассказывала истории. Скажем, как она говорила, – «вчера», после уроков, на глазах у всей школы старшеклассник встал перед ней на колени, молил о любви, целовал туфли, стенал, и она даже цитировала: «Я не могу без тебя» и т. д., то есть он грозился порезать вены, но при этом мы обе знали, что «вчера» Настя не ходила в школу, равно как не ходила в нее и позавчера, и месяц назад, ибо страдала двусторонней пневмонией и лишь недавно переехала домой из больницы. Я боялась Настю в детстве. В юности – презирала. (Другие варианты не приходили мне в голову.) Но Строков затмил Настю. Случай со Строковым смутил меня. Все-таки там замешивалась война, нечто святое, и прочее. Это беспокоило не на шутку. За лето я разработала теорию. Человек, говоривший правду, был един. Неделим со своей правдой. Человек, говоривший ложь, был трояк: в нем присутствовали ложь, правда и некто третий, кто видел разницу между ложью и правдой и изъявлял волю перемещения. Теперь же, глядя на Андрея, я спрашивала себя: а так ли уж много воли изъявлял некто третий? И был ли он там, внутри, под слоем пальто, рубашки и ребер? И если он там, существует ли возможность услышать его голос? С ним можно поговорить?
– Что значит «семь раз подряд»? – спросила я. – О…
Он посмотрел разочарованно. И в то же время с напускной отеческой жалостью.
– Да ты мне не веришь? Тань, ты чего?!
Я молчала. Мы остановились у воды. Андрей посмотрел мне в глаза и завопил:
– Да ты чего? Танюха! Ты ж меня от смерти сегодня спасла! Ты ж мне как сестра!
Он обнял меня порывисто, по-братски. Драп оцарапал мое лицо. И в эту самую секунду до меня дошло, что желание помочь ему хоть чем-то могло появиться у меня независимо от неудачи с голубцами. Но не появилось.
* * *
Глубокой осенью у Валечки завязалась личная жизнь. Феноменально! Но Валечка полюбила. Ее избранником стал наркоман Володя. Он и трое его друзей снимали вскладчину загородный двухэтажный дом. Строго говоря, не дом, а хибару с резными наличниками. Втоптанное в землю крыльцо. Собачья будка. Пустой ошейник на ржавой цепи. Сирень под окнами. Комната в Мошковом оставалась за Валей, но жила она в этом доме – в сущности, переехала в лес, как и хотела: дом стоял на самом краю поселка, последний двор на границе с дикой природой. Теперь Валечка могла часами тереться среди деревьев, расходуя энергию на дело.
Володя, как и его компаньоны, зарабатывал диджейством, играл в «Норе», в «Фишке» приторговывал винилами, перепродавал аппаратуру, возил из Амстердама цветные джинсы и марихуану. Валечка стирала на пятерых, таскала воду из родника, мела, ставила самовар, шинковала капусту, которую в тазу перемешивала с консервированной кукурузой и майонезом: салат. В доме всегда было полно самой передовой электронной музыки. Полно пива, травы. Посреди самой большой комнаты стоял круглый, очень тяжелый стол – настоящий бронтозавр, ровесник Айседоры Дункан, несдвигаемый, вошедший ногами в пол, как сваями в землю. Ороговевшее монументальное тело его застилалось гобеленовой скатертью – васильки, подранные давно уже мертвыми кошками. Море затяжек. Ребята не сменили и даже не постирали васильки, отчасти из-за проблем с горячей водой, отчасти из-за того, что считали скатерть экспонатом музея, в котором имели честь проживать.
На крыше дома стояло дырявое кресло. В нем Валечка наслаждалась чаем. Скрипка валялась в ворохе прожженных стеганых одеял. У изголовья Валечкиной кровати лежал «Улисс».
– Ты это читаешь?
– Да, – ответила Валечка.
Я была в шоке.
– И что? Тебе нравится?
– Очень.
Я не поверила.
В лесу мы присели на поваленную сосну. Специфика общения с Валей заключалась в том, что Вале можно было рассказать все – даже то, чего нельзя было рассказать самому себе. Такая степень свободы не могла быть достигнута ни с врачом, ни со священником, ни пред лицом смерти. Я рассказывала ей о том, как хочу мяса. О том, как трудно вставать по утрам.
– Мы – поколение сирот, – сказала она. – Наши родители не смогли нам дать ничего, кроме жизни и денег.
– А что дает тебе лес? – спросила я. – Что ты получаешь в общении с деревьями?
– Вот эта елка, она каждый раз в каком-то новом состоянии. И ты можешь взять и увидеть ее. Подойти и увидеть то состояние, в котором она сейчас есть. Это много. Но деревья – это просто деревья. Не надо думать, что природа тебя понимает. Есть горцы. А есть те, которые хотят быть не такими, как все, это – гордыня.
Глава XIII
Читка уже началась. Я курила на улице. Послышался стук каблуков, женские голоса. Со стороны главных ворот из темноты выблескивали нимфические приметы. Раздавались смешки и маты. Постепенно я различила четыре женские фигуры. Они приближались.
– Простите, а где здесь актовый зал? Не знаете? Стихи читают…
Девушки подошли. Меня обдало запахом пряных духов и фруктовых жвачек. Накрашенные, «на шпильках», «с укладкой», они стояли передо мной, неравномерно покачиваясь, переступая, как на ходулях, поблескивая пряжками, молниями и колыхающимися серьгами. Я бросила окурок в бочку и сказала, что проведу.
Зал был полон на треть. Кое-кто уже потягивал из горла. Пиво шло по рукам. На задних рядах, в куче сваленных пальто спал подражатель Маяковского. Войдя, странные гостьи осмотрелись и, отыскав кого-то глазами, уверенно зашагали к первым рядам. Дряблый пол содрогался, пробиваемый остриями длинных копыт. Публика оборачивалась, выказывая недоумение. Девушки сели к Демичеву, самому модному поэту клоаки. Видно было, что он ждал этих столь несвойственных нашим обводным широтам мармеладных нимф, пощелкивающих златом. Все они расцеловывались с Демичевым сладко, начвакивая и хихикая, вызывая еще большее раздражение местных. Понятно было, что одна из девушек – мулатка – возлюбленная Демичева. Остальные, видимо, приведенные ею подруги. Я села сзади.
– Познакомься, это моя институтская родня. Семья моя, – шептала мулатка Демичеву в ухо.
Я не могла отвести от нее глаз. Смотрела, выжидая каждого ее полуоборота. На веках у девушки сверкали зеленые блестки. Но в этом не было живописи, не было красок и слоев, не было филоновской орнаментальности, как у Женечки. А был призыв: крупицы зеленых огней лежали на смуглой коже голых век, как будто предлагая посмотреть, что откроется взору, если блестки смоет горячая пенная струя. Девушка благоухала, ерзала на стуле, липла к Демичеву, пытаясь неявно, если не всем телом, то хотя бы частями, втереться в его объятья. Она приоткрывала рот. А когда Демичев вышел читать, слушала его, выгнув шею, и время от времени усмехалась, обнажая зубы, запрокидывая голову, показывая, насколько юмор этих стихов много больше понятен ей, чем всем остальным.
Она демонстрировала наличие между нею и Демичевым связи, такой тугой и сладкой, что нам и не снилось. Но делала это дозированно, не перебарщивая: мы не должны были понимать, что нами манипулируют. Возможно даже, она пленяла нас своей ролью втайне от себя.
Демичев писал такие же бездарные стихи, как все: те же «огни» и «дни», «каналы» и «анналы», «мосты-версты», «Невою» и «не вою», но все это, во-первых, щедро и уверенно сдабривалось «правдой жизни» – совокуплениями, блядями, половыми губами, чернокожими членами, черножопыми яйцами и т. д., а во-вторых, читалось в свойственной лишь Демичеву энергической манере. Он не обкуривал публику, не мямлил, не дурманил, он просто орал стихи, прикрыв глаза, отбивая ритм носком ботинка и в такт пробивая воздух перед собой кулаком. Среди прочих он выделялся еще и внешне: широкоплечий, беловолосый, с челкой, которую приходилось отбрасывать назад рывком головы. В камуфляжных штанах, с кожаным браслетом на запястье. Молодой бог. Парной, как щенок. Но физически развитый. И очень бесхитростно, как-то прямо и просто влюбленный в себя. Не дослушав Демичева, я ушла в офис писать очередное предисловие.
В начале одиннадцатого пришла пора наведаться вниз, собрать первую партию бутылок. Помахивая пустой сумкой, я спускалась по лестнице. Не дойдя пары ступеней до площадки между третьим и вторым этажом, я услышала женский голос, смех и, перегнувшись через перила, увидела Демичева и прижатую им к стене мулатку: они поднялись подальше от всех, чтобы поцеловаться. Кофта мулатки, задранная до груди, обагряла завод красотой – она горела в нашем мегалитическом храме, как последняя рябиновая ягода на срубленном дереве – вишнево-терракотовая, как плащ Богородицы, только без звезд. Я отпрянула к стене. Мулатка сказала:
– Ты будешь старше меня?
– В смысле?
– Хм, дурачок, ты будешь со мною старшим?
– Ну, я, вообще-то, младше тебя на месяц.
Она вздохнула и застонала, и от досады, и от блаженства.
– А… Дурак, ну прекрати… При чем тут месяц? Я хочу быть с тобой маленькой, младшей, понимаешь? Глупый… Дема. Глупый мой Дема… Иногда я чувствую себя с тобою так…
– Как?
– Как маленькая. Как будто ты старше меня, намного… Первый раз я почувствовала это тогда, помнишь?
– Когда?
– В Крестах… Когда ты пошел со мной передачу относить. Я бы не смогла туда пойти, просто не смогла, я не могла видеть это все, ты не представляешь, этот ужас, эти кирпичи, я Арсенальную видеть не могу, ну просто… я не спала всю ночь… а ты взял меня и поехал… так просто, ничего лишнего, просто поехал туда, и все. Ты был мужчина.
– Ну, я и есть мужчина, вообще-то.
– Знаешь, я тоже – мужчина. Я всю жизнь с мужиками письками меряюсь, сколько себя помню, с детского сада.
Чиркнула спичка.
– Но иногда нет сил быть мужчиной. Кресты – это слишком больно.
– Где у тебя болит?
– Здесь, придурок.
Ночью я проснулась около четырех. Луна блестела в голых ветках, заслонявших лазурные стены. Комнату заливал свет. Я вспомнила вечер, мулатку, подслушанный разговор, и в животе упало, как при старте лифта. Опустив руку, я нащупала на полу записную книжку с заложенной между страницами ручкой и, подставляя разворот под свет из окна, написала: «Мул. Дем. Никогда не быть с ними дурой».
* * *
Как-то Алик позвонил из Волхова, сказал, что застрял на переговорах, и попросил срочно съездить к нему домой – забрать какие-то документы и привезти в офис к семи часам. Шел снег. Сухой и мелкий. Алик, как и Альбина, жил в Купчино. Выйдя из метро, я сразу же влипла в толпу, густую и пьяную от усталости. Шалманы, бильярдные, стеклянные магазины, игровые автоматы, люди, нагруженные пакетами, очереди за шавермой. Продираясь сквозь интенсивную музыку и джинсовое барахло, сбрасывая с себя липучий Лас-Вегас, я вышла из запаха жареного теста и остановилась перед знаменитыми Купчинскими пустырями. Мне нужен был правый. Земля лежала твердо. Низом мело белую ледяную крупу. Она неслась, застревая кое-где, под хребтами карликовых гор, залегая в следах протекторов. Я замотала шарф по глаза и маленькой точкой двинулась через поле.
Жена Алика, милая полная армянка, налитая персиковой мякотью, цветущая на фоне расписных обоев, предложила чай, но времени оставалось только на принятие папки из рук в руки.
В полседьмого Померанец влетел в офис.
– Привезла? – спросил он с ходу, энергично расслабляя узел галстука (имевшего неожиданно бодрый и слишком шелковый вид). – Умница. Сейчас они уже приедут… – добавил он себе под нос.
Алик погрузился в чтение документов и очнулся только от стука чашки, поставленной мною на стол.
– С сахаром?
Я кивнула.
– Слушай… – он как-то нервно осмотрелся. И, с некоторой неприязнью высвободившись из петли галстука, протянул его мне. – Возьми, слушай… Положи куда-нибудь, спрячь подальше. Вообще, выкинь его на фиг, – не дождавшись моей неспешной руки, он бросил галстук на стол, предварительно смяв, как салфетку.
В обед следующего дня мы, как водится, сидели на Измайловском, Альбина грела руки о кружку и рассказывала о «Моем».
– Я моему галстук подарила… Плохой, – она улыбнулась, стесняясь.
– Зачем?
– Не знаю… Машка меня научила. Говорит, надо дарить им стремные подарки, им тогда захочется доказать, что они могут лучше… Захочется дать понять, что они умеют круче подарки дарить. Машка говорит, они ведь любую возможность используют, чтоб показать, что они круче. Надо им подкинуть… это самое… повод. Ну, я выбрала своему галстук, такой цветной, глупый. Он вчера ездил на переговоры, тут, в область… и как раз я ему сказала, чтоб надел и…
У меня заложило уши. Развязка поразила: как же я раньше не догадалась?! Но больше всего страшило то, что, подбросив меня к заводу, Альбина под каким-нибудь предлогом захочет подняться в офис, чтобы еще немного поговорить: со вчерашнего вечера галстук валялся в самой заметной корзине – из тех, что стоят не под столами, а в «коридорчике» при входе. Там этот аляповатый глист, личинкой отложившийся в разум Альбины из Машиного социопрактического знания, спал, свернувшись поверх рваных бумаг и огрызков. Как я жалела, что по лености перенесла вынос мусора на вторую половину дня! Как я жалела вообще! В мыслях я побожилась, что в следующие же выходные поведу Альбину в Эрмитаж, в гости к Валечке, в кино, куда угодно. Мы с Валечкой разожмем Альбине челюсти, вольем в глотку красное вино, мы сыграем ей на скрипке, затащим в подкопченную «Фишку» и заставим танцевать. Мы введем антидот. Если, конечно, действие испускаемого Марией яда в принципе возможно прекратить.
На деле в выходные ничего не случилось. Я заболела. Температура под сорок. Кофта, в которой я спала второй день, и сальные волосы, пропитанные потом на несколько раз, прилипали к телу. Мне очень хотелось пить, но сил встать не было: при попытке подняться темнело в глазах, и я падала в грязную постель, как в трясину. Когда Лиза пришла ко мне в комнату делать уроки, я попросила ее принести стакан воды. Девочка выбежала в коридор с криком:
– Бабушка!
Беря из Лизиных детских холодцеватых, бескостных рук мокрый стакан, я уловила в лице и позе девочки отвращение, вызываемое, возможно, моим запахом, возможно, внешним видом, а возможно, и чем-то, имеющим гораздо более обширную природу, распространяющуюся далеко за пределы внешних признаков. Я испугалась этого отвращения. Как пугаются иррационального: кожей. Но мой страх погас на корню, не успев осветить ни микрона из потаенного в глубинах реальности: у меня не хватило физических сил для пребывания в этом страхе и тем более для соединения с ним. Складки одежды и постели, сбиваясь, опоясывали меня, впечатывались в размякшую от пота и грязи кожу, становясь неотъемлемой частью самоощущения тела: уже непонятно было, я ли чувствую поверхность ткани, или ткань чувствует поверхность меня. То есть жизнь моя состояла сплошь из одного осязания кокона, в котором явственно присутствовали две щели к свету: глаза. Но они были склеены засохшим гноем. Я сделала несколько глотков и погрузилась в растительное существование. Прошло минут десять, а может быть, и пара часов. А может быть, наступил следующий день. В коридоре раздался телефонный звонок. Анна Романовна заглянула в комнату. О чем-то спросила. Ушла. Бросив дверь недозакрытой. Послышался ее голос.
– Але! Да… нет, не подойдет. Спит.
Звонила моя мама.
– Ну да, да… плохо… Ну, так это, мы-то уж смотрим за ней, как за своей, не волнуйтесь. Чего уж, все мы христиане, да… Уж ходим тут, ухаживаем, делаем все, что она ни попросит…
Я заплакала. Через ссохшиеся ресницы вылилось несколько очень горячих слез. Не могу сказать, что мне стало так уж жалко себя. Мне стало жалко маму, которая любила меня и которая не знала правды. Мне стало жалко правды. За несколько последних дней я могла тихо скончаться под одеялом. Никто не заметил бы этого. И вот, маму отделили от правды, да еще и так запросто, так грубо! – вершители обходились без всякого изыска! Но почему? Каким образом это становилось возможным? Как возвыситься до пребывания во Христе за счет одного стакана воды, пронесенного каких-то пятнадцать шагов – от раковины до кровати? Продолжив свое голодное и неподвижное лежание, я уже не спала. Я думала. Инна, Агата, Анна Романовна, Мария, дрессировщики иеговистов, грабители. Кто они? Люди ли это? И если люди, то где они были раньше? Почему во времена моей жизни в родительском доме они не давали о себе знать?
* * *
Первый после болезни рабочий день пришелся на пятницу. Иеговисты явились в одиннадцать утра. Свежие брошюры лоснились, как шоколадные деликатесы в обертках. Ия Саввина протянула мне пачку. Пришлось снять резиновые перчатки, чтоб не марать обложки, по крайней мере прямо при женщинах. Я объяснила, что, вернувшись на работу после недельного отсутствия, слишком занята уборкой и «заниматься» сегодня не смогу. Они понимающе кивали.
– Главное, что вы хотите! Вы хотите учиться чистому поклонению Христу. Для этого обязательно надо изучать Библию. Все изучают… Ведь этот процесс начался в 1914 году…
– Какой процесс? – спросила я, стирая тыльной стороной ладони пот под носом.
– О, ну это уже, знаете, такая сложная тема, отдельная… Об этом мы поговорим в свой черед.
– А! Разумеется, – я тоже с чувством покивала.
– Да, сначала мы пойдем по порядку, будем изучать Библию, прямо вот от начала и пойдем, и пойдем… Библия приготовляет нас к добрым делам… Ее надо чита-а-ать, – заключила она, ударяя на «тать» и растягивая «а» по-московски, открывая гласную на триста шестьдесят градусов.
Попрощавшись со спасительницами, я вошла в кабинет и сбросила пачку новых брошюр на тумбочку, поверх накопленных старых. Конструкция кучи покосилась, и журналы, скользя, посыпались на пол. Я решила прибрать все это как следует, сложить, например, в тумбочку: ровно подогнать в стопку и закрыть от глаз для порядка. Заглянув внутрь тумбочки, я обнаружила одинокую пачку листов А4. В общем-то, не собираясь их просматривать, я взяла листки, чтоб отложить в сторонку, на время, а потом вернуть обратно, когда стопка будет готова, на самый верх (вдруг кто-то хватится?). Но взгляд мой скользнул по титульной странице. Крупным шрифтом значилось: «СТИХИ». И ниже: «Александр Померанец». Я присела. Прямо на пол.
Внутри листков оказалась дежурная вода. За время написания предисловий я свыклась с ней, как с родной. Все то же: зимнее лето беспамятной реки, всеведущая печаль державинского пламени, вбирающие запах внешние глаза, бездомные руки безмятежного Гамлета, забытые богами петровские отдушины и т. д. и т. и. Стихийно в голову пришло простое до боли соображение: Померанец – не армянская фамилия! Это же псевдоним! Господи, Алик писал стихи. И носил творческий псевдоним вместо фамилии. Передо мной раскрылась панорама личности «богатого человека». Панельный дом в Купчино. Квартира, обклеенная дорогими обоями. Жена – домохозяйка. Любовница – рабыня. (Очень кстати проживающая по соседству.) Офис – в дерьме. Бизнес – идет. Все глубоко удовлетворены. Пьянство – рекой. И деньги рекой. Протекающей мимо жены и любовницы в сторону толпы гопников, плохо пишущих и сильно пьющих. То есть Померанец был не просто «богатым», а «богатым», отказавшим в комфорте жене и любовнице. Во имя святого искусства. Собственно, Померанец покупал себе среду, состоящую из людей, максимально близких ему по духу: все они так же сильно любили писать, и все они делали это так же бездарно. Они жили поэзией! Дышали поэзией! Но, не имея возможности (или желания) прорваться в ремесленничество, обосновались на некоем альтернативном уровне творения, включающем сугубо жизнь и дыхание, без единой капли труда. Союз давал тунеядцам и графоманам фантастическую возможность легализоваться в качестве поэтов! Возможно, именно это объясняло всегда поражавшее меня отторжение средой Союза людей талантливых и ярких. Все становилось на свои места. Для полноты картины не хватало ответа только на один вопрос: почему Алик был так невероятно скромен?! Почему армянин, купив себе целый мир «русских поэтов», не воспользовался законным правом читать с трибуны? Почему, затеяв и оплачивая всю эту кашу, он прятал свои стихи в тумбочке, годами не выдавая себя? Стеснялся? Боялся? Кого?
В кабинет вошла Альбина. Я быстро припрятала стихи, захлопнула тумбочку и сделала вид, что собираю рассыпанные по полу журналы.
– Привет, – сказала Альбина, просияв. И по одному ее слову я поняла, как сильно она скучала.
* * *
Как правило, мы ужинали в разное время. Так было удобнее. И я считала, что мы обе негласно учитываем это. Но однажды вечером мне вдруг показалось, что Анна Романовна намеренно совпала со мной во времени ужина. Она затянула с разговором по телефону (который с двадцатой минуты явно не шел), потом прилегла с газетой, оставив дверь в комнату распахнутой настежь (прилегла совершенно некстати: детям пора было есть), потом снова присела у трюмо в коридоре и, охая, копалась в записной книжке, будто планируя сделать еще какой-то важный звонок. И только когда я закончила с мытьем полов, она вдруг спохватилась кормить Лизу и Сашу (с опозданием на час пятнадцать). Таким образом, придя к своим обыкновенным девяти часам в кухню, я застала Анну Романовну в процессе лепки котлет. Что, в общем, не могло вызывать во мне претензии: мы не обязывали друг друга к определенному графику. То есть повода к анализу не было. Старуха просто проваляла дурака. Имея на это право.
В девять пятнадцать мы расселись. Я на своей стороне: свекла с чесноком, черный чай с лимоном, яблоко, Бабель. Лиза и Саша – на своей: чай с лимоном и сахаром, варено-копченая колбаса (веером на плоской тарелке), хрустальная ваза с консервированным горошком, хрустальная ваза с конфетами, батон нарезной и, вуаля, сами котлеты, судя по запаху – из баранье-говяжьего фарша. Дети вяло мяли котлеты в тарелке. Казалось, вилки весят по килограмму. Но бабушка будто бы и не замечала ни подавленности внуков, ни отсутствия у них аппетита. Она держалась независимо, с апломбом, совершенно неадекватным – неподходящим к невыразительному поведению детей.
– Сашенька, ну? Как котлетки? Да? Вку-у-усные! Ум-м… Нежные. Аж сладкие.
Она стояла у плиты и снимала лопаточкой со сковороды партию подошедших «горяченьких».
– На-ка, Саш, давай-ка, пока горяченькие, подложу тебе еще… Давай, давай.
Ребенок, впрочем не имеющий, как и его сестра, вкуса к самой по себе жизни, даже не поднял на бабушку глаз. Он, словно глухой, продолжал карябать тяжелой вилкой тяжелую котлету, скребя металлом по цветочкам на фарфоре. Анна Романовна, невзирая на занятость Саши, выдернула тарелку у него из-под носа. И положила добавки.
– И горошку давай, – наклонившись к мальчику, она занесла столовую ложку с горохом, набранным с горкой, над тарелкой.
Мальчик едва заметно мотнул головой.
– Давай, сынок. С горошком-то как хорошо! И витаминки… А котлетки – прелесть! Мяско сегодня взяла парное, запах!
В эту секунду я отмела последние сомнения. «Парное». Да, весь этот спектакль был разыгран только для меня. Я встала из-за стола, убрала за собой и вышла.
Чертовски тянуло курить. Я распахнула окно. Тяжелый снег падал на мокрый асфальт, отвесно, как дождь. Было тепло, безветренно, влажно. Со стороны Садовой доносился грохот трамваев и шум машин, прорезающих мелкие воды дорог. Я прикурила. В ту секунду самым насущным из вопросов мне представлялся: верить или не верить? Возможно ли в принципе, чтобы совершенно чужая женщина получала удовольствие, дразня меня достатком? Или мне все-таки кажется? Дверь парадной хлопнула. Анна Романовна вывела Мотю на прогулку. Свернув от крыльца направо, она прошла прямо под моим окном, заглянув. Я кивнула в знак приветствия. Ответного кивка не последовало. Докурив, я закрыла окно и села за стол – перепечатать парочку свежих стихов, написанных по ночам на неделе. Минут через двадцать раздался стук.
– Таня, – сказала Анна Романовна подчеркнуто сухо. Тон не предвещал ничего хорошего. – Ты зачем в окно высовываешься? Ты чего это… Зазываешь кого? Что ль… Ты чего это позоришь нас?
– Чем? – я действительно не поняла.
– Чем-чем, ты чего в окно торчишь? Ночью! Это что за проституция такая… Ты, что ль, проститутка – в окно торчать? У всех нормальных людей шторы закрыты, а она в окно… Не знаю я, как это так жить… Не знаю… Мне такого не надо.
Я попросила ее выйти из комнаты. Она испугалась. Попятилась задом. Захлопнув дверь, я бросилась к столу и на одном дыхании, толкая, придвинула его к двери, довершив толчок тяжелым ударом края столешницы об косяк. Отскочила краска. Поднялась пыль. На слоящемся паркете зияли борозды. Я сделала так, чтобы осложнить себе путь наружу. Мышцы моего двадцатитрехлетнего тела, прокачанные в ежедневном физическом труде, взыграли, как у дурно воспитанного добермана. Я поняла, что убью старуху. И я должна была оградить ее от себя. Все, что пришло мне в голову за секунду, – придвинуть стол. На который я и села, закурив прямо в комнате, уже без всякого окна. Итак, все, во что я не могла поверить, происходило на самом деле. Все эти месяцы. Которых, надо отдать мне должное, вопреки прогнозам Андрея, вышло куда более двух, – еще бы! ведь я заменяла ей дочь! – не понимая, однако, что Анне Романовне не нужна была дочь: ей нужна была мама.
Анне Романовне хотелось быть не просто богаче меня, но и лучше меня – чище, выше, благороднее. Правда, я понимала это лишь как факт – не видя и не представляя ни одной причины, побуждавшей Анну Романовну к соревнованию. На тот момент я только укрепилась в выводе, уже намеченном ранее: Марии и Немарии не способны к сосуществованию. Я назвала свое чувство ненавистью. Еще много лет после этого вечера я жила, полагая, что ненавижу Анну Романовну.
В коридоре раздался звонок. К телефону не подошли. Я поняла, что Анна Романовна боится выходить из комнаты. Через пару минут звонок раздался снова. Находясь в прострации, без видимых перспектив и планов, я вдруг уцепилась за этот звонок как за руководство к действию. Наскоро отодвинув стол на небольшое расстояние, позволившее приотворить дверь, я пролезла в щель и бросилась к телефону. Звонила Полина Николаевна Савченко, моя землячка, едва знакомая мне женщина, переехавшая в Петербург еще лет десять назад. Я почти ничего не знала о ней: старший научный сотрудник какой-то лаборатории, талантливый химик, бездетна, одноклассница моей тети, проживает на Техноложке. Полина Николаевна звонила спросить, не собираюсь ли я лететь домой на Новый год и не возьмусь ли передать небольшой пакет ее родным. Я ответила, что не лечу и не возьмусь – бросила универ, работаю, снимаю комнату, живу без денег.
– Что у тебя с голосом? – спросила она.
– Я поругалась с хозяйкой, у которой живу.
– Из-за чего?
– Да так… Не из-за чего. Она очень глупая.
– И что?
– Я боюсь, что убью ее. Задушу.
Полина Николаевна немного помолчала. Судя по всему, обдумывая что-то.
– У тебя много вещей?
– Печатная машинка, книжки, пара коробок. Ну так… Одежда. Тазик.
– Собирайся.
В той части сознания, что всегда работает с опережением времени, я уже была готова к расставанию с «Ноктюрном», да – завтра и навсегда.
– Вы же меня совсем не знаете.
– Ты не воровка?
Закончив разговор, я подошла к двери комнаты Анны Романовны. Обычно открытая, теперь дверь стояла по форме – навытяжку, и не просто плотно захлопнутой, а приняв вид нежилой. Ни детских голосов, ни звука телевизора, никто не выходил попить, перехватить колбаски, заглянуть в уборную. Я постучала. Старуха медлила. Но в конце концов, видимо стесняясь собственных впечатлений по поводу моего гнева, решила отпереть.
Звук телевизора был максимально приглушен. Лиза и Саша сидели на диване рядышком, выровняв спинки, на взводе, готовые в случае чего сигануть под диван. Бабушка имела серый и скорбный вид – лицо вдовьего цвета, впалые глаза, примятые пыльные волосы. Она взглянула на меня, явно не понимая, чего ожидать, подыскивая в мыслях какие-то наиболее подходящие эмоции, соответствующие одновременно и ее вкусу, и текущему моменту. Наверное, она колебалась между праведным гневом, праведным же омерзением и праведным же удовлетворением от всепрощения.
– Я больше не хочу снимать у вас комнату. Завтра я уезжаю. Можете искать другого квартиранта.
Нельзя сказать, что она улыбнулась, нет. Просто в ее трупной коже едва заметно пробудилась жизнь. В глазах обозначилась сытость. А в позе – согретость.
– Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо, – произнесла она в своей манере: смакуя. Добавив в интонацию даже малую каплю примирительной краски.
Глава XIV
– Алло.
– Привет! Еле нашел твой рабочий. Слушай… – голос Иванова звучал буднично. Запросто. Бодро. «Слушай». Похоже, он созрел до измены Гульнар и позвонил пригласить меня на пару котлет. Но почему-то я уже знала, что это не так. Непостижимо. Но я уже поняла, что кто-то умер.
– Тань, Игорь умер.
Бутылки были собраны. Димас стоял в дверях. Он ждал меня, посвистывая.
– Завтра девять дней, – сказал Иванов. – Я тебя искал, но не нашел. Вот только нашел, сегодня. Этих союзов, литературных, до фига. Мы завтра встречаемся на Васе, с Пашей, помнишь, Павел Дрон? Дедушка Паша… Мы хотим пойти попозже, часиков в двенадцать, когда уже там схлынет первая волна, чтоб особо не… На выходе с «Василеостровской». На улице встречаемся. Давай, в двенадцать, да.
Пошли гудки. Но я не отнимала трубку от уха. Не знаю, что ошеломило меня в действительности: известие о смерти молодого гениального художника, с которым я спала, или та пропасть, которая разверзлась между мною и этой новостью. Я не чувствовала ничего. Димас, сунув руки в карманы, от нечего делать ритмично бил себя по бедрам полами парки, чтоб в карманах звенела мелочь и ключи. В клетчатых баулах расползались бутылки. Пора в приемный пункт. На улице блестела ранняя весна.
– Ты чего? – спросил Димас.
Взглянув на него, я почти произнесла это: что же будет? Губы оставались сомкнутыми. Но слова кричали во мне. Что же будет теперь с искусством? Кто же будет лепить козлов?! Почему-то именно эти вопросы встали передо мною первыми и заслонили собой возможные остальные. Смерть Строкова представилась огромной, огромной, необоримой пробоиной в теле Петербурга. Значит ли это, что все мы теперь утонем?
– Ничего, – ответила я. – Пошли.
* * *
Я приехала раньше. Зеленоватое апрельское солнце щипало глаза, как лук. Из выхода с «Василеостровской» обыкновенно валил народ. Подслеповатая толпа выкатывалась из стеклянных дверей бурой кашей, разваренной, кипящей, вываливающейся из-под крышки через край. Пахло пирожками. Голуби топтались под урной, воркуя. По Среднему проспекту шли двадцатитонные трамваи. Железные колеса дробили землю, но она, защищенная латами рельс, не крошилась, а просто дрожала нутром, тряслась, сообщая вибрацию стеклам.
– Таня!
Я обернулась.
– Таня!
Она уже шла ко мне, раскинув руки. Длинный узкий шарф, обмотанный вокруг шеи на раз, доставал концами чуть ли не до земли. Синяя в мелкий цветочек юбка плескалась в ногах, как морская пена. Женечка. Господи. Сколько лет, сколько зим. Я и забыла.
– Таня! – она повисла на моей шее.
Мы взяли в ларьке два растворимых кофе. И встали на углу 6-й линии, «под стеночкой». Женечка спешила. Ее ждали в «Макдональдсе». Друзья. Прекрасные ребята. Одна семья. Новые братья и сестры, новая жизнь. Воплощение весны. Официанты и официантки. Люди, с которыми легко. Работа, в которой ты живешь. Не работаешь, чтобы жить. Не живешь, чтобы работать. А работаешь и живешь одновременно. Два в одном. Слияние обязанностей и потока событий. Непрерывность. Гармония. Радость.
– Ты тоже бросила университет? – вставила я наконец.
– Да! У нас же полгруппы ушло, ты не в курсе? Не смогли оплатить после всего этого… И Юрас, и Регина, да все наши…
– Так ты работаешь в «Макдональдсе»?
– Нет! – она расхохоталась.
Вот уже два месяца Женечка подвизалась официанткой в ресторане на Мойке (судя по описаниям, находившемся где-то недалеко от «Женевы»), Три через три. Форма, белые крахмальные фартуки с защипами, чепчики, как в кино. Бесплатное питание. Психологические тренинги. По домам – на микроавтобусе. Директор ресторана – буддист. Просветленный человек. «Как папа».
– Сколько ты получаешь? – спросила я.
– По-разному, ну… сто пятьдесят рублей в день, иногда двести…
Я отяжелела. Шестьсот рублей за три дня? И три выходных? Можно позволить себе чизбургер, картошку фри, пирожок с вишней. Можно пойти в кино, просто гулять, ходить по улицам, писать стихи, молиться в церквях. Невероятно! Я смотрела, как она перебегала Средний проспект, спешила к друзьям. Легкая. Кучерявая. Выспавшаяся. А какая у нее была кожа! Особенно на щеках. Чистая, белая, прохладная, сочная, подернутая розовым цветом, который, в отличие от цвета румян, не заслонял лица, а сиял, пробивался к верхним слоям изнутри, сообщая что-то о скрытом в глубине человека источнике света. Я приложила ладони к лицу. Шершавое, во множестве мелких прыщиков и уж, конечно, не розовое – Обводный канал, ежедневно отражаясь в моем лице, постепенно проэкспонировался на коже, как на фотобумаге. Я запечатлела на себе цвет моей жизни – серый. Женя Осмолова носила под сердцем солнце. Я существовала, как крот. Старая ревность, забытая и заброшенная, воспряла во мне и воспалила настроение. Стало жарко. Пришлось расстегнуть пальто. Конечно! Если бы Иванов увидел Женечку… А главное, ранило то, что ей всегда везло. Двести рублей в день.
Иванов высоко поднял руку и помахал. Дедушка Паша спускался по лестнице с отдыхом на каждой ступени, «по одной», словно годовалое дитя. Иванов придерживал его под локоть. Солнце обыгрывало их эпические фигуры. Аполлон и вдрызг состарившийся сатир. С первой же минуты меня поразила их непринужденность. Они держались спокойно. Умиротворенно. Иронично. Неспешно. Будто праздные туристы, нарочно отбившиеся от экскурсионной группы, чтоб нажраться в хлам засветло и, таскаясь с фотоаппаратом из кабака в кабак, сальничать и сквернословить на языке, непонятном окружающим.
– Отойдем? – Иванов указал в сторону цветочного ларька.
Мне хотелось купить на свои: иметь отдельный, персональный букет. Не от нас, а от меня лично, несмотря на нищету. Я решилась на тюльпаны. Розовые, влажные, как щеки у Женечки. Но два – показалось слишком мало. Два – это уже не букет, а символ, выражающий смыслы эксплицитно – апеллирующий к сознанию с простотой сверла, касающегося зубного нерва. Стоило только представить, как эти двое розовых и бескожих останутся умирать на могиле, бесславно, пушечным мясом, прижавшись друг к другу, отринутые планетой, оставшиеся одни друг у друга и… Двойка тюльпанов уводила в сторону от реалий. Четверка – губила дневной бюджет. Три. Вот что было мне по карману и вырывалось за минные пределы символизма.
– Клим, – я позвала робко. Мне не хотелось особенно посвящать в детали дилеммы: – Скажи, м-м… надо обязательно четное число?
Он спас меня:
– Да похуй, абсолютно, бери сколько хочешь.
* * *
Полупустой трамвай полз, переваливаясь с боку на бок. Мы с дедушкой Пашей сели в хвосте вагона. Клим встал над нами, заложив локоть в открытую форточку. Поза Иванова, вернее, его тело являлось живым воплощением Давида. Можно сказать, творя Иванова, природа высказалась даже более точно, чем сам Микеланджело: она изобразила титанизм, освобожденный от самого себя, – титанизм в точных, отвесных линиях, ниспадающих с раскрепощением любимого Улей костюма «Армани». Это был Давид выходного дня.
– Вы представляете, ко мне сейчас на Гостинке подошел человек, – сказал дедушка Паша, – и попросил благословения. Я ему ответил, что я не тот, кто ему нужен. А этот парень достал из кармана монету и говорит: «Понимаете, я хочу сдать ее в ломбард». Он развернул целлофан и достал такую монету… знаете… там герб и вот это все… И он сказал: «Ну благословите меня, пожалуйста». И я благословил.
Обратившись ко мне, он спросил:
– У вас случалось такое?
– Что именно?
– У вас просили благословения?
– Нет. Во всяком случае, я не помню.
– То есть вы были в беспамятстве.
– Когда? – я не поспевала за Пашиным юмором.
– Когда благословляли, – ответил он, и они с Ивановым рассмеялись, как малыши.
Эта веселость, присущая поездке на день рождения, должна была бы казаться мне, мягко говоря, неуместной. Но на деле я чувствовала что-то совсем иное, чем недоумение. Я чувствовала восхищение. Даже замирание. Перед грандиозным покоем. Легкостью. Принятием смерти. Принятием расставания. Механика такого чувствования, кажется, не вызывала у меня сомнений: в уме я относила настроение моих сотоварищей к их силе духа, достаточной для цинизма, для возвышения над ситуацией; я полагала, что все дело в мужестве, умении «держать себя в руках», «властвовать собою». Но, ошибаясь разумом, я не ошибалась сердцем – оно замирало перед величием людей, чьей силы духа хватало на единство с собственной болью. Боль не подчинила их себе. Не заставила их перестать быть теми, кем они являлись.
* * *
Иванов помог Паше выбраться из трамвая. Мы шли по Камской, к главному входу на Смоленское кладбище. Солнце горело празднично. Как на Пасху. На асфальте лежали наши острые тени. Скоро лето.
– Семенов… Помнишь его? – спросил Иванов у Дрона.
– Какой Семенов? Не знаю, какой Семенов у тебя… – отвечал тот, сопя от усилий при ходьбе.
– Блин, Пашунь, ну Семенов, у него еще мастерская была на Маяковке, там еще дом Утесова, наискось.
– А! – дедушка Паша встрепенулся всем телом. Его нептуновская борода и белые, капронового свойства космы распушились, как оперение возбужденного петуха. – Да-да-да, помню его, это он лепил такие хуи с глазами, да?
– Ну типа. Но не суть. Так вот у него была проблема с почками. Нужно было делать операцию. И он решил покреститься. Пришел сюда, в церковь. А его не покрестили. Сказали, что его имени нет в святцах. Ну он тогда пошел, тут недалеко, в армянскую церковь. И его там покрестили, без проблем. Сказали: ну был Руслан, а будешь – Рубен. Ну Рубен так Рубен.
Как только мы вошли на территорию кладбища, я почувствовала характерный запах тающего снега. Сугробы открыли поры и испускали в агонии последний холод – выбрасывали предсмертный яд. Лед гиб, лед потел, лед пах собою. А приоткрывающаяся земля пахла материнством. Она готова была рожать. Весна. Воздух, напитанный владычеством будущего. Народ тянулся к часовне.
– А это чего там такое? – спросил дедушка Паша.
– Это часовня Ксении Блаженной, – ответила я. – Там чудотворная сила. Люди со всех концов страны приезжают молиться. Здесь можно желание загадывать, если есть желание какое-то, можно прийти и попросить Ксению, оставить записочку. В основном Ксения любви покровительствует. Если девушке очень хочется замуж, то вот…
Дедушка Паша тяжело ступал по рыхлой льдистой грязи, растоптанной просителями.
– Она может сюда прийти и попросить о женихе, – договорила я.
– Кто она? – спросил он, сипло придыхая.
– Девушка. Которая хочет замуж.
Он остановился:
– А если хочется развестись?
Щеки мои загорелись, я растерялась.
– Не знаю…
Задрав голову, Дрон сощурился на солнце и сам ответил на свой вопрос:
– Тогда к армянам.
Иванов расхохотался. И кладбищенский лес отозвался эхом.
У могилы Строкова стояло человек десять. Еще шестеро курили поодаль, у мусорного бака, из которого торчала елка. Скомканно поздоровавшись, я отошла подальше от места, присела на относительно чистый цоколь чьей-то свежей могилы. Говорили, жена Строкова уже ушла, не дождавшись батюшки, который задерживался на полтора часа. В чащобах крестов, в упавшей сетью тени голых крон было холодно. Воздух в зазорах между одеждой и кожей быстро остывал. Мое пальто как мембрана – пропускало влагу, немолчный крик снега, рост природы и запах гниющих прошлогодних листьев. Я решила размяться, пройтись. На Богоявленской дорожке валялся бетонный крест. Громада высотой в человеческий рост. Его поза понималась однозначно: именно брошен. Будто кто-то швырнул его, как томик Пушкина, и он упал на середину дороги: проскользил, подняв пыль, и застыл. Невозможно было представить даже, какой силой его занесло на дорогу.
Минут через пятнадцать откуда-то со стороны Беринга показался спешащий батюшка. Полный, он бежал пришлепывая, грузно припадая на ноги, как пенсионерка за отходящим трамваем. Черная его креповая фата хлопотливо приподнимала крылья, открывая взору русый плантовский хаер. Судя по истошным поклонам, батюшка яро извинялся перед художниками за опоздание. Время службы я решила пустить на личные нужды. Заплетаясь в кустах и битых колоннах пантеонов, я шла к часовне – просить. Ледяная крошка хрустела под ногами, будто толченая театральная люстра. По мере приближения в грязных сугробах учащались цветные пятна – стаявшие свечи, искусственные розы, треснутые лампадки. Они горели, как самоцветы. Изумруды и рубины. Как застрявшие в голодном апрельском теле севера зеленые и красные пули. Кое-где, вмятые в снег, лежали увядшие цветы, прошлогодние или даже старше, неоднократно засыхавшие, неоднократно леденевшие, неоднократно размокавшие и засыхавшие вновь.
Во всем этом мусоре навязчиво проявлялось движение жизни. Даже на кладбище, у себя дома, смерть и то влачилась на вторых ролях. Прямее всего о ней заявлял только позвоночник – чей-то хребет, валявшийся в прогалине у стелы. Огромный хребет. Щербленый, заеденный грязью. Я принудила себя подумать: чей же, в конце-то концов? Телячий? Крупного дога? Откуда? Кто обгладывал здесь шмат спины? Кто так космически обделен очагом, настолько далек от стола? Или дворняга гнила годами на подступах к Мекке? Или никаких эвфемистических собак и коров: это позвоночник человека, варварски вздернутый из земли, как корень? Как выглядит человеческий позвоночник? (Надо было лучше учиться в школе.) Вот он: знак смерти. Вот так это и будет. Через твои кости пройдут, перешагивая, паломники. А ты вмешаться не сможешь, ты даже видеть этого не сможешь, потому что тебя самого уже просто не будет. Тебя изнасилуют без тебя. Какая, к черту, душа? Строков не видит нас и не слышит. Его просто нет, как нет и снега, лежавшего тут в прошлом апреле.
С восточной стороны часовни люди толпились у кованой кадки с навесом – конструкции вроде гигантской хлебницы на тонких чугунных ногах. Там, в насыпанном на дно песке, горели десятки свечей. Если не сотни. Их жар согревал лица дождавшихся своей очереди поставить свечу. Пламя кусало за руки. Но кожа, остервенев на холоде, анестезировалась, и боль проходила мгновенно. Женщины и мужчины аккуратно сменяли друг друга. Поджигали, ставили, отходили, поджигали, ставили… У некоторых не получалось, огонь сбивало ветром, но они пробовали поджечь снова и снова, и очередь за их спинами старалась не выказывать нетерпения.
Размеренность эту чуть потеснил уборщик – седой, клочковатый, отекший мужчина в тулупе. Он поставил под кадку два ведра и начал грубо, невзирая на огонь, сгребать догоравшие свечи, стопленный воск и нечистый песок. Ропща о чем-то под нос, он швырял порции выгребки в одно из ведер. Шлеп, шлеп. Заодно с огарками дед цеплял и свежие свечи, даже на четверть не источившие огня желаний. И некоторые люди, оставшиеся наблюдать за своим пламенем, видели, как поток их горячего усердия, пробивающегося острием язычка в сферы внимания Вседержителя, прерывается на полуслове. Видели. И боялись гневом и страхом довершить порушение момента. Все молчали. И только уборщик заходился в кашле, да слипшиеся восковые ошметки звучали, ударяясь о стенки ведра.
Наконец какая-то полная женщина в стеганом пуховике решилась:
– Не успеваете, наверное, выбрасывать… Трудно тут.
– Трудно? – переспросил он, со зловещим ехидством. – Это еще не трудно. Трудно в выходные. В выходные тут вообще… не успеваешь.
– Н-да… Я с Саратова приехала, вот пришла. А чего делать-то? Обойти, говорят, надо ее вокруг…
– Ставьте свечку, – голос уборщика зазвучал человечнее. – Три раза обойдите вокруг, загадайте желание. Прижмитесь к стене. Только одно желание, а не десять. Если десять загадаете, то ни одно не сбудется. Надо одно. Что-то самое наболевшее. То, что все время на уме… Что мучает…
Я пошла в обход. Под ногами ветер носил беленькие квадратики – записки, которые просители засовывали в щели кладки часовни. Женщины и мужчины сидели на скамейках, на старых, одичалых надгробиях и, расстелив на коленях журналы или портфели, писали свои просьбы. Некоторые в задумчивости поднимали лица, покусывали ручки. Некоторые застывали над чистыми листками, впадали в ступор. «Одно желание». «Самое наболевшее». Да! Люди жили своей болью день и ночь. Но, встав перед необходимостью облечь ее в слова, вдруг понимали, что она гораздо огромнее, расплывчатее и метастазированней, чем плоская бумага, обязывающая к последовательностям букв.
Кое-кто действительно обходил часовню кругами. Некоторые по стеночке, обтирая ее плечом. Некоторые на расстоянии вытянутой руки, ведя пальцами по игловатой декоративной штукатурке – сцарапывая кожу, оставляя след, чертя невидимое кольцо. Некоторые слонялись в радиусе пошире, просто шли, пошатываясь, вперяя остекленелый взор в запределы вселенной. Какой-то чернобровый парень бегал вокруг, хлопая ладонью по стенам через каждые метра полтора. Хлопал с нажимом. Принадавливая на овеществленное присутствие Господне. Можно подумать, он пытался оттиснуть на ладони встречу с Ксенией, как пытаются запечатлеть выпуклость ягодицы любимой – запомнить абрис важного перед огромным расставанием. Но самое сильное впечатление производили стоящие – лбом прислонившиеся к стенам. Круглые спины, пятки приставлены, носки вместе. Руками они прикрывали лица, держась за виски, будто всматриваясь в ночь из освещенной комнаты через стекло. Их согбенные фигуры и приковывали к себе, и смущали, как вид обнаженных. Так случалось при взгляде на силуэт, отрисованный гениальным графиком, – изображенная поза человека говорила больше и яснее, чем он лично мог бы сообщить о себе устно, изливая душу без умолку, трое суток подряд. Открытость внутреннего – вот что отличало стоящих лицом к стене. Обнажалась боль этих людей. Боль в чистом виде. Как сенсорное переживание. Будто панцирь личной истории каждого был разверзнут и отринут. Снята кожа события. И оставлено только чувство. Чувство непереносимого страдания. Это был вопль на частотах, не воспринимаемых человеком. Вопль клетки. Вопль миллиардов клеток, испытывающих боль.
Голуби сидели на крестах. С непосредственностью несушек. Особенно много птиц паслось у восточной стены – на размытой дорожке между могилами. Они топтались в глинистой луже: кто-то бросил им крупно рваный батон прямо в серую воду, густую, как блинное тесто. Голуби ворковали, толкали друг дружку, злились, склочничали. Брызгались. Когда кто-нибудь кормящий кидал партию крошек в сторону от дорожки – прямо в могилы, – часть голубей тут же срывалась, вспенивая жижу, и бросалась на свежачок. Насытившись, они гадили на надгробия, вылупив глаза. Эта своего рода неосознанная удовлетворенность жизнью смотрелась на здешнем фоне с особой дикостью. Там, где взошла молитва всех скорбящих, твари (божьи) облюбовали праздную, какую-то даже пляжную жизнь, с коротким циклом переживаний: от голода к сытости, от сытости к испражнению и снова к голоду. Такая легкость бытия! И вполне выносимая.
Я отложила мои тюльпаны на скамейку и подошла к стене. Прислонилась лбом. Я так и сказала: Ксения. Сказала, что не смогу прожить жизнь без любви. И следом поправилась: не не смогу, а боюсь. Мне страшно. Вот что я сказала. Я боюсь прожить без любви так же сильно, как боюсь быть солдатом, вернувшимся с тяжелой войны без обеих ног. Мне очень страшно. Мне настолько страшно, что я не могу пошевелиться. Страх представляется мне взрывчатым веществом, которым я нашпигована, как фаршем кишка: стоит пошевелиться, нет, даже просто вздохнуть, – и меня разнесет на куски. Справа послышался хлопок. За спиной меня, с ветерком, обогнула рука чернобрового мальчика. Хлопок послышался слева. Да. Но если, как мне показалось десять минут назад, Строков ни черта не слышит, то с кем же я сейчас говорю?
* * *
Батюшка еще не ушел – о чем-то беседовал в кругу мужчин. На гигантском замшелом камне стояла миска с пирожками. Соленые огурчики. Двое мятых, заработавшихся, хмурых художников разливали водку в пластиковые стаканы. Дедушка Паша курсировал от одной группки стоящих к другой, держа «бокал» по-бальному, чуть отставив локоть, как на танцах у графа Орловского. Предметом всеобщего разговора был вроде бы будущий памятник. Сама могила больше не сосредоточивала на себе внимания, и я отправилась возлагать цветы. Опуская на свежую насыпь свой букет, я засмотрелась на приоткрывающиеся зеленые листья. Освобожденные от газеты тюльпаны зашевелились. Стебли с резиновым скрипом разнимали свои одежды. Уже лежащие на рыхлой охристой земле, цветы открыли мне свои запотевшие пазухи, в одной из которых обнаружился маленький, но вполне полноценный отросток – плотно сжатый розовый наливной тюльпан. Четвертый.
– Пора его уводить, – сказал мне Иванов, глядя на Дрона, опрокидывающего очередной стакан. Дедушка Паша был в разгаре. Поминки увлекли его не на шутку.
– А как? – спросила я.
– Да никак, – улыбнулся Иванов. – Просто пойдем отсюда, будем идти, и он пойдет за нами.
Мы двинулись в сторону забора – границы с Малым проспектом.
– Когда-то я здесь жил. В школу ходил через кладбище. А зимой у нас тут физкультура была, на лыжах. А летом везде сидели бабушки, такие, в белье. Играли в домино, собачки их бегали… – Иванов окинул местность взглядом. – А потом к приезду Рейгана все отремонтировали.
Сзади послышались тяжелые шаркающие шаги. Одышка.
– Слушай, Клим, сынок… – окликнул дедушка Паша, нагоняя.
Мы остановились.
– А сколько Савицкий дал попу? – спросил он, поравнявшись, наконец, с нами. – Сколько этот дед получил за пятнадцать минут, что он махал тут этим… этой штукой… этим своим хуем на цепи? – Дрон никак не мог восстановить дыхание.
Иванов подал ему руку для опоры. И ответил:
– Понятия не имею.
– Я просто пытаюсь понять, прибыльный ли это бизнес?
– В любом случае тебе уже поздно начинать, – заметил Иванов. – Давайте-ка, пора. Надо бы где-то поесть, супчик.
В кафе играла армянская музыка. Дедушка Паша отстраненно прихлебывал суп с бараниной. Лапша соскальзывала с ложки.
– Сынок, Ваня, возьми коньячку?
– Не сегодня, – ответил Иванов совершенно спокойно. И, протянув руку через стол, снял с Пашиной бороды склизкий кусочек похлебки.
– Ты помнишь, я делал надгробие этому… Славику. Славику Баркану. Помнишь?
– Ну, допустим.
– Не, ты Славика не помнишь? Славик… его еще поперли из Союза за то, что он загнал талоны к стоматологу… заместо него лечился другой мужик, вообще левый, какой-то сантехник…
Иванов, подперев голову руками, любовался на Пашу не мигая.
– Вспомни, Славик, красавец. Плейбой. Он еще лепил такие хуи с глазами… Мощные такие! – отложив ложку, Дрон обрисовывал в воздухе над столом образы монументов.
– Паш, хуи с глазами вроде как Семенов лепил. Во всяком случае, сегодня я слышал, – заметил Иванов и прикурил с таким аппетитом, с каким отпивают первый глоток свежего пива.
Дедушка Паша лукаво улыбнулся, прячась в колоссальную бороду.
– Да, собственно, все мы лепим хуи с глазами, – пояснил он.
Посетители ели, стуча ложками по тарелкам. Некоторые сидели за столами, не сняв верхней одежды. Это было плохое кафе, первое от кладбища. Мы вошли туда без разбору, от холода. Дым. Духота. Красные скатерти, сползшие набок. Забитые солонки. Грязь, стаивающая под столами – с обуви на пол. Лед с песком, растертый под ёрзающими мужицкими сапогами.
– Так вот Славик был таким красавцем! – продолжил Дрон. – Ну… Ребята!.. Просто мужчина из этого… как? Из кинотеатра.
– Из кино, – поправил Иванов.
– Да, да-да. Славика любили все. И женщины, и мужчины. Обожали его. И вот на похоронах его любовницы бросали ему в могилу всякие вещи… Понимаете? Зажигалочки там, всякие помады…
При слове «помады» дедушка Паша провел пальцами по жирным губам. Иванов тут же взял салфетку и вытер Паше выпачканную руку. Тот жестом отклонил заботу: он был слишком увлечен рассказом.
– Ну послушайте. И вот. Они бросали. Просто швыряли туда это все, вот так… вот так… – он пару раз тряханул кистью, будто сбивая ртуть в воображаемом градуснике. – А жена прыгнула в могилу! И стала оттуда выбрасывать их вещи обратно. Рыдала и выбрасывала. Нате, нате вам, получите! Нате, суки! Наконец-то она дорвалась, поимела свое, наконец-то она дождалась.
– Чего? – спросил Иванов.
– Того, что он стал ее собственностью. Она безраздельно овладела мужем, – ответил дедушка Паша. И многозначительно покачал головой.
Официантка нервно смахивала с нашего стола крошки и пепел – резкими, суетливыми движениями, выставляя напоказ свою поспешность. Она проводила сухой тряпкой от центра стола к краю. Мусор летел в подставленный поднос. Скользкая, тонкая, дешевая ткань скатерти набегала к краю волнами, утягивая с прибоем солонку, салфетки и прочую оснастку. Это, по-видимому, страшно раздражало девушку. Дрон тем временем сластил свой кофе. Старческие, набухшие водкой пальцы не слушались, сахар рассыпался. Иванов не терял спокойствия. Девушка убивалась от злости. Солнце палило. Скатерти отражали свет. Мы будто сидели в одном большом тазу, вместе с красными тряпками, линявшими в горячей воде. Я знала, что это последняя встреча. Повода увидеться с Ивановым больше не будет. Дрон, наверное, скоро умрет. Я все чаще и чаще думала о Москве даже не как о земле обетованной, а как о Бецер-Рамоф-Голане – некоем далеком всепрощающем месте, прибежище грешников, убийц собственных судеб – тех, кто не смог жить своей настоящей жизнью; я еще не планировала бежать, но предощущала само наличие такой возможности – сбежать в то огромное златоглавое казино, где слабаков официально признают нормальными людьми. Я еще не знала, как именно забираются внутрь Москвы. Как всасываются в ее всепрощающее, богатое материнское тело. Плана у меня не было. Но очевидным представлялось: жизнь в настоящем городе – Петербурге – слишком трудна. Пора выбираться в страну Кокань. Словом, я чувствовала: этих великих людей, столь огромных по смыслу, огромных по содержанию, столь точных и сильных духовно, – этих живых богов я вижу последний раз. И весь ужас заключался в том, что даже своевременное осознание величия момента не давало возможности положить этот момент в карман.
* * *
Я жила у Полины Николаевны Савченко уже несколько месяцев. Три человека в одной комнате, метров восемь. Вообще теснота не тяготила меня, но в этот день, после кладбища и всего остального, в общагу не хотелось: блеснули стеклянные двери, Иванов вошел в метро, и я почувствовала себя человеком, снявшим наушники, – музыка оборвалась, слуху открылся город – автомобили, трение нейлоновых тканей, раскат железных колес по рельсам, обрывки речи, шипение газировки, дети. На место, освобожденное Ивановым, влез целый мир. Странное ощущение. Нечто вроде боязни открытого пространства. И я решила бежать за город. Сгинуть к Валечке. Рассказать ей обо всем. Я начала говорить с Валей еще в электричке. Итак: лучше Иванова никого нет. Нет, не так. (Ведь проблема была не в том, что он был лучше остальных, а в том, что он просто был. Иванов отличался от остальных мужчин так же, как отличается живой птенец от десятка столовых яиц.) Внутри моей головы уже вовсю крутилось кино: я видела свинцовый стол, гобеленовую скатерть, рваные васильки, Валины русалочьи глаза, отражающиеся в электрическом самоваре. Я слышала собственный голос: Иванов существует. Вот в чем суть. Он существует. Но он – женат. Он существует не для меня. Но сам факт существования! Живой представитель вида говорил о том, что вид не вытеснен из реальности. Просто ареал его обитания разорван и разряжен пространствами – большими дорожными полотнами, морями и массивами бетона. Плакать не о чем. Напротив. Существование Иванова вселяло надежду. Мир – это лес. Рано или поздно на дороге встанет зубр, амурский тигр, снежный человек или Иисус Христос. Так я скажу.
В эти минуты меня могла понять только Валечка. Вдруг, впервые за почти три года знакомства, я почувствовала необходимость говорить именно с ней. Выйдя из электрички, я чуть не побежала. Я ускоряла и ускоряла шаг, ледяная дорога трескалась под ногами. За заборами лаяли собаки. Мир – это лес. Валя знает. Сейчас-сейчас, сейчас ее кости, одетые в байковую рубашечку, хрустнут в моих объятиях. Вдруг я поняла, что могу говорить на Валином языке. Город не принимает. Мир – это лес. Иванов – это мужчина. Мужчина – это Иисус. Темнело. Голые кроны частных садов поднимались, склонялись за ограды и сползались навстречу, чтобы сомкнуться над головой путника, заслонить от него небо. Скорей бы калитка! И почему только раньше я считала Валю сумасшедшей? Теперь мне открылся ее язык, с чеканной ясностью. Это был самый обыкновенный шифр. Работавший на сжатие информации. Лексические единицы слипались в огромные котлеты. Страницы текста умещались в два-три слова. Я уже не старалась обходить и перешагивать лужи. Бежала так. Решила – высушу ботинки за ночь. Плевать. Но окна были забиты досками. Под дверью лежал половик в ледяной глазури. Стучать, кричать – не имело смысла. Понятно было: дом пуст. Как разоренный гроб. Этого я не ожидала. Это даже не приходило мне в голову. Дорога от дома до платформы занимала сорок минут. Начался дождь. Мелкий, вроде манной крупы. За день моя одежда выносилась. Ткани пропитались холодом. Не хватало только мороси. Кроме того, оказалось, что у меня нет сил. Наверное, они кончились около часа назад. Я прибежала сюда в агонии. И теперь, отрезвев, понимала, что едва успеваю к железной дороге до наступления темноты. Первый фонарь стоял в трех километрах. В отупении я вышла со двора. За калиткой на земле валялся тряпичный петрушка. Прошлогодние листья забились ему в желтые нитяные волосы. Пластмассовые глаза просили: возьми меня с собой. Но было слишком грязно. Опомнившись, я бросилась бежать со спринтерской скоростью. Капли дождя высыхали на мне, сгорали! Вскочив в тамбур вагона, я обернулась на улицу: в эту же секунду Шувалово поглотила ночь. От перенапряжения у меня чесались десны и болели уши. Двери электрички захлопнулись. Звезды на небе – зажглись.
* * *
– Вот, – хозяйка комнаты в Мошковом протянула мне смятый листик, протянула через порог, издалека, из другого мира, будто выставив руку из полотна, висящего на стене в Эрмитаже. Я развернула бумажку. Телефонный номер. Одиннадцать цифр. Межгород. Код ни о чем не говорил.
– А куда она уехала?
– Без понятия.
– А когда?
Старуха не стала утруждать себя ответом. Она просто потянула дверь на себя, вынуждая меня отступить. Хлоп. И последняя связь с Валей оборвалась. Я медленно повернулась на сто восемьдесят. Со времен моего последнего визита лестницу развезло еще сильней. Теперь она давала такого косого винта, что на ней вытошнило бы и канатоходца. Место, где мы целовались с Ивановым, зияло неопровержимой пустотой. Деревянные ступени. Огрызки балясин. Не первый раз при воспоминании о моменте прошлого я почувствовала нечто, смутно определяемое как жалость к себе. Кто и по какому праву отделял от меня прошлое? Почему я вообще имела свойство отделяемости от него? Собственно, отделяемости от самой себя! Почему фрагменты прошлого, оставаясь во мне навечно, мне не принадлежали? Грубо говоря, имея, я не могла воспользоваться ими – ни пережить заново, ни хотя бы увидеть со стороны. В силу этой своей неосуществимости фрагменты прошлого отступали к дальним, нечасто посещаемым краям сознания. Чертово сознание работало, как какая-нибудь дурацкая центрифуга. Вращаясь вокруг центральной оси, оно оттесняло факты к периферии, по ходу выжимая из них содержание – краски, слова, ощущения. В конце концов на галерах распластаны были какие-то уплощенные, выцветающие воспоминания, сухие фотографии. Хуже того: в отличие от фотографий, недоказуемые. Приобретшие характер недоказуемого.
Дверь открылась. Внезапно. Я даже вздрогнула. И обернулась. Хозяйка стояла в проеме, ни капли не опроставшись от германтовской манеры держаться.
– Заходи, – сказала она.
* * *
Хлеб, масло, сыр, конфеты. За окном билась капель. Я знала, что старуха решила почтить на прощанье память о моем участии в печальных событиях позапрошлого лета: уважить за то, что во время ограбления я стала фактором, сдерживающим ситуацию от провала в апокалипсис.
– Ну, как твой женатый, отдался? – спросила она, разминая папиросу.
– Нет.
– Господь велик.
– Откуда вы знаете, что есть Господь?
– А откуда ты знаешь, что нет?
– Не знаю.
Мы помолчали. Беломор чадил, как дурная печь. В тишине было как-то неловко откусывать бутерброд.
– Я вчера была на кладбище, на поминках. Мне кажется, нет загробной жизни. После смерти ничего нет. Одна чернота. Даже черноты нет. Просто вообще ничего нет.
Глаза старухи блестели сквозь завесу дыма. Два горящих угля в седом облаке тефры.
– Страшно умирать? – спросила она.
– Страшно.
– Младенцу тоже страшно.
– Какому младенцу?
– Которому предстоит родиться. Представь: сначала он нежится в теплой матке, без дела, без долга, без греха. Темно. Даже самый яркий свет, даже луч, направленный прямо в материнский живот, не проницает мглы. Сердце матери бьется, день и ночь, день и ночь, он слышит эти толчки, бум, бум, бум, бурлят околоплодные воды, потоки крови омывают его, как водопады, и сквозь этот шум иногда можно расслышать человеческие голоса, откуда-то издалека. Так живет младенец, и он, как и ты, уверен, что эта непроницаемая утроба – единственный из миров. И когда вдруг его выталкивает из матки, когда голову тащит к свету – в какую-то страшную дыру, через которую бьет ослепительный свет…
Облокотившись о край стола, она чуть подалась вперед:
– Знаешь, как ему страшно? Младенец тоже думает: это смерть. Там, где-то там, за пределами его мира, ничего нет! Ничего, кроме белого света, от которого режет глаза! И сердце его разрывается от страха! Он не хочет умирать. А если в утробе не один ребенок? А если там близнецы? И вот, представь, один уходит первым, в этот смертоносный свет, а второй остается и некоторое время думает, что расстался с самым родным и близким навсегда! Каково?
Дожевав, я очень тихо спросила:
– Можно мне записать то, что вы сказали?
– Чего? Говори громче.
– Можно мне записать ваши слова? В записную книжку… Я просто всегда так, записываю.
– Делай что хочешь.
Уже на пороге она сказала:
– Твою подругу жених увез в Ростовскую область, в какой-то волчий край.
Мне стало так больно, что я, кажется, даже оглохла. Старуха уточнила:
– Выблядка родители забрали в деревню, чтоб он не сдох от наркотиков в городе на Неве, забрали вместе с девчонкой.
Выбираясь из катакомб, я повторяла про себя: «Прощай, Мошков». А когда передо мною открылась Дворцовая, внимание тут же расточилось на панораму – пространство отвлекло мой наэлектризованный разум; по мере освоения пяти гектаров всемирного наследия сознание обесточилось и, пользуясь временным рассеянием, подсознание дало оглушительный залп: как она могла?! Как она могла уехать? Бросить меня здесь? Теперь, когда я наконец-то постигла всю ценность нашего знакомства. Перейдя площадь, я вошла под арку Главного штаба, направляясь в переговорный пункт на Большой Морской.
– Алло! Алло! – В трубке трещало. Похоже, телефонистка соединила меня с адом. Черти точили ножи, скребли лопатами асфальт. И где-то там, в запределах яви, в симфонических толщах шума, едва выделялся детский голос Валечки.
– Ты меня слышишь? – кричала я в далекий «волчий край». – Тебя не обижают? Але! Валь, что ты там делаешь?
– Учусь доить коров, – ответила она, счастливо смеясь.
Я вышла из здания. Капало с крыши. На асфальте блестели разбившиеся сосульки. У меня была назначена встреча с Улей. Через полчаса у Инженерного замка. Сигарета горчила на солнце.
* * *
По скверу носился ирландский сеттер. Хозяин собаки, заложив руки за спину, медленно прогуливался мимо памятника Петру. Деревья имели нездоровый вид. Их корежило. Черные ветви росли неровно, в изгибах имели утолщения, по форме напоминающие человеческие колени, пораженные артрозом. В их старости было что-то глубоко соответствующее Инженерному замку: создавалось впечатление, что мы прохаживаемся по черепу Горгоны, волосы которой растут по неизвестной причине вверх: тысячи змей, взвитых в голубое небо, охваченных единым эпилептическим припадком. Фасад, выходивший на набережную Фонтанки, был выкрашен в холодный розоватый цвет. Сразу же за углом, с северной стороны дворца, основной тон покраски менялся на более теплый, бестревожного персикового оттенка. Стены различались между собой, как различались бы не отстиравшиеся пятна от французского и итальянского вина. Я не знала, имела ли эта разница в красках отношение к искусству или к этапам реставрации, прерванным в разные годы, но, как бы то ни было на самом деле, в этом «забавном» виде раскрывался весь Петербург – полное пренебрежение к собственной внешности, проистекающее из безграничной уверенности в себе.
Какой-то парень, встав к дереву потолще, готовился помочиться на ствол. Мощная струя, судя по триумфально поднимающемуся пару, имела температуру кипения. Заметив происходящее, Уля вытянула шею и закричала:
– Ай-яй-яй! Как не стыдно! Прекратите немедленно! Вы в Петербурге! Негодник…
Это ужасно насмешило меня и в то же время немного напугало. Мужчина, прерванный в разгаре облегчения, озираясь, кое-как заправлял член обратно в брюки. Наскоро припрятав неоценимый орган, «негодник» бросился прочь, прибирая туалет уже на бегу.
– Чего веселишься? – спросила Уля.
– Да я не веселюсь особо.
– А не веселишься чего?
– Знаешь, мне не до веселья.
Рассказывать про Валечку не хотелось. Уля не понимала моей привязанности к «больному человеку». Это казалось ей блажью, игрой в широту души.
– Все думаешь о своем Иванове? Знаешь, я хочу тебе сказать, что твой неописуемый восторг перед этим человеком основан только на непонимании.
Мы обошли замок дважды. И остановились на набережной, не доходя до Инженерного моста метров двадцать. В лужах метались отражения пролетавших над нами птиц. Лед, шедший по реке в сторону залива, был белым и чистым, как сахар. Наверное, он пришел из мест, где некому было бросить бычок. На одной из льдин сидела утка. В отличие от остальных, фланирующих по водам, она предпочла путешествовать, не прикладывая усилий. От одного только взгляда на нее изрядно холодало. Уля облокотилась о парапет. Она смотрела на другой берег и пожимала руку рукой. То правую левой, то наоборот. Кожаные перчатки цвета черного шоколада благородно поскрипывали – едва слышно, чуть дыша, соблазняя ум той нежностью, пониманием и комфортом, которые способна дать только очень дорогая, качественная вещь.
– Ты говоришь о какой-то необыкновенной честности, прямоте, открытости, о том, что он никогда не играет. А это всего лишь неизвестная тебе игра. Неизвестный тип ведения игры. Ты просто не встречала таких людей. Вот и все.
– Почему ты не допускаешь, что человек может быть таким, какой он есть? Почему все должны вести какую-то игру? Ведь есть же свободные люди.
– Да? – она вскинула голову. – Например?
– Например, Женечка.
– Женечка? А что ты знаешь о Женечке? Ты слышала, чтобы Женечка когда-нибудь рассказывала о себе, а не о соевом мясе? Кто она? Какая она? Что она позволила узнать о себе? Все три года нашего знакомства Женечка только смеется над чужими шутками.
– Женя никогда не зависит от того, что скажут другие, она никогда не делает и не говорит того, что от нее ждут, или… для того, чтобы производить какое-то впечатление, чтобы влиять на мысли людей, она абсолютно свободна.
– Она абсолютно зависима, – это прозвучало категорично. Установочно. – И… есть в ней что-то, что делает эту зависимость тяжелой. Она ничего не понимает. И непонимание переживает мучительно, до боли, до крика. Только это скрыто. Спрятано за умением это скрывать. Я поражаюсь одному: где она этому научилась?
– Странно. Ты одна так думаешь, больше никто. Никому в голову не приходит… это же очевидно: Женя – уникальный человек. И ее уникальность в том, что она гармоничный человек, она всегда говорит только то, что думает, между ее мыслями и словами нет никакой дистанции. И Иванов такой же. Просто есть такие люди. Именно поэтому их все так любят. Поэтому им везет.
– Что значит везет?
– То и значит. Что? Им везет в жизни.
– То есть как? Позволь, а тебе не везет?
– А мне не везет. Никогда не везло. И не везет. Ни в чем.
Годы спустя я увидела эту сцену объективно. Мне было двадцать три. Ей – за тридцать. Двое детей. Муж в тюрьме. Отец в гробу. Дом, в котором прошло ее детство и из которого ее вышвырнула собственная мать. Проституция. Туманные перспективы. Надвигающаяся середина жизни. Красота на излете. Ответственность. Одиночество. Несбывшиеся мечты. И вдруг – моя претензия на невезение! В этом проявилась какая-то постыдная узколобость (которую мне так и не удалось простить себе впоследствии). Но тогда, у балюстрады, я видела только эти чертовы шоколадные, изнеженные перчатки и не чувствовала ничего, кроме обиды.
– Приведи конкретный пример. Конкретно, в чем не везет? В чем это выражается?
– В том, что Женя работает официанткой за двести рублей в день. А я – за тысячу в месяц работаю хрен знает кем.
– Ну так пойди и устройся в ресторан.
– Да кто меня возьмет? В том-то и дело, что ей повезло, ей попалась эта работа… Со мной таких чудес не происходит никогда.
– Вот если за месяц ты обойдешь полета ресторанов Санкт-Петербурга и тебя не возьмут ни в один из них, то тогда ты сможешь привести мне этот факт как пример определенного невезения.
– Да зачем полета? При чем тут полета? Женя работает в одном из лучших ресторанов, там огромные чаевые, бесплатное питание, развозят по домам, ну ты же не понимаешь… У них начальство офигенное. В других ресторанах такого нет.
– Во-первых, ты не знаешь, как в других. Во-вторых, тебя возьмут и туда, где работает Женечка.
– Откуда такая уверенность?!
– Боже мой, сходи туда завтра, и тебя возьмут. Завтра же.
Я положила ладонь на гранитную тумбу. Что ж. Если у этого города есть сердце, мне хотелось его услышать. Но сколько ни сосредоточивалась я на контакте кожи и камня, почувствовать толчки не удавалось. Да, город старел. Шелушился слоями времени. Усложнял и усложнял свою красоту, накладывая на тело шрам за шрамом, шов за швом, грим за гримом, приобретая с каждым новым витком истории все больше и больше последствий пластических операций, недоделанных, брошенных на середине. Город не скрывал возраст – напротив, демонстрировал все три свои сотни лет единовременно, давая возможность рассмотреть себя в деталях, вплоть до исподнего, вплоть до костей. Он мучил человека изобилием информации. Но это отнюдь не означало, что внутри него билось живое сердце. В нас, в людях, было не больше судьбы, чем в утках. Никакое сердце гранита не билось о нас. Я вытащила из кармана блокнот и записала: Людям кажется, что у красоты есть сердце. Но это не так. Зачем жить в ногах у красоты, если она не может дать тебе ни капли тепла? Так только больней. Возможно, меня тронула гениальность собственной мысли, возможно, я перенервничала из-за Вали, возможно, день за днем сдерживаемая жалость к себе прорвала наконец оковы, но, так или иначе, я заплакала. Горячие слезы закапали мне на руки и на пальто.
– Город не принимает, – сказала я.
– Что, прости?
– Петербург не принимает меня.
– Ха-ха! Любопытно. Каким это, интересно знать, образом он может кого-то принять или не принять? Кто сказал тебе эту чушь?
– Никто.
– Это всего лишь город. Вода и камни.
– Но ты же сама говорила, что Васильевский остров – это остров спасения.
– Да. И не устану это повторять. Но, заметь, я никогда не говорила, что Васильевский остров изгнал меня. Ты знаешь, когда мы с папой туда переезжали… я когда впервые увидела улицу Репина… Она такая маленькая! Крохотная! И такая красивая! У меня просто ноги подкосились. Похожее переживание со мной случилось только еще один раз, когда я увидела гетеру Фрину Семирадского. Какая красивая женщина! Она внушает непереносимый восторг, видеть ее – подлинное счастье.
Ульянины глаза блестели. Кончик носа стал розовым. Белые волосы, опьянев на сыром воздухе, чуть завились в отдельных отбившихся прядях.
– Я уеду в Москву, – вдруг сказала я. И сама удивилась этим странным словам – неадекватным реальному положению дел.
– Давно пора, – ответила Уля таким тоном, словно речь шла о пустяковом усилии.
Она протянула мне носовой платок.
* * *
Я так и не смогла принять отъезд Вали. Сначала просто не звонила ей – не могла преодолеть свою боль. Потом потеряла номер телефона, потом забыла название поселка, в который она уехала, потом забыла, как правильно пишется ее фамилия, а потом и вовсе забыла о ее существовании. Десять лет спустя, при уборке, Валина фотография выпала из книги. Я подняла все старые блокноты. Но телефона не нашла. Зато нашла еще одну старую фотографию: я, Регина и Женечка в Царском Селе. Замороженный пруд. Наши пакеты, брошенные на лед. И мы, катающиеся, скользящие на ботинках, в расстегнутых шубах, без шапок, на фоне Камероновой галереи, сквозь тонкую колоннаду которой просвечивает закат еле добивающим персиковым оттенком через завесь косого снега.
Перелистывая старые записи, я наткнулась на размышления о скульптурах Строкова. Непонятно в каком году, при жизни его или уже после смерти, неряшливым широким почерком поперек разлиновки было написано: Страх надвигающейся катастрофы можно описать. Не в смысле вербализовать. А в смысле – можно. Человек может рассказать о том, что он боится быть разрезанным на куски или раздавленным в лепешку. Он может не только не скрывать это, он может сделать это предметом искусства, например – искусства лепить. То есть не будет ничего плохого, если мы расскажем друг другу о том, что мы боимся быть растерзанными львами или бомбами. Мы можем жить, не скрывая этого. Мы имеем право не подавлять страх. Точнее, это право никто у нас никогда не отбирал. Мы всегда могли пользоваться им. Табу, наложенное на него, – фикция. Фантом. Страшилка. Мы можем говорить о том, как нам страшно, и о том, какой грязный этот страх. Нет совершенно никакой необходимости делать вид, что мы чисты, смелы. Как и нет необходимости скрывать, что ты любишь кого-то, хочешь кого-то, а тебя не хочет никто, нет необходимости скрывать то, что ты жалок, или то, что тебе больно быть негодяем, на выходе мы понесем ответственность отнюдь не за чувства, а за их влияние на наши действия. Никто не будет взвешивать грязь – спрос будет за то, куда она была сброшена – как мы управляли своими грязными чувствами. И смогли ли слепить из них козлов.

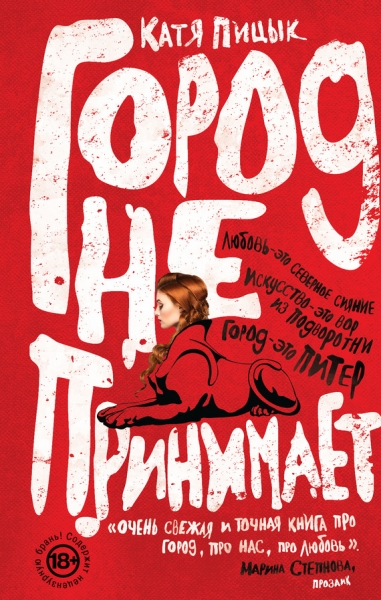

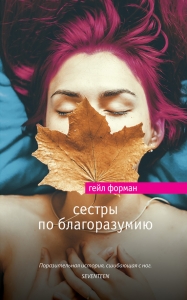

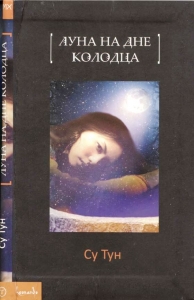

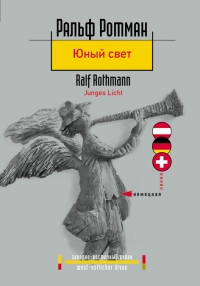

Комментарии к книге «Город не принимает», Катя Пицык
Всего 0 комментариев