Мария Метлицкая Его женщина
© Метлицкая М., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Добрый день, Максим Александрович!
Простите за беспокойство. Впервые пишу писателю, да еще уважаемому и очень любимому!
Поверьте, я никогда не писала незнакомым людям. Да и вообще никогда не писала писем.
Хотя «незнакомым» я вас назвать не могу – мне кажется, что мы с вами давно и близко знакомы! Понимаю, что выглядит это смешно. Наверняка таких, как я, у вас сотни и даже тысячи. Тысячи тех, кто хочет выразить вам свою благодарность, почтение и любовь. Не сомневаюсь в этом ни одной минуты! Ваши книги, полные искренности и живой, пронзительной, жизненной и человеческой правды и, как мне кажется, щемящей откровенности, позволяют мне считать вас человеком знакомым и близким.
Не подумайте бога ради, что я принадлежу к той когорте навязчивых и чокнутых почитательниц, фанаток, хватающих бедного автора за рукав. Нет, честное слово, это не так! Просто вы так затронули мою душу, что осмелилась вам написать. А для чего я это делаю – не понимаю, ей-богу… Уверена, что вы безумно устали от вечных назойливых поклонниц и поклонников. Но что поделать – наверное, это одна из сторон медали славы.
В своем сумбурном и бестолковом письме я просто хотела сказать вам спасибо, выразить свою признательность и благодарность. Спасибо за честность, за то, что не пытаетесь сделать людей и жизнь краше, белее, чем они есть. Не стараетесь потрафить читателю, польстить, наивно обнадежить его, заморочить ему голову, окуная в несуществующий мир грез и фантазий.
Это, надо сказать, большое мужество. Большое мужество не стараться понравиться всем.
Только что я прочла ваш последний роман. Как я ждала его, считая дни до его выхода!
Как вы поняли, здесь я говорю про вашу последнюю книгу – «Не позволяй мне уйти».
Простите, но почему-то мне кажется, что здесь много автобиографического. Возможно, я ошибаюсь. Это, наверное, глупое предположение. Хотя не может человек, не переживший подобное, так пронзительно, глубоко и честно об этом писать!
Мне многое созвучно в этой книге – вас, наверное, это не удивляет. И об этом вам тоже пишут, уверена.
Прочитала про вас в Википедии – правильно, все совпало. Мы с вами примерно одного поколения, мы – земляки, я тоже москвичка. Мы родились и выросли в одной стране, и это многое объясняет. Нам, столичным жителям, многое было доступно – выставки, театры, музеи. Мы слушали одну музыку, смотрели одни и те же фильмы, читали одни и те же книги – это я почерпнула из ваших интервью. Знаете, так странно – наши вкусы совпали во многом! Я, как и вы, с большим трудом прошла через девяностые годы. Впрочем, тут нет ничего удивительного – тогда так жила вся страна. Вся наша бедная страна, в очередной раз переживающая нищету, унижения и немыслимый бардак.
И все же мы выжили – вопреки всему. И после всего этого ада, сумятицы, всеобщей растерянности, страха, почти катастрофы мы смогли выползти, подняться на ноги, устоять и даже сделать карьеру. Правда, не все, увы.
Мне близки ваши представления о человеке и мироустройстве – здесь мы снова совпали. И это бесконечно меня радует.
Ой, перечитала и испугалась. Мне стало страшно неловко… Как же я загрузила вас, господи! Зачем вывалила на вас весь этот бред? В который раз извиняюсь перед вами! Но править ничего не буду. Если начну – точно не отправлю, удалю письмо.
Простите за сумбурность, за сбивчивость, за путаный слог. Простите за мой душевный порыв. Еще раз спасибо за вашу книгу, за ваш прекрасный и тяжелый труд, который помогает нам выживать и оставаться людьми!
С огромным уважением и благодарностью,
Марина Николаевна Сторожева, учитель музыки.
Спасибо!
Марина
Господи, зачем? Зачем я написала ему? Глупость какая… Стыдно.
Вечно мои душевные порывы, от которых мне потом только стыдно.
И жизнь ведь ничему не научила – вот он, пример! Сколько раз мордой об стол – и опять.
Одна надежда – он не прочтет. Конечно же, не прочтет. Сколько их таких, сумасшедших поклонниц! Сколько старых и молодых дур, всю жизнь ищущих смысл жизни и ждущих ответа, пишут ему. Имя им – легион.
Впрочем, нет – я ответа не жду. Значит, кое-что в голове осталось. Какие-то крохи, остатки разума. Климакс. Вот его проявления.
Конечно, климакс и одиночество. И снова мои сомнения. Я никогда ничего не могла решить сразу. Я никогда не могла сразу решиться! Всю жизнь я толкалась на пороге, стесняясь или боясь толкнуть дверь рукой и зайти. Всю жизнь я была стеснительной, закомплексованной. Всю жизнь я чего-то боялась. Я никогда не умела настаивать, требовать. Просить. Я стеснялась себя обнаружить. Всю жизнь я была страшной трусихой. А тут – на тебе, осмелела!
Господи, но как же неловко! Не смогла справиться, остановить себя, дать себе по рукам. Дура – она и есть дура.
Да и черт с ним, с письмом! Что я себя терзаю? За что стыжу? Подумаешь – написала! Да, под влиянием эмоций и настроения. Тоже мне, преступление! Еще одна сумасшедшая тетка. Наверняка он давно к этому привык. Посмеется и письмо удалит – спам. Делов-то с копейку! А скорее всего – не прочтет. У него – в отличие от меня, бездельницы, – куча всяких важных дел. Встречи с читателями, командировки, поездки. В конце концов – серьезная работа. Семья – жена, дети.
Ладно, хватит себя корить! Прости себе минутную слабость. Вот так всегда – сделаю что-нибудь, а потом… сжираю себя, как самка богомола сжирает самца.
Хватит, все. Займись-ка делами, Марина!
Какими делами, господи? Ах да! У меня много дел! Только – каких?
Как же я ненавижу праздники! Просто до дрожи, до тошноты. Именно в эти дни, когда страна отдыхает, предается веселью, зазывает гостей, накрывает пышные столы, поет и танцует. Когда все радуются друг другу, обнимаясь в тесной прихожей, и с кухни тянет пирогами и жареной уткой, а под елкой лежат подарки и разгоряченные, усталые хозяйки торопливо поправляют прическу. Когда возбужденные мужчины торопятся домой с букетами тюльпанов и гвоздик, нервно нащупывая и проверяя наличие картонной коробочки с духами в кармане плаща. А их ожидающие праздника и подарка нервные супруги поглядывают в окно. Когда влажно и свежо пахнут молодые клейкие первые листочки на деревьях и семья съезжается на дачу, открыв новый сезон, и шумно от радостных возгласов и вскриков, все душат друг друга в объятиях и торопятся усесться за стол, накрытый в саду, под яблоней. И кипит самовар, и пахнет укропом из банки с малосольными огурчиками, и в бидоне настаивается, ждет своего часа окрошка, и тянет дымком от мангала. Вот тогда мне особенно плохо. Вот тогда я особенно остро чувствую, что я – одна. Одна на всем белом свете. Невзирая на наличие дочери, матери и любовника. И все эти праздники, семейные и государственные, для меня сплошная мука и унижение.
А ведь есть еще и мой день рождения! Как я ненавижу этот день! Как хочу, чтобы его вообще не было на календаре – эх, если можно бы было стереть эту дату! Как я жду утра следующего дня, радуясь, что все наконец прошло! А ведь когда-то я его очень любила! Когда все было по-другому, когда у меня была семья. Когда все были вместе. Когда вообще все было! Не просто по-другому – просто все было. И все еще были…
Как я ждала этот день, как готовилась к нему – покупала новое платье, делала прическу, пекла пироги. И ждала – мужа с работы, дочку из садика, маму, гостей. Как много тогда в моем доме было людей! Родни, приятелей – Сережкиных и моих. Было громко, весело, вкусно. Все танцевали. Сережа приглашал мою маму. А она очень смущалась. Как это было давно! Словно сон.
Сейчас все по-другому: другая жизнь, одиночество. Полное, тотальное одиночество. При живых близких, при любимом вроде мужчине. «Вроде» – точно сказано. Самой стало смешно. Вся моя жизнь – вроде. Вроде как есть, а на самом деле…
Дочь. Моя дочь Ника. Она тоже, слава богу, есть! Господи, что за фраза получилась – самой стало страшно. Нелепая, страшная, но – правдивая. Вроде как. Почему вроде? Да потому, что она, моя дочь, далеко! За тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. На краю света. Далеко от меня. Это, конечно, фигура речи. Полтора часа, если по пробкам. Ну, в крайнем случае – два. А видимся мы раз в месяц, не больше. Даже реже – я ей не нужна. Совсем.
Короткий звонок раз в три дня: «Мам, ты нормально?»
«Нормально», – отвечаю я, зная, что все остальное ей неинтересно.
Наверное, я сама виновата.
«Как бабушка? Нормально?»
«Нормально, – снова отвечаю я. – У нас все нормально. «Как у тебя?» – спрашиваю я.
«Нормально», – отвечает она.
Она произносит это слово, как бы предупреждая мои расспросы. Я произношу это слово, потому что она не желает знать правду. Ей неинтересны мои жалобы и нытье.
Почему так получилось? Не понимаю. Где я пропустила, в чем виновата? Нет, вру – понимаю. И когда пропустила – понимаю, и в чем виновата. И все же обидно – девочка, дочка. Молодая женщина. Я так мечтала, чтобы мы были подругами. Ну да ладно. Что я скулю? Пусть у нее будет все хорошо, пусть она будет здорова. Пусть будет счастлива – даже с этим. Которого я еле терплю. Пусть! А остальное я переживу – не впервой.
Мама. Мама хворает – давление, бесконечные кризы. Бедная мама! Мне хочется, чтобы она меня пожалела. А ей уже не до меня – мама борется с болезнями. Отыскивает какие-то народные рецепты и средства, покупает сомнительные газетки, слушает бабок на лавочках. Настаивает травки, собирает калину, покупает медные браслеты и прочую чушь. Я с ней спорю, но без толку. Врачей мама не признает. И как с ней бороться? Не понимаю.
Любимый мужчина – тот, кто «вроде как». При этом словосочетании мне становится смешно. Любимый мужчина. Нет, никогда я не называла его так! Потому, что никогда он не был любимым мужчиной. Любовником? Наверное, да. Какая огромная пропасть между этими однокоренными словами! Любимый – любовник. А у кого-то ведь сочетается! Но не у меня.
В этой истории вообще все страшно запутано, сплетено, завязано, но ни радости, ни восторга, ни удовольствия. Одно название – у меня есть любовник. Да, есть. Мы вместе. И в то же время поодиночке. В моей жизни его практически нет. Подарки, рестораны и даже поездки не в счет. Ничего плохого в них нет. Но я не из тех, кого это здорово возбуждает. При этом мы с ним, скорее всего, привыкли друг к другу. Так все и тянется – кое-как. И ничего невозможно изменить, ничего!
Наверное, это и хорошо. Лучше нам ничего не менять.
Он женат. У него были огромные, неразрешимые трудности – это правда: больная жена, дочь, растущая без материнского глаза, непростая теща и очень и очень ответственная работа. А тут еще я! От меня должна исходить только радость. Покой. Позитив. Я должна встретить и проводить его с улыбкой. Покормить, пожалеть. Ублажить. Иначе зачем я ему вообще нужна? Чтобы слушать о моих тревогах и страхах? Мигренях и приливах?
У него и своих проблем выше крыши. Я для радости, для удовольствия.
А какое от меня удовольствие, господи?
Мне хочется, чтобы меня пожалели. Посочувствовали, погладили по голове. Просто выслушали – я бы уже была рада!
Но нет. Сочувствовать можно только ему.
Это тянется долго и трудно, с усилием – как натянутый резиновый трос или стальная и крепкая пружина: отпустишь – шарахнет по тебе. И будет еще больнее.
Ни у кого не хватает сил разрубить, разорвать. Мы все жуем и жуем эту давно несладкую жвачку, как советские дети жевали резинку, потерявшую вкус и цвет. Мы приклеиваем, прилепляем ее к спинке кровати или к столу, чтобы завтра достать, но – невкусно. Мы оба боимся одиночества, которое нам хорошо знакомо. Но мы по-прежнему одиноки и не хотим признаться в этом даже себе.
Кто я? Обычная женщина, каких миллионы. Сохранившая фигуру и стройность ног. Светло-русая и сероглазая. Ничего значительного из меня не получилось, увы… Мне сорок пять, я – неудавшийся пианист и концертмейстер, в данный момент – учительница музыки в районной школе, неудачница и лузерша, как теперь говорят.
Я пишу незнакомым мужчинам-писателям проникновенные и слегка истеричные письма, обнажая в них свою душу. На что я надеюсь? Что меня наконец кто-то поймет?
Нет, это не так – никаким «мужчинам-писателям» я не пишу. Я написала впервые в жизни письмо незнакомому мне лично и очень известному человеку – писателю Максиму Ковалеву. Непревзойденному мастеру современной прозы – как его называют. А для чего – не знаю сама. Порыв души – так я объяснила. Всегда меня подводили это «порывы».
В общем, такие дела.
Максим
Как поздно начинается день. Как непозволительно поздно, особенно в моем-то возрасте! Когда каждый день на счету, когда нужно ценить каждый час, когда так мало осталось времени, причем на все, в том числе на саму жизнь. Мне уже пятьдесят четыре, на следующий год юбилей. До чего обидно так палить время! Как я небережлив, как угождаю своим желаниям!
Никак не могу вытащить себя из постели. Просыпаюсь я рано – часов в девять, не позже. Но тут начинается «процесс» – не открывая глаз, я пробую снова уснуть. Не получается. Караулю сон, пытаюсь не двигаться – замираю. Не выходит. Переворачиваюсь на другой бок и «считаю слонов» – минуты три, не больше, понимая, как это смешно. Тяжело вздыхая, шарю рукой по полу и нахожу книжку – какую-нибудь, мне все равно. Но точно не свою.
Пробую читать – удовольствия никакого. Читать с удовольствием получается только поздно вечером, перед сном.
Закипаю от раздражения и наконец встаю. Шаркаю тапочками, покрякиваю от возмущения и ползу на кухню перекурить. От дурной привычки никак не избавлюсь, если честно, просто не хочу.
С превеликой тоской я смотрю на улицу. Под окном двор: яркие грибки песочниц, качели, карусели, какие-то тренажеры типа шведских стенок, брусья, «козлы», чтобы детвора развивалась. Уцелевших лип и тополей ничтожно мало, но и они увечные, безобразно обрезанные, с обрубленными кривыми ветками. Как инвалиды после ампутации. Зачем? Зачем и кому нужна эта кастрация? Я возмутился – господи, кому и когда они мешали? Объяснили – чтобы не было пуха, чтобы он не залетал в окна квартир, не стелился мягкими и легкими сугробами во дворе – лишние усилия дворнику.
Я вырос в этом дворе. Здесь вырос мой отец. Здесь, на зеленой шаткой скамеечке, сидела по вечерам моя бабка. Моя красавица бабка – ужасная стерва, надо сказать! Сидела и няня. Иногда – мама. Но редко, увы. И не было ярких песочниц, каруселей, шведских стенок и прочего. Были одни качели – два деревянных столба, врытые в землю, и самодельная люлька-качалка, сооруженная из корыта фронтовиком дядей Васей, дедом моего дружка Петьки Васильева. Петьки уже давно нет на свете. Что говорить про его деда?
Во дворе никого еще нет – рано. Позже, часам к двенадцати, выползут мамашки с колясками и малыми детками, подтянутся бабки – из тех, кто остался. Осталось их мало, этих старух. Почему? Куда они делись? В моем детстве их было полно – не хватало лавочки. Соседки-подружки придерживали местечко для «своих», и это было смешно. Те, кому места не досталось, ругались, проклинали друг друга, желали напастей и смешно обзывались, вспоминая старые обиды. Но через какое-то время наступал мир – бабки сидели рядком и теперь уже проклинали мужей и невесток, зятьев или другую родню.
Нам, пацанам, они казались вредными и даже злобными – грозили палками, шипели, посылали нам вслед проклятия. Но если кто-то из чужаков или своих нас пытался обидеть, бабки вставали стеной! И, кстати, на праздники или свои именины старушки всегда выносили из дома пирожки и конфеты. Ну а потом снова грозили самодельной клюкой.
Смешное время. Доброе время. Да, все-таки – доброе.
Как-то получилось, что в нашем доме жили разные люди, и самые обычные, и «непростые», важные дядьки, которых привозили на казенных машинах и чьи надменные жены, высоко подняв голову, спешили куда-то, взмахивая полами каракулевых богатых шуб. Была одна из таких – красавица и модница невероятная: высокая, стройная, с длинными ногами в блестящих шелковых чулках, с белокурыми волосами, уложенными в замысловатую сложную прическу. За ней всегда тянулся шлейф сладких духов. Когда она проходила, двор замолкал. Ее провожали взглядами все – застывали мамашки с детьми, жадно разглядывая ее наряды и вдыхая неземной аромат ее духов. Замолкали сварливые бабки на лавке. Девчонки каменели и не успевали захлопнуть рты. И столбенели мы, пацаны. Так и шла она по замершему и тихому двору, ни на кого не обращая внимания.
Звали ее Маргаритой. Помню и ее муженька – невысокого, ладного крепышка, кудрявого блондина с улыбкой на простоватом и добром лице – этакий Ванька, Иван-молодец, добрый герой русских сказок. Домой его доставлял шофер. Крепышок бодро кивал старушкам, сидящим у подъезда, и всегда справлялся о здоровье. Потом выяснилось – этот добродушный крепышок, сотрудник органов, бил свою красавицу Маргариту смертным боем. Только не по лицу – не дай бог! – по спине, по груди, по ногам. И однажды забил до смерти. Говорили, что ревновал. Можно в это поверить. Мертвую Маргариту никто не видел – ее увезли в судебный морг и хоронили оттуда. Крепышка тогда уже взяли.
Потом во дворе появилась мать Маргариты – молчаливая, суровая женщина, после смерти дочери и ареста зятя переселившаяся из коммуналки в их роскошную квартиру. Жила она в этой квартире одна. Мать Маргариты ни с кем не общалась: сделает пять кругов по двору и – обратно в подъезд. Ну ее можно было понять – что обсуждать и с кем?
Белокурая Маргарита – бесподобный и сладкий подростковый мираж. Вожделенная всеми, желанная всеми. И такая судьба.
Была еще тетка из директоров – кажется, кондитерской фабрики, – хмурая, низенькая, некрасивая, хромая. Эта ни с кем не здоровалась. Говорили, что у нее тяжело болен сын – вроде бы шизофрения. Муж сбежал к молодой, как это часто бывает. Эту тетку тоже привозила казенная машина.
Кстати! Когда она вышла на пенсию, с большим удовольствием сидела на лавочке у подъезда. И даже общалась с нашими бабками. Чудеса.
Был еще врач, профессор – Егор Петрович Лигин. Известный уролог. Мы дружили с его сыном, тоже Егором. Нормальный был парень, без пафоса. В начале восьмидесятых женился на англичанке и свалил в Соединенное королевство. Помню, как приезжал на похороны отца. Мы с ним тогда и увиделись, потрепались на поминках. Не самое подходящее место, правда. Но Егор был невозмутим и не проронил ни единой слезы – наверное, отвык от отца. В кабаке, где проходили поминки, показывал фотографии жены и детей и охотно делился впечатлениями о заграничной жизни. В доме жила семья Васильевых – дед Василий, наш дворник, его сын Федор, сноха Катерина и внук Петька, мой друг. Васильевы представляли «простую» часть населения нашего дома: дед дворник, сын токарь, а сноха – продавщица в пивном ларьке. Сын и сноха поддавали.
Была семья Липников – Семен и Дора. Хорошая, дружная, простая, рабочая семья. Семен был отменным скорняком – у него все наши дамы шили шапки, а Дора работала в бубличной. Ах, какие бублики она нам приносила! Это называлось некондиция, брак. Но как же вкусна была эта некондиция! Смуглые, чуть подгоревшие, усыпанные маком, еще теплые бублики. У них была дочка Сима – смешная, конопатая, черноглазая. Тощая и нелепая Симка. А потом эта Симка превратилась в красавицу. Мой друг Петька в нее влюбился. Но у них не сложилось – Симка вышла замуж за богача, директора универмага. Говорили, что в конце семидесятых его посадили. А потом Симка снова вышла замуж за какого-то штатника, очень богатого. Говорили, миллионера. Ну и свалила в Америку.
Родной двор. Это немного успокаивает меня и примиряет с жизнью. Я в раздумьях – пойти в душ, выпить кофе, а уж потом…
Нет, слаб, признаю. Все-таки возвращаюсь в кровать и снова закрываю глаза, поплотнее укутываюсь в одеяло и опять караулю сон, понимая, что он не придет. Я не так наивен. Просто вставать неохота. К тому же погодка, надо сказать, отвратительная – пасмурно, накрапывает дождь, приближаются холода.
В постели я согреваюсь, мне уютно. Знаю, что я законченный лентяй, но в который раз разрешаю себе поблажку. К тому же у меня есть оправдание – хорошо работается мне только по вечерам, часов эдак с пяти. Так настроены мои биологические часы, что же поделать. Бороться с этим совершенно бесполезно – пробовал, знаю. Да и Галки нет дома – моего, так сказать, надсмотрщика и строгого цербера. Вот и ищу себе оправдание – лежу и ищу. Хотя… Перед кем мне оправдываться? Это смешно. Все же засыпаю, правда, ненадолго, некрепко, поверхностно – дремлю. Когда встаю, на часах половина двенадцатого. Ничего себе покемарил! Душ и кофе бодрят. Пару минут – не больше! – легкой зарядки и…
А что, собственно, «и»? Вот именно. Сейчас буду нервно подыскивать себе дело. А вот, нашел! Слава богу! Пошуровав в холодильнике, понял, что все приготовленное любимой женой уничтожено – разумеется, мною. Замороженные котлеты, самолепные пельмени, голубцы – Галка большая мастерица. Хотя я многое умею и сам – спасибо «сложной судьбе». Так говорит моя дорогая и понятливая жена: «Он – человек сложной судьбы». Не знаю, насколько мне это приятно. Но то, что это помогает во многих ситуациях – точно.
Мама всегда говорила, что я буду беспомощным, как мой отец. Твердила, что надо рассчитывать только на себя. Этому ее научила трудная жизнь. А на деле это и было все ее воспитание. Остальному меня научила жизнь.
Итак, надо заняться обедом. Раздумываю – борщ или нет? Решаю – все-таки борщ! К борщу меня приучила мама – это было ее любимое блюдо, ведь она выросла на Украине. Тогда еще говорили «на» Украине. Родилась под Киевом, в селе Червонная Мотовиловка. Там жили тетки – Рая и Оксана, – которые и вырастили ее, родители погибли в войну. Я их прекрасно помню – розовощекие толстухи с роскошными косами, закрученными на затылке в баранку. А как певуче они говорили! Как пели украинские песни! Как ловко лепили вареники с вишней! Детство, да. Иных уж нет, а те далече.
Я варю борщ. Отвлекает от мыслей телефонный звонок. Бросаю взгляд на часы – Галкино время. Милая моя начинает с разбега – этой ей свойственно:
– Только встал? Ну ты даешь! Что работа? Сколько знаков за вчерашний день? Сколько-сколько? Максим! Что ты творишь! Ты же ничего не успеешь и снова будет скандал! Боже, что скажет Лариса!
Я перебиваю ее и оправдываюсь – перед своей женой я почему-то всегда оправдываюсь. Почему? Сам не пойму.
А она все верещит:
– Борщ? Зачем? В морозилке полно еды! Как все съел? У тебя что, солитер? Там же на три недели, не меньше! А, у тебя были гости? Кто? Перелеев? Или Словинский? Тогда все понятно! Только он мог столько сожрать! И сколько вы выпили, извини за бестактный вопрос?
Господи! Останови ее, очень прошу!
– Галя, Галя! Остынь! Не было Перелеева, не было! И Мишки Словинского не было! И все сожрал я – ты уж прости! Просто захотелось борща. Это что, преступление, Галь? Кстати, у нас есть томатная паста? Галя, ты меня слышишь?
Не-а, не слышит. Ладно, я потерплю. В конце концов, ее есть за что терпеть. Очень даже есть. Да и я далеко не сахар. Моя Галка – подарок небес. Это я понимаю. Моя заботливая жена. Моя вечно молодая жена. Моя красивая и ловкая жена.
Вот как бывает. Я почему-то не назвал ее любимой. Что-то из подсознания? Да нет, ерунда. Конечно, моя молодая, заботливая, красивая, ловкая и любимая жена – все правильно и все верно.
Я сворачиваю разговор:
– Ты же сама меня отвлекаешь! Галя, все! Мне надо работать!
Слово «работать» в нашей семье священно. Она тут же прощается, обещая позвонить завтра в это же время. Я кладу трубку и облегченно выдыхаю. Завтра. Завтра я снова начну врать. И оправдываться. Так и живем.
Я оттягиваю время работы. Почему? А потому, что боюсь. Каждый раз я боюсь. Боюсь начать, боюсь, что не получится. Если хорошо начинается, боюсь продолжения. Потом боюсь, что не получится оно. Оно, допустим, получилось. Тогда я боюсь следующего – окончания, развязки… Боюсь браться за концовку. Так было всегда. Но в разной степени. А вот как сейчас не было никогда.
Никто об этом не знает – даже она, моя Галка. Не знает и мой редактор, моя дорогая Лариса Петровна. Не дай бог! Уж ей-то знать совершенно не надо.
Никому не надо знать, что я трус. Я всегда боюсь, что у меня не получится. Или получится гадость. Хрень. Чепуха. Это, наверное, нормально – даже для меня, человека опытного, состоявшегося, известного, с именем, что называется. Я где-то читал, что известные, маститые актеры каждый раз дрожат перед выходом на сцену.
Да ничего, справлюсь. Всегда был этот страх, и я всегда справлялся. Вот только не сейчас, кажется. Сейчас все по-другому: не получается с самого начала, с первой страницы.
Причина моего страха в том, что я боюсь соврать, показаться фальшивым. Боюсь быть чересчур искренним и боюсь быть неискренним. Боюсь быть наигранным. Нечестным и честным. Где та хрупкая грань, где тот баланс, чтобы писать правду, не вынимая из себя кишки? Читатель все чувствует – любую фальшь, любое вранье. Любой компромисс с самим собой. Я боюсь своего читателя. Боюсь ему не понравиться. Боюсь, что он разочаруется во мне. И боюсь того, что я боюсь всего этого! Потому что понимаю – так, с оглядкой и тщательной выверкой, писать нельзя! Нельзя думать о том, кому и как ты понравишься, нельзя угождать – это могила. Главное – чтобы твоя работа понравилась тебе. Важно только то, что ты доволен собой! Не твоя умная жена, не твой замечательный редактор – только ты! Только ты ставишь себе самую верную, беспощадную и справедливую оценку.
Спасибо борщу – время убито, оправдание есть. А борщ получился невкусным. Для кухни тоже нужно настроение – без этого никак не выходит. Борщ съеден без удовольствия, кофе выпит – в третий раз. Хорошо, что нет Галки – она следит за моим здоровьем. Она следит за всем, моя жена. И все успевает. Кофе – две чашки в день. Утром и днем.
Бедная моя Галка! Как же ей трудно со мной! Всем со мной трудно. Герману, Галкиному сыну. Друзьям. Хотя какие друзья? Перелеев и Словинский? Друзья… И смех и грех! Первый – сосед-собутыльник, а второй – муж подруги жены. Принято считать, что мы с ним друзья. Особенно это радует наших жен – пару раз в год совместный поход в «Сандуны» и шашлыки на даче – тоже пару раз в год. А на деле у меня был единственный друг – Петька Васильев. Только его давно уже нет.
Я тяжело схожусь с людьми. Я неврастеник, психопат и зануда, капризный и рефлексирующий по любому поводу. К тому же страшно мнительный. Самая малость, вроде прыщика на заднице, может вывести меня из равновесия. Я не в меру обидчив – это знают все мои близкие. Я гневлив. Страшно гневлив. Чуть что – начинаю орать на всех без разбору. Я нетерпелив – мне надо все и сейчас. Ждать я не люблю. Я большой скептик и даже циник. Это, конечно, в порядке вещей. Кто из нас не скептик и не циник? Кто, особенно если позади длинная жизнь? Ну а если такой обнаружится, то точно дурак, я вас уверяю!
Я страшно брезглив – не в каждом доме усядусь за стол. Не люблю есть в ресторанах. Зато я не люблю новые тряпки – и это настоящая трагедия для моей жены. Статус, статус, статус. «Статусные гости, статусные люди – а тут ты, в старом свитере и столетних джинсах! Максим!» Все правда – я никогда не надену костюм, хоть от Босса, хоть от кого! Ни-ко-гда. Моя жена даже может дать слезу по этому поводу. Но нет. При всем уважении к ней и к неувядаемому Боссу. Я обожаю старые, заношенные вещи. У меня есть и любимые – фиг их с меня стянешь! Однажды Галка выбросила что-то любимое из моего гардероба, дошли почти до развода. Еле простил.
Поход в магазин – всегда семейный скандал. Поход в гости – туда же. А уж гости у нас – так просто истерика!
Я неприхотлив в еде – Галка это называет «тяжелым наследием прошлого». Но крайне требователен к порядку в доме – ух, здесь мне нет равных! И не дай бог кому-нибудь что-нибудь тронуть на моем письменном столе. За последствия не отвечаю.
Я обожаю покритиковать, дать оценку. Из всего вышесказанного понятно, что не всегда лицеприятную. Циник априори недоброжелателен. Я быстро устаю от людей. И отношусь к ним, мягко говоря, неуважительно, хотя не ко всем. Я мизантроп.
Ну как картинка? А? Хороша? Перечислив все это, я даже скривился от неприязни к себе. Господи! Вот ведь дерьмо получилось.
Короче, близким моим тяжело. Особенно Галке. Бедная моя девочка, бедная Галка!
От досады я расстраиваюсь почти до слез. Но понимаю – жалею-то я себя! И еще чувствую, как соскучился по жене.
Галка, ау! Хватит уж шляться! Домой, милая, домой! Я тебя жду. Очень жду, слышишь?
Марина
Все кончилось в один день, когда не стало Сережи. Кончилась сама жизнь – к чему перечислять все остальное?
Я умерла вместе с ним: перестала чувствовать запахи, приятные и отвратительные. Не почувствовала, как в холодильнике воняют сгнившая капуста и давно уже склизкая синяя колбаса. Как отвратительно тянет от тухлой воды из-под завядших цветов в вазе на прикроватной тумбочке. Мне по-мазохистски даже нравился их мертвый покойницкий вид – казалось, они умерли вместе со мной.
Я не почувствовала запах духов, пряных, терпких, стойких, когда разбила в ванной почти полный флакон – тогда все падало из рук. Я порезалась, и мне не было больно. И запаха не почувствовала,
В другое время я бы распахнула все окна. Страдала бы от мигрени. Тут – нет. Не заметила. Я так страдала, что какая-то мигрень мне была не страшна. Нет ничего сильнее боли душевной. Это я испытала сполна.
Я помню, как мама принесла банку малосольных огурчиков. Мама божественно солила огурцы, они всегда были крепкими, хрусткими, сочными. Ей был известен какой-то древний рецепт со многими травами, о которых теперь никто и не слышал. Обычно эти самые «мамины фирменные малосольные» до вечера не доживали – трехлитровая банка съедалась за пару часов. Я вполне могла осилить ее и одна – без Сережи, без Ники. Плюхалась в гамак, ставила на землю вожделенную трехлитровку, укрывалась старой маминой шалью в крупных, кое-как заштопанных дырах, но самой уютной на свете, брала книжку и принималась хрумкать огурцы. И наступало счастье! Такое полное, такое необъятное! Я смотрела на небо, на облака, на макушки деревьев, слышала отдаленный мерный и глухой отсчет кукушки, усыпляющий звук проходящего вдалеке поезда и покачивалась в гамаке.
Закрывала глаза и засыпала. Это и было самое счастливое счастье.
Сквозь сон я слышала, как гремит в доме мама, готовя обед. Улавливала запах грибов и жареного лука, а еще мяса, слив на компот, пирога, сладкой сдобы с ванилью. Слышала, как на втором этаже спорят девчонки – моя Ника и ее подружка Иришка. Наверное, делят кукол или фантики от жвачки. Они их собирают, коллекционируют, меняются друг с другом – чудачки. А Сережка – если он дома – колет за домом дрова или в очередной раз чинит антенну. Или идет мимо меня на пруд, но не будит. Сон – это святое, одна из заповедей нашей семьи.
Так мы и жили. Все были здоровы, все были вместе. Все были счастливы. Все еще были. А вечером счастье становилось еще больше – воздух был напоен свежестью, птицы голосили на все голоса, наступали прохлада, тишина и полный покой. И мы ждали Сережу. Он ездил после работы на дачу. Это было тяжело и утомительно – два часа в один конец, ранний подъем, поздний приезд. Но он всегда говорил, что оно того стоит – утром неспешный путь на станцию вдоль старых дач, по только что проснувшемуся лесу, под ласковым, щадящим солнышком. Птички разливаются, ветерок колышет листочки – красота! Пахнет прогретым лесом, грибницей, скошенной травой. Птицы продолжают свои песнопения. И впереди встреча со мной, с Никой, мамой. Вкусный ужин и чай в саду – красота! Сережка обожал природу, лес, речку, грибные походы. Огород обожал, что-то пропалывал, вскапывал, рыхлил, пересаживал. Он вообще любил любую «ручную» работу – забить, покрасить, перестроить, поправить. Сережа. Он был хозяйственным мужичком, мой муж, и ничто ему было не в тягость. Мама говорила, что с зятем ей повезло. Это была чистая правда! Они обожали друг друга.
Мама в те страшные дни после Сережиной смерти, страшно нервничая, что я ничего не ем, привезла банку огурцов. Я не дотронулась до них – не съела ни одного. Счастье кончилось. В один день.
На даче я долго не появлялась – было невыносимо. Невыносимо видеть его инструменты, старый чемодан с хозяйственными мелочами. Его велосипед, прислоненный к сараю. Его книги, очки. Любимую чашку. Старый свитер на стуле. Старые кроссовки «адидас».
На дачу я могла не ездить, а вот из нашей квартиры мне некуда было деваться. Сначала хотела ее поменять, но у меня не было сил. Совершенно, ни на что. А уж на переезд… Да о чем вы?
Сережу убили, когда Нике было семь лет. Первого сентября мы собирались отвести ее в школу. Убили наркоманы, подонки, нелюди. Пытались отнять в подъезде деньги – он торопился купить мне подарок, – это было за три дня до моего дня рождения. С тех пор дня рождения нет – я не отпраздновала его ни разу. Умерла так умерла…
Спустя какое-то время я все-таки стала ездить на дачу – мне было жаль маму. Умница мама все Сережкины вещи спрятала, убрала, чтобы, не дай бог, они не попались мне на глаза. А я ходила по участку и по дому и шарила глазами – искала. Нашла. Нашла в сарае его старую майку и…
Летом мама сидела с Никой на даче. Ника уже проявляла характер, и маме с ней было несладко. А я в это время «наслаждалась» своей свободой в Москве.
Спустя какое-то время обоняние у меня появилось, а вот вкуса еще не было долго – я что-то механически жевала, что-то пила. Но если бы мне дали яду или отраву – вряд ли я бы это заметила.
Потом выросла Ника и перестала ездить на дачу – ей стало там скучно. Я понимала Нику, стремящуюся к удовольствиям – дело молодое, а когда еще, как не в молодости? В Москве у нее была своя вольная жизнь – уже в те годы, когда Ника подросла, мы с мамой все лето жили на даче. Я, слава богу, могла отдыхать все лето – концертная деятельность на летний сезон замирала. Мама была на пенсии.
Но какая у нас была жизнь?
Мой брак можно было назвать очень счастливым. Мне сказочно повезло, и я это прекрасно понимала, даже в молодости. Я понимала, что мой Сережа – замечательный муж, замечательный зять и прекрасный отец. Он был прекрасен во всем, мой чудесный муж! Мой любимый. Он был остроумным, веселым. Тонким и ироничным. Рассудительным и спокойным. Благодарным и сдержанным. Хозяйственным и ловким. Заботливым и терпимым. Во всем и всегда, честное слово! В это трудно поверить, я понимаю. Я и сама бы засомневалась, услышав такое, ей-богу, однако это чистая правда. Редко, но так бывает. С ним было легко, уютно, спокойно, не страшно. Мы были на одной волне и почти во всем совпадали. В главном уж точно.
Он умел делать сюрпризы. Как талантливо он делал сюрпризы! Например, раздавался звонок в дверь. Я открывала. На пороге стоял маленький магнитофончик, и из него доносилась моя любимая музыка – скажем, «Отель «Калифорния». Или – Саймон и Гарфункель, были когда-то такие певцы, сейчас о них все забыли, конечно. Новое время рождает новых кумиров. А рядом с магнитофончиком стояла крохотная вазочка с одним тюльпаном. Да, тюльпан был один! Но – какого цвета! Чернильно-фиолетового. Или одинокая розочка с белыми лепестками и малиновой окаемкой. И где он умудрялся доставать такое чудо в те годы? Возле вазочки – коробочка с пирожным, моим любимым наполеоном.
И в день моего рождения, утром, как только я просыпалась и открывала глаза, на тумбочке у кровати меня ждал флакончик любимых духов. Конечно, французских! Он знал, что мне нравится. Всегда знал. И чувствовал. Флакончик был обвязан атласной лентой, на которой написано: «Моей любимой девчонке». Или это могла быть коробочка с часиками или колечком. Пусть серебряным, недорогим. Мы никогда не были обеспеченными людьми, просто не успели ими стать. Потому что Сережа ушел. И все равно, невзирая на вечный подсчет денег, мы были всем довольны и всему рады. Мой Сережа был совершенным.
После его смерти, спустя несколько лет (а раньше я просто не могла вообще говорить о нем), мои приятельницы и знакомые сомневались, говорю ли я правду. Не преувеличиваю ли, не придумываю ли себе сладкую сказочку – так часто бывает, когда теряешь человека.
Нет. Нет и нет. Все – чистейшая правда. Пусть даже и верится в нее с трудом. Но так было.
Cпустя пару лет мама все же уговорила меня приехать на дачу. Я не была там лет пять или больше. Мы шли со станции знакомой дорогой, и я ничего не узнавала: ни домов, ни заборов, ни кустов. Чуть не прошла наш дом – мама остановила. Дом покосился, поблек. Старая краска совсем облупилась, и некому было покрасить. Забор завалился, как деревенский пьяница. Участок зарос бурьяном, забив цветы и даже кустарник. На разросшейся яблоне висели мелкие зеленые яблочки – я помню их крупными, розовобокими. Сережка срывал с самого верха – именно они, под самым солнцем, были самыми вкусными, самыми спелыми. А теперь они выродились без ухода и удобрений. Крыльцо расшаталось и ворчливо скрипело. Дверь в дом поддалась с трудом – отсырела, разбухла, замок проржавел.
В доме после зимы было сыро, пахло плесенью, мышами, затхлыми тряпками и нежильем. Могильным холодом тянуло из комнат. Когда был жив мой Сережа, он всегда приезжал первым – протапливал дом, убирал участок, косил траву. Чтобы его «девочки приехали в порядок».
Я поежилась, и мне захотелось поскорее уехать. Но…
Я посмотрела на маму. Она чуть не плакала. Точнее – плакала молча. По щекам катились слезинки. Она с испугом посмотрела на меня. Я попыталась улыбнуться. В конце концов, если мы сейчас отсюда уедем, я буду последней сволочью и эгоисткой. Это мамина вотчина, мамино сердце. Куча ее трудов, усилий, воспоминаний. Ее жизнь.
Я вздохнула и пошла переодеваться в старые дачные тряпки, чтобы приступить к уборке. Открыла шкаф, уткнулась носом в Сережкину ковбойку и разревелась.
Мама подошла сзади и обняла меня. Мы заревели вместе.
То, что Сережу убили, было для меня самое страшное. Если бы он умер сам от болезни или аварии… Нет, конечно, глупости! Я бы страдала не меньше! Или все-таки меньше?
Наверняка он не хотел отдавать деньги, думал про мой день рождения. Какой сюрприз он мне приготовил? Я никогда не узнаю. Наверняка ему было омерзительно, противно так, без боя, самому отдать деньги этим подонкам. Он был гордым, смелым, справедливым. Он не испугался – уверена в этом. Он защищался. Может быть, звал на помощь. Но никто не отозвался, никто. Была зима, и окна закрыты. А если б лето? Сомневаюсь, что кто-нибудь выскочил бы во двор и ввязался в драку. Выскочил бы только мой муж, услышав крики о помощи.
Но в тот вечер помощь была нужна ему, моему Сережке.
Сказали, что он умер минут через двадцать. «А если бы?» – спросила я врача. Он подумал и покачал головой: «Нет, вряд ли. Хотя шанс был, да. Совсем крошечный. Во всяком случае, мы бы постарались».
Несколько лет эти слова врача мне не давали покоя.
Если бы он выжил, если бы его нашли! Пусть увечный, больной. Инвалид. Но он бы был! А сейчас его нет. И никогда не будет.
Ни-ко-гда. Ничего страшнее этого слова не знаю.
Да, этих подонков, его убийц, нашли. Как мне сказал следователь – редкая удача. Каково, а? – удача. Я не пошла в суд. Не могла на них посмотреть. Я ответила следователю, что надеюсь на справедливость. А сколько им дали – не знаю. Знала мама, но я ни разу не спросила ее об этом. Зачем? Что бы для меня изменилось? Для него? Разве меня волновало, как их накажут? Нет. Я задавала только один вопрос – почему наказали нас? За что? И этот вопрос я задавала богу.
Только он не ответил.
Максим
Никак не могу приступить. Это самое страшное – сесть за стол и открыть ноутбук. Ломаю голову в поисках причин своего ежедневного страха и не нахожу. Ничего не нахожу, кроме нежелания работать. Кроме своей запредельной лени. Ленив я был всегда. Сколько моя бабка билась над этим! Соображал хорошо, а вот сесть за уроки было проблемой, мукой. Я мог слоняться по дому, заниматься черт-те чем, всякой белибердой – только бы оттянуть этот «сладостный» момент – сесть за учебники. Кажется, только читал я с удовольствием.
Не скажу, что учиться мне было неинтересно. И любопытно было, и легко. Тогда в чем причина? Сейчас какие-то умники нашли этому научное объяснение – есть, дескать, такая патология, ген неусидчивости. Вранье. Уверен: все дело в силе воли. Больше причин не ищите! Бабка уговаривала меня, увещевала. Мама кричала, убеждала, объясняла, наказывала и поощряла. А мне – хоть бы хны! Слава богу, матери часто не было дома – работа. А с бабкой было попроще. Мать уходила рано и приходила поздно, после восьми. Конечно, без сил. Садилась на диван, откидывалась на подушку и закрывала глаза. Я снимал с нее сапоги или туфли, надевал тапки и шел разогревать ужин. В десять лет я мог сам приготовить ужин. Обед, разумеется, нет. Это позже я научился варить еще и супы. А вот ужин мне был по силам. То, что готовила бабка или ее домработница, мама не ела. Трудно было в нашей семье. Сложно и трудно. Я разрывался между ними – бабкой и дедом, не признававшими мою мать. Между матерью и отцом, жившими в постоянных скандалах. Она и торчала допоздна на работе, чтобы попозже вернуться домой. А я скучал по ней и очень ее ждал, до тех пор, пока не понял, что ей на меня наплевать.
Когда были живы старики, мы жили хорошо, небедно. А когда они умерли и отец окончательно перебрался на дачу, мы остались вдвоем с матерью. И вот тогда стало все еще хуже. Странно – исчезли источники раздражения и скандалов: дед, бабка, отец. Мы остались одни – мать и сын. А стало все хуже.
Я сажусь. Оглядываюсь – на что бы еще отвлечься? Ага, открыто окно! Надо прикрыть – у меня радикулит. И я радостно вскакиваю. Минут десять торчу у окна, как старая бабка.
Еще раз оглядываюсь и все же усаживаюсь в рабочее кресло. Все, отмазок больше нет. И кстати, вечером позвонит жена и потребует отчет. Я, конечно, могу соврать. Только зачем? Я же совру себе, а не Галке. Где выгода? А-а! Есть отмазка! Сейчас я проверю почту! Господи, как я мог забыть? Я человек публичный, у меня – хочу я этого или не хочу – огромная и оживленная переписка. И я всегда отвечаю на письма. Правда, честное слово! Всегда. Потому, что, во-первых, уважаю своего читателя. Во-вторых, там бывает кое-что интересное. А в-третьих, я довольно тщеславен, увы! И мне нравится читать о себе хвалебные отзывы.
Слаб человек. Что тут поделать?
Марина
Я, конечно, жила. Ходила на работу. Иногда что-нибудь готовила – все-таки у меня есть ответственность перед ребенком. Хотя тогда я почти об этом не думала – мне было абсолютно все равно. Варила в основном макароны – просто, быстро, сытно. Их можно есть с кетчупом, что совсем просто. С сыром, если он был. С любым мясом, сосисками, колбасой и даже пустыми, с маслом.
Готовить готовила, а вот убирать было совсем неохота. Так, махну веником и тряпкой – и хорош.
А уж Нике на грязь было наплевать и подавно. Какого ребенка волнует беспорядок в квартире?
Ника почти не бывала дома – то в школе, то в кружках, то во дворе, то у подружек, – все понятно, зачем ей смотреть на неживую мать? Ее надо утешать, ей надо сочувствовать. Это непросто, это здорово напрягает, это вводит в тоску и уныние. В ее возрасте этого совсем не хочется. Я ее совершенно не осуждала. Было немного обидно, но я все понимала. К тому же мне самой хотелось остаться одной.
Мой вечер выглядел так: после порции макарон – все равно с чем – и кружки горячего чая я усаживалась на диван в гостиной, укрывалась старым жакетом, сворачивалась в клубок и замирала. Закрывала глаза. Света не зажигала. Иногда засыпала. Иногда просто дремала. Но чаще всего не спала – просто лежала в своем коконе из несчастья, огромной беды, обид и страданий. Я очень жалела себя. За что? За какие грехи? Что мы такого сделали или не сделали, что с нами так вышло? Напрягая память, я докапывалась до таких незначительных мелочей, что и сама удивлялась – как можно извлечь из подсознания подобную чушь?
Не было в нашей жизни ничего такого страшного, ужасного, предосудительного. А, гордыня – вот и есть мой самый страшный грех! Я не вижу своих проступков. Часто не замечаю своих промахов. Оправдываю себя. Конечно, обижаю других. Но кого я обидела? Я пытаюсь вспомнить. Не помню. Выходит, я страшная грешница, раз не помню.
Вот так я тогда себя грызла. Изгрызла до того, что стала весить пятьдесят килограммов – стала тоньше Ники, а ведь никогда не была худышкой.
Для Ники – уверена – это были сплошные праздники. Я ее не контролировала совсем – гуляй от вольного, приходи, когда хочешь. Ночевать у подруги? Да ради бога! Мне так даже легче. Я была еще и преступной матерью. И это довело до беды. До большой беды – в четырнадцать лет моя дочь залетела. А я ничего не заметила, лелея, укачивая свои страдания. Заметила – точнее, услышала – совершенно случайно. Ника говорила подружке, что ее сильно тошнит и что утренние рвоты «ее задолбали». Пару минут до меня ничего еще не доходило – мозг мой тормозил. А потом вдруг стукнуло, и я поняла, о чем они говорят.
Меня накрыло. Я опустилась на табуретку и замерла. Застыла, окаменела. В голове было пусто. Не было паники – видимо, я совсем отупела и не могла реально воспринимать случившееся.
Зашла дочь, увидела меня, но не удивилась. Только вздохнула – я ее раздражала. Ее раздражал мой заторможенный вид, мое равнодушие, мой отсутствующий и неживой взгляд в никуда.
Наконец она резко спросила:
– Ну, что еще? Что еще у тебя случилось? Какой теперь повод для грусти? – В голосе было не только раздражение – звучали металл, злость.
«Стерва, – равнодушно отметила я. – Злая и черствая малолетняя стерва. И я ее, кажется, совсем не люблю. Я ею брезгую, я ее презираю».
Я вздрогнула и подняла на нее глаза.
– Что случилось? – переспросила я. – Да так, ерунда! У меня умер муж. Вернее – его убили. И еще – дочь залетела. Ученица девятого класса! Как думаешь – это повод грустить?
Ника замерла. Смотрела на меня испуганно, не понимая, что ожидать от сумасшедшей мамаши.
Потом громко сглотнула и тихо произнесла:
– Откуда…Откуда узнала? Подслушала, да?
Я равнодушно пожала плечом:
– Подслушала? Да больно надо! Услышала – так будет точнее! Случайно, заметь! Тише надо было шушукаться! Конспираторша хренова.
– Я думала, ты спишь, – пробормотала она. – Ты же теперь все время спишь…
– Ага! Меня вроде нет, да? Ну или я почти умерла! Ты же ко мне не подходишь даже – нет меня, да? И тебя, кстати, это очень устраивает, не так ли, доченька? – Сколько яда, сколько сарказма выплескивалось из меня! И это вместо того, чтобы ее пожалеть. Посочувствовать, пусть даже поругать, но все-таки прижать к себе.
– Меня – устраивает? – Голос Ники начал крепнуть. – Устраивает, да, мама? Устраивает то, что я тебе не нужна? Папы нет, бабушки – тоже. Она то на даче, то вся в своих гипертониях. А ты, мама? Это ты мне не нужна? Или я тебе, мама?
И Ника заплакала. И заплакала я. Так мы и ревели напротив друг друга, боясь броситься к друг другу и крепко обняться.
Первой не выдержала, конечно, я. Я обняла ее и прижала к себе.
И тогда, несмотря на весь ужас нашей ситуации, несмотря на эту кошмарную новость, именно тогда, в те минуты, наревевшись и наконец обняв дочь, я проснулась. Точнее – ожила. Еще точнее – почувствовала себя живой. Впервые за семь лет.
Ну а потом был аборт. И ни о чем другом Ника и слышать не хотела. Я ее понимала и не отговаривала. Так перекорежить свою жизнь может только законченная идиотка – это ее слова. О так называемом папаше информации почти не было. Дочь молчала как партизан. Сказала одно:
– Мам, что о нем говорить? Сопляк и кретин.
Меня очень подмывало спросить: а что же ты легла с сопляком и кретином? Но я вовремя остановилась. Глупый вопрос – что понимает четырнадцатилетняя девчонка, сама дурочка и соплячка? Поисками папаши я заниматься не стала – во-первых, не было сил, во-вторых, надо было сосредоточится на главном, а в-третьих, на черта он нам был нужен, этот пацан?
Я много думала тогда о Нике и этом ребеночке. В какую-то минуту мне показалось, что он должен быть. А потом нашла в себе силы признать – он нужен был мне, этот младенец, чтобы помочь, помочь именно мне! Чтобы вытащить меня из темной пропасти, поддержать и спасти.
А Нике? Что поймет она, что почувствует, когда настанет время рожать? Сможет ли она стать ему матерью? Скорее всего, не сможет, надо быть объективной. Станет им тяготиться. И что тогда? Тогда матерью стану я. Конечно же, стану! Я ни минуты не сомневалась, что полюблю этого малыша. Полюблю на всю жизнь, сильнее всех и буду ему замечательной мамой. Но – имею ли я на это право? Кто, кроме меня, станет от этого счастливее? Ника? Вряд ли. Большие сомнения. Она станет раздражаться – я знаю свою дочь, она не из сентиментальных, будет стесняться своего раннего материнства. Ей будет труднее учиться и устраивать свою судьбу. И непонятно, как ранние роды скажутся на ее организме. И потом – кто будет нас всех кормить? Кто? Если я сяду дома с ребенком? Мама-пенсионерка? Ника-школьница? Да и по дочери я видела – ей нужно было скорее избавиться от беременности. Она считала часы.
Я позвонила своей давней школьной подруге Лере, акушеру. Рассказала ей про свои сомнения. Лера рассмеялась:
– Рожать – не рожать? Ты что, мать, рехнулась? Да и дочка, говоришь, не рвется? Тем более! Сережи нет, вы одни – три глупые и беспомощные бабы. Одна старая, другая малая, а третья – бестолковая, уж прости.
– Я поняла – перебила ее я, чтобы она не мучилась, подыскивая эпитеты. – Я поняла, Лер! Рожать мы не будем. Только вот… Не дай бог, осложнения! И Ника потом не родит…
– Бредни все это, – отрезала Лера. – Есть приблизительная статистика – о-о-очень приблизительная, надо сказать. Не рожают после первого аборта три-пять процентов. А все остальные – пожалуйста, милости просим! А в эти три-пять еще надо попасть! И если нормальный врач, нормальный срок и нормальная больничка – ты понимаешь.
Нормальный врач был – Лера постаралась. Нормальный срок мы поймали, не пропустили. Нормальная «больничка» наличествовала.
А вот Ника… Мы долго были уверены, что девочка попала в те самые пресловутые три-пять процентов. Забеременеть она долго не могла. Хотя об этом потом.
И все-таки – хотя и страшно так говорить – ситуация с дочкой к жизни меня возвратила. Хлопоты, суета, забота о родном человеке – я встрепенулась, проснулась и стала жить.
Потом, когда Ника начинала рыдать о своем несостоявшемся материнстве, мне делалось невыносимо стыдно – я должна была тогда настоять. Решиться. Взять на себя. А я испугалась: хватит ли сил, хватит ли денег, как посмотрят соседи, что скажет мама. А не испугалась бы, растила бы сейчас своего внука (почему-то я была уверена, что будет внук, мальчик. Конечно, Сережа!). Гуляла бы с ним, читала ему книжки, рассказывала сказки, пекла пирожки. Учила бы его музыке! И он был бы счастлив. И я была бы счастлива. И моя дочка Ника – пусть не сразу, позже, потом когда-нибудь тоже была бы счастлива.
Говорят: «Бог дает ребенка и дает на ребенка». Полная чушь! На тебя не сваливается богатство – все остается по-прежнему. Только прибавляется еще один человек. Рожать в нищете? Глупости, бред. Лишать ребенка всего того, что ему необходимо? Медицины, образования. Бытовых условий, в конце концов. Это тоже имеет значение! Чтобы он чувствовал себя нищим, изгоем? У него не будет отца – это комплекс, почти не будет матери – одна бабка с расшатанной нервной системой, неуверенностью и вечным страхом в глазах. Нет. На это я была не согласна. И еще так я оправдывала себя. И я абсолютно поверила Лере, потому что очень хотела поверить – в три-пять процентов еще надо попасть. А почему, собственно, мы? С нас уже хватит несчастий! Бог нас пожалеет. Мы и так настрадались, и так никому не нужны, одинокие несчастные – мама, я и наша бедная Ника.
Позже, когда дочь долго не могла забеременеть, она попрекнула меня. Однажды – больше не повторялось. Но мне хватило.
– Как ты могла! – закричала она. – Почему ты меня не остановила? Это я была соплячкой и дурой! А ты? Ты же была взрослой женщиной! А ты отвела меня за руку! И твоя рука не дрогнула – ни на минуту! Ты отвела меня туда, на это пыточное кресло, и заплатила за это деньги! За то, чтобы из меня выскребли моего ребенка!
– А меня тогда не было, Ника! Ты забыла? Меня просто не было! Кто бы тебе помог воспитывать малыша?
Я понимала, всегда легче переложить на другого, чтобы оправдать себя. Я и сама так часто делала. Я понимала ее отчаяние. Понимала ее боль. Я все понимала…
Но… сказать мне это? Обвинить во всем только меня? Это было жестоко.
Однако я проглотила, стерпела. Понимала – у нее своя правда. И еще я понимала, что Ника очень страдала.
А я мать. Что тут объяснять? И я ни разу не напомнила ей наш тогдашний разговор. Точнее – ее монолог, слава богу, у меня хватило ума. И это было не благородство с моей стороны, а нормальная, обычная материнская реакция. Когда ребенка жальче, чем себя.
Я не напомнила ей, как она кричала: «Мама! Если ты не найдешь мне врача, я найду его сама! Кого угодно, слышишь? Первого, кто попадется!»
После больницы, где всё, как меня убеждали, прошло хорошо, Ника быстро пришла в себя. Успокоилась. Развеселилась. Кажется, она ни минуты не думала о том, что это было. Как вырвали зуб – забыто на следующий день. Подумаешь, что вспоминать? Я ни разу не видела, чтобы она плакала, тосковала, печалилась. Или скрывала свою боль от меня? Не думаю. Я бы заметила. Просто она была совсем ребенком – глупым и избалованным ребенком. Смахнула, как комара со щеки, как волос с юбки, как песок с босоножек, – и все. И ничего не было – ни беременности, ни больницы, ни укола в вену, ни металлического звука инструментов, ни пузыря со льдом на животе. Девочка жила дальше. Молодость брала свое. Впереди были институт, студенчество, романы и – долгая, интересная жизнь. Так ей казалось. Так кажется всем в пятнадцать, шестнадцать и восемнадцать. И дальше – наверное, до тридцати. У всех с небольшими амплитудами – зависящими от того, во сколько тебя стукнет по башке. Ее, Нику, стукнуло в двадцать шесть. Судьба дала продышаться.
Мама так ничего и не узнала тогда – мы ее пожалели. И ничего не заметила – она по-прежнему жила дачей, огородом и садом, походами за грибами.
– Марина! Так много грибов! Жаль пропускать даже день! – И перечисляла по телефону свои подвиги: – Соленых грибов десять банок. Маринованных уже двенадцать. Огурцов квашеных, маринованных…
Далее шли помидоры, сладкий перец, варенья и компоты.
– Нам же надо как-то выживать! – оправдывалась и одновременно хвасталась она. – А это такое подспорье!
Я радовалась, что мама при деле. Беспокоилась, что все это ей дается с трудом, с большими усилиями. Знала, как она устает. И все-таки на этом она держалась. На том, что мы без нее пропадем. Помрем с голоду. Не переживем зиму. Словом – она наш главный кормилец. Маме было так легче – ей казалось, что она нас спасала!
Ника быстро пришла в себя. Через месяц уехала с компашкой школьных друзей на Селигер. Я была спокойна – компашка подобралась хорошая, знакомая. Да и ехали они не одни – с родителями ее одноклассника. Ставили палатки, готовили на костре, пели под гитару. Я не возражала: увезти дочь на море я не могла, не было денег. Заставить ее сидеть на даче с бабушкой было наивно. Правда, перед отъездом не выдержала, сказала:
– Ника! Ты хоть там… Поосторожней! Хватит с нас экстрима, тебе не кажется?
Она покраснела:
– Мама, хватит! Я что, дура? Не понимаю сама?
Я вздохнула и махнула рукой:
– Дура, не дура. Главное – ты поняла.
Кажется, она на меня обиделась.
В те дни я просила прощение у Сережи. Каялась, извинялась за то, что не смогла уберечь нашу дочь. Я была уверена, что виновата в этом именно я – я пропустила ее, проморгала. Слишком отдалилась от нее, погрязла в своих страданиях.
Я была абсолютно убеждена – если бы Сережа был жив, ничего подобного бы не случилось. У Ники бы продолжалось счастливое детство и не случился бы ранний дурацкий секс с сопляком.
Я осталась одна. И мне снова было хорошо с самой собой. Я снова была свободна от обязанностей – магазинов, готовки, стирки, уборки. Приходила с работы и, как всегда, плюхалась на любимый диван. Вспоминала свою прежнюю и счастливую жизнь. Нашу с Сережей общую жизнь. Вспоминала ее по капелькам, собирала по крупицам, песчинкам, по крошечным бусинкам, нанизывала на тончайшие нитки. Я не мучила себя, нет. Только в эти минуты я была спокойна и счастлива.
И никто не трогал меня. Я вообще не была кому-то интересна – ни я сама, ни моя жизнь, ни мои мысли, печали, сомнения. Никто ни разу не спросил у меня, о чем я думаю, что у меня на душе.
Дочка была слишком юна и увлечена собой. Мама – в своих заготовках, дачных проблемах и болячках. Нет, она беспокоилась за меня – что я поела, что купила, что надела. Не промокла ли под дождем. Не болит ли у меня голова. Как настроение. Это были обычные дежурные вопросы – я понимала, что за ними ничего нет, обычное материнское беспокойство, и все. Ни разу она не спросила, что у меня на сердце, какие мысли мучают меня, не тоскую ли я по Сереже. Она вообще не говорила о нем. Наверное, боялась поднять эту тему, потревожить меня, расстроить. Вернуть туда, в то время, в нашу счастливую жизнь.
Наверное, она думала, что я успокоилась, не страдаю, как раньше. Просто живу – отболело. Ведь она всегда говорила: «Время лечит, Марина! Только время, поверь!»
А мне так хотелось поговорить о Сереже. Ведь мама его так любила! Неужели она так быстро забыла его?
Как-то я робко начала разговор:
– Мам, а помнишь, Сережка…
Она меня прервала:
– Марина, хватит! Хватит жить прошлым, живи настоящим! И в конце концов, устраивай жизнь! Сережи давно уже нет! А ты есть, ты живая! Вот и живи и радуйся, что живешь! Ты посмотри на себя. На кого ты стала похожа? Смотреть ведь тошно!
Этот ее короткий и беспощадный монолог был жесток и ужасен, она перечеркивала всю мою жизнь, с пренебрежением перечеркивала. Обрывала ее, окорачивала, обесценивала. Пыталась стереть Сережу как пыль.
Как мне было больно.
Нет, я понимала – она хотела как лучше, хотела вывести меня из анабиоза, встряхнуть, привести в чувство. Но это было оскорбительно для меня. Я ничего не ответила. Просто еще глубже ушла в себя. И еще раз поняла – у них по-другому. Они – и мама, и Ника – продолжают жить, как будто ничего не произошло.
Почему так случилось? Ведь мы были вместе. Все вместе, семья – Сережа, Ника, я и мама. Мы дорожили друг другом, ценили друг друга, волновались и переживали друг за друга. Как быстро они смирились с нашей потерей. После Сережиного ухода нас вместе больше нет и не будет! Мы все по отдельности – мама с огородом и банками. Ника с друзьями и весельем. Я – со своей тоской и одиночеством.
Вот как получилось.
Перед сном я разглядывала себя в зеркало. Тошно смотреть? А ведь мама права! Мне и самой стало тошно – зеркал я тогда избегала. Как я постарела, господи! Я никогда не была красавицей – обычная женщина, таких миллион. Среднего роста, средней упитанности, чуть курносая, сероглазая, светло-русая. Женщина приятной наружности – никакой красоты. Сережа говорил, что я милая. В смысле, что у меня милое лицо. Он любил, когда я красилась – тушь, помада, любил, когда я наряжалась, например, перед походом в гости или в театр. Я видела, как загораются его глаза:
– А ты, оказывается, Маруська, красавица!
Я кокетничала и делала вид, что обижалась:
– Ах так? Ты только заметил?
И мы смеялись.
Сейчас я не была ни красавицей, ни милой – я была замученной и измученной, блеклой и серой. Я была никакой. Думаю, если бы меня увидел Сережа, то вряд ли бы он подошел познакомиться.
Максим
Я открываю почту. О, чего там только нет! Письма от читателей и почитателей – по первой строке, по приветствию можно понять сразу все. «Дорогой и глубокоуважаемый Максим Александрович!» «Мой любимый автор!» В основном это так и начинается. Бывает немного по-другому, но смысл тот же.
А уж если начинается, например, так: «Товарищ (господин, гражданин) Ковалев! Хочу вам сообщить (поделиться, высказать свое мнение), так как имею на это право», то дальше будут критика, возмущение, негодование, яростное желание высказаться, вылить свой гнев и корыто помоев, оскорбить, даже унизить и плюнуть в лицо. Таких желающих тоже навалом. И самое смешное – они все имеют на это право! Что ж, трудно с этим не согласиться.
Письма хулителей читать куда интереснее, чем письма «хвалителей» и поклонников, и даже фанатов. Есть такие придурки, которые ищут в тексте ошибки. Вычитывают, наверное с лупой – очкам не доверяют. Ну а потом полным списком мне, автору, и копию – в издательство. С жалобой.
Это такие «спецы» различного пола, скучающие по партийным собраниям. Обличители, борцы за правду. Наверняка участники митингов, клеветники, пишущие жалобы в разные инстанции. Полно и тех, кто высылает свои опусы – мнят себя писаками или робко предлагают «глянуть одним глазком». Есть среди них настырные, наглые, уверенные в своем таланте, непоколебимые и тупые: «Прочитайте, и не пожалеете! Это – бомба! Жду вашей рецензии». А если я робко и тактично напишу чистую правду, могут пойти и угрозы!
Есть робкие, интеллигентные, тактичные люди: «Если бы вы смогли», «если найдете минутку», «Мне так важно ваше мнение», «Так приятно ваше внимание». Рукописи от таких я стараюсь прочесть.
Кстати, что интересно! Среди этого бескрайнего и беспредельного (от слова беспредел) моря текстов всего пару раз попадались стоящие. И я был счастлив, что не пропустил их, связывался с издательством и просил посмотреть. Мне, разумеется, не отказывали. Одну рукопись, правда, забраковали, не взяли. Сказали, что подобного чересчур много. А вот вторую…
Из второй кое-что получилось – чудная тетка из славного города Ростова выпустила уже третью, кажется, книгу! Горжусь. А как переживал, что напряг, отнял время.
С тех пор из щедрого южного красивого города мне приходят посылки с красным вином, виноградом, грушами, помидорами, вкуснейшей соленой шамайкой, жирным рыбцом и прочими вкусностями.
Общение с читателями в эпистолярном жанре – это вообще отдельная история! Сколько же сумасшедших! Просто диву даешься.
Как-то пришла в голову забавная мысль – собрать вот все эти письмишки и выпустить книгой. Ох, доложу я вам, интересное было бы чтиво, хотя и бульварное, конечно, желтое. Вот только времени на это все никак, увы, не хватает. Я или в процессе, так сказать, написания нетленки и зарабатывания денег на хлеб насущный, или в заслуженном отпуске. А в этом самом ну очень заслуженном браться ни за что неохота. Есть чем заняться, поверьте. Но письмишки эти я храню, не удаляю. Может быть, когда-нибудь… Когда, например, иссякнет «золотоносная» жила творчества. Или просто пошлют меня в родимом издательстве куда-нибудь далеко и надолго – ну, надоем я им, вот и все! Придут новые – умные, смелые и талантливые. Это ж нормально, а? И вот тогда…
Еще письмо. О, эта из постоянных и верных поклонниц! Такими не пренебрегают – Елизавета Аркадьевна Страстинская, милая дама из Санкт-Петербурга. В отношении Елизаветы Аркадьевны Страстинской язык не повернется сказать «из Питера», потому что дама эта весьма и весьма серьезная. Пишет она мне редко – что слава богу и что характеризует ее не только как слегка тронутую «петербурженку» – так называет себя она, – но и человека действительно в высшей степени интеллигентного. Письма ее осторожны, сухи и наивны, несмотря ни на что. Они тщательно выверены, сто раз отредактированы и наверняка облиты слезами. Дело в том, что мадам Страстинская в меня влюблена – давно, лет двенадцать. Она одинока, старая дева. Кажется, девственница – как-то она намекнула, и я тут же поверил. Таким, как она, непременно нужна нафантазированная любовь. Этими фантазиями мадам, собственно, и занимается последние двенадцать лет. Ей, милой и наивной, кажется, что она наконец нашла своего мужчину – единомышленника, единоверца и мечту всей жизни. Мужчину с большой буквы. Я, разумеется, этим высоким идеалам не отвечаю, но разубеждать ее было бы преступлением. Как можно лишить человека мечты и фантазии? Эх, расспросила бы она обо мне, прекрасном, мою жену Галку! А еще лучше – Нину, мою первую жену и мать моей дочери. Ох, и нарассказали бы они ей! Мама не горюй! Это был бы триллер, настоящий экшен. Драма в нескольких действиях. Слава богу, что милейшей Елизавете Аркадьевне в голову это до сих пор не приходило.
Вообще, у дам подобного склада бывают две крайности. Во-первых, они изо всех сил стараются проникнуть в дом, в самое, так сказать, чрево, в нутро жизни «гения» и там окопаться. Была у нас и такая. Звали ее витиевато – Гилария Анатольевна. Для близких друзей – Гиля. Хитростью и обманом Гиля проникла к нам в дом: в столице у нее имелась однокомнатная квартира, но Гиля соврала, что жилья у нее нет, бывший муж отобрал все, и она, бедная и несчастная, вынуждена скитаться по чужим углам. Все оказалось враньем – квартиренку свою Гиля успешно сдала, как только укрепилась у нас. Получилось это постепенно – одна случайная ночевка – у Галки был тяжелый грипп. Вторая – требовалась помощь по случаю большого приема гостей. Ну и так далее. У нее получилось. Слава богу, все это было недолго – всего-то полгода. Но и за полгода Гиля сумела многое – поссорить нас с Галкой, отвадить от дома парочку друзей, влезть в мои отношения с матерью, и без того крайне тяжелые. Словом, Гиля оказалась для нас, дураков, страшной обузой. А начиналось все самым милейшим образом – она втерлась в доверие к Галке, опутала ее сетями обожания и преданности, наобещала с три короба, и мы ей поверили. Тактика у нее была простая – попасть в разряд самых верных, самых преданных и близких друзей. Стать наипервейшей подругой жены гения, ее компаньонкой, жалельщицей, наперсницей, ближайшей поверенной. Войти не только в душевные, личные сферы, но и в повседневную жизнь. И очень скоро оказалось, что жить без нее невозможно. Только она способна была разрешать все бытовые проблемы – от варки куриного супа до оказания первой помощи при укусе осы. Гиля лихо набирала и правила мои тексты, писала за меня интервью, созванивалась с телевизионщиками. И нам стало казаться, что с ней, с такой чудесной, действительно стало проще.
Но однажды мы вдруг поняли, что мы не одни – везде, всюду, даже в постели. Там, на уютном семейном ложе, аккурат между нами лежит она, наша спасительница, в голубой ночной рубашке в отвратительный желтый цветочек, с бигуди на голове. И пахнет от нее, надо сказать, премерзко – дешевым мылом (господи, откуда оно здесь у нас?), валокордином и чем-то кислым. Она спит, тихо посапывая. Иногда, правда, всхрапывает. И мы испуганно вздрагиваем и переглядываемся, но молчим. Боимся спугнуть ее сон. И утром она уже на кухне, сидит и пьет кофе из любимой Галкиной чашки. Галка недовольна, но… молчит. Боится ее, родную, обидеть. И в туалете торчит она долго, когда вам уже невтерпеж. И она же первой хватает телефонную трубку и все решает за нас… А потом… А потом от нее не отделаться, кажется, никогда. И наступает отчаяние. А ведь это жена впустила захватчицу в ваш дом. Да, она. Потому что ей это было удобно! Потому что основную часть своих проблем, в том числе и связанных с творчеством любимого супруга, она легко и с улыбкой передала этой захватчице. Именно она ее впустила в дом.
И вот уже в лицо жене брошены обвинения, жестокие и беспощадные. Немного придя в себя, супруга не остается в долгу. И есть правда в ее словах, есть! «Это твоя поклонница! Это твоя фанатка! А фанаты не бывают нормальными!»
«А нет, милая! – снова вступает супруг. – Это тебе было удобно! Это вместо тебя, дорогая, она варила эти отвратные щи! А ты их нахваливала. А я – ненавидел! И сырники ее ненавидел, и котлеты! И рубашки она стирает отвратительно! А уж гладит – вообще не хочу говорить!»
«Ага! – находит новые аргументы жена. – Это мне она набирала текст позавчера! Это меня, а не тебя она возила к зубному! Это мне, а не тебе она достала путевку в Минеральные Воды! Копеечную, надо сказать, но очень хорошую! Это мне, а не тебе она подает чай в кабинет и делает массаж спины, да?»
Но потом все же вывешиваются белые флаги, супруги объединяются, понимая, что поодиночке не выстоять, не побороть хитроумного и коварного врага. И начинают перебирать варианты, искать выход. И это вместо того, чтобы просто дать ей от ворот поворот. Собрать ее скудные сиротские вещички и – за порог!
Но мы осторожны – просто так с ней не обойтись. Будут последствия. Потому что фанаты, маньяки и оголтелые просто так не уходят. Да, мы боимся ее. Это надо признать. Неловко, а надо. Друг перед другом неловко.
В итоге захватчица изгнана – со скандалом, смертельной обидой, планами жестокой мести. Без разницы. Понятно, что не с улыбкой и не с благодарностями. Потому что гений и его супруга оказались людьми непорядочными, неблагодарными и крайне жестокими.
Дальше эта чокнутая будет разносить сплетни, давать интервью «Моя жизнь в семье писателя К.». Ее будут рвать на куски телеканалы и желтые газетенки. Поначалу она, движимая незабываемой обидой, станет бегать туда бесплатно. А потом сообразит, что к чему, и примется зарабатывать неплохие деньжата. Но скоро к ней – и к обидевшим ее гению и его супруге – интерес будет потерян, и она, скорее всего, запрется в своей крошечной квартирке и станет страдать. Или попивать. Или найдет благодарную аудиторию среди соседок-бабулек на лавочке у подъезда.
Жалко ее? Да. Но и себя жалко.
После ее ухода писатель и его жена облегченно вздохнут, у них наступит медовый месяц, Ренессанс в семейных отношениях.
Опять я отвлекся. Опять тяну время. Опять сачкую. Нет на меня Галки, нет! Елизавета не Гиля, ни-ни! Елизавета тактична, интеллигентна и ненавязчива – радость, а не поклонница! Ее редкие, осторожные и деликатные письма никоим образом не беспокоят меня. И все-таки ее влюбленность немного смешна.
Галка вечно ругала меня, упрекала, созванивалась с моим редактором – в целях проверки и контроля. Пролистав – именно так, пробежав глазами с компьютера мою рукопись, – с похвалой она не торопилась. Указывала на мои, как ей казалось, ошибки. Поправляла, критиковала, не соглашалась. И я начинал злиться! Ох, в какую же я впадал ярость! В выражениях не осторожничал.
– Да кто ты такая? – яростно вопил я. – Нет, ты мне ответь! Ты что, филолог? Лингвист? Литератор? Литературный критик? А может, ты журналист? Или поэтесса? А я не заметил! Ах, как же я мог?
Потом, правда, на холодную голову, придя немного в себя, я понимал, что во многом Галка права. Конечно, никакой она не литератор и не критик, а простой парикмахер. Вернее – в прошлом парикмахер. Потом – деловая женщина, открывшая свой салон. Кстати, бизнес ее был вполне удачным и приносил приличный доход, на который мы жили. Но сейчас Галка занимается им в полноги, мы смогли это себе позволить спустя несколько лет после взлета моей карьеры. Мои читатели – тоже обычные люди. Значит, получается, что я должен прислушиваться к жене? Которая, кстати, к моему успеху имеет самое прямое отношение. В той, прошлой, жизни, когда она работала женским мастером, все тоже было не так примитивно, как это может показаться. Галка не просто стригла и красила в районной парикмахерской – она работала в элитном салоне, где считалась лучшим мастером. Попасть к ней было не так-то просто. Запись огромная, на месяц вперед. У нее, у моей хваткой Галки, все, как говорится, было схвачено. Клиенты у нее были совсем непростые – известные актрисы, жены актеров и режиссеров. Писательницы и жены писателей. Художницы и жены художников. Ну и, разумеется, нужные люди. Без них в те времена было не обойтись – директора гастрономов, универмагов, главврачи центральных больниц. Кассирши в билетных кассах – железнодорожных, авиа— и театральных, провизоры центральных аптек, жены важных милиционеров, гаишников и прочих чиновников. А еще ректоры и деканы самых престижных институтов, автослесари и стоматологи. И даже наглые тетки из ОВИРа были клиентками моей жены. Это была такая прослойка шустрых и умелых людей, для которых тот строй, социалистический, с вечным дефицитом и унижением для обычного человека, был Эльдорадо и вечным праздником.
Им все было легко, все доступно и все «без проблем» – любимая фраза. Когда вся страна билась в поисках сапог, детских шубок, колготок, растворимого кофе и железнодорожных билетов, билетов в театр или цирк, моя жена и ей подобные все решали «на раз» – стоило только приподнять телефонную трубку.
Это, конечно, была фантастика! В первые годы нашей совместной жизни я замирал, как жена Лота, наблюдая с открытым ртом действия своей жены.
Конечно, Галка моя чувствовала себя в то время как рыба в воде.
Впрочем, ей в любое время было комфортно и хорошо. Удивительная, надо сказать, человеческая особенность – я всегда этим восхищался. Галка была неисправимой оптимисткой и человеком легким по сути – она так и говорила: «Дело не во времени, а в человеке! Лично у меня всегда все будет в порядке, потому что люблю жизнь, ценю ее, потому что верю в себя – я всегда заработаю на кусок хлеба с маслом и икрой!»
И это была чистая правда. Моя жена никогда не сетовала на трудности, на политическую обстановку, строй, никогда не винила в своих бедах других, никогда не критиковала время и власть – так, значит, так. А мы – мы будем жить! И постараемся жить хорошо!
И жизнь платила взаимностью.
Галка никогда не ныла и не была занудой – в отличие от меня.
Конечно, дело было не только в ее золотых руках – прекрасных мастеров на свете немало. Дело было в ее коммуникабельности, легком подходе, неплохом юморе. На нее было приятно смотреть, ее было приятно слушать. И еще, она никогда не прогибалась, не юлила и не прислуживала – работу свою выполняла с достоинством английской королевы. При взгляде на нее дамы переставали грустить, обращать внимание на морщины, перенимали фасоны ее нарядов, обращались за советами – по всем вопросам. Галка тут же рекомендовала лучшую косметичку, лучшую портниху, лучшего стоматолога.
Конечно, у нее был талант. Несомненный талант – умение жить, умение радоваться, умение дружить и запросто общаться.
С Галкой и мне было легко, особенно после развода с Ниной, моей первой женой. Вот если и были два полюса, то это точно Галя и Нина! Моя первая ко всему относилась «как в последний раз». Для нее все было трагедией, драмой, из которой выхода нет. А если прибавить к этому мой «природный оптимизм»… Парой мы были сложной, потому и расстались Нина ушла, устав ждать моего успеха, в который совершенно не верила. Ее можно было понять – столько лет нищеты, столько лет пустых обещаний с моей стороны. Она не выдержала, что вполне объяснимо.
Я знал – Нина меня очень любила. Она прощала мне многое. И простила бы еще, если бы не Наташа, наша дочь. Простить, что я стеснялся Наташи, не любил ее, Нина не смогла. Сказала мне – уходи, я от тебя устала. Устала от твоего равнодушия. Всё.
И я ушел, радуясь, что она сказала это первой. По сути она спасла меня, облегчила мою участь. «Это она выгнала меня!» – твердил я себе. Сволочь, конечно.
Довольно быстро Нина вышла замуж, и ей опять не повезло. Нет, новый муж моей старой жены не мнил себя великим писателем – был он обычным человеком, стоматологом в поликлинике. Казалось бы, неплохие и постоянные заработки и никаких рефлексий и срывов – жизнь стабильна и уютна. Но нет. Нина снова впала в отчаяние – наша дочь Наташа не приняла отчима. Трагедь. Новая свекровь сноху невзлюбила – драма. Стоматолог мотается к прежней жене и родному ребенку с подарками – все, конец жизни. «А может, он все еще любит жену? Мою дочь еле терпит, а вот своего сына оправдывает во всем! Во всем самом гнусном! А моя девочка…» Ну и так далее. И бедная Нина опять не жила, не радовалась, а выживала, страдала.
Позже я понял – Нина умела только страдать. Есть такие люди – страдающие от всего.
То ли дело Галка! Не складываются у сына отношения с новым маминым мужем? Да наплевать! Ему уже пятнадцать, через пару лет упорхнет из гнезда – будет жить своей жизнью и видеть отчима по большим семейным праздникам.
Неважный муж попался? Да и черт с ним! Уйду от него – и всех дел! Найду другого. Не подойдет тот, другой, найду третьего! И даже если мне будет за семьдесят, – тут она заливалась веселым смехом, – всегда найдется тот, по сравнению с кем я буду еще молодой! Древний старик? Ха-ха! Ну и отлично! Поскорее спроважу его на тот свет и останусь с наследством!
Это, конечно, был юмор. Своеобразный юмор моей жены. Но в каждой шутке, как говорится…
Первый Галкин муж был дискоболом. Поначалу брак и карьера дискобола были удачными. Он вошел в сборную, первым не был и не был даже вторым, но из запасных, из резервных был первым. Много ездил «по заграницам», чемоданами возил тряпки – и любимой жене, и на продажу. Быстро построили кооператив, Галка села за руль новеньких «Жигулей», родила сына и принялась за строительство дачи – солидного загородного кирпичного дома, с баней и камином. Тогда, в восьмидесятых, это было еще редкостью.
Галка моталась по конторам, торгующим строительными материалами, кирпичом, кровлей и прочей ерундой. Договаривалась с рабочими, яростно торговалась и командовала строителями. Самые отпетые наглецы и ворюги считались с ней и даже ее побаивались и уважали. А между тем наш дискобол постепенно начал бухать – скорее всего, от ничегонеделания. От строительства дома Галка его отодвинула: «Нечего лезть! Ты только портишь и развращаешь рабочих!»
Это, конечно, было правдой, но так жестко делать этого было нельзя. Довольно быстро он стал алкоголиком – тяжелым, запойным. Спорт, конечно, закончился, а вместе с ним и командировки, и деньги. А денег надо было много – дом все высасывал и вытягивал, в квартире был нужен ремонт, да и Галка привыкла к сытой и обеспеченной жизни, так же как и ее бестолковый сын Герка.
Она не сразу махнула на мужа рукой – пыталась и лечить, и кодировать, и рыдать, и говорить по душам. И даже пугать.
Но он не пугался и продолжал пить. Тогда Галка забросила свои уговоры и – бросилась судьбе наперерез. Окончила парикмахерские курсы и дала взятку, чтобы устроиться в хороший салон в центре. Правдами и неправдами достала самые последние иностранные журналы причесок. И понеслось! К тому же человеком она оказалась рукастым, способным и терпеливым.
Через полтора года ее рвали на части.
Пахала она очень много – первая стадия ее профессиональной карьеры требовала адского труда и упорства. Дом был заброшен – дискобол окончательно свалился в пропасть, и руку ему уже никто не протягивал – было не до того. А мальчик Гера наглел, прогуливал школу и тоже держал направление в не лучшую сторону.
Но до поры бедная Галка об этом не знала, увы.
С дискоболом разобралась окончательно после пожара, алкаш заснул с сигаретой, выгорело тогда полквартиры. Слава богу, соседи унюхали дым и вызвали пожарных.
Две комнаты и коридор выгорели основательно, до бетона.
А сам дискобол лишь слегка угорел и обгорел. По счастью, Геры дома не было.
Сначала она определила мужа на лечение, а следом отправила в какой-то интернат, или «мягкую», по ее словам, психушку на «постоянку».
– А какой был еще выход? – искренне недоумевала она. – В следующий раз сгореть вместе с ним?
Надо сказать, что передачи она возила исправно, врачам платила. Но забирать его обратно, естественно, не собиралась. Прожил он там лет шесть и помер – царствие небесное. Похоронила она муженька достойно: солидный гроб, новый костюм, хорошее место на кладбище. Поставила памятник. И всё. Это была его жизнь, и он ею распорядился.
А следом всплыли проблемы с сыном – наркотики, фарцовка и прочее, что обычно сопутствует легкой жизни.
Галка и тут не растерялась – в середине девяностых отправила отпрыска за границу, в Англию. В суровый колледж Далвич. Спартанские условия, жесткий контроль всех, от учителей до медиков, никаких карманных денег и развлечений.
Мальчик, конечно, обалдел. Рвался домой, рыдал, что скучает по родине, и умолял мать о прощении. Но Галка была непреклонна.
И что в итоге? Да все нормально! Мальчонка выправился, окончил колледж, поступил в университет Уорика, стал адвокатом, поселился в прелестном городке Бате – в Лондоне было дороговато. Удачно женился на англичанке и родил двух дочерей.
О том, что его матери стоило оплачивать учебу и содержать его, он и не думал. Спасибо ей не сказал, а она не обиделась. «В конце концов, я это делала для себя, – говорила она. – Себе жизнь облегчала. И за себя просила прощения».
К сыну и внучкам Галка ездила часто, раза четыре в год. Внучек обожала, сыном была в принципе довольна, а вот невестку терпеть не могла – сухая вобла без сердца и души. Думаю, она ошибалась. Да, эта Линда была не шибко приятной, но, мне кажется, не злой – просто давали о себе знать британское воспитание и нордический характер.
Но и здесь моя жена довольно быстро уговорила себя: «Да мне на нее наплевать! Недовольна моим приездом? Окей, буду останавливаться в гостинице. На черта мне ее раздражать? Недовольна, что я читаю девочкам русские книги? Да пошла она! Спрашивать разрешения я у нее не буду! Этому дурику Герке нравится такая уродка? На здоровье! Было бы ему хорошо! Я езжу к сыну и внучкам, а не к этой сушеной треске».
Вот что странно – и первая моя жена, и вторая были из семей-близнецов: скромных, с более чем средним достатком. Родители первой жены инженеры, у второй – папа инженер, мама преподаватель в медицинском училище. И у тех, и у других – скромные двухкомнатные квартиры в пятиэтажках. Даже мебель одинаковая: польская стенка, ковер, кухня в голубой цветочек. Почти одинаковые парадные гостевые сервизы: у одних в зеленый горох, у других – в розовый. Я рассмеялся, увидев это.
Тещи были похожи друг на друга, как сестры: распустившаяся «химия» на голове, перламутровая помада «покойницкого» цвета и кримпленовое платье в крупных цветах. В ушах золотые сережки с красным рубином. Думаю, эти две хорошие и усталые женщины непременно бы подружились. Конечно, при других обстоятельствах.
Оба тестя выписывали «Советский спорт», потихоньку строили дачки своими руками где-то за сто первым километром от столицы. Выбивали путевки в профсоюзе – конечно же, в средней полосе, на моря давали другим. По вечерам любили срезаться в дурачка, настаивали вишневую наливочку и стремились на рыбалку – единственную доступную форму кратковременной свободы от семьи.
Они дружно копили на новый холодильник и телевизор, мечтали о машине – пусть даже скромном «Москвиче». Обожали выпить пивка после аванса с коллегами, разгадывали кроссворды и перечитывали старые детективы Конан Дойля.
Они ходили в брюках со слегка потрепанными обшлагами, в самопальных свитерах, любовно связанных женами из старой маминой кофты. Не роптали – так, слегка покусывали надоевшую власть.
В праздники накрывались обильные и вкусные столы – и это при общем дефиците и экономии: салат «мимоза», селедка под шубой, студень и рыба под маринадом.
Как могли, радовались, как умели, отдыхали. И все они были хорошими людьми, скромными и неприхотливыми трудягами.
А вот их дочери получились совершенно разные – ну это вы уже поняли. Нина решила продолжить жить, как родители, «скромно и неприхотливо». Жить лучше, богаче было как-то неловко.
Все, что она вынесла из детства и юности, – абсолютно схожую модель семьи и поведения, да и всей жизни. Хорошо живут только ворюги и спекулянты. Жить нескромно – стыдно и плохо. Покупать у фарцовщиков, переплачивать (плодить спекулянтов) – стыдно и неудобно. Лучше носить советский ширпотреб, чем туфли за сто рублей и платье за двести. Неприлично. Что подумают люди, откуда такие доходы? «На труды праведные не построить хором каменных» – любимая поговорка семьи. «Жить скромно, при этом не теряя достоинства». «Жить бедно, но честно» – тоже любимые присказки. Достоинство она понимала именно так – не роптать и быть всем довольной.
Галка пошла от противного – ей было страшно представить, что свою драгоценную жизнь она проживет точно так же, как ее мать и отец. Отстаивать очереди за вареной колбасой? Давиться за бананами и лимонами? Унижаться перед наглой продавщицей за коробку шоколадных конфет? Штопать колготки, ходить в стоптанных туфлях и саморучно сшитых юбках из дешевого мнущегося сатина? Ну уж, увольте!
При этом она обожала родителей. Обожала, ни на грамм не уважая.
В институт она не пошла – а зачем? Чтобы корпеть в учреждении за сто двадцать рублей? Или стоять у доски в классе перед балбесами, надрывая осипшее горло? Э, нет! Уже в шестнадцать лет Галка решила, что ей и самой под силу разукрасить, облегчить и разнообразить свою жизнь. И у нее это, надо сказать, получилось. Думаю, если бы моя вторая жена выбрала себе другой путь, например, врачебное или учительское дело, это бы тоже получилось у нее замечательно. Человеком она была безусловно талантливым. Но торопливым и нетерпеливым. Ей хотелось всего и сразу, и желательно – побыстрее.
Мы встретились с ней спустя восемь лет после моего развода. Тогда я уже пришел в себя от обиды на Нину, которая выгнала меня и почти тут же выскочила замуж. Правда, обида на жизнь еще оставалась – я по-прежнему работал в своем скучном журнале, клепал дурацкие пустые заметки о тружениках полей и сталеварах, а по вечерам писал для души. И не верил уже ни во что. А уж в то, что у меня получится, – и подавно. За эти восемь лет у меня были, конечно, истории и романы. Один – вполне серьезный, кстати. Я был влюблен и даже рассчитывал на совместную жизнь. Но не получилось. Было слишком много всяческих трудностей. Дама моя была замужем и жила обеспеченной жизнью. Позвать ее замуж – за себя, неудачника и нищеброда, – мне казалось кощунством. А она, как выяснилось позже, этого очень ждала. А потом ждать просто устала. Я не чувствовал себя виноватым. Куда? Куда я мог ее привезти? В свою восьмиметровую комнату? В коммуналку с соседями, пьющим Вованом и его верной подругой Раиской? На свой односпальный диванчик? Нет, любить ее там, на нем, было замечательно. А вот жить – невозможно.
Она приходила ко мне «дыша духами и туманами» – после нее надолго оставался шлейф чудных запахов и уверенности в себе.
Раиска, моя соседка, ее почему-то ненавидела. Увидев, шипела вслед:
– О! Шалавы пошли! Жди дождя!
Прекрасная дама быстро проходила в мою комнатенку, плотно закрывала дверь и плюхалась на диван. Ее лицо было бледным от волнения и от стыда.
Она очень любила что-нибудь придумать, присочинить. Думаю, жить ей было скучновато и пресно. Ей хотелось страстей, даже страданий. С первым было у нас неплохо, а вот со вторым как-то не очень.
Она часто плакала, моя возлюбленная. Кажется, мнила себя Маргаритой – да, да, как похоже: богатый и серьезный муж, отсутствие в том доме любви и понимания. Достаток, не приносящий ни счастья, ни даже радости. А тут почти полуподвал – нет, конечно! Я жил на третьем, и довольно высоком, этаже – каморка Мастера. Вот то, что каморка, – так это точно. Скромный и аскетичный быт, рукопись на столе – наверняка гениальная. И он, всеми покинутый, заброшенный и несчастный… Ждет только ее, свою Маргариту.
Все это, конечно, была полная чушь. Я радовался своему одиночеству, о высоком не мечтал, а мечтал заработать немного денег. Стать успешным, известным? Не знаю, я в это не верил. Да, мечтал выбраться из этой каморки, жить в нормальной квартире, носить настоящие джинсы и батники, слушать японский магнитофон и есть твердую колбасу – сколько хочешь, от пуза, запивая ее настоящим французским «Курвуазье».
Я жил низменными, приземленными мечтами обывателя – и все про себя понимал.
Понимал и то, что я – далеко не гений. Но при этом – человек не без способностей, пишущий понятно и складно. И кажется, проникновенно.
Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что могу зацепить чужую душу, цапануть за сердце – проза моя была стройной, ироничной, душевной и человеческой. Я много читал – современных и модных авторов. Среди них было много достойных. Конечно, я сравнивал, и часто в свою пользу. Человеком я считал себя объективным и очень земным.
Кстати! Спустя годы, когда меня взяли, именно эти слова повторил мой редактор: «Вы пишете для людей и о людях, а это всегда интересно читать. К тому же вы пишете честно и без прикрас – в том числе о любви и человеческих пороках. Пишете с юмором и с иронией – и это точно понравится вашим читателям. Вы читабельны». О как! По-моему, кошмарное слово.
Я отдавал себе отчет, что не пишу вещи эпохальные, что моя проза далека от прозы высокой. Это, скорее, проза о бытовом, общечеловеческом. Но меня это не расстраивало и не смущало – это был мой огород, и я окучивал его, кажется, довольно успешно. И еще – у меня были преимущества: я писал легко и с удовольствием. И еще я почти всегда оставлял людям надежду. Слишком сложна и тяжела наша жизнь. И без надежды… И людям, моим читателям, это нравилось.
Итак, мой затянувшийся роман с той дамой изжил себя, и мы, помучив изрядно друг друга – а без этого она жизни не мыслила, – все же расстались.
Кстати, спустя лет семь или восемь, точно не помню, я встретил ее в ресторане. Был я с Галкой, а она с мужем. Все такая же красивая, стройная и веселая. И я с облегчением подумал, бросив короткий взгляд на жену: «Мы поступили тогда мудро и правильно».
Моя женщина – это та, что напротив. Спокойная, выдержанная, уверенная, не способная на истерики. Мне с ней спокойно и, как говорят сейчас, очень комфортно.
Я вспоминал нашу первую с Галкой встречу. Как она обратила на меня внимание? Не понимаю. На смурного, потасканного мужика с затравленным взглядом? Я и сам себе был противен тогда…
Как старый и опытный ловелас я при первом же на нее взгляде сразу отметил – хороша! И очень даже хороша. Средний рост – не люблю ни слишком маленьких, дюймовочек, ни высоченных, огромных бабищ, – стройная и ладная фигура, длинные ноги. Лицо – скорее всего, довольно обычное, но вполне милое и симпатичное, ухоженное. Темноглазая крашеная блондинка, очень модная и современная. На все времена и на любые вкусы. Без каких-то явных изъянов и без яркой демонической красоты. Почему-то я всегда сторонился ярких и громких женщин. Может, побаивался? «Милая женщина, – подумал я. – славная. И кажется, одинокая». Почему я так подумал? Да черт его знает! Почувствовал, что ли.
Так сложилось, что за столом мы оказались рядом. Хозяйка квартиры, вездесущая и ловкая Оля Рошаль, наверняка нас «подсадила». Весь вечер поглядывала на нас, отслеживала. Оля – умелая сваха. А я не возражал. Я строил из себя джентльмена, ухаживал за своей приятной соседкой с большим, надо сказать, удовольствием. И она не возражала – я это видел и чувствовал.
С вечеринки ушли мы вместе. В гости ее я, по вполне понятным причинам, не приглашал – ее встреча с Вованом и Райкой в мои планы не входила. И она не приглашала – впрочем, я ничего про нее не знал – замужем, живет с детьми, с родителями?
Вечер был чудным – с легким морозцем, пощипывающим носы, с медленно и плавно летящим крупным снегом – красота! И к тому же погодка явно способствовала романтическому настроению. Говорила она мало, по делу и без глупостей, что особенно ценно. Никаких дурацких кокетливых смешков, закатывания глазок – что и в молодые-то годы меня раздражало, а уж сейчас, в зрелости…
Девочку она из себя не строила – сказала коротко и скупо: «Живу с сыном, формально замужем, но это не так. Работаю много, но работу свою люблю. Содержу родителей-пенсионеров». Про мужа, находящегося в психушке, она ничего не сказала. И про то, что несколько лет ездит к нему, возит продукты, лекарства и деньги врачам, обмолвилась не скоро, через год, и то случайно. «Ни на что не жалуюсь, – улыбнулась она. И всем довольна».
Я, как известный зануда и нытик, очень ценил людей, способных находить во всем позитив. Восторгался ими, зная, что на подобное сам не способен – сколько хочешь тренируйся, читай умные книги, прислушивайся к церковным канонам и заповедям, что уныние – страшный грех.
Я проводил ее до дома, и мы распрощались. Она оставила свой телефон, чему я очень обрадовался. В ту ночь я не спал – смотрел в окно, наблюдая, как падает мягкий, пушистый снежок. На душе впервые было благостно и спокойно. Даже мои извечные творческие муки куда-то отступили и на время оставили меня в покое. Помню, что заснул я с улыбкой.
Я позвонил Галке на следующий день и, признаюсь, волновался как мальчик. А она была все так же сдержанна и вполне доброжелательна. Согласилась на встречу в тот же вечер – мне это понравилось: не ломалась, не набивала себе цену – вела себя как умная взрослая женщина, к чему терять драгоценное время?
Мы сидели в кафе, что-то ели, пили кофе и белое вино.
На улице она посмотрела на меня испытующим взглядом – с легким прищуром и чуть заметной улыбкой.
– А может, ко мне? Сын у моих стариков – каникулы.
Я только поспешно кивнул, боясь, что она передумает.
Мы взяли такси и всю дорогу молчали. Я осмелился взять ее за руку, и руки она не отняла.
После всего, что произошло – а это было прекрасно, – она потянулась за сигаретой, перегнувшись через меня, и, усмехнувшись, спросила:
– Ты удивлен?
– Чем? – Я сделал вид, что не понял вопроса.
– Да всем этим. – Она обвела взглядом кровать.
Я помотал головой – дескать, о чем ты?
– Знаешь, – тихо продолжила Галка, крепко затянувшись, – мы ведь не дети, верно? И времени на эту лабуду, типа свиданий, букетов и лимонада с пирожными, у нас не так-то много. К чему корчить из себя недотрогу? Мы ведь оба этого хотели.
– Ты совершенно права! – жарко откликнулся я. – Ты настоящая женщина. И все эти глупые атрибуты… К чему нам они? И что они изменят?
Я испугался, что за этим монологом последует ее: «Не думай обо мне плохо. Я не такая. Так – только с тобой. И в первый раз, поверь!»
Но слава богу, ничего этого не последовало – она просто легла на мое плечо и быстро уснула.
Я был поражен – обычно так поступают мужчины. И эти вечные женские обиды – а понежничать? А поговорить о любви? О нас с тобой, о совместных планах? Где-то я вычитал, что мужик так устроен – после хорошего секса он засыпает. Что-то там с гормонами, а не с безразличием и равнодушием. А вот дамам надо поговорить – проговорить, так сказать, все произошедшее. Услышать подтверждение, что ты ее любишь, что она тебе стала еще дороже.
Спала Галка крепко и спокойно. Не спал я – рефлектик и идиот. Это мне, а не ей хотелось поговорить о любви. Я боялся утра – утром всегда сложнее. Но и утром она меня не разочаровала – выглядела свежо, не вскочила спозаранку, чтобы навести марафет и сделать горячий завтрак – что-то вроде только что испеченных блинов или сырников.
Она сладко потянулась, выгнулась по-кошачьи, провела пальцем по моему лицу и, не открывая глаз, сказала:
– А кофе в постель? Тормозишь! – И тут же открыла глаза и засмеялась чудесным и звонким, девичьим смехом.
Я только развел руками:
– Не знаю, где у тебя кофе, прости! Но обещаю исправиться!
Ей надо было спешить на работу – впереди был Новый год, и дамы торопились навести марафет. Она быстро оделась, вскипятила чайник и нарезала хлеб и сыр. Торопясь, на ходу, мы выпили кофе и выскочили за дверь. Внизу стояла ее машина. Вела она смело, умело и ловко. У метро я вышел. Мы ни о чем не договаривались – просто помахали друг другу рукой. Весь день я мучился – мне казалось, что для нее эта ночь была чем-то незначительным, привычным, рядовым. И мне было тревожно и обидно. Слишком прагматичной, слишком уверенной, слишком прозаичной показалась мне эта история.
Стало немного не по себе.
Галка позвонила мне тем же вечером и тихо сказала:
– Спасибо тебе!
Я смутился:
– О чем ты?
– Спасибо! – настойчиво повторила она. – Ты был так нежен, так осторожен. Поверь, пойти на это мне было непросто! Совсем непросто, но… очень хорошо!
Я чувствовал, как жар волнения и нежности, благодарности и радости заливает меня с макушки до пят.
– И тебе… спасибо, – хрипло ответил я. – Ты была… замечательной!
С того дня и начался наш роман.
Мы не теряли напрасно времени – встречались почти каждый день. Пару раз посидели в кафе и даже сходили в кино. Правда, фильм не досмотрели – она наклонилась ко мне и шепнула:
– Слушай, мы дураки! Зачем мы теряем драгоценное время? Тем более на такую вот чушь! Пошли, а? И побыстрее!
Я кивнул, и мы стали пробираться сквозь ряды.
Уже дома, чуть выдохнув, она сказала:
– Ну? И кто был прав? А ты бы и не решился, верно?
И мне оставалось только кивнуть – она все равно все понимала, моя Галка. Хотя никто не обязан понимать другого всегда – ни мать дитя, ни отец сына, ни муж жену и наоборот. Ведь кроме понимания важно еще и ощущение того, что человек, который рядом с тобой, тебя чувствует, даже если не понимает.
Сошлись мы довольно скоро – через полгода после первой встречи. Быстро стало ясно: нам вдвоем хорошо.
Тогда еще был жив Галкин муж, и расписались мы только после его смерти. Гера жил у ее родителей – она много и допоздна работала и уследить за ним не могла. Но каждые выходные его навещала или забирала к себе.
Я так и не привык к пасынку – я его не растил. Когда он находился у нас – точнее, у себя, в квартире его матери, – то сидел у себя в комнате или болтался во дворе.
Было видно, что нами он тяготится и стремится поскорее вернуться к бабке и деду.
Ко мне, как мне казалось, он был вполне индифферентен – в разговоры не вступал, вопросов не задавал, а на мои отвечал коротко и скупо. Но и я не стремился к близости – меня это вполне устраивало.
Правда, однажды у жены проскочило:
– Тебе были выгодны такие отношения с Геркой – меньше спросу и меньше ответственности!
Она была права, но я сделал вид, что немного обиделся.
Хорошим отчимом я не стал. Впрочем, и отцом я был никудышным. Да и вообще я понял, что отнюдь не чадолюбив. Что уж поделать. Наверное, я был слишком погружен в себя, слишком много думал о неудавшейся карьере и нескладной судьбе.
Я был эгоистом и никогда этого не скрывал.
Опять растекаюсь мыслью по древу! Это моя, так сказать, профессиональная и человеческая особенность. За это меня ругает редактор, моя дорогая Лариса.
Все, все! Все. Я начинаю работать!
Марина
Я очнулась и поняла, что жизнь проходит мимо, в один день. А вот отношения мои с Никой довольно быстро испортились. Я слишком рьяно и горячо включилась в воспитательный процесс. А ей, давно отвыкшей от контроля, это, естественно, не понравилось.
Я без конца цеплялась к ней, зудила и «приматывалась», по ее словам. Я так ретиво взялась за дело, что у нас начались кошмарные и постыдные скандалы. Она отвыкла от моего участия в своей жизни и воспринимала все это критически: «А, наша мама очнулась! Вспомнила о своих обязанностях!»
Я контролировала ее учебу – требовала тетради и дневник. Ника саркастически и театрально смеялась: «Наивная мама! При чем тут дневник? Это уже анахронизм, если ты не в курсе!»
Конечно, она исхитрялась иметь несколько дневников – для учителей и для меня.
Я грозила ей, что пойду в школу, – на мои угрозы она отвечала, что уйдет из дома.
Я испугалась. Цель была достигнута. В школу я не пошла, но скандалы по-прежнему затевала и сдерживать себя не могла. Это было моей ошибкой. Я словно попрекала дочь ее же несчастьем – неудачной первой любовью, ее легкомыслием и, как следствие – абортом.
К тому же мне очень не нравилась ее новая подружка Тихонова – Тишка, как называла ее дочь.
Тишка ушла из школы после восьмого класса и работала в какой-то гостинице на окраине города. Кем? Говорила, что горничной. А кем бы еще ее взяли с восемью классами образования? А что было на самом деле, не знаю. Но деньжата у Тишки водились.
Тишка была девицей перезрелой и наглой – нахально, без стеснения, курила у нас на балконе, бесцеремонно лазила по кастрюлям и в холодильник, оставляла пепельницы, полные окурков, и, кажется, чувствовала себя полноценной хозяйкой. На мою глупую дочь она действовала как удав на кролика – эта дурочка, открыв рот, с восторгом слушала басовитый голос новой подруги.
Тишка была красивой девицей, если бы не чрезмерная, не по возрасту полнота и слишком агрессивный макияж.
Я боялась всего – предполагая, какие у этой Тишки друзья, например. Моя бурная фантазия представляла, как она продает мою дочь заезжим кавказцам или чернокожим. Я залезала в Никины карманы и сумки – не завелись ли там деньги? Нет, слава богу. Хотя она могла бы их где-то прятать – например, у той же Тишки. Запросто.
Семейка у этой Тишки была тоже, прямо скажем, не фонтан – пьющий папаша и мамаша торгашка. Мамаша стояла на улице «на лотке», торговала яйцами. Я рассматривала ее из-за угла – ужасная, страшная бабища. Красное отекшее лицо, ополовиненный от зубов рот, бордовые, мужские ручищи. А как она цеплялась с покупателями!
Хотелось швырнуть ей яйца в лицо. Правда, разве это – лицо?
Тишка часто оставалась у нас ночевать. Мне, конечно, это было неприятно. На кухне стояли чашки от чая и кофе с красными ободками от помады, нестерпимо воняло окурками и резкими, убойными духами непрошеной гостьи. Бр-р-р-р!
Я оттирала чашки содой и ошпаривала кипятком. Мне казалось, что от этой Тишки можно запросто подхватить что-нибудь венерическое.
На мои вопросы и крики: «А что у вас общего? Ты же девочка из приличной семьи! Папа был бы в ужасе, увидев такую твою подругу!» – Ника демонически усмехалась и отвечала: «Лучше такая подруга, чем никакой!»
И это была чистая правда – подруг у меня давно не было. Те, кто был, давно исчезли. Вот удовольствие – общаться с вечно страдающей женщиной! А мне ни с кем не хотелось обсуждать свою жизнь, ныть и жаловаться на злодейку-судьбу. А на чем она зиждется, женская дружба? На откровениях, искренности и доверии, так ведь? Откровенничать мне не хотелось. И доверять тоже. Да и что доверять? Секретов у меня не было, личной жизни тоже. Вспоминать мою жизнь с Сережей? Нет уж, увольте! Это мое и только мое. И прошлое счастье только мое. И мое необъятное горе. У меня нет любовников. Я не интересуюсь тряпками, не люблю сплетни. Мне не нужны утешения в виде разговоров. Мне совершенно неинтересны чужие проблемы – хватает своих. Я не хочу обсуждать свою дочь – потому что мне стыдно. У меня нет свекрови – она давно умерла, царствие ей небесное! – не хоронила своего сына, бог ее пожалел. На чем будет держаться эта дружба? Не понимаю.
И вообще – от пылкой дружбы, что была в юности, у меня осталось странное послевкусие – некрасивая тогда получилась история. До сих пор больно… зарубка на сердце осталась – как ни крути.
Свою подругу Аню я обожала – умная, смелая, ловкая. Аня много читала и в отличие от меня имела на все свое мнение. Я восхищалась ею и немного завидовала – ах, мне бы так! Мне бы чуть-чуть Аниной смелости и красоты!
Я смотрела ей в рот, повторяла ее жесты, стриглась «под Аню», читала то, что читала она. И сама не замечала, как говорю с ее интонацией.
Кончилось все довольно печально – Аня, моя верная и единственная подруга, которой я так восторгалась, украла у моей мамы кольцо и деньги. Да, именно так. Мама копила, откладывала деньги на летний отпуск, отказывала себе во всем, мечтая вывезти меня на море. Деньги были в маминой комнате в старой деревянной шкатулке с репродукцией картины Шишкина «Рожь». Там же лежали и мамины «драгоценности». Ну это вообще громко сказано: обручальное колечко, которое она сняла с руки после ухода отца, пара золотых недорогих сережек, бабушкины золотые часики без браслета – конечно же, неработающие, просто память. И единственная более-менее ценная вещь – золотое кольцо с аметистом. Для нас с мамой это было богатством.
Мама, хватившись колечка и денег, стала спрашивать:
– Марина! Кто у нас был?
– Никого, – спокойно ответила я. – Никого мам, честное слово! Только Анька, и все!
– Анька? – повторила задумчиво мама – Анька, и все?
Я беспечно кивнула:
– Ага!
Мама тяжело опустилась на диван и проговорила мертвым голосом:
– Марина! Море отменяется. – И заплакала. Заревела и я. Я кричала, что моя Анька сделать этого не могла!
– Украсть наши деньги? Мама, ты что! Как ты можешь такое подумать? Анька – мой самый близкий друг и честнейший, порядочный человек!
– Тогда кто? Ты? – все тем же мертвым голосом спросила мама.
Помню, что я на маму сильно обиделась – сама небось куда-то засунула и очернила человека!
Мама перерыла весь дом. Ничего. Назавтра дом перерыла я. Все то же.
Потом я принялась вспоминать. Я готовила на кухне чай, а Анька оставалась одна в комнате. Минут десять, не больше. А разве для того, чтобы украсть кольцо и деньги, нужно больше?
И до меня наконец дошло. Как же я плакала, господи! Как же убивалась! Не из-за денег и не из-за кольца, о котором я, кстати, мечтала! Я не думала о море, которое мне снилось несколько лет. Я думала о предательстве.
Я доверяла Аньке самые сокровенные мысли и секреты. Я рассказала ей про уход отца, а это было самым болезненным. Анька охала и утешала меня.
Ну а мама вообще замолчала – тяжело переживая потерю денег и утрату нашей мечты о море.
Это случилось в пятницу после школы. Обычно на выходные мы созванивались и, конечно, встречались. Ездили в центр, ходили в кино, болтали. В эти выходные Анька не позвонила. Я увидела ее в понедельник, через два дня. Увидев меня, она слегка покраснела и нахмурилась. Я пересела за другую парту. Анька меня ни о чем не спросила. Тогда я окончательно убедилась в справедливости своей страшной догадки. Я еле высидела тот день и после уроков нашла силы к ней подойти.
– Как ты могла? – хриплым голосом спросила я. – Как ты могла?
Анька мотнула головой:
– Ты о чем, Мань? Не пойму!
Но я видела, как бегают ее глаза.
Я смотрела ей в лицо и понимала, что я ее ненавижу. Ненавижу так сильно, как не ненавидела еще никогда и никого. Даже отца, когда он нас бросил. Мне хотелось вцепиться в ее наглое и красивое лицо, исцарапать его, исхлестать. Кричать на всю улицу, чтобы все знали, что она воровка и предательница!
Но я ничего этого не сделала. Не смогла. Не смогла даже дать ей пощечину, плюнуть в ее подлые глаза. Не смогла крикнуть – горло словно перетянули тугим жгутом.
Я ничего не смогла! Я половая тряпка! Насекомое. Пыль под ногами.
А она усмехнулась и покрутила пальцем у виска – дескать, лечиться надо! И с наглой ухмылкой пошла прочь. А я осталась стоять на месте – оплеванная и униженная.
Через три месяца Анька с родителями переехали в другой район, в новую квартиру. Я слышала, как Анька хвастается новыми хоромами и приглашает девчонок в гости. Кстати! Гуляла она теперь в новых джинсах! Настоящих, синих, шикарных «Вранглерах».
Слава богу, она укатила, и мне стало легче дышать.
Все, все! Не буду. Больше не буду! До сих пор больно.
Моя карьера концертмейстера закончилась – я сломала два пальца на правой руке. Поскользнулась на мокрой ступеньке в подъезде. Я потеряла любимую работу. Я аккомпанировала певцу – немолодому баритону и хорошему дядьке. Пик его короткой известности давно прошел, и мой шеф колесил по маленьким городишкам и поселкам. Ну и я вместе с ним. Я относилась к нему как к отцу, немного жалея его. Он был женат на молодой женщине, которая, как мне казалось, была страшно рада его гастролям. В гостинице я стирала ему рубашки и отпаривала брюки – мне было неловко, что он неопрятно выглядит на сцене. Кажется, и он сам все понимал про свою молодую жену – однажды я застала его плачущим в номере.
Денег мы зарабатывали немного. Меня пару раз пытались переманить – я считалась неплохим аккомпаниатором. Но я не бросала его – жалела. После травмы у меня был один путь – музыкальная школа. Что ж, думала я. Так – значит, так. В конце концов, командировки семье не на пользу. И я довольно легко с этим смирилась, разве что поплакала пару ночей.
Кстати, Сережа тогда смеялся:
– Нашла от чего плакать, Маруся! Главное, что мы вместе! А все остальное – фигня. Просто будем видеться чаще – что, разве плохо?
В музыкальной школе я, конечно, общалась с коллегами. Почему-то мне было приятнее общаться c женщинами в возрасте. Они не хвастались мужиками, а были озабочены детьми, внуками, болячками и говорили об учениках. Молодым все это было до фонаря.
Коллеги не лезли мне в душу, понимая, как мне тяжело – у них уже был жизненный опыт. Конечно, они жалели меня – такая молодая, а уже вдова. Такая молодая, а профессию потеряла!
Нежнее всех я относилась к Тамаре Павловне – завучу нашей школы. Ей было хорошо под пятьдесят, и она все время боялась, что ее «уйдут» на пенсию. А на руках у нее был престарелый лежачий отец и взрослая нездоровая дочь. Об этом все знали.
Мы вместе ходили обедать и вместе пили кофе в комнате отдыха.
Тамара Павловна все еще оставалась красавицей – невысокая, стройная, с сохранившейся талией и хорошими ногами. У нее было гладкое лицо и прекрасные зубы. В молодости она занималась гимнастикой и фигурным катанием. Первым – почти профессионально, а вторым – по зову души.
Она была сдержанной, невозмутимой и остроумной. Говорила мало, но мысли свои выражала четко, смело и с большим юмором. Как говорится – не в бровь, а в глаз. Она ни разу не задала мне ни одного вопроса про Сережу, о котором, конечно, все знали. Но она не была любопытной. Она спрашивала про Нику, интересовалась здоровьем мамы. Говорили мы про кино, про книги, про театры.
Тамара Павловна была киноманкой и театралкой. Прекрасно знала русскую классику и современную живопись. Это она открыла мне Муху и Климта – до нее я про них и не знала.
Мы никогда не сплетничали про коллег, не обсуждали начальство, не жаловались на родню и на болезни. Мы тихо и приятно дружили.
Однажды Тамара моя заболела, и я поехала ее навещать. Вызвалась сама, не предупредив больную. И это было ужасной ошибкой. Я долго не могла себе этого простить. Дверь мне открыла девушка – если можно это назвать девушкой. Это была огромная, горообразная туша с лицом олигофрена – отечным, раздутым, бессмысленным. Крохотные, абсолютно пустые, без каких-либо эмоций глазки, крошечный, словно с лица младенца, нос. Полное отсутствие бровей и ресниц и огромный, мокрый, бесформенный, полуоткрытый рот. Волос на голове тоже почти не было – розовая кожа просвечивала сквозь утиный пух. Все это довершали огромные, раздутые ноги в шерстяных носках и байковый серый больничный халат. И это была дочь моей прекрасной, красивой, стройной Тамары.
Девушка смотрела на меня в упор – растерянно и с испугом.
– Кто там, Леночка? – услышала я голос Тамары. – Доктор?
Леночка замычала и довольно проворно юркнула в комнату.
– Кто здесь? – взволнованно выкрикнула встревоженная Тамара – Кто?
Мне бы рвануть вниз по лестнице, убежать, утечь, как меня не было. И никто бы не узнал, что это приходила я.
А я… Я не сообразила.
Я вяло откликнулась:
– Я. Это Марина, Тамара Петровна! К вам, навестить…
Молчание. А потом чуть хрипловатый, со вздохом голос:
– Марина? Ну проходите.
И я прошла. Я старалась не смотреть на Тамару. А она уже взяла себя в руки.
– Да, Мариночка. Такое вот горе. Такая, выходит, судьба. У меня и у Леночки – что тут поделать?
Я молчала. Мое горе показалось мне… Нет, не мелким и не незначительным, конечно же нет! Мое горе было бездонно, черно и вечно. И все-таки я подумала о своей Нике – вполне симпатичной, здоровой и нормальной Нике. Перед глазами пролетели наши скандалы и ссоры. Господи! О чем это я? Какие скандалы? Какая учеба и тройки? Какая там Тишка, предмет моих недовольств и страданий? Какая же это чушь, какие мелочи! Моя дочка здорова. Все! И дальше нечего обсуждать.
Я выложила на стол апельсины, бананы, конфеты и сок. И тут же сообразила – какая же я идиотка! Нужно было взять курицу, кусок мяса, сыр, колбасу, пачку масла и яйца, Тамара болела давно, недели две – пневмония. Наверняка в доме не было никакой еды.
Я всполошилась и заторопилась в магазин. Тамара меня остановила:
– Не надо, Мариночка! Спасибо, я ничего не ем – только пью чай и теплое молоко, все это приносит соседка. А Леночка всегда ест одно и то же – белый хлеб и варенье. И больше ничего, представляете? Только хлеб и варенье, – с тяжелым вздохом повторила она. – На завтрак батон, на обед и на ужин. Полкило варенья на день. Ах да, еще она любит сгущенку! Но ее невозможно достать. А наши запасы давно истощились. Вот и разнесло мою девочку – ну вы и сами видели. Леночка очень упрямая – это свойство ее болезни. И настаивать ни на чем нельзя – начинаются нервы и слезы. Вот я и смирилась. Куда деваться?
– Это… с рождения? – тихо, не поднимая глаз, спросила я.
– Да, – ответила Тамара. – Муж скрыл от меня свою семейную историю – боялся, что я не стану рожать. Его родная сестра была такой же, как Леночка. Но она жила в специальном доме, вы понимаете. А я свою дочь не отдала. Не смогла. Хотя понимала, что ждет меня впереди. Он, конечно, каялся, чувствовал свою вину. Но через семь лет ушел. Сказал: прости, я не выдержу. Слишком хорошо знаю про это.
Конечно, ему хотелось нормальную семью, здоровых детей. Я его понимаю. Совсем молодой и крепкий мужик. И у него получилось – двое прекрасных детей, двое мальчишек. И слава богу – здоровы! Он счастлив.
– А вы? – вырвалось у меня.
– Я? Что говорить про меня? Вы сами все видели. Значит, такая судьба.
Я молчала. Ну почему? Почему эта чудесная, эта прекрасная женщина и – такая судьба? Она вполне могла выйти снова замуж, родить здорового ребенка и быть счастливой! Разве нет? А Леночка жила бы спокойно в специальном интернате. Вряд ли она что-то понимает про эту жизнь. Но я, разумеется, промолчала. Это чужая жизнь и чужая судьба. А я лишь случайно, по неосторожности, коснулась чужой беды, чужого горя.
– А дома может одна оставаться? Это не страшно?
Тамара покачала головой.
– Конечно же нет! Приходит няня, хорошая женщина. Готовит ей чай, приносит свежий хлеб – каждый день свежий. Вчерашний она есть не будет. Няня, конечно, недешево, но деваться некуда. По крайней мере, я могу работать и зарабатывать хоть какие-то деньги. Нет, ее отец помогает! Это подспорье. Алименты давно закончились – Леночке уже двадцать три, но ее отец исправно нам помогает. К тому же ее пенсия по инвалидности. Но это, конечно, копейки. Газ я перекрываю, окна на специальных запорах.
Мы помолчали.
– Слава богу, три месяца назад ушел мой отец.
Я вздрогнула.
– Слава богу?
– Да, да! Не удивляйтесь, Марина! Именно так – слава богу! Последние восемь лет жизнь его была невыносимой – он не вставал. Отмучился, как говорится. Ну и я вместе с ним – признаюсь, это было ужасно.
– Но вы же могли выйти замуж, такая красавица!
– Замуж? – рассмеялась она. – Да господь с вами, Марина! Куда я с таким багажом? Кто это выдержит, а? Если родной отец… Зря вы пришли. Вот, расстроились, да? И зачем вам это, правда?
– О чем вы? – возразила я.
– Да, зря. Упрямая вы! Но понимаю, хотели как лучше. И значит, спасибо! А то, что вы стали свидетелем…
– Не волнуйтесь! – перебила ее я. – Никто не узнает! Честное слово! Вы же знаете – я умею молчать!
– Ну и спасибо! – Тамара накрыла мою руку своей. – Езжайте домой! И не думайте о нас. У всех свои беды и своя судьба, верно? Только вот что, Марина, – она замолчала, подбирая слова, – вы должны помнить о том, что жизнь – увы! – коротка! Вы молоды, да… Но все так быстро проходит. Словом, вы меня поняли! Не отказывайтесь от своего человека – ни в коем случае не отказывайтесь!
– А как понять, что он мой? Он уже был у меня, этот мой.
– Да почувствуете! Уверяю вас – сразу поймете! Родство душ – это же сразу понятно! А про то, что был… Вы слишком молоды, чтобы поставить крест на себе. Запомните это! И еще – нельзя жить в постоянном горе. Нельзя! Нельзя уничтожать себя, изводить. Лучше и легче никому от вашей тоски не будет – и вам в первую очередь. Отпустите свое горе, Марина! И это не будет предательством, уверяю вас!
Я шла медленно и повторяла: «Своя судьба. Да. У всех своя судьба. Горе и счастье. Печали и радости. Значит, так надо».
И еще я думала о достоинстве. Человеческом достоинстве. О Тамаре. Ни слова нытья. Ни минуты жалоб. Ни одной слезы на людях. Хотя, наверное, и слез у нее не осталось – все давно выплакано. Бедная, бедная, бедная моя дорогая подруга! А я несносная и бестактная дура. Ну почему я не сбежала?
Только после этого визита я кое-что поняла и ослабила хватку в отношениях с Никой. Стало лучше. То есть польза от того разговора с Тамарой была. Но еще долго я переживала из-за своей бестактности. Это был урок – быть сильной, терпеливой, терпимой. И еще – никогда, ни при каких условиях не забывать, для чего тебе дана твоя жизнь, единственная и неповторимая.
Которая больше никогда не повторится.
С этого ужасного дня мне стало легче жить. Чужие горести не утешают, но немного примиряют с собственной жизнью.
Я впервые обратила на себя внимание и ужаснулась. Я стала похожа на зачуханную, несчастную пенсионерку. Знаете, из тех, что бредут, опустив голову, и что-то бормочут себе под нос. Глаза у них пустые, равнодушные, застывшие. А если вдруг они слегка оживают, то на мир смотрят с растерянностью или, что хуже, с ненавистью. Они вне социума, вне жизни. Вне всего. Их не интересуют даже собственные дети, они не желают вылезать из своей скорлупы, потому что банально боятся.
Я такая же. Я живу в своем мирке, в своей ракушке, и ничего не хочу видеть и знать. Мне не то чтобы комфортно в нем – нет. О комфорте речь не идет. Мне в нем не так страшно. Я привыкла к нему, даже пригрелась и обустроилась. А выглянуть из своей скорлупы мне страшно. Просто страшно, и все. Я боюсь всего – людей, машин, музыки, разговоров, новостей и событий. Не дай бог – новых знакомств! Перемен и перемены участи – вот этого я боюсь больше всего.
Только дома мне становится легче, меня чуть отпускает, потому что здесь, дома, меня никто не трогает, никто ни о чем не просит и не докучает. Я коротко отзваниваюсь маме – едва сброшу туфли и надену халат. Старый халат, в заплатках и с дыркой на рукаве. Он большой и теплый – советская байка. Когда-то он был голубым, сейчас почти серый. Серый и выцветший, как моя жизнь. Букетики мелких цветочков давно стерлись от многочисленных стирок и расплылись – их почти не заметно. Но мне в нем тепло и уютно – он, этот старый и страшный халат, моя домашняя скорлупа. Даже здесь, дома, мне нужна скорлупа. А вот тапочки у меня новые – старые выкинула Ника, сказала, что они оскорбляют ее эстетический вкус и портят интерьер квартиры. Господи, какой там интерьер! Просто смешно. Интерьера давно нет – есть только стены. Но они меня скрывают, защищают и оберегают. А на прочую красоту мне наплевать. Когда был Сережа, мы мечтали сделать ремонт, купить новую мебель, поменять холодильник. Я не смотрю по сторонам. А зачем? Это слезы. Разползшиеся швы на обоях, плеши на линолеуме, серый потолок, длинная узкая прорезь от ножа на кухонной клеенке. Да уж, печально. Но много лет меня все это не волновало. Или так – я не видела всего этого, не замечала.
А в этот день увидела и ужаснулась. Боже мой, как мы живем! Бедная Ника! Я поняла, почему моя дочь стремилась сбежать из дома – такая тоска и такая разруха!
Но старый и любимый халат в тот вечер я все же не выкинула – не поднялась рука.
План действий мне был теперь понятен и ясен – слава богу, впереди были длинные выходные. Уж что-нибудь я успею. Я открыла холодильник. На меня пахнуло холодом и запахом фреона. Не еды, а именно фреона. Холодильник был пуст, если не считать пачки подсохшего сыра и сморщенных огурцов. В морозилке болтались пачка пельменей и пакет с картофелем фри.
И снова на меня навалилась тоска. Бедная моя девочка, несчастный мой ребенок… Господи, я ужасная мать!
Меня зазнобило, и я поставила чайник. Потом набрала маму. В последнее время наш разговор был коротким – стенографический отчет, а не разговор: «Я дома, я на работе, у меня все нормально, Ники пока еще нет. Где? Да гуляет, наверное. Откуда я знаю? Какая я мать? А я и не спорю – плохая».
Я начинала раздражаться, мама – обижаться, и разговор становился до предела нервным. В итоге я или мама бросали трубку. Сейчас я дала себе установку, что буду сдерживаться изо всех своих слабых сил. Бедная мама! А ей каково было смотреть на весь этот ужас? Я была ласкова и терпелива. Старалась отвечать подробнее. Мама немного растерялась. В конце разговора хлюпнула носом или мне показалось?
Выпив чаю, я взяла лист бумаги, уселась на диван и стала составлять план ближайших действий.
Уборка, пусть и генеральная, ничего не решала, это я понимала. Нужен был ремонт – пусть косметический, щадящий: обои, потолки, пол. Черт с ними, с дверями, со старой мебелью и плитой. Черт со старыми шторами и раковиной – это все будет потом, когда я накоплю немного денег и наберусь сил. И тут я вспомнила про себя! Я вскочила, почти подбежала к зеркалу и – разревелась. Старуха. Я просто старуха! Мне противно мое отражение.
Потом я открыла свой шкаф. Три платья. И все старье. Такие же блузки, свитера и юбки. Что удивляться? Я не обновляла свой гардероб несколько лет. За все эти годы я не купила себе ничего, кроме нескольких пар колгот. Все эти годы я закручивала старушечий пучок на голове, а раньше у меня была модная стрижка. Потом мне стало не до стрижек, волосы отрастали, и я закрутила их на макушке – так проще и, конечно, дешевле. Гладкие волосы мне не шли – но мне было на это решительно наплевать. К тому же появилась и седина. В ванной не было кремов и духов – все давно закончилось или испортилось. Остатки шампуня и кусок мыла – вот и вся моя косметика на сегодняшний день.
Я глянула на свои руки – длинных ногтей я никогда не носила, музыканту, тем более пианисту, не положено. Но раньше я за ногтями следила – маникюр, светлый лак. А теперь…
Я встряхнула руками, словно хотела сбросить их уродство.
Кожа… Бледная, серая, измученная кожа. А ведь когда-то у меня была прекрасная кожа, тонкая, нежная, с еле заметным румянцем и редкими, как говорил Сережа, забавными веснушками. Многие мне завидовали.
Морщины под глазами. Морщины у рта – «скобки печали».
Неужели это невозможно исправить? Я почувствовала, как холодею от страха. Значит, меня это волнует? Меня волнует моя кожа, мои руки, мои волосы? Значит, я живая? Или это не значит ничего? Так, сиюминутное настроение? А завтра мне будет опять на себя наплевать?
Я плюхнулась на диван и подумала: «Как же было хорошо, когда меня все это не волновало! Как хорошо, а главное – дешево! А тут… Даже представить страшно! Ремонт. Парикмахерская. Магазин». Как же я испугалась!
«Я не потяну всего этого. Просто не потяну, и все. Тогда – зачем? Может быть, снова в старый халат, на облезлый диван?»
Нет. Я поняла – я больше так не хочу. И не просто не хочу – не могу!
Я хочу по-другому!
Наревевшись вволю, я отправилась спать. Утро вечера мудренее. Именно завтра я начну новую жизнь.
Сквозь сон я услышала, как открывается дверь и в квартиру заходит Ника.
«Слава богу! – подумала я. – Теперь точно спать! Потому что мне теперь очень нужны силы. И еще – не дай бог, если наутро, когда я проснусь, все исчезнет – мои планы, мои дерзкие замыслы. Мое вдохновение».
Все, с нытьем покончено. И с прошлой Мариной тоже. Я вспомнила, как на меня накатило чувство брезгливости, когда я разглядела себя в зеркало.
Я намеренно губила себя, уничтожала, топтала. К своей единственной и драгоценной жизни я относилась с пренебрежением, словно проживала черновик, а набело еще успею! А не успею, так и слава богу, не очень и хочется.
Мне стало страшно. В те минуты я думала, что жизнь давно должна была на меня рассердиться, разобидеться, запрезирать и даже возненавидеть. Я совсем не ценила ее, она откровенно меня тяготила.
Утром, открыв глаза, я прислушалась к своим ощущениям – не дай бог, чтобы я оставалась прежней. Это было бы страшнее всего. Больше так жить я не хотела. Но, слава богу, впервые я проснулась бодрой, хоть и страшно перепуганной предстоящими действиями и грядущими переменами. И все же я была готова к борьбе за саму себя. А это, знаете ли, самое сложное.
Ника сидела на кухне и пила чай. На доске лежал кусок подсохшего хлеба и такой же кусок старого сыра, похожего на отломанный кусочек пластмассы.
Я брезгливо взяла его двумя пальцами и, сморщив нос, выкинула его в помойное ведро.
– Мам! – От возмущения и удивления моя дочь поперхнулась. – Ты что, совсем ку-ку?
– Почему? – весело спросила я, отряхивая пальцы. – В каком смысле, Никушка?
От моего веселого тона, от моей улыбки и слова «Никушка» – давно позабытого, разумеется, – дочь еще больше округлила глаза.
– Ты лишила меня завтрака! – возмущенно выкрикнула она. – Мам!
– Ерунда – ответила я. – Ну какой это завтрак? Кусок линолеума, а не сыр! Туда ему и место! А завтрак я сейчас тебе сделаю.
Я достала из шкафа пакет с остатками муки, из холодильника – старый кефир и яйцо, нашлась и горсточка засохшего изюма – и принялась за оладьи. Ника смотрела на меня, не отводя глаз. Она ничего не говорила, но в глазах ее явно читался испуг.
По кухне поплыл давно забытый запах свежего теста и только что смолотого кофе – запах жизни. Мы сидели напротив друг друга, пили кофе, макали горячие оладьи в густое засахаренное земляничное варенье – спасибо маме – и молчали. Дочь рассматривала меня исподлобья, но с интересом.
Наконец она решилась:
– Мам, ты в порядке?
Я громко выдохнула:
– Теперь да, Ник! Я в этом уверена. Ну почти, – нерешительно добавила я.
Дочка подошла ко мне и обняла меня за шею. И в эту минуту я точно почувствовала, что я точно жива.
На ремонт мы взяли кредит. Совсем небольшой, но иначе не справиться. Кое-что подкинула мама – у пенсионеров всегда есть заначки. Конечно, все было очень скромно и очень расчетливо – обои, клей, краски и прочее мы покупали на строительных рынках, дотошно выбирая, где подешевле.
С рабочими нам помогли родители моей ученицы. Из Брянска приехала их родня – муж и жена. За две недели сделали все, о чем мы договаривались. Эти дни мы жили у мамы.
Я словно только проснулась, очнулась от зимней спячки и с удивлением разглядывала окружающий мир. В нем было и кое-что новое – новые магазины, новая мода, новые книги и новые фильмы.
Я принялась жадно читать, проглатывая по ночам книгу за книгой.
Тогда мне попалась первая книга Максима Ковалева. Какое же это было открытие! Какое же счастье!
Конечно же, я постриглась, покрасила волосы и, кажется, помолодела. Я стала красить глаза и ногти – по счастью, у моей дочери было навалом косметики. Мне хотелось яркое платье в крупных цветах, босоножки на каблуке, сумку с блестящим замком. Сладких цветочных духов. Крупных серег и браслетов.
Мне хотелось мяса – большой, толстый кусок хорошего мяса, истекающий соком.
Мне ужасно хотелось пива – крепкого, темного, горького.
Мне очень хотелось сладкого – жирного торта с разноцветным кремом, высоких пирожных со сложным декором.
Маринованных огурцов, шампанского, ванильного мороженого.
Мне хотелось! И это было огромным счастьем. Жизнь победила. Победила меня.
Конечно, на все не хватало. Но Ника, чуть пришедшая в себя от радости за меня, тут же устроилась на работу – по выходным, официанткой в кафе. Ну и я набрала учеников. Теперь мой день был расписан почти по минутам. Еще мы купили в кредит новую кухню и диван для Ники.
Я приходила домой, плюхалась в кресло и оглядывала квартиру. Чувствовала, как на моем лице расплывается глупая и счастливая улыбка.
Свой обожаемый старый халат я все-таки выкинула, если честно, после долгих раздумий. Этот несчастный халат олицетворял мою старую жизнь – серую, заштопанную, пыльную и унылую.
И еще я снова стала готовить, да с таким удовольствием, как, кажется, не делала это раньше. Даже для своего Сережи.
По выходным я пекла пироги – с капустой, картошкой, грибами и луком. Пекла и торты – моя Ника большая сластена. «Наполеон», «рыжик», «медовик» и «сметанник». Кажется, наша квартира пропиталась запахом ванили, лимонной цедры и медовых коржей.
По одежде, которая мне стала чуть тесна, да и по отражению я видела, что поправилась – налились и округлились бедра и грудь, порозовели и наполнились щеки, гладкими стали плечи и руки.
У меня изменилась походка – я стала ходить плавнее, слегка покачиваясь, как груженая лодка, смеялась моя остроумная дочь.
– Спасибо, что не ледокол, – отвечала я.
Ника стала чаще бывать дома. С порога кричала:
– Мам! А что у нас сегодня на вкусненькое? А на основное? А на десерт?
Мы брали диски с новыми фильмами – конечно, это делала Ника – и усаживались перед телевизором. Вместе. Перед нами стояла тарелка с какой-нибудь закуской, пиво или чай, орешки и семечки.
Мы смотрели кино, переговаривались, делились впечатлениями, спорили, соглашались друг с другом или нет, но главное, мы были вместе. И мы были счастливы.
Я нашла в себе силы жить дальше. И моя дочь помогла мне в этом.
Максим
Нина появилась через год после моих бурных загулов, и началась наша семейная жизнь.
Почему я вдруг решил жениться? Да потому, что почувствовал страшное одиночество. Мне надоела бесконечная череда случайных подружек – на ночь, на две или на месяц.
Никого у меня не было. Ни матери, ни отца, ни любимой. Даже близкого друга не было – так, приятели. Петька Васильев, дружок детства, уже год как уехал на Север, заколачивать бабки.
От него пришло пара писем – тяжелой жизнью он, кажется, был доволен. «Да, пашем как негры, – писал Петька, – но и денег здесь можно заработать! Приезжай, Макс! Соберешь на тачку, на прикид, рванем на юга – а там такие девчонки! Гульнем от вольного, а? Напишешь парочку репортажей про нашу веселую жизнь! Пойдет на ура! Здесь, дружище, такие персонажи, такие экспонаты – закачаешься!»
Мне хотелось рвануть к Петьке на Север, но я все откладывал – то одно, то другое. Я понимал, что могу собрать по-настоящему интересный, богатый материал. И это было бы отличным пропуском в хорошую газету или журнал. Но я тянул, думая, что еще успею. А через полгода Петька погиб. Сидел на обочине пьяненький, и на него наехала машина, тяжеленный самосвал с прицепом. Кошмарная смерть – прицеп мотнуло и Петьке снесло башку.
Похоронили его там же, в поселке старателей. И никто на его похороны не приехал – деда давно не было в живых, а Петькины родители давно и тяжело пили, совсем потеряв человеческий облик. А я узнал о его смерти спустя пару месяцев.
Итак, я был одинок.
Наверное, сам виноват. Хотя в чем, господи? В том, что мой слабовольный папаша спился? В том, что мать никогда не любила меня? В том, что сбежал от Даши и не женился на Ирке?
Не знаю.
Нина мне нравилась. У нее был спокойный и добрый нрав и правильный взгляд на вещи. Она была взрослой. По сути своей, по природе, Нина была пуританкой, синим чулком, старой девой, которая неожиданно вышла замуж. Во всем она любила порядок, и в мыслях – в первую очередь. Она была скуповатой на эмоции, скрытной и сдержанной. В ее семье не было принято обсуждать личное – это казалось чем-то неприличным, слишком интимным. Рассудительная и мудрая Нина – это не бесшабашная и беззаботная Ирка. И я совершенно искренне думал, что именно такая женщина мне нужна. В каком-то смысле это был брак по расчету – по моему расчету, конечно. Я рассчитал, что так будет правильно. Ирка, мои постоянные загулы, череда женщин – все это меня утомило, я хотел устроенности, порядка, покоя. Только вот я не подумал, что устроенность и покой – не всегда счастье.
Что Нина будет идеальной женой, я понял в ту же минуту, когда попал к ней домой. Там царил идеальный порядок, пахло чистотой, уютом, едой. Было видно, что здесь живет здоровая, нормальная, даже патриархальная, семья, где главу семьи все уважают и немного побаиваются, где мать – хранительница очага, прекрасная хозяйка и верная подруга.
Где соблюдают семейные традиции, поддерживают семейный уклад – елка на Новый год, кулич и красные яйца на Пасху. Где большая родня вместе справляет дни рождения и другие праздники. Где непременно дети звонят родителям и навещают пожилых родственников. Где всегда помогут друг другу – деньгами, советом и делом. Где все встают стеной, если пришла беда. Где, наконец, в августе варят варенье, а осенью квасят капусту.
Мне нравилась их квартира на Власова – маленькая, но уютная, теплая. На стенах фотографии родных, в вазах – цветы. В чайнике – свежая заварка, на столе, под рушничком – аппетитные пирожки.
Меня это каждый раз поражало и радовало – мне казалось, что я наконец обрел семью.
Моя многомудрая теща учила дочь всем тем премудростям, которые знала сама. Даже в ранней молодости Нина, моя будущая жена, прекрасно готовила, отлично вязала и шила, умела планировать бюджет и грамотно экономить. Это в семье считалось совсем не зазорным.
«Нина будет моей женой! – с радостью думал я. – Как же мне повезло! Как я все правильно сделал. Нина – человек для жизни, надежный, уверенный, правильный. А ее семья – это подарок. Компенсация за мое одиночество».
Родители Нины приняли меня как родного сына. Конечно, Нина рассказала им про мою жизнь. Сначала меня пожалели, а потом полюбили. Ну или готовы были любить. Правда, через несколько лет, когда родилась Наташка, меня просто терпели. Как мужа дочери и как отца своей внучки. Никчемного мужа и никчемного отца. Никчемного кормильца и неудавшегося литератора. Помню, как теща шептала дочке:
– Ниночка! А что он там пишет? Книгу? Господи, а зачем?
Тесть намекал про вторую работу, раз на первой платят копейки! Он считал, что это нормально – пахать во благо семьи. «Мужик должен кормить семью» – его любимая присказка. Он искренне удивлялся, что я торчу дома и сижу за пишущей машинкой.
– Чего это он? – недоуменно спрашивал он у дочери.
Что они обо мне думали?
Их дочь я не ценил и не жалел. К больному ребенку был равнодушен и даже брезглив. Денег не зарабатывал и не старался.
Нахлебник и бездельник, к тому же любитель поныть, позанудствовать, поразмышлять о несовершенстве жизни. Иногда мы сцеплялись с тестем по поводу власти – он, конечно, стоял за нее, а я пытался ему объяснить, как может быть по-другому. Споры у нас были жаркие, женщины нас разнимали. Как-то теща упрекнула меня:
– Ты бы помолчал, Максим! Отец ведь психует, а тебе нравится!
Я принялся все отрицать, но она была права – мне нравилось дразнить и подзуживать тестя. Конечно, потом они меня почти ненавидели. Получалось, что эти радушные и хорошие люди встретили меня с открытым сердцем. А оказалось, что я мелкий, никчемный подлец. И уж конечно, они не могли простить мне Наташу.
Последние годы с Ниной мы жили ужасно. Унизительно, в сплошных скандалах и претензиях, которые никогда не кончались.
Когда дочке исполнилось два года, мы поняли, что девочка наша больна. Это была странная и довольно редкая болезнь, которая, увы, не лечилась. Мы мотались по неврологам, ортопедам, хирургам. Обошли всех светил и просто хороших врачей. Ездили к бабке на Украину – во что не поверят несчастные родители, когда разводят руками врачи? Дочка лежала год в гипсе. На короткое время гипс снимали, и мы возили ее в коляске. Это было странное зрелище – большая, крупная, даже дебелая, девочка сидит в детской коляске. Я страшно стеснялся ее. Да, очень стеснялся. Я видел здоровых и шумных детей, играющих в мяч или в салки, ковыряющихся в песочнице, прыгающих в «классики». И сердце мое рвалось от тоски. Я смотрел на дочь и ловил себя на стыдной мысли, что мне неловко от того, что у меня родился такой ребенок. Я понимал, что я не люблю ее. Это было ужасно.
Я называл себя последними словами, презирал, ненавидел, взывал к совести. Но ничего поделать не мог. Я так и не смог ее полюбить. Жалеть – да. А вот любить не получалось.
Я был молодым, и мне хотелось свободы. А больной ребенок сковывал по рукам и ногам. В доме говорили только о болезни Наташи, больше тем не было. А я жаждал свободы! Какой ценой? Да не важно, я об этом не думал.
Моя мать Нину не любила. Хотя чему удивляться? Моя мать никого не любила, даже меня. Но, когда я думал об этом, мне становилось страшно: кажется, история повторялась – я не люблю свою дочь.
Когда случилась беда с Наташкой, мать обвинила во всем Нину: «В нашей родне убогих не было! Значит, ты что-то делала не так во время беременности или утаила от мужа семейную тайну».
Нина этого ей не простила. И без того крайне редкое общение тут же закончилось.
Последние три года из шести мы жили ужасно. Я часто не ночевал дома – по два-три дня жил у приятелей. Поддавал. Изменял ей. Старался поскорее свинтить из дома. Из дома, где была вечная тоска, вечные крики и вечные слезы. Не знаю, кто бы выдержал это. Даже если бы на моем месте был порядочный и честный человек.
Наша с Ниной любовь испарилась, словно ее и не было. Утекла, как песок сквозь пальцы. Это и неудивительно – слишком много на нас навалилось. Точнее – на Нину. Ее мать и смотрела на меня так, что мне тут же хотелось исчезнуть.
А тут еще меня выперли из газеты за прогулы. Как говорится, одно к одному. Я пошел в школу у дома – преподавать литературу и русский язык. Детей я не любил и побаивался. Бабский коллектив меня раздражал. Педсоветы я игнорировал. Это было жуткое время. Мне тогда ничего не хотелось. Ничего. Я ненавидел каждый день своей жизни и не знал, как разорвать этот порочный круг. Мне казалось, что выхода нет. Моя жизнь уперлась в тупик.
По ночам на кухне я писал свои рассказы и повести. В один из таких черных дней я обнаружил, что теща выкинула их на помойку. Счастье, что я вовремя спохватился и бросился вниз, к мусорным бакам. Пьяненькая дворничиха теть Надя копалась в своем хозяйстве. Я рванул в зловонный отсек, где стояли мусорные баки, и начал в них рыться. Тетрадки свои я нашел, но как они пахли…
Тогда я подумал: так пахнет, а точнее – воняет вся моя жизнь.
С женой мы почти не разговаривали, разве что по делу: «Купи хлеб, снеси в прием стеклотары молочные бутылки, вынеси мусор». Я исполнял эти несложные функции, и мы опять замолкали надолго. Нина продолжала битву за дочь, а я тогда почти отстранился.
Как-то вечером, уложив Наташку, она устало сказала:
– Уходи, Ковалев! Ты мне надоел. Проку от тебя – как от козла молока. А на нервы ты мне действуешь страшно. Что у нас общего, Ковалев? Кажется, уже ничего. Так что вали!
Сказано было это совершенно спокойным и, казалось, равнодушным тоном. Потом я понял, что Нина ждала моих возражений, восклицаний, слов: «Как ты можешь так говорить?» Ждала, что я начну возмущаться, непременно обижусь: «Как это – нет ничего общего? А Наташа?»
Но я промолчал, ничего не ответил. Я ликовал. Просто трясся от счастья. Ну вот! Наконец-то! Дождался! Ведь собрать вещи и уйти самому мне не хватало силенок. Как же так, что скажут люди? Бросил больного ребенка!
Я знал, что Нина очень меня любила. Верила в меня. Сначала – очень. Потом все меньше. А потом и вовсе перестала. Да и было ей, откровенно говоря, не до меня – все силы были брошены на борьбу за здоровье дочери. А я был помехой, неудобной мебелью, вечным и бестолковым раздражителем – действительно, что от меня? Одна морока. А тут еще – покорми его, постирай, погладь рубашку. И какого черта, спрашивается? Ненужный балласт, лишняя обуза. Мы давно не спали вместе – Нина спала вместе с дочерью.
Она сделала все правильно, моя жена. Без меня ей станет легче.
Я смотрел на ее измученное лицо и вспоминал другую Нину – ту, которую я любил. Умную, серьезную, терпеливую, едкую, остроумную, теплую и родную, готовую за меня в огонь и в воду.
В ее нескончаемое терпение и вечную любовь я верил, конечно, наивно. Нескончаемого терпения нет. Все кончается и проходит. Нина правильно сделала. У нее сил хватило. А я, как мелкий и подленький нашкодивший трус, пытаясь скрыть радость, торопливо собирал свои вещички.
Я часто вспоминал наши скандалы. Вспомнил, как Нина боялась заболеть – по больничному листу она теряла деньги, которых нам всегда не хватало. Помню, как, надрывно кашляя и сбивая аспирином температуру, бежала на работу. Я пытался ее остановить, но слышал презрительное: «А что мы будем есть? Об этом ты не подумал?» Я принимался оправдываться, потом начинал кричать, оскорблялся, и, конечно, все заканчивалось страшным скандалом. Нина принималась плакать и упрекать меня в жестокости: «Мало того что мне так плохо, ты еще добавляешь!»
Конечно, ей надоела нищета – ничего приятного и лишнего мы позволить себе не могли. А подчас не могли и необходимого. Я помню унизительные минуты, когда мы выуживали из карманов мелочь, чтобы хватило на кусок колбасы.
Помню, как увидел в ее глазах злость и обиду, когда она натягивала на ногу старый сапог, на котором в очередной раз полетела молния. Как она горько и безутешно плакала, зацепив стрелку на колготках.
А на мое наивное и глупое: «Да что ты, Нинка! Завтра купим новые! Чего ты ревешь, глупая девочка?» – зло и жестко ответила:
– Не купим! Ни завтра, ни послезавтра! Потому что нет денег даже на молоко и на хлеб. А до моей зарплаты, между прочим, еще почти неделя!
Я опять обижался. Я обижался и надувал губы, когда она принималась рассказывать про обновки подруг:
– У Зойки новый замшевый костюм, представляешь? Настоящая серая замша! Димка купил просто так, на Восьмое марта. Ленке Кочетовой муж купил новую шубу, ты представляешь? У нее еще старая вполне себе ничего, а тут… – растерянно добавляла она и тут же грустнела.
– Завидуешь? – желчно осведомлялся я. – Нехорошо. Нехорошо завидовать, Нина! Тем более подругам!
Нина смотрела на меня с нескрываемой ненавистью:
– Я? Завидую? Ну и сволочь же ты, Ковалев!
И мы замолкали на пару недель.
Я понимал: Нина еще вполне молодая и симпатичная женщина, а судьба у нее оказалась незавидной и трудной: никчемный муж, больная дочь и нищета.
Конечно, я комплексовал. Конечно, злился на жену. А злиться надо было бы на себя.
Но себя я оправдывал. Человеку же это свойственно, правда?
Верил ли я тогда в свою счастливую звезду? Навряд ли. Я не из оптимистов.
Но мне определенно нравилась моя роль непризнанного гения. Не неудачника, нет, именно гения. На все претензии по поводу денег я обиженно отвечал:
– Я пишу! Ты что, не в курсе? Я полночи писал, если ты не заметила!
Нина презрительно фыркала и хлопала дверью. Однажды не выдержала:
– Сколько можно, Максим? Ну сколько можно играть в эти игры? Считаешь себя непризнанным гением, великим писателем? Нет, ерунда! Тебе нужно одно – оправдание своей лени!
Я, конечно, обиделся, понимая, что Нина права. Уж кое в чем – точно.
Конечно, я мог бы зарабатывать больше. С большим трудом, но подработка бы нашлась. Да что угодно – почта, дворницкая, разгрузка вагонов, котельная. Но – я же писатель, я – небожитель, талант.
Нина злилась, скандалы учащались. Раздражение накапливалось и выплескивалось через край. Бедность всегда унижение. В этом я абсолютно уверен. Бедность и нищета – это невозможность осуществить свои планы, реализовать мечты. Бедность не смиряет – она раздражает и портит характер, загоняет человека, как волка, в капкан.
Бедность и долги. А у нас всегда были долги, всегда. Мелкие, пустяковые и от того еще более унизительные. Средненькие, но такие же пошлые. Большие, безжалостно давящие и не дающие спать по ночам.
Мы занимали у одних и перезанимали у других, чтобы отдать в срок. А скоро нам стали отказывать – слишком хлопотно было иметь с нами дело.
Я не помогал жене по хозяйству, бравируя тем, что неприхотлив. А на деле все было иначе. Я требовал горячий ужин и возмущался, если к макаронам не подавалась котлета или сосиска.
Я не мыл посуду, не подметал пол. Редко, после очередного скандала, тащился в магазин, но там впадал в полный транс и ступор от растерянности.
Отношения с тещей испортились окончательно. Давно прошли те времена, когда мы с ней ладили. Я понимал, что она меня ненавидит. Но я был обязан терпеть! Она помогала с Наташей. А я раздражался, корчил рожу, не выходил к ужину, демонстрируя всем своим видом свою неприязнь.
А ведь был обязан терпеть. Не комментировать. Не насмехаться. Как ни крути, а на ней многое держалось. Без ее помощи мы бы не справились.
Я был плохим мужем, нищим и бестолковым. Я был равнодушным отцом, неласковым и холодным. Я был сволочью, что говорить! Единственное, что хоть кое-как оправдывало меня, я был молод.
Я понимал Нину.
В прошлом мы очень любили друг друга. Мы были не только пылкими любовниками, что совсем несложно в молодые годы, но и большими друзьями. Мы читали одни и те же книги и любили одну и ту же живопись. Мы могли говорить до утра, и нам никогда не было скучно друг с другом. Мы могли подолгу молчать, и это нас не удручало. Мы грустили и расстраивались по одним и тем же поводам и радовались одним и тем же вещам. Мы невыносимо скучали друг по другу – даже расставаясь на пару часов. Я ждал ее у работы, чтобы поскорее обнять.
Но – это было давным-давно, в начале нашей совместной жизни.
Поэзия, как известно, в браке быстро кончается и начинается проза, суровая, жесткая, безжалостная.
Я был неудачником. Мы были бедны. У нас был больной ребенок. Мы оба были несчастны. Достаточно, чтобы все развалилось?
И еще – кончилась наша любовь.
Можно ли было что-то исправить? Наверное.
Но мне хотелось только одного – поскорее сбежать.
И поскорее начать новую жизнь. Она же будет прекрасна, думал я.
Максим
Я не могу думать про дочь. Я не хочу думать про дочь. Невозможно, страшно думать о том, какой у меня получился ребенок.
Да, мужики воспринимают подобное куда труднее, чем женщины. Мы слабый пол. Женщина бросается наперерез беде, не думая ни о чем. А мы в большинстве случаев стараемся сбежать. Нет, разумеется, есть люди благородные, жертвенные, ответственные, абсолютные альтруисты. Но, надо признаться, я в их число не вхожу. Я предал собственную жену и собственную дочь. Оправдывая себя тем, что Нина сама меня выгнала. Так считать мне было легче.
Мы довольно долго ничего не замечали – разве что Наташа быстро уставала и просилась спать. С того дня, как я обратил на это внимание, я стал приглядываться к ней, наблюдать за ней исподтишка.
Своими страшными открытиями с женой я пока не делился, хотя, думаю, видела это и она. И тоже боялась сказать мне об этом. Просто я ловил ее тревожный и отчаянный взгляд.
Мы оба боялись признаться друг другу. Боялись друг друга. Боялись себя. Боялись правды.
Не думаю, что мы пропустили момент и тем самым навредили дочери. Уверен – нет! Наташе и раньше бы никто не помог.
Мы с Ниной были абсолютно здоровы, а дочь больна.
После двух лет, когда все стало не просто заметно, но когда это кричало и бросалось в глаза, мы наконец заговорили об этом.
И я, последняя сволочь, как и моя мамаша, обвинил во всем Нину.
Она плакала и оправдывалась:
– Врачи! Врачи говорили, что да, есть отклонения, но с возрастом это пройдет! И я им верила! И ты верил! А сейчас ты во всем обвиняешь меня!
И мы опять перешли на взаимные претензии, забыв о страшных проблемах нашего ребенка. Мы обвиняли друг друга, а напротив сидела наша несчастная дочь, не понимая, что происходит. Наконец она закричала, и мы замолчали.
– Что делать? – спросила жена. – Что нам теперь делать, Максим?
Как будто я знал ответ на этот вопрос. Как будто кто-то знал ответ на этот вопрос!
Но мы, разумеется, начали действовать. Лучшие врачи, куча денег, и ничего! Никто нас не утешал – все вздыхали и качали головой: да, это навсегда. Это ваш крест. Надо привыкнуть и жить дальше. Выхода нет.
Привыкнуть? К чему? Что у нас, молодых, здоровых, полных сил людей, неполноценный ребенок? Что это навсегда? Наш ребенок не будет бегать, как все дети. Что всегда, каждый день, каждый час, выходя с ней во двор, в булочную, в поликлинику – на нас будут смотреть и провожать взглядом. Что нам будут сочувствовать или – смеяться на ней, нашей дочкой? Что мы – всегда, всегда, всю нашу жизнь – будем стесняться ее и завидовать тем, у кого ребенок здоров?
Все это было невыносимо. Мы не сплотились вокруг нашего горя – мы отдалялись друг от друга все больше и больше.
Кажется, мы уже ненавидели друг друга, пытаясь свалить на другого вину, которой, по сути, и не было вовсе.
Все – судьба. В то время я стал фаталистом.
Мы перестали ходить в гости. Перестали вместе гулять. Мы почти перестали разговаривать друг с другом. Мне было жаль Нину. Мне было жаль дочь. Но еще больше мне было жаль себя.
Я думал о том, что могу снова жениться и у меня будет здоровый ребенок.
«Меня уже ничто здесь не держит», – с обидой уговаривал себя я. Меня презирают, оскорбляют, считают ничтожеством, бездарью. Меня попрекают куском. Даже в постели, разделяя и отдаляя нас друг от друга, лежали все наши несчастья и беды, словно между нами лежала наша больная дочь.
В три года дочь забрала теща – Нина взяла подработку.
В пылу очередной мелкой, нелепой и отвратительной ссоры Нина мне бросила:
– Ты, непризнанный гений! Не хочешь мараться? Я отдала ее маме, потому что она тебя раздражала! Ты же почти ненавидишь ее. Тебе один ее вид отвратителен! Я что, это не вижу? А то, что ты сам не ушел, ждал, когда я тебя выгоню, так это потому, что тебе некуда уйти! Ну не к матушке же твоей, верно? К чему тебе еще и эти проблемы? Ты, Ковалев, проблем не любишь! Ты бежишь от проблем! К тому же здесь все устроено. Тебя накормят, погладят рубашки и постирают носки. Тебе не надо думать о куске хлеба – он все равно будет, жена принесет.
Она выкрикивала эти страшные, но справедливые слова, выплескивая свою горечь, обиду и боль.
А я, собирая чемоданишко, радовался: все, свобода! Теперь я свободен!
Мне и вправду было некуда идти. К матери – исключалось. Мы бы и дня не ужились. Снять комнату? Где взять деньги? И тут я вспомнил о Дусе – вернее, о ее наследстве.
Услышав про развод с Ниной, мать испугалась. Конечно, за себя – ей виделась в этом угроза ее привычкам и спокойствию. Не предложив мне чаю, она тут же, через минуту, вытащила из комода ключи:
– На, бери! И скажи спасибо, что у тебя такая умная мать! Я подумала о тебе, все предусмотрела! А то где бы ты был сейчас, господи! И кто вытерпит тебя, если уж Нина…
Я схватил ключи и, не дожидаясь лифта, бросился вниз по лестнице.
С площадки нижнего этажа поднял голову и крикнул:
– Спасибо!
Мать не ответила. Ответила дверь – громким хлопком.
Я жил в комнате ее дальней родственницы, давно умершей, куда когда-то меня прописала сметливая мать. Я, признаться, об этом забыл.
От своей внезапной свободы я ожидал радости и даже счастья, а вышло все по-другому – я впал в душевный анабиоз. Не от чувства вины, нет, – от одиночества. Я думал, что Нина права – я полная бездарь, ничтожество, неудачник. Пустой человек. Работу свою я не люблю. Семью я потерял. Матери у меня, считай, нет. А что было? Да ничего! Стопка исписанной рваными каракулями бумаги и мое ощущение, что я писатель.
Комнатка, куда я заселился, была так же убога и так же страшна, как и мое одиночество. И вполне вписывалась в мое настроение.
Тетка моей матери, Евдокия, для близких и родных Дуся – и клички не надо, – жизнь свою прожигала. В этом был смысл ее существования и главная цель. Дуся стремилась к красивой жизни. Казалось бы, что тут такого? Красавица в молодости – статная и высокая, яркая брюнетка со знойным взором, наша милая Дуся смолоду рыскала глазами, чтобы подцепить жирного леща. Лещи попадались разные – и жирные, и не очень. Алчная и легкомысленная, она быстро просчитывала выгоду. А счетовод из нее получился отличный! Женатых лещей она отбраковывала, успев перед этим обобрать до основания, до нитки. А вокруг лещей свободных расставляла коварные сети. Но не везло, увы. Первый и поздний брак окончился быстрым вдовством. Мужик – так называла мужей Евдокия – трагически и нелепо скончался: мыл окно и выпал из него аккурат под балконом. И тетушке моей неугомонной досталась прекрасная квартира на Ленинском.
– Не страшно? – удивлялась даже моя мать, которая была уж точно не из пугливых. – Не страшно тебе там оставаться?
Дуся племянницу не поняла:
– В каком смысле? А, ты об этом! Да нет, ерунда! К тому же менять смысла нет. Где еще я найду такой вид из окна?
Вид и вправду был хорош – на Нескучный.
Горевала Дуся недолго – погуляла, повеселилась и снова замуж. Годы подступали вместе с тревогой. Какой-то «товарищ при культуре» быстро оставил семью, прибежав к любимой запыхавшись, но со счастливой улыбкой. Ему наивно казалось, что тот жаркий рай, то невозможное счастье, от которого кружилась голова и начинало болеть сердце, крепкие объятия на влажной простыне, обеспечены ему до конца жизни и еженощно. Но как бы не так. Очень скоро молодая разочаровалась и даже расстроилась: культурный деятель ее надежд не оправдал, половину зарплаты исправно сносил в прежнюю семью, изнывая от чувства вины. Да и дачу с квартирой оставил покинутым родственникам. И при этом «неприглядном» поведении еще требовал пылких ласк и жарких утех. Тех самых, которые ему обламывались до регистрации законного брака.
Хитрая тетушка знала, на какой крючок словить пятидесятилетнего мужика, сто лет проживающего с давно хворающей супругой. Да загса она старалась. Потом надоело. Лениво отмахивалась от сластолюбца:
– Отстань, надоел! Успокойся уже! Честное слово, достал!
Незадачливый любовник откатывался на край супружеской постели и начинал страдать. Все то восхитительное и волшебное, что так притягивало его, вдруг пропало, исчезло. Как не было. Его постигло такое разочарование, такая тоска, что он, убежденный трезвенник, начал пить.
Зачем? Зачем он это сделал? Захлебнулся от счастья, кретин, идиот! Да, такого с ним никогда не было, даже в молодости. Первая супруга была женщиной стеснительной и тихой – от предложенных неожиданностей вздрагивала и начинала плакать. Все это ей казалось страшно оскорбительным.
Потом были любовницы, но как-то мельком, незначительно и «невкусно». А тут она, Евдокия! Невозможно красивая, яркая, мощная. И такая горячая, нетерпеливая. В общем, у него поехала крыша. И что вышло? Все это было неправдой? Она притворялась? Прикидывалась? Нет, невозможно! Как это можно сыграть? Она же – сама страсть, сама ярость, само бесстыдство! Нет, это сыграть невозможно!
Страдания усугублялись чувством вины. Зачем он ушел из счастливой и дружной семьи? Подлец. Конечно, подлец, и нет ему прощения, нет! Теперь он думал о бывшей жене с тихой нежностью: мать, друг, хозяйка. Господи, на кого он ее променял? На бездушную смазливую бабенку?
А может быть, попробовать покаяться, пасть в ноги? Она простит, он почти уверен, что простит! Она ведь святая! И ему до дрожи, до коликов захотелось в старую квартиру на Полянке, на любимый диван, к дорогим книгам, к любимой чайной чашке с оранжевой ручкой. Он застонал. Да, надо решиться! Собрать чемодан и – домой!
Он решительно зашел в спальню и увидел на кровати свою вторую жену, свою Дусю. Она только проснулась и сладко потягивалась. Вырез тонкой кружевной сорочки обнажил все еще роскошную, смуглую и пышную грудь. Она закинула голову, и он увидел ее шею – полноватую, гладкую, без единой морщинки и складки. И крупную родинку под подбородком – темную, почти черную, овальную, похожую на крупный и сладкий изюм, – ее так и хотелось лизнуть. Следом выпросталась стройная, полноватая нога, прекрасная в своей бесстыжей наготе. Круглая, гладкая, девическая пятка и пальцы – пальчики! – с ярким малиновым маникюром.
Коварная Дуська сладко зевнула, обнажив мелкие жемчужные хищные зубки.
И он снова пропал. Пропал тут же, моментально забыв о своем раскаянии, о своем решении, – он был снова в плену. И тут же понял: да все равно! Абсолютно все равно, откликается ли она на его ласки. Ему это уже не так важно. Главное то, что он может! По праву законного мужа. Вон, в паспорте – фиолетовая печать! Он может прикоснуться, прильнуть и напиться. Напиться ее прохладного тела, ее гладкой кожи, поймать ее вздох, пахнувший земляникой. А дальше будь что будет! Ему все равно. Он ее муж, а это значит, что имеет право. Хоть изредка, хоть иногда. Пусть даже так, с ее раздражением и пренебрежением. И ничего ему больше не надо.
Дуся, что удивительно, в этот день была расположена, милостива, пусть и прохладна. Чуйка у нее была бешеная, как у хорошей собаки. Откинув край одеяла, она неотрывно смотрела на несчастного.
Кончилось все, как обычно, быстро, от ласк она отмахнулась.
Но он был счастлив – дозволила, позвала, допустила.
Через два месяца сластолюбец повесился в Дусиной ванной. Дуся пожала плечами – ну, так – значит, так. Что тут поделать? Из квартиры она и тогда не съехала – наверное, снова вспомнила про вид из окна.
Третьим законным был довольно странный человек по имени Прохор. Редкое имя в те годы, надо сказать. Прохор тот был народным целителем, наша Дуська мельчала. Прошка исцелял усердно и самозабвенно – на полгода вперед страждущие записывались в очередь.
Я называл его Распутин. Он и вправду был похож на мощного старца – та же борода, те же длинные, нечистые волосы. Только вот мощь не та, это было понятно сразу. Но и то, что Прошка был хитрован и аферист, тоже сомнений не вызывало. К тому же он был сильно запойный.
В чем заключалась его система? Да обычный набор целителя – мутные и вонючие настои из трав, якобы собранных в горах Алтая, куда Прошка, естественно, ни разу не съездил. Травки свои собирал он в ближайшем Подмосковье – я сам это видел. Ну и прочие атрибуты – свечи, иконы, магические камни и тому подобная дребедень. А люди велись. Платили Прошке щедро – по червончику за визит. Смотрели как на бога. Опускались перед ним на колени. Сильно верующий целитель не брезговал и гаданием – гадал на картах, на воске, на зеркале, на монетках, тенях, звездах и на бобах. А еще на книгах и на воде. Принимал, или врачевал, по его же словам, он в квартире жены.
Не то чтобы она была недовольна – все-таки деньги, и большие! Но в «приемные» дни из дома предпочитала уйти. Частенько приезжала и к моей матери.
Помню, как мать задала ей вопрос:
– А твой Прошка? Он же дремучий, как чаща! К тому же вонючий – чистый гамадрил!
Дуся рассмеялась и махнула рукой.
– Да о чем ты? Брось! Все это – только образ. Представление, понимаешь? И внешний вид, и все эти штуки. А человек он образованный и сведущий, уж ты мне поверь. И любит не картошку с кашей, как утверждает, а всякие изыски – черную икру, осетровый балык. Рокфор, горький шоколад и хороший кофе. Слава богу, с этим проблемы нет. Одна из поклонниц – заведующая «Новоарбатским» гастрономом. Доставляют все прямо на дом, удобно.
– А не противно, – матушка моя скривилась – ну, все это знать?
– Деньги не пахнут! И потом, он славный мужик, этот Прошка! Вот если б не пил! – И родственница грустно вздохнула.
Прошка по-прежнему запивал – нечасто, но крепко. А вскоре попал под трамвай – вот уж нелепость!
На похоронах Прошки Дуся горько плакала и приговаривала:
– Жалко-то как! Хороший ведь был мужик!
Ну не знаю. Не моим мужем был этот Прошка. Но жила при нем тетка неплохо, что говорить. Сытно жила и весело – из ресторанов не вылезали и на курорты ездили. И шкафы ее ломились от тряпок, и на пальцах сверкали бриллианты.
Провожали Прошку толпы адептов и поклонниц – женщины выли и бросались на гроб. Испуганная вдова отошла на довольно приличное расстояние.
– Пусть поскорбят! – тихо шепнула она.
Горевала моя тетушка недолго. И опять принялась за старое – приступила к поискам нового мужа. Лет ей уже было немало, теперь ее знойная, обильно приправленная косметикой красота неприятно била в глаза. Но надо было устраиваться.
Вот тут-то и вступила наша Дуся на самую свою скользкую дорожку, ведущую ее в настоящий ад.
Классика жанра – вместо того чтобы заарканить пожилого вдовца с солидным жизненным опытом и приличным счетом в сберкассе, наша дура влюбилась. Конечно же, в молодого. Но ладно бы в молодого – и молодые бывают разные. Этот же оказался тридцатилетним красавцем мулатом, плодом любви рязанской красавицы и темнокожего студента из Руанды. Студент, как водится, слинял, а молодая белокурая красавица осталась с сыном.
Конечно, было непросто: парня дразнили, мать презирали, обоим шипели вслед.
Пришлось приехать в столицу – легче затеряться, покрыть грех, объявив, что паренек был рожден в законном браке, только вот папка погиб.
Бедная женщина трудилась на фабрике – куда еще лимите? Жили в общаге, маяли горе. Недоедали. Подростком смугляш обнаружил, что на него заглядываются женщины, причем разных возрастов и социального положения.
Быстрым и цепким умом парнишка прикинул: а это ведь выход. К чему долго и нудно учиться? К чему корячиться и ломаться на чужого дядю? Нет уж, увольте, насмотрелся на свою бедную матушку, хватит.
Погулял от души, налюбился с молодыми девчонками и взялся за ум. Приступил к поискам теплого места.
Но как-то не складывалось. Взрослые и обеспеченные тетеньки не собирались оставлять своих богатых мужей. Спали – да, с удовольствием. Даже подарки делали и деньжат подбрасывали – так, по мелочи, на тряпки и американские папироски. Хватало и на кабаки.
Но это было не так, как хотелось бы. Главная цель – жилплощадь в столице. Позарез была нужна жилплощадь, и желательно не в старой пятиэтажке с потолками на голове. Нет уж, спасибо. Нажился в дерьме.
Хотелось хорошей квартиры, в престижном районе, в крепком доме с консьержкой, с зеленым двором и интеллигентными соседями.
А приглашать на постой мальчика никто не собирался. Ни одного желающего, ни одного претендента. Точнее – претендентки.
И тут появилась наша Дуся, все еще красивая, яркая, уже полноватая, но еще вполне ничего. Ее словно послала судьба. К возрастным дамам у юноши отвращения не было – привык.
Дуська от младенца потеряла голову – говорила, что так у нее ни с кем не было. Верилось в это охотно. Но это был такой невозможный мезальянс, такой смех и кошмар! Даже для нашей эксцентричной и экспансивной тетушки. Поделать, естественно, мы ничего не смогли. И дура Дуся потащила красавца в загс. Совсем ополоумела.
– В последний раз, – кричала она. – Уйдет – я умру!
Лебединая песня, последний гормон. Последний шанс быть счастливой. Конечно же, она его прописала. Вот оно, возмездие! Вот оно, вот!
Ну и, как водится, пацан стал хамить и гулять. Пару раз дал женушке по мордасам, когда она откровенно достала его своей ревностью.
Несчастная Дуська хватала его за одежду, пытаясь удержать, валилась на пол, выла. Страшная история, кошмарная картина. А потом заболела – рак. Моя мать ее забрала, чем меня удивила. А я начал заниматься дележкой квартиры. Этот засранец, конечно же, ждал Дусиной смерти, чтобы все досталось ему. Тянул и оттягивал, отвергал все варианты.
Ну а когда я его прижал, наконец согласился. Договор наш был таким: мы согласны на любую площадь, лишь бы разменять. Он все понимал – потянет еще чуток, и ему достанется все. Но и мы это понимали. Пошли на компромисс, проиграли, конечно, но лучше так, чем ничего. В результате всех этих гнусных манипуляций нашей несчастной и уже уходящей в иные дали Дусе досталась совсем ерунда – эта жуткая комнатуха в Перово. Даль, рабочий район, выселки, короче – кошмар.
Вот в этот рай я и въехал после развода.
Прилагались к моему новому жилищу для полного комплекта и сильно пьющие соседи – супруги Райка и Вовка. Вовка бил Райку, Райка лупила Вовку. До первой крови. Потом начинала рыдать и каяться:
– Вовка, прости!
Вопила отчаянно, пока Вован утирал кровавую юшку, глядя на жену исподлобья, видимо, раздумывая, куда бы врезать.
Райка ловила предупреждающий взгляд и бросалась к нычке за пузырем. Вид поллитровки примирял Вовку с произошедшим мгновенно.
Райка спешно стругала колбаску, с тревогой поглядывая на милого. И, обтерев о грязный передник руки, широким жестом приглашала к столу.
Вован снисходил. А дальше шли совместный выпивон и песни – затягивала голосистая Райка, играя желваками, подпевал суровый Вован. После спевок шли в комнату, чтобы укрепить перемирие. Укрепляли громко и шумно – страсти кипели нешуточные. Спустя какое-то время Райка выходила на кухню. Смущенная и счастливая, раскрасневшаяся, довольная, словно сытая кошка.
Я курил у окна.
– Все нормально, Раёк? Помирились?
Райка махала рукой и притворно вздыхала:
– Ой, Максим Александрович! А чё нам делить? Побазланили – и на мировую! Он ведь, мой Вовка… – Райка замолкала, и ее затуманенный взгляд останавливался. – Он не мужик – зверь, понимаешь? – продолжала она и уверенно добавляла: – Нету такого второго!
– Да уж, – усмехался я. – Зверь – это точно! Вон как рычит.
Райка розовела от смущения и счастья, махала рукой и принималась за пироги – порадовать мужа. В общем, веселая у нас была жизнь.
Кстати, пьянь эта, надо сказать, была вполне доброй, миролюбивой и даже щедрой. Райка делилась пирогами, Вовка чинил краны и унитаз, конопатил на зиму окна и после скандалов с женой обязательно извинялся.
Комната, принадлежащая моей несчастной тетке, была из ряда вон. Точнее – она была отвратительной. Мое окно аккурат над дверью подъезда, у подъезда косая лавчонка. Днем ее оккупировали шипящие бабки, а по ночам пьяная и буйная молодежь рабочего квартала. Мат-перемат, оплеухи и звон бутылок – и так беспрерывно.
Сама комнатуха была метров восемь – темная из-за густых лип за окном, узкая и сырая. Батарея текла, штукатурка мокла и отваливалась кусками. Кровать с пружинным матрасом, скрипящим, как пьяный лоцман, и письменный стол, подобранный на помойке. Вещи мои лежали в чемодане – доставал я их волглыми, пахнувшими плесенью.
Вот туда моя шустрая мать меня и прописала – как говорится, на всякий случай. И этот случай настал.
Часами я лежал на кровати и смотрел в потолок, не чувствуя никакой эйфории.
Пару месяцев мне не писалось совсем. Я не ходил на работу, по вечерам валялся и пялился в потолок. Иногда я выпивал в одиночку или с Вованом, потихоньку от Райки, чтобы та не обиделась.
Сосед мой нервничал и проявлял сочувствие:
– Бабу тебе надо, Саныч! Нормальную бабу, простую, такую, как моя Райка. Хватит с тебя заумных, от них полная жопа!
«Такую, как Райка…» От подобной перспективы меня бросало в дрожь. Хотя, наверное, и такой, как Райка, я тогда был не нужен.
Я отмахивался:
– Спасибо, Вован. Но не хочу, извини. Отпуск у меня, понимаешь? Декретный. Месяцев семь, не меньше. Надо прийти в себя.
Вован мотал головой и не соглашался, настаивал:
– Бабу – и точка! Ты мне поверь, я в этом деле… – И Вовка испуганно оглядывался на дверь, не дай бог, чтобы Райка услышала!
Ну а дальше совсем смешно – соседи мои дорогие нашли мне невесту.
Сделали все чин чинарем. Нашелся и повод – Райкины именины.
Накрыли стол, позвали меня. Я приперся с цветами и тортом. Даже на скромный подарок имениннице денег не было. Уселись за стол – хозяйка явно нервничала, поглядывала на мужа и высматривала кого-то в окне. Вовка, кажется, уже забыл про доброе дело и был готов «начать».
Тут явилась невеста. На пороге стояла молодая, лет тридцати, женщина. Худая, высокая и сутулая. Длинное лошадиное лицо было бледным и испуганным. Она хлопала густо накрашенными ресницами и с мольбой смотрела на Райку.
– Проходи, Надь! Ты чего оробела?
Надя кивнула и села на краешек стула, одернув узкую юбку.
Выпили по первой. Надя раскраснелась и чуть оживилась, расслабилась. А после второй начала громко ржать. Бледное лицо пошло красными пятнами, помада размазалась, тушь осыпалась. Надюха счастливо вскрикивала и хлопала по моей ляжке рукой. Не заигрывала, нет – выражала эмоции.
А мне вдруг стало так весело и легко, что меня отпустило. Вся эта карусель со сватовством, смешная и шумная Надюха, суровый Вован, понимающий: что-то пошло не так, и расстроенная Райка – она-то была совсем не дурой.
Когда кончились все запасы и народ явно устал, Вовка зажал меня в коридоре и с угрозой сказал:
– Надька останется у тебя, слышь ты, сосед? Куда ей сейчас, на ночь глядя?
– К себе забирай! – решительно бросил я. – Твоя ведь гостья, а?
– Куда к себе? – удивился он. – Это ж не пузырь, чтобы на троих раздавить! Куда я ее положу? Между собой и Раиской?
– Да, аргумент! – усмехнулся я.
А шустрая Райка, все еще не теряя надежды, уже укладывала на мою койку пьяненькую подругу – а вдруг чего выгорит?
С испугом глянув на меня, соседка быстро юркнула к себе. Бедная незадачливая невеста тихо похрюкивала во сне.
Мне стало ее искренне жаль – тощая, нескладная, нелепая, одинокая фабричная тетка. Наверняка живет в общежитии, муж давно бросил, тянет ребенка и ждет своего принца. Ассоль…
Я накинул пиджак и вышел во двор. Был теплый июльский вечер, запах жасмина и влажной, после дождя, травы.
Сев на скамейку, я закурил. Кажется, тогда меня и отпустило…
Чудеса. Дождавшись открытия метро, я поехал на службу, в газету. Спать хотелось смертельно. Показав статейку главному и с надеждой глядя ему в глаза взглядом верного пса, я юркнул в красный уголок и завалился на старый диван. Продрых я часа четыре. Когда я открыл глаза, главный стоял надо мной, рассматривая меня взглядом печальным и строгим одновременно.
Увидев, что я проснулся, он тяжело вздохнул.
– Ну, Ковалев. Иди в кадры. Оформись. Возьму тебя. – Снова вздох – Только вот на черта? Опять ведь не оправдаешь! Хорошо пишешь, а не оправдаешь! – словно убеждая себя, повторил он и, почесав затылок, вышел из красного уголка.
Так прошел мой первый рабочий день.
Вернувшись домой, я увидел, что комната моя чисто вымыта и на письменном столе стоит тарелка с остатками пирогов.
Мелькнув мимо меня в коридоре и слегка задев плечом, обиженная соседка бросила мимоходом:
– А зря ты, сосед! Зря побрезговал. Хорошая она баба, Надежда! Ты не смотри, что простая. Простые – они ведь… – Раиска задумалась. – Простые – они без выкрутас, не выгонят и не обманут!
Я развел руками:
– Извини! Не судьба нам, выходит.
Но скоро обиды забылись – Вовка и Райка продолжали свои разборки, и им было явно не до меня. Мир с соседями был восстановлен.
Как же мне хотелось вырваться из этого ада! Как хотелось нормальной человеческой жизни – чистой квартиры, нормального ужина, дружеского разговора с человеком понятным и близким. Но, видимо, время еще не пришло.
Нужно было еще пройти длинный путь коротких и незначительных встреч, легких отношений и болезненных расставаний. Суеты, маяты, ошибок и разочарований. Опять разочарований. Через вереницу случайных дружб и знакомств. И страшный, тяжелый роман с Алисой.
До встречи с Галкой оставалось четыре года. До моего возрождения – почти шесть. До нашей новой и счастливой жизни – около восьми.
Марина
Путевка мне досталась случайно – мать одного из моих учеников отдала ее мне, потому что кто-то в семье заболел, кажется, муж. Признаюсь, я долго сомневалась – впервые мне предстояло ехать одной. В детстве я ездила с мамой, в студенчестве – с подружкой по музучилищу. В молодости – с Сережей и Никой. Но никогда я не ездила в одиночестве. И я по-прежнему оставалась трусихой – тяжело сходилась с людьми, боялась незнакомых мест. Мне сложно было спросить у прохожих дорогу. А уж зайти в кафе и одной выпить кофе – нет, ни за что! Если я была голодна, то заходила в булочную и покупала булочку или бублик, пакет молока или стакан сока. Я завидовала женщинам свободным и смелым, которые подолгу сидели в кафе с чашечкой кофе и листали журнал.
И все-таки я задумалась, слишком заманчивым и выгодным было это предложение. Во-первых, путевка была откровенно дешевой. А во-вторых, это была путевка в Прибалтику, которая стала зарубежьем. Я пробовала на вкус волшебные слова «Эстония», «Таллин», «Балтийское море», «янтарь» и «дюны», «Старый город». Соборы, булыжные мостовые, трубочисты, дым из печных труб, ликер, взбитые сливки и хлеб с тмином. Об этом я читала в журнале. И мама, и Ника принялись меня уговаривать. Набросились на меня с таким напором, с такими яростными атаками, что я сломалась и согласилась.
Это был август, время отпускное и еще достаточно теплое, даже для Прибалтики. Да и какая разница – окунусь я в Балтийское море или просто буду сидеть на пляже и вдыхать соленый морской воздух? Я буду много гулять по белому мелкому песку, сидеть под соснами, бродить по городу, по булыжным кривым улочкам Старого города, рассматривать темно-зеленые шпили соборов и темно-красные черепичные крыши старых домов. Устав, присяду за крошечный столик в маленькой и уютной кофейне и стану пить невозможно ароматный и крепкий кофе, отламывая по маленькому кусочку от вишневого пирога.
Я страшно нервничала, хотя пыталась не подавать вида. А Ника радости не скрывала – впереди у нее маячила полная свобода, гуляй не хочу!
Путешествие мое началось уже в поезде. В уютном и чистом купе было по-домашнему приятно. Спутницей моей оказалась немолодая эстонка, возвращавшаяся домой из командировки в Москву. Она оказалась фигурой важной – главный инженер известной таллинской трикотажной фабрики. Мы разговорились – а в поезде по-другому не бывает даже с такими необщительными людьми, как я.
К слову сказать, моя попутчица, Вилме Освальдовна, оказалась весьма приятной и разговорчивой женщиной, невзирая на важный пост и, как принято считать, эстонскую сдержанность и даже холодность.
Мы пили чай и болтали обо всем на свете. Оказалось, что Вилме с молодости вдовствует и одна подняла двоих сыновей. Ей тоже досталось, но она выстояла, сделала карьеру и вырастила хороших детей. Она была доброжелательна и приветлива, слушала меня внимательно, не перебивая, и выглядела человеком, довольным жизнью. В ее глазах не было ни тревоги, ни беспокойства – они искрились радостью и спокойствием. Она подробно рассказывала про своих сыновей. Конечно, были и материнские печали – старший сын Юри был женат и имел двух дочерей и сына. Но – Вилме поморщилась, как от лимона, – жену его она не любит. Невестка попалась бессердечная. Свекровь слова доброго от нее ни разу не слышала.
– Странная она, – вздохнула Вилме. – Странная, да. И что мой Юри в ней разглядел? Ладно бы красавица, так нет, обыкновенная. Случайно у них все получилось. Знаешь, как бывает по молодости? Встретились, переспали. Незапланированная беременность. Конечно, он виноват! Но она настояла на ребенке. Наверное, правильно сделала. Хотя… – Вилме замолчала, глядя в окно, за которым пролетали леса и полустанки, – хотя я бы так не смогла! В смысле – в загс парня тащить, зная, что он к тебе равнодушен. Ну а потом – обычная бабская хитрость. Родила еще и еще – куда он денется от троих? Так и живут – никак, без любви. Детей он обожает, а вот жену… Я же вижу – я мать и я женщина. Уверена – у него есть романы! И я его понимаю. Думаю, и она об этом знает. Но она из таких, кто будет молчать. Лишь бы не бросил. Жалко мне его, очень жалко! Видела бы ты его – красавец! Рост, фигура. Бывший спортсмен. Сделал карьеру, хорошо зарабатывает. И несчастливый. Это сразу видно, бросается в глаза. Знаешь, несчастливых людей сразу видно, не замечала? А младшего, Бруно, назвали в честь отца. Тихий, робкий, стеснительный. Хороший парень, прекрасный сын. Талантливый человек. Но здесь другая крайность – с личной жизнью никак не складывается, никак. Отчаянный домосед – из дома не выгонишь. Шахматы, книги. И от меня, от матери, отделяться не хочет. Гоню – ни в какую! Странно, правда? А ведь ему тридцать пять.
Я рассказывала ей про Сережу, про нашу любовь, про его нелепую гибель. Про Нику и наши с ней проблемы. Про свою работу и про то, что я абсолютно не хочу – и не могу! – начать свою новую женскую жизнь. Вот такая я дура. Ведь прошло уже столько лет…
Вилме была отличной слушательницей. Не перебивала, не ойкала, не комментировала. Я видела, что слушает она меня не из вежливости – это же видно всегда сразу, по глазам.
Выслушав меня, она рассказала, что мужчина у нее появился спустя девять лет после смерти мужа. Вот тут я видела, что она загрустила.
– Ну и как? – осторожно, чтобы не показаться бестактной, спросила я.
Вилме махнула рукой.
– А никак! Никак, понимаешь? Ничего похожего из той жизни нет и в помине. Ни-че-го! Все по-другому. Наверное, и не может быть так же, все люди-то разные. Муж мой покойный был исключительным человеком. Я больше таких не встречала. Вот поэтому и было так сложно принять и привыкнуть к другому. В чем наша беда? Мы начинаем сравнивать ту жизнь и эту. Сравнивать, складывать, вспоминать. А этого делать нельзя. Категорически, слышишь? Как только начнешь – все, конец. Тут можешь смело поставить точку. Ты должна понимать – это другая жизнь, отличная от предыдущей. Тут все по-другому. Хочешь – прими. Не хочешь – уйди. Только он, твой новый мужчина, не виноват, что тот для тебя был лучшим, самым любимым и самым прекрасным! Он не виноват, что того ты любила так, как бывает раз в жизни. Он вообще не виноват, что встретил тебя после всего – разрушенную, сломанную, никому не верящую. А ты прими его, впусти в свое сердце. Ну, может, не так, как того, первого. Только помни, повторить ту жизнь невозможно. Но ты ему поверь – он желает тебе добра. И ему тоже несладко, он же все понимает. Понимает: ты еще там, в том измерении.
– Некого впускать, – усмехнулась я. – Некого впускать и некого принимать. Некого понимать и некому верить. Увы.
Вилме кивнула.
– Это заметно. У тебя глаза потухшие, мертвые. А мужик это видит, еще как видит, поверь! А ты попробуй, а? Вдруг получится? Бабий век, – как говорят… Раз – и приехали. Все, конечная остановка.
Мы замолчали. Потом Вилме сказала:
– Мой второй мужчина, конечно, не муж – друг, любовник. Как угодно. Но он много мне дал, поверь! Уверенности прибавил, смелости. Я после смерти мужа была совершенно разбита, жила как во сне. Ничего не хотелось, да что там, жить не хотелось. А он и с мальчишками помогал – в лес, на рыбалку. И материально. И отдыхать мы ездили – все вместе, с ребятами. Это очень важно, когда вместе. Когда понимаешь, что его волнует твоя жизнь. Понимаешь, что ты не одна – даже тогда, когда он возвращался туда, в ту семью, я не чувствовала себя сиротой. Я знала – оттуда он не уйдет. Да и не надо – мы все равно были вместе, ты понимаешь?
Я кивнула.
– Он был женат с ранней молодости – брак одноклассников, ты знаешь, как это бывает. – Вилме замолчала, и я увидела в ее глазах бесконечную грусть. – Но я не мучаю его, не тереблю. Так – значит, так. Пусть лучше так, чем никак.
Я почему-то вздрогнула от этих слов. Такие истории для меня всегда были табу.
– Да, он женат, – повторила Вимле. – Что тут поделать? Я долго мучилась, понимая, что это плохо, отвратительно даже, безнравственно. Но я решила, что буду думать о себе, а не о какой-то там женщине. Тем более – незнакомой. Я ведь тоже намыкалась и настрадалась. В общем, я долго раздумывала и разрешила. Я разрешила себе, понимаешь, быть хоть немножко счастливой и не одинокой! Я простила себя. И слава богу, что я была не одна – у меня были дети. С ними я и встречала праздники – Рождество, дни рождения. Новый год. Я не была одинока – накрывала стол, пекла пироги. Наряжала елку.
А он, мой мужчина, с нами он был тогда, когда мог. И с этим я тоже смирилась. И все-таки я не была одна! Ты понимаешь? У меня был и есть человек, есть мужчина.
– А его… жена? – спросила я. – Ей все известно?
– Да что тебе до нее? – досадливо махнула рукой Вилме. – Живет не тужит! Ездит на курорты, воспитывает внуков. И при положении – жена! Ей, кажется, этого вполне хватает. Что мне думать о ней? Мне, знаешь ли, есть о ком подумать! А жить с вечным чувством вины? Нет, не хочу!
И я извинилась за свою бестактность.
После этого мы наконец улеглись спать. Я очень устала – ничего не делала, а устала. И мне показалось, что моя попутчица тоже. Во всяком случае, она тут же уснула. А я лежала без сна. Поезд мирно постукивал колесами, мимо проплывали скупо освещенные полустанки, и наше купе на минуту вспыхивало мутным молочным светом, снова погружаясь в привычный полумрак.
Я думала о судьбе Вилме, моей случайной попутчицы. О судьбе мамы, которую оставил мой отец. Я думала о своей судьбе, об избитых, банальных, но правильных фразах о том, как короток бабий век и как надо спешить – не успеешь оглянуться – все, конечная станция. И как сказала Вилме – приехали.
В Таллин поезд прибывал рано – около восьми утра. Мы проснулись, и мне показалось, что мы обе смущены вчерашними откровениями. Впрочем, через полчаса мы расстанемся и навсегда забудем друг друга.
Мы выпили кофе, перебрасываясь короткими фразами. Вилме собирала вещи, а я глядела в окно – там, за окном, была совершенно другая страна, так непохожая на мою родину: чистые и ровные, как зеркала, дороги, аккуратные, игрушечные домики под черепичными крышами. Ровные дорожки, посыпанные мелким гравием. Аккуратные, по линеечке, клумбы с цветами – наши палисадники были милыми, уютными, кое-как посаженными и всегда немного растрепанными.
Здесь – а это бросалось в глаза – во всем присутствовали четкость, продуманность, невероятная опрятность и вкус. И было понятно, что за всем этим стояли большой труд и природная педантичность.
Вилме поймала мой взгляд.
– Да, наши – большие аккуратисты. Педанты, чистюли, что говорить. Порядок прежде всего. А если бы ты видела хутора! Вот где красота! Слушай! – она оживилась. – А хочешь, поедем? У моего, – она чуть запнулась, – у моего Урмаса живет на хуторе родня – сестра с семьей. Мы знакомы. Поедем, а? Вот там ты удивишься!
Я неопределенно кивнула.
И Вилме оставила мне свой телефон. А я оставила адрес своего пансионата. Почему-то я была уверена, что мы никогда не увидимся – так, обмен любезностями, не больше. Что такое попутчики в поезде? Разговоры и – все, забыли. Этим и славятся поездные откровения.
Вилме встречал высокий седоватый мужчина. Я поняла, что это и есть ее любовник и друг. Разглядывать его мне было неловко, и я, подхватив чемодан, быстро пошла вдоль перрона.
До пансионата я добралась на такси – это было недалеко и недорого.
Мне сказочно повезло – в комнате я была одна. Правда, администраторша изучающе и хмуро оглядела меня – чего ожидать от этой одинокой москвички, каких неприятностей? И ледяным голосом сурово сказала, чтобы я не расслаблялась – подселить ко мне могут в любое время.
Но я, конечно, расслабилась, как говорится, на всю катушку. Много гуляла, много ела и много спала.
Решила так – неделю спокойного, тепличного отдыха, а уж потом в город. Бродить, шататься, пить кофе с пирожными и кайфовать!
До залива было далековато – минут сорок быстрой ходьбы. Иногда я ходила пешком, иногда ездила на маршрутке. Сидела на прохладном, чистейшем, белоснежном песке, похожим на мелкую манную крупу, и смотрела на море. На море я могла смотреть до бесконечности.
Оно было неласковым – настоящая хмурая Балтика. То светло-серое, то свинцовое, а иногда, в солнечную погоду, и голубоватое. Цвет моря зависел от освещения.
Небо, казалось, сливалось с морем и почти совпадало – по цвету и настроению. Но и это меня не волновало – так же, как и довольно прохладный ветерок, а иногда и мелкий, колючий дождик.
Я укутывалась в теплую кофту, раскрывала зонт и снова любовалась природой.
Когда я замерзала, то заходила в кафе, на втором этаже, окнами на залив. Я садилась у окна, заказывала чай или кофе, иногда – бутерброд или пирожное и снова смотрела на море. И я понимала, чувствовала, что мне становится легче.
Я, удивляясь себе, почти ни о чем не думала и ничего не вспоминала. Даже своим звонила редко – раз-два в неделю. В голове и на душе было пусто, как будто их вычистили, освободили, чтобы наполнить вновь. И это была не гулкая, давящая пустота, а пустота легкая, звенящая, обнадеживающая.
И тогда я почувствовала, что скоро в моей жизни случатся перемены. И эти перемены меня не пугали.
Как-то на завтраке ко мне подошла администратор и сказала, что меня ожидают. Приятный мужчина.
– На стоянке у въезда, – с напором и иронией повторила она.
– Кто? – Я удивилась и растерялась. – У меня тут вроде никого нет.
Администраторша холодно ответила:
– Мне не докладывают! Извините.
Я быстро допила чай и поспешила на выход. Я успокаивала и убеждала себя, что это ошибка. Кто может ждать меня на стоянке? Какой «приятный мужчина»? Нет, конечно, это ошибка. Ну ладно, сейчас разберусь и все встанет на место. Конечно, это ошибка!
Максим
Выхода не было. Я продолжал жить в Перово и соседствовать с Райкой и Вовкой. Хорошо хотя бы, что я снова работал в газете. После трех лет в школе газетная жизнь показалась мне раем. Да, я мечтал уехать из своей конуры и снять приличную квартиру. Но где взять деньги? Я по-прежнему зарабатывал неровно и мало. К тому же отсылал деньги Нине и дочке. А еще нужно было что-то есть – пусть самое простое, тогда я был крайне неприхотлив.
Мое меню состояло из супа в пакете – суп-письмо, как остроумно его назвали в народе. Особенно я любил гороховый. А еще хлеба, кефира и пельменей. Если кое-что оставалось – я покупал сладкое. Сластена я изрядный, как женщина, даже неловко.
Приходилось и покупать кое-что из одежды – то прохудятся башмаки, то обтреплются обшлага рубашки или брючных манжет. Я никогда не был франтом, но нищета терзала меня. Мне вполне было достаточно одной пары джинсов, пары свитеров и пары рубашек. Мои единственные джинсы, латаные-перелатаные, обещали вот-вот расползтись. Старый вельветовый, в крупный рубчик, коричневый пиджак трещал по швам – от хлеба и пельменей я набирал вес.
Иногда, от совсем уж отчаянной тоски, я ездил в гости. Это были мои давние компании, еще со студенчества. Все сокурсники были довольно прилично устроены – кое-кто вырывался и за границу – в командировки или по туристической.
Мужики, мои старые приятели, трепались о машинах, хвастали новыми итальянскими ботинками из блестящей кожи, щелкали фирменными зажигалками, расстегивали на груди мелкие пуговки заграничных рубашек – батников. С собой приносили джин или виски – привезенные из-за границы или купленные в «Березке». А что говорить про их жен? Ухоженные и стройные модницы и красотки – не отвести глаз.
Но главное было не это – не шмотки, ботинки и сигареты «Мальборо». Главное было то, что все они состоялись в журналистике, науке, искусстве, спорте. Моим ровесникам было уже к сорока – времени на эксперименты почти не осталось. Если ты не состоялся, не сделал карьеру к сорока, получалось, что ты неудачник. Пьяница или просто дурак. Остальные причины не принимались.
После походов на эти вечеринки я чувствовал себя не просто уязвленным – я чувствовал себя откровенным дерьмом и самым безнадежным неудачником. Я видел, какими взглядами мои приятели оглядывали меня. Чего в этих взглядах было больше – жалости или презрения?
Зачем я ходил туда? Зачем проникал в чужой мир благополучных и уверенных в себе людей? Зачем я царапал свое сердце? Мне ведь было и так несладко. Что-то мазохистское было в этом – определенно.
Я неловко шутил, привлекая к себе внимание. Что-то бубнил по поводу своих повестей и романов, пыжился, тужился, понимая и видя, что все они смотрят на меня с сожалением, как на больного. Намекал, что все великие и настоящие писали в «стол». Я балаболил, юродствовал, куражился, а на душе у меня была такая отчаянная тоска. Конечно, я понимал, что мне не верят и даже испытывают чувство неловкости, слушая мои байки и оправдания. Я видел, что на меня смотрят с сожалением – а ведь он, Ковалев, был не хуже нас! И вон как получилось! Все у него, дурака, было – дед-академик, квартира, дача, машина с водителем. Профессорский внучок, везунчик по рождению. Элитная школа, журфак МГУ. А ничего из человека не получилось. Судьба? Судьба играет с человеком, а человек играет на трубе.
Со временем меня приглашали все реже и реже. Да и я сам не рвался – стеснялся своей поношенной одежды, своей неудачной судьбы. Что я мог принести к столу? Бутылку сухого за два двадцать и шоколадку «Аленку»?
Я закатывал рукава на рубашке, чтобы не было видно обтрепанных манжет. Я много и жадно ел – понимая, что ем много и жадно, но остановиться не мог. Всегда был голоден. Я был кошмарно подстрижен – за пятьдесят копеек в соседней парикмахерской. От меня отвратительно пахло дешевым болгарским одеколоном.
Так почему я ходил туда? Туда, где мне были не рады, где надо мной насмехались. Туда, куда я стеснялся идти? Да все просто – от одиночества. Мой круг общения сузился до кухонных посиделок с Райкой и Вовкой. А мне хотелось увидеть нормальные лица и услышать нормальную человеческую речь.
Я страшно комплексовал. Страшно. Я ненавидел себя. Я понимал всю нелепость своего существования. В те дни у меня появились дурацкие, страшные мысли. Каюсь – было, раз или два. Я сидел в своей вонючей темной комнате, слушая перебрехивания Райки и Вовки, и мне очень хотелось исчезнуть с этого света.
Здесь меня, кажется, уже ничего не держало. Моя никчемность меня добивала. С матерью отношения у нас не наладились даже с годами. Напротив, они стали еще суше и еще равнодушнее. Хотя, казалось бы – куда же еще? Жена меня выгнала. Дочь была инвалидом. Писатель из меня не получился, журналист – тоже. Что еще, если подвести черту? Да кажется, все, вполне достаточно. С такими вот мыслями я встретил свой очередной день рождения. В тот год мне исполнилось тридцать девять.
Я по-прежнему частенько поддавал со своими милейшими соседями – опять же от тоски и отвращения к жизни, а самое главное, от отвращения к себе. Мне стало казаться, что и я сам уже пропах всем этим – запахом помойки под моим окном, вареной капусты из подъезда, подгнившей картошки, хранившейся в общей прихожей – Райка держала ее на посадку, – дешевым мылом, общим сортиром и одеколоном «Карпаты». К этим божественным ароматам прочно приклеились запахи «Примы» или «Друга» – самых дешевых и отвратительных сигарет.
Мне стало казаться, что от меня шарахаются в общественном транспорте – так от меня пахло. Да, мать права – я повторяю судьбу отца.
Я почти смирился с этим – желания противостоять у меня почти не осталось. Наверное, это была депрессия. Мои романы по-прежнему никуда не брали – и я решил, что с отсылкой в журналы покончено. Тогда я еще писал, но делал это так нехотя, в полноги, точнее руки, все реже и реже, понимая, что скоро совсем заброшу это занятие. И все-таки, думаю, это и удерживало тогда меня на этом свете. Несмотря ни на что.
Уже скоро я почти перестал переживать по поводу того, что пропадаю. Пожалуй, теперь я пропадал с каким-то мазохистским удовольствием: «Ах так? Значит, так! Извольте!»
Когда мы в очередной раз встретились с Ниной, кажется, у метро «Беговая», если не путаю, она посмотрела на меня с ужасом, и в ее глазах заискрилась слеза:
– Как же так, Максим? Как же ты…
– Опустился? – радостно подхватил я. – А что, так уж заметно?
– Хватит паясничать, – сурово оборвала она меня. – Ты всегда был слабаком, уж извини за правду! И я имею право сказать тебе это.
Я равнодушно пожал плечами: дескать, распирает – говори! Я не против.
Нина воодушевилась, видимо, не рассчитывая на мое благодушие.
– Так вот, – продолжила она, – ты на себя в зеркало давно смотрел? Недавно, сегодня утром? И как тебе эта картина? А, ты вполне доволен! Отлично. И я за тебя очень рада. Но как же ты… Ты ж не чужой для меня человек, Ковалев!
Наконец я не выдержал и перебил ее:
– Слушай, отстань, а? И без твоих нравоучений тошно так, что в петлю.
– Максим! – почти взмолилась моя бывшая жена. – Что ты такое говоришь? Как же так можно? Это же жизнь! Твоя жизнь – единственная и неповторимая! И ты так легкомысленно и глупо ею распоряжаешься! Какие у тебя несчастья, ты мне скажи? Какое горе? Что не печатают твои, – она запнулась, – твои гениальные книги? Подумаешь! Сколько таких, как ты, непризнанных гениев? Океан! И все тихо спиваются и катятся вниз? Разве ты такой слабый? Ты здоров и даже вполне красив – у тебя есть руки, ноги, голова. У тебя, в конце концов, есть жилье. Ты не на улице. Ты зарабатываешь себе на хлеб. В чем твоя беда, Максим?
Я курил и смотрел в сторону. На Нину мне было стыдно поднять глаза. Она решилась на этот развод, чтобы хоть как-то продолжить жить, по-человечески, нормально. Это она пахала на полторы ставки, чтобы прокормить нашу общую больную дочь. Это она – благородно! – не брала у меня ни копейки, когда я был безработным, и не попрекнула этим ни разу.
Мне стало стыдно, невыносимо стыдно слышать это и понимать, что она абсолютно права.
Но для проформы я снова заныл:
– Да что ты в этом понимаешь! Да как ты можешь! Да какое ты имеешь на это право!
Нина махнула рукой.
– Да живи как знаешь! В конце концов, я любила тебя! И даже была с тобой счастлива. В конце концов, у нас общая дочь. – Она замолчала и всхлипнула.
– Прости меня, – наконец смог выдавить я. – Хотя я бы на твоем месте не простил.
– Тебе нужна женщина, – тихо проговорила она. – Тебе просто нужна нормальная женщина! Такая, чтобы…
Я ее перебил:
– Чтобы что? Чтобы терпела? Варила кашку и стирала носки? Послушай! Ты же прекрасно все понимаешь. Мне нужна женщина? Да, ты права! Только ты не подумала – а я нужен женщине? Нормальной – как ты говоришь? Ты же не выдержала, ну если по-честному, погнала меня, чтобы вздохнуть. А у нас с тобой много общего – наша молодость, например, наша любовь, наша дочь…
Нина подняла на меня глаза.
– Да, ты прав. Я не выдержала, потому что хотела спастись! Спастись, понимаешь? Я чувствовала, что с тобой пропадаю. Не могу с тобой. Больше не могу, понимаешь? А про любовь давай не будем! Все еще больно! Да кому я все это говорю! – Нина махнула рукой и быстро пошла прочь.
А я стоял столбом и смотрел ей вслед. Кажется, в эту минуту я что-то понял.
Нина как напророчила – через две недели я встретил Алису. И пропал окончательно. Вот он, перст божий.
Марина
На стоянке около машины стоял высокий мужчина в голубых джинсах и синей рубашке.
Я оглянулась – рядом больше никого не было.
– Простите! Вы не меня ждете?
– Вы Марина? – перебил он, и мне показалось, что он обрадовался.
Я кивнула.
– А я – Юри, сын Вилме. Это мама направила меня к вам. Волнуется, куда вы пропали? Она сказала, что оставила вам телефон. А вы ни разу не позвонили. Потеряли?
Говорил он с легким, почти незаметным акцентом. Я увидела, как он похож на свою мать, мою попутчицу Вилме: та же светлая кожа, глубокие синие глаза и та же ямочка на подбородке.
Я совсем растерялась и что-то залепетала в свое оправдание:
– Нет, не потеряла, кажется, не потеряла. Просто я не хотела вас беспокоить. У меня все хорошо, никаких проблем, честное слово! Номер прекрасный, кормят отлично. Я пропадаю днями на море – и это огромное счастье!
Я что-то бормотала, словно оправдывалась. Вилме не забыла обо мне, вот чудеса! А говорят, прибалты негостеприимны и равнодушны к малознакомым людям.
Юри выслушал меня молча и сказал:
– Отлично, что все хорошо. Только мама велела вас привезти. И никакие отказы не принимаются! Вы уж простите, мы привыкли слушаться маму! Она же у нас крупный начальник! – И он улыбнулся.
Я улыбнулась в ответ и развела руками.
– Ну раз привыкли, мне нечего возразить.
Я села в машину, и мы поехали в город. Я глянула на себя в зеркало и ужаснулась – вид у меня, прямо скажем, был далеко не гостевой – волосы спутались после бассейна, подкраситься я не успела, одета была в джинсы и майку. Ну и ладно – в конце концов, все получилось внезапно.
Юри молчал, что меня очень устраивало.
Я глазела по сторонам. Мне нравился город, даже спальные и современные районы Таллина здорово отличались от нашей Москвы. Они были компактны, стерильно чисты – уютные дворы с аккуратными клумбами, ухоженные скверы, ровные дорожки, целые, а не разбитые фонари, яркие скамейки у подъездов. Даже старые дома были покрашены и приведены в порядок – все было здесь как на цветной картинке в иностранном журнале. И еще мне бросились в глаза чистые и сверкающие, будто только что вымытые, окна.
«Нет, это все же совершенно другой мир», – подумала я.
Наконец машина остановилась у красивого дома из красного кирпича. Юри вышел из машины и галантно открыл мою дверцу.
Мы поднялись на третий этаж. У двери стояла Вилме – в домашней одежде и кухонном фартуке.
– Нашел! – всплеснула руками она. – Как хорошо!
Вилме пожурила меня за то, что я пропала, и мы наконец обнялись.
Квартира Вилме, казалось бы, вполне типовая и современная: три комнаты, кухня, прихожая, ванная, здорово отличалась от наших московских квартир. Здесь не было громоздкой полированной мебели, хрустальных люстр и тяжелых пестрых ковров. Стояла легкая низкая мебель светлого дерева – тумбы, комоды, журнальные столики с уютными настольными лампами.
На полу лежал полосатый палас. Вместо люстры – абажур из соломки. Низкие пузатые кресла и простой стол с льняными салфетками. Много керамики, эстампы на стенах. Никаких тяжелых блестящих гардин – легкие, полупрозрачные, однотонные шторы.
Вкусно пахло корицей и кофе.
Мы уселись в кресла, и Вилме разлила кофе по маленьким чашечкам.
– Позови Бруно! – кивнула она старшему сыну.
Юри долго не было, и вернулся он один, смущенно разведя руками в оправдание. Вилме расстроилась и мельком взглянула на меня. Я сделала вид, что ничего не поняла, и с интересом разглядывала картинки на стенах.
И тут до меня стало доходить: Вилме хотела познакомить меня со своим младшим сыном – тем самым Бруно, неудачливым, странным и нелюдимым холостяком.
Мне стало смешно и неловко. Этого чудака и бурундука хотели свести со мной. И правильно. Мы оба – залежалый товар. Вдруг получится? Я посмотрела на симпатичного Юри. Интересно, а старший брат в курсе? Кажется, да.
После беседы ни о чем за чашкой кофе я посмотрела на часы и встала.
– Мне пора, извините! Режим.
Вилме меня не удерживала. Расставались мы довольно прохладно – Вилме видела, что я обо всем догадалась. Юри вызвался отвезти меня в пансионат. Его мать смолчала, но я увидела недовольство в ее глазах. Я не отказалась – сами виноваты – и попросила его подбросить меня в Старый город. Ну раз уж вышла такая оказия!
Он остановил машину и обернулся ко мне.
– Марина! Я буду вашим провожатым – безапелляционно объявил он. – Вы гость, я хозяин! И возражения не принимаются.
А я и не возражала. В конце концов, он действительно может провести меня по интересным местам. Что тут такого? Никаких дурных мыслей у меня не было и в помине. Да и наверняка ему все еще неловко. Он же видел, что я обо всем догадалась.
Мы шли по булыжной мостовой, и Юри рассказывал мне про город.
Мы заходили в костелы, в одном попали на службу, и я замерла от восторга – небольшой хор пел под орган. Ксендз в белом шелковом одеянии и крошечной шапочке мягким и красивым баритоном читал свою проповедь. На деревянных, отполированных временем скамьях сидели прихожане. Кто-то читал молитвенник, кто-то подпевал хору, а кто-то сидел с закрытыми глазами, думая о своем.
Вышли мы завороженные и притихшие. На крутой лестнице, ведущей в Вышгород, я споткнулась, и Юри подхватил меня за локоть. Я посмотрела на него, и мы оба смутились.
Устав, мы зашли в маленькое, на три столика, кафе, где Юри заказал кофе с пирожными. И то, и другое было отличным. Мы согрелись – вечер был довольно прохладным, – отдохнули, и я наконец спросила:
– Вам, наверное, нужно домой? Вас ждут с ужином! Спасибо, все было прекрасно! А я как-нибудь доберусь, наверняка тут ходят автобусы или маршрутки. Вы и так потеряли со мной кучу времени. Спасибо большое!
Он остановил меня.
– Нет, Марина. Я вас отвезу, и это не обсуждается. Вы гость, я хозяин! – повторил он. – У нас тоже есть гостеприимство, не только на Кавказе, поверьте!
Мы рассмеялись.
По дороге в пансионат мы молчали. Он произнес одну фразу:
– Мой младший брат – прекрасный человек. Образованный, умный, порядочный, тонкий. Но ему не везет. Таким, как он, всегда не везет.
– Вы меня сватаете? – рассмеялась я. – И ваша мама хотела…
Юри нахмурился и перебил меня:
– Знаете, ее можно понять. Она мать. И что плохого в том, что она хотела вас познакомить? Не понимаю, простите.
– Ничего, – сухо ответила я. – По сути ничего. Только хорошее. Просто мне кажется, она должна была спросить меня. Нужно ли мне это знакомство? Странная ведь ситуация – Вилме посылает вас ко мне. Вы в курсе, она – естественно. Не в курсе одна я. Ну и как вам?
Он не ответил.
Мы подъехали к воротам пансионата.
Не дожидаясь, когда Юри откроет мне дверцу, я вышла сама.
Он выскочил из машины.
– Простите ее! – сказал он, не поднимая на меня глаз. – Ну и меня… заодно.
Я улыбнулась.
– А вас-то за что? Такая замечательная экскурсия – просто подарок! Разве без вас я бы смогла увидеть все это? И за кофе спасибо, он был прекрасен! А маме передавайте привет. – Я быстрым шагом пошла к своему корпусу.
Казалось бы, вся эта история с чуть неприятным душком должна была на этом завершиться.
Через день я почти о ней позабыла. А через два дня зарядили дожди. Что ж, никто и не удивился – для Прибалтики это обычное дело. Я снова сидела на скамейке на берегу и, замерзнув, отогревалась в знакомой кафешке. Только почему-то теперь мне было грустно. Так грустно, что захотелось домой. А до конца моего срока оставалось еще почти полных десять дней.
Море мое закончилось, увы. Поднялся сильный ветер, начался шторм, стало совсем холодно. Я брала книжки в библиотеке, ходила в кинозал и плавала в бассейне. В целом все было прекрасно. Но на меня опять навалилась тоска.
А через три дня в мою дверь постучали. Я открыла и увидела Юри. Он стоял на пороге, и в его руках был букет садовых ромашек – огромных, с голову младенца, ярких и солнечных, как теплое лето.
С этого дня начался наш длинный и непростой роман – роман без надежд, без перспективы, без будущего и оттого и печальный и грустный.
В ту минуту, когда он возник на пороге моего номера, нам обоим все стало понятно. Это было влечение, притяжение, оторопь, молния, вспышка. Потом, вспоминая все это, я понимала – это не было любовью. Это была страсть. Страсть с большой буквы.
Все было логично – я молода и давно одинока. Он несчастлив в семье и никогда себе не отказывал в связях на стороне. Я понравилась ему, он понравился мне. Все срослось. Нам было хорошо вдвоем. Я понимала, что в этом нет ничего плохого – кроме того, что он был женат. Но ведь я не собиралась за него замуж! Таких мыслей у меня не было! Я не собиралась рушить его семью! И в конце концов, я испытала то, чего у меня никогда прежде не было. И самое главное, что я поняла, я – живая. Я обычная живая женщина, которая хочет мужчину. Я не любила Юри – во всяком случае, это была не та любовь, что у нас с Сережей. Любовь и страсть – истории разные.
А значит, Сережу я не предала.
Последние дни все так же лили дожди. Но нам – мне и Юри – было на это абсолютно наплевать. Мы ехали в город или куда-то за город, снимали номер в кемпинге или гостинице и закрывались от всего мира на ключ.
Мы почти не разговаривали – просто любили друг друга. Кажется, все, что накопилось во мне за все эти годы – нежность, одиночество, благодарность, – я обрушивала на него, пугаясь саму себя и стесняясь этого.
Мы ничего не обсуждали, ни о чем не говорили и не строили планов. Нам было все ясно и так. Мы знали – через несколько дней мы расстанемся, и расстанемся навсегда. А потом будем вспоминать эту нашу странную историю и думать о ней – надеюсь, с нежностью и благодарностью.
А я продолжала удивляться себе. Однажды он обмолвился, что несчастлив в браке, но дети, дети…
Я остановила его:
– Не надо. Не стоит. Не надо мне этого знать. Это твоя жизнь. А там, в Москве, далеко, жизнь моя. И они никогда не пересекутся, наши жизни. И ничего плохого, ничего. Спасибо тебе.
– За что? – удивился он.
Я не ответила.
Вздохнув, он кивнул.
– Да, наверное, ты права. И все-таки как-то грустно от этого. Ты послезавтра уедешь, и все.
– Нет, не все! – засмеялась я. – давай не будем о грустном! Ты мне очень помог, – тихо добавила я. – Ты меня практически спас, понимаешь?
Он так ничего и не понял, но выяснять не стал – за что большое спасибо.
Через два дня Юри отвез меня на вокзал. Поезд, недовольно фырча, уже стоял на перроне, и по вокзалу плыл вкусный запах дымка. Проводница натирала и без того блестящие хромированные перила и косилась на нас, кажется, с неодобрением.
Мы обнялись и замерли, как влюбленные. Но мы не были влюбленными – мы были не очень счастливыми умными и взрослыми людьми, отлично понимающими, что есть вещи, которые невозможно исправить.
– Передавай привет Вилме, – сказала я.
Он улыбнулся.
– Да что ты, о чем? Она же меня растерзает. Это тебе не страшно, ты далеко!
И мы рассмеялись.
Раздался предупреждающий гудок, и я провела ладонью по его щеке:
– Спасибо тебе. Большое спасибо. Только не вздумай грустить! И не вздумай звонить мне, а то пропадем, слышишь? И никому от этого легче не будет. Совсем все запутается.
Он кивнул, соглашаясь, и прижал к своим губам мою холодную руку.
– Глупая жизнь, правда? Ты как считаешь?
– Ну как уж есть! А может, глупые мы?
Я села в купе и отвернулась от окна. Мне было тяжело с ним прощаться и оставаться снова одной. Все снова закончилось. Как быстро. Я заплакала. Мне стало очень жалко себя. За что мне все это? За что мне такая судьба? Сережа, Сереженька! Как же мне плохо, родной!
Максим
Моя мать, Антонина Корсун, была из хорошей и небедной семьи сельских тружеников. В былые времена их бы определили в кулаки и наверняка бы сослали. В большом украинском селе, где родилась моя мать, цвели вишневые сады, серебрилась извилистая и глубокая речка, хаты были крепкими, хозяйства – богатыми, народ – трудолюбивым, и палисадники горели малиновыми мальвами.
Красавицей моя мать была необыкновенной – просто киношный образ настоящей хохлушки, дивчины, панночки – высокая, статная, крутобедрая. С прекрасными густыми темными косами, правильными чертами лица, отменной кожей и зубами, яркими, большими глазами.
За Тоней волочились толпы поклонников. Наконец привередливые и разборчивые родственники решились невесту сосватать за бравого хлопца из хорошей семьи. Но тут, на общее горе, девица Тоня отправилась в Киев – с подружкой и младшей сестрой. То да се, киношка и магазины, словом, прошвырнуться и себя показать.
А за поворотом красавицу Тоню уже поджидала судьба в виде моего будущего папаши Александра Борисовича Ковалева, столичного бездельника, жуира и бонвивана, представителя золотой молодежи и человека, мягко сказать, малонадежного.
Папаша мой оказался в красивейшем, укрытом зеленью городе почти случайно – на новеньком «москвичонке», заимствованном у ничего не ведающих родителей, четыре столичных балбеса ехали на Черное море. Ехали все за тем же, что привыкли брать от жизни, – солнце, тепло, молодое вино и, разумеется, загорелые южные девчонки.
Сделали крюк и завернули в Киев – поесть галушек, сальца с чесноком, запивая все это горилкой. В ресторане «Зозуля» – зеленые ветви вековых деревьев, роскошный вид на склоны Днепра, Сашка Ковалев сидит у окна и грустит – обед давно съеден, ждут кофе с пирожными. Папаша мой, как и я, был большим сладкоежкой. Скучает, смотрит в окно, ковыряя спичкой в отличных, крепких зубах.
По тротуару идут девчонки, сразу понятно – местные. Одеты смешно и провинциально – сатиновые платьица, грубые босоножки, наверняка шедевры местной фабрики. Но хороши! Ах, как хороши! Свежие лица без грамма косметики, румянец на гладких и смуглых щеках. А главное – глаза, взгляд. Чистый, смущенный, немного растерянный и невинный. А одна из них особенно хороша! Нет, просто сказочно хороша эта лапа! Высока, длиннонога. А какая грудь, мама дорогая! А коса на спине! Москвич обалдел.
Та невозможная красотуля с косой остановилась вытряхнуть камешек из босоножки прямо возле окна, где скучал столичный повеса. На беду свою остановилась – судьба.
Сашка Ковалев оживился и постучал по стеклу. Она подняла голову – нахмурилась, покраснела. Сердито окликнула подруг и быстро пошла прочь. А он – ничего не понимающие друзья переглянулись – без предупреждения и объяснений бросился следом за ней, чуть не сбив у тяжелой дубовой двери такого же тяжелого и многозначительного швейцара с бородой и галунами.
Догнал легко. Обогнул троицу, перекрыл дорогу. Троица, надо сказать, испугалась. Девушки вздрогнули, переглянулись – явно ища поддержки у чернокосой, она была старшей. Та нахмурилась, попыталась наглеца обойти, но не тут-то было. Не знала Тонечка Корсун, что Саша Ковалев не привык отступать. Не привык к отказам – ни в чем, извините. Он брал от жизни все и без «спасибо», в полной уверенности, что ему так положено по праву рождения.
Словом, от девушек он не отстал. Ошалевшим друзьям коротко, без подробностей, сообщил, что дальше с ними не едет. Остается здесь, в столице братской Украины. Зачем?
– Да встретил судьбу! – довольно хохотнул он, кажется, сам над собой насмехаясь.
Друзья покрутили пальцем у виска и двинулись в путь. В конце концов, это Сашкино дело! Ну раз решил… Знали – он никогда не отступит, пока не добьется своего. Избаловали его родители просто до края, донельзя.
– Но все-таки идиот! – обсуждали его поступок друзья. – Нет, конечно, девка хороша, что говорить. Красавица девка. Но все равно бред. Сколько таких красавиц по побережью – ходи, собирай, как ромашки, срывай любую – скажет только спасибо.
Но внезапно задумчивый Саша даже не обернулся вслед «москвичонку».
Девочки заночевали у родни на окраине города. Терпеливый – вот чудеса! – кавалер всю ночь просидел на лавочке у ворот. Утром шел за девчонками не отставая – в магазин, в кинотеатр, в парк. Они смущались, краснели, глупо хихикали, прыская в кулачки, пихали друг друга локтями и с испугом поглядывали на Тоню. Она молчала. Хмурила брови, поджимала в полоску губы и молчала. На шутки кавалера никак не реагировала.
Наверное, это его и зацепило – не меньше, чем Тонина яркая, южная, бьющая в глаза красота. Ну а дальше он отправился в село, выудив у Тониной подружки подробности – адрес, фамилию, отчества родителей.
Прихватив огромный букет белых роз, торт на три килограмма и золотое колечко, он появился на пороге крепкой хаты, где жила ее родня.
Сама Тоня застыла на пороге дома, увидев это «явление». Что уж говорить о бедных тетках. Строгая Тоня сначала побледнела, потом раскраснелась и наконец подняла глаза на «жениха» – вполне, надо сказать, веселого и очень довольного собой.
Суд да дело, а через две недели жесткой осады крепость была взята. Тоня влюбилась. Тетки с тяжелым сердцем подчинились судьбе.
В сельском загсе молодых расписали, и они отправились в Москву – «пасть в ноги» родителям жениха и вернуться всем вместе, чтобы отпраздновать пышную и шумную сельскую свадьбу. Именно так было принято на селе – весело, пьяно, сытно, с размахом.
Уже в дороге молодой муж загрустил – понял, что напортачил. Нет, жена-красавица ему очень нравилась. Только вот как она будет смотреться там, в интерьере его квартиры, в декорациях его сладкой жизни, в компании веселых друзей? И самое главное – что скажут родители? Строгий папа-академик и важная мама, суровая светская львица?
Настроение было подпорчено. Всю дорогу он был хмур и неразговорчив.
Тоня переживала, но старалась себя убедить, что ее Сашок просто волнуется. Конечно, волнуется. Вот так, не спросив у родни, взял да женился. Конечно, любовь! Не хотел без нее уезжать, не хотел рисковать и оставлять ее со станичными кавалерами. Пошел наперекор семье, он у нее смелый, отчаянный. И очень влюбленный. Тоня нежно гладила его по руке – утешала.
Конечно, и она волновалась – а как без этого? Как примет ее родня мужа? Серьезные люди, не чета Тониной семье. Но характер у нее был – ее просто так не сомнешь.
Взяли от вокзала такси. Тоня во все глаза рассматривала столицу – ахала и дивилась, а молодой совсем сквасился, скис, как простокваша.
Тоня на время отлипла от окна машины. «И как я буду здесь?» Сердце билось так часто, что вспотела спина. «Приживусь ли? Божечки мои! Сколько машин! И какие дома! А людей-то, людей!»
Такси остановилось у красивого кирпичного дома с огромными арками, зашли в подъезд.
– А твои, Шурик, на даче! – Из стеклянной будочки, отложив вязанье, высунула голову пожилая женщина. – А ты как, Шурик? Хорошо отдохнул? – с ехидством спросила она.
– Хорошо, теть Кать! – буркнул новоиспеченный муж и взял за руки Тоню. – Пошли, что застыла?
Кажется, он слегка выдохнул – казнь откладывалась. Впереди два выходных, значит, можно расслабиться до воскресенья.
Квартира поразила Тоню не меньше Москвы – четыре комнаты, высоченные, с лепниной, потолки. Окна во всю стену – да еще и на Москву-реку!
А мебель, а люстры! А ковры на полах! В буфете, переливаясь на солнце, полыхал хрусталь. Полы сверкали новехоньким лаком. Мягкие кресла, глубокий диван.
– Это моя комната, – буркнул муж. – Здесь мы и будем с тобой жить.
Ужинали на кухне – из высоченного холодильника Шурик достал большую банку с черной икрой, нарезал толстенными ломтями сочную бледно-розовую ветчину, пахучий (неприятно, надо сказать) сыр из деревянной коробочки. «Дурочка! Это же камамбер! Что б ты понимала!» – засмеялся муж и покачал головой.
Попробовала – и вправду вкусно, остренько так. Только вот запах… Зажать нос и есть.
И кофе был вкусный, и конфеты. Ах, какие конфеты! Тоня про такие не слышала.
Смущало по-прежнему одно – молодой муж был в плохом настроении, и Тоня расстроилась окончательно. Но успокаивала себя – волнуется, конечно, волнуется, завтра уже воскресенье, а значит, вернутся родители. И что там будет…
Тоня и сама волновалась. А муж ее не утешал. Буркнул коротко:
– Что будет, то будет! Выгонят – уйдем. К друзьям. Или уедем на дачу. Что-нибудь придумаем. На улице не останемся, успокойся.
Ну она и успокоилась – раз муж говорит…
У них в селе так было принято – верить мужчине. Особенно – мужу. Ведь он теперь за нее отвечал. Как отвечают мужчины в ее роду.
Наутро ей очень хотелось погулять по Москве. Но муж отказался – успеешь еще! Голова болит, буду спать!
Тоня бродила по квартире, ища себе дело. Дел не нашлось – квартира сияла чистотой, готовый обед стоял в холодильнике, постирушка не нашлась – чем заняться? И Тоня совсем загрустила.
Родители мужа появились к вечеру воскресенья. В огромной прихожей стоял высокий, полный мужчина с недовольным и капризным лицом. Рядом с ним женщина небольшого роста, стройная и красивая. На ее гладком, ухоженном лице было написано недоумение.
– Шурик! – нервно выкрикнула она. – Что еще за фокусы? Катя сказала, что ты приехал с девицей!
Она не спрашивала – она заранее возмущалась и негодовала.
Тонин молодой муж стоял, опустив голову, понурый, несчастный, казалось, готовый к публичной порке.
– Я, кажется, задала тебе вопрос! – с истеричной ноткой повторила женщина.
– Привез, – обреченно кивнул головой Шурик. И тут же прибавил голосу: – А что тут такого? Мне уже двадцать три, между прочим! Я что, не имею права жениться?
Мужчина – понятно, что это был отец и глава семьи, академик Ковалев, – чертыхнулся с досадой и пошел в себе в комнату.
Из комнаты выкрикнул:
– Юля! Где ты там? Все уже ясно! Иди сюда! Ты мне нужна! Ты меня слышишь?
Юля, Юлия Андреевна, новоявленная свекровь, нелюбезно принявшая и вправду незваную гостью, досадливо махнула рукой, зло сверкнула глазами на сына и молодую и бросилась вслед за мужем.
Тоня, испуганно, во все глаза смотрела на мужа.
– А ты что хотела? – раздраженно бросил он. – Ковровой дорожки?
Тут Тоня словно проснулась – вспыхнула, всколыхнулась гордая кровь.
– Ах, так? Что я хотела? Я что, не человек? Чтобы со мной – да так? Все, я ухожу! Собираю вещи и ухожу! Хоть на вокзал, хоть куда, лишь бы отсюда подальше! А ты как хочешь. Не бойся, не пропаду!
Тоня кидала вещи в старенький матерчатый чемодан и горько плакала – вон как обернулась ее семейная жизнь. Вон как приняла ее семья мужа. Нет, такого ей не стерпеть! Не та порода, никто еще о Тоню ноги не вытирал!
Гордо вскинув голову, одним рывком она открыла тяжелую дверь на лестничную площадку.
Только бы не обернуться! И только бы не притормозить!
– Подожди! – услышала она голос мужа. – Подожди! Вот только ботинки надену!
В горле стоял комок – не проглотить. Но Тоня проглотила – еще чего! Слез ее они не увидят! Одно поняла: они – это враги! С той минуты она называла их «эти», и больше никак.
Теперь – навсегда.
Бедная Тоня. Бедная моя мать.
Тогда еще – бедная. Давно нет той Тони. Давно. Жизнь ее изменила. Не ее вина, да.
Жизнь моей матери была непростой. Она не только согласилась на эту жизнь, не только испортила себе судьбу, но и постаралась испортить заодно и жизнь окружающих. Наверное, это была ее месть за порушенное счастье, за разбитые надежды, за дурацкую, несчастную первую любовь.
Конечно, она озлилась. Озлилась на всех, без исключения. У людей, переживших драму, болезни, потери или предательство, дальнейшие отношения с жизнью складываются по-разному – одни мягчеют сердцем, проникаются сочувствием к таким же несчастным, пытаются помочь или хотя бы поддержать другого. А другие, наоборот, ликуют, когда кого-то цепляет похожая беда. Ага, значит, не только мне! Справедливо! Чужое горе их не просто примиряет с жизнью – радует, дает силы жить.
Моя мать оказалась из тех, из вторых. С жадностью она подмечала, словно подкарауливала, чужие несчастья. И глаза ее загорались блаженным огнем: «Вот! Я ж говорила!» Хотя были случаи куда более трагичные, чем ее собственные страдания.
Но она считала себя страдалицей. Униженной, оскорбленной и преданной много раз.
Казалось бы, гордая женщина могла обрубить все одним разом, одним ударом топора – просто собрать свои вещи и уехать на родину, к родне. А там – да снова выйти замуж, и все! Попытаться стать счастливой, устроить свою судьбу. И желающих, уверяю вас, было бы много!
Но моя мать не сделала этого. Почему? Вот это вопрос. Так сильно любила моего легкомысленного отца? Я не уверен. Мне кажется, она его презирала. И это было самое сильное из ее чувств, обращенных к нему. Может быть, мстила? А что, отличная месть – испортить ему жизнь своим присутствием в ней.
Боялась оставить меня без отца? Да бросьте! Вот это волновало ее меньше всего.
Страх все потерять и снова окунуться в тяжелую крестьянскую жизнь? И это вряд ли – она была крепкой физически и работы никогда не боялась.
Стыдилась вернуться в станицу – разведенка да с ребенком на руках?
Тоже нет. Чужое мнение ее не волновало.
Она быстро привыкла к хорошему. После того как отец помирился с родителями, у нее появилось все: огромная квартира с окнами на набережную, академическая дача, машина с шофером, продукты из распределителя. Тряпки и обувь оттуда же. Отдых в лучших санаториях. Поди плохо, а?
И все-таки я не уверен… Нет, красивая и сытая жизнь ей, разумеется, нравилась. А кому бы она не понравилась? Вот только была ли моя гордая мать настолько корыстной? Да и выросла она не в нищете, а в богатой семье.
Что оставалось? Я ломал голову, пытаясь найти ей оправдание. Или хотя бы объяснение этому. Не находил. А спросить у нее не решался.
Но факт остается фактом – мать никуда не уехала, а продолжала жить в ненавистной семье.
Складывалось все ужасно. Ни свекровь, ни свекор – «эти» – ее не принимали. Думаю, не только из-за вредности или непослушания сыночка-раздолбая. Нет. Моя мать сама провоцировала их на нелюбовь – гордыня жгла ее и в результате спалила, отравив ее жизнь. В характере проявились с утроенной силой неуступчивость, резкость, упрямство и еще раз упрямство. Мать твердо стояла на своем – ни пяди! Ни грамма уступки.
Так и жили во взаимной ненависти. А уж поведение муженька, академического сыночка, она и вовсе объясняла родительским воспитанием – в чем, конечно, была совершенно права.
Мой будущий папаша очень скоро, почти сразу, снова включился в свою прежнюю жизнь – приходил домой под утро, спал до обеда, выпивал и приносил с собой запах чужих духов и следы помады на рубашке. А его молодая и красивая жена смотрелась в столице не очень. Столичные модные девочки – бледные, с распущенными вдоль узких лиц волосами, с сильно подведенными глазами, затянутые в узкие брючки и юбки, томно выпускавшие дым, – и она, Тоня. Высокая, крепкая, мускулистая Тоня. С гордо закинутой головой, большой и высокой грудью, широкими бедрами – эх, как не модно. А этот румянец во все щеки – перла крестьянская кровь! Нет, Тоня отлично смотрелась в селе. А здесь, в столице… Она выглядела смешно. Заносчивая, характерная и гордая Тоня.
Она ревновала, кричала, плакала, взывала к мужниной совести. Наконец пугала и грозилась.
Муженек не пугался, хотя каялся, клялся, что это случилось в последний раз. Ему до чертей надоели скандалы. Конечно, ему не верили – ни родители, ни жена.
И все-таки, думаю, от его родителей она ждала хотя бы поддержки. А ее не было. Совсем. Отец-академик громко хлопал дверью, не желая слушать скандалы. А мать, свекровь и моя будущая бабка Юля, картинно закатывала глаза, почему-то негодуя на невестку, а не на сына.
Невестку она еле терпела – и деревенщина, и лентяйка, и необразованная дрянь. Короче, не нашего поля, вы понимаете! Все это она с жаром обсуждала с подругами. Подруги сочувствовали. Но уверен – между собой говорили, что Шурик – сомнительный подарок.
Конечно же, моя мать слышала эти разговоры свекрови. И это тоже не прибавляло любви к ней. Дед и бабка мечтали, чтобы они с их сыном развелись.
Но тут моя мать забеременела и слегка поутихла.
Поутих и мой папаша – проснулась совесть? Или он взял кратковременный отпуск? Или с ним поговорили родители, мечтавшие о продолжении рода?
К беременной невестке относились сносно, с некоторой осторожностью и даже с заботой.
И вот настал час Х – родился я. Все были счастливы. Рыдала моя чувствительная бабка, уронил скупую слезу дед-академик. И мой никчемный папаша, надо сказать, умилился и поутих, правда, месяца на два-три, не больше. Потом, как водится, надоело, и его жизнь потекла по привычному руслу.
Для помощи с младенцем была нанята нянька. На даче, под густыми темными елками и легкими прозрачными соснами стояла коляска с младенцем. Бабка зазывала на дачу гостей – похвастаться новорожденным. Вот, дескать, и у нас есть внучок! У нашего-то балбеса! И в придачу жена-красавица, видели, да? Я лежал в импортной коляске под тончайшем пледом из ангорской козы и сосал невиданную французскую пустышку с красным околышком.
Я был довольным, красивым и крикливым младенцем – возле меня вились няньки, дед и бабка, а иногда и отец.
Мать меня не полюбила. Почему она была равнодушна ко мне? Может, оттого, что властная свекровь отодвинула ее от меня в тот же час, когда схватила меня на руки у роддома? Или оттого, что я пошел в ковалевскую породу и был очень похож на отца? Может, потому, что жили они с отцом уже так плохо, что и я, «ковалевское отродье», ежеминутно напоминал ей о неверном муже?
Не знаю. Но матери в раннем детстве я возле себя не помню. Спать меня укладывала няня. Песенку пела бабка. Книжки читал дед. Даже отец, возвращаясь с очередной гулянки, заходил в мою комнату и, наклонившись и пахнув мне в лицо стойким перегаром, шептал мне какие-то ласковые слова и гладил по голове. А мать я почти не помнил.
Зато хорошо запомнил ее взгляд – среди ночи и сладких снов я почему-то проснулся и открыл глаза.
Она стояла над моей кроваткой и внимательно изучала меня. Лицо ее было сосредоточено, брови сведены, рот плотно сжат. Она смотрела на меня, как смотрят на что-то непонятное, малознакомое, смотрела с сомнением, в котором читалось: «А мне он зачем?»
Было мне тогда года три с половиной, но я хорошо запомнил, как вздрогнул, испугался и даже заплакал. Потом быстро зажмурил глаза – смотреть на нее мне было страшно.
А мать, видя мой испуг, не успокоила меня, не погладила по голове, не нагнулась, чтобы поцеловать. Она постояла еще пару минут и, резко повернувшись и громко стуча каблуками, вышла из комнаты.
С того дня я стал ее еще и побаиваться.
Бабку и деда я любил, понимая, что этим двум людям я небезразличен и они уж точно любят меня.
Дед мой родился в Боровске, в интеллигентной семье провинциальных учителей. В шестнадцать отправился учиться в столицу. Недоедал, спал, где придется, но неистребимая жажда знаний и воля спасали – на четвертом курсе его направила в Кембридж, случай тогда единичный. В загулы дед не отправился, по-прежнему страстно учился, девиц не замечал, табак не курил и виски не пил.
Вернулся он через три года и выглядел роскошно – бежевое, из тонкой шерсти пальто и коричневая велюровая шляпа. Был он высок, с молодых лет полноват, по причине испорченного от книг зрения щурил глаза и казался надменным и богатым барином, что совершенно не было правдой.
Он по-прежнему был увлечен наукой и на женщин все так же поглядывал с опаской. Тут и поймала его моя шустрая бабка – тогда еще хорошенькая и кокетливая девица Юлечка Алексеева.
Бабка гордилась тем, что она коренная москвичка и купеческая дочь. Были такие купцы Алексеевы, были. Но Юлечка Алексеева приходилась им далекой родней – родители ее были людьми простыми и скромными. Папаша, мой прадед, служил мелким начальником на почте, а его супруга воспитывала детей. Своего дома у них не было – снимали квартирку в Замоскворечье. На одной из прогулок бабка Юля показала мне этот дом.
Брак их был крепким, счастливым, омрачали его только проблемы с сыном.
Дед рано встал на ноги, обзавелся жильем и прочими благами, Юляшу свою обожал, а она, Юляша, крутила им, как могла.
Бабка была человеком резким и пристрастным. Для нее существовало только белое и черное, других цветов она не различала. И мою мать невзлюбила раз и навсегда. А своего непутевого сына, моего отца, всегда оправдывала. Думаю, дело было не в том, что моя мать не пришлась ко двору из-за своего происхождения, – любая женщина, появись она на пороге бабкиного дома, тот-час бы попала в немилость. Материнская ревность, что тут поделать.
Конечно, у меня была няня. Добрая женщина из Боровска, кажется, дедова дальняя родственница. Еще в доме жила прислуга – бабушка называла ее домработницей, считая, что это интеллигентней. «Какая прислуга? Мы же не баре, не господа! – возмущалась бабка. – Мы – научная интеллигенция!»
Домработница Валентина, Валя, делала в доме всю работу: стирала, гладила, убирала, готовила и мыла посуду. Бабка ни до чего не дотрагивалась – осуществляла руководство. Только за продуктами Валечка не ходила – их из распределителя привозил шофер Генка, деду полагалось и это. Заказы доставлялись раз в неделю, и было там все – от вологодского масла в глиняных горшочках до сыра, копченой и вареной колбас, изумительных телячьих сосисок в тончайшей кожице, мяса, кур и деликатесов – икры красной и черной, паюсной, осетровых балыков и красной рыбы. К этому роскошеству добавлялось и сладкое – огромные многоэтажные коробки шоколадных конфет, зефира, пастилы, мармелада и пирожных. Плюс дефицитные консервы – персиковые и вишневые компоты, которые я особенно любил, языки в желе, зеленый горошек, майонез и рижские шпроты.
Валя доставала из пакета все это роскошество, а бабка давала ей указания: «Это на дальнюю полку, это сюда, поближе. Это убери на антресоль, это в холодильник, а это… – бабка задумывалась, – а это положи на подоконник».
На подоконник обычно складывались горошек, которого у нас накопилось в избытке, шпроты – «Мы от них задыхаемся!» – вздыхала бабка, – польское печенье и всякая мелочь, вроде пастилы и зефира.
«На подоконник» – это то, что шло домработнице Вале и шоферу Генке. Каждый раз, прижимая к груди пачки и банки, Валя начинала плакать и норовила поцеловать бабкину руку. Все это добро – а это действительно было добро! – Валя увозила на родину, в деревню, матери и сестрам. Те на Валю молились.
Генка, дедов водитель, брал продукты как бы нехотя, усмехаясь: «Да ладно вам, Юлия Андреевна! Чего это вы? В Советском Союзе голодающих нет!» Было видно, что он стесняется. Однажды я его утешил: «Бери, Ген, бери! У нас этого добра – завались! Даже полка в кладовке рухнула!»
Бабка была не жадной, но крайне расчетливой: «То, что мне нужно, – мое! А то, что не нужно, берите, не жалко».
В конце недели она инспектировала холодильник и, если находилась залежалая колбаса или сыр, нюхала их и приказывала Вале завернуть для водителя.
Однажды я слышал, как моя мать усмехнулась и бросила бабке:
– Что, протухло? Можно прислуге?
Бабка полыхнула глазами:
– Не ты заработала, не тебе и решать! Ты вообще тут на птичьих правах! Сиди и помалкивай!
Мать вспыхнула и быстро вышла из кухни.
А бабка все никак не успокаивалась:
– Ишь, обнаглела! Будет еще нос совать не в свои дела!
Перепуганная Валечка бабке поддакивала.
Бабка писала деду длинные и подробные списки, что везти из заграничных командировок. На первой странице были вещи для меня: колготки, брюки, рубашки и обувь. Бабка обрисовывала мою ступню и отдавала деду «выкройку». Ну а жвачку, конфеты, кока-колу и игрушки дед привозил по своему усмотрению.
В девять лет я получил свои первые джинсы. В десять – кассетный магнитофон.
Ни разу – ни разу! – ни бабка, ни дед, ни отец не спросили у моей матери про ее пожелания.
Приезд деда обставлялся торжественно – семья собиралась в столовой, и все ждали, пока Валя припрет из прихожей большой, похожий на бегемота, дедовский чемодан. И вот чемодан открывался – мы с отцом подходили к нему и начинали выуживать оттуда подарки. Бабка, наблюдая за нами, сидела в кресле с блаженной улыбкой.
А моя мать, вспыхнув, тут же выходила из комнаты, понимая, что ей подарков не будет никаких, даже пустякового сувенира. Еще одно подтверждение, что она здесь чужая.
Как она терпела это унижение? Не понимаю. Как это допускал мой отец? Непонятно. Как дед и бабка, по сути своей не такие плохие люди, и уж нежадные точно, могли допускать это? Не понимаю и никогда не пойму. Но так было, увы.
Бабка всегда подавала нищим, отсылала деньги какой-то дальней родне. А с моей матерью… Не понимаю, как можно было долгие годы существовать в обстановке такой густой ненависти и презрения. Конечно, моя мать была далеко не сахар – высокомерна и надменна. И все-таки!
В конце концов, они могли сесть и поговорить. Высказать друг другу взаимные претензии, выкурить трубку мира. Нет, ни разу. Помню еще историю с шубой – бабка и Валя перебирали шкаф, перекладывая нафталином зимние вещи. Бабка примерила старую шубу – кажется, из мутона.
Бабка покрутилась у зеркала и сбросила шубу с плеч – надоела! Валя робко сказала: может быть, Тоне?
Бабка фыркнула и резко швырнула шубейку на пол – вот еще! Ни за что! Лучше нищим отдам или снесу на помойку. Только не этой!
Валя громко вздохнула.
Наверное, если бы я любил свою мать, я бы невыносимо страдал от такого отношения моей родни. Но к матери я был равнодушен, а бабку и деда любил, понимая, что жизнь они мне обеспечивают красивую и сладкую. Ребенок всегда приспособится.
Отца я видел не часто, но помню, что радовался ему – он почти всегда был весел, много шутил и от него хорошо пахло духами и почему-то шоколадом (потом я узнал, что это был запах мартеля, его любимого коньяка).
Он шутил и играл со мной, но недолго, тут же начинал скучать, широко и громко зевая, и уходил к себе.
Папа устал, грустно говорила бабка и отводила глаза.
Чтобы моя мать не «вертелась перед глазами», бабка уговорила деда устроить ее на работу. Дед и устроил, бабку он слушался непрекословно. Сделал пару звонков, и мать взяли секретарем к ректору одного вуза. Уходила она на работу рано, когда я еще спал. В комнату мою она не заходила.
А спустя много лет узнал и то, что она была любовницей этого ректора – долгие годы, целую жизнь.
Наверное, любила. А может быть, спасалась от своего несчастного брака. Наверняка надеялась. Но семью он не оставил – как это часто бывает.
Бабка умерла рано, в шестьдесят восемь – сгорела за три месяца, рак.
Дед после ее смерти резко сдал и тоже не задержался – ушел через два года. Мне только исполнилось тринадцать лет. Помню, как на его похоронах я плакал. Горько плакал и отец, понимая, что теперь он остался один, никто не заступится за него, никто не подкинет деньжат и никто больше не пожалеет – кончилась сладкая жизнь. У гроба деда, с каменным и напряженным лицом, стояла моя мать. И мне показалось, в глазах ее мелькало торжество – вот так! Теперь я свободна, не уморили – как ни старались!
Наверное, ее можно было понять.
Мой легкомысленный папаша продолжал вести праздную жизнь – друзья, попойки, развлечения, женщины – все как обычно. Работал он по-прежнему в полноги – все тем же младшим сотрудником в дедовском институте. Держали его там из-за уважения к памяти деда.
Только вот после смерти деда жить стало не на что. А работать и уж тем более зарабатывать папаша мой не умел. Не умел и не любил, что уж поделать.
После смерти родителей и отсутствия вливаний и дотаций папаша мой сильно запил и очень быстро стал опускаться.
Мать, пропадавшая на работе, моталась в командировки со своим шефом и по совместительству любовником, впервые почувствовав себя хозяйкой жизни. А еще хозяйкой квартиры и положения.
К тому времени отец уже не работал, получив инвалидность по тяжелой астме и предписание жить на свежем воздухе. Чем быстро воспользовалась моя мать – жалкого, неработающего и пьющего мужа она безжалостно изгнала на постоянное проживание на академическую дачу. Отец, уже стоящий на краю, возражать не пытался: так – значит, так. В конце концов, хуже не будет.
И мать моя окончательно выдохнула – наконец-то! Дождалась! Вот теперь и наступит рай. Думаю, она с большим удовольствием избавилась бы еще и от меня – я начал хамить, наглеть и возражать ей на каждое слово – подросток. Но сплавить меня было сложно – я ходил в английскую школу и перешел в девятый класс.
Конечно, я был ей помехой – как-никак, а обо мне надо было заботиться – покупать продукты, что-то готовить, гладить рубашки, стирать носки и контролировать уроки.
После того как на дачу съехал отец, Валечка быстро собрала вещи и укатила на родину. Прислуживать моей матери она не желала.
Мы остались одни. Иногда приезжал отец – потрепанный, неухоженный, жалкий. Любил ли я его тогда? Не знаю. Но точно – жалел. С ним было уже не так весело и легко.
Мать я боялся, старался не болтаться у нее под ногами – видел, что здорово ее раздражаю.
Дома отец задерживался ненадолго – мать, шипя, всеми силами выпихивала его обратно – а ты как хотел? Слез с одной шеи, теперь на мою? Отец вяло сопротивлялся, но скоро и ему это надоедало, и он уезжал.
Летом я жил у него на даче. Мать туда не приезжала – в Москву за деньгами, отцовской пенсией по инвалидности, приезжал я. Встречались мы на вокзале, коротко, минут на пять, где мать, не задавая подробных вопросов, совала мне деньги и смотрела на часы – ну, мне пора! У тебя все нормально?
Я молча кивал, понимая, что моя жизнь и мое существование ей абсолютно неинтересны.
В самом конце августа я возвращался, отчего моя мать, разумеется, в восторг не приходила.
С двенадцати лет я умел варить суп, жарить мясо и стирать свои вещи. С двенадцати лет я был совершенно самостоятельным, молчаливым, нелюдимым и очень несчастным подростком.
Я понимал, что никому на этом свете не нужен – ни матери, ни отцу.
У нас не было семьи и не было дома.
Но надо был жить дальше. И я жил… А куда было деваться?
Отец спивался. Где он брал деньги? ведь инвалидная пенсия была мизерной. Да продавал потихоньку наследство – алкаш на бутылку всегда найдет. Сначала пропил дедову дачную библиотеку. Потом пошла в ход домашняя утварь – от проигрывателя до кастрюль, от бабкиных вазочек до подушек и одеял. Последним «аккордом» был бабкин рояль. Уж кому он его задвинул и за сколько – не имею понятия. Но на недельную гулянку хватило.
А дальше он заставлял меня таскать вещи из московской квартиры. Я долго сопротивлялся – боялся матери, да и вообще это было стыдно и мерзко. Но папаша меня убеждал, что все это лично его, оставленное ему родителями, и это была чистая правда.
Я караулил мать – не дай бог, чтобы она меня засекла! Ждал, пока она выйдет из дома, и бросался в квартиру. Брал то, что не сразу заметишь. К тому же подобной ерунды в доме было полно – бабка обожала зарастать барахлом. Вазочки, фарфоровые фигурки. Столовое серебро. Те же книги. Воротники из норки и чернобурки. Как-то увел дедов орден за какие-то важные заслуги. Попался я на ювелирке – стырил бабкин браслет с аметистами. Тут меня мать и поймала.
Признаться, я смалодушничал и тут же заложил отца. Мать, разумеется, устроила страшный скандал и потребовала вернуть браслет. А как его вернешь, если он давно был удачно конвертирован в спиртное. Мы тогда страшно разругались, и мать окончательно выгнала меня из дома, назвав при этом выродком, ворюгой, ковалевским отродьем и подонком.
Был конец августа, через неделю начиналась школа.
И я посмел задать ей вопрос, где буду учиться.
– Забирай документы и переводись в сельскую! – выкрикнула она, добавив: – Как же вы, Ковалевы, мне надоели!
Документы мне выдавать не хотели – требовали, чтобы пришла мать.
Она явилась и документы, несмотря на уговоры директора, забрала.
На улице, где я ее ждал, она бросила их мне в лицо.
– На! И живи как хочешь! Уверена – скоро пойдешь по стопам своего отца!
Это было сказано мне, подростку. Несчастному и одинокому.
Помню, я брел по улице и ревел. Ревел, не обращая внимания на прохожих. Как же мне было обидно! Как же мне было страшно – я понимал, что никому не нужен, ни матери, ни отцу. Я не хотел жить ни в квартире с ней, ни на даче с ним, моим несчастным, спивающимся отцом.
А куда мне было деваться? Куда?
Я пошел в сельскую школу. Это было маленькое удовольствие. Школа находилась в поселке – пять километров в одну сторону. Хорошо, если погода, если тепло и не дождливо. А если дождь, снег, метель? Сильный ветер? Грязь по колено?
Была она старой, деревянной и отапливалась печью. В школе вкусно пахло дымком и вареной картошкой, которой кормила нас, голодных, учительница Клавдия Васильевна. Буфета в школе, конечно же, не было. В середине дня перекусывали тем, что приносили из дома – вареными яйцами, салом, хлебом, пирогами. А мне принести было нечего.
После третьего урока мы садились «обедать» – все выкладывали свои припасы горкой на общий стол. Картошка к тому времени была готова – Клавдия Васильевна ставила на стол огромную помятую алюминиевую кастрюлю и открывала крышку. Нас обдавало горячим и вкусным паром – пахло чесночком и сухим укропом. Мы принимались трапезничать – так говорила Клавдия Васильевна.
Пожалуй, только там, в школе, я наедался. Остатки она тихонько заворачивала мне с собой – ту же картошку, оставшееся сало, хлеб, вареные яйца и пироги. Я страшно смущался, но брал – мне надо было еще кормить отца.
Она, эта простая и чудесная женщина, жалела меня и все понимала. Однажды спросила:
– А мама давно у вас не была?
Мне, признаться, было стыдно – мать я не видел полгода. Пару раз она переслала нам денег. Наверное, все-таки чувство вины ее мучило. Но это все.
Клавдия – и учитель, и завуч, и сторож – жила при школе вдвоем с дочкой – хроменькой Дашей. Она часто сидела в учительской – комнатке метров в пять – и читала или вязала. Говорили, что руки у нее золотые. Даше исполнилось девятнацать лет. Была она тихой, незаметной, невзрачной – худенькая, невысокая, с тонкой косицей за спиной. Сероглазая и очень бледная. Над верхней губой у нее темнела крупная родинка, похожая на божью коровку.
Даша работала в школьной библиотеке – скромной до неприличия, бедной и потрепанной.
При школе был огород – картошка, капуста, морковь. Его развела Клавдия и копалась там после работы. Без этого бы пропали. Были они местные, но своего дома у них не было – погорельцы. Говорили, что избу поджег по пьяни муж Клавдии и отец Даши, сам там и сгорел. Понятно, что отстроиться заново ни сил, ни денег у вдовы с ребенком не было. И сельсовет их «разместил». Правда, были и такие, кому это сильно мешало – например, коллега Клавдии, математичка Вера Семеновна. И чего она злобилась? Была она из зажиточных, с большой семьей и непьющим мужем. Но при всем этом, в отличие от несчастной и добрейшей Клавдии, была зла на весь мир. Чего ей не хватало? Конечно, мы ее не любили. А вот Клаву – как мы ее называли за глаза – любили все. И Дашу, ее дочку, тоже любили, жалели и всегда старались помочь бедным женщинам.
Моя парта была у окна, и я видел, как Даша кормила цыплят и кроликов. В этот момент в ней появлялась какая-то милая грация, даже шарм – и я, подросток, ею любовался.
В суровую непогоду – метель или дождь – Клавдия, жалея меня, приглашала переночевать в школе. Ставила раскладушку в учительской – там было теплее.
Я был уверен, что папаша волноваться не станет – скорее всего, просто не заметит моего отсутствия. Мне было неловко смущать этих женщин, но я с удовольствием у них оставался. Во-первых, меня обязательно накормят горячим ужином – пусть самым простым, но вкусным. И во-вторых – я отосплюсь. По ночам отец частенько бузил – требовал водки, закуски или просто куражился. Да и вставать было тяжко – за два часа до начала занятий. И впереди была долгая и нудная дорога по бездорожью, в тяжелых резиновых сапогах. И это выпало мне, столичному мальчику, избалованному и изнеженному.
Я помогал чистить кроличьи клетки, носил из колодца воду и ждал ужина. Смущался я, и смущалась Даша, ставя на стол картошку, соленые огурцы, грибы или кислую капусту – все то, что давал им огород или лес. После ужина мы пили чай с земляничным вареньем – землянику собирала Даша. Впрочем, и грибы собирала она – Клавдия так и говорила про дочь: «Дашунька у нас кормилица!»
Между матерью и дочерью царили лад и абсолютное взаимопонимание. И еще – чувствовались большая, необъятная нежность и любовь.
Как я завидовал Даше!
В маленькой комнатке потрескивали в печке дрова, на оконном стекле застывали резные морозные узоры, на печке, мурлыча, сладко потягивалась кошка Мурка. А мы пили чай и говорили, говорили.
В основном обсуждали книги – Даша была книголюбкой. Я читал мало – не до того мне было тогда. Но именно Даша приучила меня к чтению. Именно она мне открыла таинственные и неизвестные миры. Ей нравились английские романы – Диккенс, Лондон, Киплинг, Теккерей, сестры Бронте, Оскар Уайльд. Иногда – мрачноватые, мистические, страшные.
Теперь я понимаю, что эта тихая деревенская девочка, понимающая, что в ее жизни ничего особенного не произойдет, так уходила в придуманную жизнь и там была счастлива.
Клавдия засыпала, а мы с Дашей продолжали по очереди шепотом читать вслух.
Однажды, кинув осторожный и короткий взгляд на спящую мать и убедившись, что спит она крепко, Даша так же шепотом сказала, что больше всего на свете мечтала бы уехать отсюда – из деревни, из школы, из их комнатенки с видом на покосившийся черный сарай. Их измучил вечный страх, что их выгонят отсюда. И что тогда? Куда им податься?
– Ты меня осуждаешь? – спросила она испуганно.
– Нет, что ты. Я все понимаю!
И она понимала, эта умница Даша, что никогда ей не вырваться отсюда. Что никогда она не оставит мать. Что никто и никогда не возьмет ее, инвалидку, замуж. Что они никогда не смогут накопить денег и отстроить новый дом. Никогда.
– Так и пройдет моя жизнь, – тихо вздохнула она. – Так и пройдет. Ни ребенка, ни мужа. Нет, ты не думай – я маму больше жизни люблю! Но когда я начинаю об этом думать, так тошно – хоть в петлю.
А математичка травила их с прежней силой. Я ломал голову – как им помочь? Поселить их к себе, к отцу? Невозможно. Нет, никогда, им там будет ужасно. Папаша мой неуемный и местная алкашня – и тут две эти женщины. Поговорить с Верой? Смешно. Та никого за людей не считала, а уж сопляка ученика… И еще никого не боялась – поговаривали, что у нее есть «лапа», какой-то родственник в администрации поселкового совета, брат мужа или племянник – точно не помню. От этого она такая смелая.
Мы поздно укладывались, и я слышал, как мерно и тихо дышит Даша, иногда еле слышно всхлипывая во сне. И как посапывает Клавдия, тревожно охая и шумно переворачиваясь на другой бок. И я думал в те минуты, что никого нет у меня роднее, чем эти две женщины. Вот как смешно получалось.
В девятом классе – точнее, на летних каникулах – я почти все время жил при школе. Отец тогда привел сожительницу – местную алкашку Лидь Ванну, как называл ее он. Была эта Лидь Ванна огромной, высоченной бабищей с синим лицом и мужскими руками-клешнями. Напившись, Лидь Ванна шла в огород, который сама и соорудила, резво и умело вскопав пару соток нашей заросшей поляны. Там быстро и буйно зацвели цветы и сразу пошел огород – уже в начале июля зацвела фиолетовыми цветами картошка, желтыми – огурцы и тыква, а белыми – клубника.
Я видел, как эта могучая баба, опрокинув в себя поллитровку и обтерев беззубый рот огромной красной ладонью, хватала лопату и махала ею, как прутиком, легко и непринужденно.
Устав, она садилась на лавку и вытаскивала чекушку – «поднабрать силенок». А вот уже после этого Лидь Ванна ложилась отдыхать под сосной или березкой, шумно устраиваясь, и тут же начинала храпеть, как взвод солдатни.
А вечером начиналась гульба. Робко просачивался в калитку тощенький мужичок с фиолетовым сморщенным, клоунским личиком – первый гость. Увидев меня, он страшно смущался и извинялся. Потом я узнал, что это был бывший муж Лидь Ванны. Как его звали, не помню. «Но родня!» – говорила, тяжко вздыхая, она.
Папаша мой не возражал. Потом подтягивались и другие – одинаковые с лица, мало различимые, вконец спившиеся «синяки». Друзья и дорогие гости моего папаши.
Я смотрел на все это и думал: «Это мой отец. Столичный мальчик. Институт, профессорская семья. Квартира в центре. Академическая дача. Самые лучшие столичные девочки. Наконец, моя красавица мать. Блестящая, сытая и красивая жизнь. И – итог. Местная алкашня, почти пропитая дача, пустые стены, отсутствие одеял и подушек, кастрюль и посуды. И апофеоз – Лидь Ванна, мичуринец и предводитель местной пьяни».
Ко мне Лидь Ванна была вполне снисходительна. Каждый раз при встрече она делала слегка удивленный вид, словно вспоминала, кто это, кто?
– А! Ты, пацан! Ну проходи, коли пришел.
В восторг от моего прихода она явно не приходила.
– Жрать будешь? – уточняла она.
Я гордо отказывался.
Понятное дело, домой приходил я в то лето не часто – скорее всего, посмотреть и удостовериться, жив ли мой беспутный отец и цела ли, не сгорела дедова дача.
Итак, в то лето я почти постоянно жил у Клавдии в школе. С Дашей мы проводили вместе весь день – ходили за ландышами, земляникой, черникой. Потом поспевала малина, за ней, в конце июля, начинались грибы. Моя тихая подружка отлично знала лес и грибные места. Ходили мы и на озеро – холодное и чистое, заросшее ряской и желтыми кувшинками у берега, которые я рвал для своей восторженной подруги. Даша тихо ойкала, зажимала рот ладонью и просила меня далеко не заплывать.
Плавать она не умела – боялась. Говорила, что в холодной воде сводит больную ногу.
Тогда я, молодой и смелый дурак, взялся учить ее плавать.
Она стеснялась, долго отказывалась, и все-таки после долгих уговоров ложилась животом на мои руки и смешно болтала ногами, громко вскрикивая от страха и возбуждения.
Что говорить про меня? Я сжимался в струну, каменел мышцами и задыхался от близости женского тела, от ее запаха, гладкой, шелковистой кожи, маленькой и упругой груди, которой я касался невзначай, как бы случайно. И мне казалось, что я в нее влюблен, серьезно, на всю жизнь. Некрасивая, хроменькая девушка казалась мне эталоном красоты и вершиной женственности. Я так хотел ее, что не мог спать по ночам.
Первая любовь. Даше было двадцать, мне – шестнадцать. Такое бывает.
Клавдия что-то чувствовала своим чутким сердцем и теперь относилась ко мне настороженно – хмурила брови и поджимала губы. И на дочь свою смотрела внимательно, с прищуром, словно хотела что-то в ней разглядеть.
Чем закончились наши купания и прогулки, можно не пояснять. Конечно, мы стали близки. Случилось это на сеновале, куда мы забрались отдохнуть после купания и прогулки. Романтичнее и не бывает – жара, грибной дождик, теплый и короткий, как вздох. Высокий, ароматный, влажный стог свежего сена. И мы, два неловких, смущенных ребенка.
Запомнилась острая боль – моя или Дашина? Я так и не понял. Ее и мой вскрик – от боли или испуга? Острая иголка сена, впившаяся мне в спину. Навязчивый и зудящий писк комара, мерное жужжание мохнатого шмеля, запах скошенной травы и грибов из нашего лукошка, прихваченных по дороге к озеру. И лицо Даши – нежная скула, пораненная мной или травинкой, ее тонкая рука, в бессилье отброшенная назад. Нежное запястье со свежим, вспухшим укусом и страшный испуг:
– Что мы сделали, Максим?
Она отвернулась от меня и беззвучно и горько плакала.
Я теребил ее за плечо, целовал в шею и мучил вопросами:
– Что случилось, что? Почему ты такая?
А она, не поворачивая головы, тихонько поскуливала:
– Зачем мы, зачем? Господи, что теперь будет? – Потом она вдруг замолчала, резко привстала на локте и с ужасом посмотрела на меня: – А мама? Что скажет мама?
В эту минуту я поверил, что все это – далеко не кокетство. Ей действительно страшно.
А я… Меня тогда только распирала дурацкая гордость – я стал мужчиной! Болван.
Я отмахнулся от нее:
– При чем тут мама? При чем тут все? Мы же любим друг друга! И это главное! А мама тут ни при чем, ты поняла?
Я не утешал ее тогда – скорее, разозлился: чего она причитает, как старая бабка? Чего скулит, словно щенок? Мы взрослые люди, и мы любим друг друга. И мы найдем выход, конечно, найдем, как не найти? Хотя какой выход? И зачем его нужно искать? Ведь все замечательно, а?
Я все больше и больше злился на Дашу – как так? Она не рада? Не рада тому, что произошло между нами? Ведь это все и есть подтверждение нашей любви!
Каким же я был дураком!
Она-то все понимала – и чем все это может окончиться, и что скажет ее мать. И что я, мальчишка, балбес, уеду отсюда через год в Москву поступать в институт. И что она не нужна мне. И что мы никогда – никогда! – и ни при каких условиях не будем вместе.
О том, что я разрушил ее тихую прежнюю жизнь, я не думал. Конечно, не думал! Мне было хорошо, и я страшно гордился собой. И еще мне казалось, что я люблю ее.
В тот же день Клавдия все поняла. Мудрая женщина, она мгновенно все прочитала по нашим лицам. Клавдия молча покормила нас обедом, не задавая ни одного вопроса, и, прибравшись, усадила нас рядом, напротив себя:
– Ну рассказывайте! Чего натворили? И не вздумайте врать – себе навредите!
Мы испуганно переглянулись, и я, ощущая себя мужчиной, со вздохом сказал:
– Да, Клавдия Васильевна! Все было. Мы стали близки.
Откуда в моей дурной голове возникла эта литературная фраза? Не знаю. Помню, как вздрогнула Даша и как еще сильнее нахмурилась Клавдия.
– Понятно, – вздохнула Клавдия. – Хотя чему я удивляюсь? Этого следовало ожидать. Это я вас просмотрела! Гнать тебя было надо, Максим! Гнать, и подальше! – Она подняла на меня глаза и жестко, в упор, посмотрела: – Ну и что дальше, а? Что молчите, Максим Александрович? Какие у вас мысли?
То, что она обратилась ко мне на «вы», а не как обычно, «Максимка», меня испугало. Но я взял себя в руки и дурацким, беспечным голосом попытался отшутиться.
– А что такого? – балагурил я. – Закончу школу, и мы с Дашей поженимся!
Клавдия вздохнула и махнула рукой.
– Иди, Максим, спать. В сарай, слышишь? – жестко добавила она, не желая меня больше ни видеть, ни слышать.
Я обиделся и вышел из комнатки.
Я иногда ночевал на сеновале в сарае и раньше, если было особенно жарко.
Там было душно и беспощадно жрали комары и мухи. Я ворочался до утра, надеясь, что Даша придет ко мне – чего уж теперь таиться, если открылось?
Но Даша не пришла. Утром, когда я вышел во двор, она кормила цыплят и глаз на меня не подняла. Я подошел к ней – она дернулась и покраснела.
– Мне уйти? – обиженным голосом спросил я.
Она, не поднимая глаз, пожала плечами:
– Дело твое. Тебя тут не держат!
И я ушел. Гордый, оскорбленный, обиженный на весь свет. В тот день я уехал в Москву.
В электричке решил, всё, хорош! С дачей, сельской школой, папашей, Лидь Ванной и Клавдией с Дашей я завязываю. Я был обижен. Меня в очередной раз не поняли!
И в конце концов, развод матери и отца – их личное дело. Я прописан в дедовой квартире и имею на нее право. А будет мать возражать – пойду в милицию и напишу заявление. Устроилась там, как королева, а мне тут… пропадать.
Кстати, все так получилось в моей жизни из-за нее, из-за матери! Вся эта нелепость с Дашей, дурацкая жизнь с отцом.
Мать встретила меня с испугом:
– Что-то случилось?
Наверное, видок у меня был еще тот.
Я ничего не ответил, прошел мимо нее, грубо задев ее плечом, в свою комнату – мою комнату, слышите! Только мою!
Скинул на пол грязные кеды, рубашку и брюки. Мать стояла в дверном проеме, сложив руки кренделем, и с презрением смотрела на меня. Я завалился на кровать и прикрикнул:
– Закрой дверь! Слышишь?
Мать вспыхнула, но в дальнейшие дебаты не вступила – видимо, мальчик вырос. Мальчик – большой. Мальчик – мужчина. И кажется, надо смолчать. Чутье у нее всегда было отличным – волчье чутье, как она сама говорила.
Утром мы встретились молча. Мать пила кофе и листала журнал. Мне она завтрак не предложила. Я распорядился сам – достал из холодильника сыр и масло, налил себе чаю и, нагло и победно глянув на мать, уселся есть. Мать не спеша допила кофе, глянула на часы, и в эту минуту раскрылась входная дверь. Вошла новая домработница Люся. Люся приходила два раза в неделю – постирать, погладить, убрать квартиру. Мать давно стала барыней и от домашней работы отвыкла. Мне это было смешно – деревенская девчонка, отнюдь не белоручка!
Люся стояла на пороге кухни и растерянно переводила взгляд с меня на мать.
– Уберешь его, – кивок на меня, – комнату, постираешь его тряпки, сменишь белье. Он теперь будет жить здесь, поняла?
Люся молча кивнула.
– Да! И приготовь что-нибудь легкое! Ну, суп там или котлеты. – Мать растерянно припоминала, что обычно подают на семейный обед.
– Из чего? – громко сглотнув, пролепетала испуганно Люся.
– Что – из чего? – Мать свела брови, не поняв вопроса.
– Из чего приготовить-то, а? Нет ведь продуктов.
– А! Ну если ничего не найдешь, сходи в магазин. Деньги оставлю на полке.
Мать резко вышла, а растерянная, перепуганная домработница продолжала хлопать глазами и смотреть на меня.
А я тут же успокоился и даже повеселел, увидев, что мать смирилась с моим приходом и выгонять меня, кажется, не собирается. Я был почти счастлив – я снова в московской квартире, без папаши и Лидь Ванны, без алкашни в полупустом, грязном доме. У меня есть своя комната. Люся постирает мои вещи и накормит меня. Я встречусь со старыми друзьями. Пойду в старую школу. Или в новую – какая разница!
Я в Москве, я у себя дома! И закончился весь этот кошмар. Я свободен от отца, и власть матери надо мной не сильна. Я могу ей противостоять. Я – мужчина, взрослый мужчина.
Про Дашу я ни разу не вспомнил. Я был слишком увлечен собой и перспективой своей новой, наверняка замечательной, жизни. Какая там Даша, о чем вы? Какая любовь?
С матерью мы заключили временное перемирие. Разговаривать нам с ней по-прежнему было сложно. К лучшему она не менялась, да и у меня настал сложный возраст – шестнадцать лет, это, знаете ли, не шутки.
К тому же я был подростком с травмированной психикой. Моя умная мать понимала – лучше смолчать, что-то пропустить, чем пережить новый скандал. Хотя к скандалу я был готов постоянно.
Жили мы, как плохие соседи – ели порознь, разговоров не вели, а случайно столкнувшись, например, в коридоре или у ванной, молча кивали друг другу и тут же отводили глаза.
Иногда, впрочем, она не выдерживала и начинала скандалить по поводу невымытой тарелки или грязной обуви, брошенной в коридоре. В зависимости от настроения я реагировал по-разному. Будучи в благодушии, нехотя, в порядке одолжения, делал, что она требовала, а в плохом – игнорировал, да еще и грубил. Я видел, как она еле сдерживалась, чтобы не ответить резкостью.
Однажды мать спросила, не хочу ли я съездить на дачу проведать отца.
Я ответил, что нет.
Она удивилась, но промолчала.
Я знал, что она продолжала высылать ему его инвалидную пенсию. Но однажды перевод вернулся. Мать вертела извещением и, кажется, впервые на моей памяти не знала, как быть.
– Может, съездить, проверить, как там и что? – растерянно спросила она меня.
Я молча пил чай.
– Максим! – Мать повысила голос. – Ты меня слышишь?
– Слышу. И что дальше? Хочешь – езжай, если волнуешься. – И я подленько хмыкнул.
Мать рассвирепела.
– Я? – взвилась она. – А может быть, ты? Ты, кажется, его сын!
– А ты жена! – парировал я. – Пусть даже и бывшая.
Мать опустилась на стул.
– Я? Нет, это невозможно. Как ты этого не понимаешь?
– Это ты не понимаешь, – заорал я. – А если там труп? Да мне просто страшно!
Она, как ни странно, кивнула, соглашаясь, и это было странным, почти неправдоподобным.
На дачу мы приехали поздно, кажется, часам к одиннадцати вечера.
По дороге со станции молчали – что удивительного?
Я думал только об одном: «Пусть он окажется жив, мой дурацкий, нелепый папаша. Пусть только он будет жив!» Было страшно думать, что предстояло увидеть нам с матерью.
Мы остановились у калитки и шумно выдохнули – на террасе горел свет, слава богу! Поднявшись на крыльцо, мы прильнули к окну – за столом сидела Лидь Ванна и пара каких-то «приятелей», папаши среди них не было. Мать нахмурилась и толкнула ногой дверь.
Компашка обернулась на нас. Ни испуга, ни удивления в их глазах не было – пустота. На людей эти нелюди были уже непохожи.
– Где хозяин? – хрипло, фальцетом выкрикнула мать. – Отвечайте, чертово племя!
Лидь Ванна мотнула головой, словно боднулась.
– А ты кто такая? – Потом перевела мутный взгляд на меня: – А! Явился – не запылился! Хорош сыночек! Бросил папашку, и тю-тю! И ладно бы только папашку! И девку калечную бросил с ребеночком! – Она обвела взглядом своих дружков, и все дружно заржали.
– Я повторяю, – отчеканила мать. – Где хозяин дома, уроды?
– Да в больничке он, не кипиши! – ответил один из бухариков. – В местной, поселковой. Удар у него. Не говорит, не ходит, только ссытся под себя и мычит! Красавец!
Лидь Ванна мрачно подтвердила слова приятеля:
– Врачи говорят, не жилец. А там уж как бог даст!
– Пятнадцать минут! – коротко бросила мать. – Пятнадцать минут всем на сборы! Время пошло! А потом я вызываю милицию.
Как ни странно, но папашины дружки послушно поднялись и засуетились – собирали со стола остатки закуски и ополовиненные бутылки. Лидка бросилась в комнату за своими вещами. Мать села на стул и закрыла лицо руками.
Через несколько минут она вздрогнула, подняла глаза и хлопнула по столу:
– Время вышло! Выметайтесь!
Компания тут же исчезла, без лишних слов.
В который раз я удивился – мать моя все же имела большую силу духа и влияние на людей. Хотя какие это люди, господи… Но я знал, как трудно бывало эту компашку усовестить или призвать к порядку.
После их ухода мать прошлась по дому, ничего не комментируя. На ее лице все и так было написано крупными буквами.
Потом она обратилась ко мне:
– Максим! Нам придется здесь переночевать, другого выхода нет. Завтра поедем в больницу. Ну а уж там будет видно.
Я пребывал в шоке – дом и прежде, до моего отъезда, являл собой зрелище малоприятное. А уж теперь, за такое недолгое время, он и вовсе превратился в притон. На полу валялись старые одеяла с клочьями желтой ваты, рваные калоши, сапоги с комьями засохшей глины, драные бабкины и дедовы пальто, обрывки газет и журналов, консервные банки, полные старых окурков. В облупленном тазу плавали в плесени, в слизи издающие невыносимый запах картофельные очистки.
Мать распахнула окна и обернулась на меня. Взгляд ее был беспомощным и растерянным.
– Ума не приложу, как нам здесь провести целую ночь?
Я поднялся на чердак. Он был теплым, сухим – дед специально его утеплил, и бабка там хранила по осени и до зимы яблоки и груши в деревянных ящиках. Для этого же как-то и завезли опилки и сено. Понятно, что ни одной чистой тряпки в доме не нашлось – я постелил на пол старые газеты, хранящаяся на чердаке, до них компашка еще не добралась. В сундуке нашлось еще кое-что – брезентовая дедова плащ-палатка, она лежала под кипами газет, иначе и ее давно бы прибрали к рукам.
Я соорудил подобие подушек из сена, и мы кое-как улеглись, укрывшись плащ-палаткой.
Это была странная ночь – в окно, вырезанное на крыше, ярко светили светлые звезды, словно несколько мощных фонарей. На чердаке было светло. Мы с матерью укрылись одним плащом – впервые за много лет мы оказались с ней физически так близко. Я слышал ее дыхание – кажется, ей тоже не удавалось уснуть. Я боялся пошевелиться, и она, похоже, тоже. Но мы оба делали вид, что крепко спим. Видимо, подобная близость, пусть даже вынужденная, тяготила и ее, и меня.
Я думал о словах Лидь Ванны: «И ладно бы только папашку! И девку калечную бросил с ребеночком!» О ком это она? Конечно, о Даше! Но при чем тут ребеночек?
Впрочем, под утро я все-таки уснул, утешая себя, что я что-то не понял, и гоня неприятные мысли.
Утром мы встали хмурые, с затекшими спинами, подмерзшие и злые – что нас ждало впереди, что предстояло увидеть?
Мы кое-как умылись и, не выпив даже чаю – а где он, этот чай? И из чего его пить? – побрели по дороге на автобусную остановку. Было довольно зябко и очень хотелось есть и пить – непременно что-то горячее.
На автобусной остановке в продуктовом ларьке мы купили буханку серого хлеба и две бутылки кефира.
Подкрепившись и немного придя в себя, дождались автобуса, который повез нас к больнице. На душе было паршиво. Я косился на мать, совсем не понимая, как поступит она, увидев больного, разбитого параличом отца. Я предполагал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Мы зашли в здание больницы и обратились к какой-то женщине в белом халате.
– Ковалев, говорите? – переспросила она и как-то странно посмотрела на нас. – А вы ему кем будете?
Мать дернулась, ее лицо расцвело бурыми пятнами.
– Это сын, – кивнула она на меня. – Я – его бывшая жена. – И с вызовом добавила: – А в чем, собственно говоря, дело?
– Да умер он неделю назад. Болтался в морге – никто ведь его не хватился, потом похоронили в общей могиле, как неопознанного, одинокого. Кто ж знал, что у него есть семья? – Она оглядела нас презрительно, с осуждением.
– Нет у него семьи! – бросила с вызовом мать. – Была да вся вышла! – И, круто развернувшись, она пошла к выходу. Я обреченно поплелся следом.
На улице мать закурила.
– А что дальше? – осторожно спросил я. – Надо найти его могилу?
– Зачем? – снова дернулась мать. – Хочешь цветочки туда положить? Ну валяй! Только здесь я тебе не помощник. И не страдай ты так! Как человек захотел, так и прожил! Его выбор. Жил как собака и помер так же. Впрочем, собаки умирают куда достойнее: из дома уползают – жалеют хозяев.
– Он тоже уполз, – глухо ответил я. – Может быть, нас пожалел?
– Я в Москву, – не отвечая на мой вопрос, решительно заявила мать. – А ты решай сам. – И она быстрым шагом пошла к остановке.
Я вернулся в больницу, чтобы разузнать про могилу и местное кладбище. Я чувствовал, что мне нужно пойти туда. Обязательно нужно. Правда, понимал и другое – что иду туда в первый и последний раз.
По дороге, ведущей вдоль поля, я нарвал большой букет полевых цветов – среди них были и ромашки с «укропной» травой, и васильки, и иван-чай, и что-то еще, мне незнакомое.
Общая могила находилась на самых задворках деревенского кладбища. Возле нее громоздилась помойка из старых, ржавых венков, каких-то банок, ведер и прочего хлама. Над могилой высился рыжий глиняный холм, набросанный небрежно, кое-как. На самом верху холма стоял криво, наспех врытый ободранный, когда-то покрашенный серебрянкой крест – видимо, его заново втыкали после каждого нового захоронения.
Я сел на бревне напротив и заплакал.
Потом положил свой дурацкий и лохматый, уже чуть подвядший букет у подножия насыпи. «Прощай, пап! – сказал я про себя. – И прости».
Так я попрощался с отцом.
Выйдя с кладбища, я призадумался – вернуться на дачу? Да нет, неохота. Да и что там делать, в этой грязи? И я решил поехать домой, в Москву.
Про Дашу и Клавдию, до которых было минут сорок ходу, я так и не вспомнил.
Я шел по лесной дороге, чувствуя облегчение. Почему? Я и сейчас не смог бы ответить на этот вопрос.
Может быть, мне стало легче от того, что наконец успокоилась душа моего несчастного отца. Или я был доволен тем, что мне не надо больше о нем думать. Не знаю. Но точно помню, что шел я легко, присвистывая и припрыгивая.
Дома, в Москве, мать задала мне короткий вопрос:
– Был? Ну и как там?
– Шутишь? «Как там»? Да там все отлично! Знаешь, песня такая: «А на кладбище все спокойненько! Ни друзей, ни врагов не видать! Все культурненько, все пристойненько – исключительная благодать!»
– Шут! – зло бросила мать и добавила: – Что ж, есть в кого!
В новой школе все сложилось. Никто ничего про меня не знал. Я врал, что учился в лесной школе по причине хронического бронхита. Да никто особенно и не вникал – всем было по барабану.
Я был влюблен сразу в трех девочек. Вернее, так – мне нравились сразу три девочки: Лика Смирнова, Света Морозова и Шушана Саркисян. Три главные красотки школы.
Лика была ярко-рыжей, Светка – блондинкой, а Шуша – жгучей брюнеткой. Все три кокетничали со мной, и я от них не отставал – никого вниманием не обделял, меня хватало на всех.
Девчонки ссорились между собой, сплетничали и злились на меня и друг на друга. Наконец самая решительная, рыжая Лика, зажала меня в углу и предложила «определиться». Я растерялся и пытался прикинуться дурачком. Лика уперлась коленкой в мой пах и, приблизив ко мне свое прекрасное белокожее лицо, прошипела:
– Завтра. Суббота. Ты у меня в двадцать ноль-ноль. Я буду одна. Родители в отпуске. Ты меня слышишь?
Я, громко сглотнув, молча кивнул.
Лика удовлетворенно хмыкнула и как ни в чем не бывало пошла прочь. А я, обалдевший, растерянный и одуревший, не отрываясь смотрел ей вслед.
Отчетливо понимая, что в очередной раз женщина решила за меня, определила мою участь.
Расстроило ли меня это? Слегка. Но еще и успокоило.
Я понял, что так будет всегда. Сначала бабка, потом мать, дальше Клавдия и Даша. И вот теперь – рыжая Лика Смирнова.
Что ж, я был не против. Совсем не против, надо сказать.
Марина
Как я его ни умоляла не делать этого, он приехал. Я чувствовала – мы оба чувствовали, – что если продолжить, если не оборвать все это одним махом, то мы пропадем. Оба пропадем. Нас колотило друг от друга так, словно мы были подключены к высоковольтной линии электропередач.
Я открыла дверь и увидела его. Он смотрел не на меня – в пол. Боялся. Стоял на пороге моей квартиры, опустив голову, и разглядывал старенький потертый коврик, лежащий у двери.
Молчание длилось пару минут. Я раздумывала? Да нет, глупость какая. Я не раздумывала, не прикидывала, не рассуждала про себя – ничего этого не было. И вообще ничего не было – ни одной мысли в моей пустой голове. Только глухо и гулко бухалось сердце – я слышала его удары. Наконец я отступила на шаг в квартиру и хрипло сказала:
– Заходи.
Так я открыла дверь в свой рай и в свой ад. Добровольно. У меня еще был один крохотный шанс не пропасть. Но я им не воспользовалась. Это было выше моих сил. И некого мне в этом винить – некого, кроме себя.
Мы еле успели захлопнуть дверь, набросились друг на друга, как голодные звери, желающие одного – напиться, наесться друг другом. Надышаться запахом друг друга, уловить стук сердца другого, поймать дыхание, услышать слова, которые мы хриплым шепотом друг другу выкрикивали.
Наконец, успокоившись, я села на край дивана, откинула взмокшие волосы, вытерла лоб и обреченно сказала:
– Вот видишь, что получается. Я же тебе говорила, я же предупреждала тебя! Я же…
Он оборвал меня:
– Всё. Хватит! Пожалуйста, замолчи! Неужели ты так и не поняла, что все это… – Он замолчал, сделав жест пальцами, словно подыскивая слова. – Все это неизбежно! Не-из-беж-но, слышишь? – по складам повторил он. – Беги от меня, не беги. И от себя тоже. Вот я не смог убежать от тебя. И от себя не смог. И потом, зачем нам от этого бежать? Кому будет радостнее?
Я долго молчала, а потом ответила:
– Знаешь, и нам с тобой тоже! Нам будет от этого хуже, чем всем остальным. Я это чувствую. Ты же прекрасно знаешь, у этой истории есть начало и уже виден конец. Только он пока не обозначен ни годом, ни месяцем, ни числом. И когда история двух людей уже предначертана, то она не просто грустна, но трагична.
– Глупости, – оборвал он меня. – Любая история имеет конец! Все может обвалиться, рухнуть в один момент, в один миг. И думать об этом глупо и смешно, тебе так не кажется?
Я помотала головой.
– Нет, не кажется. Потому, что я женщина. И, как любая женщина, хочу семью, хочу строить планы на дальнейшую жизнь, которая состоит из тысячи вещей, например, совместный отпуск, рождение детей, ожидание внуков. Общих внуков, заметь! Семья – это и общие друзья, и родители. Это гости по выходным и тихие вечера перед телевизором. Это «спокойной ночи» перед сном и ранний завтрак перед работой. Это яичница и кофе, и выглаженная рубашка. Я хочу вместе со своим мужчиной покупать шкаф или холодильник. Выбирать обои, туфли или пальто. Готовить ему ужин. Печь ему пироги. Целовать его перед сном. Просыпаться с ним утром. Устраивать ему скандал! Даже так, ничего смешного! Да-да, скандал! По пустякам – зубная паста на зеркале или грязные носки под кроватью, как мне надоело все это, господи! Я буду бурчать и ворчать, а тебе сначала будет смешно, но потом ты начнешь злиться. А что тут такого? Нужно же иногда взбудоражить кровь и подуться друг на друга. Пусть с полчаса. А потом – сладко мириться и просить друг у друга прощения.
Я хочу ждать тебя по вечерам, прислушиваясь к шагам на лестнице. Ревновать тебя. Укорять. Я много чего хочу, понимаешь? И все это с моим мужчиной! Только моим, понимаешь? Я не хочу делить его ни с кем и думать, что я воровка. По своей сути я жена, а не любовница. Я слишком труслива для любовницы. И все это меня угнетает. Я хочу быть единственной для своего мужчины, не лгать и не красть. Мне это мерзко. Скажи, может быть, я хочу невозможного?
Я не давлю на тебя и не призываю тебя к решительным действиям, не дай бог! Я просто объясняю.
Он стоял у окна и молча курил, не глядя на меня.
В какой-то момент мне показалось, что вот сейчас, через минуту, он покрутит пальцем у виска, посмотрит на меня с сожалением и разочарованием и быстро выйдет в прихожую, чтобы уйти навсегда.
И это был бы прекрасный выход из создавшейся ситуации. Мне бы было очень больно, но я бы это пережила.
Я бы пережила и его разочарование во мне, его жалость и раздражение. Я бы пережила стук входной двери и его быстрые шаги по лестнице, когда бы он уходил от меня.
Я бы пережила. Я много чего могу пережить, если уж однажды я пережила смерть Сережи. Но, кажется, его уход откладывался – он не ушел, нет. Он затушил сигарету, подошел ко мне, крепко обнял и не выпускал меня долго – гладил по голове, целовал в лоб, как сестру, осторожно и нежно дыша мне в шею.
– Не надо думать об этом, слышишь? – шептал он. – Мы постараемся быть счастливыми, несмотря на все обстоятельства. Я тебе обещаю. Ты будешь счастливой.
Боже, какая глупость! Какая глупость, что я поддалась. Я уступила, ни минуты не веря в то, что действительно буду счастливой.
Невозможно быть счастливой, обкрадывая кого-то. Невозможно быть счастливой, отбирая и мучаясь.
Для меня это так. Я отчетливо понимала, что ввязываюсь в тяжелую историю, но я не прогнала его. Не смогла. Я была так одинока!
Правды ради, за все эти годы, что мы были вместе, он ни разу не обнадежил меня. Не соврал, что все можно изменить. Ни разу, даже в самые счастливые и трепетные минуты, он не обещал мне, что уйдет из семьи. Он был честен со мной.
Вот только счастливой я так и не стала.
Он прилетал раз в месяц. Иногда чаще, иногда реже. Всегда на пару дней. Селился в общежитии для аспирантов за городом, в Быково, рядом с военным аэродромом. Это был двухэтажный деревянный барак, довольно уютный и теплый. В маленькой комнатке стояли две кровати с панцирными сетками, между ними тумбочка, на стене – вешалка для одежды.
На подоконниках выстроились в ряд горшки с геранью – их разводила тетя Зина, вахтерша и комендантша в одном лице, заполоняя цветами коридоры и комнаты аспирантов.
Тетя Зина все про всех понимала – приезжие аспиранты и молодые ученые тут же заводили романы. Тетя Зина была всеобщей матерью. Я видела, как девчонки и бородатые мужики толпятся возле ее стола, на котором всегда кипела в трехлитровой банке с кипятильником вода для чая, и делятся с ней наболевшим.
Женщина одинокая, она просто жила всем этим – своей личной жизни у нее давно не было. Она категорически не выносила «шалав и блядунов» – тех, кто приводит к себе или приходит к кому-то на пару часов или на ночь. Она уважала только любовь и страдания.
Со мной она была ласкова – жалела. Почему я вызывала у нее жалость? Ах да! Она видела паспорт моего возлюбленного и знала, что он женат. Плюс графа «дети». Но эта сторона вопроса ее не смущала. Наверное, Зина и сама пережила нечто подобное, побывала в роли любовницы, а не жены.
Я привозила ей мелкие подарочки – фартук с яркими аппликациями, симпатичную кастрюльку, рижские духи или просто хорошие конфеты – тетя Зина любила подарки.
Она нас привечала. Я бежала туда как сумасшедшая. Этот домик в Быково стал нашим островом, нашим пристанищем и, как мне казалось, нашим с ним общим домом. Я обустроила эту крошечную комнатку, словно она была моей. Нашей. Отмыла ее, повесила новые шторки, постелила на кровать покрывало, на тумбочку поставила вазочку с сухоцветом, на стену повесила эстампы. Мне очень хотелось, чтобы это был наш дом, пусть временный. Женщина всегда хочет уюта. И все же я понимала, что это не так – как ни старалась. У него был свой дом, а у меня – свой. А эта комнатка была местом свиданий. Просто местом свиданий любовников, все.
Если бы кто-нибудь сказал мне, что эстонцы – прохладные люди, я бы рассмеялась тому в лицо. Кажется, ни один итальянец или кавказец не смог бы сравниться с темпераментом и воображением моего Юри.
Была ли это любовь? Конечно же нет! Я много раз убеждала себя в том, что это любовь. Да, такая любовь! Она ведь бывает совсем разной, верно? Это совсем не так, как было у нас с Сережей, да. Впрочем, так, как с Сережей, и быть не могло – такое не повторяется.
Я убеждала себя, что люблю этого человека. И он, безусловно, любит меня. Было невозможно признаться себе в том, что здесь, во всей нашей с ним истории, в этой комнатке с душной геранью на подоконнике, на узкой и скрипучей кровати, любви не было. Это была страсть, влечение, но не любовь. Да, именно страсть. И нет ничего в этом плохого! В конце концов, это то, что не всем дано испытать. А мне удалось.
Но я хотела любить и чтобы любили меня. Я хотела быть честной. А он – он хотел меня.
Нас бросало, швыряло, било об углы и камни, как будто мы сплавлялись по горной и бурной реке.
Мы понимали, что это зависимость. Страшная зависимость друг от друга, почти наркомания. Мы задыхались, если не виделись больше месяца. Накануне его приезда у меня поднималась температура и бил сильный озноб. Я переставала есть. Мне было на все наплевать. На все и на всех. Это уничтожало, испепеляло меня, разрывало на части. И самое страшное – остановить это было не в моей власти. Я страдала, мучилась, но не хотела – вот что самое главное! – вырываться из этого круга. Мне было хорошо? Конечно же, нет – скорее всего, мне было плохо.
Я с собой не справлялась. Окончиться все это могло или трагически, или по чьей-то сильной воле. Мы были рабами друг друга, мы были рабами себя. Мы не сопротивлялись. Зачем? Зачем прилагать усилия к тому, что невозможно изменить?
Иногда была нежность. Мы скучали. Звонили, посылали телеграммы, ждали свиданий.
Но нам ни разу не пришло в голову поехать куда-то вдвоем, например, в Ленинград. Или ближе. Или дальше – какая разница? Так, дня на три. Или просто погулять по Москве, сходить в кино или в музей. Этого не было.
Я бежала в Быково, он стоял у двери. Я бросалась в его объятия, он торопливо проверял, хорошо ли закрыта дверь. И начинался наш морок, омут, черная, бездонная яма, провал.
Это тянулось почти три года – ужасный срок!
В какой-то момент я поняла, что очень устала. Я стала тяготиться этим. Я мечтала, чтобы все закончилось, и боялась, что все закончится и я снова останусь одна.
Это была тюрьма – моя тюрьма.
Почти три года ожиданий, мокрых простыней, моей бесконечной тоски, вечного разочарования – все-таки я чего-то ждала. Почти три года вечных страхов, что все раскроется и, значит, закончится.
Я устала от бесконечного ожидания, от того, что все будет точно так же, как и всегда – два или три коротких дня, и все закончится.
Два или три дня в чужой казенной комнатке, почти без разговоров, почти молча, с короткими, пустыми фразами ни о чем.
А дальше снова мое одиночество, тоска, печаль и вечное чувство вины – перед его семьей, детьми, женой и матерью. Перед моей дочерью, о которой я снова забыла в те годы. Я видела, что и его тяготит эта затянувшаяся история.
Мы раздражались друг на друга, предъявляли друг другу претензии, обвиняя, конечно, другого, а не себя.
– Отпусти меня! – взмолилась однажды. – Умоляю тебя, отпусти!
Он удивился:
– Я? Тебе кажется, это я тебя держу?
– Ты, конечно же, ты! Не приезжай! Не приезжай, и все! Все оборвется, закончится в один миг – просто не приезжай! Мы привыкнем к этому и станем жить прежней жизнью, как мне теперь кажется, вполне счастливой. Ну или, по крайней мере, очень спокойной. А спокойствие – уже счастье. Я перестану рваться к тебе, перестану сходить с ума возле телефона, ожидая твоих звонков. Я перестану думать о том, как ты проводишь праздники с семьей, как ужинаешь дома после работы, как читаешь перед сном, а она лежит рядом, и ты видишь ее затылок, плечо и слышишь ее запах.
Я перестану думать, как она варит тебе по утрам кофе. Как спрашивает, что приготовить на ужин. Как просит проверить уроки у старшей дочери или пойти в парк с младшей. Как ты собираешь модели кораблей с сыном. Ты ведь рассказывал, правда?
Как вы планируете отпуск и едете на хутор к ее отцу. Как в субботу вечером идете в гости к твоей матушке. Все чин чином, все вместе – семья. У твоих прелестных дочек одинаковые платьица и ленты в косичках. А твой сын в клетчатых брюках – я помню по фотографии. На твоей жене пальто, которое подарила ей твоя мать, хотя она ее не очень-то любит. Но эта нелюбимая невестка – мать ее внуков. Там у тебя настоящая жизнь. Там – семья. А здесь? Что здесь, у нас? А, призадумался? Вот и я тоже. Как называется то, что у нас с тобой? Роман? Нет, вряд ли. А если и да, то он какой-то калечный, ущербный. Роман без любви, роман-инвалид.
Мне так не нравится, слышишь? Мне нравится по-другому. Как было у нас с Сережей – я знаю, что бывает по-другому. Когда люди дорожат друг другом, когда они нежны, когда они разговаривают, а не только стонут с откинутой головой и закусанными губами. Я больше так не хочу.
Он внимательно смотрел на меня своими светлыми, очень светлыми глазами.
И спустя несколько минут удивленно сказал:
– А ты, оказывается, меня никогда не любила, Марина.
Сказал спокойно, но я видела, что он растерян.
– Разве любовь – только жаркое на тарелке и пожелание спокойной ночи перед сном? – продолжил он. – Как странно, что все эти годы мы с тобой думали и понимали все это по-разному. И ты так долго копила обиду. Бедная девочка! Ты так и не поняла, что любовь – не всегда брак. И брак – не всегда любовь. Бывает и так.
– Отговорки! – отрезала я. – Все это просто мужские подлые отговорки! Я знаю, я помню, как это бывает. А тебя мне просто искренне жаль. У тебя ничего не получилось. Трое детей и – пустота.
Он зло усмехнулся.
– Не жалей меня, Марина! Пожалуйста, не жалей. У меня все в порядке, не сомневайся. – И стал собирать вещи.
Да что там было собирать? Свитер, носки, бритва, зубная щетка.
Он резко щелкнул молнией дорожной сумки и наконец посмотрел на меня. Ему было сложно улыбнуться – я это видела. Но он постарался.
– Ну, будь здорова! Прости, что не понимал, как тебе тяжело. Как все это тебя унижает. Прости. Мы, мужики, из другого теста, правильно говорят. Прости и не держи зла!
Я молча кивнула. Мне стало страшно в эту минуту – я понимала, что это конец. Все, он уходит. Теперь действительно он уходит. И я остаюсь одна. Это все. Это моя свобода, о которой я так долго мечтала.
Он уходит. Еще пять минут. Три. Одна. Он внимательно меня разглядывает – словно хочет запомнить. Словно хочет понять то, что пропустил, не заметил, не понял.
– Не поцелуешь меня на прощанье? – пытается шутить он, и это дается ему с трудом. Я вижу, как кривятся углы его рта.
Я качаю головой.
– Нет, не хочу.
Он удивляется:
– А я, оказывается, тебя действительно совсем не знаю. Точнее – не знал.
Договаривает последнюю фразу – и все, он открыл дверь и вышел в коридор.
У двери оборачивается.
– Ты остаешься?
Я молча киваю. Не могу уйти вслед за ним – у меня абсолютно нет сил, кружится голова, трудно дышать.
У меня даже нет сил, чтобы ему ответить.
– Ключ отдашь Зине! – быстро говорит он и – всё.
Я слышу его шаги в коридоре.
Его больше нет.
В ту ночь я не ушла из общежития. Я понимала, что до своего дома я просто не доеду – рухну где-нибудь по дороге или попаду под машину. Я лежала без сна в нашей комнатке, где была счастлива и несчастна, но уже без него. А утром, перед рассветом, поняла: я свободна.
Я снова одна. Я так боялась этого, но теперь почувствовала, что счастлива – вот как бывает.
Я ни минуты не думала о будущем. Я не жила прошлым. Я была здесь, в настоящем, сегодня и сейчас.
А потом мне очень захотелось домой.
Я оглядела наше временное пристанище в последний раз и быстро ушла – не оглядываясь.
Зина, как всегда, сидела на вахте – вязала очередную дырчатую шаль, чтобы подарить одной из приглянувшихся ей наперсниц, чьей-нибудь любовнице. Такая же шаль была у меня.
– Уходишь? – спросила она.
– Ухожу.
– Ну, значит, до свиданьица. – Она снова принялась за вязание, но от ее цепкого взгляда не ускользнуло мое измученное, заплаканное лицо. – С концами, получается? Твой-то тоже вчера рванул, как будто от бешеных собак убегал.
– Ну, значит, так. – Я пыталась сохранить спокойствие. – Всему есть начало и всему есть конец. Будь здорова, Зина! Не хворай и всего тебе наилучшего. И еще – спасибо тебе за все!
Зина махнула рукой:
– Да за что, господи? Ну, бывай и ты, девка. И тебе не хворать. И еще – не страдать, Марин! Не убивайся. Значит, так было надо…
Мы обнялись.
– Заезжай хоть когда-никогда, а? – Она жалобно хлюпнула носом. – Посидим, поболтаем?
– Вряд ли, Зин, если честно. Трудно мне будет сюда приезжать.
Зина понятливо и сочувственно кивнула и перекрестила меня.
Я шла по улице и вдыхала запах весны. На улице был май, только зацветала сирень и теплое солнце обещало скорое лето. Настроение у меня было беспечное и хорошее. Легкое. Я впервые подумала, что теперь я никому ничего не должна.
Как же я ошибалась! Как я могла не заметить, что моя дочь остро нуждается во мне и снова меня очень ждет! Что меня ждет мама.
Пора было возвращаться. Меня давно ждали.
Максим
Я довольно легко поступил на журфак. К тому времени у меня уже были печатные работы в детских и юношеских журналах и даже коротенький рассказ в «Юности». Я точно знал, что хочу писать. Писательские амбиции у меня были и тогда. Но и журналистика меня привлекала – в конце концов, это профессия. А вот писательство, скорее, призвание. Здесь нужен жизненный опыт, в молодые годы это получается только у гениев. А я не гений, я это отлично понимал. Курс у нас был веселый и бойкий. Московские пижоны и столичные красавицы. Было много блатных, но были и провинциалы – вот эти точно поступили благодаря своим способностям.
Наш роман с Иркой начался на втором курсе. Конечно, до этого я видел ее много раз – во-первых, яркая внешность, а во-вторых, очень громкий и резкий голос. Не заметить и не услышать ее было нельзя. Училась она в параллельной группе, но на лекциях мы встречались и на институтских вечерах тоже. Сталкивались и в нашей столовке, и в институтском скверике, где я обычно курил, а Ирка в очередной раз что-то громко вещала, собрав вокруг себя небольшую толпу.
Я знал, что фамилия ее Скворцова и папаша ее читает лекции у нас в институте.
Ирка была хорошенькой. Очень смуглая – потом выяснилось, что у нее была испанская кровь, кажется, со стороны матери, – черноволосая, узкая в кости, гибкая, как лоза. Ирка была ярой общественницей, комсомольским лидером и заводилой по натуре.
Мне никогда не нравился такой женский типаж – слишком шумные и слишком активные, всё – слишком. Я не понимал, зачем ей, профессорской дочке и коренной москвичке, нужен этот комсомол, эти собрания, взносы, конференции. Ей-богу, не понимал.
Дело было под ноябрьские праздники. В очередной раз нас согнали в аудиторию, чтобы провести очередное собрание.
Ирка Скворцова, разумеется, сидела в президиуме, рядом с секретарем комсомольской организации, придурошным лохматым очкариком из ее группы.
Признаться, я не вслушивался в пламенные речи по поводу предстоящего праздника. Вся эта чушь была мне абсолютно неинтересна. В какой-то момент задремал. Проснулся я от резкого голоса прямо над моим ухом:
– А тебя это не касается, Ковалев?
Я вздрогнул и открыл глаза. Надо мной стояла Скворцова, и глаза ее пылали праведным огнем.
– Деньги гони на поход! – выкрикнула она. – Три рубля, на питание!
Я отпрянул от громкой девицы. Потом дошло – речь шла о каком-то дурацком походе. Как же, им надо было обязательно отметить важнейшее событие – годовщину революции – бодрыми песнями у костра. Активисты и комсомольцы, душу их мать.
– Я… Не собираюсь идти, – вяло пробурчал я, – у меня другие планы на праздники.
Скворцова гневно сверкнула глазами:
– А когда голосовали? У тебя планов не было?
Ну все понятно! Я спал и пропустил голосование. И вот теперь влип.
Нет, я еще пытался вяло отбрехнуться, но Скворцова меня не слушала. Пришлось вытащить из кармана последнюю трешку, которую мне было безумно жаль. «Да и черт с ней, – подумал я, – и с трешкой, и с этой Скворцовой! Пусть подавится. В конце концов, нервы дороже. А в поход я, естественно, не пойду. Мне отвратительна эта сопливая романтика с продувными палатками, сортиром под елкой, запахом пригоревшей перловки и комсомольскими песнями под расстроенную гитару. И вообще я люблю комфорт и теплый сортир».
Собрание закончилось, и все высыпали во двор. Парни смолили, девчонки обсуждали предстоящий поход. «Неужели все они хотят идти в холодный лес? – ужаснулся я. – Неужели я такой один сибарит и любитель комфорта?» Для себя я уже все решил и, попрощавшись, поехал домой.
Но в поход пришлось идти – случился очередной скандал с матерью, как всегда, безобразный, что для нас с ней давно перестало быть редкостью. И в тот же вечер мне позвонила Скворцова. Жалобным голосом, совершенно несвойственным ей, она умоляла меня помочь ей в подготовке к походу – закупить тушенку и крупы, кофе и чай и прочую ерунду. Я хотел было отказаться, но, злорадно взглянув на мать, согласился. Уж очень хотелось исчезнуть из дома.
Продукты мы закупали через несколько дней, и тогда Ирка Скворцова мне не казалась уже таким уж монстром – обычная и даже очень симпатичная девчонка без всяких там прибамбасов.
Смешно, но я втянулся в подготовительный процесс, и мы созванивались со Скворцовой теперь уже раз пять на дню. В назначенный час я ждал Скворцову у подъезда ее дома на Сретенке. Дом, огромный, монументальный, важный, меня не сразил – я и сам был профессорским внуком и жил в похожем.
Ирка, выскочив из подъезда, вдруг чмокнула меня в щеку:
– Привет, Ковалев!
Я обалдел. Теперь я смотрел на нее другими глазами.
На Курском вокзале нас собралось со всего потока человек двадцать – больше дураков не нашлось. Погодка не радовала – понятно, начало ноября. Моросил колкий дождик и набирал сил холодный, злой, пронизывающий ветер. Со станции мы шли довольно долго, часа два, и наконец выбрали место на берегу реки, под кривоватыми соснами, и разбили наш лагерь.
Ирка с девчонками крутились вокруг костра, гремя алюминиевой посудой, собираясь готовить обед. Ну а мы с парнями принялись ставить палатки. Странно, но я очень старался выглядеть ловким, сильным, умелым. Я бросал короткие взгляды на Ирку и ловил ее ответные – тоже короткие и, как мне казалось, робкие, смущенные, но точно – заинтересованные.
Что сказать, я, лежебока, лентяй, привыкший к теплу и удобствам, ненавидящий любой экстрим в любом виде, чувствовал себя героем и мужиком. Этаким рыцарем без страха и упрека.
Той же ночью мы с Иркой отправились гулять в ночной лес. Было страшно холодно и совсем не романтично. Но нам было хорошо.
Я соорудил укрытие, что-то наподобие шалаша из еловых веток, и мы укрылись в нем от холода и дождя.
Вкус Иркиных губ я запомнил на всю жизнь – они были холодные, твердые и ароматные, как земляника из холодильника. Она закрывала глаза и шептала какие-то очень смешные детские слова.
А утром я понял, что влюбился, и это было не похоже на все те истории, что случались со мной до того.
Я понял, что это любовь.
Ирка Скворцова, шумная, громкая, резкая, активистка и комсомолка, стала моей первой и настоящей любовью. И первой женщиной, которую я очень хотел. Это было совсем непохоже на то, что было у нас с Дашей. И совсем непохоже на случайные короткие студенческие связи – на пару часов, на одну ночь.
Наша любовь вспыхнула неожиданно быстро и ярко. Мы почти не расставались. Утром я подъезжал к ее дому, и мы вместе ехали в институт или прогуливали – естественно, тоже вместе. После учебы, которая нам стала до фонаря, мы снова ждали друг друга в институтском сквере и шли обедать в какую-нибудь забегаловку. На большее денег у нас не было.
Были у нас любимая пельменная на Сретенке и сосисочная на улице Радио. Если позволяла погода, мы шатались по городу, плохая – шли в кино. Сидели на последнем ряду и до обморока целовались. Ирка любила старые кладбища, и мы часами гуляли на Ваганьковском, Богородском или Донском. Странно, но ее, комсомолку и ярую безбожницу, привлекали мистические, загадочные места.
Ездили мы и к нам на дачу, которая к тому времени совсем развалилась. Но нас это не волновало – мы топили печку, кипятили чайник и валялись на бабкиной кровати – единственной более или менее сохранившейся. Конечно, мы привезли туда постельное белье, подушки и одеяла, украденные из дому.
К хозяйству Ирка была совсем не приспособлена. Даже почистить картошку для нее было великим трудом – состригала она добрую половину картофелины и вдобавок к тому резала пальцы. Из положения мы выходили легко – «суп-письмо» и банка болгарских голубцов или перцев в томате составляли отличный обед. Банки мы грели прямо на печке – ни кастрюль, ни сковородок на даче уже не осталось.
Я наблюдал за Иркой – в ней совершенно не было ничего женского, никакого стремления к чистоте или к уюту. Она спокойно покрывала стол старыми газетами, ела из банки, а руки вытирала куском старой тряпки.
Ее не волновала одежда – весь ее гардероб состоял из джинсов и свитеров зимой и пары маек летом. Она совсем не красилась, не пользовалась духами. А ведь ее семья была далеко не бедной и папаша-профессор часто летал за границу.
Ирка обожала прогулки, поездки в лес и на озера – главной ее мечтой были Карелия и горные реки Армении.
Она была своим парнем, вечным туристом в штормовке и резиновых сапогах. И при этом в ней была пронзительная, щемящая женственность. И еще она безо всяких духов и дезодорантов замечательно, прекрасно пахла. И я очень ее любил. Да, любил.
Иркино естество проявлялось во всем. Я удивлялся – она была коренной москвичкой, девочкой из небедной семьи, но ее ничего не испортило – ни приличный уровень жизни, ни заграничные вояжи папаши, ни наличие в доме домработницы. Она была совершенно, просто совершенно неизбалована и патологически непритязательна. Ничего не требовала – ни денег, ни тряпок, ни поездок на курорты. Ей хватало того, что ей было интересно и действительно нужно – осеннего леса, корзинки с грибами и бутерброда с сыром. Еще она была удивительно безалаберна, моя возлюбленная.
Мне, конечно, очень хотелось, чтобы Ирка моя преобразилась – надела, например, каблуки и новое платье. Накрасила глаза, сделала маникюр. Чтобы ее обволакивал аромат загадочного нездешнего парфюма. Природа дала ей много, особых усилий не требовалось – почувствовать себя женщиной, всё.
Еще меня очень раздражало ее вечное стремление к справедливости. Вот тут ей не было равных. Видя какую-нибудь ситуацию и не разобравшись в ней, она тут же бросалась на амбразуру – защищать и отстаивать. Порой это было невыносимо, как и то, что она то и дело подбирала бродячих и увечных собак и кошек. Нет, я все понимаю, ей-богу, я тоже люблю животных. Но ведь всякое доброе дело требует продолжения – собаку или кота надо было пристроить в хорошие руки. А что это означало? Да цепь дурацких усилий и движений – объявления на столбах и подъездах, многочасовые телефонные разговоры со знакомыми и малознакомыми людьми, которых требовалось убедить, уговорить, уломать взять себе беспризорное животное. И наконец, поездки за город, в дачные поселки и деревни все с той же целью – пристроить несчастного зверя. Невзирая на погоду, мы мотались по поселкам и деревням, стучали в калитки или в двери и умоляли забрать нашего питомца. Конечно, нас посылали. И как посылали! Сколько брани, мата и проклятий неслось нам вслед!
Боже, как я уставал от всего этого, как это стало меня раздражать!
Следующим этапом было «тимуровское движение». Ирка находила и брала под опеку несчастных, одиноких стариков. С чего это все началось? Да с ерунды, помогла какой-то бабке дойти до дома, донесла ей до подъезда тяжелую сумку с картошкой, и благодарная старуха зазвала мою дурочку выпить чайку. Помню, этой бабе Нате мы года два носили продукты, бегали в аптеку и в поликлинику.
Я видел: Ирка моя – человек замечательный. Чудный человек, чистый, прозрачный, как горный ручей. Помыслы ее чисты и прозрачны и не расходятся, как это часто бывает, с реальными действиями. Она чудесная, моя Ирка. Все так. Но меня раздражала вся эта суета, обилие чужих людей в нашей жизни. Я часто стеснялся ее и еще чаще стал раздражаться.
Как-то в троллейбусе она подралась с пьяным хамом, толкнувшим беременную женщину. Что оставалось мне? Конечно, вступиться за обеих! А дальше драка, отделение милиции и письмо в деканат. Еле уладили.
И все же у нас было много хорошего.
Мы оба обожали природу, лес, тишину. Там, в лесу, моя шумная и говорливая Ирка замолкала и становилась тише воды ниже травы. Мы молча шли по лесу, крепко взявшись за руки. Присаживались на косогоре, и она клала голову мне на плечо. А я смотрел, как по ее смуглой и тонкой руке ползет муравей, а на смоляные волосы изящно и легко приземляется божья коровка.
Как-то она сказала:
– Слушай, Макс! Когда мы поженимся…
Дальше я не услышал. Поженимся? Она в этом уверена? Это было сказано безапелляционно, сомнений, кажется, у нее не было. Я удивился. Я не думал об этом. Мне и в голову это не приходило. Поженимся! Какой бред, ей-богу! Я и женитьба? Мне двадцать лет, и я хочу жить! Жить свободно и вольно!
От возмущения я задохнулся. Господи, о чем она? Я вообще был уверен, что ей это и вовсе не надо, и этим она и отличается от всех остальных девиц ее возраста, стремящихся поскорее выскочить замуж и нарожать кучу детей. Она ведь другая, совсем другая! Я был разочарован. К тому же Ирку сложно было представить женой. А еще сложнее – хозяйкой и матерью.
Какая там хозяйка, о чем вы? Неловкая и нелепая в интерьере квартиры Ирка? Ирка, варящая суп и жарящая котлеты? Стирающая ребенку пеленки и вытирающая пыль? Да это невозможно представить!
Нет, она совсем не жена – это я понимал.
Я взял себя в руки и попробовал отшутиться:
– Замуж хочешь? Вот удивила! Я и предположить не мог, ей-богу!
Ирка удивленно раскрыла глаза:
– А что тут такого, Максим? Мы с тобой два года вместе. Мы с тобой спим, и мы любим друг друга. Что так тебя удивило? Что я хочу замуж за любимого человека? Что я хочу родить ему ребенка? Хочу засыпать вместе с ним и вместе просыпаться? Какой ты здесь углядел криминал? И вообще все логично – мы любим друг друга? Да. Спим вместе? Ага. Нам хорошо вместе?
Она и вправду не понимала: чего тянуть? Мы ведь ни минуты не сомневаемся друг в друге?
Нет, любимая. Я в себе сомневаюсь, да еще как!
Но этого я ей не сказал, Вяло промямлил что-то по поводу возраста, карьеры, что нам надо окончить институт, встать на ноги, иметь жилье и зарплату. Ну не садиться же на шею к родителям. Стыдно. И с детьми, кстати, нечего спешить. Какие мы, к черту, родители? Сами еще малые дети.
Ирка слушала меня молча, не поднимая глаз. А потом тихо сказала:
– Я все поняла, Ковалев! Поняла, успокойся. Можешь не продолжать.
Она тогда здорово обиделась на меня. Дулась несколько дней, отказываясь от встреч.
И я с удивлением отметил, меня это ничуть не тяготит – если честно, мне стало легче дышать. Я поймал восхитительный и пьянящий воздух свободы – мотался с приятелями по барам, пару раз застревал в общаге, дуясь в преферанс. Я даже напился, чего при Ирке было совершенно невозможным. Словом, я отрывался. И мне казалось, что я по ней не скучаю. Она меня слегка утомила.
Как-то она поймала меня, цепко схватив за рукав куртки:
– Ковалев! Ты совсем совесть потерял? Ведешь себя как капризный младенец! Кажется, ты обнаглел! Или мне показалось?
Ее чернющие глаза метали громы и молнии.
Я дернул руку:
– Ага, обнаглел! А ты, наверное, думала, что я буду рыдать под твоей дверью? Или сразу повешусь?
Ирка всматривалась в мою наглую рожу, ища следы раскаяния и любви.
И тут она сдалась, что было ей совершенно не свойственно.
– Ладно, Макс! Все, проехали. Ты, наверное, прав: в загс нам торопиться не стоит.
Я понял, что выиграл с помощью легкого шантажа, демонстрируя полное безразличие.
– А, поняла? – едко осведомился я. – Ну молодец!
Я пристально разглядывал ее, словно видел впервые. И мой взгляд меня выдавал.
– Ты бы, Ир, постриглась бы, что ли? Ходишь, как лахудра какая-то, уж извини! – И я окинул ее презрительным взглядом, в котором, наверное, уже не было любви, и продолжил: – И приоделась бы, что ли? Возможность-то есть! Портки эти лоснятся уже!
Это было унизительно, я понимал. Но я делал это сознательно, из вредности. И еще я понимал, что очень хочу с ней расстаться. Мы продержались еще месяцев восемь. Но это была агония. Я придирался к Ирке, ворчал, занудствовал, поучал ее и упрекал.
И подсознательно ждал, ждал с нетерпением, что она первая бросит меня, разозлившись и наконец обидевшись. Уйти самому у меня не хватало силенок. Все-таки мне было ее очень жаль. А когда появляется жалость, тогда точно заканчивается юношеская любовь.
В эти месяцы, перед нашим расставанием, которое мы оба предчувствовали, Ирка совсем сникла, как цветок, сорванный злой и небрежной рукой. Той, прежней Ирки, яркой, громкой и говорливой, больше не было. Ирка Скворцова стала тихой и молчаливой. И виноват в этом был только я.
В последние наши дни мы часто скандалили, упрекали друг друга, вываливали друг на друга огромный ворох претензий. Я хамил и хлопал дверью. С каждым днем мне было все невыносимее находиться с ней рядом.
В конце концов, вконец измучив друг друга, мы расстались. Это случилось в июне, перед самыми летними каникулами. Большой компанией мы курили во дворе корпуса, кадрились к девчонкам, пили пиво и громко, во весь голос, ржали – позади сессия, впереди лето, каникулы, воля. Я чувствовал Иркин пристальный и насупленный взгляд – она меня, как всегда, осуждала, стоя под деревом, в метрах пяти от меня.
Я посмотрел на нее и кивком подбородка спросил:
– Ну! Чего?
Не ответив, она быстро пошла прочь. Ну а я облегченно вздохнул и отправился провожать Ленку Семенову, красивую девицу со второго курса, давно поглядывающую на меня с интересом.
Мы стояли в метро – самая давка, час пик, высоченная плотность толпы, которая прибила нас с Ленкой друг к другу. Я случайно коснулся кончиком носа ее рыжих и пышных волос и задохнулся от ее запаха – сладковатого, пряного, с легкой горчинкой. Духи? Шампунь? Это был запах незнакомой, чужой женщины. Пока – чужой, еще не моей. Но она будет моей – я это чувствовал! Это меня страшно манило и удивляло. Не моя? Да как это так? Ну, значит, будет моя!
Я понял – впереди у меня долгая, длинная жизнь. Конечно, без Ирки. Ирка Скворцова – уже мое прошлое. Было да прошло – какие проблемы?
Я закрутил с Ленкой. Потом со следующей девицей. В общем, понеслась душа в рай.
Все лето мы с Иркой не виделись. В августе я уехал в приятелями в Крым, в Судак, где мы вольно и весело прожили почти три недели. Когда вернулся, мать приказала мне «разобраться с дачей» – убрать, разобрать, привести в порядок. Она решила ее продать.
Это было ее право, меня это волновало мало, и, чтобы не создавать конфликта, я взял институтского приятеля Славку, и мы поехали с ним «приводить в порядок дачные дела». А на деле – пить пиво, читать, трепаться о жизни и просто пожить отшельниками.
Мать приехала через пару дней, хмуро кивнула нам обоим, прошлась по участку, пнула ногой пустые пивные бутылки на террасе и, бегло глянув на меня, бросила:
– Ну что ж! Ничего удивительного! Достойный сын своего отца.
Славка, мой кореш, испуганно хлопал глазами. Я равнодушно курил и усмехался.
– В общем, так, – сказала мать. – Три старые яблони спилить. Участок вымести и разгрести от сучьев. Разобрать мусорную свалку на заднем дворе. И в доме убрать. – Она брезгливо скривилась. – Ты меня понял, Максим?
Вместо меня кивнул испуганный Славка. Я все так же криво усмехался и смотрел в окно.
– На все про все ровно три дня! – повторила мать, обернувшись на пороге. – Ты меня слышишь? Через три дня приеду снова. И не одна – с покупателем!
Мы сразу сникли – свобода заканчивалась, безделье тоже. Мать умела поднять настроение. Вздохнув, мы принялись за дела. Славка прокомментировал скупо:
– Да, старик! Ну и маман у тебя!
Я молча кивнул, дескать, знаю.
А первого сентября Ирка в институт не пришла. Сколько я ни вертел головой, пытаясь отыскать ее в толпе, так и не увидел. Не было ее и на следующий день, и через три дня, и через неделю.
– А где Скворцова? – пытаясь казаться равнодушным, осведомился я у какой-то девицы из ее группы. – Не приболела ли случаем?
Все-таки она меня волновала – не чужой человек.
Девица глянула на меня с удивлением.
– А ты не знал? Ирка ушла. Забрала документы и тю-тю! И это с последнего курса. Ну не дура?
Я промолчал, новость меня ошеломила. И надо сказать, что – самое отвратное – на сердце у меня стало легко. Как здорово жить без Иркиного «ведьминского» черного глаза и вечного укора.
Теперь я уж точно вольная птица! Никому и ничего не должен, ура! Да, только что там с ней? И что за резкий шаг? Неужели из-за меня? Из-за нас? Ну, это полная глупость, а Ирка вовсе не дура. Ладно, так и быть, позвоню.
И я моментально, бодро и весело включился в новую жизнь. Ирке я так и не позвонил. Каждый день говорил себе, что надо, и каждый день откладывал этот неприятный момент, давал себе послабление. Я всегда давал себе послабление.
Спустя пару месяцев узнал, что Ирка уехала в Минск к родне, переведясь в местный университет.
Ну так, значит, так. Будь счастлива, Ира Скворцова! И я постараюсь.
Боже мой, какой же я был сволочью! Как легко мог оттолкнуть, выбросить из жизни и просто забыть человека, которого еще недавно любил. И самое главное, я не мучился по этому поводу. Ни минуты не мучился! Ушла Ирка из института – и слава богу! Баба с воза, как говорится. А ведь я понимал, что Ирка ушла из-за меня, и даже не соизволил позвонить ей, ее родителям. Что-то узнать и хотя бы передать ей привет.
А Даша? Про нее я вообще не говорю. Дашу я забыл в одну минуту, моментально, сразу, как только уехал обратно в Москву. И поскорее постарался забыть слова отцовской сожительницы по поводу брошенного ребенка. Ладно, тогда я был совсем сопляком и не любил ее. А Ирку-то я, кажется, любил.
Потом, позже, когда в моей жизни наступил полный крах, я часто думал об этом. Я вспоминал Ирку и Дашу, осознав наконец, что наделал тогда, как поступил с этими прекрасными девушками, которые любили меня. И я понимал, что все справедливо. Все правильно. И это еще очень малая кара за то, что я сотворил.
И вообще, меня не оправдывало то, что я был молод. Подлость человеческая не имеет возраста.
А моя дочь и Алиса – это мне наказание за мои подлости и предательство. Я это знал.
Марина
Со свободой пришло и одиночество. Хорошо это или плохо? Да нет, хорошо, убеждала я себя. Я наконец снова принадлежала себе, дочке, маме, работе.
Я рассматривала себя в зеркало – у меня снова стали нормальными глаза, исчез лихорадочный, нездоровый блеск, исчезла вечная вздернутость, готовность к атаке, отражению, бою.
Исчезло и вечное ожидание его звонка, его приезда. Исчезла тревожность. Прекратилась эта мелкая, противная дрожь в руках. И я наконец стала спать по ночам.
Господи, думала я, разве это любовь? Разве любовь может быть такой? Вечный страх, стыд, непокой и вечное ожидание… Про любовь я знала из книжек – та, что называлась настоящей, была созидательной, а не разрушительной. А вот страсть – это атомный гриб, моя Хиросима.
Разве так было у нас с Сережей? Разве там было то, что угнетало меня? Нет и нет – там была только тихая радость. Покой. Понимание и такая близость – нам даже снилось одно и то же.
За все эти годы с Юри я ни разу не почувствовала себя защищенной. Я все так же была одинока и беспросветно несчастна.
Я постепенно приходила в себя. Мучило меня и то, что я снова, во второй раз, предала свою дочь. Я снова ушла в себя, в свою жизнь, позабыв обо всех. Почти три года. Почти три года терзаний, вины и борьбы с самой собой.
Ника рассматривала меня, как рассматривают интересное насекомое. Кажется, она относилась ко мне с некоторым недоверием и испугом – а что еще выкинет ее тихая мамаша?
Однажды, вернувшись домой, она застала меня за странным занятием – я пекла блины. Дочка села напротив и, подперев голову руками, молча за мной наблюдала.
Закончив, я уселась напротив нее и стала смотреть, с каким удовольствием она ест.
– Вкусно? – спросила я.
Ника кивнула.
– Божественно, мам! А я и забыла, что ты это умеешь!
Она смутилась, закашлялась и отвела глаза. Ей было за меня неловко.
– Тебя, – осторожно продолжила дочь, – тебя опять не было, мам, почти три года не было! Совсем, понимаешь? Нет, ты, конечно, была. Только где? Там, да? С ним, но не со мной. А мне так тебя не хватало! Мне было так плохо без тебя. Мне кажется, я кричала об этом! Нет, конечно, не вслух. Но ты не слышала. А мне было так нужно, чтобы ты меня заметила. Просто заметила, понимаешь? Обратила внимание, что я живу рядом с тобой. И дело не в этих дурацких блинах! Прости, мама, они очень вкусные. А дело в тебе и во мне. Мне было так плохо без тебя, мама. Мне не с кем было даже поговорить.
Как мы плакали тогда, господи! Как мы плакали вместе! Кажется, мы исторгли из себя все обиды друг на друга, всю боль, всю вину. Впрочем, виновата была только я. Одна я. И виновата во всем. Какая я мать! Я – преступница.
Мы начали подолгу и помногу говорить с моей девочкой. Делились друг с другом, каялись, винились. Прощали – себя и друг друга.
Какой же я была эгоисткой. Мне было на все наплевать. На самых близких людей – на мою дочь и на мою мать.
Как они прожили без меня все это время? Все это долгое время?
Я не знала про них ничего. Я думала только о себе. О своем любовнике. О том, как устроить наши свидания. Как не попасться на глаза его матери и жене. Как бы еще задержаться там, в его постели, еще пару дней или пару часов. Все. Больше в моей жизни ничего не было. Ничего и никого. Я проводила время с вахтершей Зиной, чужой теткой, посвящая ее в свои секреты, в свое самое сокровенное, забыв о самых родных и близких. Я на них наплевала, а в итоге наплевала на себя саму. Потому что тогда я потеряла себя.
Как я старалась исправиться! Я ездила к маме – два, три раза в неделю. Оставалась ночевать на ненавистной даче, пропалывая дурацкие мамины огурцы. Я варила варенье, обрезала кусты и заглядывала маме в глаза – простила? Простила ли она меня?
Мама молчала. Однажды я не выдержала:
– Господи, мне что, нет прощения? Что же такого я натворила, чтобы ты так со мной?
Мама ответила:
– Да ничего. Я на тебя не в обиде. Думаешь, я не понимала? Не видела, как ты несчастна? Я просто жалела тебя. А про обиды забудь.
В тот год мы с Никой уехали на море, в Анапу. Сняли комнатку – почти сарайчик, зато у самого моря. Мы засыпали под шум волн и писк ненасытных крикливых чаек. Собирали мидии на берегу и варили их в котелке над костром.
Вечерами до ночи сидели в хозяйском дворике под виноградом и пили легкое кизиловое вино. Все было чудесно. На душе был покой. Мы с дочерью снова были близки. И я возвратилась к себе. А через две недели моя Ника влюбилась. В местного парня, плейбоя, смуглого красавца с роскошным торсом пловца. Теперь по ночам она уходила, а я ждала ее, не сомкнув глаз, вздрагивая и прислушиваясь к незнакомым звукам.
Ника приходила под утро – с опухшими губами, безумными глазами, бледная, словно больная. Она ложилась в одежде на раскладушку, закидывала руки за голову и смотрела в потолок. И я видела в ней себя – ту, которая пропадала почти три года.
Кажется, любовь – зло. Она выматывает, опустошает, прибивает к земле. Она унижает, растаптывает, сжигает душу. Это – болезнь. Определенно болезнь. И что в ней хорошего, в этой любви?
Я жалела свою девочку, понимая, что не могу ей помочь. Ничем не могу – это должно пройти само, постепенно отрывая от человека частицы души. Это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. И прививок от нее нет. Пришел срок – отболей. Все.
Себя я жалеть перестала – что твои собственные страдания, когда страдает твое дитя? Жалость к дочке отодвинула жалость к себе.
Я ни о чем ее не спрашивала – будь как будет. Я не могу ни на что повлиять. Я знаю, как это бывает.
Через три недели мы возвращались домой.
Последние дни я почти не видела дочь. Она ловила последние минуты счастья. На вокзале Ника вглядывалась в толпу, высматривая своего возлюбленного. Он не пришел. Я крепко держала ее за руку – у нее был такой отчаянный вид, что я боялась, как бы она не сорвалась и не побежала.
За две минуты до отправления мы наконец вскочили в вагон. Поезд тронулся, а Ника все еще торчала у окна, надеясь, что еще немного – и появится он.
До самой Москвы она молчала. Не ела и не пила. Лежала на верхней полке и смотрела в потолок. Все мои уговоры, все слова были напрасны – дочь меня не слышала и слышать не желала. А я тихо плакала и вспоминала себя.
Господи, какие же мы, бабы, дуры! Ведь этот пловец наверняка уже забыл про мою дурочку и тащит в постель очередную курортницу. А она еще долго будет страдать.
Я вспомнила про Юри – уж он-то точно крепко и прочно в семье! Я уверена – у него все прекрасно.
А мы? Удивительная женская природа – пропадать от любви и продолжать стремиться туда, чтобы еще сильнее пропасть!
Дома, выйдя из душа, не глянув на меня, Ника коротко бросила:
– Я все равно поеду к нему! И не вздумай меня отговаривать, мам!
– Не буду, – кротко согласилась я. – Это твоя жизнь. Твоя и только твоя. – И подумала: «Ха! Попробовал бы кто-то отговорить меня тогда! Вытянуть из этого болота!»
К счастью, роман с пловцом сам собой сошел на нет. Ника никуда не уехала, не разрушила свою жизнь. И мою, кстати.
Максим
А вскоре появилась Алиса. Мое Зазеркалье. Самая темная страница моей жизни. Самая безумная, самая страшная.
Как я тогда не пропал? Удивительно.
Алиса. Какое смешное и странное имя для нашей суровой действительности, где в основном встречаются Зои, Зины, Наташи и Даши.
Алиса – это из сказки. Конечно, из сказки. У чокнутого сэра Льюиса Кэрролла странная девочка Алиса попала в Страну чудес. Странная девочка, странная страна. Странный писатель. Странное все. Признаться, я многого не понимал, читая эту книженцию в детстве. Многого не понимал и потом. Бред воспаленной фантазии. Чудные герои, нелепые ситуации. Смешные? Вот не уверен. Скорее забавные, да. Но эта книжка меня странно влекла. Я открывал ее, как заветный сундук, полный непонятных и загадочных сокровищ, полный нелепых и странных загадок. Каждый раз я видел ее по-новому. И в который раз удивлялся. Лет в десять мне снились сны про Алису. А позже, спустя пару лет, я и сам стал придумывать главы про ее приключения. Но признаться, у меня получалось куда хуже, чем у сэра Льюиса Кэрролла. Приключения прекрасной Алисы в моем исполнении были довольно банальны и скучны.
Эту книжку я читал лет до пятнадцати – так, брал иногда и пролистывал, каждый раз обнаруживая в ней что-то новое.
Чудеса. Наверное, это и есть искусство – видеть одно и то же через разную оптику.
Спустя тысячу лет появились слухи, что сэр Льюис был застарелым кокаинистом и тяжело больным человеком, имеющим странное влечение к девочкам. Не знаю. Писали, что его нелепые и малопонятные фантазии рисовались в его воспаленном и нездоровом воображении под действием все больше и больше увеличивающихся доз.
Похоже на то.
Имя Алиса для меня стало нарицательным – девочка из сказки. Сказочная девочка. И странная, необычная сказка.
Алиса появилась в моей жизни, как водится, неожиданно.
Наверное, это был знак. Но это я понял потом, позже, когда нахлебался по полной. Алиса была послана мне судьбой в наказание – за все то черное, отвратительное, подлое, что я совершил в своей жизни. За то, что я делал со своими женщинами. Так судьба мне отомстила. Ткнула меня моей наглой мордой в дерьмо. Ну я и утерся.
Это было спустя два года после развода с Ниной и моего заселения в комнату тетушки, туда, где я уже пропадал. Стремительно падал все ниже и ниже, захлебываясь в собственных соплях, страданиях, поисках смысла жизни. Впрочем, поиски эти я, кажется, тогда отставил. Отодвинул и просто палил свою жизнь. Днем пил, ночью работал. Но тогда мне это было необходимо.
Мне была нужна эта убогость, эта грязь, это дно. Я проводил время со своими соседями, своими единственными друзьями, и не хотел ничего, только пить и работать. Я удачно и прочно вжился в роль страдальца и неудачника. Я упивался своими несчастьями, своим одиночеством и нищетой. Встретились мы в метро – я ехал с работы, из своей чахлой газетенки, и был, как всегда, в отвратительном настроении. В тот день я получил гонорар. Это, конечно, звучало громко – «гонорар». Громко и очень смешно. Но при тщательном планировании моего скромного бюджета на эти гроши можно было все-таки как-то протянуть.
Обычно я делал так – приехав домой и закрыв дверь на ключ, раскладывал деньги по кучкам – на оплату коммунальных услуг, на питание, на починку, к примеру, старых ботинок, на книги, на бумагу и ручки. Была еще и маленькая кучка непредвиденных расходов, и каждый раз я втайне надеялся, что эти расходы не случатся и, значит, деньги можно будет пропить – завалиться, например, в шашлычную на Арбате. И под свиной шашлычок, да под водочку. Или купить что-нибудь в букинистическом, если удастся достать. Был там у меня один человечек – за рубль или два сверху предлагал иногда что-нибудь ценное.
Итак, я ехал с работы в паршивом настроении, хотя в моем стареньком и потертом портмоне лежали какие-то деньги.
Вагон был полупустой – три часа дня, приличные люди еще в учреждениях и у станков. Старушки давно прочесали окрестности и, отобедав, легли отдохнуть. Я сел и открыл какой-то журнал. Пролистал – сплошная чушь, читать нечего – и поднял глаза.
Она сидела напротив и смотрела на меня. Равнодушно, спокойно, как смотрят на забор или мусорный бак.
Мы столкнулись взглядами, и меня обожгло. Нет, не так – меня прожгло. Насквозь, как минометом.
Что в этой девочке было особенного?
Была ли она красива? Какая первая мысль должна была возникнуть у мужчины, когда он смотрел на нее? Я отвечу. Она была не то чтобы красива, но завлекательна. От нее было трудно отвести глаза. При всем ее равнодушии и даже апатии в ней чувствовался какой-то мощный заряд сексуальности, женского манка, от которого столбенеют и начинают задыхаться мужчины. И я, почувствовав это, тоже почти задохнулся.
Не знаю, что она подумала в эту минуту, но не отвела глаза, а наоборот – стала рассматривать меня уже пристальнее, теперь уже, кажется, с вниманием и интересом.
Я засуетился. Задергался, смутился. Стал делать какие-то неловкие движения – вертел головой, мял журнал, сучил ногами и хлопал глазами. Глупость.
Мне хотелось смотреть на нее дальше, не отрывая глаз. Но было неловко.
На «Арбатской» она встала и подошла к двери, а я в отчаянии думал, что вот сейчас она выйдет из вагона и растворится в толпе. И я ее потеряю. Навсегда потеряю.
Дверь открылась и я, не раздумывая, рванул за ней. Она успела увидела меня в дверное стекло и усмехнулась.
Шла она ровным, спокойным, размеренным шагом, чуть покачивая красивыми, широкими бедрами. А я, как шпион, крался сзади, стараясь ее не упустить. У нее была плотная и ладная фигура – крепкие и рельефные бедра, сильные ноги с икрами спортсменки и прямая спина балерины.
Рыжеватые волосы были коротко острижены, так, что была беззащитно оголена шея – крепкая, длинная, красивая.
На ней были короткая джинсовая юбка с разрезом сбоку и черная маечка, плотно облегающая узкую талию и большую, высокую грудь. На ногах странная обувь – какие-то открытые шлепки с деревянной подошвой. Цок. Цок, цок.
А я шел за ней, как крыса за дудочкой Крысолова, и сердце мое громко и отчаянно билось.
На эскалаторе вверх я встал прямо за ней. Втянул носом воздух, пытаясь поймать, уловить ее запах. Мне казалось, что от нее должно пахнуть морем, морской свежестью, приморским ветром. Свободой.
И тут она обернулась. Мы снова столкнулись взглядами, и я вздрогнул. Теперь я увидел ее совсем близко – светлую, белую, молочную кожу с мелкими веснушками, как часто бывает у рыжих женщин. Глубокие зеленые глаза цвета зацветшего пруда. И пухлые, очень пухлые, крупные губы, нежные, чуть вспухшие, словно она только что поела еще незрелых и кислых ягод – земляники или малины.
Оглядев меня, она хмыкнула, недовольно качнула головой и отвернулась.
Мы вышли на улицу. Она остановилась, достала из смешной тряпочной сумки с вышитыми цветами и бахромой пачку сигарет и закурила.
Положение мое было нелепым. Я стоял в двух шагах от нее – взрослый мужик, красный и растерянный, с дурацким видом, и не понимал, что мне делать.
Она затянулась, громко вздохнула и, чуть нараспев, иронично спросила:
– Ну и что дальше? Какие у вас предложения?
Тут я встрепенулся и очень бодрым голосом изрек:
– Например, я приглашаю даму в ресторан! Если дама не против.
Она смотрела насмешливо, словно оценивая, а стоит ли? Стоит ли вообще с ним говорить? Я снова смутился. Я понимал – штучка. Еще какая штучка эта рыжая.
Наконец она произнесла:
– В ресторан? В смысле, в кабак? И дама – это я, надо так понимать? Да, дама не против. Потому что дама голодна, если по правде.
Я выдохнул с облегчением – меня не послали. Мне не отказали.
– Ну тогда вперед! – бодро, с комсомольским задором ответил я.
А в голове крутилось: куда? Повести ее в какой-нибудь шалман, к которым я привык и которые мне по карману? Нет, ни за что. Она не выглядит пафосной, эта рыжая. И все-таки. Нет, в ресторан! И в хороший ресторан. Какое счастье, что я получил сегодня зарплату!
Напротив метро возвышалась «Прага». Я когда-то там был, еще в далеком детстве с бабкой и дедом. Они любили по воскресеньям «пойти отобедать красиво», выбирали «Прагу» или «Берлин», иногда «Метрополь». Им все это нравилось: услужливые официанты, хрустальные люстры, крахмальные скатерти, тяжелые приборы и водка в граненом графинчике.
Я не любил ходить с ними – дети равнодушны к еде. Я балдел от сладкой газировки, томатного сока из стеклянного конуса, от пончиков и от ванильного мороженого.
Я вертелся на бархатном стуле, канючил, ронял вилку, капризничал и отказывался есть. Помню, как бабка раздраженно сказала деду:
– Больше этого идиота с собой брать не будем!
Напоследок я грохнул хрустальный стакан, и она лишила меня мороженого. Под мой громкий рев мы удалились.
– «Прага»? – Мне показалось, что она удивилась. – Хорошо. Можно и в «Прагу».
И мы пошли к внушительному зданию ресторана.
«Денег мне хватит, должно хватить», – лихорадочно рассуждал я.
А на все остальное мне было плевать. Рядом со мной шла девушка, которую я очень хотел и которая мне безумно нравилась, до дрожи в руках. До которой я просто хотел дотронуться. Обнять ее, закрыв глаза, а потом умереть от счастья.
Ох, как же мы погуляли тогда! Я вел себя как загулявший купец, желающий получить красивую цыганскую девку. Не скупился – шампанское, армянский коньяк, осетрина, икра.
Я демонстрировал удаль и размах, даже куражился. Наверное, я был смешон: потрепанный тридцатипятилетний мужичонка «гуляет» свою подружку.
Сначала она смотрела на меня во все глаза. Наверное, все это ей казалось дикостью. И еще она не понимала, кто я. Вроде шикую, а с виду занюханный неудачник.
Прилично опьянев, я что-то понес про свое писательство, врал про диссидентство, которого не было у меня и в помине. Про то, что меня никто, от бывшей жены до родной матери, не понимает.
– Ну, это же обычная история! – отозвалась она. – Если ты, конечно, не заблуждаешься по поводу того, что ты гений.
Ела она мало и почти без аппетита. А я все настаивал, заказывал все новые и новые блюда, пытаясь соблазнить ее хотя бы деликатесами.
– Ты же сказала, что голодна! – настаивал я.
Ей было смешно. Конечно, я был смешон. Это было совсем не мое амплуа.
О себе эта рыжая почти ничего не говорила. Так, обрывки – растила ее одна мать, есть еще брат, всегда жили скромно, если не сказать бедно. Считали копейки. Зато была отдельная квартира! Пусть однокомнатная, малюсенькая, но своя. Алиса, так ее звали, рано стала кормилицей в семье. Мать давно и долго болела, что-то серьезное с легкими.
– Брат неудачный, – нахмурившись и потемнев лицом, коротко бросила она.
В подробности я не вдавался.
Алиса. Алиса. Алиса. Я шептал ее имя как заклинание.
– Да, Алиса. А что тут такого? – равнодушно пожала плечами она. – Да, сейчас так называют. Редко, но называют. Красиво? Ну не знаю. Для меня это – лиса Алиса из сказки про Буратино, подруга кота Базилио – хитрая и алчная. Я не люблю свое имя, Тебе нравится? Правда? – удивилась она. – А для тебя это прежде всего девочка из Зазеркалья? Ну не знаю. Кому что нравится, это да.
Мы здорово набрались тогда. Пора было уходить – музыканты собирали свои инструменты, официанты тревожно переглядывались: кто этот перец? Видим впервые. Понятно – залетный. Может быть, командированный, просто снял девку? Расплатился бы, а? Звать ментов неохота – такая морока!
Официантам тоже хотелось домой.
Я расплатился – денег, слава богу, хватило. На столе оставалась куча еды, я окинул ее печальным взглядом. Но не собирать же ее в салфетки, да еще при Алисе! Оставалась жалкая трешка – как раз на такси.
Только куда привезет нас это такси? В мою страшную нору?
Мы вышли на улицу. Был теплый июльский вечер. Не хотелось спускаться в метро или садиться в машину. Хотелось идти по бульвару и вдыхать свежий запах сирени.
– Ну что, по домам? – спросила она. – Ты как, сам доберешься? Набрался ты, друг. Впрочем, я тоже. – И она рассмеялась.
Да, я набрался. Я здорово набрался тогда. Стоял, пошатываясь, держа руки в карманах. «Она сейчас уйдет, – думал я. – Уйдет – и все. И больше я ее не увижу. На черта я нужен ей, этой Алисе? Она все про меня поняла – девочка умная. И смотрит на меня с жалостью и сожалением. На кой ей нищий писатель?»
Я предложил ей пройтись. Она засомневалась, но согласилась.
Пошли по Гоголевскому, пустому и вымершему. Сели на скамейку и начали целоваться. Я говорил ей о своей любви:
– Так бывает, словно вспышка, я понял это мгновенно, в метро, как только увидел тебя! Я не хочу тебя потерять, слышишь? Я боюсь тебя потерять! Ты сейчас уйдешь, и этот огромный город тебя проглотит! Не уходи, слышишь? Не оставляй меня, умоляю!
Господи, что я нес! Я плакал и целовал ее руки. Мудак. Разве так можно вести себя с женщиной? И это я, прожженный циник! Надо же так разнюниться.
Алиса смотрела на меня с нескрываемым удивлением, и я видел – она насмехается надо мной. Ей не было меня жалко, такого чудного и странного немолодого придурка.
А я совсем раскис. Хмель выветривался, и я с ужасом представил себя со стороны. Жалкое зрелище.
Она вздохнула:
– Да брось! Что ты себе напридумывал? Так не бывает, какая любовь? Как это можно – вот так сразу полюбить человека? Да и потом, что ты знаешь вообще про меня? А может, я клофелинщица и воровка?
– Бывает! – настаивал я. – Ты просто не знаешь. Какая ты клофелинщица, господи? Ты ангел! Мой ангел, и все!
Потом мы поймали такси и поехали ко мне. Войдя в мою комнату она, кажется, не очень удивилась. Помогла мне раздеться, сделала крепкого чаю и, не раздеваясь, улеглась на кровать.
А я, уже протрезвевший, сидел напротив нее и любовался ею. Я думал о том, что скоро наступит утро, и вся эта мерзость – моя убогая комната и я сам – предстанет перед ней в своей «сказочной красе».
А потом и меня сморило.
Утром, когда я открыл глаза, Алисы в комнате не было. Она ушла. Я лег на кровать, на подушку, где еще оставался ее запах, и заплакал.
Весь день я провалялся – спал, не спал, страдал и мучился от похмелья.
Наступили сумерки, и я снова уснул. Разбудил меня дверной звонок. На пороге стояла моя рыжая, держа в руках какой-то пакет.
Она кивнула и, ничего не объясняя, прошла в комнату. И тут же деловито стала вытаскивать из пакета еду.
– Алаверды! – коротко бросила она. – Я же поняла, что ты после вчерашнего пустой. Даже пожрать тебе не на что. Вот и приперла тебе. Давай садись! Что смотришь? Ужинать будем!
Я смотрел на нее во все глаза, все еще не веря своему счастью. Она усмехнулась:
– Ответный жест, понял? Вчера ты меня, сегодня я тебя! Ну что стоишь, как фонарный столб? Отомри! Давай тарелки, алё!
Мы ели руками холодные котлеты.
– Со столовки уперла! – смеялась она. – Дерьмо редкостное, да? А ты ешь! Ничего, после пьянки важно поесть, а что – какая разница? Вот ведь жизнь! Вчера – осетрина с черной икрой, а сегодня – холодные столовские котлеты.
После нашего сказочного, по ее же определению, ужина мы сели напротив друг друга.
– Ну! – улыбнулась она. – А теперь познакомимся!
Она рассказывала, что мечтает стать актрисой, верит в свои способности, подавала в театральный, но не поступила:
– Кто без блата пройдет? Нет, ты мне скажи!
Было видно, что это до сих пор не дает ей покоя.
Потом устроилась в театральный буфет, чтобы быть ближе к театру, к актерам. Нет, не тот, что для зрителей, ты о чем? В тот не устроишься – золотое дно! Артистов мы кормим щами, гречкой и котлетами. Это для зрителя копченая колбаса и балык. Все считано, все по граммам. Буфетчицы страшно воруют, если б ты знал! Тырят за милую душу. Здесь не домажут, там потоньше нарежут. Одно воровство! Знаешь, сколько, допустим, положено икры на бутерброд? Нет, не знаешь? Так вот – двадцать граммов! А кто ее завешивает? Правильно, никто! А они кладут пятнадцать. Что такое пять граммов? Ничего. Это с одного бутерброда. А если с двадцати? Вот и прикинь! А бутербродик тот идет по рупь тридцать. Та же фигня с колбасой и с рыбой. Асы, ты мне поверь! А для артистиков наших котлетки, кашки и макароны. Яички под майонезом, бутерброды со шпротами, суп с вермишелью. Приходят, болезные, после репетиций и закладывают все это за милую душу. Ну и я, сам понимаешь, тоже тырю потихоньку. Правда, без наглости. Так, пару котлет для мамы и суп в пол-литровую банку. Я ж в общепите, ха-ха! Здесь воровство не грех, а стиль жизни. Иначе здесь не бывает, поверь. А что до проверок, до ОБХСС, то здесь все схвачено и за все уплачено. Во-первых, нас заранее предупреждают. А во-вторых, те тоже хотят жрать, а как же? Ну и в сумочку им икорку, колбаску и рыбку!
Я молчал и кивал. И еще – я не верил, что она сидит напротив меня. Жует эту дурацкую котлету, хрустит соленым огурцом и рассказывает мне про свою жизнь.
Мне было наплевать на ее речь и обороты, на эти дурацкие рассказы про буфетное воровство, про эти «икорки, колбаски и рыбки». Мне было на все наплевать! Мне нужно было одно – видеть и слышать ее. И знать, что она не уйдет.
Теперь она подробно рассказала про свою семью. Мама болеет, и давно, на первой группе. Отец ушел в другую семью. А брат – наркоман. Это она сказала в конце, и видно было, что далось ей это признание с трудом.
Я гладил ее по руке, жалея и мучаясь от того, что не могу помочь.
Но я был счастлив. Мне казалось, что вот с этой минуты, узнав друг друга и поделившись сокровенным, мы стали почти родными людьми.
Как я ошибался, наивно думая, что она со мной откровенна. Нет, она и не собиралась выворачивать душу ни сейчас, ни потом. Просто ей было так удобно в тот вечер.
– Слушай, а можно я у тебя поживу? Брат мой, короче, в очередной раз съехал с катушек. Ну, в смысле… Ты понял. И с матерью поругались. Мы с ней вообще как кошка с собакой. Жалеет она этого придурка, а он ее лупит. Я предлагаю написать на него в ментовку, пусть его снова закроют. А она: «Даже не думай! Попробуешь – пожалеешь!»
Я перебил Алису:
– Да конечно! Я буду счастлив помочь тебе! – Я задыхался от счастья. – Оставайся на сколько угодно! Только мне стыдно за эту халупу. За своих соседей. Вообще за все. И зарплата у меня через две недели. Точнее, аванс.
Она махнула рукой.
– Да плевать. Да ты не волнуйся, прокормимся! Ты же знаешь, я при продуктах! Ты только раскладушку купи. Если можно.
Покупать раскладушку было не на что. Жить было не на что. Ждать, пока она снова принесет стыренные из буфета котлеты? Нет, бред. Надо было срочно что-то придумать.
И я поехал к матери. Открыл дверь своим ключом – я всегда боялся, что она поменяет замки. Но нет. Спасибо на этом. Матери в квартире, слава богу, не было. Я выдохнул. Потом вытащил с антресолей раскладушку, старое одеяло, подушку и пару постельного белья. Прошелся по квартире. Дрогнуло сердце – я любил эту старую квартиру, где жили бабка с дедом, мой беспутный отец и я – ребенок, мальчишка.
Как ловко мать выпихнула нас с отцом отсюда, из нашей же жизни! Выпихнула в никуда – ей было на нас наплевать. Но нет, это несправедливо. Если бы у меня была эта квартира, а не крысиный вонючий угол придурошной Дуси, я бы привел сюда Алису. И был бы с ней счастлив.
Выходит, что надо начинать тяжбу с матерью. Время пришло. Ну что ж, не я виноват, что так получилось.
Значит, будет война.
И война началась. Мать высокомерно прищурилась:
– Половину квартиры? А не подавишься? Что, приведешь какую-нибудь девку-лимитчицу и пропишешь ее? Так, я права? Нет, мой дорогой. Один раз ты уже женился. Спасибо, эта самая Нина оказалась приличным человеком и ни на что не претендовала. А твоя новая подружка? Небось подобрал на помойке? А где тебе еще найти, кому ты нужен? Ничего из тебя не получилось и уже не получится! Потому что ты сын своего отца. Весь в него – пустой, ленивый, ко всему равнодушный. Ты не хочешь работать. Не стал жить с женой. С приличной, заметь, женщиной. Бросил больную дочь, чтобы жить в свое удовольствие. И для тебя не существует ничего, кроме твоих прихотей. Я ничего тебе не отдам, ты меня понял? И лучше эту тему закрой! А нет – иди в суд. Судись с родной матерью. Впрочем, я не удивлена. Это было вполне предсказуемым.
Я ушел, хлопнув дверью, кипя от возмущения. Как же я тогда ненавидел мать.
Наша странная совместная «полусемейная» жизнь с Алисой была похожа черт-те на что. Я спал на раскладушке, но это еще пустяки. Она то появлялась, то исчезала. То выныривала из своего Зазеркалья, то снова ныряла туда. Где она пропадала, я не знал. А вопросов не задавал – боялся. Боялся обидеть, показаться настырным или занудливым, боялся, что она уйдет от меня.
Один раз задал и получил в ответ:
– Кто ты мне, чтобы спрашивать? Кто я тебе? Мешаю – уйду! Прямо сейчас!
Она не пугала меня, нет. Она вправду так жила – одним днем. Ее исчезновение ничего не предвещало – ничего! Мы не ссорились, не скандалили. Просто она исчезала. Была и нет – испарилась. Даже вещи свои она забирала с собой. Хотя какие там вещи: зубная щетка, пара белья и ночная рубашка. Она могла исчезнуть на день, на два. Могла – на неделю или на месяц. Искать ее было бесполезно, да и где? Адреса ее я не знал, фамилии тоже. Паспорта никогда не видел. Я страдал. Ждал ее по ночам, прислушиваясь к шуму улицы. Вздрагивал, если хлопала подъездная дверь. Вскакивал к окну, вглядываясь в темноту ночи. Возвращалась Алиса так же внезапно. Раздавался звонок, и я бросался к двери. Она стояла на пороге, опустив голову – тихая, смирная, смиренная и покорная.
– Пустишь? – тихо спрашивала она.
Молча я пропускал ее в коридор. Она раздевалась, шла в ванную, возвращалась оттуда не скоро, вызывая праведный гнев Раисы, и быстро ложилась в постель. Я по-прежнему спал на раскладушке.
После своих длинных отлучек она была тише воды ниже травы. Совсем со мной не спорила, начинала прибираться в комнате – тереть стены, мыть потолок, гладить постельное белье.
Я не выдерживал и возмущался:
– Это жизнь? Нет, ты мне ответь! Как ты считаешь, вот это жизнь? Так живут нормальные люди? Где ты была? Отвечай!
Обезумев, я тряс ее за плечи. Она молчала.
Не поднимая глаз, тихо, одними губами отвечала:
– Это жизнь. Моя жизнь. Не нравится – я уйду.
Я бросался перед ней на колени, хватал ее за руки и рыдал. Умолял, чтобы она простила меня, только чтобы не уходила. Я все так же дрожал, обнимая ее.
Я всегда знал, что я не герой, слабак, тюфяк. Тюфяком называла меня моя мать – это было самое ласковое из ее лексикона.
Но чтобы так? Этого я сам от себя не ожидал. Я готов был на все, на любые унижения, только бы она оставалась со мной, только бы не ушла навсегда. Я был ее рабом, ее слугой.
Хотя смешно. Разве она была со мной? Даже проживая в одной комнате, деля со мной постель и хлеб? Нет, никогда. Никогда она не была моей. Никогда. Даже ночью, когда мы задыхались от страсти.
Ревновал ли я ее? Разумеется. Ко всем и ко всему. Я был безумцем. Мне хотелось разорвать ее на куски, привязать к батарее, опоить снотворным, только бы она не уходила. Я ревновал ее к прошлой жизни, к настоящей, о которой почти ничего не знал. К будущей. К ее друзьям, которых не знал. К ее театральному буфету, куда приближаться мне категорически не разрешалось.
Алиса шантажировала меня своим уходом, прекрасно понимая, что я готов на все, лишь бы она была со мной. Я все так же сгорал от любви. С каждым днем я крепче и крепче привязывался к ней, умирал от желания, ревновал, собирался ее задушить, тщательно продумывая убийство. И снова готов был ждать – сколько угодно. И снова готов был прощать.
За одну ночь, за ее объятия, поцелуи, влажную грудь и горячие губы я готов был продать душу дьяволу. И наверное, давно уже продал.
Куда она исчезала? Я задавал себе этот вопрос пятьсот раз на дню. И конечно, не знал ответа.
Вовка, мой сосед-алкоголик, жалел меня от всего сердца:
– Ох, Лександрыч! Ну ты и влип! По самые помидоры влип, бедолага!
О том, чем занималась моя Алиса на самом деле, я узнал через два года. Все оказалось совсем просто, совсем не загадочно и не таинственно. Моя Алиса, моя дорогая рыжая девочка, моя странная любовь, губительная страсть, оказалась обычной проституткой. Всех дел! Банально, как гвоздь. Смешно, как в дешевом водевиле. Да, такое бывало – я вспоминал классику. Но чтобы это случилось со мной?
Я был по-прежнему никто. Человек-никто, позволяющий обыкновенной шалаве водить себя за нос.
И что вы думаете? Узнав эту правду, я успокоился? Я разлюбил Алису? Нет. Я продолжал ее любить и не выгнал ее. Все так же караулил ее приход. По-прежнему хотел ее, зная, что совсем недавно она спала с другим мужиком. В моем воспаленном, больном мозгу возникали чудовищные картины: моя девочка и они, эти твари.
К моей безумной страсти прибавилось еще кое-что – я стал ее ненавидеть и презирать. Теперь я презирал нас обоих. Но, признаться, себя куда больше. Только вряд ли мне было от этого легче.
Алисина жизнь оказалась ужасной.
Начиналось все неплохо. Была обычная семья: мама, папа, она и брат. Да, квартирка была тесновата, копили на кооператив, денег не хватало. Обычная история, правда? Но родители любили друг друга и в любви растили детей. Словом, обычная среднестатистическая семья двух инженеров. В отпуск ездили скромно, но ездили. Как оставить детей без теплого моря? Ставили палатку на берегу дикого пляжа, сколачивали стол и скамьи, ловили рыбу, готовили на примусе. Алису оставляли со старшим братом, а родители уходили по вечерам в город в киношку, кафешку. Сердце не болело – дочка спокойная, серьезная и послушная, да и брат – парень ответственный и положительный. Сестру уложит, почитает на ночь книжку. А однажды этот «ответственный и положительный» изнасиловал двенадцатилетнюю девочку, свою родную сестру. Пригрозил: «Проболтаешься – прибью!» Хороший мальчик, любимый брат.
Она испугалась, увидев его глаза – глаза сумасшедшего человека. Нет, не человека – нелюдя. Однажды пыталась его утопить – вроде шалости в море, а она хотела серьезно. Мать увидела с берега, закричала и влепила ей сильную пощечину.
Этот подонок не останавливался, насиловал ее много раз. Она молчала, замыкалась в себе, ненавидела себя, презирала за трусость. А однажды попыталась его убить – взяла нож и занесла над его горлом.
Подонок проснулся и избил ее до полусмерти, сказав родителям, что она украла у него деньги. В шестнадцать лет у него начались проблемы с наркотиками. Родители долго ни о чем не догадывались. Алиса знала, но молчала. Почему? Да надеялась, что он сдохнет! Передоз – и она свободна! Впрочем, теперь он ее не трогал. Она стала сильной и могла дать отпор.
Этот подонок хирел, худел и перестал есть. Мать заваривала ему травы и выжимала капустный сок, уверенная в том, что у сыночка язва. Правду родители узнали, когда ночью в их дом пришел наряд и сына скрутили. Инкриминировали ему торговлю наркотиками.
Деньги, наконец собранные на кооператив, отдали адвокату. Срок удалось немного скостить. Мать стала болеть и попивать. А отец… Он тоже устал – сын-подонок, больная, нетрезвая жена, своевольная дочь. Он так и сказал:
– Я устал. Ухожу. Извините. Вам я все отдал – все, что мог и не мог. Теперь буду жить для себя.
Деньги он присылал аккуратно, но ни разу не пришел. Алисе стало легче после его ухода – теперь в доме была хозяйкой она.
Мать давно жила в своем мире и этим спасалась – пила и ждала сына, писала ему длинные письма. Потом он вышел по УДО, и Алиса оказалась в одной квартире с пьющей и потихоньку сходящей с ума матерью и отсидевшим и обозленным на жизнь братом, который не работал. Жили на пенсию матери по инвалидности и подачки от отца.
Алисе надо было срочно идти работать. Она и пошла – за два года вымыла километры лестниц в подъездах, разнесла миллион телеграмм, перебрала тонну гнилой картошке на овощном складе.
Силы таяли, а денег по-прежнему не хватало. Наступило отчаяние – такое, что она всерьез думала о самом страшном: покончить со всем разом, одним махом. Перебирала возможные пути – таблетки, крыша соседнего дома, колеса машины, крюк в потолке. Она даже удивлялась – было совсем не страшно уходить туда. Страшнее оставаться здесь, на земле. Но все же тянула – не от страха, нет. Просто и на это не было сил. Притаскивалась с работы и падала замертво. В зеркало тогда на себя не смотрела – было противно. Вообще было все противно – ходить по улицам, покупать дешевую еду в магазине, отстаивать очередь в аптеку. Вставать в пять утра, когда за окном непроглядная ночь. Слышать пьяную брань брата и дрожать от ненависти к нему. Перебрехиваться с пьяной матерью. Жить. Жить было тягостно, омерзительно, страшно.
Но она не могла уйти, оставив мать на произвол судьбы. Брат убил бы ее, забил до смерти – он давно поднимал на нее руку. Спасала ее только Алиса.
В тот год она провалилась в театральный. Знала ведь, что не поступит, а все равно пошла, идиотка.
Нет, так неправильно, так жить нельзя. Нельзя жить с этими мыслями, нельзя мечтать о смерти в восемнадцать лет. Но как изменить свою жизнь? Как хотя бы немного ее облегчить? И Алиса устроилась в театральный буфет. Стало немного полегче, правда, воровать было противно. Да и что воровать? Недоеденные котлеты? Надкусанные корзиночки с кремом?
Наконец до нее дошло – деньги! Только деньги смогут все исправить!
Где можно заработать девчонке без профессии и образования?
И тут Алиса вспомнила про Нельку.
Нелька, соседка по дому, жила припеваючи. Про нее все было известно – да она и не скрывала. Нелька была проституткой. Нет, в подворотне она не стояла и в борделе не служила – еще чего! Полная, вальяжная, пышнотелая, голубоглазая, грудастая блондинка Нелька была совершеннейшей мечтой заезжего кавказца. Работала она «на себя, не на тетю». «Клиентов» ее все знали в лицо – возле подъезда по вечерам останавливалось такси, и из него вываливался очередной. Сплетницы-соседки так и говорили: «О, к Нельке очередной!»
Эти «очередные» были, как правило, похожи друг на друга, как братья-близнецы, – смуглые кавказские мужчины далеко за сорок. Не старики, но и не юноши, ясно, что при деньгах. В светлых нарядных рубашках, в брюках с переливом, с золотыми зубами и перстнями на волосатых пальцах, они вытаскивали из багажника машины корзинки с фруктами, тортом, конфетами и бутылками шампанского и коньяка.
Уходили они, как правило, утром. Алиса, сонная и смурная, вечно опаздывающая на работу, встречала их на лестнице. Они бросали на нее короткий, недвусмысленный оценивающий взгляд, ухали вслед и прицокивали зубами. Но почти всегда вежливо здоровались.
Нелька была одинокой – в дальней деревне, у родни, росла ее дочь. В гости к ней дочка не приезжала. Нелька ездила туда сама, возила гостинцы и деньги. Говорила, что дочка ее и родственники живут, «как короли и королевишны». Наверное, так и было.
К Нельке Алиса относилась равнодушно и не осуждала ее – впрочем, она ко всем относилась равнодушно, только бы ноги носили и хватало сил доползти до постели.
А уж как клеймили Нельку соседи! Но бодрости духа та не теряла, а смеясь отвечала:
– Завидуете! Третесь целыми днями возле своих мудаков, тычки ловите, и каждая хотела бы на моем месте оказаться! Что я, не знаю? – отвечала она бабам. – А я по жизни хозяйка. Надо мной начальников нет! И пьяный козел в мою койку не ломится!
Бабы перечисляли, подсчитывали Нелькино добро: две шубы, кожаное пальто. Вся в золоте. Как выйдет из дома – весь день на лестнице запах духов. Косметичка на дом ходит, морду ей массирует.
Три ночи Алиса не спала. А наутро позвонила в Нелькину дверь. Та стояла на пороге во всей красе – голубой стеганый халат, бархатные тапочки с меховой оторочкой, на голове бигуди, на лице толстый слой крема. Нелька держала в руке крупное розовобокое яблоко и меланхолически его жевала. На ее белой, полной шее переливалась крупная золотая цепочка с кулоном.
– Чего тебе? – равнодушно спросила Нелька.
– Поговорить – хрипло ответила Алиса и добавила: – Если можно.
Нелька так же равнодушно чуть отступила, давая зайти.
В квартире было красиво. Очень красиво было в квартире. И очень чисто. И еще – замечательно, просто сказочно пахло. Не луком и не сортиром, не вареной капустой и замоченным бельем. В Нелькиной квартире пахло свежестью, бодрящим воздухом, дорогими духами, шоколадом и кофе.
Полированная мебель с завитушками, хрустальная люстра с тысячами висюлек, ковер на полу. Цветы в вазах – раз, два, три букета. Шелковые гардины на окнах. Наверное, у Алисы были такие глаза, что Нелька хмыкнула:
– Что, нравится?
Алиса смутилась:
– Да. Очень. Очень красиво. И чисто.
– Ну а кому тут гадить? – отозвалась Нелька. – Мужа у меня нет, детей тоже. А мои гости, – она засмеялась, – люди вежливые и аккуратные. Да и некогда им сорить. Они же не сорить приходят, а?
Все правильно. Нелька права. Это не она шалава и дура! Дуры все остальные, замученные работой и бытом, родней и детьми. С авоськами, санками и детьми. Конечно, они завидуют Нельке, завидуют и ненавидят ее.
Нелька сварила кофе и поставила на стол коробку с конфетами. Потом оглядела девочку с какой-то жалостью и спросила:
– А может, ты жрать хочешь, а?
Алиса отказывалась, но хозяйка уже резала ей бутерброды – розовая ветчина, красная семга, свежий огурец. И это в апреле! С ума сойти – свежий огурец в апреле! Просто так, к бутерброду! Нет, так не бывает!
Алиса громко проглотила слюну и, не выдержав, взяла бутерброд. Хоть и неловко, но как же вкусно!
Нелька села напротив. Ей было жалко эту рыжую девочку – живут они трудно, плохо. Пьющая мать, брат только откинулся. Папашка, конечно, свалил. А эта – за всех. Ходит, шатается, бледная, тощая. Глазам больно смотреть. А ведь хорошенькая, только подкорми и приодень. Жалко девчонку.
– Ну, говори, – приказала Нелька, – зачем пришла? Времени у меня, – она метнула глазами на часы, – полчаса! Успеешь, уложишься?
– Успею, – коротко ответила Алиса.
Она откашлялась и начала.
Нелька слушала внимательно, не перебивая. Когда Алиса замолчала, удивленно посмотрела на нее:
– Да, мать, дела. Но я тебя понимаю.
Алиса глаз не поднимала – ей было страшно. Страшно даже подумать о том, что она сказала соседке, а уж произнести! Но у нее получилось – произнесла. Страшно после этого посмотреть на Нельку – сейчас разозлится да как погонит с пинком. И не дай бог – протреплется. Это будет самое страшное.
Но Нелька не разозлилась и даже не очень удивилась.
– Не дрейфь, подруга! – Она закинула ногу на ногу, закурила длинную черную сигарету, шумно, в лицо Алисе, выдохнув дым, и сказала: – Жизнь – такая штука! Сама нахлебалась, все знаю. Значит, так, слушай внимательно!
Алиса вздрогнула, вытянулась в струну и кивнула. Сейчас решалась ее жизнь.
Нелька объяснила, что у нее клиенты – постоянные.
– Это, знаешь ли, дорогого стоит – постоянных надо заслужить, наработать. Рекомендации, отзывы, то-се. – Было видно, что Нелька очень этим гордилась. Теперь она сама выбирала – с кем можно, а с кем неохота. – Я мечта поэта, понимаешь? – рассмеялась она. – А они все поэты! Нет, правда! Я блондинка, русская женщина в теле. С жилплощадью! Не наглая и не нахальная. Усекла? С моим контингентом быть наглой нельзя – народ они горячий. Ну для начала тебе хорошо бы отожраться. Кому нужны эти кости? – Нелька брезгливо оглядела Алису. – Они ж не собаки, они ж мужики! Тряпки, парикмахер, маникюр – ясное дело. Это вообще не проблема. Сложность вот в чем, девочка: где ты будешь принимать гостей с юга? Остается только гостиница. Да, не очень приятно, знаю. Привести их тебе некуда – вот и терпи. Потом, когда деньжат подкопишь, – снимешь квартиру. Но в гостиницу они соваться не любят – в смысле, с девочками. Там – менты, дежурные и прочая шушера. Всех надо подмазать, со всеми дружить. Противно? Да. Но пока так. А уж потом все будет зависеть только от тебя: есть мозги – будешь жить и своих тащить. Нет? Увы, ничего не попишешь. Не у всех получается, если по правде, не все выдерживают. Думаешь, здесь одна красота? Подарки и бабки? Нет, моя дорогая!
Нелька замолчала, уставившись в окно.
– Здесь тоже… Дерьма хватает. Ты мне поверь! Но мне-то что? Мне не жалко! Все покажу, всему научу! Сама все прошла, не в теории. – И Нелька, откинув голову, захохотала. – Меня-то не учил никто, сама до всего дошла. Так что, считай, тебе повезло.
– Я знаю, – тихо ответила Алиса. – Мне повезло.
Вскоре жалостливая Нелька подбросила ей пару клиентов, и дело пошло.
Через полгода у нее уже были свои клиенты. Только квартиру снять не получалось – не хватало денег. Расходы были огромными: больницы, врачи, лекарства для брата и матери. Теперь ей надо было одеваться, ходить к парикмахеру и косметичке, покупать дорогую косметику и нижнее белье – словом, следить за собой. В гостиницах было противно – под прицелом осуждающих взглядов. Да и менты попадались разные – кто-то хотел не деньгами, а натурой. Алиса стала привыкать к своей новой «профессии» – говорила, что через года два так окаменела душой, что почти забыла, что такое стыд и неловкость. Я ей не верил, понимая, какая она в душе и сколько ей все это стоит. Мать догадывалась, чем она занимается, но молчала. Удобнее было молчать. Появились деньги – появилась надежда вылечить сына.
Вскоре Алиса заметила, что мать стала брезговать ею – тщательно мыла после нее тарелку и чашку. И однажды бросила:
– Только болезнь дурную в дом не принеси, Сонечка Мармеладова!
Господи! И это сказала ей мать! После того, как она пошла ради нее на панель? Эти слова разрубили ей сердце.
Подступило такое страшное равнодушие, что после него уже совсем не было больно, так она говорила. Но я видел, что это не так.
– Зачем ты заговорила со мной у метро? – спросил ее я. – Зачем?
Она усмехнулась:
– А речь человеческую захотелось услышать! Нормальную, интеллигентную, московскую речь. Я все про тебя понимала – кутишь широко, но на последние. Выпендриваешься, пускаешь пыль в глаза. Мне было смешно и немножко грустно. И ты был смешной такой и милый чудак в заштопанных брюках. Я не ненавижу мужчин, нет. Скорее – презираю. Вот ведь – я совсем молодая, а не думаю о том, о чем думают мои ровесницы – свидания, поцелуи, букетики. Любовь.
Я думаю о том, чтобы мне хватило на то и на это. Ну и еще кое о чем – стыдно сказать, невозможно. Чтобы попался старый, немощный, слабый. Чтобы раз – и готово. Это и есть моя мечта. А молодой – не дай бог.
Знаю – тебе сейчас, после этих слов, станет невыносимо мерзко. Ты станешь меня ненавидеть. Прогонишь. И правильно сделаешь! Только не предлагай мне ничего, слышишь? Все равно ничего не изменится. Потому что я не хочу. Не хочу, и у меня не получится.
И она опять уходила. На день, на два. На неделю. А я снова ждал.
Возвращалась Алиса молча и на меня не смотрела. Да и я ни о чем не спрашивал – наливал ей чай, жарил картошку. Она ложилась на мою кровать, а я на скрипучую раскладушку. Она спала, и я слышал ее дыхание – сначала неровное, беспокойное, потом оно выравнивалось.
Во сне она вскрикивала, коротко, как ночная птица.
Мы редко занимались любовью, и это было какое-то странное действие – словно мы утешали друг друга. Только о любви я больше не говорил. Почему-то не мог.
И еще я не мог видеть ее муки. Однажды не выдержал и спросил:
– Тебе не кажется, что больше так невозможно? Надо что-то решать?
Она внимательно посмотрела на меня.
– Решать? А что мы можем решать? Вот ты, например! Ну давай, предлагай! Возьмешь меня замуж? Спасибо, не надо. Возьмешь на содержание? А на что? Сам еле сводишь концы с концами. Не продолжать? Ничего нельзя изменить, Максим! Ни-че-го! Все просто и очень банально: я проститутка, ты – нищий писака. Ни квартиры нормальной, ни денег. Перспектив – тоже ноль. И мать с братом я не брошу: лекарства, санатории, на все нужны деньги. Брат сегодня здоров, а завтра сорвался. Опять больница. Что, мне идти мыть подъезды? Да хоть бы и так, все равно ни на что не хватит. Вот и получается, что выхода нет, понимаешь? Совсем нет выхода. И не надо ничего придумывать. Все это сопли и глупости – спасти заблудшую душу. Ничего не изменится и никого не спасешь. Человек сам выбирает свою судьбу. Я могу потащить только вниз, за собой. Поверь мне – я женщина и все вижу лучше. И потом – какая из меня жена, Максим? Не смеши.
Я по-прежнему сходил с ума. Нет, не может так быть, чтобы не было выхода! Всегда есть выход, всегда! Вот, например, мы все бросим и уедем в деревню. За копейки купим старенький дом, разведем огород, кур, корову и будем жить натуральным хозяйством. А по ночам я стану писать.
Конечно, ее мать и брата мы заберем с собой, она их не оставит. Там, на воздухе, всем станет лучше. Да-да, это прекрасный и вполне возможный вариант! Лучше и не придумать.
Я воодушевился, рисуя себе эти пасторальные картинки – опушка леса, березки, осинки, теплое солнышко и крынка парного молока.
Алиса сразу остановила меня:
– Какая деревня, господи? А врачи? А удобства, наконец? Ты вообще понимаешь, что такое уход за больными? Корова, хозяйство… Ты идиот! Максим! Посмотри на свои руки! Нет, ты посмотри! Ты и хозяйство – смешно!
И я тут же сник, понимая, что она права.
Неужели и вправду все так безысходно? Никакого решения нет? Это убивало меня.
Будущего у нас с ней не было. А любовь? Была? Я не знаю. Знаю только острое чувство жалости, безысходности, тупика. И еще – страсть. Страсть, сжирающая меня.
Любовь-жалость. Жалость-любовь. Знаю – она была мне близким человеком, почти родным, как сестра. Да, Алиса была мне сестрой, младшей несчастной сестрой. Обиженной девочкой, попавшей в страшную, дикую ситуацию. Она была моим ребенком – хотя какой я отец? Но ради нее я был готов на многое.
Хотя с сестрой ведь не спят, верно?
Я стал собирать документы, чтобы подать на раздел квартиры. Я был готов к борьбе с матерью, готов идти до конца. Но в один прекрасный день мне позвонила соседка и сказала, что мать увезли в больницу – инфаркт.
Когда я пришел к ней, она удивилась, но виду не подала.
На мой вопрос, как дела, ответила в своей любимой манере:
– Как сажа бела, а что, незаметно?
Я смотрел на нее и думал, чего во мне больше: жалости или все-таки ненависти?
Мать здорово сдала, постарела. Но характерец оставался таким же. Я слышал, как она разговаривает с врачом – повелительно, пренебрежительно, с нескрываемым раздражением.
И врач, немолодой, наверняка опытный мужик, заведующий отделением, которого все боялись как огня, тушевался и растерянно бормотал:
– Да, конечно, уважаемая! Все будет так, как вы скажете!
А в коридоре, отирая пот со лба, посмотрел на меня с сожалением:
– Сочувствую, Максим Александрович! Матушка ваша – кремень!
Через двадцать дней мать выписали, и разговор о размене квартиры я больше не поднимал.
Два года, проведенные с Алисой, меня измотали. Я понимал, что эта дорога в никуда, дорога в ад. Эти отношения испепелили меня. Мы стали почти нетерпимы друг к другу.
Нет, я по-прежнему страшно скучал по ней, очень ждал ее, очень. Когда она возвращалась и я ее обнимал, во мне поднималось такое отчаяние, что мне становилось страшно. Страшно от диких мыслей, кипящих в моей уже давно безумной голове.
Она измучила меня. Вся эта жизнь измотала, измочалила меня до основания. Я пропадал от бессилья, от невозможности что-то изменить.
Однажды, когда я в очередной раз завел разговор о том, что надо что-то менять, Алиса взорвалась.
– А что ты можешь мне предложить? Эту комнату? – Она обвела глазами мою комнатушку. – Свою зарплату? Ведь если бы ты действительно хотел, действительно жалел и любил меня, то хотя бы устроился на еще одну работу! Да на какую угодно, господи! Разгружал вагоны, пошел бы в школу. Ты же, в конце концов, мужик! Но тебе проще выть, ныть, клясть судьбу, и все это – сидя дома и пописывая свои романы и статейки в журнал. Страдать от безделья и от любви – тебе кажется, что от любви. А никакой любви нет, понимаешь? Потому что, когда любовь есть, человек переступает через себя. И ему наплевать на свои амбиции. И он не брезгует ничем, понимаешь? А вот тебе не наплевать. Ты себя жалеешь, а не меня! Ты не любишь меня, Максим. Ты любишь себя.
– Да не строй из себя мученицу! – взорвался я. – Ради бога, не строй! Знаешь, иногда мне кажется, что тебе просто нравится такая жизнь! Ведь ты тоже могла, извини, работать! – Я замолчал.
Она кивнула и принялась собирать свои вещи.
Я ее не останавливал. Мне было наплевать. Впервые было наплевать. Вот и все.
Я помню, что рассказал эту историю Славке, своему институтскому дружку. Вызвонил его – мы сто лет не общались, а тут встретились в «Жигулях» на Арбате. Мне было необходимо выговориться, вывалить свою боль, поделиться.
Славка слушал меня и качал головой:
– Ну, старик, ты даешь! – И удивленно осведомился: – А что, нормальные женщины кончились? Нет, ты просто любишь страдать! Ты упиваешься своим благородством. Только благородства никакого тут нет, уж извини!
Этот разговор был какой-то точкой, краем. А уж когда Славка стал хвастаться фотографиями жены и детей, я вдруг понял, что хочу нормальную женщину и нормальную семью. Я устал от страданий – бесполезных, пустых страданий. Я хотел жить. Я хотел дом, очаг. Я устал от своей неустроенности, от своей нищеты.
И бог услышал меня. Я встретил Галю.
Марина
Я продолжала наслаждаться свободой. Вместе с Никой мы начали путешествовать – недалеко и недорого. Например, городки на Волге, Золотое кольцо, Новгород, Псков, Пушкинские Горы.
Мы садились на автобус или поезд, брали с собой бутерброды и термос и… вперед!
Мне было хорошо с дочерью. А ей это скоро наскучило. Ну что ж, нормальный ход событий. Я постаралась не обижаться. В конце концов, я уходила от нее на несколько лет, и она простила меня. А я мать. И мне положено прощать своего ребенка.
Занятость моя была невелика – три дня в неделю я работала в школе и четверо учеников приходили ко мне домой. Это было хорошей подработкой, и я за нее очень держалась. Три девочки и один мальчик, Сема, хороший, примерный и усидчивый. Двойняшки Лиза и Лида, девяти лет. Тихие, беленькие, похожие на одуванчики. Способностей никаких у сестер не было, но через слезы и усердия, упорство и упрямство у них кое-что получалось. Надеюсь, и мой вклад в этом был. Но мне было их очень жаль – я всегда не терпела занятий через силу, понимая, что все это зря.
Конечно, было бы честнее поговорить об этом с мамой девочек – такой же худенькой, тихой и беленькой, словно седой. Но я молчала – это был мой заработок и я боялась его потерять. Третью девочку звали Любой. Была она бойкая, говорливая и смешливая. Все ей давалось легко – математика, русский язык, секция спортивной гимнастики, плавание и занятия музыкой. Водила девочку бабушка, явно гордившаяся и умиляющаяся над талантливой и хорошенькой внучкой. Однажды ее привел отец – бабушка приболела.
Обычно родители ждали детей на улице или в соседней комнате – я предлагала им чай или кофе, давала журналы и книги. Мамы Семы и двойняшек всегда ждали детей в соседней комнате. А бабушка Любочки уходила: «Пройдусь по магазинам или просто подышу воздухом», – объясняла она. Мне, конечно, так было удобнее.
Любочкин отец, высокий, худощавый мужчина лет сорока пяти, с очень строгим и напряженным лицом, вдруг выразил желание остаться в комнате, где проходил наш урок. Я удивилась, а девочка, кажется, нет. Правда, смутилась, бросив на меня короткий и испуганный взгляд – как среагирую я?
Я растерялась – так было не принято. Но отказать я не сумела.
Он сухо представился:
– Геннадий Валерьевич.
Конечно, и я, и Любочка очень смущались – мы были под наблюдением, и наблюдением строгим. У девочки многое не получалось – сбивалась рука и она не попадала в ноты. Ну и я нервничала, поправляя ее. Краем глаза я видела, как недовольно хмурится ее отец.
После урока я предложила Геннадию Валерьевичу чаю. Он вежливо отказался и спросил, можем ли мы переговорить без Любы.
Девочка смотрела на отца во все глаза и, кажется, боялась нашего разговора. Я боялась не меньше, думая, что он недоволен успехами дочери и моим преподаванием. И значит, в лучшем случае предъявит претензии, а в худшем откажется от занятий.
Он сел напротив меня, и я поняла, что он тоже смущен. Это немного меня успокоило. Разговор получился мирный – обычный разговор о способностях дочери и ее перспективах. Геннадия Валерьевича интересовало мое мнение о его ребенке – что ж, это было его право.
Разговор, казалось бы, закончился, но уходить он не спешил. Совсем неожиданно для меня он стал рассказывать о своей семье и о Любиной матери. Теперь мне стало понятно, почему я ни разу не видела ее – его жена была тяжело, неизлечимо больна. Болезнь была страшная, затяжная – рассеянный склероз. Она давно обезножела и почти не сохранила разум. Впрочем, иногда наступали просветления, и она кое-что понимала. Бедная женщина страдала оттого, что обрекла своих близких на муки, что ее муж, крепкий, молодой и здоровый мужчина, прикован к ней обязательствами, как она прикована своей болезнью к кровати.
Я молчала, не зная, как утешить и что сказать.
Наконец Геннадий Валерьевич закончил. Молчание наше было неловким и тягостным. В конце концов, мы были чужими людьми. Я молила бога, чтобы он поднялся и ушел. Он, словно очнувшись, извинился передо мной:
– Простите, минутная слабость. – И, не поднимая глаз, надел пальто и стал застегивать пуговицы, не попадая в петли. Я видела, как у него дрожали руки.
Спустя три дня в мою дверь раздался звонок. Ники дома не было. Я удивилась – у дочки был ключ, а гостей я не ждала. На пороге стоял Любин отец, держа в руках букет желтых гвоздик – моих любимых цветов. Я вспомнила, что о цветах мы говорили с его дочерью.
Несколько минут мы молчали, борясь с неловкостью. Наконец хриплым от волнения голосом он сказал:
– Вы, кажется, предлагали мне чай? Не передумали, Марина Николаевна?
Окончательно растерявшись, я неуверенно кивнула и успела подумать: зачем он пришел? К чему такой странный визит? Он совсем не тянул на ловеласа и бонвивана, этот сухарь Геннадий Валерьевич. Но что поделать, конечно, я пригласила его войти, в конце концов, он отец моей ученицы. Может быть, он хочет еще поговорить о Любочке? Да конечно же, наверняка поговорить как с педагогом, как с женщиной. Ситуация в семье тяжелая, женского глаза за девочкой нет – пожилая бабушка не в счет, я понимаю.
Мы сели пить чай. Разговор снова не клеился. Мы явно стеснялись друг друга. Наконец мой нежданный и странный гость заговорил: он хочет быть честным и ничего не утаивать. Его семейная ситуация мне хорошо известна. Его жена, мать девочки, давно и тяжело больна. Теща да, помогает. Помогает изо всех сил. Без нее он бы не справился. Он очень много работает, днями пропадая на службе – этого требует его высокий пост. На личную жизнь времени не остается. Он еще вполне молодой и здоровый мужчина. Случайные связи? Да, изредка, но бывают. Но это его совершенно, категорически не устраивает. Это – не его вариант, не его случай.
– Вступление закончилось. – Геннадий Валерьевич попытался улыбнуться, но получилось не очень.
Я продолжала молчать.
– Теперь о главном, – хрипло сказал он. – О том, в чем состоит смысл моего визита.
Ему нужна свободная, незамужняя, интеллигентная женщина средних лет, готовая к честным отношениям. Каким? Да все прозрачно и просто – встречи один или два раза в неделю, культурная программа, театры или концерты. Прогулки, кафе. Поездки в отпуск – правда, отпуск у него короткий, дней десять-двенадцать, не больше. Но можно прекрасно отдохнуть и за десять дней, верно? Ну и финансовая поддержка, что вполне естественно. Словом, ничего обременительного и все в рамках приличий. Словом, он предлагает мне отношения, удобные для нас обоих.
– Ничего плохого, правда? Вы мне понравились, Марина Николаевна. Я вижу, какой вы человек. Уверен, что не ошибаюсь. Да и дочь о вас отзывается только в превосходной степени, что очень важно. Надеюсь, что вас ни в коем случае не оскорбило мое предложение. А если это не так, прошу великодушно простить и готов принести извинения. У меня нет времени на ухаживания, на намеки, на общепринятую ерунду – ни времени, ни желания. Мы взрослые и много пережившие люди. Я знаю о вашем вдовстве, извините. Мне кажется, что так честнее. Еще раз простите. Поверьте, обидеть вас я не хотел! И понимаю, как дико все это звучит. – Он помолчал, а потом тихо добавил: – Как вы понимаете, свою жену оставить я не могу. Иначе я бы считал себя подлецом.
Мы оба молчали. Я была так обескуражена, что не знала, что и сказать. Я не обиделась, нет. Я понимала – он честен. Я вспомнила Юри и всю ту ложь, что была вокруг нас. Так что получается? Лучше такая правда, чем та ложь? И все-таки я не знала, как реагировать.
Наконец я справилась с собой.
– Странный, однако, ход, – выдавила я из себя. – Спасибо, конечно, за честность и откровенность, но, честно говоря, я растеряна, что уж скрывать. Знаете ли, подобное предложение, мне кажется, делать не совсем прилично, что ли? В сущности, вы предлагаете сделку, вам так не кажется? Но между мужчиной и женщиной должны быть какие-то чувства, не так ли? Если не любовь, то хотя бы симпатия. Или я не права?
Геннадий перебил меня:
– Вы правы в одном – это звучит более чем странно. Но я считаю, что поступаю правильно. Вы приличный человек, и к чему вас обманывать? Только это не сделка, по моему разумению. Это – честный подход к ситуации. Обманывать вас мне бы не хотелось совсем, вы этого не заслужили. Я отношусь к вам с большим уважением и, конечно, считаю, что между мужчиной и женщиной должна быть симпатия. Но на сегодняшний день я предлагаю вам дружбу. Только дружбу, и все! Ну а там как получится! И снова простите, если я вас обидел! И в мыслях такого не было, поверьте! Я и решился на это только потому, что глубоко вас уважаю, а значит, не хочу врать! Да и потом, Марина Николаевна, в нашем возрасте трудно найти пару. Ну не на танцы же, ей-богу, нам ходить. А уж в моем двусмысленном положении…
Теперь я смутилась и растерялась окончательно – в конце концов, мы взрослые люди, он прав. Ну предложил человек встретиться – сходить в кино или в кафе. А я сразу на рожон и в обиду. Он действительно честен со мной, и его откровенность ему в плюс, а не в минус.
– Ну хорошо, – примирительно сказала я. – Наверное, вы правы. Давайте попробуем. Сходим в театр или в кино.
Мне показалось, что он обрадовался, по крайней мере оживился и облегченно выдохнул. Я понимала – ему было непросто, сложнее, чем мне. Честным всегда быть сложно, проще соврать. Быстро взглянув на часы, он поднялся и извинился – дела.
– Да, конечно! – обрадовалась я. Этот визит и разговор, как ни крути, были для меня очень тягостны.
У двери, надевая пальто, он улыбнулся:
– Может быть, все-таки обойдемся без отчества? Оставим только волнующее «вы»?
Я, не сдержавшись, процитировала:
– «Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало. На грош любви и простоты, а что-то главное пропало».
Мы договорились встретиться в субботу.
В конце концов, а разве меня не устраивает такое положение вещей? Разве мне нужно что-то другое? Я давно не хочу замуж – перехотела и привыкла к своей свободе. И это совсем не та ситуация, которая была у нас с Юри? Нет, нет и нет! Будет ли меня мучить совесть? Я же дала себе зарок – больше никогда с женатым мужчиной! Но здесь ситуация все же иная – его жене это не принесет никакой боли. Она просто не узнает, не поймет, что происходит.
Ладно, чего загадывать? Что будет, то будет. Надо отпустить ситуацию. Собственно, так я и поступила, но это далось мне непросто.
Так же, как непросто давались отношения с дочерью. Ника полгода встречалась с парнем. Он мне не нравился. Напыщенный индюк – так я его назвала. Был он прост как сапог и понимал это отлично. А вот выглядеть хотел сложным – пыжился, пыхтел и кряхтел, врал про свою семью и свое образование, которого, естественно, не было. Пустой человек, но Ника видеть этого не хотела.
С ним совершенно было не о чем говорить. Любая тема, поднятая мною, затухала на полуслове. И что в нем нашла моя дочь? Не понимаю. Но я видела, что он ей нравится. Она льнула к нему, заглядывала ему в глаза, старалась ему угодить. Было стойкое ощущение, что она боится его потерять.
Дочь понимала, что я недовольна этим союзом.
– Что тебе не нравится в нем? – допытывалась она. – Не вышел образованием?
– И этим тоже, – кивала я.
– Да, он простой, – закипала она. – Но он надежный. А мне, мама, уже почти двадцать пять!
– И что? – удивлялась я. – Ты так говоришь «двадцать пять», как будто тебе семьдесят восемь!
– Ма-ма! – отвечала она. – Замуж пора выходить, понимаешь? Замуж! И ребенка рожать! Если получится.
Я вздрогнула. Получается, Ника все время вспоминает о том своем аборте и боится, что у нее не получится?
Господи, не дай бог! Только не лишай ее этого! Пусть только будет ребенок! А от кого – правда не важно.
Вскоре она переехала к своему парню. Нравилось мне это или нет – второй вопрос. У них, кажется, было все неплохо. По крайней мере, я видела это по дочери. Как-то я заговорила про свадьбу и загс. Ника подняла меня на смех:
– Мам, ты о чем? Какая свадьба? А нам это надо? Вся эта бессмысленная суета и трата денег?
Странные они, эти молодые. А я в свое время так мечтала о свадьбе! И еще – они думают о ребенке. Значит, думают о семье. А где семья, там и брак, разве не так? Только с ребенком у них не получалось. Три года, и ничего. Но я гнала от себя черные мысли.
В те дни я много думала о Геннадии. Нравился ли он мне? Скорее нет, чем да. Это не мой тип мужчины. Совершенно не мой. Но и противен он мне не был. А может, он прав? В конце концов, надо попробовать. Сколько женщин вокруг – одиноких и замужних, мыкающих одни проблемы и беды. А тут приличный мужчина. Да и что он мне предлагает? Никаких забот – одни развлечения и удовольствия.
В субботу мы пошли в театр. Я смотрела на него со стороны – высок и подтянут, в хорошем костюме. Да, суховат. А кому нужен балагур или гуляка? Мельком я глянула на нас в зеркало – мы прекрасно смотрелись. Ну и решила – будь что будет.
С того вечера начались наши отношения. Это были именно отношения – ни о какой любви не было и речи. Как ужасно это звучит – «отношения», «мы в отношениях»! Мы проводили время, именно так: ходили в театры, в кино. Иногда сидели в кафе. Пару раз съездили на море – в Сочи и в Турцию, в Белек.
Он пытался помочь мне материально – пытался, врать не буду. Но денег у него я не брала, мне было неловко чувствовать себя содержанкой. В конце концов, я с ним сошлась не из-за денег. Я сошлась с ним из-за страха остаться одной.
Казалось бы, ничего плохого – у меня был мужчина. Формально женатый. Только формально. Я не ревновала его к жене, как ревновала Юри. Геннадий был мне верен. Он был порядочным и интеллигентным, но мы никогда не говорили с ним откровенно, начистоту – о моих проблемах. Его просто не волновала моя жизнь. Я не могла поговорить с ним о дочери или о маме, о своей работе. Я не могла поделиться с ним своими сомнениями – я понимала, что это его не волнует. Ему абсолютно неинтересна моя жизнь – прошлая, настоящая и будущая, ему хватало своих проблем.
Мы почти не разговаривали – так, о планах на вечер или на выходные. Но надо сказать, что и меня он не грузил – ни разу не сказал о проблемах с женой или дочкой.
Мы вообще не разговаривали, как могут говорить близкие и родные люди. Я по-прежнему была наедине сама с собой – мне бы и в голову не пришло делиться с ним своими печалями.
Получается, я по-прежнему оставалась одна. У меня по-прежнему не было рядом плеча и жилетки. Я все так же решала свои проблемы сама. Тогда – зачем всё? Ответ находился сразу – у меня был мужчина, я спасалась от одиночества.
Иногда меня посещала мысль расстаться с ним. Только потом возникала другая – а зачем? Разве это так обременительно – наши свидания? А то, что он совершенно чужой мне человек – сколько людей так существуют! Просто однажды я с этим смирилась. Смирилась и все, тему закрыла.
Однажды я все-таки решилась взять у него деньги, решив, что, пожалуй, хватит строить из себя святую. В конце концов, у нас договор – ты мне, я тебе. Да и смешно в моем-то положении – я дважды имела связь с женатыми мужчинами. Какая я святая? Хватит изображать из себя монашку. Мы пользуемся друг другом – он создает иллюзию, что я не одна, а я обеспечиваю ему стерильную интимную жизнь. Вот здесь он совершенно спокоен! Ну, значит, по-честному!
Как-то я разговаривалась с коллегой – Инга давно развелась, и все эти годы у нее никого не было, не то что мужа – даже любовника.
А Инга была хорошенькой. Очень хорошенькой. Мы разговорились – конечно, в школе все знали, что у меня есть мужчина. Я ничего не рассказывала – просто Геннадий иногда встречал меня после работы.
– Повезло тебе, – вдруг сказала Инга. – Такой приличный мужчина! И кажется, совсем не бедный, а?
Я растерялась и что-то промямлила.
– А, понимаю! – кивнула Инна. – Замуж очень охота. А он не женится, да?
– Нет, – спокойно ответила я. – Вот что точно – замуж за него мне неохота!
– А что же тогда? – прищурилась Инга.
Я вяло махнула рукой:
– Ну знаешь… Все это сложно.
– Брось! – резко сказала она. – Тебя бы на мое место! Я уже десять лет одна И – никого! Понимаешь, совсем никого! Не то что для отношений – элементарно для секса! А я, между прочим, живая! И еще вполне молодая и здоровая женщина. А у тебя – приличный мужик. Курорты и кабаки. Тряпки и театры. И ты еще будешь мычать про сложные отношения? Да тысячи баб мечтали бы оказаться на твоем месте! Хватит выпендриваться, Марина! Приди в себя! – И Инга расплакалась.
Как же мне стало неловко! Господи, Инга права, я и вправду выпендриваюсь! Я поняла – многие мне просто завидуют. Ох, знали бы они, что завидовать нечему! Впрочем, у всех взгляд на эти истории разный.
Иногда я смотрела на него, и у меня появлялась такая тоска! А иногда… Да что я придумываю! Хороший мужик. Симпатичный, нежадный. Интересуется театром и живописью. Спортивный, без вредных привычек. Что мне еще надо, такой привереде?
Только чужой. Близким и родным он мне так и не стал.
Мама, конечно, была счастлива: у меня наконец появился мужчина, приличный, солидный. Возит в отпуск, водит в театры и рестораны, покупает одежду. Я слышала, как она делилась этим с подругами.
А что было у меня на душе? Так зачем расстраивать маму?
Вот только о дочке болела душа. Я видела, что Ника несчастлива. А что у них там происходит, не знала. Я спрашивала ее, что да как, и понимала – ее злят эти вопросы. И все же пыталась понять – в чем там дело?
Она со мной ничем не делилась. Приезжала редко, почти ничего не ела, много курила и пила черный кофе.
Что у них происходит, господи? Она по-прежнему отвечала однозначно и предельно коротко:
– Мам, у меня все нормально!
А про ребенка спрашивать я боялась – понимала, что не получается.
И ничего нормального не было, ничего не было нормального в нашей семье ни у нее, ни у меня…
Да ладно, обычное дело. Много на свете счастливых людей? Довольных – да. Сытых во всех смыслах и радостных – тоже. А вот счастливых немного.
Мне есть с чем сравнить. У меня был Сережа.
Максим
Галка. Моя Галка. Подарок судьбы. Я не ожидал такого бонуса.
После всего, что со мной было. После Ирки, которой я, по сути, сломал жизнь. После тяжелых отношений с Ниной, жизнь которой я тоже изгадил. Ну наказание – морок с Алисой, почти раздавивший меня. После всех моих дурацких баб, только выстуживающих душу и наполнявших ее тоской и сквозняком.
После моих неудач, уверенности в том, что я – никчемный, мелкий и пустой человечишко. Когда вера в самого себя давно оставила меня. Когда я, абсолютный циник и скептик, давно не ждал от жизни хорошего.
Галка спасла меня – в буквальном смысле этого слова. Она сделала меня, как говорят сейчас. И это не слова, это чистая правда. Кем я был до нее? Неудачливым писакой, поддавалой и закомлексованным нищебродом. Кем стал я с ней? Знаменитым писателем и обеспеченным человеком.
У меня появился дом, уютный и теплый, вкусный и гостеприимный. Дружить с нами и бывать у нас считалось хорошим тоном – известный муж-писатель и красавица жена, умница и отменная хозяйка.
Когда мы сошлись, она со смехом рассказывала знакомым: «Вижу – приличный мужик! Симпатичный, стройный, седовласый. Но неухоженный, несчастный и неприкаянный. В глаза бросалось – нет тут женской руки. Даже обидно стало: такая фактура – и пропадает! А уж когда узнала, что он еще и талант… Ну, думаю – я не я, если не сделаю из него человека!» Это было мило и остроумно, и я смеялся вместе со всеми. Смешно обижаться на правду. Галка всегда и во всем была права, и у меня хватало мужества это признать.
Для начала я переехал в ее квартиру – сопротивлялся я долго, но Галка настаивала. И все же мне было неловко. И тут же она за меня взялась. Приодела, отвела к хорошему парикмахеру, потом к своему дантисту – и я, по ее словам, «уже стал похож на что-то».
Я пытался сопротивляться, а она отвечала со смехом:
– Ты не стесняйся! Все отдашь сполна – это я тебе обещаю!
Я внутренне сжимался и не представлял, как буду отдавать все свои долги. Я не был альфонсом.
Наконец, закончив с моим внешним видом и приведя меня «в порядок», Галка занялась самым важным – принялась делать из меня писателя.
Романов моих она не читала – она вообще ничего не читала, кроме глянцевых изданий. Ну что поделать – не может же быть все в одном человеке. Она так и говорила:
– Ты в доме главный, а я все остальное!
Только я вряд ли был главным Это была ее игра, женская хитрость. Но меня это устраивало: я творец, и меня уважают. А на участие во всех остальных вопросах я не претендовал.
Галка принялась за дело. Первым долгом показала мои опусы писателю М. писатель М. был человеком известным еще с советских времен – титулованный, растиражированный. Потом, конечно, его времена прошли – на небосклоне вспыхнули другие звезды, звезды нового времени. Но квартира на Фрунзенской и дача в Переделкине остались. Также оставался и статус большого писателя. Писатель М. мои рукописи прочел – книг он уже не писал, но новыми знакомствами не брезговал, потому что страдал от тоски на своей замечательной даче. Прочел и с удивлением сказал Галке:
– А что это твой не рыпался? Сидел в окопе? Дурак! Пол-России несчастных, рыдающих баб и мужиков-неудачников! Его аудитория, понимаешь, его электорат? Пойдет, пойдет твой миленький, не сомневайся! Это я тебе говорю!
– Слушай, – сказала моя озадаченная жена, – а чего ты и впрямь не рыпался? Мог бы подсуетиться, сунуться в этот союз. Авось бы и вышло!
– Да не хотел, – вяло ответил я, – ошиваться там не хотел. Не хотел я в этот террариум. В партию вступать не хотел, спать на партсобраниях не собирался. А без этого тогда никуда. А еще не хотел драться за заказы и командировки. Завидовать более успешным и сплетничать, просиживая задницу в ресторане Дома литераторов.
– Ну и дурак! – припечатала меня жена. – может быть, дачу бы в Переделкине получил! Мир посмотрел. «Не хотел!» – повторила она. – А что хотел? Жить в конуре, пить портвейн и спать с немытыми бабами?
Я сделал вид, что обиделся. Но понимал, что опять моя Галка была права. Так все и было.
Писатель М. на старости лет стал сентиментальным и благородным – наверное, мучила совесть за многое. Он и подкинул моей жене телефончик знакомого редактора – опытного, древнего, но еще на плаву.
Тот подтвердил слова классика М. и назвал меня готовым и перспективным автором, передав мои рукописи в большое издательство, и… понеслось! Тираж моей первой книги был небольшим – всего две тысячи экземпляров. Конечно, без рекламы не обошлось. Но издатели знали, на что шли, чутье у них было необыкновенное. Вторая и третья книги вышли тиражом в шесть тысяч. Меня назначили писателем, Галка снова оказалась права.
Это было забавно – где же раньше были эти редакторы? Почему столько лет не замечали меня, такого перспективного и своевременного? Смех, да и только.
Но правда была в одном: издательство – структура коммерческая. Там ни за что не возьмут автора по блату или за деньги. Не сомневаюсь – когда я отсылал свои рукописи в издательства, меня, скорее всего, не читали. Или читал неумелый и неопытный редактор, даже не читал, а мельком просматривал.
Такое бывает.
Тут же мне был сооружен кабинет с шикарным дубовым столом, темными шторами из зеленого бархата, зеленой же лампой и старинным антикварным серебряным чернильным прибором на полстола. Для значительности, как объявила жена.
Признаться, я не ожидал такого успеха. Вера в себя давно была потеряна – я всегда был человеком слабоватым и бесхарактерным. Но – старая истина – читатель далеко не дурак! В первый раз ему можно что-то подсунуть, сделав хорошую рекламу и пиар. Но если ты написал полную чушь, то во второй раз тебе ничего не поможет – ни самая дорогая реклама, ни все остальное. Тебя просто не купят. А значит, мои книги были правда стоящими.
После первого романа последовал контракт на второй. Презентации, телевидение, СМИ. Меня расхватывали, рвали на куски, называя «открытием года». Сработало ловко придуманное пиарщиками мое «диссидентское» прошлое. Боже, да не был я диссидентом – смешно. Тоже мне – жертва режима. Критики сравнивали меня с Довлатовым. Мне снова было смешно и неловко, но, признаться, приятно. Тиражи мои росли, а гонорары росли пропорционально тиражам. Я стал знаменит и узнаваем. Издательство носилось со мной как с писаной торбой.
А как уж гордилась мною жена! Но про свое участие в моем успехе не упомянула никогда, ни разу в жизни, ни намеком, ни словом! И еще – моя гениальная жена наладила отношения с моей матушкой, сделав то, что было мне не под силу. Она наезжала к ней в гости, возила лекарства и гостинцы, доставляла лучших врачей и хвалилась моими успехами.
И матушка, кажется, впервые до меня снизошла. Правда, не забывая мне повторять, что все это – заслуга Галки. Ссориться с нами ей было невыгодно, она отлично понимала – уж если не на нерадивого сына, то на невестку она рассчитывать может.
В общем, кто был никем, тот станет всем.
У нас все было прекрасно – статус, деньги, друзья. Мы много путешествовали, хорошо одевались, наблюдались у лучших врачей, завели домработницу.
Мы были красивой парой. Мы были успешной парой. Мы были небедной парой. Мы были счастливой парой.
Счастливой. Конечно, счастливой!
Только почему мне иногда становилось не по себе? Почему казалось, что я не на месте, что я проживаю не свою, а чужую жизнь? Что временами не давало мне покоя?
Этого я и сам себе не мог объяснить. Казалось бы, наступила та жизнь, о которой я и думать не смел. В самых сладких мечтах мне не грезились такая женщина, такой дом и такой успех. Такие деньги и такая известность.
Так почему же мне часто было так муторно? Что точило меня, что тревожило?
Я задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Нет, я определенно гад и сволочь, дурак. Я гневлю бога, гневлю судьбу. Я неблагодарная и тупая скотина. Да как я могу, как? Как я могу роптать на судьбу?
Ну не читает она моих книг. А что толку, что Нина их читала – критиковала, находила стилистические ошибки, спорила со мной, ругала и хвалила меня? Что это мне дало? Нет, я прислушивался, конечно, Нина была для меня авторитетом. Но что из этого вышло? Вот именно – ничего.
На что мне, дураку, обижаться? Ведь тысячи и тысячи людей на этом свете мне бы позавидовали. Так что корежит меня, что смущает?
Да, с Галкой, конечно, не поговоришь о высоком. Ей неинтересны мои творческие планы. Ей вполне достаточно того, что ее муж успешный писатель. У нее есть свои интересы, подружки, сын, внучки. Своя жизнь – разве это плохо? Она не растворилась во мне, как чеховская Душечка. И это же хорошо! Что я опять ною? Галка – самый близкий мне человек, и никого у меня ближе нет. Да разве в браке важно духовное родство? Нет и нет! Брак – это постель и стол, как сказал знаменитый писатель. И он совершенно прав. Надо работать и не ждать от людей того, что они дать не могут. Моя Галка – человек реальный, рациональный, земной. Так это же хорошо. Мы отлично дополняем друг друга. Мы отличная пара. И мы получили друг от друга именно то, что хотели. У нас все прекрасно, складно и ладно, всем бы так.
И нельзя сказать, что Галка мне не помогает в творчестве. Когда она в Москве, то постоянно меня, лентяя, контролирует. Я раздражаюсь, ору, но понимаю, что ее присутствие меня здорово мобилизует.
После завтрака, обычно позднего, часов в двенадцать, Галка пристально смотрит на часы и спокойно. но так, что и не возразишь, говорит:
– Все, Макс. За работу. Время вышло.
И я со вздохом плетусь в кабинет.
Через два часа она осторожно, не дай бог сорвать творческий процесс, на цыпочках, заходит ко мне с подносом: чай и вазочка с чем-нибудь углеводным, например, печеньем, вафлями или пряниками, для улучшения мозговой деятельности.
Я снова хмурюсь и всем видом показываю, что я недоволен: процесс пошел, мне не до глупостей, но это для виду, чистое кокетство. А на самом деле я радуюсь, как дитя: передышка моя законная и заслуженная.
Галка аккуратно ставит поднос на стол и заглядывает в ноутбук – проверяет количество знаков. Обмануть ее невозможно.
Если она видит, что работа стоит, то хмурит брови:
– Максим, как же так?
Я тут же обижаюсь и начинаю гнусавить, что я не бухгалтер и не токарь. Я писатель.
– А писательство, видишь ли, – это отнюдь не конвейер, моя дорогая! Писательство – это вдохновение, если хочешь! И бывает, что идет или не идет! – обиженным голосом поясняю я, мстительно добавляя: – впрочем, тебе не понять.
Галка вздыхает – ей мои штучки знакомы давно.
– Да брось ты! – отвечает она. – Ты еще мне про Музу чего-нибудь расскажи! Пришла, не пришла! Писательство – это такая же работа. Рутина, ремесло. А про все остальное ты расскажешь своим поклонникам на читательской встрече. Вот они тебе, творцу, точно поверят! Но только не я. Твой труд – такой же труд, как у всех остальных! И тебе не меньше, а больше, чем остальным, нужна ежедневная тренировка мозгов и умственная разминка. К тому же, если ты случайно забыл, есть дедлайн. И твой замечательный редактор ждет рукопись с нетерпением. А если ты не сдашь в срок… Максим! Ты все знаешь не хуже меня! Зачем нам эти неприятности, дорогой? Хочу напомнить, что пора перестилать крышу в доме. И делать это именно летом, а не зимой! – С этими словами она гордо удаляется из кабинета.
И снова Галка права: моя лень и расхлябанность – не оправдание. Действительно, есть контракт и есть дедлайн, это правда. И в день я должен – просто обязан! – сделать определенное количество знаков, иначе никак, не успею. И про новую крышу Галка права. Крыша подтекает, и ее надо перекрывать. В конце концов, этот загородный дом она построила для меня, чтобы я жил и работал на воздухе, в тишине и покое. Только дом этот я полюбить не сумел – такая вот ерунда. А дом отличный, современный, красивый, удобный. Да и что могла построить моя гениальная жена?
Мой дачный кабинет на втором этаже – в мансарде. Так почему-то представляется моей жене – писатель должен творить в мансарде. А кабинет и вправду хорош – прямоугольный, отделанный темным, цвета крепкого чая, деревом. Со старинной люстрой и старинным мутноватым зеркалом, с торшером на львиных ногах – антик, как говорит моя жена. С глубоким и удобным креслом с кожаными подлокотниками, с персидским ковром в пастельных тонах. Из кабинета выход на балкон. Там диванчик, столик и кресла. Все для моего удобства, все для комфорта – перекурить, выпить чаю, полюбоваться на кроны изумрудных елей, послушать мерный голос кукушки. Словом, передохнуть от трудов праведных. Расслабиться и вновь зарядиться.
Там, в моем дачном кабинете, я даю интервью, там меня любят снимать киношники и телевизионщики. Там все прекрасно. Только почему я не полюбил этот красивый, уютный дом? Почему мне там не работается? Это загадка. Галка старалась из всех сил, не привлекая меня к строительству и отделке, – я приехал, когда все было готово, стояла мебель и висели гардины.
Я – существо из другого мира. И все низменное, хлопотное, земное – не для меня. Это придумала Галка, и она же растиражировала. Ну а я поддался игре – мне так было удобно. На самом деле я отстранен от дел земных, чтобы ей не мешать! Но я знаю коллег по перу, отлично справляющихся с любым земным делом – будь то строительство дачи, починка машины или засолка капусты. У многих есть различные, вполне человеческие хобби, например сад или огород, столярная мастерская, где мои коллеги по цеху строгают и клеят отличные стулья. Один известный писатель, мой хороший знакомый, отлично печет пироги и варит шикарный хаш. Не все творческие люди безруки и бестолковы.
Конечно, я неловок во многом – например, в общении с рабочими. На меня они вообще не обращают никого внимания, словно меня и нет. Разговаривают всегда с моей женой, чувствуя в ней строгую хозяйку, которая распоряжается финансами.
Для полного комфорта жена наняла мне прислугу – хорошую тетку из местных. Она приходит через день, готовит простую, деревенскую вкусную еду, вроде толстенных, дырчатых, кисловатых оладий, которые она щедро поливает деревенской сметаной. Или варит густой ярко-желтый куриный суп из домашней курицы – жирный, ароматный и безумно вкусный. Она же убирает, стирает и гладит мои вещи, пропалывает клумбы с цветами и при этом молчит, словно глухонемая, что устраивает меня больше всего. Потом я узнал, что Галка запретила ей разговаривать со мной, отвлекать.
Нет, дом был прекрасен. Но мне там совсем не писалось. Вымученные строчки выходили корявыми, неловкими, кургузыми, нескладными. Я расстраивался, выключал ноутбук и подолгу сидел на балконе, бездумно вглядываясь в синеву неба. Галка приезжала примерно раз в три дня, притаскивала сумки продуктов и ревниво осматривала дом – все ли в порядке?
Конечно, она находила изъяны – тетка была деревенской, про японские моющие средства не знала и обиженно объясняла хозяйке, что на мебели осела липовая пыльца, а не придорожная пыль.
Жена сурово отчитывала ее и за готовку, вдалбливая этой простой деревенской женщине, что жирная курица и домашняя сметана – источник холестерина, который ее драгоценному и гениальному мужу наносит несокрушимый вред. Я слышал, как тетка плакала втихомолку, искренне не понимая, в чем она не права.
Я вспоминал другой дом – нет, домишко, избушку на курьих ножках, в которой я бывал несколько раз.
Была она в деревеньке Масолово, что во Владимирской области, где я был первый раз с Петькой, моим единственным закадычным дружком. Во второй раз я приехал туда после тяжелого и затяжного развода с Ниной, а в третий – после истории с Алисой, когда был ходячим трупом.
В Масолове жила дальняя Петькина родственница, звали ее баба Зина.
С опухшими от месячного пьянства рожами, небритые и немытые, мы поехали туда с Петькой, желая прийти в себя после каких-то кошмарных московских загулов.
Баба Зина критически оглядела нас, вздохнула и пошла топить баню. После бани, совсем обессиленных, она нас накормила густыми кислыми щами, заставила выпить какой-то вонючий травяной отвар и уложила спать. Наутро мы проснулись людьми.
Уже тогда, в восьмидесятых, деревенька была совсем хилая и полупустая – молодежь рванула в город, оставались одни старики. Вдоль единственной улицы стояли полуразрушенные и брошенные дома – жалкое и грустное зрелище.
Старики доживали свой век. Грустно доживали, бедно и трудно. К кому-то иногда, очень редко, приезжали дети – привозили продукты, лекарства. Сельского фельдшера было не дождаться. Раз в неделю в деревне появлялась продуктовая лавка – и это было самое главное событие. Лавка стояла час, не больше – впереди было еще пару заброшенных деревень. А вот очередь собиралась с раннего утра, часов с шести. Старики вглядывались в пыльную дорогу – когда появится старенький «лиазик» и привезет сказочные дары. Дары были более чем скромны. Конечно, хлеб – его брали мешками. Маргарин или неопрятный жир в пол-литровых банках. Удача – если селедка, мороженый и давно оттаявший минтай. Твердые пряники, дешевое, крошащееся печенье, простенькие карамельки и конфеты «Школьные», особенно любимые местным народом. Мука, сахар, серые, толстенные макароны, превращающиеся при варке в неаппетитную кашу. Иногда консервы – частик в томате или килька. Почти всю пенсию оставляли старики в этом сказочном Эльдорадо.
Но домой шли довольные – в доме был праздник. Держались на натуральном хозяйстве, на огородах, ягодах, грибах. Те, кто покрепче, держали кур и даже кабанчика. Мясо видели редко – слишком дорого, да и где взять?
Бабка Зина оказалась суровой и крепкой, отнюдь не старой женщиной. Было ей слегка за пятьдесят. Конечно, деревенская жизнь выхолостила ее – руки, лицо были в глубоких морщинах. Судьба ее, как и большинства российских женщин, была обыденна и трагична – муж помер от пьянства, сына зарезали в пьяной драке, а непутевая, по ее собственным словам, дочь сгинула сто лет назад, подавшись в город на заработки и поиски личного счастья.
Но баба Зина жила.
– А куды денешься? – говорила она. – Раз уж бог отпустил.
Хозяйство у нее было крепкое – огромное поле «картохи», главной еды на селе, яблоневый и вишневый сады, с десяток кур, древних, как баба Зина, и маленький кабанчик Степка – визгливый и наглый.
Была еще и стойка с «кролями» – плодились они с катастрофической быстротой, и это была основная мясная пища.
В доме была поразительная чистота – полы баба Зина скребла скребком, половики стирала и сушила на солнце, чугунки и кастрюли сверкали, а на столе лежала ветхая, но белая скатерть.
Селила она меня каждый раз в комнате сына, где стояли стол, кровать и шаткий стул. По ночам меня будил ее богатырский, мужской храп. Но я был счастлив – ах, как мне писалось в Масолове! Пожалуй, так не писалось нигде. Два своих лучших романа я написал именно там. Что значит лучших? Я сам был ими доволен, точнее, мне за них не было стыдно. В них не было фальши. Успех, тиражи, гонорары – ничто по сравнению с моим внутренним ощущением, честное слово.
Масолово не просто восстанавливало меня и приводило в порядок – Масолово воскрешало меня. Я возвращался к себе.
Вставал я рано и шел гулять – в поле, в лес в любую погоду. Меня не смущали ни дождь, ни ветер, ни снег, ни глубокие расхлябанные лужи, не высыхающие даже в жаркое лето. Я брел по лесной тропе или по полю и никак не мог надышаться.
Возвращался часа через два, баба Зина ждала меня с завтраком – на столе, накрытый белоснежной салфеткой, стоял стакан молока, здоровенный кусок серого хлеба и пара яиц.
Летом я работал в саду, под тенью густых и старых яблонь – туда баба Зина поставила мне старый шаткий стол и колченогий стул.
Часа в три она звала меня обедать – пустыми, но вкусными, густыми щами, которые мы, по деревенской привычке, ели вместе с картошкой или кашей – для сытости.
После обеда я заваливался на чердак, где лежало старое сено. Спал до вечера, беспробудно и сладко. После сна и стакана ледяной, из погреба, простокваши шел «на хозяйство» – косить траву для «кролей» или рубить дрова. За грибами мы ходили вместе – поутру, по росе. Баба Зина искала грибы поразительно – шла за мной и «подбирала» беляки и красноголовики. Вечером у нас был грибной ужин.
Я поражался ее исконной житейской мудрости – и делился с ней всем, как не делился ни с кем, даже с Петькой, которого она еще долго после его смерти оплакивала.
Я рассказывал ей свою жизнь и удивлялся, что она жалеет мою мать.
– За что? – удивлялся я.
– Ты дурак, что ли, Максимка? Так она же несчастная баба!
Про мою дочь она бросила коротко, как припечатала:
– Сволочью не будь. Потом сам почернеешь! Ты ведь совестливый по рождению, Максимка! Хоть совесть свою от людей укрываешь. Пойди к ним, пожалей их, баб-то своих! Как же ты живешь с этим на сердце? Ох! Мне тебя-то еще жальчее, чем их!
К моему сочинительству она относилась с почтением и уважением, что было странно для трудового деревенского человека – здоровый мужик, полный сил, сидит под деревцем и изводит бумагу. Но в часы моего сочинительства соблюдалась тишайшая тишина – даже скандального кабанчика Степку баба Зина выгоняла на полянку за картофельным полем.
В третий мой приезд, после Алисы, я увидел, что бабка сдала. Но она продолжала держаться и никогда не жаловалась, не сетовала на жизнь. Иногда мы с ней выпивали – рябиновку, водку, настоянную на рябине. Баба Зина называла ее «таблеткой» – пила от давления, «от сосудов» и от «горькой судьбы». Пила по чуть-чуть из маленькой, «наперсточной» рюмки.
Когда я уезжал в последний раз, баба Зина грустно сказала:
– Ох, пацаненок! Чувствую, больше не свидимся! Дом я на тебя запишу. В комоде бумага будет. Помру – приедешь? Чтобы хата проснулась, оживилась?
Я горячо убеждал бабу Зину, что приеду гораздо раньше – зачем ждать ее смерти? Приеду проведать и просто пожить, отдохнуть и поработать. А по поводу завещания отмахнулся:
– Какой дом, баба Зина? Когда мне приезжать?
– Ну хоть раз в пять лет приедь, а, Максимка? Даже если у тебя будет все хорошо!
Что делать? Я пообещал, но ни минуты не верил в то, что это исполню.
Я так и не приехал в Масолово – вскоре появилась Галка, началась моя новая жизнь, которая закрутила меня. Иногда я вспоминал о своем обещании. Уговаривал себя – вот лето наступит и… Подумаешь – каких-то сто семьдесят километров! Но так и не собрался – то одно, то другое. Как обычно, всегда находилось то, что мешало.
На душе, конечно, скребло. Да мало ли, что на душе? Не все обещания получается исполнять.
Прости, баба Зина! Прости, что наврал. Прости, что ни разу не был на твоей могиле. А если ты еще жива… Тогда прости еще больше!
Конечно, я сволочь. Только в конце жизни, когда ты слегка умнеешь и начинаешь ценить то, что нужно ценить, ты понимаешь, на какую ерунду ты потратил свое драгоценное время. А на самое ценное, на дорогое и дорогих времени, как всегда, не хватило.
Я открыл почту.
Дорогой Максим Александрович! Простите, если первое слово вызвало у вас отторжение. И ради бога, не сердитесь на меня и на мою вольность. Вы действительно стали для меня дорогим человеком. Причина проста: ваши книги для меня – необыкновенная поддержка, «костыль» в тяжелые времена. Они помогали и помогают мне в самые тяжелые и черные минуты моей жизни. Поверьте, это не лесть. Я нахожу в них ответы на сотни вопросов, которые мучают меня и на которые я не знаю – так и не знаю! – ответов. Я чувствую такое единодушие с вами, что мне кажется, будто мы давно и долго знакомы. Я погружаюсь в ваши книги так, что невозможно, да и не хочется возвращаться в реальность, в свои страхи и недовольства, выныривать на поверхность той жизни, которая мне не мила. Ваши книги – это и есть самый чистый и глубокий, целительный мир.
Простите бога ради за пафос, но, как мне кажется, трудно без него обойтись, когда восторг и восхищение переполняют тебя.
После ваших книг я оживаю – мне снова хочется жить и снова хочется верить. От них веет таким оптимизмом – и все это несмотря на трагичные судьбы героев, на драматические повороты сюжетов. Иногда – на трагичные финалы.
Вы – светлый человек, Максим Александрович! Светлый и чистый. Спасибо вашим родителям и как же повезло вашим близким, тем, кто идет рядом с вами по жизни! Поверьте, это только белая зависть!
Огромный поклон вашей маме, вашей жене, вашим детям.
О себе – мне сорок пять лет, я учительница музыки, москвичка, вдова. У меня есть взрослая дочь.
С огромным уважением и нежностью,
Марина Николаевна Сторожева.
Вот тебе, Максим Александрович! Вот тебе, милый друг! Вечный нытик, зануда и пессимист. Получил? И за что тебе, а? Светлый человек. Просто солнце на небе. Светлый и чистый. Спасибо маме, ага. Именно она, моя, с позволения сказать, матушка, здорово повлияла на то, чтобы я вырос таким светлым и чистым. И близким со мной повезло несказанно. Ах, какое же чудо живет рядом с ними! И детям моим повезло, и женам.
Какая удача свалилась на них!
Я усмехнулся. Господи, наивность читательниц меня поражает. Что они там придумывают себе, эти милые и, скорее всего, не очень счастливые женщины? Какие фантазии в их чудесных и наивных головках? Как же они заблуждаются, господи! Вот послушали бы моих жен и любовниц – страшно представить, что услышали бы в ответ.
Милые мои, дорогие! Что вы знаете про меня? Про мое прошлое и настоящее? Про все то, что я сделал, что натворил, про тех, кого я обидел и предал? Наивные вы мои, бедные.
Неужели вы думаете, если человек пишет талантливо и красиво, то он так же красив и талантлив, как его книги? Вы заблуждаетесь, милые! Ох, как же вы заблуждаетесь.
Я склонен к нытью, меланхолии, страшному занудству и вечному недовольству. Я много раз предавал хороших людей. Я не любил свою мать и презирал своего отца. Я много пил и мало работал. А уж мой успех… Тут точно я ни при чем! Если бы не моя последняя жена, фиг бы вы прочли эти «светлые книги»!
Да и я сам, ваш покорный слуга, скорее всего, давно бы спился и сгнил на помойке.
Но расстраивать вас я, конечно, не буду. Пусть живет этот миф о честном и справедливом, о смелом и добром. Пусть живет. Ведь только такой человек мог написать такие книги, правда?
А всю правду вам знать не положено.
Но, что говорить, – слышать эти слова мне было приятно. Значит, к тому же я люблю лесть.
На письма я почти всегда отвечаю – таков мой принцип, мои правила. Так я выражаю свою благодарность и уважение к моему читателю.
Я кидаю взгляд в письмо – ага, Марина Николаевна! Учительница музыки, вдова. Наверняка одинока – дочка выросла и скандалит с матерью. В лучшем случае – тихо грызутся по вечерам. Потому что маман, одинокая учителка, дочкой недовольна, а дочка, естественно, недовольна маман – жизнь прожила впустую, второй раз замуж не вышла, одурела от тоски и оттого не дает жить дочери. Работа в музшколе скучная и монотонная, ученики неталантливы и нерадивы. Денег нет, платят копейки, родители учеников требуют невозможного, а на Восьмое марта приносят залежалую коробку шоколадных конфет, покрытых белой пылью.
Внешне моя Марина Николаевна так себе, ни о чем. Среднего роста, слегка располневшая – сидячая работа, скудный рацион, состоящий из макарон и картошки. Одинокими вечерами – дочурка, как всегда, шляется черт-те где – она замирает перед ток-шоу или пошлейшим сериалом о жизни богатых, держа в руках пакет с чипсами. А рядом на столике стоит, ждет своего часа большой кусок кремового торта – конечно, ей хочется сладкого. Жизнь до тошноты пресна.
Она с вожделением поглядывает на торт, предвкушая свое удовольствие. И поглядывает на часы – ну где же эта гулена-дочь? Замуж она больше не вышла, да и зачем ей замуж? Снова стирать чужие носки, стоять у плиты и выслушивать претензии? Да и претендентов, честно говоря, не было. У нее нет любовника – кому она интересна? Только нищему пенсионеру, ищущему бесплатную прислугу.
Спасибо, но этого ей не надо. В принципе ей неплохо одной. Она давно привыкла к покою и одиночеству. По выходным вставать неохота, и она долго спит. Нехотя берется за обед и вздыхает – кому это нужно? Дочки почти всегда нет, а она от обедов отвыкла. После работы можно сделать быстрый салат и бутерброд – зачем стоять у плиты?
Давно, когда был жив ее муж, она, конечно, колдовала у плиты. И это было ей в радость. А сейчас – зачем и кому?
И она заваливается на диван с детективом или с романом про тяжелые человеческие судьбы и прочие драмы. Например, с книгами Максима Ковалева.
И вот тут ее отпускает. Получается, что не сложилось не у нее одной! Да что там – у нее все нормально! Она здорова – всякие мелочи не в счет, это возраст и дурные привычки. У нее есть дочь. Да, к ней много претензий, но она не пьяница и не наркоманка, уже хорошо.
У нее есть квартира в спальном районе. Не пыльная – что говорить – работа. Раз в два года она ездит на море – за границу, в любимую Турцию. А уж там ей раздолье! Все включено – еда, вино, вечерние развлечения. Красота! Там, кстати, она еще и прикупает шмотки, например, недорогую кожаную куртку фиолетового цвета. Долго раздумывает по поводу цвета – необычно, но очень красиво. Только для нее ли эта красота и необычность? Она-то привыкла к серому или черному.
Но куртка ей очень идет, это правда. Да и навязчивые, как цыгане, продавцы так уговаривают, что она, конечно, сдается.
После покупки не спит две ночи подряд – вскакивает с кровати и разглядывает свою фиолетовую красоту. Потом наконец успокаивается – дело сделано, что уж страдать? Но еще нужно купить подарок дочке, а это сложнее – всем эта цаца бывает недовольна, то цвет не тот, то фасон. Орет как резаная:
– Я же просила тебя ничего мне не покупать! Дала бы лучше деньгами! Ага, себе-то куртку! А мне легинсы и майку дурацкую!
Обижаются обе и перестают разговаривать на две недели.
А в другой раз она купит кольцо. Конечно же, золотое! Правда, тоненькое, но с бриллиантиком! С настоящим бриллиантом. Пусть малюсеньким, как комариный глаз, но зато – с настоящим! Сколько лет она мечтала о нем! А сколько торговалась с нахальным турком? Уходила три раза. На третий – догнал и уступил. Вот была радость! На пляж его, конечно, не надевала – вдруг соскользнет? А вот вечерами, в номере, да под настольной лампой любовалась, как он сверкал, переливался, играл всеми гранями.
Дочке по приезде колечко не показала. Вдруг снова обидится? Она ведь такая.
Кстати! В этой Анталии или Кемере она обязательно гуляет по вечерам – позволяет себе чашечку кофе и даже мороженое. Это такие счастливые минуты – курортный городок, напичканный лавочками, душный запах южных цветов, перемешанный с запахом кофе и восточных специй. Усатые турецкие мужчины заигрывают с ней – она отлично понимает, что заигрывают они со всеми. Но все равно приятно, что говорить.
Она считает дни до отъезда, ловит минуты, мгновения, и ей становится грустно – скоро, совсем скоро в прежнюю жизнь, одинокую, скучную, такую знакомую и предсказуемую. Какая тоска. Но она ругает себя за эту унылость. Корит за неблагодарность. И снова мечтает о том, что вот на следующий год… Ну, или через год, если сложится.
Да сложится точно, она ведь умеет отказывать себе во всем, умеет копить. Нет, она совсем не синий чулок, но замуж не хочет.
Хотя, если бы появился человек, скромный и порядочный. Одним словом, подходящий. И можно не замуж, а так, просто для встреч – ей бы хватило раз в неделю. В кино, или на выставку, или в кафе. Или просто прогуляться по Центру. Она страстно любит старую Москву – Замоскворечье, арбатские переулки, Тишинку.
Он – одинок, скорее всего, тоже вдовец. И ему тоже нужна женщина-друг. Нет, все остальное не отменяется. Правда, это уже страшновато, отвыкла. Но понимает – шансов не много. То есть почти совсем нет.
Порядочный вдовец средних лет найдет себе помоложе – зачем ему восторженная, экзальтированная, малоинтересная тетка? Вон, оглянитесь – море молодых и красивых, готовых на все.
Ну, значит, такая судьба. Не хуже и не лучше других – обычная судьба, женская. Значит, будем жить так. А куда денешься? Таких, как она, миллионы. Это не радует и не облегчает ее участь, но все-таки хоть как-то примиряет со скучной и серой жизнью.
Господи, вот ведь писательская натура! Тут же насочинял целый рассказ. А можно и дальше. Можно втянуть ее в роман, например. Пусть будет счастлива – коротко, но неожиданно и ярко. Или дочь ее принесет в подоле и свалит к чертовой матери. Ей будет плохо и сложно, но она обретет смысл жизни в ребенке. Тоже неплохо.
О боже! Максим Александрович! Чем занята твоя голова? Все, что угодно, лишь бы отлынивать от работы.
Но ответить надо. Нехорошо не ответить на такое письмо.
Дорогая Марина Николаевна!
Огромное спасибо за ваше письмо! Иметь такого читателя – большое писательское счастье, поверьте! А ваши теплые и искренние слова – просто награда за мой скромный труд!
Надеюсь, у вас все хорошо, и вы довольны жизнью и окружающими! А если нет – от всей души желаю вам этого, видя в вас тонкого, умного, интеллигентного и сердечного человека. Еще раз большое спасибо и всего наилучшего!
Искренне ваш,
Максим Ковалев
Привычный и стандартный, давно отработанный текст.
Марина Николаевна Сторожева. Обычная российская женщина средних лет. Интеллигентной профессии, прилично образованная, безусловно начитанная – в юности наверняка охватила всю классику, от Золя до Достоевского. Когда-то мечтательница и фантазерка. Но жизнь покрутила и здорово «исправила» эту оплошность. Хотя глубоко в душе Марина Сторожева осталась все той же наивной и чистой девочкой, способной на многое. А не дают!
Честная, ответственная, умеющая дружить. Хорошая дочь, безусловно, хорошая мать. Правда, у дочки много претензий. Но ничего, подрастет, хлебнет и поймет ее. И они станут друзьями.
Марина Сторожева, среднестатистическая, обычная русская женщина. Имя им – легион. Живут они в больших и малых городах, в деревнях и в поселках. В центре страны и на ее окраине, совсем далеко.
Счастливые и не очень. Красивые и обычные. Удачливые и несчастливые. И они – вся Россия! И все держится на них, все.
Милые мои читательницы и поклонницы! Я вас люблю.
Я, старый скептик и циник, брюзга и зануда, люблю вас искренне и крепко, от всей своей некрасивой души. И каждый раз, получая такое письмо, я умиляюсь до слез. Умиляюсь и радуюсь, честное слово! Кажется, только вы и остались! Только вы, верящие в меня и любящие меня. Низкий поклон!
Может, и во мне осталось что-то хорошее? Хотя бы чуть-чуть, а?
А если осталось, то только благодаря вам.
И это тоже чистая правда.
Марина
Умерла жена Геннадия, Любочкина мама. Все понимали, что это скоро случится, и, думаю, втайне этого ждали. Сколько лет страдал человек, сколько лет мучились близкие. И все равно, когда уходит близкий человек, принять это невозможно.
Бедная, бедная, бедная.
Пятнадцать лет полной недвижимости, вегетативного состояния. Говорили, что вначале, в первые годы, она все понимала. Понимала, что эта кошмарная болезнь неизлечима и ей никогда не подняться. Она понимала и то, что ее болезнь сковала по рукам и ногам не только ее, но и ее близких. Господи, какие, наверное, страшные мысли лезли ей в голову. Она не могла обнять дочь, поговорить с мужем. Она даже не могла добровольно уйти из жизни – у нее не работали руки и ноги.
Какая страшная, дикая и жестокая судьба.
Говорили, что в молодости она была яркой, красивой, отчаянной. Ей многое было дано – она прекрасно пела, хорошо рисовала, была прекрасной хозяйкой. Геннадий любил ее. Я это видела и понимала. Они хорошо и дружно жили, растили любимую дочь.
И – всё. Годы страданий, мучений и страшный итог.
– Она отмучилась, – коротко сказал Геннадий. – Слава богу, ей теперь легче. Сколько можно было страдать?
Да, отмучилась. Наверное, правильно.
Но мне все равно было неловко слышать эти слова. Я чувствовала свою вину перед ней. Пусть она про меня и не знала. И это со мной навсегда.
А через месяц Геннадий сделал мне предложение.
Я была ошеломлена – всего через месяц! Но он сказал, все это – условности. Все придумано человеком – традиции, траур.
– Мы вместе столько лет. – Он усмехнулся. – Да просто смешно! К тому же, – добавил он, – ты так долго была в унизительном положении, что я чувствую перед тобой большую вину.
Я пыталась его разубедить, что это был и мой выбор и что его вины в этом нет. Но слушать он не стал, отмахнулся.
– А может, тебе надо подумать? Как там положено невесте – кажется, дня три? Или больше? Тоже традиция, да?
В его вопросе была ирония и сарказм.
А я схватилась за эту фразу и облегченно выдохнула:
– Да! Любой невесте надо подумать! И правильно, что так принято. Решение-то серьезное!
Он был недоволен, но больше ничего не сказал.
На сердце у меня было паршиво. Я не хотела замуж за Геннадия и ни разу не подумала, что хотела бы жить с ним семьей, быть с ним постоянно вместе.
Три дня на раздумье. Смешно. И это после почти четырех лет «совместной» жизни! Я понимаю, любая другая на моем месте была бы довольна.
Той ночью я не спала – перебирала свою жизнь и все эти годы с моим «женихом». И как я старалась найти в нем изъяны, как пыталась припомнить обиды! Но ничего не получалось.
Он был не капризен, не привередлив, не жаден и даже щедр. Он никогда не жаловался на судьбу и на усталость – непростая жизнь его закалила. Да, человеком он был неэмоциональным, скуповатым на комплименты. Он не любил шумные компании и выпивоны, презирал картежников, охотников и «банных дел мастеров». Но это не недостатки, а уж в нашем-то возрасте – неоспоримые достоинства. Он был аккуратен – в этом я могла убедиться тысячу раз. Мог спокойно поджарить на завтрак яичницу и заварить чай, не заставляя меня проснуться раньше его и подать. Он много и увлеченно работал, был прекрасным, заботливым отцом. И зятем он был хорошим – ценил тещу и никогда с ней не спорил. Он имел приятную наружность да и в интимной жизни был очень неплох. Он был по-ло-жи-тель-ным, мой любовник. Сложным, но положительным, порядочным и приличным человеком.
Что получалось? Да одни сплошные плюсы, вот что получалось! И повторяю – любая из тысячи женщин мечтала бы оказаться на моем месте! Боже, как же мне повезло!
Дальше шел столбец из его недостатков и того, что, собственно, отталкивало меня от него. Этот столбец был довольно скуден и короток, надо честно признаться.
Да, мы не стали духовно близки. Да, у нас разные вкусы и разные интересы. Например, он абсолютно равнодушен к музыке классической и любой, она его раздражает. Он не читает книг – ну, почти не читает. И с легким презрением относится к моей увлеченности поэзией. А я обожаю стихи. Он подтрунивает надо мной по этому поводу, называя поэзию «розовыми соплями». Он не киноман, как я, но это можно легко пережить – в кино я люблю ходить одна.
Он не любит море, а я его обожаю. Он любит пресную воду и холодные реки. Я люблю лес, он горы. Я никогда не встану на горные лыжи, потому что страшная трусиха. А он горнолыжник со стажем. Он человек спортивный, а я росомаха и тютя.
Что еще?
Он человек строгий и даже суровый, не прощающий предательства и ошибок друзьям и близким. Он поведал мне как-то – коротко и предельно сухо, – как в один день порвал отношения с старинным, еще школьным, другом. На мой взгляд – за какую-то нелепую и абсолютно пустяковую промашку. Я поразилась и вступила с ним в жаркий спор. Вернее, горячилась я. А он как отрезал:
– Марина, не обсуждается, все. Надо было ему думать мозгами, а не другим местом.
Это он про старинного друга.
Он не общался со старшей сестрой – там тоже было что-то, правда, лет сто назад. Кажется, она не слишком ладила с его женой.
Мне казалось это странным: я человек слабохарактерный, мягкий, готовый простить всех и вся. Я совершенно не злопамятна, а он помнит все обиды и промахи, как будто они записаны в его кондуите.
Наверное, это логично и правильно: он – бизнесмен, а в бизнесе иначе не выжить.
Так, что еще? Я поймала себя на мысли, что отчаянно припоминаю его недостатки. Мне даже стало неловко. А, вот!
Даже в гастрономии мы совершенно не совпадаем! Ну просто до смешного не совпадаем. Например: я обожаю картошку, он макароны. Я человек рыбный, он мясоед. Он любит кипящий, обжигающий, несладкий чай, а я остывший и сладкий.
Я люблю фрукты, он любит овощи. Я страшная кофеманка, а Геннадий кофе не пьет. Я смотрю сериалы, от которых его тошнит, а мне тошно от политических программ и ток-шоу.
Я сова, он жаворонок.
Мы категорически разные и противоположные полюса. Лед и пламень, вода и камень. Как нам вместе жить, как приспосабливаться друг к другу? Да я отвечу – просто! Проще не бывает! Со всем можно смириться, ко всему приспособиться. При чем тут совпадение вкусов, родство и душевная близость? Все ерунда и отговорки. Дело в другом, совершенно в другом!
Если бы мы любили друг друга… А мы – совершенно чужие люди.
Мы выбираем опцию «удобно». Это удобно мне и ему: он женится на приличной женщине, которая его наверняка не предаст, а я обеспечиваю свое сытое будущее.
На следующий день я поехала к маме. Она выслушала меня, не перебивая, а потом сказала:
– Марина! Как ты думаешь, какая у меня самая заветная мечта? А? Ответь!
Я пожала плечами.
– Так вот, – продолжила мама, – чтобы ты наконец устроила свою жизнь! Чтобы тебе встретился хороший, добрый человек и я была спокойна за твою старость, а она, моя милая, не за горами, как тебе сейчас ни смешно это слышать. Ты же видишь – у Ники своя взрослая жизнь. Дети отрываются от родителей и улетают из гнезда, как когда-то это сделала я, потом – ты. Теперь – Ника. И это нормальный ход событий. Но я знаю, что такое быть одной, даже при наличии дочери и внучки! Ты прости, ты хорошая дочь. И все-таки я одна. Конечно, я была бы самой счастливой из матерей, если бы ты устроила жизнь. Я была бы самой счастливой, – задумчиво повторила она и замолчала. – Только, девочка… Подумай хорошо, умоляю тебя! Ведь тут такое дело… В вашем возрасте привыкать тяжело. Это по молодости просто. Конечно, это не главное! Все устаканится, стерпится – слюбится. И ничего плохого в этой поговорке нет!
Но я понимаю – тебе страшновато. Страшновато менять коренным образом жизнь, ты не девочка. Я понимаю твои страхи, твои сомнения. Но… у тебя должна быть хотя бы радость в глазах! А я ее что-то не вижу.
– Мама, стоп!
Почему меня так разозлили мамины слова? Ведь она была абсолютно права, это были и мои мысли – один в один! Тогда – почему? Все понятно – подсознательно я ждала от нее восторгов и бурной радости от того, что мне сделали предложение. Она должна была, по моему мнению, поддержать меня в этом решении, а не предупреждать, намекать и мягко отговаривать от этого шага. Получается, я ждала от нее не подтверждения своей правоты, своих предчувствий и озабоченности, а именно радости и восторга от предстоящего?
Какая я странная, честное слово. Сама колеблюсь, не могу принять решения и жду, что кто-то меня подтолкнет, решит за меня. Я уехала от нее раздраженная и разочарованная. Но я понимала, решать мне. Это моя судьба, моя жизнь. И спрашивать совета смешно. Я взрослая девочка.
Отец ушел от нас, когда мне было двенадцать. Я уже все понимала и учуяла беду раньше, чем мама. Она работала по вечерам – преподавала в вечерней школе. Приходила к одиннадцати вечера и валилась в постель. Отец приходил с работы к семи, как все советские люди. Я грела ужин и смиренно ждала его на кухне.
В последнее время он есть перестал, говорил, что перекусил на работе – то чей-то день рождения, то какой-то праздник, то приятель пригласил выпить пива.
Глаза у него бегали – он врал, я это видела. Я молча убирала ужин в холодильник и молча уходила к себе. Я не понимала, что именно происходит, но точно чувствовала: что-то не так.
Однажды я подслушала его телефонный разговор. «Зайка!» – обращался он к кому-то.
Зайка что-то отвечала, вероятно, что-то очень остроумное, потому что отец заливался тихим, счастливым смехом. Отсмеявшись, он доверительно сообщил «зайке», что она на работе, но вот-вот может нагрянуть. «Если брошу трубку, не обижайся, заинька!»
Заинька, видимо, закапризничала, и мой отец стал ее утешать. Выглядело это мерзко и отвратительно – он сюсюкал, прихрюкивал, чмокал губами, имитируя поцелуи.
Меня стало тошнить.
Мама по-прежнему ничего не замечала. Молчала и я. Потом, когда отец ушел, я подумала, что была не права – надо было обо всем рассказать маме, забить тревогу, звонить во все колокола. Возможно, тогда бы мы спасли нашу семью.
Открылось все после отцова отпуска, когда он уехал в санаторий один. Раньше такого не было – мы всегда отдыхали семьей.
– Странно все это, – сказала я, – тебе не кажется странным, что он едет один?
– Нет, – спокойно ответила мама. – Знаешь, это нормально. Люди устают друг от друга. Пусть отдохнет. От меня и от тебя! – И она беспечно рассмеялась.
Отец сказал, что едет в Кинешму, за четыреста километров от Москвы. Я подумала, что он специально выбрал такое отдаленное место, чтобы мы с мамой не могли его навестить.
То лето было страшно дождливым и холодным. Бедная мама переживала, что отец мерзнет, с погодой ему не повезло.
Но отец приехал бодрый и загорелый, в его чемодане лежали влажные плавки.
Мама нахмурилась, но ничего не сказала.
Ушел он через неделю. Днем, когда я была в школе, а мама уже на работе. На столе лежала записка: «Ушел, не ищи. У меня давно другая семья».
Я пришла первой и спрятала эту записку. Конечно, я растерялась, но все-таки надеялась, что нас пронесет.
Я сидела на стуле и ждала маму. Я не знала, не понимала, как я ей это скажу, как я покажу ей эту записку.
Мама, как всегда, пришла поздно и удивилась, что отца еще нет. Потом она внимательно посмотрела на меня и потрогала мой лоб:
– Боже, Марина! Ты вся горишь!
Она уложила меня и дала аспирин. Я по-прежнему молчала. Наконец я решилась и протянула ей записку.
Мама держала ее в руках и все перечитывала эти несколько строк. Потом она молча встала и пошла на кухню. Я бросилась за ней. Она, закаменевшая, стояла у окна и всматривалась в темную улицу.
Я затрясла ее за плечи и закричала.
Мама повернулась ко мне с совершенно спокойным лицом и погладила меня по голове:
– Что ты, девочка? Что ты? Все будет хорошо, доченька! Мы же с тобой вместе, да? Мы вместе, родная!
Отца я тогда возненавидела. Поначалу он звонил мне и просил о встрече. Я швыряла трубку. Однажды он подкараулил меня у школы – я бросилась бежать. Он написал мне несколько писем, а я, не прочитав, тут же их порвала.
Потом все затихло – видимо, он успокоился.
Я ни разу не видела маму плачущей, ни разу. Но она словно застыла. Нет, она жила в прежнем ритме – ходила на работу, готовила обед, гладила и убирала квартиру. Но с тех пор моя хохотушка мама ни разу не засмеялась.
Спустя семь лет мы узнали, что у отца родился тяжело больной ребенок. Кажется, там был тяжелый ДЦП – мальчик не ходил, не говорил, не держал ложку. Словом, был абсолютным овощем.
Я, человек мягкий и незлой, демонически расхохоталась:
– Так им и надо, гадам! Отцу и его зайке! И поделом!
Мама посмотрела на меня с тихим ужасом:
– Господи, Марина! Как же ты можешь? При чем тут ребенок? Немедленно замолчи! Я и подумать не могла, что ты на такое способна!
Бедная моя мама. Она так и не устроила жизнь. Мне кажется, что она и не подумала об этом ни разу. А было ей тогда тридцать шесть.
После разговора с мамой я позвонила Инге, своей приятельнице.
Я отлично понимала, как сложится разговор, и мне было необходимо, чтобы кто-то меня поддержал. Порадовался за меня. В конце концов, позавидовал мне!
Конечно, все сложилось именно так, как я предполагала. Выслушав меня, Инга сухо спросила:
– Я так понимаю, тебя можно поздравить?
Я глупо хихикнула:
– А я еще согласие не дала!
– А, поняла! – протянула подруга. – Выпендриваешься? Ну-ну! Смотри, не довыпендривайся, дорогая! Такие мужики на дороге не валяются!
Я что-то залепетала в ответ, что-то невероятно глупое, вроде того, что невеста имеет право, так положено и вообще пусть подергается.
– Понятно, – коротко ответила Инга. – Ну раз положено… А тебе не кажется, что в нашем возрасте это выглядит по меньшей мере идиотизмом? Ладно, мне некогда! – оборвала она разговор. – Некогда мне выслушивать эти глупости! Все, будь здорова! Эх, не та баба попалась хорошему мужику! Обычная жизненная несправедливость! Да и ладно! Хоть одной дуре повезло в нашей паскудной бабской жизни! – И Инга бросила трубку.
Я живо представила ее лицо – красное и злое. Мне стало стыдно – ну зачем я ей позвонила? Инга права, я дура.
Нам обеим было непросто, мы многое пережили. Но я была вдовой, и меня не предавали. А ее подло предали – муж ушел к ее близкой подруге.
У меня была взрослая дочь, у Инги – два сорванца парня. У меня была мама, Инга росла с мачехой.
Бедная Инга и глупая я. Определенно со мной что-то не так.
Я слонялась по квартире, не зная, чем себя занять. Все валилось из рук. Что делать, господи? Отказать и уже навсегда остаться одной? На новую встречу и на любовь я не надеялась – смешно. Шансы мои равны нулю. Да и если – нужна ли мне новая встреча? Кажется, уже нет.
У меня оставался один день. Через сутки я должна позвонить Геннадию и дать ответ. И правильно, хватит выпендриваться, мы взрослые люди!
Кстати, в эти дни он мне не звонил. И я не расстроилась.
Я по-прежнему пребывала в сомнениях, но, как обычно бывает, мудрая жизнь все решила за нас, расставила все на места. И мне стало понятно, что нужно делать.
На следующее утро мне позвонила Ника и сообщила, что она беременна. Голос ее звучал как колокольчик.
– Мама! Я счастлива! – кричала дочь. – Я же уже не надеялась, понимаешь?
Это была хорошая – нет, прекрасная, чудесная новость!
Господи, я отмолила! Сколько лет после того аборта я вымаливала прощение! «Только бы обошлось! Только бы… Только бы моя дочь не попала в те самые три-пять процентов!» Кажется, вымолила. Меня простили. Счастье. Какое счастье, господи! Все обошлось!
Но еще и неважная новость – Никин жених потерял работу. И они, мои дети, возвращаются, то есть переезжают ко мне, потому что новые обстоятельства снимать квартиру не позволяют.
– Проживем, мам! – повторяла Ника. – Вместе же проще?
Проще. Вот это точно заблуждение. Несколько месяцев мы жили с Сережиной мамой. Прекрасная, надо сказать, была женщина. Ни одного плохого слова я про нее не скажу! Но все равно нам всем было сложно – свекровь привыкла к одному, я к другому. Готовила и убирала я не так, как надо. Нет, она ни слова не говорила, но я видела, что она недовольна. Мы забывали гасить свет в коридоре, и это ее раздражало. Я садилась за пианино, у нее начинала болеть голова. Вечером мы могли выпить вина, она поджимала губы и твердила, что мы алкоголики.
Потом мы жили у моей мамы. Это было, конечно, попроще. И все же проблемы были! Что перечислять? Опять все то же – у всех свои привычки. Я поняла одно: жить надо отдельно! Непререкаемая и непреложная истина – дети не должны жить с родителями. И как только мы съехали, отношения со всеми тут же наладились.
Мы пять лет мотались по съемным квартирам, а потом умерла Сережина мать, и мы переехали туда, к нему.
Нет, я все понимаю: это Никина жилплощадь, и она здесь прописана. Это ее полное право – вернуться домой. Это ее полное право рожать и жить с ребенком в своей, а не в съемной квартире. Все так. Я очень люблю свою дочь, и у меня никого нет дороже. Конечно, я буду обожать и своего внука или внучку, какая разница? Но своего зятя, а точнее Никиного сожителя, этого хама и дурака, я не полюблю никогда. И никогда не смогу находиться с ним в одном пространстве – ужинать и завтракать за одним столом, пользоваться одной ванной и смотреть телевизор.
Я себя знаю. Меня можно осуждать, презирать, ненавидеть. Но это так, и никак иначе. А моя дочь пусть живет с ним и будет счастлива, если получится быть счастливой с этим жлобом и бездельником. Конечно, я желала бы ей другой участи. Но это ее выбор. И мне остается только смириться.
И еще одно – я поняла, как мне поступать. Я не должна мешать молодым. Я не должна раздражаться, видя их вместе. И я ухожу.
Я сказала Нике, что выхожу замуж за Геннадия Валерьевича и переезжаю к нему. Надо сказать, что моя дочь страшно обрадовалась, просто скрыть свою радость не смогла – так ее распирало. Ну что ж, ее можно понять. Ника не дура – она все понимала, хорошо представляла, во что превратится наша совместная жизнь.
Через час я позвонила Геннадию и задала один вопрос:
– Куда мы едем в свадебное путешествие?
Молчание и очень взволнованный голос:
– Куда и когда, решать, Марина, тебе! Я согласен на все.
– Ну, я подумаю, – пококетничала я.
Мне полагалось кокетничать: я невеста. И как оказалось – невеста без места.
Конечно, в моей голове крутился один вопрос – как примет меня Люба. Мы были с ней во вполне приличных и даже хороших отношениях. И все-таки я думала, что ей будет не совсем приятно общаться с женщиной, занявшей место ее матери. Любочка была уже студенткой первого курса, девушкой разумной и не по годам взрослой. Отца она обожала, может, даже была рада, что он не один. И все-таки ей было бы легче, если бы рядом с отцом оказалась посторонняя и незнакомая женщина, а не ее учительница музыки.
Я страшно нервничала. Одно дело – встречаться с ее отцом раз в неделю, а другое – поселиться в их квартире на правах новой жены.
Люба была человеком сдержанным – в отца. Я понимала, она ничего не скажет. Но и молчанием можно выразить недовольство и раздражение тоже.
На следующий день после телефонного разговора мы с Геннадием встретились, и оба казались очень смущенными – у нас был новый, совершенно другой статус.
Мы сходили в кино – я понимала, что это почти подвиг для моего жениха, а после зашли в кафе, и он тоже заказал себе кофе. Но пил его с таким явным отвращением, что мне стало смешно.
Я дотронулась до его руки:
– И к чему такие муки? Это совершенно не обязательно, слышишь?
Он смутился:
– А может, привыкну? Постараюсь любить то же, что и ты.
– Вот этих жертв точно не надо. И разве в них дело?
Спустя пару минут Геннадий сказал:
– Марина! Я уверен, что ты волнуешься по поводу Любы. Так ведь?
Я промолчала – мол, понимай как знаешь.
– Так вот, – продолжил он, – Люба переезжает жить в бабушкину квартиру. Мы так решили. Точнее – решила она, а я ее поддержал. Люба – взрослый и серьезный человек, и ей вполне можно доверять. Пусть попробует жить самостоятельно. Не понравится – всегда можно вернуться.
Я кивнула, пытаясь скрыть свою радость. Это была, надо сказать, очень приятная новость.
Я пыталась смотреть на Геннадия сторонним взглядом – что ж, вполне приятный мужчина, солидный мужчина. Как говорится – фактурный. С ним не стыдно «пройтиться», как говорила наша соседка баба Настя.
Я немного успокоилась, особенно после сообщения о Любочкином переезде. Мне было стыдно за себя, но я себя же и оправдала – в конце концов, нам, двум взрослым людям, и так будет непросто. А уж при наличии взрослой девушки в доме!
Все складывалось вроде удачно. Только почему мне поскорее хотелось с ним распрощаться и вернуться домой? Почему так хотелось остаться одной?
Я не знала, не понимала. Но оказавшись дома, я облегченно выдохнула – как же мне хорошо и спокойно! И вот с этим настроением я собралась за него замуж? Мне стало так грустно, что я расплакалась. Однако, вспомнив про новоявленного зятька, слезы утерла.
Так, берем себя в руки!
«Нет, сейчас я не усну», – подумала я и открыла компьютер.
В почте было одно письмо – пишут мне мало, друзей у меня почти нет, я одиночка.
Но это единственное письмо было от Максима Ковалева! И у меня перехватило дыхание и задрожали руки. Я никак не могла решиться его открыть, словно первоклассница, маленькая девочка, ожидающая от жизни сказочного сюрприза и так боящаяся разочарований.
Через минуту я нажала на мышку – показать письмо. Я пробежала его глазами – быстро-быстро, чтобы скорее узнать, что там, и тут же начала перечитывать снова – медленно, обстоятельно, по слогам, возвращаясь к уже прочитанным строкам. Перечитав его раз пять или шесть, я откинулась на спинку кресла.
У меня слегка закружилась голова – он мне ответил! Наверное, его тронуло мое письмо. Наверное, зацепило! Иначе он бы не стал отвечать. Мало ли ему пишут со всего света? Мало ли идиоток признается ему в любви? А тут просто одна из них.
И все равно мне он ответил! Господи, я же совсем не ждала!
Было сложно описать мое состояние, и поделиться мне было не с кем. Меня никто не поймет, надо мной можно только посмеяться. Мне и самой было неловко. И все-таки – как хотите, – но я очень счастлива!
Я стала писать ответ. Вдруг меня торкнуло – что я делаю? Ведь я ставлю человека в дурацкое положение. Хотя – уверена! – на второе письмо он не ответит. Но и оставить без внимания его послание я не могу, как можно проигнорировать такое внимание?
Нет, я отвечу. А что он подумает обо мне – дело десятое. В конце концов, знать об этом мне не дано.
Дорогой Максим Александрович! Спасибо вам за ответ! Честно говоря, не ожидала! И еще – очень обрадовалась! Любимый автор нашел время. Уверена, таких, как я, сотни, тысячи! И все мы, обожающие вас и ваше творчество, крадем ваше драгоценное время. Простите нас! Но знаете, бывает, что возникает такая непреодолимая потребность поделиться эмоциями с человеком, который тебя поймет обязательно.
Человеком, которому веришь, с которым вы во всем совпадаете. Который вытаскивал вас из петли – пусть даже в иносказательном смысле. У всех, разумеется, бывают самые черные дни. И меня они не обошли. И я отчетливо помню, как, взяв в руки ваш роман, я начинала постепенно, потихонечку, по капельке и миллиметру, приходить в себя. Вы поддержали меня, просто показав, что у всех так бывает. И самое главное – это проходит! Это был роман «То, что нас ждет впереди» – первая ваша книга, попавшаяся мне в руки. Я долго бродила между полок в книжном, брала то одно, то другое, крутила, вертела и почему-то ставила обратно на полку. И тут ваш роман. Я посмотрела на обложку и вгляделась в фото – умное, грустное, мудрое и печальное лицо. Мне показалось, что в ваших глазах читалось именно то, что называется «знания приумножают скорби». Я даже не стала читать аннотацию, понимая, что это книгу я точно куплю.
В метро по дороге домой я постоянно ощупывала книжку, лежащую на дне сумки. Зайдя в дом, тут же налила себе чаю – был суровый январь и стоял страшный холод, я очень промерзла – и тут же забралась в кресло.
И я исчезла. Меня просто не было в реальном пространстве. Я обо всем забыла – и главное, я забыла про все свои беды и горести, про свои обиды на судьбу. Я не смотрела на часы, не думала о том, что голодна, что мне завтра рано вставать, что надо погладить юбку к рабочему дню. Наконец, позвонить дочке и маме. Я утонула в вашем тексте, пропала.
Я упивалась каждым словом, каждым поворотом сюжета. Я видела в ваших героях людей знакомых и близких, людей малознакомых и незнакомых мне вовсе, но отчего-то очень понятных, почти родных. Мне стало казаться, что вам про меня все известно – мои мысли, раздумья, тревоги и сомнения. Всё! И вы так ненавязчиво, мудро и тонко, без назиданий, указали мне, куда «плыть» дальше и как это сделать! Вы направили меня, подтолкнули и посочувствовали. Вы меня поняли. Конечно, я сравнивала судьбы героев с моей судьбой. Их несчастья не утешали меня, нет! Но все-таки примиряли с жизнью.
Мне перестало казаться, что только мне, мне одной, выпали страшные испытания. Только на меня разгневалась несправедливая судьба. Я поняла, что никого, никого не минует горькая чаша. И с этим надо просто смириться, просто это принять. И главное – жить! Просто жить.
Вы пишете о жизни так, что вам сразу и безоговорочно веришь. Нет, есть много прекрасных и чутких авторов, я всегда слежу за новинками. Но я поняла, что нашла своего, который пишет именно для меня, утешает, пытается мне донести, что я смогу, непременно смогу все пережить.
Конечно, для вас все это не новость, вы слышали это – уверена! – сто тысяч раз! И многим – не только мне – вы близки и созвучны. Я все понимаю.
Наверное, подобные письма вам давно надоели. Мы, читательницы, представляемся вам бесцеремонным, восторженным и экзальтированным племенем, способным утомлять и раздражать.
Простите меня за смелость и наглость писать вам второе письмо.
Еще раз спасибо вам и нижайший поклон!
Сейчас в моей жизни происходят довольно неожиданные и, кажется, приятные события. Все именно так, как вы и писали! Как в старой песенке – помните:
Так уж в мире устоялось – за печалью будет радость.
Не бывает худа без добра.
Кто-то сделал очень мудро и послал за ночью утро,
Будет завтра лучше, чем вчера.
Так вот, и в моей жизни, кажется, наступает утро.
Спасибо вам еще тысячу раз!
Ваша верная и преданная поклонница
Марина Николаевна Сторожева
Так, все! Пора успокоиться и привести эмоции и нервы в порядок!
В конце концов, я – невеста. И мне положено быть счастливой! Или хотя бы казаться.
Я разглядывала себя в зеркало и видела грустную и печальную, совсем несчастливую и даже нерадостную женщину.
Как вы сказали? Невеста?
Что я делаю, боже?
И почему мне так откровенно грустно и плохо?
Максим
Мы долго трепались с Галкой. Она подробно рассказывала про своих внучек, явно не желая замечать тоску в моих коротких, унылых «угу».
Конечно, она захлебывалась от восторга, но не мне, такому паршивому отцу, ее понять. Нет, конечно, ее девчонки прелестны! Но не для меня это все, не для меня.
Дальше она слегка поругала невестку: обычное дело – свекровь. Но быстро свернулась, почувствовав наконец, как сильно меня утомила. Ну а дальше взялась за меня. Лучше бы я слушал про внучек и невестку.
Галка теребила меня по поводу романа, въедливо уточняя, сколько я успел написать. Я бормотал что-то невнятное, и она, конечно, все поняла.
– Так, – сухо сказала жена, – я выезжаю. Буду через четыре дня. Так что ты, мой друг, постарайся!
Я тут же я стал бухтеть:
– Да как ты со мной разговариваешь? Да кто я в конце концов? Мальчик, пацан? Да как ты вообще можешь вторгаться в это, ни черта не понимая? Не много ли на себя берешь, дорогая?
Она хмыкала, но не перебивала – все эти песни ей были знакомы давно, и у нее, в отличие от меня, всегда была прекрасная выдержка.
Я понимал, что вслед за всем этим последуют санкции.
Но тут и Галка не выдержала:
– Это я тут вообще ни при чем? Это я посторонний человек? Или, может, я не знаю сроков, не помню, когда тебе сдавать?
Защищаясь и чувствуя свою вину, я начал орать, как подорванный, отлично понимая, что не прав.
Я орал, что она не имеет никакого права соваться и уж тем более судить меня. Что она вообще далека от моего творчества. Что она вообще понимает в этом? Она, по сути, всю жизнь занимавшаяся всякими шахер-махерами и прочей херней! Да знала бы она, что пишут мне понимающие люди. Да, у писателя бывают кризисы, если угодно. Это не бухгалтерия и не торговля, это сложнейший, труднейший процесс, требующий всего человека!
– Как ты можешь контролировать меня? Что-то требовать? Где ты и где я? Да ты попробуй написать хотя простое письмо – да так, чтобы оно было интересно хотя бы тому, кому адресовано! А тут – книга, роман! И вообще, не кажется ли тебе, дорогая, что ты вторгаешься в те сферы, о которых не имеешь права судить? Занимайся своими внучками и разборками с невесткой! И не лезь, поняла! Не лезь, куда не след!
Она не перебила меня ни разу – надо отдать ей должное.
Когда наконец я заткнулся, она сухо проговорила:
– Макс, я прилетаю четырнадцатого. Номер рейса пришлю. И не забудь послать водителя, слышишь? Всего наилучшего, Макс! А песни про муки творчества мне прекрасно знакомы. Знаешь, как это все называется? Лень! Занимаешься там черт-те чем. Просто нельзя оставить тебя одного. Ей-богу, ты хуже ребенка! С плеткой надо стоять у тебя за спиной.
Все. Отбой. Я все еще гневался и пыхтел, но понимал, что действительно расслабился, разнюнился, так и не смог собраться. Мне действительно нужен надсмотрщик. Меня и правда нужно контролировать, стоять надо мной.
Я тоскливо глядел в свой текст, все больше убеждаясь, что он полное дерьмо. И мне совсем стало тошно. Он был не просто корявый – это поправит редактор, – он был пустой, вымученный, напыщенный и надуманный, как будто не мой.
Я-то знал, как я могу написать. Нет, я все про себя понимал – я не был тщеславен и честолюбив. И потом, меня всегда спасали ирония и самоирония. Может быть, я исписался? Есть же такое понятие – творческое выгорание. Сколько раз я сам это видел. Десятки моих коллег вдруг выдавали такое, что я начинал испытывать стыд и неловкость. Господи, думал я, ну как же так, как они могут? Нельзя не видеть, не понимать, какой бред они написали. Неужели все так банально – деньги? И больше за этим ничего нет?
В такие минуты я думал – вот если это коснется меня, я пойму это тут же, в ту же минуту, честное слово! И ни за что, ни за какие коврижки, ни за какой гонорар не отдам этот текст в редактуру! Я просто покончу с этим делом раз и навсегда и уйду на заслуженный отдых.
Полная глупость, что творец всегда недоволен своей работой – я всегда понимал, когда плохо, а когда хорошо и просто отлично! И гордился собой я неспроста. И поносил себя последними словами тоже не зря.
Я обидел жену, которой всем обязан и которая имеет законное право укорять меня и даже стыдить. Кто, если не она, моя умная жена?
Я выступал и разорялся от своей беспомощности и чувства вины. Да слава богу, что она прилетает и возьмет меня в ежовые рукавицы, наступит мне на ногу своей изящной ножкой так, что я заору. И тут же приду в себя – я себя знаю! Эх, слабый и безвольный я человек.
Мне стало стыдно, и я снова стал себя успокаивать: беспокоится она, как же, волнуется. Да все потому, что ей нужны деньги – ее маленький бизнес, частная парикмахерская, уже почти ничего не приносит, в стране затяжной кризис. Теперь можно рассчитывать только на мои гонорары – мои книги, слава богу, еще продаются. А расходы, у нас, надо сказать, немалые. Мы привыкли жить вольно и широко. Кстати, осенью мы собираемся в Италию. А Италия, знаете ли, требует больших денег. Мы привыкли ни в чем себе не отказывать – мы любим хорошие рестораны и пятизвездные отели. Галка, как все женщины, обожает хорошие шмотки. Статус, однако!
Нет, работать сегодня опять не получится – это понимал. Я был раздражен и обижен. Обижен на жену, а раздражен на себя.
Свернул файл и открыл почту, давая себе при этом слово, что вот завтра – точно, наверняка. Завтра я себе не дам. «Завтра, завтра, не сегодня – так лентяи говорят», – любила повторять моя бабка.
Ага, почта полна! Уже интересно. Так, мусор и спам, реклама и прочая чушь. А что это? Ага, опять от поклонницы. Старая знакомая – восторженная девушка средних лет Марина Николаевна Сторожева. Все никак не угомонится, милая. Зря я ответил. Бываю такие экземпляры, которым лучше не отвечать. Иначе не выберешься. Похоже, эта дама из них.
Ну ладно, я любопытен как женщина. Кстати, чушь, что мужики не любопытны – поверьте, мы, сильный пол, любопытны не меньше женщин! Гляну. Всего-то одна минута, не больше.
Вот тебе раз. Кажется, меня ждет объяснение в любви любимому автору! Поди ж ты, как складно и как приятно! Нет, она совсем не дура, эта Марина Николаевна. Мой роман «То, что нас ждет впереди» был и вправду хорошим, крепким, удачным. Я написал его после расставания с Алисой, будучи в полном душевном раздрае. Работал в Масолове, у бабы Зины. И у Марины Николаевны в этот момент тоже, похоже, было неладно. Кажется, мы с ней совпали. Я замечал – людей всегда трогает и цепляет разное, то, что ложится конкретно на их ситуацию. У кого-то измена, у кого-то предательство друга, у кого-то смерть близкого и чувство вины за это. Читатель выхватывает именно то, что волнует его, что болит в данный момент. Или же то, что навсегда осталось незаживающей раной.
Тот роман получился. Писать его было трудно и легко одновременно. Я видел, что строчки мои ложатся красиво. Нет, это не «красивость», совсем нет! Это – боль и отчаяние, искренность и даже исповедь, это правда и честность. А это всегда заметно. Когда я поставил последнюю точку, то был несчастен, опустошен, но снова свободен. Писал его на надрыве и, поставив точку, будто выплюнул, выхаркал, исторг из себя боль и отчаяние. Мне стало легче. Наверное, госпожа Сторожева испытала нечто подобное. Ну да, и слава богу, если помог, честь мне и хвала. Конечно, я слышал такие слова много раз: «Вы помогли мне справиться с горем, с бедой, отчаянием. Мне было легче пережить предательство. Вы дали мне надежду».
Да, дорогие слова для писателя, даже для такого отпетого циника, как я.
Ну спасибо, дорогая Марина Николаевна! Вы подняли мою самооценку, сейчас мне это просто необходимо.
Я встал и прошел по комнате. И кажется, я понял, что надо делать! Надо срочно сменить обстановку! Какие у нас варианты? Самый простой – уехать на дачу.
Это я называю наш дом дачей, так для меня приятнее звучит. Конечно, наш коттеджный поселок далек от дедовской дачи – даже и сравнивать нечего! У моих стариков была действительно дача – с огромным сосновым участком, со старым деревянным домом, с верандой с цветными стеклышками, на которой я ловил зеркалом цветных солнечных зайчиков. С поляной для костров, куда мы стекались по вечерам с моими друзьями-приятелями. Рядом – футбольное поле, полысевшее от наших кед и резиновых бот. Самодельные ворота, кожаные мячи – грязно-коричневые, ободранные, но самые дорогие, не дай бог потерять!
Серые шляпки подберезовиков в подлеснике за калиткой, которые я приносил в клетчатой ковбойке на кухню бабушке. Запах нагретых солнцем велосипедных шин, девичьих кос и нежной кожи – совсем близко, на расстоянии ладони, когда она, твоя мечта, смущенно и испуганно усаживается на раму твоего велосипеда. А ты задыхаешься от возбуждения, страха и счастья – вот-вот разорвется сердце, еще чуть-чуть.
Старые и пыльные пальто в предбанничке, как называла прихожую бабушка. Запах табака из дедова кабинета. И запах сырников по утрам – конечно, со сметаной и земляничным вареньем.
Загорянка. Слово-то какое, а? Загорянка. Немного смешное, лукавое, нежное – как имя сказочной героини.
Детство. Детство и счастье.
Запах детства и запах счастья.
Галка была внимательна к моей матери, да. Исполняла все ее просьбы и даже капризы. Но так и не смогла простить моей матери «мое порушенное детство», что та, по сути, выгнала меня из родного дома, продала дачу – родовое гнездо, – о которой я все время рассказывал. «Она лишила тебя не только детства – она лишила тебя всего! – повторяла моя жена. – Матери так не поступают».
Все так. Но какая она была мать… Смешно.
Но это было еще одно оправдание для очистки совести, когда она уговаривала меня сдать мать в интернат.
Старость моей матери была ужасна. А молодость? А вся ее жизнь? Господи, да не дай бог! Наверное, счастливой она была только в юности, в родном украинском селе, среди своих родных. Когда она с подружками плела венки из васильков и ромашек и «спивала» народные песни – певучие и прекрасные украинские песни на берегу широкого и полноводного Днепра.
В семьдесят два у нее начался Альцгеймер, если проще – старческая деменция, читай – слабоумие. Наступила болезнь резко, почти без предупреждений. Мать перестала нас узнавать, рассовывала еду по шкафам, где она протухала. Перестала пользоваться туалетом – это было самое страшное. Конечно, мы пытались что-то сделать – возили врачей, наняли сиделку. Но сиделки долго не выдерживали – двадцать четыре часа в сутки с тяжело больным, невменяемым, безумным человеком с отвратительным характером – это, знаете ли, тяжелое испытание. После того как очередная сиделка ушла и мы вынуждены были две ночи провести возле матери, стало понятно, что выхода нет. Только я не смог это сказать вслух, а Галка смогла. Я пытался ей возразить, слабовато, но пытался:
– Давай подождем, наверняка найдется женщина, вон сколько их, безработных! Давай увеличим зарплату, в конце концов.
Галка меня перебила:
– Макс, ты о чем? Допустим, сиделка найдется. Но где гарантии, что завтра она не сбежит? Ты можешь их дать? И я не могу. Через неделю я уезжаю к детям. Ты остаешься один, без меня. И если что, ты справишься, Макс? Все, тему закрыли. У меня на примете есть прекрасный интернат, я все узнавала. Нормальные человеческие условия, уход и врачи. К тому же ты ж понимаешь – она не в себе, и она ничего не поймет, не заметит. Это единственный и верный выход, Максим!
Но я не согласился. Женщина, кстати, довольно быстро нашлась – чудесная женщина из Приднестровья. А через два месяца я улетел во Франкфурт-на-Майне, на книжную выставку. Когда вернулся, мать уже была в приюте.
Конечно, жена все объяснила:
– Полина, сиделка из Приднестровья, конечно, сбежала! А ты сомневался? Ну и что мне оставалось? Нет, ты ответь! Тебя нет, я одна. Почему не посоветовалась? Не хотела тебя отвлекать и портить тебе настроение! Да и вообще – когда тебя нет, то за все отвечаю я, правильно?
Возразить мне было нечего – все так. Наверное, Галка права. Но меня не покидало чувство, что она воспользовалась моментом.
Нет, последний приют моей матери был вполне достойным – врачи и нянечки, питание и условия. И все-таки мне кажется, что каждый человек имеет право умереть в своей постели.
Я успел ее навестить. Один раз. Потому что тут же, через два дня после моего приезда, она умерла.
Кстати, эту Полину из Приднестровья я потом случайно встретил на рынке. Галка меня обманула. Конечно, это она рассчитала Полину. Только жене я ничего не сказал – дело было сделано, мать лежала в могиле. К чему теперь разбираться. Но цинизм жены иногда меня очень коробил.
Хотя она и вправду привыкла за все отвечать и на самом деле хотела избавить меня от неприятных действий и двусмысленных поступков. Но спасибо за это я ей не сказал.
Наш коттеджный поселок – это высоченные заборы, а не прозрачный штакетник, как в Загорянке. Асфальтированные прямые улицы, кованые фонари, будка сурового охранника у серьезного въезда – мышь не проскочит, всем ясно: здесь живут серьезные люди. Мы почти не знаем своих соседей и уж точно не ходим к ним на чай – здесь это не принято. Прайваси, личное пространство, приватная зона. Каждый отдыхает как хочет, и все дружно хотят тишины. Да и я не хочу знать, кто мои соседи, и не пойду к ним пить чай и к себе не позову. Мы просто раскланяемся при случайной встрече.
Здесь все слишком вылизано, причесано, слишком правильно и грамотно, слишком красиво. Здесь нет души. Но есть воздух и лес за окном. Все, решено. Я еду в наш рай под названием «Золотистая роща», это название нашего поселка. Не золотая, а золотистая! Каково?
Я вел машину, и с каждым накрученным километром у меня появлялась надежда, что я смогу, что у меня что-то сдвинется и я смогу закончить роман. Какое это ужасное чувство – словно я не могу сдвинуться с места, на ногах пудовые гири. Как будто меня приковали цепями или я, как бурлак, тащу тяжеленную баржу, а она села на мель.
Леса вдоль дороги стояли яркие, зеленые и радовали глаз. Я открыл окно и стал вдыхать свежий воздух, чувствуя, как он проникает в мои прокуренные легкие.
И все же я, старый курильщик, достал сигарету – что поделать, привычка. Сделал затяжку и тут же выбросил сигарету в окно – курить мне расхотелось. «Вот, – подумал я, – так, глядишь, и расстанусь с этой пагубной привычкой».
Я подъехал к шлагбауму, и из будки охранника не спеша вышел парень в черной фирменной форме. Глянув на меня, он кисло кивнул и нажал на пульт. Проезд был открыт.
«Все правильно, – усмехнулся я, – меня здесь держат за приживала. Хозяйкой считают мою жену – это она вызывает у них уважение. Это с ней, с моей строгой супружницей, все считаются. А я так, пописать пришел. Ну и черт с вами».
Выйдя из машины, я все-таки закурил и оглядел дом и участок. Красиво, нечего сказать. Даже в наше отсутствие здесь был полный порядок – газон пострижен, клумбы полны цветов. Галка, моя драгоценная, умела держать и содержать, умела всех построить и приспособить. Я понял, что все еще злюсь на мою справедливую женушку. Ох, и как злюсь!
Я зашел в дом и в который раз подивился вкусу супруги. Гений дизайна, подумал я. И как это все у нее получается, а? Кожаные темно-вишневые, в английском стиле кресла. Бежевый, в перламутр, ковер у камина. Темная, строгая, тяжелая мебель и люстра венецианского стекла. «Дорого-богато», – как сейчас говорят. На кухне царил идеальный порядок – ни пылинки, ни соринки. Наверное, Тома на днях прибиралась. В холодильнике лежал набор самого необходимого – минеральная вода, апельсиновый сок, пачка масла, запечатанный треугольник сыра дор-блю и баночка красной икры – Галке отлично известен мой вкус. Вот только хлеба нет – это понятно. Но зато есть галеты, ура! Я почувствовал, что проголодался, сварил себе крепкий кофе, намазал сыр на галеты и вышел на террасу, обращенную в лес.
Усевшись в легкое кресло из ротанга, я отхлебнул кофе и наконец расслабился. А ведь она права, моя многомудрая жена, здесь красота, а я не ценю ни этот дом, ни свою замечательную жену, создавшую все это для меня. «Только чтобы тебе было комфортно! Чтобы ты был доволен, любимый! Только чтобы тебе хорошо работалось, дорогой!»
Но вместо работы я улегся на диван и тут же уснул.
Тому я решил не вызывать – видеть никого не хочу и как-нибудь прокормлюсь. Пачка пельменей есть в морозилке наверняка, а там глядишь, схожу в магазин или съезжу в поселок, в кафе. Не пропаду.
Проснулся я среди ночи, почувствовав, что замерз. После горячего душа и чашки крепкого чая наконец сел на компьютер.
В почте болталось пару писем. Так, опять от этой Марины Николаевны. Что-то расписалась восторженная училка. Хотел сразу стереть, но открыл.
Я читал письмо от этой Марины и думал: «Надо же, девушка-то отлично знает мое творчество, что безусловно приятно».
Наверное, отвечать не стоит – это может перейти в тягомотное и ненужное мне общение. Но я так боялся открывать рабочий файл, что тянул время и понимал, что боюсь снова понять, что ничего у меня не получится.
Ну что ж, спасибо, дорогая Марина Николаевна! Вы слегка оттянули мою казнь – вот за это низкий поклон! И я вам отвечу, моя милейшая! Потому что я трус и боюсь сам себя.
Дорогая Марина Николаевна! Спасибо за ваше письмо! Спасибо за признание моего скромного труда! Это большое счастье – услышать, что ты кому-то помог. Большего счастья, кажется, нет.
Вы совершенно правы – невозможно написать остро, проникновенно, не пережив глубокого душевного кризиса. А он мне, конечно, знаком. Не знаю, смог бы я писать, не будь в моей жизни трагичных историй и поворотов. Хотя, думаю, трагизма хватает в любой человеческой судьбе – здесь я не одинок. Были у меня такие страшные, невыносимые и затяжные минуты отчаяния, что жизнь почти обесценилась, если по правде. И вот тогда, именно тогда, моя, с позволения сказать, писанина и вытаскивала меня. Впрочем, писать я начал давно, лет с двадцати. Почему? Я и сам не могу ответить на этот вопрос. Наверное, это была потребность в общении. В юности я был одинок. Жизнь моих родителей не сложилась, единственные близкие люди – бабка и дед – ушли рано. Человек я достаточно замкнутый, друзей у меня нет. И я стал говорить с самим собой. Я выплескивал на бумагу свои печали, мысли, тревоги, сомнения. Я не понимал, как в моей голове рождаются сюжеты? Честное слово – не понимал. И по сей день это самый каверзный вопрос для меня – как? Я не знаю.
Я писал, и мне становилось легче. И вот что странно и смешно – когда, казалось, все становилось на свои места и все успокаивалось, как это бывает обычно, и щедрая жизнь давала небольшую передышку, писать мне становилось сложнее. Чудеса, да и только! Видимо, душе нужен раздрай, встряска, ведро ледяной воды. Кажется, я слишком вас нагрузил. Простите великодушно. Еще раз спасибо за ваше письмо! Надеюсь, что в вашей жизни все хорошо – вы что-то писали по поводу важных и добрых перемен.
Я искренне этому рад. Будьте счастливы и здоровы – это, кажется, главное. Ну а все остальное приложится.
Сердечно ваш,
Максим Ковалев
Отправив, прислушался к себе – кажется, стало полегче. Страх перед белым листом, знакомый каждому, вроде отпустил. Надолго ли?
Синее вордовское окно долго грузилось, и это на пару секунд продлило мою передышку. И вот наконец текст. Я подобрался. Выпрямил спину, пару раз сжал кисти. Выдохнул и глубоко вдохнул. Ну, поехали? Господи, помоги!
Марина
Я привыкаю к своему новому статусу: я невеста. Конечно, в моем возрасте это звучит смешно. Но это так, я невеста.
Геннадий предложил поужинать и поговорить о нашем бракосочетании. Он выразился именно так – «бракосочетание». И мне почему-то стало смешно. Я глупая, да?
Был июнь, и у меня начались каникулы, я была совершенно свободна. До вечера я валялась на диване, листала старые журналы, читала книги и щелкала пультом от телевизора. Дремала, пила кофе с конфетами – словом, ленилась.
Я считала дни и понимала, что их остается все меньше и меньше. Все меньше и меньше времени до начала моей новой жизни. До несвободы. Скоро, очень скоро я уйду из своей квартиры и стану хозяйкой нового дома. Мне предстоит стать женой.
Все, шуточки кончились. Хотя какие шуточки? Мне было совсем не до смеха.
Я невесело вздохнула и пошла собираться на свидание с моим женихом. Я уложила волосы, накрасила глаза, надела свой любимый костюм – синюю юбку и белую блузку с воротником-матроской. Критично оглядела себя в зеркало – что ж, ничего плохого. Вполне симпатичная женщина средних лет. Жених ждал меня в машине у подъезда. Как истинный кавалер, чмокнув меня в щеку, открыл пассажирскую дверцу.
Я села в машину и боковым зрением глянула на него. Он был хорош – во всех смыслах хорош, мой «нареченный»: строен, вполне симпатичен, седовлас, мужественен, гладко выбрит и серьезен – впрочем, как всегда. У него всегда строгое и даже суровое выражение лица – кажется, что человек никогда не расслабляется. Да так оно и есть – чувства юмора у него не было совершенно! Он никогда не смеялся и даже почти не улыбался. Признаться, такие люди меня всегда пугали.
Мы зашли в ресторан, и я увидела в большом зеркале холла красивую пару. Мы и вправду шикарно смотрелись.
Мы заказали напитки и легкий ужин. Сделав пару глотков вина, я почувствовала, что немного расслабилась. И от смущения и страха сама завела разговор. Тон мой был шутливым и кокетливым, словно я говорила не со своим будущим мужем, а с внезапно встреченным случайным кавалером.
– Ну, и какие предложения? – кокетничала я, словно молодая девица.
Геннадий предложил провести свадьбу в Ницце – скромную свадьбу на четверых.
– А кто еще? Кто остальные? – удивилась я.
«Остальными» оказался его главный партнер по бизнесу, некто Котельников (это имя я слышала), вместе с молодой супругой – два года назад они купили там дом.
«Ого! – подумала я. – Хороший партнер у моего жениха – дом на Лазурном побережье».
– А как же мои? – удивилась я. – Как мама и Ника? А Любочка?
Геннадий нахмурился и припечатал:
– Мы не в том возрасте, чтобы праздновать свадьбу с размахом.
– Ничего себе «размах», – усмехнулась я, – самые близкие и дорогие, дочь и мама, – это размах?
Он равнодушно пожал плечами:
– Ну посидим с ними потом, в Москве, в каком-нибудь ресторане. Кстати, хочешь, здесь! Здесь, по-моему, хорошая кухня.
Я сжалась в комок: «где-нибудь здесь», «хорошая кухня». Мамы и дочки, самых дорогих мне людей, на моей свадьбе не будет, а будет Котельников с новой супругой. Наверняка ее зовут Кристина или Снежана. Мне кажется, что всех их, новых и молодых жен богачей, зовут именно так. Я живо представила эту супругу – силиконовая грудь, нарощенные волосы и ногти, накачанные губы и ноги длиною в мой рост.
И мне стало тошно.
– Нет, – ответила я, – так не будет.
И мне очень захотелось домой.
Сославшись на головную боль, я встала из-за стола и пошла к выходу, а растерянный Геннадий позвал официанта, чтобы расплатиться. На улице было прохладно и пахло каким-то душистым растением.
У меня и вправду разболелась голова – как накаркала.
Я видела, что Геннадий недоволен мною, и мы всю дорогу молчали. Я поймала себя на мысли, что всегда чувствую перед ним себя школьницей. И почему-то всегда виноватой. Я сухо попрощалась и вышла из машины. Он не взял меня за руку, не обнял и не чмокнул в щеку. Он смотрел перед собой, еще больше нахмурив брови.
Зайдя в подъезд, я прислонилась к прохладной стене. Господи! Какой же несчастной я себя чувствовала! И еще – я окончательно поняла, что все будет именно так, как хочет он. Все будет так, как он скажет. Если вообще будет.
Я зашла в свою квартиру и немного успокоилась. Дом, мой родной дом! Как я тебя люблю! Как мне спокойно в родных, любимых, таких знакомых стенах! Только скоро у меня не будет моего дома. Скоро здесь будет жить чужой человек. А я тоже буду жить в чужом доме. Вот так получилось.
А может быть, я все слишком драматизирую? Может быть, надо попроще? Только я не умею. Вот в чем беда.
Я налила себе чаю, уселась в любимое кресло и включила компьютер. В почте болталось пару писем.
И одно из них было от Ковалева.
Я почувствовала, что мне стало трудно дышать. Да такого не может быть. Он снова ответил? Я боялась открывать письмо, у меня тряслись руки, как у девочки-пятиклассницы, получившей первую любовную записку от мальчика.
Письмо я перечитала раз десять. Меня, кажется, зазнобило. Я встала из кресла и зашагала по комнате. Детская привычка – тоску и тревогу мерить шагами. И я взялась за ответ.
Дорогой Максим Александрович!
Спасибо большое за ваши откровения. Вы и представить себе не можете, как я горда от того, что вы поделились со мной, с незнакомым вам человеком, абсолютно случайным, обычной поклонницей! Для меня это очень ценно, честное слово! Простите великодушно, что так долго «шаркаю ножкой» – наверное, вам сложно это понять – где вы и где я? Я не принижаю себя, ни в коем случае. Просто мы с вами с разных планет! Вы – на яркой, талантливой, светлой, блестящей. А я – на серой, обычной – асфальтовой, что ли?
Простите, что вторгаюсь в высокие сферы – наверное, это большая наглость с моей стороны. Конечно же, я ничего не понимаю в этом таинственном и сложнейшем процессе, коим является творчество.
Даже вам, по вашему же признанию, не совсем ясен этот странный, необъяснимый механизм. Но я чувствую, простите! – чувствую, как это может быть сложно. Не просто сложно – невозможно, нечеловечески сложно!
Только большому таланту по силам такое. Не просто прочувствовать, пережить, перестрадать, опуститься и возродиться, но и переложить свои чувства, мысли, переживания на бумагу. Донести до нас, ваших читателей. Да и как донести – так, что захватывает дух, сжимается от боли и восторга сердце, перехватывает дыхание и ты понимаешь, что снова живешь! Тебя вытаскивают за волосы из такой мути, черноты, страха, кошмара, неверия.
Мне думается, что ваш труд сравним с высоким трудом целителя. И снова простите за пафос, трудно не сбиться на него в таком разговоре, при таких откровениях.
Когда читаешь книгу, меньше всего задумываешься о том, сколько все это стоит писателю, через что он прошел, как истрепал, измучил свои душу и сердце, в чем он черпает силы?
Как можно прожить столько жизней? Не понимаю. Пережить со своими героями все их беды, все коллизии и не рехнуться?
Невозможно! Невозможно, не натерев свое сердце на терке, не пропустив через себя, пройти со своими героями все жизненные перипетии, все страдания и описать это так ярко, так искренне, что сразу веришь. И сомнения не возникают – ни-ни! Все это было.
Чем можно взять читателя за душу? Перелопатить ее, вывернуть наизнанку, перевернуть? Это возможно в одном случае – надо быть честным, вывернув душу свою. Только без фальши.
Так и гениальные актеры, наверное, отдают всего себя, не сберегая и не думая о последствиях. Знаете, есть множество авторов – наверное, замечательных. У них хороший и легкий слог, и присутствует интересный сюжет.
С ними не возникает душевного контакта. Почему? Я не знаю. Почему-то не сопереживаешь героям, и, закрыв книгу, ты тут же ее забываешь. Странно – почему? Ну я не знаю, честно! У каждого свой автор, свой кумир, свой герой. Я говорю сейчас про современную прозу – классиков обсуждать не берусь. Наверное, не имею на это права. Конечно, – и там у меня есть любимцы – Чехов, Бунин, Куприн. А вот Толстой и Достоевский… Нет, я понимаю – гении. Но, как говорится, не мое. Читая ваши книги, я провожу параллели с любимым Антоном Павловичем – надеюсь, я вас этим не обидела.
У вас много иронии, тонкого юмора, самоиронии, правды жизни, без прикрас. Вы тонко чувствуете женскую натуру, всю ее сущность, даже немного ставится страшно. Кажется, вы знаете о женщине все. Как такое возможно? Видимо, вы, тонкий знаток женщины, обладаете к тому же не только опытом, острым глазом, но и огромным, умным и щедрым сердцем. Сердцем мужчины с большой буквы.
Ох, снова я вас утомила. Простите. Но, поверьте, это только мой восторг и мое восхищение вами!
А по поводу метущейся души… В эти сферы я не имею права вторгаться. Но от всего сердца, от всей души, желаю вам душевного комфорта и внутреннего покоя. Мне кажется, от этого все и зависит. Если живешь в ладу с собой, у тебя все получается. А если неладно внутри… но, ради бога, вы все равно пишите! Пишите как угодно – потому, что плохо у вас не получится. Просто не получится и всё – по определению.
Будьте только здоровы и благополучны, очень вас прошу!
А поводу перемен в моей жизни. Да, кажется, перемены эти радостные. Только мне как-то грустно. Наверное, я боюсь перемен. Я большая трусиха.
Еще раз извините! Желаю вам всего самого-самого. Будьте счастливы и покойны.
Ваша верная и преданная поклонница
Марина Сторожева
Спать я легла совершенно счастливой! Вот чудеса!
Максим
Зря я надеялся. Ничего не получалось. Ни-че-го!
Я тупо смотрел на экран, и в голову не приходило ни одной умной мысли.
Я резко вставал, отшвыривал стул и громко хлопал дверью.
Абсолютная уверенность, что на даче все получится, оказалась всего лишь иллюзией. Наверное, так чувствует себя импотент – сколько ни бейся, а толку чуть. Я и был импотентом – только душевным, моральным.
Я бродил по улицам поселка – пустым и ровным, бездушным и безжизненным, таким одинаковым, как близнецы, – с одинаковыми заборами, гаражами и даже домами. И мне становилось не по себе. Я выходил за территорию поселка и шел вдоль леса, потом вдоль старой грунтовой дороги, мимо оставшихся деревенек, ждущих своего смертного часа – вот-вот снесут, не помилуют. Землица-то здесь дорогая!
Я присаживался на скамейки или лежащие бревна, курил, смотрел перед собой или разглядывал окрестности. Но меня не отпускало. Все та же мутная, давящая тоска заполняла мою душу и не давала свободно дышать. Правильно говорится – тоска смертная.
Шаркая ногами, как древний старик, я обреченно поплелся домой. Но и дома не отпускало. Мне не хотелось есть – я равнодушно что-то жевал, не чувствуя вкуса и запаха. Мне не хотелось выпивать, смотреть телевизор, слушать музыку. Мне не хотелось читать. Я забросил мобильный, не думая о том, что будет звонить Галка. На меня напало, как дикий волк, вцепившийся в холку, такое пустое равнодушие, что мне стало на все наплевать.
И становилось еще тоскливее, когда я думал о скором приезде жены. О господи! Она будет требовать показать текст, начнет звонить моему редактору и шушукаться с ней: «Ах, Лариса, Ларисочка! Я не знаю, что с ним! Нет, конечно, бывало! И проходило, вы правы! И все-таки он просто пугает меня. Какой-то чужой, молчаливый, отстраненный, холодный. Знаете, он даже не обрадовался моему приезду, вы представляете? Пройдет? Ну надеюсь. Как это – не волноваться? Что вы такое говорите, моя дорогая? Ему через два месяца сдавать рукопись, а вы говорите! Да там конь не валялся! Оставить в покое? О чем вы? А вы? Как вы это все объясните? У вас же тоже обязательства, Лара! А у нас, между прочим, путевки! Да, путевки – в Италию. Безумно дорогие, между прочим! Нет, я просто не понимаю, что нам с вами делать! Может быть, вы попробуете, а? Может, это подействует? Я просто в полной растерянности, просто в шоке!»
Бедная Лариса, конечно, растеряется. Она много мучилась со мной – я часто не успевал к сроку, морочил голову, ныл и канючил. Замечательная моя Лариса! Умная, тонкая, чуткая. Мне с ней сказочно повезло. А вот ей со мной – не уверен. Я здорово подведу ее, если не сдам книгу в срок. У них тоже план, ей влетит. Я не хочу ее подводить, но как ей объяснить? Как объяснить всем, включая мою жену, что в этом нет моей вины, что я очень стараюсь, но не выходит. Меня страшно мучает, гнетет и грызет. Мне стыдно и горестно. И еще мне очень страшно. Вдруг это всё? И больше никогда у меня ничего не получится? Но и сделать я ничего не могу. Мне просто не пишется. У меня не выходит. А если выходит – то плохо, отвратительно.
Мне стыдно плохо писать. Я знаю, что умею писать по-другому!
Главный цензор для себя – я сам, при всем уважении к моей прекрасной Ларисе, к моей драгоценной супруге и к моим любимым читателям.
А вечером я напился. Господи, сколько лет я не пил! Нет, выпивал, конечно, но не напивался. Галка всегда строго контролировала меня, памятуя о моих былых подвигах.
А после третьего стакана коньяка почувствовал такую небывалую легкость, что тут же испугался самого себя: а вдруг? Да нет, вряд ли! Скоро, совсем скоро подъедет моя строгая женушка и возьмет меня в ежовые рукавицы и скрутит. Она это умеет.
Я валялся на диване и слушал Высоцкого:
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому, по краю Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, Чую с гибельным восторгом – пропадаю, пропадаю… Чуть помедленнее, кони! Чуть помедленнее! Вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые. И дожить не успеть, мне допеть не успеть…Я плакал, но мне было так хорошо! В какой-то момент мне даже показалось, что вот сейчас, сейчас я открою ноутбук, и – смогу! Но тут же испугался разочарования и мысль эту прогнал. Нет, не буду уничтожать свое короткое, зыбкое счастье. Меня отпустило. Пусть ненадолго, но я мог дышать.
На полу, возле кресла, валялся мой телефон. Я глянул – нет ли звонков от жены. Нет, пропущенных звонков не было. А вот на почте болталась пара непрочитанных писем. Одно из них было от госпожи Сторожевой – моей преданной и верной поклонницы, как называла себя она. У нее был смешной электронный адрес: stomarin, и я его, конечно, запомнил. Сторожева Марина.
Stomarin – похоже на название лекарства от горла. Или – сто Марин. Как вам угодно. Я налил себе четвертый стакан коньяку и открыл письмо.
Почему я заплакал? Да потому, что банально напился. Нет, конечно, все это было мило и трогательно, даже для такого прожженного циника. «Слезы катились по его небритым щекам…»
Я перечитал письмо дважды и взялся за ответ. Конечно, я понимал, что делаю очередную глупость – этого делать не надо.
Я – человек опытный и прекрасно понимаю опасность подобных игр – не надо, не стоит вступать в интимную переписку с незнакомым человеком, ни-ни! Мало ли кем окажется эта экзальтированная дамочка? Вполне возможно, неуемной психопаткой, пишущей душевные письма еще десятку мудаков, вроде меня? Здесь важно чувствовать край, тонкую грань – от и до. Иначе рискуешь втянуть себя в опасную игру, где вход – рубль, выход – два, потом не отвяжешься.
Но тем не менее я стал строчить ответ, не очень раздумывая о правильности своих действий.
Дорогая Марина Николаевна! Спасибо за ваш быстрый ответ!
Правда, вы меня сильно смутили. Пожалуй, столько хороших слов в мой адрес еще не звучало.
Скорее всего, я не заслуживаю такую превосходную степень.
Я счастлив, что мы так совпали, и даже в литературных пристрастиях – Антон Павлович и мой любимый писатель! И Куприн, и Бунин – вот чудеса! А ваше сравнение меня с моим кумиром приятно, еще как! Только вряд ли справедливо – вы ко мне слишком добры. Я, уж поверьте, этого не стою. И все-таки я поражен – мне любопытно узнать о ваших музыкальных вкусах, пристрастиях в живописи. Очень любопытно, ей-богу! Неужели мы и в этом можем совпасть? Нет, невозможно. Скорее всего – невозможно, так не бывает.
А по поводу вашего восхищения моими человеческими качествами… Здесь вы сильно заблуждаетесь, дорогая Марина! Я далек от совершенства.
Мужчина с большой буквы. Вряд ли таким считают меня мои бывшие женщины. Я много чего натворил – уж простите мою откровенность. Я не просто был далек от идеала «настоящего мужчины», а был настоящей, конченой сволочью.
«Не сотвори себе кумира». Как это верно! Поверьте, и среди нас, «инженеров человеческих душ» и «властителей умов», бывают законченные подонки – история, кстати, это отлично иллюстрирует. Ну, вспоминайте!
Все мы, живые и смертные, легко наступаем тяжелыми рифлеными подошвами на чужие души и, не оглядываясь, идем себе дальше. Особенно в молодости, увы… Но и это нас не оправдывает. Я оставил двух детей и ни разу – ни разу! – не поинтересовался их судьбами. Ну, каково? Моя старшая дочь инвалид… Моя мать умерла в интернате. И это при живом и успешном сыне!
Не стоит идеализировать меня, ей-богу! Да и вообще – людей. А уж мужчин… Мы – худшая часть человечества. Лучшая – вы! Это совет от меня, тонкого знатока женской души, по вашему же утверждению,
Знаете, человек хочет изменить мир с самыми благими намерениями, а портит жизнь двум-трем самым близким и горячо его любящим. Вот такой парадокс.
Не уточняю про ваше «радостное событие» и ваши страхи в связи с этим, но – уверен! – вы все преодолеете и со всем справитесь. И будете самой счастливой на свете.
Простите мои выпады, откровенность, скорее всего, никому не интересную и уж точно – ненужную!
Просто у меня сейчас сложный период. Вы верно заметили: душевный покой и комфорт – все, что нужно для счастья. Все! И я, тип нахальный и наглый, больше у судьбы ничего не прошу. Но она пока возражает. И кризис мой продолжается, увы! В общем, иду в ногу с любимой страной, в смысле – ко дну.
С удовольствием остался бы в кризисе один! Без страны.
С уважением и нежностью – ваш К.М.
Прошу прощения за свой пессимизм.
Я отправил письмо и закрыл глаза. Меня тут же потянуло в сон – еще бы, так подло напиться. А перед тем, как уснуть, я подумал, как зверски завтра будет болеть голова.
«Так тебе и надо, ленивая сволочь!» – подумал я и отвернулся к стене.
И еще – господи, вот этот мир! Я противен сам себе, презираю себя за многое, помню все свои подлости, и через три дня меня будет трясти и поносить – совершенно, кстати, справедливо! – моя собственная жена, которая знакома со мной лучше других, которая знает меня вдоль и поперек. А чужая, незнакомая женщина, вполне возможно, красивая, нежная и замечательная, восхищается мною, как влюбленная в учителя школьница!
Смешная и нелепая жизнь!
Утром нестерпимо болела голова и во рту было так отвратительно, словно я пил не дорогой французский коньяк, а жрал крысиное дерьмо. Я сварил себе крепкий кофе и встал под контрастный душ. Через час мой изношенный организм сжалился, и я снова твердо решил взять себя в руки.
– Всё, всё, всё, – бормотал я, накручивая круги по участку. – Вот сегодня, сейчас… Нет, честное слово! Именно сегодня и сейчас! И у меня все получится!
Я взбодрился и почти поверил в это. Вошел в дом и скривился – невыносимо воняло кислятиной и перегаром. Распахнул окна и наконец открыл свой многострадальный комп.
И снова все повторилось. Я перечитывал жалкие страницы вымученного текста, и меня начинало мутить. В первый раз я не знал, как мне со всем этим быть. «Так, все! – решил я. – Перерыв! Я устал, я измучился, почти умер. Зачем, к чему? К чему так мучить себя? К чему выдавливать из себя, вымучивать то, что совершенно неудобоваримо? Какой в этом смысл? Пройдет – что ж, спасибо! Спасибо господу и еще не знаю кому. А нет – так и бог с ним! Я написал одиннадцать книг. Много это или мало? А черт его знает! Но эти одиннадцать книг были хорошими! Мне не стыдно за них, они честные и искренние, выстраданные.
А падать так низко только ради гонорара, ради авторских? Нет, увольте! Мои изданные книги выходили большими тиражами и прекрасно продавались. По трем сняты фильмы. Мне есть чем гордиться. И у меня есть сила духа, чтобы признать и вовремя остановиться, чтобы потом не помереть от стыда. Я отпускаю ситуацию и отпускаю себя. Всё. Я так решил.
Завтра приедет Галка, и я ей всё объясню. И конечно, она все поймет. Моя жена – большущая умница! Она поддержит меня и успокоит – деньги у нас, слава богу, есть. Есть на что жить, и жить неплохо. Ну а дальше – как бог даст».
Я бодро вылез из кресла, взял кошелек и решил поехать на рынок, подготовиться к приезду жены. И мне показалось, что стало полегче. Я прислушался к себе. Да, вроде так и есть! И я почти успокоился, повеселел и подумал: «Только бы не вернулась моя бессонница, только бы не накрыло меня снова ночью. Но до ночи, слава богу, было далеко, а впереди был солнечный и теплый, полный приятных планов день». Ну и прекрасно. И еще. Я подумал, что соскучился по Галке. Но хочу ли я ее видеть? Хочу, но боюсь? Я всегда боялся сильных женщин. А они всегда мне встречались – Ирка, Нина, Алиса. И Галка. Все и всегда они за меня решали. Все и всегда. Все это бредни про наш партнерский брак. Ерунда! Не было у нас партнерского брака, это придумала моя жена. А на деле она и только она все всегда решала за нас обоих. И что получалось – она «сделала» меня и она же меня и уничтожила.
Моя жена – атомный ледоход. Она снесет на своем пути все, что ей будет мешать. В том числе и меня, я это знаю. Ох, как это громко звучит! И это я, конечно, пытаюсь оправдать свою несостоятельность. Галка прекрасна. Я, как всегда, ужасен. Я трус и подлец. Почему я не могу жить по-человечески, почему мне неловко в этом удобном мире, который создала для меня же моя дорогая жена? По-че-му? О какой свободе я мечтаю? Ведь свобода – это прежде всего деньги. Так говорит моя жена. И почему я, взрослый мужик, известный писатель, так боюсь ее гнева?
Ничего я не умею ценить, это чистая правда.
Марина
Господи, бедный, бедный, Максим Александрович.
И ему досталось. Хотя чему удивляться. Говорят, что всем выпадает по силам. Не знаю. Мне часто казалось, что это не так. По каким таким силам мне было послано испытание с Сережей? У кого хватит сил пережить такое горе? Разве то, что я выжила, говорит о моей силе? Ничуть. Я выжила потому, что мне надо было растить дочь и поддерживать маму. Всё. Одно только чувство ответственности меня удержало на этом свете. И это говорит о моей силе? Ерунда. Я ни минуты не хотела жить. Жизнь была мне в тягость, я ее ненавидела. Самое легкое и даже приятное – выпить пачку таблеток и уснуть. Если бы я сделала это, если бы у меня хватило на это сил… Вот тогда бы я и была человеком сильным. А то, что я здесь осталась, – это слабость. Тогда я ненавидела жизнь, а теперь отношусь к ней снисходительно.
Я снова перечитала письмо и заплакала. От жалости ко всем людям, ко всем страдающим, пережившим и переживающим.
Хороший человек отличается от плохого тем, что страдает после совершения подлостей. А не тем, что подлости не совершает. Старая истина.
И я села писать ответ. Как я могла не ответить? Человек поделился со мной сокровенным, тайным. Он рассказал мне то, что, скорее всего, не рассказывал никому. Или я опять обольщаюсь? Ну и пусть. Я реагирую так, как умею. Так, как считаю нужным. Я постараюсь его утешить, сказать теплые слова: захочет – прочтет. А на нет и суда нет. Мое дело – ответить. Да и как можно не ответить на такое письмо?
Максим Александрович! Спасибо за откровенность! Это так ценно для меня, что я, честно говоря, немного растеряна. Но ведь так часто бывает – откровенничаешь с совсем незнакомым тебе человеком. Мне кажется, что это нормально – как попутчики в поезде. Я человек скрытный, интроверт, и страдаю от этого. Мне всегда кажется, что моя история вряд ли кому-то интересна. Зачем? У всех свои печали и горести. Я только одна из многих обычных и заурядных людей.
Замуж я вышла по очень большой любви. По любви, которая выпадает не всем. Это было такое огромное счастье!
И, будучи совсем молодой и неопытной девчонкой, я понимала это и дорожила этим. Поначалу у нас не было ничего – ни своего жилья, ни денег. Обычная история. Но нас ничего не смущало и не пугало, мы были счастливы, оглушительно счастливы. Мы так совпали, что нам самим не верилось в это. Мне казалось, что неприлично быть такими счастливыми.
Потом у нас родилась дочь, и мы стали еще счастливее. Ни бессонные ночи, ни вечный дефицит всего, ни пачка пельменей на два дня, ни два яблока на неделю, и те ребенку, нас не расстраивали и не пугали. Да, мы были еще счастливее, чем прежде.
А потом у нас появилось жилье. Свое жилье, господи! И снова не было людей, счастливее нас. Мы строили планы, мечтали. Мы хотели родить второго ребенка, мечтали о сыне, спорили о том, как мы его назовем. Мы мечтали поехать в путешествие – в Крым, на Кавказ, в Прибалтику.
Мы были полны надежд и планов, и нам казалось, что впереди у нас длинная, красивая и счастливая жизнь. А как по-другому?
Моего мужа убили, когда наша дочка была совсем маленькой. Убили наркоманы, ублюдки, нелюди.
И все, кончилась жизнь. Много лет я жила в оцепенении – словно меня поставили на паузу – замри. Нет, я не лежала – ходила на работу, варила обед, тащила дочку в школу, ездила к маме. Но я не ощущала себя, не чувствовала. Вместо меня жила моя тень, мой двойник. И внутри этого существа ничего не было – одна пустота. Я разучилась чувствовать запахи, не различала цвета, не замечала, что ем. Я была роботом, прилежной машиной, автоматом для стирки, готовки и глажки.
Плакала я по ночам, чтобы не услышала дочь. Мне ничего не хотелось – только бы немного поднять дочь, довести ее до разумного возраста, а там… Меня грела мысль о заветной пачке снотворного.
И тут мне попалась ваша книга – это был «Осенний роман». Я прочла его, наверное, раз десять, не меньше! И с каждым разом мне становилось легче. Я задышала, как будто – простите за дурацкое сравнение – из меня вынули кляп, не дававший мне сделать глубокий и громкий вдох.
Я стала снова чувствовать запахи, различать цвета, получать удовольствие от еды. Я осторожно, по капельке, снова пыталась учиться жить. Вы понимаете – жить! А не сладострастно мечтать о пачке таблеток.
Потом была вторая, «Твой навсегда». И знаете, она меня всколыхнула ничуть не меньше, чем первая!
На следующее утро я бросилась в книжный и купила все, что стояло на вашей полке. Мне казалось, что я знаю всех ваших героев лично – кого-то люблю, кого-то ненавижу, кого-то жалею, а кого-то презираю.
Например, Кузнецов из «Твой навсегда» стал моим любимым героем. Да, он совершил кучу ошибок, всё так. Он причинил много боли близким людям. Но и он страдал! И как! Да, у него в его анамнезе были и трусость, и даже подлость – по отношению к Тане, да? Но он так дорого расплатился за это. Такая цена – господи не приведи.
А Марта из «В полдень, восьмого»? Как я восхищалась ею! Какая сила духа, какая чистота! Как она смогла все выдержать, все пережить и при этом остаться такой же светлой и доброй? Как она не сломалась? Мне становилось стыдно за свое нытье, за свою слабость.
А Чурилин из «Прощального ужина»? Такой огромный талант и такая страшная судьба. Слава богу, в конце жизни судьба послала ему Светлану. И снова испытания – ее болезнь… Казалось бы, люди выпили свою горькую чашу. А оказалось, что до дна далеко.
И Ирма из «Встречайте, последний вагон!»? Вот уж судьба… И остаться такой же смешливой, легкой, прелестной?
Кожинцев из «Номер телефона остался прежним»? Игорь Кожинцев, с его страшным ранением, с его нежеланием жить. И Маша, его жена. Она нашла его, не сдалась, не отказалась от инвалида. Вопреки всему, вопреки страшной, жестокой судьбе!
Я думала тогда: если бы выжил Сережа, мой муж. Если бы выжил! Пусть без ноги или руки, любой, любой, только бы жил! Как я завидовала Маше Кожинцевой! Какая она счастливая – ее Игорь был жив.
Подлец Филоненко и стерва Тараскина, лгунья Лизон и «нежнейшая» Светлана Гулевич – все эти люди, даже самые отвратительные, самые гнусные, стали мне невыразимо близки. Я искала им оправдание – как, почему? Что с ними случилось, отчего они стали такими? Я проживала их жизни, с каждым из них – их беды, их болезни, их радости. Вы пишете о маленьком человеке, обыкновенном, рядовом, неприметном – например, о таком, как я. Таких – миллионы. На первый взгляд все мы одинаковы. Мы, словно муравьи, копаемся в своих проблемах, суетимся, пытаемся что-то исправить, изменить, перевернуть. У нас часто не получается, наши старания тщетны, но мы снова пытаемся, снова карабкаемся и поднимаемся – и все это незаметно для стороннего глаза, для окружающих – наша маленькая жизнь и маленькая суета.
Все это растворено в пространстве и вечности – маленькая жизнь маленького человека. Но – это наши жизни. И жизни ваших героев.
И я вместе с ними снова дышала. Я снова жила.
А вы говорите.
А потом мне встретился человек. Нет, ничего плохого! Просто это было не то, ради чего стоило ломать очень крепкие копья.
Меня мучило то, что он врет. И то, что я оказалась в ловушке сладкого, но густого и вязкого обмана. Мы были вместе довольно долго, почти три года. Только стала ли я от этого лучше? Навряд ли. А потом я ушла и снова долго приходила в себя. Только не от любви или от горя – я приходила в себя от вранья.
Ну а сейчас меня позвали замуж. Да, представьте себе – в мои-то годы и – замуж! Мне хорошо за сорок, а я снова невеста! Позвал человек хороший и положительный – вот как мне повезло. С дамами моего возраста такое бывает не часто.
Я повторяю судьбу вашей Алки из «Времени для счастья».
Только она об этом мечтала, а я не знаю, если честно. Не знаю. Я все понимаю – возраст. Надо брать то, что есть, что дают. Нет-нет, не подумайте – ничего плохого! Только радости нет, одни тревога и страх. Может, это нормально?
Вы говорите о своих ошибках, а у кого их нет? Господи, да покажите мне этого человека! И я твердо уверена в одном – ваши «подлости» вами сильно преувеличены. Ну не может такой человек, как вы, совершить откровенную, безусловную подлость! Человек интеллигентный, думающий и страдающий всегда готов преувеличить, нежели приуменьшить. Оправдать другого, но не себя.
А то, что вы не общаетесь с детьми… Так это же можно исправить, верно? Уверена – можно. И снова простите, что вторгаюсь в такую личную, даже интимную сферу. Значит, так распорядилась жизнь, поставив вас в такие условия. Ведь самое главное – если есть шанс, возможность что-то успеть и исправить!
А обиды ваших бывших женщин… А как они хотели? Наверняка жить рядом с талантливым человеком – огромная сложность.
Ваша мама… Да, здесь уже ничего не исправить, увы. Но думаю и даже уверена, что вы давно отмолили свой грех и попросили прощения. И ваша мама простила вас. Мамы всегда прощают детей. И повторю в сотый раз – не мучайте себя! Ну не может человек, написавший такие книги, помогающий людям так, как не может помочь самый лучший психолог, быть плохим.
Будьте великодушны и не сердитесь на меня, прошу вас!
И еще мне кажется – снова простите, – что если не получается, если через силу, то, может быть, это знак? Не надо, нужны перерыв, смена декораций?
Не знаю – мне трудно судить. Да и, наверное, я не имею на это права…
Да! Вы спросили меня про мои музыкальные пристрастия – знаете, я люблю Листа и Шуберта. Конечно, Чайковского! А если про современников, то это Эннио Морриконе. Помните лейтмотив «Однажды в Америке»? Я всегда плачу, когда слышу. Мне кажется, это лучшая мелодия современности. Почему – объяснить не могу. Разве можно объяснить любовь?
А если о живописи – вот тут просто – я страстная поклонница Климта и Мухи, Врубеля и Бердслея. Мне нравятся изломанность линий и грациозность силуэтов. Томная, пленительная, изнеженная, загадочная и прозрачная пастельность женщин эпохи модерна и арт-нуво.
Вы, конечно, помните климтовский «Поцелуй»! А ведь не все замечают, что она стоит перед ним на коленях! Но она поклоняется не ему – она поклоняется любви!
И сине-голубая «сказочность» Врубеля…
Я страстно люблю стихи, как восьмиклассница. На прикроватной тумбочке со мной всегда Пастернак, Ахматова, Пушкин.
А если о прозе жизни, то я страшная кофеманка! И еще пожирательница кислых и твердых яблок! Запах антоновки меня сводит с ума!
Ой, это, кажется, лишнее. Зачем вам все это знать? Глупость какая-то.
Простите.
По-прежнему ваша преданная и верная поклонница, с уважением и любовью,
Марина Сторожева
Я выдохнула и почувствовала, как сильно устала.
Глянула на часы – ого, время! Надо сходить в магазин, перебрать шкаф – освободить место Нике. Да и вообще у меня куча дел.
Надо позвонить Геннадию. Хватит дуться, мы же не дети. Нужен конструктивный и серьезный разговор – необходимо расставить все по местам. С обид и претензий семейную жизнь не начинают. Я взрослая женщина, и мне давно надо смириться с тем, что идеальных людей не бывает.
Кроме моего Сережи. Но его давно нет.
И я набрала номер Геннадия.
Максим
Я съездил на рынок, купил мясо и овощи. Моя жена обожает «мужскую» пищу: шашлык, соленые помидоры, острую корейскую капусту. Фруктов и сладостей она не признает. Никаких бабских глупостей и сантиментов в виде шоколадки или мороженого. Она вообще не признает сантименты, моя жена. Говорит – хватит в семье такого одного.
Интересно, что она вкладывает в это слово?
Кстати, когда я начинал страдать по поводу того, что не общаюсь с дочерью, она всегда оправдывала меня: дескать виновата Нина, Наташина мать. Это она устраивала свою жизнь, в которой ты точно был лишним.
Но разве это так? Разве Нина не давала мне видеться с дочерью?
Про Дашу Галка тоже была в курсе – ну здесь она вообще веселилась. Да мало ли что в жизни было, Ковалев? Мало кто с кем переспал по молодости? А теперь за всех отвечать? Ты вообще-то уверен, что эта несчастная родила от тебя?
Я был уверен. Но подхихикнул своей жене. Да кто ж его знает?
Знал я. И этого было вполне достаточно.
Сто лет назад, когда у меня все еще было паршиво, я встретил Веру Семеновну, мою математичку из сельской школы. Конечно, случайно.
– Ковалев! Ты, что ли? – услышал я резкий вопль и тут же получил тычок в спину.
Я обернулся. Передо мной стояла Вера Семеновна, жадно шаря по мне глазами.
– Да… – разочарованно протянула она. – Ну и видок у тебя, Ковалев! Что, не сложилось?
Я равнодушно пожал плечами. Это и вправду были отвратные дни. Накануне я здорово выпил, в очередной раз поругался с матерью и в очередной раз на жизнь смотрел с отвращением.
– А я вот в город за покупками! – довольно сообщила она. – У дочери свадьба!
– Поздравляю, – кисло ответил я, мечтая об одном – побыстрее свалить.
Вера смотрела на меня с сожалением и даже с жалостью, но, думаю, мой вид доставил ей удовольствие.
– Эх, Ковалев, – вздохнула она. – У Дашки то ни разу не появился! А девочка у нее хорошая, между прочим! И на тебя, дурака, похожа!
Я молчал как пришибленный, пытаясь осмыслить, переварить ее слова.
– Да и толку от тебя! – вздохнула Вера. – Чего тебе появляться?
Она махнула рукой и, подхватив тяжелые сумки, пошла прочь.
А я смотрел ей вслед и – ничего! Я не догнал ее, не расспросил про Дашу и дочь. Отряхнувшись, как собака, я побрел по своим делам. Впрочем, какие у меня были дела?
Я кое-как прибрался в доме – получилось неважно, но звать Тому мне не хотелось. Почему? Чтобы моя жена похвалила меня. Чтобы моя жена похвалила меня?
Я посмотрел на часы – самолет приземлялся через два часа. Ого, надо спешить! С нашими пробками ничего не предусмотришь и не рассчитаешь. Я быстро побрился, пшикнул одеколоном и надел новую рубашку – ей будет приятно. По дороге я купил букет рыжих лилий – цветы скромные, садовые, но Галка и такие от меня видит нечасто. Доехал я быстро, можно сказать, повезло. Самолет еще не сел, и я отправился в кофейню перекусить и выпить кофе. Я пил прекрасный капучино и прислушивался к себе – кажется, не болит! Или все-таки да? «Так, все, успокойся, – твердил я себе. – Все будет нормально, каждый творец имеет право на это. У всех бывает застой, коллапс. Ты не первый и не последний и впереди еще – о-го-го! Передых, отдых, смена картинки – вот все, что тебе надо. Ты устал, измучился. Как здорово, что через два месяца мы едем в Италию! Как здорово, что мы едем вдвоем. Там, в прекрасной стране, мы снова станем близки. Отойдет, отодвинется наша разъединенность, наше отчуждение, обиды друг на друга».
И я стал мечтать о Тоскане, о Венеции, Неаполе.
Самолет сел, и я присоединился к встречающим. Галка вышла одной из первых – пассажиров бизнес-класса выпускают раньше остальных.
Она устала, и это было заметно. Увидев меня, она чуть расслабилась и махнула рукой. Я пошел к ней навстречу.
Увидев букет, она усмехнулась:
– Ну, хоть так, Ковалев! Признаться, и на это я не рассчитывала.
Почему-то мне стало обидно.
Но я сдержался и решил схохмить:
– Радуйся тому, что дают! Ишь, распустилась!
И мы наконец рассмеялись. Она оживленно рассказывала мне о детях и внучках, я поддакивал и удивлялся, делая вид, что это мне безумно интересно. Наконец мы приехали и зашли в дом.
– Господи, Макс! – воскликнула жена. – Ну какую же грязь ты развел!
– Разве? – удивился я. – А мне кажется, что нормально! Я вроде прибрался.
Жена покачала головой и провела рукой по каминной полке. На ладони отпечаталась пыль.
– Ну как умею! Прости!
– Надо было вызвать Тамару! – не унималась она.
А я держался, не давая волю обиде. В конце концов, она с дороги. И еще – я снова чувствовал себя виноватым. Я всегда чувствовал с ней себя виноватым. И очень обязанным.
– Я, между прочим, работал! – буркнул я.
– Да? – усмехнулась она. – Ну посмотрим, что ты там наработал!
Я вздрогнул от этих слов. Я быстро вышел во двор и стал разжигать мангал. Это меня слегка успокоило. Жена тоже взяла себя в руки и принялась доставать подарки. Я изо всех сил делал вид, что счастлив и мне все нравится, человек же старался. Но тряпки меня не радовали, увы. Наконец все было готово, и мы сели за стол.
Шашлык удался и вино, привезенное Галкой, было прекрасным. О работе она больше не спрашивала, и я был ей благодарен.
Ночью я обнял ее. Как мне хотелось, чтобы она меня пожалела! Но она мягко отстранилась:
– Не надо, Максим. Я очень устала. Мы же не подростки, в конце концов!
Я отвернулся к окну. Вся та мнимая легкость, которой я так радовался два дня, моментально исчезла, испарилась – как не было. Снова навалилась черная и тяжелая тоска – мой верный спутник.
Жена спала – я слышал ее спокойное, чуть хриплое дыхание. Я пошел на кухню и достал бутылку водки. Выпив полстакана, почувствовал, что меня отпускает.
– Я так и думала! – услышал я за спиной голос жены. – Стоило мне уехать, ты начал пить, Макс! Ты снова начал бухать!
Я не отвечал, не поворачивался к ней, продолжая смотреть в окно.
– Ты же – как малое дитя! Оставить нельзя! Кот из дому – мыши в пляс, – негодовала Галка, и голос ее набирал силу праведного гнева.
– В пляс? – уточнил я. – А, да! Точно – в пляс! А я все думаю – отчего мне так весело? Да от пляски, конечно!
– Не строй из себя страдальца! – усмехнулась она. – Это ты умеешь на пять! Только меня не обманешь, Макс, как ты понимаешь, не верю! Звонила Лариса, спрашивала про рукопись – как и что, сколько осталось? И знаешь, что я ей ответила?
Я молчал.
– Я ответила ей, что через три недели ты точно закончишь. А вчера я открыла твой ноутбук, и что я увидела там? Догадываешься? Как ты мог, Макс! Как ты мог? Ты развлекался дурацкими письмами с какой-то сумасшедшей поклонницей. Ты строчил, как подорванный, а эта дура тебе отвечала! Такой бред, такой стыд! Что ты выкладываешь, вываливаешь какой-то незнакомой бабе свои дурацкие комплексы? Хочешь услышать о том, как ты гениален? Ты ни черта не работал. Ты пил. Я видела пустые бутылки. Ты снова скатился, Макс! Тебе, конечно, привычнее в теплой и вонючей берлоге. И что теперь делать? Ответь! Что говорить Ларисе? У тебя же дедлайн! Господи, сколько я билась с тобой! Сколько усилий! А ты… Ты снова туда же!
Я повернулся к ней:
– Билась, говоришь? И что, инвестиции не оправдались? Пустые бутылки? Может, у тебя галлюцинации? Там, кажется, одна бутылка. Максимум две. Или у тебя троится в глазах? Да мне наплевать на все, понимаешь? На тебя, на Ларису, на этот дедлайн! На все это, – я обвел руками гостиную. – Понимаешь, плевать! Ты думаешь, ты меня осчастливила всем этим? Этим антиком, этими креслами? Коврами за двести тысяч? Это тебе был нужен этот дом. И моя квартира! Поэтому ты сдала мою мать в интернат! А я, мудак, тебе не возражал! Я вообще никогда тебе не возражал – ты заметила? Не возражал, когда ты собирала в этом доме гостей, твоих, заметь! Не моих! А я только терпел! Мне это было не нужно! Это тебе был нужен статус жены писателя. Ты им упивалась – как же! А мне на это… Насрать! И вообще – я уезжаю в Масолово! Слышишь? Мне не пишется здесь, понимаешь? Мне здесь душно и страшно! – Я прервался, закашляв от волнения.
– Ого! – усмехнулась жена. – Бунт на корабле! Ну-ну! Значит, в Масолово? – переспросила она. – В эту дыру? Без воды и сортира? Да ты очумел! Здесь же все есть: тот же воздух, природа, удобства. Нет, ты реально рехнулся, Максим!
И в эту минуту я понял, что случайно оброненная мною фраза про Масолово и есть моя единственная надежда, возможно, мое единственное спасение, единственный выход. Из всего этого бреда.
– Ага, в Масолово! – бодрым голосом ответил я. – Без воды и сортира!
Жена смотрела на меня с таким сожалением, как смотрят на тяжелобольных и безнадежных людей.
– Ну и вали! – ответила она, с горечью и с отчаянием добавив: – Сколько волка ни корми… В Масолово он уедет! Да не смеши! Кончились те времена, когда ты ездил в Масолово! Пил с убогими бабками самогон и жаловался на судьбу. А теперь на что будешь жалиться? На злую жену? Слушай, Ковалев! Эти все россказни не для меня. Продолжай пудрить мозг своим сумасшедшим поклонницам, вот они тебя пожалеют. И не говори мне про творческое выгорание, все эти байки – тоже для них! Ежедневный и кропотливый труд, Ковалев! Вот то единственное, что тебя спасет. – Она замолчала и безнадежно махнула рукой – дескать, что с тебя взять, с дурака!
– А ты злая, – сказал я. – Ты очень злая, Галя! А я и не знал.
– В общем, так, – устало ответила она. – Ты меня очень разочаровал, Максим. Да ладно я. А про Ларису ты не подумал?
– Я вам не раб на галерах, – взвизгнул я. – И не тебе судить о творческом выгорании! А про разочарование, дорогая, – у меня не было цели тебя очаровывать!
Это было грубо и зло. Но сдерживать себя я больше не мог. Я смотрел на Галку и чувствовал, что между нами огромная, бездонная и безнадежная пропасть. Такая, что мне стало страшно.
– Какая же ты сволочь, Ковалев! – с горечью ответила жена. – Как же так можно? Неужели ты так и не понял, что…
Я ее перебил:
– Что, собственно, я так и не понял? Что мой успех – только ваша, Галина Павловна, заслуга? Что без вас, дрожайшая, не было бы меня?
Она внимательно разглядывала меня, словно видела впервые.
– Нет, я не об этом, – с болью в голосе сказала она. – Я о том, как я старалась, чтобы у тебя было все – удобства, комфорт, окружение. Чтобы ты ни о чем больше не думал – только писал! Только работал. И все! А весь быт и всю прозу жизни, если ты это заметил, я добровольно взяла на себя, чтобы тебе было проще!
– Премного благодарен! – продолжал паясничать я. – Только скажи мне честно – я тебя об это просил? О сумасшедшем ремонте в квартире? Об антикварной мебели? О письменном столе за пятьсот тыщ? Об этом доме? – Я обвел глазами гостиную. – Я тебя об этом просил? Мне были нужны твои «нужники», твои «значительные» и статусные друзья? Мне были нужны эти пафосные рестораны с немыслимым чеком? Костюмы за пять тыщ долларов? Свитера по триста евро? Разве это сделало меня, нас – счастливыми? Ну если начистоту!
Жена рассмеялась скрипучим и злым смехом.
– А! Понимаю! Ты же у нас бессребреник! Аскет, мать твою! Ты же привык на газетке! С заштопанными локтями! Куда там мои друзья! Барахло, а не люди! Только вот живут они по-человечески, понимаешь? И стремятся так жить! И это совсем не мешает им делать карьеры и быть в обойме! Совсем! И еще – довольны и счастливы их близкие! Впрочем, для тебя это не важно. Мои друзья тебя не устраивают, – она усмехнулась. – Пустые, недалекие люди, думающие о наживе! Ну зато у тебя друзья – твои сумасшедшие бабы! Конечно, сплошной мед на израненное сердце. Такие оды поют – просто слезы из глаз!
Я почувствовал, как затрясся от злобы:
– Ты читала мою переписку? – Кажется, я зарычал. – Да как ты посмела! Это же низко!
– Низко? – с улыбкой осведомилась жена. – Ах, да! Там столько интима, я понимаю! Дорогой Максим Александрович, великий знаток человеческих душ! Я несчастная вдова, которую вы буквально вытащили из петли! Ах, и скольким людям вы украсили жизнь! Без вас – да просто удавка! Вы ж гений! Колосс! Человечище просто! Что там Толстой рядом с вами – пацан!
Я закурил, пытаясь унять дрожь в руках, и с удивлением разглядывал свою жену – женщину, с которой прожил много лет. С которой спал, ел, говорил. Которую целовал перед сном, обнимал и по которой скучал, когда ее не было рядом. Всю жизнь она ненавязчиво объясняла мне, что я без нее пропаду. Мило намекала, сколько сделала для меня. Что, кстати, чистая правда! Но разве об этом нужно напоминать?
Я видел, сколько презрения в ее глазах, сколько раздражения, злости и даже ненависти. Как же мне стало так горько!
– Галя! – тихо сказал я. – А как ты можешь судить? Ведь ты не прочла ни одной из моих книг!
Она, кажется, на секунду смутилась, но тут же взяла себя в руки.
– Слушай, Ковалев! Ты мне мозги не запудривай! Короче, так! Я уезжаю. Находиться рядом с тобой невыносимо. Не могу больше слушать твою ложь и видеть опухшую морду. Живи, как знаешь! И кстати! Ларисе ты будешь звонить сам! Слышишь, сам! И ей рассказывай байки – может, посочувствует? А с меня, знаешь, довольно, хорош!
У меня тоже… творческое выгорание! Надоело быть нянькой и получать за это плевки. Пей, валяйся на диване. Пиши своим сумасшедшим теткам. Авось поймут, пожалеют! Кстати! А ты с этой учителкой, часом, не закрутил? А что? Вы бы были отличной парой: страдающий гений, спаситель душ, и одинокая и несчастная вдова. Чем не пара? – И она засмеялась.
Меня трясло, но я улыбнулся.
– Знаешь, Галка, – я на минуту задумался, – а как ни маскируйся, все равно это навсегда! Как ни старайся!
– Что – навсегда? – удивилась она.
– Эти твои торгашеские замашки.
И я увидел, как она побледнела, и ее глаза вспыхнули от злобы и негодования. А я потушил сигарету и пошел на второй этаж. В свой кабинет. Я слышал, как она заказывала такси, как хлопала дверьми, гремела посудой. А я лежал на диване и смотрел в потолок. Наконец подъехала машина, и хлопнула калитка.
Я облегченно выдохнул и тут же испугался – я снова остался один.
Вечером я купил бутылку паршивого коньяка – другого в сельпо не было – и снова напился. «Никуда я не поеду, – думал я, – она права – кишка тонка! Какое Масолово, господи! Ну и окей! Буду валяться и пить. А что? Совсем неплохо. Для человека, потерявшего все: жену, работу, смысл жизни».
И с этими мыслями я уснул, успев перед этим подумать, что мне будет страшно проснуться.
Разбудил меня телефонный звонок. Я с трудом разлепил глаза и глянул на часы – ого, половина первого дня! Нашарив мобильник, посмотрел на дисплей – жена.
– Послушай, Максим! – Она говорила торопливо, быстро, словно боялась, что я отключусь. – Макс, послушай! Все в жизни бывает, правда? Мы ведь не дети и все про это знаем.
Я молчал. Голова раскалывалась, и я думал только об одном – пить! Душ, две кружки зеленого чая, а уж потом – крепкий кофе.
– Максим! Я все поняла! Ты заболел, это бывает. У творческих и талантливых людей даже чаще, чем у всех остальных! У тебя депрессия, Макс! Не пугайся. Это сейчас у всех. И лечится это на раз – я уже говорила с врачом. Потрясающий врач, психиатр. К нему не пробиться – лечит всю элиту: актеров, политиков, писателей. Говорят – творит чудеса, поднимает на ноги за пару месяцев. Мне дал его Зеленодольский. У него, оказывается, это было! Чуть руки на себя не наложил, представляешь?
Я молчал и морщился, чувствуя, как ее фразы отдаются в моей больной голове.
– Макс, ты меня слышишь? – повторила с напором она.
– Я тебя слышу, Галя! – прохрипел я.
Она помолчала, понимая, что я снова напился. Но сдержалась, никаких комментариев. Я оценил – моя жена – кремень.
– Макс, – продолжала она, – в общем, так. Я договорилась с этим светилой, и завтра он примет тебя. Точнее, нас. В три на Покровке, слышишь? Ну отвечай, не молчи! И нечего этого стыдиться! Вот поэтому мы так и поругались, Максим! Прости, что сразу не поняла! Я помогу тебя, Макс! Але, ты меня слышишь?
– Я тебя слышу. И не извиняйся, Галя, – ответил я. – Да, и еще! Оставь меня, пожалуйста, в покое. Просто оставь, и все, очень тебя прошу! Ты права – чего не бывает в семейной жизни? Только спасать меня не надо, слышишь? Просто не надо, и все. Хватит быть Суперменом, Галя! Спасателем Малибу – побереги свои силы. В конце концов, у тебя есть сын, внучки. Живи и радуйся! Ты ведь и вправду замучилась со мной. Ну и мне хватит мучить тебя. А то несправедливо как-то получается: ты мне – все, а я тебе одно сплошное дерьмо! И помни – я тебе за все благодарен, честное слово! Ну не повезло тебе с мужем, что делать. В очередной раз не повезло. Только теперь я сам, дай мне такую возможность. Ты меня столько раз спасала, Галя. А вот теперь оставь меня. Извини.
– Сволочь ты, Ковалев! – процедила она сквозь зубы. – Редкая сволочь!
– Совершенно с тобой согласен! – радостно подхватил я. – Редкая сволочь, вот именно. Вот и живи… радостно. А главное – спокойно. Но – без меня. Я же все понимаю, Галь, честное слово!
Она отключилась, а я отбросил телефон в сторону – мне показалось, что он раскалился от ее гнева.
Поднялся и сделал все, о чем мечтал – холодный душ, зеленый чай, а после крепчайший кофе. После этого мне страшно захотелось есть, и я съел остатки холодного шашлыка прямо руками, открыв дверцу холодильника и капая на пол. Мне полегчало, я взял ноутбук и вышел с ним во двор – не для работы, ни-ни! Так, глянуть новостные ленты. Хотя понимал, что приятное вряд ли прочту. Заодно мне надо было глянуть в почту.
«А уж потом позвоню Ларисе», – подумал я.
Я открыл почту. О господи! Снова письмо от этой Марины! Я застонал. Какой же я идиот! Я забыл, что написал ей, будучи в стельку! Перечитал свое письмо и почувствовал, что мое лицо горит от стыда.
Я читал ее письмо и все больше и больше удивлялся – как она знает мои романы. Как помнит поименно всех моих героев – так, как не помню я. Неловкость и стыд отступали, и я вдруг почувствовал необъяснимую гордость – гордость за себя! Оказывается, эта незнакомая женщина мне не врала. Она жила моими героями, сопоставляла их жизнь со своей, утешалась, делала выводы, анализировала их поступки, сверяя их со своими. Так бывает? Конечно, когда я пишу, я не думаю, как это отзовется в душах людей. Если бы я думал об этом! Да и как можно угодить, или растревожить, или помочь всем и сразу? Никак. У всех разные истории. Я никому не стараюсь потрафить. Я просто пишу. Неужели все, о чем она пишет, – правда? Наверное… Иначе – зачем? Зачем ей писать об этом? Сделать мне комплимент? Ерунда, непохоже. Чтобы утешить меня? Такое возможно. И все-таки я думаю, что дело не в этом. Она просто поделилась со мной, рассказала, что и как было. Ну, наверное, и утешала – для женщины это нормально, это у них в подсознании. «Для женщины», – повторил я вслух. И подумал о своей жене.
Но меня так тронуло это письмо, что я взялся писать ответ.
Дорогая Марина! Простите, что обращаюсь без отчества. Мне показалось – и снова простите, теперь за наглость, – что мы с вами перешли какую-то черту, невидимую – или видимую – грань, которая мне позволяет обращаться к вам именно так. Если не прав – поправьте.
Читая ваше письмо, я чувствовал, что меня наполняет гордость. Но еще и недоумение: неужели все это правда? Неужели я действительно смог вам помочь? Если так, то нет для писателя громче похвалы и больше победы, ей-богу.
Спасибо вам. От всей души спасибо! Это огромная честь. Кажется, я выпросил у вас эти откровения – своим нытьем и жалобами на жизнь. Даже если и так… Хотя прием, конечно, нечестный, согласен. Но повторяю – я вам очень признателен. Я писал, что у меня сейчас тяжелый период.
Кризис среднего возраста? Хотя, мне кажется, средний возраст я давно пережил – мне скоро пятьдесят четыре. Я держу путь в возраст другой – кажется, он называется «третий»?
Ну да это не важно. Я понял, что для меня сейчас самое главное и самое сложное. Мне нужно принять решение. Решение, которое изменит мою жизнь, сдвинет ее с мертвой точки. Что это? Пока не знаю. И это мучает меня. Но уже пришло облегчение от того, что я ищу эту дверь, ищу этот выход.
И ваше доброе письмо поспособствовало этому, чистая правда! Вот ведь как получается. Сначала я, по вашим словам, помог вам. А теперь вы помогаете мне!
Жизнь моя буксовала в последнее время – со стороны в ней было все гладко и благополучно, а вот внутри меня было плохо. Мне не писалось. И это оказалось для меня большой драмой, даже трагедией. Я и сам не подозревал, что будет так сложно. Странное дело – когда в моей жизни ничего не было: ни дома, ни семьи, ни денег, мне писалось легко. Герои мои были живыми. Хорошими, плохими, положительными, отрицательными, но живыми! Я не лгал, не старался, не изворачивался – я просто писал.
В полутемной комнатке в полуподвале, на старой даче, где мне было холодно, часто голодно, мне писалось! Правды ради, мне и потом писалось – когда появился дом, семья, заботливый и родной человек. Я перестал думать о деньгах – в том смысле, на что купить хлеб и молоко. Я был доволен и счастлив и думал тогда, что вот она, справедливость! И моя писательская судьба оказалась счастливой – а далеко не у всех это бывает, но мне повезло… Я заслужил. Заслужил тем, что страдал. Не суетился, не пытался пролезть в любую щель. Не унижался, не льстил, не заискивал. Я просто писал и ждал. И вот – дождался.
Я стал человеком обеспеченным, признанным, что называется – человеком в обойме. Со мной старались сдружиться или хотя бы числиться в моих приятелях. Это считалось почетно.
Я был сыт и доволен, но до поры. Пару лет назад, возможно чуть меньше, все закончилось. У меня перестало получаться. Получаться так, чтобы это устраивало меня! Поначалу это было совсем незаметно для постороннего глаза – это видел и чувствовал только я. Возможно, еще мой редактор. Но она, деликатнейшая из женщин, молчала. Наверное, тоже надеялась. На тиражи и гонорары это никак не влияло – книги мои по-прежнему замечательно продавались, я был по-прежнему в тренде, и меня рвали на части интервьюеры и телевидение.
Но этот процесс не остановился, нет. Он продолжался и углублялся. Я все сильнее вымучивал из себя сюжет и образы героев. И снова видел и понимал, что ничего не получается. Ни-че-го! Нет, то есть для среднего автора, начинающего или уже заканчивающего это было хоть как-то приемлемо. Но для меня – нет. А я все пытался, мучился и страдал.
Но на днях вдруг понял – не надо. Ничего не выходит – значит, не надо! И мне, знаете ли, стало легче. Я выписал сам себе право на передых. Надеюсь, что только на передых, на остановку.
Очень надеюсь, что у меня снова получится, что я снова смогу. Возможно, я ошибаюсь. Если так – переживать это буду потом. А сейчас я просто снова попробую изменить свою жизнь, такое бывало не раз.
Какое я приму решение, пока не знаю. Но очень надеюсь, что оно будет правильным. Простите, что так много отнял у вас времени! Вот как оказалось, что, кроме вас, поделиться мне не с кем. Гримаса судьбы!
Жена не очень стремится понять меня, считая все это блажью и ленью. А близкого, задушевного друга у меня нет. Так сложилось. Не знаю, возможно, я потом пожалею, что был с вами так откровенен. Но, надеюсь, вы извините меня и все это останется между нами. В этом я совершенно уверен.
Да! От всего сердца поздравляю вас с приближающимся событием, безусловно важным и крайне значительным! Все сомнения – прочь! Все будет отлично! Искренне радуюсь за вас.
Надеюсь, вы счастливы. Иначе к чему тогда все это, правда?
Прекрасного и светлого праздника вам и долгой и радостной жизни впереди.
И кстати, о совпадениях. Вот чудеса! В Вене, в музее Климта, я был раздавлен его талантом. Ей-богу, раздавлен! Муха хорош, не спорю. А Врубель – гениален! Бесспорно! Бердслея не знаю – простите.
Пушкин – не обсуждается. Пастернак и Ахматова – да! И я обожаю стихи.
Шуберт – конечно! А уж Морриконе! И фильм этот, и музыку обожаю. И слушать, и смотреть могу бесконечно. А когда идет музыкальная тема, то каждый раз до спазма в горле и слез. Почему – объяснить не могу. Вы, разумеется, правы – любовь нельзя объяснить. Да! И про земное – кофе и яблоки! Вот чудеса! Я тоже страстный кофепийщик! И яблоки люблю, антоновку – особенно. За терпкость и аромат.
Странное дело, а? Вам так не кажется?
Искренне ваш,
Ковалев
Я отправил письмо и прошелся по комнате. Голова стала легкой и светлой – чудеса! И все это душ и кофе? Я усомнился. Нет, думаю – нет. Голова стала легкой от того, что я, кажется, понял. Я, кажется, понял, что мне нужно и даже необходимо.
Я еду в Масолово.
Как просто – я еду в Масолово. Точка.
И я рассмеялся.
Или Галка права – я и вправду рехнулся?
Марина
Мы оба сделали вид, что ничего не произошло. Геннадий разговаривал мягко, живо интересуясь моими планами.
Потом сказал:
– Послушай, Марина! Я был не прав, я это понял. Конечно, мне не следовало настаивать. Господи, я так привык командовать, принимать решения, будучи абсолютно уверен в своей непогрешимости! Так сложилась жизнь, Марина. Ты все знаешь – дом, жена, теща, дочь. Ответственная работа. Должность, наконец, – я отвечал и отвечаю за сотни людей, не говоря о близких. Словом – прости. Все будет так, как ты скажешь. В Москве так в Москве! И конечно, с твоими! И с моей Любой! Я, ей-богу, дурак! Придумать такой бред. Мы, мужики, бываем такими недогадливыми.
– Ладно, забудь! – перебила его я, понимая, как было ему непросто сделать это признание. – Забудь! Мы, конечно, договоримся. Я не сержусь, честное слово.
И я услышала, как он облегченно выдохнул.
Потом Геннадий сообщил, что улетает на Кипр в командировку и мне предложил поехать с ним. Но я отказалась, ссылаясь на предстоящие хлопоты.
На том и порешили – он едет на две недели в командировку, а я занимаюсь подготовкой к свадьбе – подыскиваю платье и ресторан, составляю список гостей. Улетал он на следующий день в ночь и перед отъездом предложил повидаться. Я отказалась, аргументируя это тем, что впереди у него дорога и назавтра рабочий день. Он тут же согласился, сказав, что это разумно.
Разумно. Все так. Вообще это слово было любимым в его лексиконе. Нет, ничего плохого, что плохого в разумности? Только разве в любви бывает «разумно»? Если бы мы любили друг друга, то подумали бы о разумности? Нет. Мы бы побежали навстречу друг другу, забыв о его перелете и о моих предстоящих хлопотах.
А может, в нашем возрасте вообще неловко говорить о любви?
И мне вдруг подумалось – он никогда не называл меня смешными и ласковыми, «домашними» словами. Никогда не придумывал что-то личное, интимное, известное только двоим.
Марина. И все. И без всяких уменьшительных типа «Маришки» или «Маруси».
Впрочем, «Маруси» не надо – так меня звал Сережа. Он звал меня по-разному, и каждый раз это было смешно и тепло. Но что вспоминать? Это было в другой жизни. Когда мы были молоды и бесшабашны. Сережа был легким, смешливым, веселым и остроумным. И еще – Сережа меня очень любил. Может, в этом все дело?
Я мотнула головой, стряхивая воспоминания. Все, хватит! Хватит, слышишь? Марина так Марина. Какая глупость, господи, взрослая ведь женщина. А скоро вообще буду бабкой! Я улыбнулась, вспомнив об этом. Так, еще есть неделя отпуска. И значит, выбирать рестораны я буду завтра.
А сегодня позволю себе отдыхать – валяться на диване, смотреть какое-нибудь дурацкое легкое кинцо, поторчу в Интернете, полистаю страницы и, кстати, и рестораны гляну – что там да как. Да, и еще покопаюсь на сайте вечерних платьев. Какое счастье, что есть интернет и не надо бить ноги, шатаясь по магазинам. Нет, правда счастье.
И я открыла компьютер.
Максим
Я гнал по Горьковскому шоссе и смотрел на пожелтевший лес и поля, проносящиеся мимо, на линии электропередач, деревни с покосившимися домиками. Московская область с дорогими коттеджами осталась давно позади.
Русские деревеньки с кривоватыми домишками, со съехавшими набок крышами и кривыми штакетинами заборов провожали меня грустным взглядом. Кое-где, на завалинках у домов, сидели оставшиеся старики, смотрящие вслед проезжавшим машинам с таким же отчаянно-одиноким и безнадежным взглядом.
Иногда возле лавок, где сидели старухи, стояли старые ведра с мелкими яблоками или сливами. Иногда красовались выпуклыми боками, словно заманивали, ярко-оранжевые красавицы тыквы.
А в целом все было грустно. Дети и внуки этих стариков давно разбежались по городам, а они все никак не сдавались, верные стражи, оставленные охранять давно ушедшую, прежнюю жизнь.
Я остановился у одной лавчонки, на которой сидела одинокая и грустная старуха. У ее ног стояло ведро, полное спелой антоновки.
– Почем, бабушка? – крикнул я из окна.
Бабка встрепенулась и поддалась вперед.
– Да сколько дашь, сынок! Сколько не жалко.
Я выбрался из машины, потирая затекшую поясницу.
Яблоки были отменные – крупные, крепкие, с прозрачной золотистой кожицей, просвечивающей на солнце. Я взял яблоко и поднес его к лицу. Неповторимый запах антоновки, не запах – дух, аромат, амброзия! – заставил меня задохнуться от восторга. Я вытащил пять тысяч и протянул их хозяйке. Она вздрогнула и охнула, прикрыв беззубый рот сморщенной темной ладонью.
– Что ты, сынок! Сдачи-то нет! Пенся моя через неделю!
– Берите, берите! – улыбнулся я. – Пригодится!
– Зачем же так много? Это ж почти моя пенся!
– Мельче нет, – попробовал отшутиться я.
– Нет, тогда бери так! – обиделась старуха и отвела глаза. – Ишь, какой добрый! – И тут же сменила гнев на милость, любопытство взяло верх. – Куды направляешься?
– В Масолово, – ответил я. – Знаете такое?
– Как не знать? Ну вот, наобратно поедешь да завезешь! Пятьсот рублев завезешь – мне больше не надо. Дом мой запомнишь? – И она кивнула на свой серый, давно не крашенный домик, ровно такой же, как все остальные, попробуй запомни!
Видя мою растерянность, она сообразила:
– Вона, гляди! У меня на заборе таблица – внук присобачил!
И я увидел, что у калитки и вправду висит пластиковая табличка с надписью: «Злая собака».
– И что, собака и вправду злая? – улыбнулся я.
– Какое! Какая собака, милай? И чем ее, собаку, кормить? Раньше – как? Бросишь со стола что не доели – кашу, картошку, костомахи. Щец нальешь, она и сыта. А счас? Каша, и то считана! И картоха считана. Так и раскладываю: энто – на зиму, энто – на весну, энто – на осень. Огород-то щас маленький – куды мне за большим-то ходить? Так, ерунда, – грустно вздохнула она, – баловство. Сотки три за домом – вот и весь огород.
– А раньше? – удивился я. – Было больше?
– Раньше! – Старуха усмехнулась и покачала головой. – Раньше, сынок, – она громко вздохнула, – раньше землицы-то было почитай соток тридцать! Так и семья была – муж, две дочки. А сейчас я одна.
– А дети где? – полюбопытствовал я. – Наверное, в городе? Ну приезжают хоть, помогают?
Старуха отвела глаза.
– Нет никого, – мертвым голосом сказала она. – Одна дочка спилась. Другая от рака померла. Внук в тюрьме – из армии сбежал. Мучали его там сильно. А внучка – так та в Молдавию укатила, за мужиком! Тю-тю – ищи теперь! – И моя новая знакомая рассмеялась. – Вот и доживаю тута. А куда денешься? – И бабка вытерла ладонью сухие глаза.
Я кивнул, пересыпал яблоки в пакет и положил на дно ведра свою пятерку.
А что я еще мог? Ничего.
До Масолова оставалось одиннадцать километров. С раздолбанного шоссе я свернул на грунтовку, ведущую к деревеньке. Ехал я медленно, подпрыгивая на ухабах и задевая глушителем кочки и буераки. Впереди показалось Масолово. Я остановил машину и вылез. Меня охватила тревожная и радостная дрожь, словно я вернулся домой.
Осторожно и медленно наступали сумерки, вдалеке пели птицы и равномерно колотил клювом дятел. Из леса тянуло свежестью и вечерней прохладой. Я поежился, сел в машину и наконец нажал на педаль.
Мне повезло, что лето было сухим, иначе бы я ни за что не проехал в Масолово. После любого дождя дорогу размывало и выворачивало. Но сейчас было сухо, и я быстро добрался до центральной и единственной улицы.
Там было все так же, как и прежде – девять домов с двух сторон. Крайний справа – дом бабки Зины, где я, собственно, проводил свои самые черные и самые светлые дни.
Я увидел, что дом заколочен, и у меня упало сердце. Нет, все понятно, глупо было бы ожидать, что баба Зина жива. Сколько ей было бы лет? Я задумался, вспоминая. Нет, я не помню. Хотя мы справляли ее именины. Да разве мне было интересно тогда, сколько ей лет? Мне и тогда она казалась древней старухой.
Я толкнул калитку и вошел во двор. Бурьян заполонил прежде выскобленный до пылинки палисадник. Окна были забиты досками – крест-накрест, как во время войны. Я сел на рассохшееся крыльцо и закурил. «Ну, и что дальше? – спросил я себя и усмехнулся. – А ты что хотел? Чтобы тебя встречали с фанфарами и ковровой дорожкой?»
– Эй! – вдруг услышал я и обернулся. На соседнем заборе висела девушка в белом платке, повязанном по-деревенски, по самые глаза, и в светлом сарафане, открывающем острые плечи.
– Вы к кому, дядя?
«Дядя». Я улыбнулся.
– Да сам не знаю! К бабе Зине вот ехал.
Девушка толкнула штакетину и, нагнувшись, пролезла во двор.
– А я вас помню! – сказала она. – Вы писатель! А я Таня, бабы-Нюрина внучка! Не помните меня?
– Помню, да! Рыжая такая девчушка, приезжала к бабе Нюре на каникулы, верно?
Она радостно кивнула.
– Ага! Как была рыжая, так и осталась! – Она стянула с головы платок, из-под которого тут же рассыпались, разбежались золотистые волосы.
– А что, баба Нюра в порядке? – осторожно спросил я.
– Да какое! – Таня горестно махнула рукой. – Уже три месяца как не встает. Зимой еще кое-как ползала. Весной почти нет. А в июне слегла. Хорошо, что тут и мы нарисовались – я и дети. У меня их трое! – гордо сказала она, задрав подбородок. – Три пацана, представляете?
Я улыбнулся.
– Так и лежит бабушка моя пластом. В поселок будем перевозить, куда деваться? Мы в поселке живем! Правда, места у нас немного, мы в общежитии. Одна комната на пятерых – мы с мужем и дети. Но ничего, справимся! Что делать-то? – И она улыбнулась широко и светло, блеснув ровным рядом красивых и белых, просто голливудских зубов. – А вы надолго? – осторожно спросила она.
– Да бог его знает! Надеялся, что баба Зина жива…
– Баба Зина умерла прошлым летом, – грустно ответила Таня. – Вы чуть-чуть не успели. А дом я вам открою, у меня же ключи! Там, конечно, мышам раздолье, небось все погрызли. Но прибраться можно, я вам помогу. Живите, сколько охота! Ну что? Пойдем? Раз уж приехали, надо устраиваться! – улыбнулась она, видя мою растерянность.
Я поднялся с крыльца.
– Пойдем… А что еще делать?
Выбора у меня, кажется, не было.
Марина
Не то чтобы я человек суеверный – нет, совсем нет! Но обстоятельства, которые складывались, наводили меня на мысли, что я что-то делаю не так. Или я вбила это в свою бестолковую голову? Не знаю. Но навалилось все и сразу – мама попала в больницу с тяжелейшим гипертоническим кризом. В приемном покое «утешили» – еще полчаса, и ее вряд ли бы довезли. Она лежала в общей палате, где с ней соседствовали еще восемь пожилых женщин, тяжелых больных. Старые кровати с проваленными матрасами, тяжелый запах болезни, невыносимо спертый воздух – старушки боялись сквозняков и окон не открывали. Дырявый линолеум и вечный запах пригорелой каши – кажется, в такой обстановке давление вряд ли придет в норму.
Замученные врачи старались поскорее скрыться от немногочисленных родственников больных. Мама почти все время спала – наверное, от лекарств. Я покормила ее супом, вышла во дворик больницы и только там дала волю слезам. Я неумело и нескладно молилась:
– Господи! Помоги! Помоги моей мамочке, умоляю!
Да, я была не самой хорошей дочерью – приезжала к ней редко, морочась и путаясь в своей жизни. Я тонула и задыхалась в своих проблемах и почти ничем с ней не делилась – обычное дело для взрослых детей. Я посмеивалась над ее привычками, кажущимися мне смешными и древними, как этот мир. Вот, например, мама никогда не выкидывала полиэтиленовые пакеты. Никогда! Она по-прежнему их стирала и сушила, прилепив к кафельной плитке. Почему меня это злило? А мама оправдывалась:
– Мы так привыкли.
Никаких современных моющих средств она не признавала – только сода, и все; все остальное – химия и отрава! Стирала по старинке, хозяйственным мылом. А сапоги натирала исключительно советским вонючим гуталином, не признавая импортные кремы для обуви. Ну и прочие мелочи, от которых я заводилась. Что так раздражало меня, почему я заводилась? Зачем? Зачем я заставляла ее оправдываться? Это ведь такие пустяки, привычки пожилого человека. А мы с мамой ссорились.
Я привозила ей сыр и колбасу, а она отрезала половину и складывала в морозилку. Конечно, я снова орала – мама! Какая морозилка! Какой бред! Зачем делать запасы? Через три дня я привезу тебе свежее!
А мама опять обижалась:
– Я так привыкла, еще с советских времен. Мы всё замораживали, даже хлеб. Вспомни девяностые! Ты что, не помнишь?
Она берегла новые туфли и новые кофточки. Для чего, почему? Нет, она не собиралась жить вечно и не была скупой. Это тоже была привычка – экономить, жалеть, сберечь.
А я злилась и обижала ее, забыв, что она – послевоенное дитя, прошедшее голод и страшные испытания. Какая я дура! Прости меня, мамочка! Клянусь, я больше не буду! Ты только живи!
Вечером позвонил Геннадий и, выслушав меня, отчитал:
– Марина! Ну что ты, ей-богу! Как же так можно? Почему ты мне сразу не позвонила? Какая инфантильность, честное слово! Когда есть деньги, Марина, все можно решить! Подожди полчаса, и я все устрою.
Полчаса показались мне вечностью. А потом мне позвонила его секретарша Ирина Ивановна и строго велела записывать. Я побаивалась ее – она была похожа на школьную директрису. Забавно, что я была совсем недалека от истины – Ирина Ивановна в прежней жизни была завучем в школе.
Итак, я записывала: завтра в восемь утра позвонить Валерию Семеновичу Колдуну, главврачу частной клиники, хорошему знакомому Геннадия. Он все устроит, включая платную перевозку.
– А деньги вам завтра завезет Николай! – строгим голосом закончила беседу секретарь.
Николай – это водитель Геннадия.
Я чуть выдохнула и рано улеглась спать – назавтра предстоял тяжелый день.
Все получилось – доктор Колдун был вежлив и конкретен: дал машину и сказал, что подготовил палату.
Мама была очень слаба, но все же сопротивлялась:
– Что ты, не надо! Какая другая больница? Мне и здесь хорошо, честное слово! Вон, лежат же люди!
Бедная моя мамочка! Ты со всем всегда соглашалась, принимая любые удары судьбы, любые сложности и неудобства. Лишь бы никого лишний раз не побеспокоить, не напрячь.
Зайдя в больничный корпус, я ахнула – одноместные палаты с телевизором, холодильником, функциональной кроватью и нарядными занавесками. Чайник и сахарница, в холодильнике минеральная вода, на столике букет свежих гвоздик. Чудеса! А я и не знала, что такое бывает. Мамочка хлопала глазами, в которых застыли слезы.
Минут через десять пришли сам Колдун и лечащий врач – приятный молодой человек в голубом накрахмаленном халате. Они беседовали с мамой как близкие родственники, называя ее по имени-отчеству. Потом в красивой посуде принесли обед – зеленые щи с яйцом, бифштекс с пюре, салат из помидоров и яблочный компот.
И все это пахло отнюдь не больничной и казенной едой. И мама впервые с удовольствием и с аппетитом поела.
Мы вышли в коридор, и лечащий врач сказал:
– Вы только не беспокойтесь, Марина Николаевна! Подлечим мы вашу матушку, не сомневайтесь! Через дней десять получите ее как новенькую. Да, и еще. Привозить ничего не надо, ни лекарств, ни фруктов, у нас все есть.
Я хлопала глазами и кивала, как болванчик, не веря, что все это происходит с нами.
Выйдя на улицу, тут же позвонила Геннадию. Я плакала и горячо благодарила его. Так горячо, что он, кажется, растерялся.
Мама понемногу приходила в себя. Но тут нас постиг новый удар. Ника объявила, что рассталась с отцом своего ребенка.
– Все мам, все! – торопливо говорила она. – Ничего объяснять не буду, и не проси! Поверь мне, так всем будет лучше!
Я бормотала какую-то околесицу:
– Ника, как же так? Ты сошла с ума! Он же отец твоего ребенка! Которого вы так ждали! Разве так можно?
Дочь рассмеялась:
– Мам, ну ты даешь! Разве не ты говорила мне, что он ничтожество? Разве не ты ненавидела его от души, называя бездельником и симулянтом? А сейчас ты его защищаешь?
Я оправдывалась, что это вовсе не моя внезапная любовь к зятю, а недоумение:
– Ведь все было хорошо, Ника?
– Ничего хорошего не было, – отрезала дочь. – А сейчас вообще запредельно. Он еще и бабу завел, мам! Жена с пузом, а он – налево! В общем, так. Я переезжаю к тебе послезавтра – завтра у меня врач в консультации, ну а потом соберу вещи и возьму такси. Ты меня слышишь, мама?
– Я приеду за тобой! – решительно сказала я, прикидывая, как совместить визит к маме и поездку за Никой.
– Нет, – отрезала дочь, – сама доберусь! Не хочу, чтобы ты встречалась с этим козлом!
Я плюхнулась на стул и онемела. Господи боже, и за что это нам? Потом я долго ревела, жалея Нику и вспоминая, как после гибели Сережи мы остались с ней вдвоем, безо всякой поддержки. А дальше собрала волю в кулак и стала прикидывать, как мы разместимся – мама, беременная Ника и я. Я точно знала, что маму я теперь не оставлю – жить она будет со мной. А потом родится ребенок. Как я оставлю их одних – нездоровую и немолодую маму, молодую и бестолковую дочь и маленького человечка, моего внука? Или внучку – какая разница?
Мама не сможет помочь Нике. Ребенок будет беспокоить маму. Ника станет выбиваться из сил. А я буду жить в квартире Геннадия и наслаждаться тишиной и покоем.
Я взяла себя в руки и заметалась по квартире. Так, все вопросы решаем по мере поступления. Жизнь сама расставит все по местам.
Я это точно знаю – сто раз так бывало! Только отчего мне так тревожно и плохо? Держи себя в руках, Марина! Ты отвечаешь за всех!
Я усмехнулась: вот, замуж собралась! Дура, ей-богу! Кому это нужно – мои многочисленные проблемы? Мама, дочь, внук? Это могло быть нужно только Сереже. А постороннему человеку – нет, сомневаюсь, навряд ли. И я живо представила, как говорю Геннадию, что свадьбу нужно отложить, допустим, на пару месяцев. Потому что мне сейчас не до того – и все! И тут же подумала, что он меня вряд ли поймет – Геннадий не любит менять свои планы. А если он согласится? Причина ведь вполне уважительная, так?
Но с каким бы облегчением я бы приняла эту оттяжку! Здорово. Вот с таким настроением замуж?
Я вспомнила, что сделал Геннадий для мамы, и мне стало стыдно, очень стыдно. Только совсем не стало легче. Ни на минуту.
Все это время мне казалось, что я делаю что-то не то и не так. Иду против себя, против воли. Заставляю себя сделать это, понимая, что это правильно, это логично, это единственный и здравый ход.
А уж в свете последних событий и решительных действий моего жениха!
Я ругала себя последними словами: «Неблагодарная тварь. Человек ко мне, к нам со всей душой». Но сколько я ни убеждала себя, сколько ни уговаривала, легче от этого мне не становилось.
Я вспоминала Ингины слова – да тысячи женщин на твоем месте рыдали бы от счастья!
Стерпится – слюбится. Только зачем терпеть? Но есть же логика, разум – забыла о них? В конце концов, инстинкт самосохранения – да прилепится жена к мужу, выживать вместе легче. В конце концов, он небеден, а это значит, что ни я, ни Ника, ни мой будущий внук, ни моя мама не будем нуждаться. Он хочет только хорошего – семьи, уюта, покоя. Он тоже намаялся – жизнь его покрутила. А ты? Хорошо ли тебе было одной? Не унижала ли тебя роль любовницы? Ты еще молодая женщина, у тебя все впереди! Ну, Марина! В конце концов хуже не будет!
Или – будет? Я совсем запуталась, совсем. Я не могла принять твердого решения. Хотя, кажется, я его уже приняла – согласилась.
Только еще есть время на то, чтобы…
Неужели ты решишься на это?
И я испугалась саму себя.
Максим
Кое-как у меня все устроилось – спасибо Танюшке, моей верной помощнице и, кажется, другу. Она помогла с уборкой дома, принесла смену постельного белья, отдраила казанки и кастрюли. Притащила вполне приличную чугунную сковороду. Насыпала ведро картошки из погреба. Поделилась морковкой, капустой и свеклой.
– Вот, теперь не пропадете! – сказала она.
Я растерялся. Мне совсем не хотелось возиться на допотопной бабе-Зининой кухне. Танюшка все поняла и рассмеялась. В обед притащила чугунок свежего борща и тушеную картошку. Я съездил в поселок и затарился крупами, печеньем, вафлями и пельменями. Не забыл и сыр с колбасой – все в двойном размере, мне и Танюшкиному семейству. Таня трудилась без передыха – баба Нюра, мальчишки, огород. В субботу приезжал ее муж Мишка – огромный суровый и молчаливый мужик, шофер, в свое время прошедший Чечню. Говорить он начинал только после рюмочки – любил темы о непорядках в стране, которые он называл «полным бардаком». О войне не говорил – как-то я спросил его, он ответил скупо:
– Саныч, про эти вопросы – забудь.
Ну я и забыл. С Танюшкой мы ходили за грибами – рано, в пять утра. Мишка отсыпался. Вечером моя добрая соседушка звала меня на жареху. Мы выпивали с Мишкой по малой – больше двух рюмок амбал Мишка не пил. Таня шепнула, что с третьей Мишка дуреет. Уточнять я не стал. Баба Нюра тихо лежала в комнате, словно ее и не было. Иногда раздавался ее слабый стон.
Таня переглядывалась с мужем, и они тихо вздыхали. Я думал – еще бы! Тащить бедную Нюру в общагу, где на десять метров их пятеро! Но на жизнь они не жаловались.
Я думал о великом терпении русского народа, о широте его души, о его благородстве. И в то же время – о вечном «перетерпится», «перемелется», «приспособимся», «лишь бы не было войны». И еще: «Всегда ведь так жили – что тут такого?»
В воскресенье Мишка звал меня на рыбалку. Мы сидели рядом и молчали – мой партнер был не из говорунов. Однажды он снял майку, и я увидел широкий продольный шрам вдоль всей спины. Мишка перехватил мой взгляд и смутился. Я отвел глаза и ничего не спросил.
Рыбы было мало – сплошная мелкашка: пескарики, головни, карасики. Но на уху хватало, Танечка постаралась.
Их мальчишки, рыжие и конопатые, все – в мать, целыми днями болтались на улице, домой забегали только поесть. Таня сетовала, что пацаны книг не читают и в школу идти не хотят.
– А я как хотела! – с грустью вспоминала она.
Я часами бродил по окрестностям – далеко не забирался, боясь заблудиться. Один раз сильно плутал и вернулся под вечер. Мой добрый рыжий ангел стояла на дороге, вглядываясь в даль. Конечно, пожурила и попросила больше далеко не забираться.
Я удивился – кто-то беспокоился обо мне. Чудно! Вторая середина августа оказалась теплой и нежной – солнце уже почти не грело, а только подсвечивало мягким золотом уже начинающие желтеть и краснеть листья клена. Гроздья рябины тяжело склонялись ветками, словно опускали повинные головы. Трава чуть пожухла и неумолимо теряла изумрудную яркость. Природа ненавязчиво напоминала о скорой осени – вот-вот, уже не за горами. Ловите последние минуты тепла и солнца, а там уж прольюсь на вас дождями, засыплю снегом, окачу холодом – не обессудьте.
Иногда я сидел на берегу речки, кайфуя от ощущения свободы и беззаботности. Какое счастье, что здесь нет интернета и даже сотовая связь отвратительная. Танюшку это огорчало, а меня только радовало. Как я отдыхал от того мира, от той жизни – от бесконечных звонков, электронной почты, назойливо гудящих эсэмэс!
Но когда я вспоминал о книге и о Ларисе, на сердце скребли кошки. Я понимал, что поступаю некрасиво – и дело даже не в том, что я подвожу человека. Дело в том, что я не нахожу в себе сил позвонить ей и объясниться.
О жене я почти не думал – гнал эти мысли, будучи уверенным, что у нее все хорошо. Я хорошо знал Галку. Из-за нашей ссоры она не рыдает в подушку. Только вот ссора ли это? Или что-то еще, посерьезнее? Пока я не понимал этого и не желал разбираться. Наверное, снова берег себя и уходил от неприятного.
Я трусил, как было не раз. И в который раз оправдывал себя – это она поступила со мной несправедливо. Это она не пожалела меня, не вошла в мое положение. Обидела меня, оскорбила. Да и когда она понимала меня?
Если не планировалась грибная охота, я долго, до полудня, спал – впервые за многие месяцы крепко и сладко, без сновидений и ужасов, терзавших меня в последнее время.
Когда трава и бурьян заполоняли участок, я пытался косить. Танюшка, наблюдавшая за мной, смеялась и забирала у меня косу. А я любовался, как ловко у нее получается – вот что такое деревенское детство. Она вообще была ловкой, эта замечательная и добрая женщина. Ловкой во всем. Все она успевала – и постирушку, и обед, и ужин. С раннего утра пекла гору оладий для парней, ну и мне перепадало. Ловко косила траву, копала огород, сушила грибы, варила варенье, ворочала и переодевала Нюру и никогда не жаловалась на усталость.
Иногда, уложив мальчишек и обиходив Нюру, она заходила ко мне. Мы сидели на крыльце – я курил, а Танюшка щелкала семечки, аккуратно сплевывая шелуху в маленькую и узкую детскую ладонь. Говорила она мало и по делу – была тактична и по природе умна, не задав мне ни одного вопроса, что да как, почему я здесь и один.
Я удивлялся ее умным и коротким фразам: «Саныч, не майся, хворь твоя скоро пройдет. Ты попробуй работой лечиться! Вдруг получится, а?»
Ошарашенный, я не ответил. Как эта простая сельская девочка чувствовала мою боль? Непостижимо.
Про свою жизнь она говорила коротко:
– С Мишкой мне повезло – после свадьбы пить завязал, а то дурел, как психический! Война, что говорить. Но работящий он, скромный. На баб не смотрит – говорит, мне тебя, рыжая, хватает. – И она засмеялась. – А то, что живем тяжело… Так все так живут! Да, Максим Саныч? А чем мы лучше других?
– Не все, Таня! – я покачал головой. – Поверь мне, не все. И квартиру твоему Мишке должны были дать как ветерану войны да вдобавок и многодетному папаше. И ты, Танюшка, могла бы нормально работать, а не тряпкой шаркать в подъездах, чужие плевки собирать. Ты ж умная, хваткая, ловкая!
– Так нету работы в поселке! – искренне удивилась она. – Я и полам рада – все деньги!
Наступил сентябрь, сухой и теплый. По ночам с деревьев гулко падали яблоки, мягко стукаясь о траву. Ухал филин, и куковала кукушка. А тишина стояла такая, что, казалось, нет на свете никого и ничего – ни городов, больших и малых, ни машин и самолетов. Есть только наше Масолово – край земли и мой личный, персональный и приватный рай. Мой Эдем, моя обитель блаженства и земля обетованная. Я ходил на могилу к бабе Зине, раздумывая, не поставить ли хороший памятник. Танюшка разрешила мои сомнения: крепкий деревянный крест – это все, что нужно православному человеку. В поселке я только заказал овальный медальон с ее фотографией. Фотографий было совсем мало – тоненькая картонная папочка на серых тесемках. Молодая Зина на ферме, в темном халате и резиновых сапогах. На голове – светлый платок. Рядом – подружки, доярки. Среди них мы с Таней узнали и Нюру.
– Все было, – вздохнула Танюшка. – Колхоз был, ферма была. Я это помню! Ходила с бабушкой туда, на ферму. Мне интересно было – ребенок!
Уже разъехались дачники, и единственных коренных жителей Масолова, бабку и деда Кудрявцевых, дети увезли зимовать во Владимир. Мы с Танюшиной семьей оставались одни. Но и они собирались в поселок, домой. Танюшка упаковывала в ящики банки с грибами и вареньем, огурцами и овощами. В мешках уже была сложена картошка – я помогал ей затаскивать ее в погреб.
А однажды утром я сел за компьютер. Перечитал все то, что написал ранее. И все безжалостно стер. Я видел перед собой чистый белый лист и не боялся его!
Голова моя была свежа и чиста. Собравшись с мыслями, я начал писать. Я печатал быстро, потому что рука опережала мысли – стройные и ловкие, именно те, которых я так долго ждал. Я чувствовал, как меня заливает и наполняет радость, когда мои пальцы бегут по клавиатуре. Я боялся что-то забыть, потерять, упустить, пропустить, так нравилось мне то, что приходило мне в голову. Я не смотрел на часы, лишь иногда вставал, чтобы размять спину и затекшие ноги.
Чтобы не потревожить меня, тихо и осторожно в дом заходила Танюша – ставила передо мной стакан чаю и бутерброд. Я благодарно кивал, и она исчезала сразу, как привидение.
Работал я допоздна. Вставал рано и сразу шел на прогулку. Утром уже было прохладно и даже зябко. Я замерзал и ускорял шаг. После прогулки возвращался домой, затапливал печь, грел себе чай, брал хлеб с чем придется и садился работать.
Я так торопился открыть компьютер, что у меня от нетерпения подрагивали руки. Я пробегал глазами вчерашний текст, и меня снова, до озноба, охватывала тихая радость. Ночью я караулил рассвет, чтобы скорее начать работать. Кажется, так мне никогда не писалось.
Ах, какое же это было удовольствие! Я работал так вдохновенно, так рьяно и увлеченно, так окрыленно, что останавливался только тогда, когда начинали слезиться глаза. Впервые за многие годы я был доволен собой. Нет, не так – я был горд за себя. И снова не так – я был счастлив.
Сюжет и фабула романа возникли спонтанно, вдруг. Обычно я продумывал канву будущей книги задолго и до мелочей. Я тщательно расписывал повороты сюжета, представлял своих героев так подробно, что мне начинало казаться, будто я их давно знаю.
В процессе работы я мог кое-что изменить – так часто бывало. Но все-таки основной сюжет, фабула и развязка, как правило, совпадали с ранее написанным синопсисом.
А здесь я писал наотмашь, наобум, совершенно не предполагая, что будет завтра. С каждым днем меня переполняли новые идеи, новые замыслы, образы и задумки, которые отлично вписывались, гармонично переплетаясь с предыдущим текстом. Я боялся потерять то, что придумывалось ночью, и вскакивал, чтобы записать фразу или абзац.
Я работал так упоенно, так вдохновленно, что боялся того дня, когда закончу роман и поставлю последнюю точку. И еще – я боялся перечитывать его. Боялся понять, что ошибался, все снова плохо и мои восторги – бред воспаленной фантазии.
О чем я писал? Я писал о женщине. О женщине с большой буквы, писал так, как я ее представлял. Я писал о той, о которой, оказывается, мечтал. О которой мечтает каждый мужчина. О той, которая, увы, мне так и не встретилась.
Нет, это был не призрачный фантом, плод воспаленной фантазии неудачника, совсем нет! Это была – я уверен! – вполне земная, живая женщина, со своими проблемами, тревогами, бедами. Женщина, которая страдала, совершала ошибки, каялась и оправдывала себя. Носила в себе подолгу обиды, распаляя себя все сильней. Женщина, которая, несмотря ни на что, шла по жизни с гордо поднятой головой, вопреки, наперекор, упрямо веря в свою удачу. Нет, она не была самоуверенной, нет. Скорее всего – она была даже трусихой. Она многого боялась, но не шла на компромиссы во имя покоя и сытой жизни. Умная, тонкая, ранимая, готовая сдвинуть горы своими тонкими руками, пройти сквозь дремучий и темный лес, конечно, дрожа от страха. В ней сочетались, казалось бы, несочетаемые, невозможные вещи – смелость и страх. Она могла заплакать от ерунды, от грубого хамского слова в автобусе, от стрелки на колготках, от того, что у нее перед носом схватили последний сегодняшний тортик – а так хотелось! Но могла броситься на хулигана, обидевшего старуху или дитя. Броситься в ту же секунду, не думая о последствиях. Она была в меру цинична и саркастична, но на ночь читала стихи Ахматовой и Пастернака, мечтая о вечной любви. Она казалась сильной, непробиваемой, зашитой в свинцовую броню – потому что отвечала за многих, за все. А тот, кто отвечает, всегда могуч и устойчив. Но в душе она по-прежнему оставалась все той же девочкой с венком из ромашек на русой голове, лежащей в траве, жмурящейся от солнца, мечтающей об алых парусах, хотя и понимая, что шелк их давно истлел.
Я писал о той женщине, которой достойны лучшие мужчины на свете – если такие есть. О своих собратьях, увы, я был далеко не самого высокого мнения. А вот женщины… С годами пришлось признать: эти «слабые» создания были куда сильнее, мужественнее, смелее, отчаяннее нас. А уж я-то… Я точно был в самом хвосте. Мне казалось – нет, я был уверен! – что она, моя женщина, получилась живой. Мне хотелось бы, чтобы мой читатель увидел ее моими глазами – среднего роста, русоволосую, сероглазую, с прекрасным, пусть и не ярким лицом и редкими, бледными конопушками на мило вздернутом носу.
Она умела быть вызывающе яркой, приложив небольшие усилия: всего-то макияж и одежда. И она начинала сверкать как хрусталь «баккара», ее красота сбивала с ног, вызывая яростную, неприкрытую зависть у женщин и неистовый, иступленный восторг у мужчин. Но мужчина, которого она выбрала, точно знал: все это для него одного. И он задыхался от гордости за свою женщину. Она умела быть почти незаметной, блеклой, даже тусклой, неприметной в своем скромном домашнем халатике и стареньких тапочках. Такой она тоже была для него. Для него одного – единственного любимого.
Она могла и умела воевать до победного, дойти до края, пройти через стены и – смиренно уснуть, как наплакавшийся ребенок, положив голову ему на колени, смешно, по-детски причмокивая и чуть-чуть, еле-еле, почти незаметно, тревожно постанывая во сне.
Она умела быть невыносимо нежной и смущаться от пустяка, вроде букета цветов в будний день или банальной шоколадки. Могла рьяно отстаивать свое мнение, рубить правду-матку, выложить начистоту, а потом, хлопнув дверью, уйти в никуда.
Она умела стесняться. Кажется, таких людей не осталось. Она могла биться за других, за обиженных и слабых, а вот просить за себя не умела.
Ее долго и жестко испытывала беспощадная жизнь – отнимала, обманывала, лишала иллюзий, пинала в спину, дразнила и обещала. Но растереть ее, как ночного мотылька, между пальцами не удалось.
С годами она научилась отвечать, и окружающим могло показаться, что она – бой-баба. Но в душе она оставалась все той же школьницей, восьмиклассницей, все той же нежной и наивной мечтательницей, упрямо верящей в счастливую судьбу, шепчущей перед сном печальные и светлые стихи о любви, несмотря на все то, что ей пришлось испытать. Несмотря на обман и предательство, коего выпало сверх меры.
Она ни минуты не была циничной, злой, мстительной, даже в мыслях. Она умела прощать.
А каким терпением она обладала! Ангельским или дьявольским – как будет правильнее? Бесконечным и безграничным. Она была снисходительна, оправдывая несимпатичные и подлые поступки других.
К себе она была строже, но могла оправдать и себя, потому что только так можно было выжить.
Она умела ждать – бесконечно, не теряя терпения.
Она была благодарной. За такие мелочи, такие пустяки, что становилось неловко.
Она умела и обижаться – а как же! – на такую ерунду, что становилось смешно.
Она умела прощать, не вспоминая и даже не припоминая. Такое прощать…
Она была женщиной.
И она у меня получилась.
В двадцатых числах сентября все еще было довольно тепло – казалось, что бабье лето стремилось остаться, не покидать нас, трусливо ожидающих предстоящих холодов и дождей. Но вечера и ночи становились все холоднее – у природы свои законы. Я топил печь, а ночью распахивал окно – печь бабы Зины оставалась отменной и прекрасно держала тепло. Танюша, мой добрый ангел, по-прежнему опекала меня и тревожилась обо мне:
– Как же вы тут без нас, Максим Саныч?
Мне было грустно об этом думать, и все же я был счастлив, не беспокоясь о предстоящем одиночестве.
Маркеловы собирались уезжать двадцать пятого – по радио объявили, что наступают холода и дожди. А двадцать третьего у Таниного старшенького среди ночи случился приступ – мальчишка кричал на крик.
Испуганная Таня прибежала ко мне, и мы, погрузив пацана на заднее сиденье, рванули в поселок, в местную больничку. Слава богу, успели до перитонита – у парня случился аппендицит.
– Я виновата, – сетовала Танюша, – хватали ведь все подряд! Яблоки с огрызками, лещину, семечки, овощи с грядки!
Я гладил ее по руке и успокаивал.
Мальчишке сделали операцию. Нам несказанно повезло, в ту ночь дежурил трезвый хирург – редкое дело.
Под утро мальчик уснул, но Таня объявила, что домой не поедет – дождется, пока сын проснется. А вот меня прогоняла, но я, конечно, остался. Мы чуть успокоились и даже проголодались. Отправились в ближайшее кафе и там – чудеса! – был вай-фай.
Я открыл почту. Писем, разумеется, было в избытке. Первое – от жены.
Максим! Я улетела к детям. Возможно, надолго. Герман сломал руку, и им нужна помощь. Обо мне не волнуйся. Ларисе я дозвонилась и все, конечно, уладила, сказала ей, что ты не очень в порядке и что я увезла тебя с собой, а на месте устроила в госпиталь – подлечить сердце и поправить нервную систему. Она охала и ахала, но про рукопись ничего не спросила. Надеюсь, у тебя все хорошо и ты не жалеешь, что уехал туда.
Еще – очень надеюсь – ты понимаешь, что между супругами может быть всякое, и мы заранее прощаем друг друга. Лично я не в обиде!
Жду от тебя письма! Будь здоров!
Твоя Галя
Я подумал, что отвечу потом. Не сейчас. Я не был готов писать ей подробно о том, что со мной происходит. Почему я не хотел обрадовать жену, я не понимал. Хотя нет, понимал – меня снова разозлили ее слова про «я, как всегда, все уладила». И фраза – «я увезла тебя с собой и устроила в госпиталь». В ее понимании я по-прежнему оставался ее собственностью, вещью, которую она просто взяла и увезла. И снова все решила она! Я ни при чем.
Я решил, что оставлять жену в полном неведении неправильно и неприлично, и ответил лаконично:
Спасибо, у меня все отлично, привет своим.
Еще было письмо от Марины Сторожевой.
Максим Александрович, простите меня за навязчивость! Уверена, вы пожалели, что вступили со мной в переписку – я умудрилась бестактно влезть в вашу жизнь, никоим образом не собираясь, поверьте, этого делать! Но, кажется, у меня получилось.
Вы вправе оборвать эту затянувшуюся и наверняка утомительную для вас переписку. Я нисколько не обижусь. И все-таки у меня к вам огромная просьба – если не сложно, черкните мне хотя бы одно слово – как вы? Одно! Умоляю вас! Не сочтите меня за истеричку и нахалку – прошу вас.
Я очень волнуюсь, честное слово!
Марина
Я усмехнулся – кажется, эта женщина действительно беспокоится обо мне. Конечно, я сам виноват – наплел с три короба про свои проблемы, разнылся, разгундосился. Ах бедный я, ах я несчастный, никем не понятый и одинокий, пожалейте меня! Вот, получи! Но обижать хорошего человека, ей-богу, не стоит. Чем она заслужила?
И я ей ответил. Коротко и суховато. Она права – с этой перепиской пора заканчивать. В конце концов, мне самому было неловко. Я проявил слабость и глупость, а еще истеричность и склонность к апатии, абсолютно подтверждающие мой психотип. А вот про это моим поклонницам и читательницам уж точно знать ни к чему.
Днем мы уехали домой, убедившись, что с Таниным сыном все хорошо. Наутро я снова повез ее в поселок. Мальчишку собирались продержать еще дней пять, и их отъезд по понятным причинам откладывался. Мишка уехал в дальний рейс, и Таня с детьми и бабой Нюрой остались на моем попечении. Утром мы ехали в больницу, где я ее ждал, а по вечерам и ночам я работал.
Через неделю умерла баба Нюра. Ушла она так же тихо, как и жила, освободив молодых от хлопот. Таня плакала и причитала, что бабуленька захотела «остаться дома». Наверное, так оно и было.
Мы похоронили Нюру рядом с ее соседкой и верной подружкой Зиной. Теперь наши старушки лежали рядом.
– Им так веселее, – всхлипывала Танюша.
Тридцатого сентября, когда уже начались проливные дожди, мальчика выписали.
Приехал из рейса Мишка и, смущаясь, коротко и скупо благодарил меня за своих и долго тряс руку. Мы таскали в машину мешки и банки, чемоданы и коробки с вещами. Танюшка плакала и приговаривала, что по выходным они будут наезжать – проведать меня. Показала погреб и строго наказала пользоваться всем – картошкой, капустой, соленьями и грибами. И конечно, дровами, которые напилил и наколол Мишка Маркелов, ее суровый и молчаливый супруг.
Они уехали, и я остался один. Долго стоял на улице под холодным дождем и смотрел им вслед. Мне было одиноко и грустно, и, затопив печь, я уселся работать.
За окном монотонно лил дождь, но в доме было тепло и сухо. На печке стояли кастрюля с грибным супом, оставленная заботливой соседушкой, и чугунок с тушеной капустой. На пару дней едой я был обеспечен, и это облегчало проблему.
Пятнадцатого октября – я запомнил этот день – я поставил точку. Мой новый роман был закончен. Конечно, еще предстояла долгая и многоразовая вычитка-правка, но это мне казалось уже сущим пустяком. Я – выдохнул. Я снова жил.
По утрам я надевал плащ-палатку, любезно оставленную мне Мишкой, резиновые высоченные сапоги бабы Зины и наперекор погоде отправлялся гулять. Руки мерзли и костенели от злого ветра, слезились глаза и хлюпало в носу. Сапоги проваливались и чавкали в жирной и липкой грязи. А я шел по пустому, серому и мокрому полю и ощущал такую свободу и радость! Они так пьянили меня, что я пошатывался, словно только что хорошо и крепко, от души накатил. Кстати, вот этого мне совершенно точно не хотелось! И в мыслях не было. Даже для пустяка, для «сугрева»!
Поздно вечером, часов в двенадцать, я со стуком клацнул последнюю точку, громко и шумно выдохнул, откинулся на спинку стула и громко, в голос, запел.
Назавтра я начал собираться домой.
Марина
Мы с Никой расположились в ее комнате, а мама – в моей. Мама была еще очень слаба, но, конечно, пыталась помочь: хваталась то за швабру, то за кастрюли.
Я, разумеется, гнала ее в комнату, но она усаживалась на кухне, возле меня. Кажется, никогда в жизни мы не разговаривали так много. Моя скрытная мама рассказывала мне о своем детстве, о бабушке и дедушке, знать которых мне, увы, не довелось – ушли они рано, до моего рождения. О встрече с моим отцом, о его предательстве и уходе, о своей любви и прощении.
Ника ходила на работу, а по вечерам мы слышали, как она запирается в ванной и плачет. Сердце рвалось. Мы пытались ее утешать, а она сжималась в комок и, как всегда, выпускала иголки. Мама сказала, что надо оставить ее в покое – пока «само не успокоится». Я вспоминала Сережу и думала о том, как много должно пройти времени, чтобы «само успокоилось». Впрочем, и ситуации были разные – Сережа был безупречен, а вот Никин несостоявшийся муж от совершенства был весьма далек.
Геннадий вернулся из командировки, и мы поехали покупать платье – я его купить так и не успела. Я равнодушно ходила по магазину, щупала материал, небрежно разглядывала фасоны, и мой будущий муж видел, что я абсолютно спокойна и равнодушна.
Он хмурился, выходил из магазина, всем своим видом демонстрируя недовольство.
Наконец я выбрала платье – нежно-фисташкового цвета и очень скромного фасона. Мой нареченный недовольно скривился, но спорить не стал. Мы вышли на улицу и зашли в кафе выпить кофе. Геннадий смотрел на часы и нервничал.
– Торопишься? – спросила я.
Он кивнул и усмехнулся:
– А ты, кажется, нет!
– Да, сегодня я выходная.
– Я не о том – нахмурился он. – Слушай, Марина! Может быть, мы наконец… – Он замолчал, подбирая слова. – Может быть, мы наконец закончим с этим вопросом?
– В смысле? – Я сделал вид, что не поняла.
– В смысле – со свадьбой и нашими планами, – не скрывая раздражения, резко ответил он.
– Закончим? – уточнила я. – А мне казалось, что это будет только началом! Гена, ты же все понимаешь, мама очень слаба! А Ника… Ей очень плохо сейчас! Ты даже не представляешь, в каком она состоянии – муж изменил, она в положении. А он, этот гад, ни разу не позвонил. Мне кажется, да что кажется – я уверена! – что сейчас всем не до праздника. Ну давай чуть отложим, хотя бы на месяц! Все понемногу придут в себя. Я тебе очень благодарна за маму, очень! Но оставить их сейчас и переехать к тебе я не могу.
– Марина! – жестко ответил он. – Я не привык менять свои планы и зависеть от чужих обстоятельств! Ты меня поняла?
– Поняла! – перебила его я. – А мои «обстоятельства», как ты их называешь, для тебя чужие? Мои мама и дочь?
Он молчал, не поднимая на меня глаз.
– Я сделал все, что мог, разве нет? Тебе так не кажется? А ты… Я же вижу, Марина! Ты специально ищешь причину, чтобы оттянуть. Я все чувствую. И все-таки мне винить себя не в чем.
Я кивнула.
– Да, ты, как всегда, прав. И я тебе благодарна! Только мне кажется, если два человека решили связать свои жизни, обстоятельства у них должны быть общими.
– А мне – нет! – коротко бросил он. – Извини, я все понял.
Я попыталась улыбнуться.
– И еще раз спасибо! Я все оценила. – Я набрала в легкие воздуха, боясь произнести следующую фразу: – Не стоит менять свои планы, ты прав! И подстраиваться по чужие обстоятельства тоже не стоит. Надо жить так, как ты привык.
Он смотрел на меня с удивлением, кажется, не совсем понимая, что я скажу дальше.
– К чему ломать себя, правда? Ну а я буду жить так, как жила. И как, кстати, тоже привыкла. А я привыкла зависеть от чужих обстоятельств, ты уж прости! – Я легко встала и быстро пошла к выходу.
Геннадий меня не догнал, чему я была очень рада.
Я надела пальто и вышла на улицу. Лил дождь, и дул острый ветер. Я шла по Тверской – не спеша, никуда не торопясь, разглядывая людей и витрины. И самое главное, мне было весело! Я не замечала октябрьской погоды – ни холодного дождя, ни пронизывающего до самых костей ветра. Шла медленно, подставляя лицо дождю. Кажется, я была счастлива. Вернувшись домой и скинув промокшие туфли, я улеглась в кровать и в сотый раз перечитывала письмо от Ковалева – я радовалась за него от всей души.
Дорогая Марина! Простите за то, что надолго пропал. Я уехал в деревню – довольно далекую, во Владимирской области.
Там я прожил счастливые дни и написал новую книгу. Кажется, она получилась, очень хотелось бы верить! Я вполне пришел в себя, по-моему, выздоровел, восстановился после «тяжелой и продолжительной болезни». Помните, как говорили раньше?
Надеюсь, вы улыбнулись! А скоро, думаю, надо продолжить работу. Сдать роман – еще не закончить его. Впереди корректура, долгая и тщательная редакторская правка, потом снова моя вычитка, согласование с редактором, словом – предстоит большая работа! Так что в конце зимы или в начале весны – как мы управимся – выйдет мой новый роман. И дай бог, чтобы я вас не разочаровал. Мне бы очень не хотелось этого, честное слово.
Спасибо вам за заботу и тревогу обо мне – я очень ценю ваше доброе внимание к моей незначительной персоне.
Надеюсь, у вас все хорошо и ваше торжество прошло весело, радостно и красиво.
Искренне ваш, с благодарностью,
Максим Ковалев
Я в который раз читала письмо и улыбалась. Слава богу, что у него все обошлось! И еще – я предвкушала, предвкушала радость от встречи с его новыми героями.
Ника немного успокоилась и понемногу, по капельке, стала приходить в себя. Мы разглядывали ее растущий животик и втроем умилялись. На УЗИ нам сказали, что будет девочка.
– Бабье царство, – констатировала мама.
Мы с Никой переглянулись и все дружно вздохнули.
Услышав известие о том, что я рассталась с Геннадием, мои, кажется, не удивились и не расстроились. Мама промолчала, а Ника скорчила рожицу, смущенно пробормотав:
– Ну и правильно, мамочка! Если душа не лежит, тогда зачем?
Давно она не называла меня «мамочкой», и я вздрогнула, услышав это.
В общем, мы жили и готовились к родам. В январе Ника уходила в декрет. Мама рвалась домой, переживая, что она нам в тягость. Мы, конечно, ее не отпускали. Геннадий мне больше не позвонил. Нет, я не удивилась, это было вполне в его стиле. Да и меня это, честно сказать, устраивало. Конечно, мне было неловко и неуютно оттого, что я с ним так обошлась. И все-таки я была уверена, что поступила правильно.
Зачем увеличивать количество несчастливых людей? Их и так хватает на свете.
А фисташковое платье я надела на Новый год. Ника и мама сказали, что оно мне очень идет.
Максим
Я ходил по своей квартире и балдел – трогал теплые батареи, включал горячую воду и часами, как утка, плескался под горячим душем. Я смотрел телевизор, не вслушиваясь в слова, просто пялился в горящий экран и снова балдел!
Я написал письмо Гале, чувствуя свою вину перед ней. В конце концов, она не виновата, что она такая. В том, что у нас так получилось.
Я покаялся перед ней и попросил прощения. Не знаю, поняла ли она, что я с ней прощался? Надеюсь. Она была умной, моя жена…
После этого письма меня чуть отпустило.
Я позвонил Нине и попросил разрешения приехать. Та долго раздумывала, потом коротко бросила:
– Ну что ж, приезжай!
Я купил торт и цветы и поехал.
У двери я долго не решался нажать на звонок. Нина открыла дверь, и я поразился тому, как она постарела. Она поймала мой взгляд и усмехнулась:
– А ты как думал, Ковалев?
Я страшно смутился и что-то забормотал в свое оправдание. Нина все поняла – она тоже была не из дур, моя первая жена. И она тоже не была виновата в том, что у нас не получилось.
Я прошел в комнату Наташи. Дочка сидела на стуле перед компьютером, и я остолбенел и замер на пороге, так она была похожа на мою мать!
Наташа смутилась и жалобно пискнула:
– Мама!
Нина, стоявшая у меня за спиной, чуть подтолкнула меня вперед.
– Ну что, иди, Ковалев, вершитель судеб! Знакомься с дочерью!
Я подошел к Наташе, она вздрогнула, расплакалась и отпрянула от меня. Я разревелся и услышал, как за моей спиной всхлипывает Нина.
Мы плакали втроем. Первой взяла себя в руки, конечно, моя бывшая жена.
– Ну хватит реветь! Ковалев, не разводи сырость! И ты, Наташка! Пошли лучше пить чай! Тем более у нас есть роскошный торт! Да, Ковалев? Ты, кажется, не поскупился? Торт из французской кондитерской, верно? Какие деньги, господи! И на что?
Нина оставалась Ниной – мужественной, жесткой, ироничной и саркастичной. И очень прямой.
Я увидел, как Наташа взяла костыли. Мы с Ниной переглянулись. Через десять минут мы сидели на кухне и пили чай. Разговор наш не очень клеился, но все-таки это было начало.
Через три дня я поехал к Даше.
Их я не застал. Соседи сказали, что Клавдия умерла, а Даша вышла замуж и переехала с дочкой к мужу на Дальний Восток.
Суетливая и болтливая соседка вынесла мне конверт с письмом от нее: «Вот, за могилкой Клавы ухаживаю! А Дашка мне пишет, справляется. Ну и благодарит, ясное дело!»
Я взял конверт, на котором легко и четко читался обратный адрес.
* * *
В марте, к восьмому числу, аккурат к празднику, вышла моя новая книга. Называлась она «Моя женщина». Тираж был большим – Лариса сказала, что это подарок всем женщинам. Книга ей, кстати, очень понравилась. Скупая на похвалу Лариса сказала одно:
– Ох, Максим Александрович! Ох! Ну вы и дали!
Я, конечно, надеялся, что и мужчины прочтут эту книгу. Но их, ясное дело, будет меньше, чем дам!
Всем давно известно – и в театры, и в кино, и на выставки, и в книжные магазины ходят в основном женщины. Может, потому они и правят миром? Ведь не война и политика, не деньги и власть.
Встреча с читателями была назначена на девятое – второй день продажи романа.
Народу собралось много, но я, как всегда, нервничал, что никто не придет. Вечный страх автора.
В зале магазина на Тверской было душновато и тесно. Мои поклонники стояли плотно, но мужественно.
Я рассказывал про новый роман и отвечал на вопросы.
А после, как обычно, началась автограф-сессия. Читатели подходили к столику, где я сидел, и говорили мне приятные слова. Многим хотелось поделиться и пошептаться. Признаться, я здорово устал – сказывались волнение и напряжение.
На вновь подошедшего я поднимал глаза и заученно спрашивал:
– Кому подписать?
Кто-то подписывал себе, кто-то – подруге, кто-то родным. Все как обычно. Я поднял глаза на русоволосую женщину с темно-серыми глазами.
– Кому? – привычно улыбнувшись, шаблонно спросил я.
Она, кажется, была страшно смущена.
– Марине Сторожевой, – после паузы тихо сказала она.
Я вздрогнул, чувствуя, как забилось мое сердце. Мы смотрели друг на друга и молчали.
На нас с удивлением глазели продавцы книжного и оставшиеся в зале читатели. Наконец я очнулся и шепнул:
– Подождете меня? Я скоро закончу.
Она покраснела и молча кивнула.
Автограф-сессия закончилась, я тепло попрощался с сотрудниками магазина, собрал в охапку цветы и вышел на улицу.
Марина стояла чуть сбоку от двери, опустив голову и ковыряя носком сапога наледь на асфальте.
Я облегченно выдохнул и шагнул к ней, протянув букеты.
– Это вам!
Она испуганно глянула.
– Ой, что вы! Спасибо, не надо! Это же – вам!
– И вам, кстати, тоже! Пожалуйста, не отказывайтесь!
Она слегка улыбнулась.
– Ну… Раз вы так считаете… Только вы понесете – все по-честному, а? Такая махина – не удержу!
И мы рассмеялись. Как же мне стало легко!
– Ну что? Вперед? – подобрался я. – Очень хочется есть. Я всегда много ем от волнения! Да, и еще – кофе! Много кофе – чашки две или три!
Она внимательно, изучающе смотрела на меня.
А я пытался скрыть свое смущение и еще больше боялся ее разочаровать. Я взял ее за руку – скользко! Очень скользко было на улице. Ее рука была теплой и мягкой, хотя на улице было морозно, промозгло – март, кажется, отступать не собирался.
И мы шагнули вперед.
А перед нами разливалась Москва, щедро, богато и бестолково украшенная к празднику. Она переливалась и сверкала разноцветными огнями, безмерно раздражая москвичей и столь же безмерно восхищая гостей и туристов.
Ну что ж, перемены не всем хороши и не всегда к сроку. Но только не в моем случае. В смысле – не в нашем. Как мне хотелось в это верить, господи! Как мне хотелось жить!
Мне снова хотелось жить – разве не счастье?






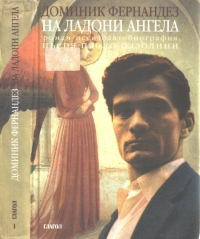
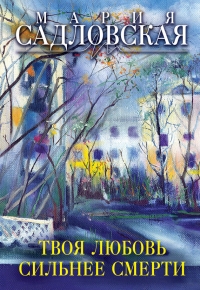
Комментарии к книге «Его женщина», Мария Метлицкая
Всего 0 комментариев