Давид Шахар Лето на улице Пророков роман
Светлой памяти Авитара
Истоки памяти
Четыре источника чувственной памяти — свет и колодезная вода, устье пещеры и скала поодаль — связаны для меня с образом Гавриэля Йонатана Луриа с тех самых пор, когда он жил в нашем доме в годы моего детства. Из Парижа прибыл он прямо в наш дом, и поскольку вошел во двор чуть прежде, чем император Абиссинии вошел во двор эфиопского консульства на другой стороне улицы, а именно в тот момент, когда я набирал воду из колодца, в моей памяти образ его запечатлелся поднимающимся из колодца вместе с ведром воды, брызжущей во все стороны искрящимися осколками сияния, пока я со странным наслаждением вытягиваю это ведро на поверхность. Его образ всплывает и распускается, словно японский бумажный цветок со дна стакана, тот, что сам он купил мне у торговца игрушками Ханины. Колодезная вода глубока, мягка и темна и пахнет старым камнем, железом, иссопом и нефтью от москитов. Устье колодца в углу двора, слегка приподнятое наподобие жертвенника, прикрыто железной крышкой. Я отодвигаю ее в сторону и всматриваюсь в круг темной воды. Тонкая защитная пленка нефти, маслянистая и отблескивающая переливами цветов, словно нимб вокруг тени от моей головы, которая, всплывая над водой, застит и глубину, и поверхность и возвращает мой голос, о-о-охлажденный единением с камнем и железом. Я опускаю ведро, крепко обмотав руку концом веревки, чтобы не сорвалось и не утонуло в колодезной пучине. После мгновенного и заранее предвкушаемого наслаждения от соприкосновения ведра с мягкой и податливой гладью воды я резким решительным движением погружаю в нее легкое ведро, норовящее остаться на поверхности. Под тяжестью наполняющей его воды ведро начинает погружаться, и я постепенно распускаю веревку. Ведро уже полно до краев, но я продолжаю разматывать веревку, чтобы ощутить и услышать металлический удар ведра о каменное дно колодца. Тут же начинаю я тянуть вверх, пока ведро, полное водой из шахты, снова не прорывает пленку поверхности и продолжает затем подниматься по узкому устью, ударяясь о стенки и роняя капли, разбрасывающие вокруг сверкающие осколки света. Если не остеречься, половина воды выльется обратно, пока мне удастся высвободить ведро из колодца. Уверенным движением я опорожняю его в один из двух высоких, почти в мой рост «танажей» — пузатых кувшинов, установленных на кухне в прямоугольные жестянки, поскольку их круглые основания слишком узки и неустойчивы. Старая Пнина, тетушка Гавриэля, с тревогой заглядывает в колодец и спускает веревку, проверяя уровень воды, продолжающий понижаться с поразительной быстротой, несмотря на все усилия водной экономии. Вот ведь прошел месяц тевет, пролетели-промчались дни Хануки, праздник деревьев на пороге[1], заглядывает в щелку, а дождя нет как нет, и даже туч[2] не видать. Если в течение двух-трех недель не пойдут дожди, придется прибегнуть к услугам Собачьего Царя Арли-водовоза. Состояние колодца служит источником вечной тревоги тетушки Пнины, и лоб ее, покрывающийся морщинами всякий раз, как она заглядывает в шахту колодца, наполняет и мое сердце ее тревогой. В минувшем году мы опасались наводнения. Весь двор стоит на колодце, его плиты — потолок колодца, и ночами, во время проливных дождей, меня наполнял страх, что сейчас колодец, не способный вместить изобилие непрерывно льющейся в него воды, прорвет и все мы в нем утонем. Тогда тетушка поспешила простейшим путем направить воду из водостоков нашей крыши прямо в канализационную трубу, перенеся затычку из нее в трубу колодца. Нынешний же год засушлив, и тетушка Пнина с наморщенным лбом все глубже вглядывается в шахту колодца, словно решив этим пристальным взглядом заставить его наполниться. Я снова кидаю ведро в воду, и когда начинаю его поднимать, вместе с ним поднимаются голос Йонатана Гавриэля Луриа и его приветливое лицо. Тревога по поводу пустеющего колодца тут же покидает меня, так же как исчезнет потом, при виде его лица и при звуках его голоса, страх перед прорывающимся под напором льющейся в него благодати колодцем, затопляющим, смывающим и поглощающим все вокруг. Хотя конечно же это тетушка Пнина, а вовсе не он, повернула поток дождевой воды в канализационную трубу, но поступок тетушки Пнины, реально предотвративший опасность, не мог сравниться с тем успокоением, которое излучал всем своим видом и звуками голоса Гавриэль Йонатан Луриа, и, что удивительнее всего, это успокоение излучали и его слова, содержание которых должно было не успокоить, а как раз напротив, подтвердить смутное опасение, сделать его отчетливым и усилить, превратив в мировую угрозу.
Он стоял перед окном, курил плоскую сигаретку «Летиф» и наблюдал сквозь стекло за непрерывно льющим прямым дождем, который, казалось, не прекратится вовек.
— Надо переставить пробку в колодезную трубу, — сказала тетушка Пнина с испуганными глазами и тревожно наморщенным лбом. — Мы ведь все стоим на колодце.
А я в воображении продолжил то, что она не произнесла вслух: что вот-вот пол под нашими ногами рухнет и все мы утонем.
— Да-да, — сказал Гавриэль, не проявляя ни малейших признаков готовности приступить к требуемому процессу затыкания трубы. — Никогда сосуды не смогут вместить благодати.
И я отчего-то успокоился и погрузился в странную беззаботность, уверившись, что именно так, конечно, дело и обстоит, подобно тому как сейчас покинуло меня беспокойство по поводу пустеющего колодца при виде его лица, будто поднимающегося из ведра, и при звуках его голоса, произносящего: «Так-так, сосуды пустеют». Что же будет, если тетушка Пнина не стащит Арли-водовоза с его места на крышке квартального колодца даже тогда, когда в нашем не останется уже ни капли живительной влаги? А в прошлом году? Продолжал бы я пребывать в том же состоянии беззаботности, не сделай тетушка Пнина того, что требовалось, и начни мы тонуть в пучине благодати, не вмещенной сосудами? Этот вопрос применительно к самому Гавриэлю снова, на сей раз более настойчиво, всплыл позднее, когда глаза его опять не смогли вынести избытка света. Годы спустя чувствительность их достигла такой степени, что даже в доме, даже от косого луча, проникшего через окно и упавшего на страницу его раскрытой книги, он способен был получить световой удар, который почему-то именовал «рефлексом», и ему, ослепленному, не оставалось ничего иного, как лечь на диван, надеть очень темные солнцезащитные очки и терпеливо ждать с закрытыми глазами, пока слепота не рассеется и не отступит. На том же этапе он перестал выходить и больше никогда не отправлялся со мною на прогулку ни в Старый город, ни на Подзорную гору[3], ни даже в любимые им пещеры захоронений Синедриона, до сего дня связанные для меня с воспоминанием о нем. Но это было много лет спустя, и о том мы расскажем в свое время.
Тут мне следует еще добавить, что, когда я увидел его лежащим в темных солнцезащитных очках и он сказал мне, указывая на свои глаза рукой, держащей сигарету, то же, что и двадцать лет назад, наблюдая сквозь оконное стекло за льющимися струями дождя: «Никогда сосуды не смогут вместить благодати» — я не уловил связи между колодцами, не вмещающими воду, и глазами, уставшими вмещать избыток света, так же как и вовсе не вспомнил в тот раз об оказанном в далекие дни моего детства, еще до его ареста, благодеянии, когда он открыл мне глаза на чудо света.
Папа и мама отправились в кино «Эдисон» неподалеку от нашего дома, а он остался с нами, детьми. Не знаю, почему я не спал гораздо позже обычного часа. В доме было тихо. На столе горела керосиновая лампа под фарфоровым колпаком, находившимся за пределами лужицы желтовато-зеленого света у подставки и распространявшим вокруг себя слабое зеленоватое сияние. Гавриэль Йонатан Луриа сидел, углубившись во французскую книгу. Когда я подошел к нему, он поднялся, взял меня на руки и вышел со мною из дома в ночь.
Эта первая встреча с ночным небом оглушила меня смутным страхом. Я увидел небо, и вот оно вдруг черно, и в нем — далекие мелкие световые точки.
— Это звезды, — сказал мне Гавриэль и добавил: — Воинство небесное.
Где-то скрипнула приоткрытая дверь, и из щели, образовавшейся в сплошной стене непроглядной тьмы, выплеснулся поток света, достигший кипариса у ворот и обернувший его ствол тканью дня. Прохладные, легкие языки ветра шептались в ветвях, принося с собой издалека, из-за Подзорной горы, запах сырой земли и тихие, жужжащие, дробящиеся и пилящие звуки скрипучей ночной жизни, внезапно возникающие и столь же внезапно обрывающиеся, и дыхание перехватывало от присутствия стен Старого города и окрестных гор — Подзорной и Масличной, погруженных во тьму. Они подавляли своим тяжело дышащим естеством, пугавшим несоизмеримостью с человеческими мерами, вечностью, превышающей человеческую, и равнодушием к копошащемуся на их склонах человечку. То естество гор и небес, которое я смутно ощущал в дневных скитаниях по пыльным горным тропинкам среди камней и чертополоха, с силой навалилось на меня в открывшемся мне ночном мире. Ночью, во тьме, небеса и горы стали более тяжелыми и осязаемыми.
Я крепко обнял шею Гавриэля, вдохнув пряный табачный запах.
— Давай вернемся, — сказал я ему. — Пойдем домой.
Он посмотрел на меня и сказал:
— Хорошо. Пойдем.
Ему стало ясно, что инстинктивный ужас перед ночью пересилил ее притяжение, и после первого изумления он понял, что я еще недостаточно большой, чтобы существовать и в дневном, и в ночном мирах. Как только мы вернулись под защиту четырех стен и мягкого света зеленого колпака, меня охватила тяжелейшая усталость, словно я только что возвратился из долгого путешествия по неведомой стране. Спустя некоторое время (я никак не могу припомнить, было ли то через два дня, через несколько недель или через несколько месяцев) я попросил, чтобы он снова вынес меня навстречу ночным небесам и горам. Кажется, я был возмущен. Что-то вроде обиды и негодования пробудилось во мне за то, что он до сих пор скрывал от меня иной мир, о чьем существовании я не знал, а сам продолжал жить в нем после того, как я ложился спать, — мир ночи, в котором он совершал свои «полуночные прогулки», как они у него именовались. Ночами бродил он по улицам города, главным образом по переулкам старых кварталов. Я гадал, добирается ли он в этих своих полуночных прогулках до пещер Синедриона, но не спрашивал его об этом из смутного страха перед этим миром, вдруг разверзшимся, словно бездна, а также из какого-то детского нежелания не только проникать в чужую душу, но даже и заглядывать в нее сквозь ненароком приоткрытое оконце, — того нежелания переходить границы, которое лежит в основе настоящей, естественной вежливости.
В погожие свободные дни он брал меня на прогулку к пещерам Синедриона, и мысль о том, что те же самые пещеры существуют и в ночном мире и что Гавриэль, возможно, бродит по ним в том мире была для меня пугающим откровением. Ведь на самом деле даже и в дневные часы, когда солнце в ясном небе облекало весь мир великим своим светом, вход в эти пещеры вызывал наслаждение, смешанное со страхом сырого холода и опасностей, подстерегающих в сумрачных углах, служащих убежищем всем самым ползучим, кишащим и мельтешащим из живых существ и самым хищным из них, в дополнение к опасностям, связанным с иными сущностями, не обремененными телами. Паук, развесивший свои сети в углу у входа, между косяком и притолокой, не представлял никакой угрозы, но из всех гадов земных по роду их[4] он представал в моих глазах самым отвратительным и ненавистным, несмотря на красоту его паутины, сплетенной благодаря чудесному чувству планиметрии. Я люто ненавидел его и испытывал к нему бесконечное отвращение и брезгливость задолго до того, как услышал историю про «черную вдову» — паучиху, пожирающую супруга-паука после спаривания. По поводу паука Гавриэль рассказал мне в одну из наших последних встреч, за несколько лет до написания этих строк, когда он уже перестал ходить и был подвержен приступам слепоты, что на одно из основных зрительных впечатлений в его жизни старая Роза ему открыла глаза, сестра сеньора Моиза, убиравшая два раза в неделю его комнату. После того как она закончила уборку, они сидели вдвоем, потягивая арак. Напиток этот был мил сей рассудительной старушке, не умевшей ни читать, ни писать, и Гавриэль имел обыкновение развлекать ее назидательными речами, произносившимися при подаче ей стаканчика:
— Милейшая Роза, вы должны беречь свое здоровье, если не ради себя, то по крайней мере ради меня. Ибо что я буду делать, если, не приведи Боже, вы сляжете? Посему прислушайтесь-ка к мнению врача и отведайте сего арака. Ибо ведь сказано врачом, что во всех снадобьях нет и половины пользительности для здоровья тела и души, что содержится в араке!
И на щеках Розы вспыхивал румянец смущения, словно у юной девицы, вместе с заговорщической усмешкой старой сообщницы по преступлению. Она принимала стаканчик грубой шершавой рукой и отвечала:
— За твое здоровье, Гавриэль-бек. Пошли тебе Господь здоровья, благословенья и всех благ.
Так они и сидели, потягивая арак, покуривая плоские сигареты и ведя беседу, и, слово за слово, речь зашла об одной из ее племянниц.
— Эта барышня, — сказала Роза, — барышня пригожая, только у ней паук в углу потолка.
И для наглядности указала рукой на краешек своего лба.
Гавриэль рассмеялся с ней вместе и только минуту спустя вдумался в ее слова.
Чтобы отметить непорядок в душе девушки, она не сказала «у нее паук в голове», но «у ней паук в углу потолка».
Когда Роза ушла, Гавриэль вытянулся на спине в своей постели и зажмурил глаза, чтобы избежать приступа слепоты, приближение которого он начинал ощущать. Вдруг он увидел себя самого, заглядывающего через окошко в некий шар вроде тех стеклянных шаров, которые служат аквариумами для золотых рыбок. Ему действительно сначала казалось, что он смотрит в огромный аквариум, только из-за поднимавшихся испарений рыбы, если это действительно были рыбы, выглядели расплывчато. Как только он понял, что это не что иное, как пауки, в нем проснулась гадливость. «Такой мир неприкасаем из отвращения»[5], — сказал он себе. И, дивясь, как это он позволил пауку завладеть миром, переполнился гневом, вырвавшимся из его ноздрей и превратившимся в птиц пернатых и котов, принявшихся уничтожать всю нечисть и гадов. И увидел он, что птицы прекрасны, и коты снискали благоволение, и по доброте его и милости стали коровы пастись на лугу. Птицы внимали бесплотным духам и щебетали в ответ, а Роза подоила коров и поднесла Гавриэлю кувшин теплого пенистого молока. Она просила его не уничтожать в гневе своем всех пауков на земле, оставить самую малость на лечение, ибо паутина их хороша, чтобы прикладывать к ранам. Также они уловляют в сети свои трупных мух, бьющихся об оконное стекло, и пожирают их. Напомнила она ему также и паутину, спасшую Давида в пещере, когда тот бежал от лица Саула, а Гавриэль пил молоко и соглашался. От молока и от лица ее исходило куда большее умиротворение, чем от апологии пауку и от ткани, которую тот сплел над входом в пещеру.
Я одним прыжком влетел в устье пещеры впереди Гавриэля, и смутные страхи перед бесплотными духами, которым внимают птицы, вместе с гадливостью ко всякой кишащей нечисти слились с блаженным замиранием сердца от предчувствия клада в таинственном мире пещер.
Все это наделяло Гавриэля дополнительной силой, подобно тому как острые и едкие приправы придают вкус пище, хотя сами по себе непереносимы. Одно его присутствие за спиной смягчало если не опасности, казавшиеся мне реальными, то ужас перед ними, так же как выражение его лица избавило меня от страха перед тем, что колодец опустеет или его прорвет от переизбытка воды.
Прыжок в устье пещеры был прыжком из летнего зноя и нещадного света в прохладный мрак, хранящий в своих загадочных глубинах сокровище, спрятанное там много веков назад. Ведь те же люди, что тысячи лет назад выравнивали, обтесывали и обтачивали эти пещеры и вносили в их склепы саркофаги с костями своих мертвецов, спрятали здесь и сокровища, до сих пор не обнаруженные и ждущие, пока я приду их выкопать и вынести на свет божий. Саркофаги эти, а также и все принадлежности, оставленные на хранение мертвым, уже несколько сот лет как были выкрадены из пещер. Последний обломок саркофага с высеченным на нем именем Ицхак был в 1869 году отправлен французским ученым в Лувр. Тем не менее я знал, что само сокровище, схороненное в недрах, осталось неизменным, так же как и склепы остались теми же склепами прежних времен в каменной своей неизменности сокровенного времени в сокровенном месте. Это было сродни странному и смутному, но глубоко укоренившемуся во мне ощущению, всегда возникавшему, когда я, стоя на выступе скалы возле правой пещеры, смотрел на минарет мечети в деревне Наби Самуэль. Оно нашептывало мне, что, найдись во мне достаточно сил всмотреться с полной сосредоточенностью, я увижу пророка Самуила, возвращающегося домой после обхода Бейт-Эля, Гильгала и Мицпе, в точности как написано в Первой книге Самуила: «Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его и там судил он Израиля»[6].
Стою я и смотрю на тропу, поднимающуюся к Раме, к его дому, и нужно мне всего лишь как следует сосредоточиться на ней, чтобы на этом утесе, на месте, где я стою и где сам он, вероятно, стоял в свое время, колесо времени завершило свой оборот. Между ним и бытием камня в пещерных склепах отличие состоит лишь в скорости этого оборота, ибо пещера тормозит колесо в его вращении, и в темных глубинах, кроющихся за склепами, это торможение столь сильно, что куски времени, оторвавшиеся от колеса, остались при нем и кружатся со своими живыми и мертвыми, с птицами, внимающими бесплотным духам, и потаенными кладами.
И спрятанные сокровища, и заключенные в саркофаги останки в склепах пещер казались мне сами собой разумеющимися, естественно продолжающими все, что мы учили о пещере Махпела, ставшей могильным уделом Авраама, об Иосифе, которого набальзамировали и положили в гроб, о захоронениях дома Давидова, об Асе, похороненном «на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями»[7], о первосвященнике Горканосе, открывшем одну комнату в захоронениях дома Давидова, вынесшем оттуда три тысячи талантов[8] и передавшем их Антиоху[9], дабы снял тот осаду с Иерусалима. Потому я так поразился и перепугался, впервые увидев собственными глазами похороны, когда мы с Гавриэлем вынырнули из мрака пещеры на растрескавшуюся поверхность земли, всю в колючках, обожженных зноем безоблачного неба. Похоронная процессия приближалась по склонам Бухарского квартала к кладбищу Сангедрии, и в ней выделялся долговязый сеньор Моиз, выбрасывавший ноги в разные стороны, и семенила старая Роза, заплаканная и потрясенная — ведь хоронили ее племянницу, ту самую, о которой она заметила, что та «барышня пригожая, только у ней паук в углу потолка». Пораженный смотрел я на тело, завернутое в саван и безо всякого гроба уложенное на носилки, беззащитное перед окружающим миром. Несущие носилки поднимались по пыльной тропе, декламируя псалом: «На руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею»[10]. И от каждого преткновения их ног о дорожные камни маленькое и плоское тело металось вправо и влево, вверх и вниз, а особенно билась голова, резко дергавшаяся вперед и назад. С ужасом увидел я вдруг левую ступню, выглядывавшую между полотен, эту зеленовато-желтую жесткую ступню, олицетворившую для меня выражение «безжизненное тело», которое мне предстояло услышать некоторое время спустя, и коснувшуюся иссохшей земли, когда тело было опущено в яму, поспешно засыпанную могильщиками. Гавриэль молча наблюдал за похоронами, да и я не мог, не смел раскрыть рот. Только на обратном пути, возвращаясь домой, я спросил его, что случилось, почему ее хоронили даже без гроба, все еще не понимая, что был свидетелем общепринятого обычая, и считая, что у меня на глазах произошло что-то из ряда вон выходящее.
— Евреи здесь торопятся разбить сосуд, как только он опустеет, — сказал он. — Чтобы вернулся к праху, из которого взят.
Сперва я подумал, что он вовсе и не реагирует на мой вопрос, а неизвестно почему вспоминает колодец, пересыхающий от отсутствия дождей, о котором за день до этого сказал, входя во двор, где я набирал из этого колодца воду: «Да-да, сосуды пустеют». Но и на этот раз, почувствовав, на что намекают его слова, я заметил, что меня покинул смутный страх перед этим неизбежным опустошением, точно так же, как оставила меня тревога из-за пустеющего колодца при виде его лица, накануне будто поднявшегося из ведра, и при звуке его голоса, произнесшего: «Так-так. Сосуды пустеют», и так же, как страх колодца, прорывающегося под напором водного изобилия и затопляющего и смывающего все вокруг, прошел, как только он произнес: «Да-да. Никогда не смогут сосуды вместить благодати».
Четверть века спустя, когда по чистой случайности, о которой со временем расскажу, я узнал, что Гавриэль Йонатан Луриа и является автором «Чертога разбитых сосудов», мне стало ясно, что существует связь между человеком, убравшим свое имя из книги своей жизни, и той вселяющей радостную уверенность и умиротворяющей энергией, которую он излучал.
Царский облик
Гавриэля Йонатана Луриа я впервые увидел в великий и необычный день моей жизни, в тот день, когда я собственными глазами лицезрел вблизи, с противоположной стороны улицы, Опору Троицы, Избранника Божьего, Царящего Над Царями Царей, Льва Иудеи, Императора Абиссинии Хайле Селассие. Это произошло в разгаре лета 5796 года, он же 1936, и был я тогда десятилетним мальчишкой, поднимавшим воду из колодца на широкий, выходящий на улицу Пророков балкон нашего дома. Я увидел прямо перед собой императора, торопливыми шагами поднимавшегося к зданию эфиопского консульства напротив, а потом, лишь только я обернулся, моему взору предстал человек, сидевший в плетеном кресле у стола, что на балконе нашего дома, и улыбающимися глазами взиравший на меня и на разыгравшуюся передо мной сцену. В тот день господин Луриа вернулся из Парижа в дом своего покойного родителя, ибо дом наш, по сути дела, был не чем иным, как домом его отца, где родился и провел дни своего детства и сам Гавриэль, и тот колодец, из которого мы пили, был колодцем его детства.
Мать его сдала нам весь дом, оставив за собой не более того, что именовалось нами «лестничной клеткой», ибо было выстроено под лестничным пролетом, ведущим к дому, и чья крыша являлась полом нашего переднего балкона. Несмотря на то, что эта нижняя комната никак не была связана с колодцем, расположенным под поверхностью заднего двора, и сам дом разделял их, мать Гавриэля, тем не менее, утверждала, что из колодца в комнату непрерывно проникает ледяная сырость, которая доведет ее до ревматизма. Именно благодаря нужде, заставившей госпожу Луриа добывать средства к существованию сдачей внаем дома, мне посчастливилось провести свои детские годы в том самом здании на спуске улицы Пророков, на границе с Мусрарой, в котором Гавриэль Йонатан родился в первый год двадцатого века, за двадцать шесть лет до моего рождения, и в котором прошло и его собственное детство. Круглое, отверстое на восток окошко, словно одинокое око, выглядывало из-под красной черепичной крыши, прочие же окна в доме были сводчатыми. Окна фасада напротив парадного подъезда, выходившего на улицу Пророков, были сделаны из разноцветных стекол, и я любил смотреть на них снаружи по ночам, когда толстые глухие каменные стены погружались во тьму, а собранный внутри дома свет просачивался в какой-то тихой тоске сквозь розетку каждого окна. Вокруг мощеного двора над колодцем располагался участок земли, призванный служить садом, да только в дни моего детства на нем не росли цветы, а возвышалась одна весьма древняя олива, чей растрескавшийся ствол был до такой степени истерзан и изранен, что лишился сердцевины, вместо которой осталась зияющая пустота, а вдоль высокой каменной ограды, огибавшей дом со всех сторон, стояли кипарисы и сосны. В летние полдни я вытягивался в полный рост на подоконнике (настолько толстыми были стены) и смотрел в сторону Тур Малка, что на вершине Масличной горы, и на участок стены Старого города с шумной площадью перед Шхемскими воротами. Там стояли запряженные лошадьми экипажи наряду с автобусами арабской компании, отправлявшиеся в Рамаллу и Иерихон, а также несколько автомобилей «тЭкси»[11], и между всем этим транспортом суетились толпы арабов в бурнусах, куфиях и фесках. Обрывки арабских мелодий порхали в воздухе, достигая моего окошка с порывами ветра, несущего арабские ароматы. Первые голоса из первых радиоприемников, начавших возникать то тут, то там в Иерусалиме, и впервые достигшие моих ушей через окошко, были теми тягучими томными мотивами арабских любовных песен, петлявшими с заунывной, наводящей тоску периодичностью. В круге арабской жизни, открывавшемся моему взору сквозь подзорную трубу окошка, где я располагался, той жизни, кишевшей в пространстве между мною и Масличной горой с башней Тур Малка, жизни, полной торгов, криков, песен, запахов и, невзирая на всю ее суетливость, погруженной в сон, в этом жизненном круге приобретало осязаемость то, что пробуждало в душе древние звуки давно позабытой мелодии, как прямое продолжение всего, о чем я узнавал из библейских книг про жизнь наших праотцев в этой земле. Однако продолжение это, будучи прямым, не было естественным. Ведь это я — росток древа Авраама, Исаака и Иакова, законный и природный наследник дома Давидова, царствовавшего здесь, в Граде Давида. Где-то когда-то произошла путаница, словно в маскарадном представлении, царский сын и бродяга обменялись нарядами: бродяга, облаченный в одежды царского сына, обосновался во дворце, а царский сын взял посох и отправился в долгий путь, на котором множество превращений до неузнаваемости преобразили его.
В подвале дома, где скапливались и гнили отрепья долгих лет и ржавели их обломки, я обнаруживал неожиданные находки всякий раз, как спускался в него вместе с домовладелицей, чтобы помочь ей тащить складную деревянную кровать, которую она то выволакивала, то возвращала обратно в определенное время, по одной ей ведомым таинственным причинам. Однажды я нашел там шарманку, которая, несмотря на свою исключительную древность, со стонами ржавого металла и скрипом застывших колесиков издавала звуки «Марсельезы», когда я вертел ее изогнутую ручку. А в другой раз я извлек из-под груды мешков турецкую саблю в ножнах.
На подъеме улицы Пророков, по другую сторону проезжей части, находилось консульство Эфиопии, она же Абиссиния. Над его воротами разлегся искусно набранный из мозаики лев с гневным ликом, несущий царский жезл и увенчанный короной. Рядом со львом — надпись, сделанная абиссинскими буквами и, как объяснил мне на чистейшем иврите один из абиссинских монахов иерусалимской общины, гласящая: «Менелик Второй, Царь Царей Эфиопии, потомок Льва Иудеи». Этот Менелик был предшественником Хайле Селассие на абиссинском троне. Когда итальянцы вторглись в Абиссинию и захватили ее, император покинул свою страну и во время пребывания в Иерусалиме проживал в консульстве, напротив нашего дома. С балкона я видел членов абиссинской общины в ожидании своего государя. Во главе их стояли высокие монахи, что казались, благодаря своим черным лицам, сливавшимся с чернотой их ряс и чернотой прибавлявших им роста клобуков, черными одушевленными колоннами. Несколько рослых британских полицейских, как обычно, поддерживали порядок, а вокруг собралась толпа прохожих, арабов и евреев, и среди них бородатые и пейсатые йешиботники из близлежащего квартала Ста Врат, застрявшие по пути в Старый город.
Когда император вышел из машины, лицо мое вспыхнуло и весь я был охвачен смешанным чувством, в котором завертелись оттенки странно противоречивых ощущений, словно в быстро вращающемся калейдоскопе переменчивых форм и цветов. Будто в фарсе, где негр наряжается британским генералом, впервые предстал передо мною абиссинский государь, ибо мундир его был мундиром английского генерала, во всех его мельчайших деталях, с погонами и кожаной перевязью, идущей наискосок от плеча к ремню на талии, с двумя рядами медалей на груди и украшениями на фуражке. Все было на месте, кроме самого английского генерала. Из его облачения выглядывала шея черного полированного мрамора с серовато-белым отблеском, а из рукавов свешивались такие же кисти рук. Прямая, тонкая, гибкая и мускулистая фигура, поднимавшаяся по ступеням с очаровательным проворством, не отличалась высотой, и, похоже, все монахи, чей император скрылся внутри здания прежде, чем они успели преклонить перед ним колена, были выше него на целый клобук. На одно мгновение, прежде чем он повернулся ко входу, я увидел царский профиль в тени, отбрасываемой козырьком его генеральской фуражки, — и вот украшен он короткой заостренной бородкой, и власы главы его вьются на затылке, и, несмотря на всю деликатность и на ореол духовности, его окружавший, выражение монаршего лица деловое и решительное, свойственное человеку, знающему, что его ожидает, ибо он от мира сего, и время торопит его привести в исполнение зреющие под этим козырьком планы, силой которых преодолеет он все препятствия.
На самом деле оттенок его кожи был гораздо светлее, чем у всех его подданных, скопившихся у входа в эфиопское консульство, и облачись император в черную рясу, подобно коптским монахам, то по сравнению с ними показался бы даже бледным. Однако светлая британская униформа делала его кожу значительно темнее, и она же сыграла решающую роль в том явном разочаровании, которое возобладало в переполнявшем меня смешении противоречивых чувств. Я ожидал чего-то совершенно иного, уповая на некое ниспосланное свыше сияние, выделяющее царя из простых смертных, исходящее от него и ощущаемое всяким, подобно аромату цветения цитрусовых деревьев, свету лампы и звуку скрипки. Блеску царственной души пристало царское телесное облачение, и если он абиссинский царь и монаршее сияние его исходит из негритянской его сущности, то и одеяние должно соответствовать этой негритянской сущности. В моем воображении я не находил для негуса костюма лучшего, чем багряная мантия, отороченная по краям мехом серебристой лисы, а на голове — венец из цветистых перьев редкостных птиц, гнездящихся в зарослях вечнозеленых лесов.
Этот маскарадный наряд британского офицера, в котором явился абиссинский император, мундир, лишенный малейшего налета царственной таинственности, не только уподоблял его обычному человеку, но и того более — неожиданно еще приближал его ко мне, причем именно в том, что было упрятано в тайниках души. Ведь в глубине души и я видел себя этаким блистательным и гордым британским офицером, воинственным и отважным, творящим милость любящим его и расправу над врагами его, ибо его есть царствие и его есть слава. Этот император воплотил то самое, что оставалось моей тайной мечтой, — облаченный в военную форму, он стоит во главе преданного ему войска и сражается со своими врагами итальянцами, и иного не осталось ему, как переменить кожу свою[12].
С благоговением взирала на него безмолвная толпа, коптские монахи преклоняли колена и клали поклоны, а британские полицейские стояли по стойке смирно, и сержант продолжал отдавать честь до тех пор, пока император не скрылся в дверях консульства. В этот момент произошло небольшое недоразумение. Один из полицейских подмигнул своему товарищу, стоявшему рядом. Не знаю, относилось ли это подмигивание к его императорскому величеству или к чему-то, что касалось только двух английских полицейских. Так или иначе, на него откликнулся «американский часовщик» Ицик и тут же сделал некий жест своей грубой волосатой ручищей и крикнул «самбо» в сторону сомкнувшейся за императором двери.
«Американский часовщик» Ицик не был ни часовщиком, ни американцем. Это был просто-напросто бугай лет двадцати пяти, подсобный рабочий в большой рыбной лавке на углу переулка, ведущего к рынку Ста Врат. В детстве он хотел стать часовщиком, плененный видом часовщика, вставляющего в глаз увеличительное стекло в черной трубке, с помощью которого ему открывался потаенный мир, в то время как руки его, вооруженные тончайшими инструментами, погружаются в недоступные невооруженному глазу внутренности миниатюрнейших дамских часиков. И действительно, вторично потерпев неудачу в мудреных школьных занятиях первого класса, после того как провел в нем два года (тогда и в начальной школе ученики вроде него имели право оставаться в одном классе по два года и более), он был принят подмастерьем к часовщику. С того самого дня Ицик объявил себя часовщиком, хотя провел там не более двух недель в качестве уборщика лавки и квартиры и переносчика тяжелых стенных часов из домов заказчиков в лавку и обратно. Он также заявлял с торжествующим видом, что вписан в американский паспорт своего папаши, некогда проведшего несколько лет в Америке. Так же точно, как не довелось ему чинить часы, не суждено ему было добраться и до Америки, но зато на диво преуспел в науке нагружать себе на спину увесистую поклажу и перетаскивать бочки с селедкой в лавке своих хозяев, которые награждали его всяческой тяжкой работой в лавке и за ее пределами, да еще и одалживали его владельцам соседних лавок с той же самою целью. Сие наполняло его профессиональной гордостью редкого специалиста, единственного и незаменимого в своей области. Однако главной причиной того авторитета, что снискал он среди всех детей Иерусалима, была его священная война с кошками. Без всякого на то хозяйского указа и не получая за сие богоугодное дело никакой мзды, он по собственному почину и по личному разумению объявил беспощадную войну не только кошкам, осаждавшим вход в рыбную лавку, но и всем котам и кошкам от мала до велика, какие только встречались на его пути, от старика до роженицы и новорожденного котенка. В этих кошачьих сражениях развил он несколько новых тактических уловок. Однажды я собственными глазами видел, как он шел с ящиком рыбы на голове вниз по улице в направлении Шхемских ворот, и вдруг его недремлющее и наметанное око узрело серого кота, свернувшегося на ограде Итальянской больницы. Не снимая своей ноши и почти не наклоняясь, Ицик стал медленно сгибать колени, пока его свободная рука не коснулась тротуара. Пошарив вокруг и нащупав обломок кирпича, рука эта как следует ухватила его, и тогда «американский часовщик» распрямился и снова встал во весь рост. С одной рукой, поддерживавшей ношу на голове, и с выпрямленным корпусом, не шелохнувшимся в помощь свободной руке, метнувшей обломок кирпича, он поразил гревшегося на солнышке кота, и одновременно с коротким возмущенным и хриплым воплем боли улепетывавшего зверя воин-победитель испустил нечто вроде сладострастного стона. Да и арабских крестьянок, приходящих в город продавать свой товар, норовил он дернуть за прядь волос или опрокинуть у них корзину яиц. Но с тех пор как однажды побывал под арестом в полицейском участке, что на улице Сент-Пол (сегодня она переименована в улицу Колен Израилевых, а здание, где размещался этот участок, служит нам пограничным столбом со стороны «Ворот Мандельбаума»)[13], и схлопотал там за подобные деяния порку от английского сержанта, он остерегался и действовал исподтишка, не всегда достигая цели.
Сейчас, одновременно с издевательским скабрезным жестом и возгласом «самбо», нацеленным в спину императора в изгнании, он уставился на английского полицейского с этакой улыбкой взаимопонимания и с ожиданием дальнейшего поощрения, но тот метнул на него взгляд, полный отвращения, смешанного с возмущением, и развернулся, чтобы проследовать вместе с сержантом и всем взводом к полицейскому участку. Какой-то момент здоровенный детина еще оставался на своем месте с застывшей на физиономии улыбкой, бросая взгляды на окна консульства, будто взвешивая, не следует ли запустить камнем в одно из стекол, и в смущении ограничился тем, что дважды пролаял «самбо» мальчонке, которого мать тащила за собой в абиссинскую церковь, куда направлялась вслед за монахами.
В состоянии душевной подавленности и нахлынувшей бессильной злобы у меня промелькнуло ужасное в своей определенности ощущение, что и сам я являюсь объектом наблюдения. «Есть око видящее и ухо слышащее, и все дела твои вписываются в книгу» — когда по прошествии двух-трех лет я прочел эти слова, во мне снова всколыхнулось то же самое ощущение вместе с воспоминанием обо всем произошедшем — как я обернулся и увидел Гавриэля Луриа, сидевшего в плетеном кресле и наблюдавшего за мною, наблюдающим за разыгрывающимся передо мною спектаклем. Он сидел у стола, положив ногу на ногу и откинувшись на спинку кресла, в одной руке держа сигарету, а другой опираясь на трость с серебряным набалдашником. Он наблюдал за всей этой сценой подобно зрителю театрального представления, в котором я, как и все прочие актеры, неосознанно принимал участие. Он излучал благое, вселявшее уверенность спокойствие, именно оно вместе со светившейся в его глазах располагающей улыбкой и избавило меня от ужаса перед всевидящим оком, чей взгляд ни с чем не сравним. Он был очень далек и одновременно с тем очень близок. Настолько далек, что превратил меня (и вместе со мною всех прочих участников спектакля, не чувствовавших этого всевидящего взгляда) в крошечного карлика, этакого на диво маленького мальчика-с-пальчик, и настолько близок, что каждый мимолетный оттенок чувства и мысли и легкое движение мизинца приобрели совершенно исключительное значение в канве древнего, таинственного и скрытого смысла.
Моисей и эфиопская жена
Уже долгие годы лишен я радости пробуждений того лета, когда мы поселились в доме господина Гавриэля Луриа и когда я увидел его отца, старого турецкого бека, и его мать с грезящими глазами. Та радость пробуждений существует ныне лишь в щемящих воспоминаниях и в наивной надежде на ее возвращение в один прекрасный день.
В один из дней того лета, в тот великий и странный день моей жизни, господин Гавриэль Луриа вернулся из Парижа. Поскольку мать его сдала нам квартиру в их доме на улице Пророков за несколько недель до его прибытия, я уже слыхал о нем и был знаком с его домом и с его матерью прежде, чем сам он предстал передо мной со своими квадратными усами, тростью и соломенной шляпой на голове. Что до старика, то не могу утверждать, что я был с ним знаком, ибо видел его всего-навсего два или три раза.
Этот сефардский еврей, Иегуда Проспер Луриа, отец Гавриэля, был по всем статьям человеком необычайным. Прежде всего, кроме наложниц на случай, у него было две жены, как у наших праотцев в те старые добрые времена, когда дети Израиля еще вели себя в соответствии с природными склонностями. Одна его жена, Хана, происходила из старинного и чрезвычайно родовитого сефардского семейства Пардо, и все знавшие ее свидетельствовали, что была она женщиной исключительной душевной тонкости и добросердечия. С нею жил он в своем доме в Яффе, где выросли три сына и две дочери, которых она родила ему. Другая жена, мать Гавриэля, происходила из захудалой и бедной ашкеназской семьи из Старого города. Старик поселил ее в своем иерусалимском доме на улице Пророков и к ней приезжал время от времени пожить недельку. В последние годы он появлялся не чаще раза в три-четыре месяца. Кроме двух жен старик располагал еще одним излишеством, официальным достоянием времен оттоманской империи, а именно титулом «бек», присвоенным властями и приравнивавшим его к турецким вельможам и прочим знатным людям во владениях султана, да возвеличится его имя. Мусульмане, а также и местные евреи продолжали величать старика турецким титулом Иегуда-бек и после того, как сам султан вместе со всей своей огромной державой исчез с лица земли. Не знаю, был ли пожалован ему этот титул как следствие занимаемой должности, или же благодаря титулу была ему предоставлена должность, ибо был он испанским подданным в Яффе, увенчанным турецким титулом. Так или иначе, он служил консулом Испании в этом городе вплоть до завоевания страны англичанами, и европейцы называли его «месье ле консюль». Он умер за несколько недель до того как Гавриэль, дитя его старости, вернулся домой.
По поводу возраста «старого сефарда», как обыкновенно именовала его ашкеназская жена, в порыве гнева предпочитавшая титул «старый турецкий развратник», а также и по всем прочим вопросам обнаружились разногласия между нею и ее соперницей, а также остальными членами его семейства. Яффская жена говорила (и Гавриэль доверял именно ее словам), что старик преставился в возрасте восьмидесяти девяти лет, в то время как иерусалимская жена, мать Гавриэля, уверяла всех и каждого, что ему исполнилось сто лет года за два, а то и за три до того, как покинул он сей мир. Сам Гавриэль не знал точного возраста своего родителя и годы спустя говорил мне, что мать его вечно имела склонность преувеличивать разницу в летах между собою и мужем и что, надо полагать, все годы, вычтенные из собственного возраста, прибавляла к мужниному. С годами она все более увеличивала эту разницу, пока по смерти старика и ей, и всем, кто готов был ее слушать, не стало ясно, что целых пятьдесят лет отделяли ее от «старого турецкого греховодника», соблазнившего ее выйти за него замуж, когда была она «невинной пятнадцатилетней девочкой», а он — «старым распутником шестидесяти пяти лет». Согласно подсчетам ее сына, разница в их возрасте не превышала двадцати лет и Иегуде-беку было пятьдесят пять лет, когда Гавриэль, дитя его старости, появился на свет.
В тех двух-трех случаях, когда я видел его в последний год его жизни, старый бек все еще держался прямо, хотя в его осанке, да и во всех движениях уже сквозила старческая скованность. Голова под котелком была совершенно голой, так же как и гладко выбритое лицо, если не считать необычайно черных густых усов и столь же черных кустистых бровей. Живот его колыхался, плывя впереди своего хозяина, а рядом вышагивал, выбрасывая в разные стороны длинные ноги, друг его, тощий, долговязый и несколько скрюченный сеньор Моиз, который, как выяснилось, прилежно трудился над стариком, изо дня в день гладко выбривая его голову и лицо и, по мере необходимости, окрашивая усы и брови. Тогда я еще не знал, что за пронзительно черный цвет усов и бровей старого бека следует благодарить сеньора Моиза, достигавшего вершин искусства куафюры и окраски волос, пребывая в скромной безвестности, подобно тем чудным мастерам, во всех поколениях остававшимся анонимными, ибо не алкали они ничего помимо совершенства своего творения; из того же, что видели мои глаза, я сделал вывод, что главным назначением сеньора Моиза было охранять бывшего консула от нападений иерусалимской жены.
Сняв шляпу и пальто, старый бек усаживался на балконе в кресле, обитом красным атласом, которое сеньор Моиз вызволил из кучи хранившейся в подвале рухляди. Он перебирал пальцами янтарные четки и бормотал что-то своим древним глухим голосом, а деликатного вида жена его с мечтательными глазами появлялась в дверях комнаты и со все нараставшей яростью начинала закидывать его яростными проклятьями на ладино, приправленными ругательствами на идише, или наоборот, идишскими поношениями, разбавленными помоями на ладино. Сеньор Моиз, в свой черед, стоял между ними, пытаясь умиротворить женщину ласковыми словами и успокоительными жестами — и «с позволения сказать, да статочное ли это дело, и не пристало ни супругу вашему, ни вашей милости не к лицу», — и всецело готовый к тому моменту, когда словесная атака завершится и начнется обстрел предметами туалета, которые он перехватывал на лету в порядке их следования длинными своими руками и с проворством человека бывалого и давно к тому приученного: сперва котелок старика, затем его шарф и под конец пальто. По неизвестной причине более всего доставалось от нее котелку, который она со всей тщательностью мяла руками и топтала ногами. При первом нападении, коему я оказался свидетелем, она изловчилась сорвать котелок с головы старика в тот миг, когда тот уже намеревался выйти, и перекинула его через балконные перила и каменную ограду на улицу. Однако котелок этот переносил все ее надругательства со стойкостью гранита. После того как сеньор Моиз подбирал его, смахивал с него пыль щеточкой, вынутой из-за пазухи, где она, судя по всему, хранилась на всякий случай, и с большой любовью разглаживал своими огромными пальцами все образовавшиеся на нем вмятины, котелок возвращался на гладко выбритую, подобную до блеска вымытой тыкве голову Иегуды-бека, целый и невредимый, как всегда. Знающие люди рассказывают, что изначально главным объектом ее гнева была красная феска, которую супруг носил при турках, но с переменой Оттоманской империи на Британскую и турецкой фески — на лондонский котелок в чувствах этой женщины произошел, на языке психологов, «перенос» эмоций с красного бочонка с черной кисточкой на черный горшок с полями.
Этот длинноногий Моиз (так она мне сообщила) был произведен в сеньоры лишь в самые последние годы, с тех пор, как, по ее словам, умудрился хитростью, интригами и низкими трюками уловить душу ее мужа, завладеть ею и сделать своей послушной рабой, ведь «старый турок» и пальцем не шевельнет без наущения этого «из грязи да в князи»[14], распоряжающегося душою, телом и состоянием своего бывшего господина. Даже те жалкие гроши, что старик кидает ей время от времени, как кидают кость уличной собаке, да и то лишь после того, как дело доходит до крайности, после всех скандалов и всех предупреждений, что коли не предоставит ей законного содержания, то она доведет дело до суда и откроет судье и всему свету его «добрые делишки», даже эти чахлые гроши, дающиеся ей кровью, достаются ей не прямо из рук мужа, а лишь через этого самого длинноногого, всю жизнь бывшего не чем иным, как прислужником и холопом. При турках был он жалким сиротой, трижды в день помиравшим с голоду, пока консул не сжалился над ним и не взял в свой дом. Когда парень подрос, тот сделал его свои кавасом. При турках денщик знатного лица в высокой должности именовался «кавас», и когда консул выходил из дому, кавас шествовал впереди в форменном облачении и с жезлом, коим расчищал дорогу своему господину.
Рассказы хозяйки дома тогда были для меня единственным источником познаний о старом беке и о его друге сеньоре Моизе, и тем не менее интересно, что все поносные прозвища, которыми она награждала мужа, не смогли унизить его в моих глазах, так же как ее рассказы об «интригах и низких уловках сеньора Моиза», при помощи которых тот «завладел душою, телом и состоянием старого турка», не мешали мне видеть благоговение, деликатность, любовь и абсолютную преданность, с которыми Моиз относился к своему господину. Когда атака бывала отражена и уже не требовалось защищать бека от супруги, сеньор Моиз усаживался на кушетку подле своего господина, и оба они сидели, наблюдая заходящее солнце. Однажды моих ушей достигли обрывки фраз из их разговора, вертевшегося вокруг величия учителя нашего Моисея.
— Учитель наш Моисей, — так сказал старик, — обладал силой вдохнуть жизнь в неодушевленный предмет. Он бросил свой жезл на землю, и жезл превратился в змея. Он сказал Аарону: «Возьми жезл твой и брось пред фараоном, он сделается крокодилом». И бросил Аарон по приказу Моисея жезл свой перед фараоном и пред рабами его, и он стал крокодилом. Видишь, сеньор Моиз, это та сила вдыхать жизнь в неодушевленное, которой обладает только Бог, а Бог наделил своей силой учителя нашего Моисея, человека Божьего.
— Однако ж, Проспер-бек, — отвечал ему Моиз, глубокомысленно сморщив лицо, — мы ведь знаем, что и волхвы египетские обладали силой вдохнуть жизнь в палку, как сказано: «И эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями».
— Безусловно, безусловно, — оживленно ответствовал бек и отер свою гладко выбритую и блестящую голову большим красным платком от капелек пота, сверкавших пляшущими искрами в закатном свете. — Волхвы египетские получили силы от своих богов, а учитель наш Моисей получил свою силу от Господа Бога нашего, и сделалась война между их богами и Господом Богом нашим, но Господь Бог наш победил богов Египта в войне, как сказано: «Но жезл Аарона поглотил их жезлы!»[15]
— Гляньте-ка, гляньте на этого праведного гения! — подала голос его жена из дверей своей комнаты. — Можно подумать, что все дни жизни своей он только и занимался, что Торой и добрыми делами! Все помышления его об одном лишь учителе нашем Моисее! Учитель наш Моисей!
У нее в руках был старенький клетчатый шарф, и она подошла обернуть им шею своего супруга.
— На, прикрой горло! — сказала она. — Только мне еще не хватало, чтобы ты схватил воспаление легких. Ведь знаешь же, что под вечер по Иерусалиму бродят холодные ветры, а рубашка твоя распахнута, словно у мальчишки.
Это был последний раз, когда я его видел. Через несколько недель нам стало известно о том, что он скончался в своем доме в Яффе, и в памяти моей он остался сидящим вот так на балконе нашего дома, в клетчатом шарфе, намотанном иерусалимской женой вокруг его шеи, и своим древним хриплым голосом в бессильной ярости бормочущим ей в ответ: «Учитель наш Моисей! Учитель наш Моисей!», с капельками пота на гладко выбритом черепе, искрящимися в лучах заходящего солнца.
Однако мать Гавриэля я видел почти ежедневно на протяжении всех тех лет, что мы жили в ее доме, унаследованном ею по смерти мужа. Не стану входить в сокровенные детали наследства хотя бы по той причине, что эти детали были известны лишь ей самой и старому судье. Годы спустя Гавриэль поведал мне, что мать его обманом отобрала дом у своей соперницы, являвшейся законной наследницей всей недвижимости старика согласно его завещанию. Старик завещал все свое состояние яффской жене и ее сыновьям, а матери Гавриэля завещал лишь право до конца жизни проживать в его доме на улице Пророков и получать квартирную плату за сдаваемую внаем часть. Гавриэль, дитя его старости, вовсе не упоминался в завещании, причем вполне намеренно, а не по забывчивости, хотя у Гавриэля при последней встрече с отцом накануне отъезда за границу сложилось впечатление, что тот не помнит его и что в туманном сознании старика место сына Гавриэля занял брат Давид. Старший брат Иегуды Проспера звался Давидом, и в детстве Иегуда был очень привязан к брату и ходил за ним как тень, пока Давид внезапно не умер в тот самый день, когда должен был принять ярмо господних заповедей[16]. В годы Гавриэлева детства отец иногда ловил его, обнимал и, прижимая к сердцу, говорил ему:
— Знаешь ли ты, сын мой, что всем — и чертами лица, и движениями похож ты на брата моего Давида, мир праху его. Не довелось брату моему Давиду стать тебе дядей. Умер он внезапно в день своего совершеннолетия.
Накануне отъезда Гавриэля в Европу, когда пришел он проститься с отцом, тот был совершенно невменяем. Он потянул себя за черный ус, сдвинул свои черные брови так, что они превратились в два горба одной грозной волны, и прорычал своим древним хриплым голосом:
— Послушай, Давид, говорил ведь я тебе не ходить в Вифлеем! — Он закашлялся, сплюнул, и лицо его сильно покраснело. — По дороге зайди на могилу праматери Рахили, но не оставайся там надолго, чтобы не застала тебя на том месте темнота и не пришлось бы там заночевать[17].
Однако не это помрачение рассудка, как уже говорилось, было причиной того, что имя Гавриэля было изъято из завещания. К этому привело поведение самого Гавриэля, годами тратившего в Европе отцовские деньги и не изучавшего медицину, невзирая на все письма, полные строгих предупреждений, в которых отец предостерегал его, что ежели он будет оставаться «сыном буйным и непокорным»[18], то лишен будет содержания и «доли в наследстве». И если все же для Гавриэля нашлась крыша над головой, когда вернулся он на родину неимущим, то лишь благодаря проискам матери, но отнюдь не по милости любимого отца, которого всю свою жизнь продолжал любить больше, чем любое другое живое существо на свете.
Мать его, как уже говорилось, я видел почти ежедневно на протяжении всего того времени, что мы жили в его доме, особенно в пору летних каникул, ведь летние каникулы я по большей части проводил дома, на балконе. Летние дневные лагеря для школьников тогда еще не были распространены, и мы играли во дворе и обменивали книжки в библиотеке Бней-Брит, находящейся, по-моему, и поныне все в том же здании в переулке, отходящем от улицы Пророков. Я читал на балконе, напротив ее двери, и когда доходил до самой увлекательной страницы, она отрывала меня от чтения. Я призывался помочь ей в спуске раскладной кровати в подвал или подъеме ее оттуда, в отодвигании комода от стены, дабы веник мог проникнуть в дальние заброшенные углы, и в возвращении его на место после уборки. Я также удостаивался чести быть посланным за покупками, не требующими особенных познаний и опыта, вроде спичек, банки оливкового масла, бельевых прищепок или любого другого товара, которому не свойственно тухнуть, гнить или засыхать и к которому неприменима шкала бесчисленных оттенков качества. По сей причине меня никогда не посылали покупать, например, хлеб или помидоры — продукты, требующие, помимо жизненного опыта, еще и тонкой природной интуиции, хотя именно по данному вопросу мне пришлось выслушать длинное и подробное наставление: хлеб должен быть хорошо пропечен, ибо ничто так не вредит желудку, как недостаточно пропеченное тесто, но нельзя ему быть также и перепеченным сверх необходимой меры, ибо тогда он перестает быть пропеченным и делается горелым, встречаются также буханки, чье тесто не взошло, поскольку не было вымешено должным образом, так что они горелые снаружи и тяжелые внутри. Как же тогда, спрашивается, может человек избегнуть греха, а именно — каким образом сумеет он выбрать из всех буханок именно ту, которая вымешена должным образом, и поднялась довольно, и испечена в достаточной мере и в точной пропорции? Дабы достигнуть такого уровня понимания, человеку следует быть прежде всего одаренным от рождения верными природными чувствами, а наделенный таковыми должен их всячески развивать и оттачивать, приобретая соответствующий жизненный опыт. Есть глаз, умеющий разглядеть глянцевитый коричневый оттенок, присущий в должной мере пропеченной буханке, и нос, улавливающий ее добрый горячий запах, и рука, осязающая напряжение хрустящей корочки над упругой мякотью хлеба, и ухо, чуткое к тонкому, хрупкому голосу буханки, слегка придавленной снаружи. Даже ей самой, Джентиле Луриа, со всей остротой ее чувств и богатством опыта, случалось ошибаться, и тогда ей приходилось возвращаться к торговцу и менять буханку. И вот, после всех этих слов, сопровождаемых демонстрацией цвета, запаха, консистенции и звука правильно выбранной ею буханки, она отправляла меня купить всего лишь кусок стирального мыла «Жирное» и кусок мыла «Карболовое», и это обостряло чувство моего унижения, явственно давая понять, что, по ее мнению, я непригоден для покупки буханки хлеба. Спустя годы, когда мы оба были в приятном расположении духа и я поведал Гавриэлю, как мать его невольно нанесла тяжелую обиду моим высокоразвитым чувствам, он ответил, что у меня нет ни малейшего представления о том, насколько должен я быть признателен и благодарен ей за эту милость, которой от нее сподобился, избавленный от этих покупок, бывших кошмаром его детства, ужасом возвращения гнилого помидора, горелого хлеба, прогорклого масла, червивого риса и творога, пахнущего нефтью.
— Поди-ка, Габи, — говорила она ему, — верни немедленно это прогорклое масло Красному Уху.
Этим прозвищем она величала лавочника, ибо у нее действительно был острый взгляд, различавший особенности каждого во внешности и в повадках вообще и в первую очередь всяческие дефекты и недостатки. В самом деле, сей лавочник был замечателен своим правым ухом, которое отчего-то всегда рдело, даже в то время, как другое ухо и вообще вся его физиономия бледнели. Никто не замечал этого, пока супруга бека не обратила на него свой острый взгляд, но после того, как она на него взглянула и вынесла приговор, это прозвище прочно к нему пристало и уже не отставало на протяжении всей жизни, и то, что до тех пор было неуловимой для глаза мелочью, терявшейся во множестве других мелочей, превратилось в его характеристику, став самым главным из всего, что в нем было. Благодаря этому острому взгляду не находилось никого, начиная со всяческих торговцев и кончая прислугой и приятелями мужа, кто бы, вступив с нею в какие-либо отношения, не сподобился специального прозвища из ее уст, и не только прозвища, но и имитации, ибо вдобавок к острому взгляду была она одарена и природным актерским даром. Рассказывая, например, о том, как развивался спор между нею и Черным Гребешком (то есть персидской прачкой Диной, удостоенной такого прозвища за свою прическу), она передавала не только ее слова, но представляла и манеру разговора, и жесты, и интонацию, и особенности произношения. Иногда, в веселом расположении духа, она в разговоре перехватывала манеру речи своего собеседника — с йеменцем-штукатуром она разговаривала так, будто сама была йеменкой, а с Красным Ухом, который был галицийским евреем, беседовала на идише с сильно выраженными галицийскими интонациями, что, как видно, доставляло ей двойное удовольствие, удовлетворяя природную жажду актерства и пародии, ибо последний равно соединял в себе две ярко выраженные особенности, будучи и торговцем, и галицийцем одновременно. Все торговцы были в ее глазах мошенниками, что только и ждут подходящей возможности отделаться от самого порченого товара по самой взвинченной цене, а все галицийцы — плутами и жуликами от рождения.
— Беда с тобой, Габи, дурачок-простачок, — говорила она сыну, пытавшемуся уклониться от возврата покупок. — С чего это ты стесняешься вернуть Красному Уху его прогорклое масло? Этот галицийский жулик не стесняется облапошить маленького мальчика и всучить ему последнюю пачку масла, оставшуюся у него с прошлой недели, а ты еще стесняешься вернуть ее этому мошеннику? В каком это мире мы живем? Обманутый стесняется уличить обманщика, который его обманул, и обворованный стесняется потребовать с вора уворованное. Ну уж конечно, все торговцы в восторге, когда дурак идет на рынок за покупками!
Надо отдать должное супруге бека, что не только сына своего посылала она возвращать испорченный товар, и не только мужа, чтобы обменял купленный ей подарок, но и сама, как все, испокон веков стремящиеся к совершенству, была к себе еще строже, чем к окружающим, и немало занималась возвращением покупок, которые ее не удовлетворяли или вызывали ее разочарование. И, подобно стремящимся к совершенству во всех поколениях, она так долго и тщательно трудилась над каждым кушаньем, пока оно не удовлетворяло всем ее строгим требованиям, что хотя каждое из яств, вышедшее из-под ее руки, способно было ублажить и тело, и душу, из-за множества вложенного в него труда являлось оно на свет с большим запозданием. Посему муж ее, находившийся с ней в те дни, роптал, что трапеза никогда не бывает готова ко времени и блюда не подаются одновременно.
— Чтобы действительно насладиться трапезой, приготовленной госпожою, — говаривал старик, — надобно посвятить ей целый день. К утру будет готов салат, к полудню — жаркое, во второй половине дня подадут суп, а вечером — десерт.
Старик преувеличивал, но из этого преувеличения можно составить себе представление о жизненном ритме его иерусалимской жены, которая, подобно всем стремящимся к совершенству с древнейших времен, сама тяжко страдала от окружавшей ее ущербной действительности. Даже в те лучшие годы, когда все здание было в ее расположении и к нему прилагалась мусульманская служанка, она имела обыкновение жаловаться, тем более на склоне лет своих, когда она сдала нам дом и перешла жить «на лестничную клетку». Тогда ей было уже за шестьдесят, и в согласии с перепадами ее настроения и параллельно им происходили поразительные перемены в ее облике. В молодости она числилась среди красавиц-брюнеток того изящного типа, в котором изящество проявляется и в чертах лица, и в теплом взгляде карих газельих глаз (Гавриэль унаследовал свои голубые глаза как раз от сефардского отца, а не от ашкеназской кареглазой матери), и в гибкости фигуры, и в жестах, и в голосе, и в прелестном смехе, пленивших сердце испанского консула, явившегося с визитом вежливости в школу для девочек имени Эвелины де Ротшильд, где она заканчивала курс обучения, ведь именно она вручала ему цветы от выпускного класса. Еще много лет после того как женился на ней впридачу к своей яффской жене, он считал себя в сравнении с нею существом грубым со всех точек зрения, и физической, и душевной. Только когда Гавриэлю минуло тринадцать лет, он стал слышать, как отец во время ссор с матерью называет ее «изящной гадюкой», а сеньору Моизу старик говорил, что известная фраза, предостерегающая человека от мудрецов, нацелена была не иначе как на сию иерусалимскую особу, «чей укус — укус лисицы, и жало ее — жало скорпиона, и шепот — шипение аспида; и все слова ее — как горящие уголья»[19].
Изящный облик сохранился у нее и к старости, хотя она уже утратила свою осанку и былую гибкость, став не в пример прежнему медлительна и скованна в движениях. Обычно казалось, что она погружена в какой-то отдаленный замкнутый мир даже тогда, когда кружила по рынку за покупками. И поскольку была во всех действиях так медлительна и склонна посреди любого занятия погружаться в долгие и далекие свои думы и грезы наяву, ей никогда недоставало времени даже на привычные повседневные дела, и она вечно была занята стряпней, починкой или уборкой, хоть и жила совсем одиноко, оставшись по смерти мужа без каких-либо дружеских связей, не считая сестринских отношений с Пниной. Целыми часами сидела она перед своей дверью на балконе и с отсутствующим видом перебирала рис в плоской медной миске, прозванной «китаянкой». Иногда она напевала какой-нибудь мотив тихим, спокойным и приятным голосом, и я не переставал изумляться, что эти сладкозвучные уста — те же самые, из которых вырывались истерические вопли, адресованные мужу, вопли животной, первобытной дикости, от которых я всегда покрывался гусиной кожей. Я уверен, что человек, видевший ее только тихонько напевавшей в минуты покоя, ни за что бы не поверил, что эта мягкая, деликатная женщина таит в себе такую дикую звериную ярость, точно так же, как тот, кто был свидетелем сердечных сестринских отношений, сложившихся у нее с Пниной, не способен был вообразить те жестокие и безобразные битвы, которые она вела с сестрой тридцатью годами раньше, когда ей стало известно, что та вступила в любовную связь с ее мужем Иегудой Про-спер-беком.
То было одно из самых унизительных и угнетающих воспоминаний Гавриэлева детства: как его нежная, любящая, дрожащая над ним мать превращалась в сеющую ужас пантеру, не только не видящую и не слышащую слез своего сына, умоляющего ее: «Мамочка, перестань, перестань, хватит, я больше не могу», но и способную в ослеплении бешеной ярости, стремясь расправиться с отступающей с боем сестрой, растоптать единственное дитя. Словно дикая кошка, вцеплялась она всеми когтями в волосы своей сестры Пнины и кричала со вздувшимися на шее жилами:
— Святоша! Святоша! Скажи мне — кто гонялся за толстым хреном турецкого распутника?! Святоша! Я тебе глаза повыдеру! Святоша!
Это был уже не крик, а какой-то огнедышащий смерч, выходивший за рамки того, что принято считать человеческим голосом.
Пнина, ее постепенно стареющая, набожная незамужняя сестра, оставалась в отцовском доме еще долгие годы после постыдного брака юной испорченной безбожницы с «турецким распутником». В ссорах между сестрами, предшествовавших раскрытию любовной связи Пнины, та имела обыкновение связывать несчастье своего стародевичества с поведением безбожной сестры, плененной «толстым хреном турецкого распутника» и ставшей его «наложницей». И где он, тот благочестивый и богобоязненный еврей, которому пристало взять в жены ту, чья сестра — безбожница и наложница турецкого распутника.
Так жаловалась Пнина долгие годы, пока продолжалась любовная связь, которую она собственной персоной завела с тем самым турецким распутником. А когда связь эта оборвалась, будучи раскрытой, как раз нашелся «благочестивый и богобоязненный еврей», горевший желанием взять ее в жены. По смерти старого бека госпожа Луриа снова допустила к себе сестру свою Пнину, позволив ей вернуться и по мере надобности себя обслуживать, ибо была подвержена приступам мигрени и загадочных болей в спине и периодически лежала в постели с мокрой тряпкой против головокружения, наподобие тюрбана обмотанной вокруг головы, и предоставляла старшей сестре ухаживать за собою в болезни, посылая ее и за покупками. Иногда ей, понятное дело, приходилось прикрикнуть на старшую сестру Пнину, иногда — посмеяться над нею, однако, как правило, они сидели, беседуя в приятном расположении духа.
В те долгие часы, что она сидела перед своей комнатой, подрезая бамию[20] и в свете заходящего солнца тихо напевая себе под нос нежным, певучим голосом милые песенки времен своего детства, иногда рассказывала и мне, по моей просьбе, кое-что о своем сыне Гавриэле. Когда я спрашивал про него, она отвечала, иной раз нанизывая на нить своего ответа дополнительные детали Гавриэлева детства, но сама никогда не начинала рассказывать мне о сыне, поскольку в дни нашего знакомства она жила в смещенном мире и все ее мысли уже были сосредоточены на ней самой, на собственных ощущениях и недомоганиях и на собственных годах детства и юности. Поэтому впервые я услышал о детстве Гавриэля и о тех днях, когда он еще учился в начальной йешиве реб Аврэмле в Старом городе, не из уст его матери, а как раз из уст реб Ицхока, сына Красного Уха, когда меня отправили в его лавку купить полротеля сахарного песку и дюжину бельевых прищепок. Сначала маленький Гавриэль был отправлен учиться в хедер и в начальную йешиву реб Аврэмле, а оттуда перешел в школу «Альянс», называемую на иврите КИАХ[21], закончив же ее, перешел в семинарию для учителей под эгидой еврейско-германской компании «Эзра».
Это его отец, сефардский еврей, носивший турецкий титул, послал его для начала именно в ашкеназский хедер. Сделал он это, чтобы мальчик, по его словам, «пустил корни в наследии отцов», и ашкеназский хедер казался ему предпочтительнее сефардской талмуд-торы, ибо «ашкеназы строже и ревностнее в вере», чем сефарды.
С глубокими корнями в наследии отцов, по образцу начальной йешивы реб Аврэмле в Старом городе, той самой, что впоследствии выпускала из своих стен поколения нетурей-карта[22], маленький Гавриэль (так полагал его отец бек, консул Испании) мог безо всякого душевного ущерба раскинуть ветви навстречу любому постороннему веянию.
Этот самый реб Ицхок, сын Красного Уха, впоследствии, после создания государства, превратившийся в один из столпов нетурей-карта, уже тогда казался мне по всем статьям старым евреем, хотя в те годы ему, должно быть, еще не исполнилось и сорока лет, ведь в детстве он учился в одном хедере с Гавриэлем. Сам Красное Ухо звал сына не Ицхок, а реб Ицхок. Сей реб Ицхок был евреем в теле и обладал длинной взлохмаченной, словно хвост мчащего коня, бородой, главные же его чары заключались в пейсах. Ни у одного из евреев, встречавшихся мне на рынке Ста Врат и в домах выходцев из Венгрии, я не видывал другой пары таких длинных и густых пейсов. Поскольку он их не завивал на манер щеголей из среды носителей пейсов, а позволял им расти как заблагорассудится, они вливались в его бороду, словно две пенящиеся мутные реки, впадающие в великое море. Когда я входил, командированный хозяйкой дома, в лавку и обращался к нему на иврите, он отвечал мне на идише, ибо говорил только на идише, а на идише говорил он не потому, что не понимал иврит, а потому, что разговор на иврите был, по его мнению, обычаем безбожников, понабравшихся этого у «губителя Израиля, Элиэзера Бен-Иегуды, да сотрутся имя и память его»[23]. В тот день я покупал в кредит и сказал ему, чтобы он записал полротеля сахару и дюжину бельевых прищепок на счет госпожи Луриа. Лицо его приняло мрачное и сердитое выражение.
Делая запись в своей книжке, он спросил меня, не поднимая глаз, вернулся ли уже ее сын Гавриэль из-за границы.
— Мозги у него есть, — сказал он. — Но он нечестивец, и душа его — душа язычника. В наши дни подобного ему не сыщешь даже среди гоев, которые давно уже перестали поклоняться идолам. Уже маленьким мальчишкой в хедере он занимался идолопоклонством, спаси нас, Господи.
Когда кто-то получал титул «губителя Израиля» или «гоя» или женщина удостаивалась прозвища «потаскуха» из уст ревностного в вере еврея, мне никогда не приходило в голову видеть в том человеке действительно гоя или подозревать ту женщину в разврате. Ведь и сам я многократно удостаивался титула «гой паскудный», проходя соседним кварталом Ста Врат без шапки на голове, а моя сестра, прошедшая тем же кварталом в легком летнем платье, была встречена криками «Потаскуха, потаскуха!» Ведь все эти и подобные им наименования лишены значения персонального определения, призванного охарактеризовать конкретного человека, и я их так и воспринимал — как собирательные поносные клички для обозначения всякого, кто не принадлежит к лагерю религиозных фанатиков и не ведет себя подобно им.
Посему я бы совершенно не впечатлился словами реб Ицхока и не сделал бы из них никакого иного вывода, кроме того, что Гавриэль сбросил ярмо Торы и заповедей, еще учась в хедере, если бы не почувствовал и по формулировкам реб Ицхока, и по его интонации, что он имеет в виду нечто ужасное, какое-то разнузданное, единственное в своем роде поведение, свойственное одному лишь Гавриэлю, в отличие от обыкновенных безбожников и даже гоев. Но из слов «душа язычника» и «поклонение идолам» я не вынес никакой внятной картины и не понял, о чем, в сущности, идет речь. Никакой внятной картины я не получил и от матери Гавриэля, когда вернулся из лавки и передал ей вместе с половиной ротеля сахара и дюжиной бельевых прищепок часть высказываний сына Красного Уха о ее собственном сыне. Я старался, конечно, повторить только те слова, которые могли, как мне казалось, менее всего вызвать ее гнев, а именно «идолопоклонство». Что имел в виду реб Ицхок, спросил я ее из чистого, бесхитростного любопытства, когда сказал про Гавриэля, что тот в детстве занимался идолопоклонством?
— Чтоб он сдох, этот грубиян! — сказала она, не проявив ни малейшего волнения по поводу моих слов и вовсе не реагируя на них, а я был поражен возможностью назвать старого человека с такими пейсами и бородой «грубияном».
— Как и Красное Ухо, сынок его — галицийский ворюга. Ну-ка глянь, какой серый песок он тебе подсунул!
Пересыпав сахар в стеклянную банку и сложив бельевые прищепки на комод, она вышла на балкон продолжить чистку хурфеша (так этот овощ называется по-арабски, и этим именем я продолжаю его называть, ибо его ивритское название мне до сего дня неизвестно; его окультуренный сородич называется иностранным словом «артишок»). Когда она сосредоточилась на хурфеше, я подумал, что она вовсе не расслышала моего вопроса об идолопоклонстве, коему предавался ее сын в детские годы, и стал искать повода задать его снова, но прежде чем повод нашелся, она сказала, словно разговаривая сама с собою:
— Когда Габи был мальчиком, он занимался идолопоклонством. У этих темных побирушек все — идолопоклонство[24]. Габи был мальчиком с фантазиями. В этом он похож на старика. Старик-то ведь из восточных, а восточные — они с фантазиями. Всю жизнь старик витал в восточных фантазиях обо всем, а особенно об учителе нашем Моисее, том самом Моисее, который вывел один народ из другого. Что сделал этот Моисей? Взял всякий сброд, скопище рабов, и сделал из них великий народ. Зачем он таскал их сорок лет по пустыне, по земле бесплодной и мертвой, по таким местам, куда приличный человек и не забредет? Послушай, что я тебе скажу: я утверждаю, что так он поступил потому, что стыдно ему было, этому Моисею, появиться в обществе, среди приличных людей, в сопровождении этой пустой бессмысленной толпы рабов, внезапно избавившихся от ярма. Все помыслы старого турка только и были сосредоточены на Моисее, и, думается мне, не хватало ему только эфиопской жены, чтобы и сам он превратился в Моисея. А Габи… он ведь кость от кости и плоть от плоти этого старика и так же, как получил он в наследство от отца его силу и мужество, так же унаследовал и его силу воображения. Что ни день приходил он из хедера с новой байкой о том, какая чудесная и страшная история будто бы произошла с ним в тот день. Грезил наяву и видел всякие наваждения и миражи, и до того доходило, что я уже волновалась за его здоровье. Знаешь ли: всему свое время и всему своя мера, и всякое излишество портит жизнь человеческую[25]. Человек, погружающийся в фантазии, теряет ориентацию в этом мире, и конец его — гибель[26]. И вправду, посмотри, во что это обошлось Габи. Парень, одаренный такими чудесными способностями, да и возможностей ему, слава Богу, было не занимать… Все, и главы йешивы, и учителя из «Альянса» признавали, что у него превосходное восприятие и ум на редкость острый. Да и дома, слава Богу, всего хватало, и, с позволения сказать, ведь жил он припеваючи, в таком довольстве, которое и в прекраснейших снах не снилось этим иерусалимским горемыкам-беднякам. Ведь кто же еще из его товарищей был послан в Париж, как царский сын, как настоящий принц, продолжать обучение? Ведь мог уже много лет назад вернуться и быть величайшим в стране врачом! Более великим, чем доктор Тихо, и доктор Мазе, и доктор Волах, вместе взятые! И что же он там делал? Ну, спрашиваю я тебя, что делал и что делает Габи там в Париже все эти годы? Все деньги своего старика-отца он уже промотал на всякие пустые дела и прочую чепуху и вот теперь шатается там из одного вонючего угла в другой, из одной тухлой дыры в другую, голый и босый. И все это, говорю тебе, из-за этих его фантазий. У меня просто сердце разрывается и кровью обливается день за днем, да и ночью я не нахожу покоя своей душе из-за мыслей о его жизни, которую он растрачивает попусту на всякие безделицы и восточные фантазии, которые он унаследовал от отца, старого турка. Я ведь уже говорила тебе, что он кость от кости его и плоть от плоти.
На этом этапе старушка опять стала многословно рассуждать о достоинствах и недостатках своего покойного мужа, и мысли ее уже не вернулись к сыну. Чем больше она говорила, тем я делался нетерпеливее, пока не погрузился в вялое, угнетенное состояние, все явственнее сознавая, что из ее уст мне не дождаться ничего такого, что дало бы мне какое-то представление об идолопоклонстве, которым занимался в годы детства Гавриэль и которое именовалось ею «восточными фантазиями». Ибо мысли ее заняты, в сущности, самой собою, а поскольку сама она была переполнена историей своей жизни с блаженной памяти турецким беком, то и ставила покойного мужа в центр любого размышления, только вскользь касаясь живого сына, а когда на некоторое время Гавриэль вдруг оказывался в фокусе ее внимания, то появлялся там лишь в качестве главы из книги старика. В последующие дни я еще несколько раз пытался вернуться к теме «восточных фантазий» ее сына в годы детства, но в ее словах не было ничего нового, и они состояли лишь из постоянно повторяющегося заявления, что таковые перешли к нему по наследству от отца, как какая-то наследственная болезнь. Речи старушки, струившиеся по совершенно иному руслу, далекому от той цели, к которой устремлена была моя душа, а потому на диво меня злившие, тем не менее вызывали в моей душе странный отзвук, не наяву, но в ночном сне, повторявшемся в моем детстве несколько раз. В этом сне ее речи влились в беседу, которую старый бек перед смертью вел с длинноногим сеньором Моизом. Старик Красное Ухо по своему обыкновению дремлет, сидя у входа в лавку, а сын его реб Ицхок стоит со своими распущенными пейсами перед весами и злобно всматривается в стрелку. Это не бакалейная лавка, а балкон нашего дома, и старик Красное Ухо — не кто иной, как фараон. Я удивлен тем, что фараон, представлявшийся мне в воображении царем египетским, вознесшимся выше всех земных царей, тем, что построил города Пифом и Раамсес и великие пирамиды, на самом деле галицийский лавочник, дряхлый и беспомощный. Я разочарован и подавлен такой унылой, мелкой и немощной действительностью. Предводитель волхвов, он же реб Ицхок, шепчет в глухое красное ухо фараона:
— Проснись, открой глаза и сядь прямо. Вот он идет. Перестань храпеть!
Из его слов мне становится понятно, что этот непрерывный пилящий зуд, наполняющий весь мир, происходит от храпа Красного Уха, вынужденного, к собственному прискорбию, пробудиться от дремы, ибо Моисей, человек Божий, по высокой лестнице поднимается на балкон в своем твердом черном лондонском котелке и с тростью, отдуваясь и пыхтя от натуги. При нем сеньор Моиз, поддерживающий его под локоток, выбрасывая в разные стороны свои длинные ноги и с повышенной бдительностью обозревая окрестности перед лицом опасности и возможных неприятелей. И действительно, в этот момент из каморки под лестницей выскакивает старуха, кидается на старика, срывает котелок с его головы и топчет ногами. Предводитель волхвов окружен теперь толпой хасидов, словно бы истово молящихся. Их глаза закрыты от усердия, рты разинуты, однако голосов их не слышно из-за храпа фараона, снова провалившегося в глубокий сон.
— Не верьте ему! — кричит старуха волхвам и указывает пальцем на старого бека. — Это все — одни восточные фантазии. Он не Моисей! Он не Моисей! У него нет эфиопской жены! Эфиопской жены ему не хватает!
Сеньор Моиз стоит между ними, успокаивая ласковыми словами и умиротворяющими жестами — и «с позволения сказать, да статочное ли это дело».
Старик, сидящий теперь в красном кресле и отирающий со своего гладкого черепа сверкающие искрами в закатном свете капельки пота, делает сеньору Моизу знак подойти и что-то шепчет ему на ухо. Возбуждение среди волхвов все нарастает. Они изо всех сил раскачиваются взад-вперед, приподнимаются на цыпочки и мотают головами во все стороны. Сжатыми кулаками они бьют себя в грудь. Гнет начинает спадать с моего сердца. Я приободряюсь и пробуждаюсь с радостью, зная заранее, что жезл Аарона, который тот бросит по приказу Моисея, человека Божьего, проглотит старуху и победит фараоновых волхвов и все ветряные мельницы.
Тут я должен подчеркнуть, что это очевидное знание уже не было частью сна, закончившегося на самом деле шепотом старого бека на ухо сеньору Моизу, тем шепотом, что напугал волхвов и сбросил гнет с моего сердца, но являлось логическим выводом наяву, сделанным из фактов сновидения и добавлявшим к поражению волхвов и старухи донкихотский разгром ветряных мельниц из мира яви. И с весельем, рожденным этим знанием, смешивались радость всех пробуждений того лета и смех.
Радости пробуждения того лета я лишен уже более двадцати пяти лет. Время пробуждения — переход от реальности человеческого сознания во сне к реальности человеческого сознания наяву — самое тяжелое и болезненное, даже если раскрывшимся глазам плоти предстоит освободить душу от кошмаров закрытых глаз духа, поскольку принадлежит к тем переходам над бездной, обновляющим мир, вместе с озарением, рождением и смертью, в которых родовые муки связывают крепкими узами творца и творение, роженицу и новорожденного, мир и его спасителя.
Когда и сам я начал ежеутренне переживать муки пробуждения, мне вспомнилось рассказанное Гавриэлем в то лето радостных пробуждений, когда мы однажды, после одного из его приступов слепоты, гуляли по Абиссинской улице. В отрочестве, еще учась в начальной йешиве, он прочел в одном мидраше[27] или в одном из комментариев к книге Бытие, точно сейчас уже не помню, о стихе «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет», что сотворение света и всего мира начинается с крика боли[28]. Гавриэль сказал, что начал понимать смысл этих слов лишь через полвека после того, как прочел их, когда у него начались приступы слепоты. А мне кажется, что я начал улавливать что-то в их смысле (ибо всю истину человек не способен осознать и усвоить, не пережив ее сам) лишь через четверть века после того, как Гавриэль мне об этом рассказал, когда настигли меня проклятые муки пробуждения, призванные таким тяжелым и долгим путем страданий показать мне смысл утраченной мною благословенной радости пробуждений, существующей ныне лишь в щемящих воспоминаниях и в наивной надежде на ее возвращение в один прекрасный день.
Вполне возможно, что это только вопрос возраста, и, наверное, тогда, в моем детстве, этот переход над бездной от сна к яви был чрезвычайно скор и неосознан, а потому была неосознанна и боль. Возможно также (и я склонен поверить в такую возможность, наверное потому, что хочу в нее верить), что тогда вовсе не существовало той зияющей бездны, бездны смерти и рождения, между этими двумя состояниями души, и я вбегал из сна в явь и из яви в сон, словно из одной комнаты волшебного замка в другую, с льющимся через край ликованием от предвкушения чудесных сюрпризов, ожидающих меня на каждом углу и в каждом лестничном пролете.
Следует подчеркнуть снова и снова, что сознание души во сне и сознание души наяву, конечно, не идентичны ночному и дневному сознанию, хотя сон обычно выпадает на ночь, а явь приходится на день, что способно привести, и чаще всего приводит, к путанице и к смешению сущностей. Так, например, когда при встрече с ночным небом впервые проснулось во мне ночное сознание, это хоть и произошло ночью, но сознание было сознанием яви. И мне кажется, не будет преувеличением сказать, что и мир дня, и мир ночи — не что иное, как разные аспекты человеческого сознания наяву, потому что реальность человека во сне, как и реальность души до рождения и после смерти, пребывает за пределами дня и ночи, и даже не все сны проникают в нее, а лишь те, которые принадлежат к определенному роду, те, само забвение которых стирается из памяти. А память об этой сущностной реальности, находящейся за пределами дня и ночи, обусловлена именно пробуждением человеческого сознания наяву. Пробуждение из реальности яви также принадлежит к переходам над бездной, обновляющим мир, вместе с озарением, рождением и смертью.
Голубка и луна
Хозяйка нашего дома, госпожа Луриа, не любила заходить в аптеку доктора Блюма, который, как она говорила, всегда вызывал у нее или чувство вины за то, что она мешает ему в его важных занятиях, или неловкое ощущение младенца, не знающего ни как спросить, ни как ответить. Куда более неловкое, гнетущее и раздражающее чувство он вызывал у нее именно в тех редких случаях, когда старался быть с ней милым, а потому она имела обыкновение посылать к нему меня.
Сначала я считал, что под своим белым халатом он ходит голышом и что кроме этого у него на теле нет ничего помимо пенсне — этакий Ганди из мира науки, — поскольку в разрезе халата сверху виднелись только чахлые желтоватые волосы на его груди, а снизу торчали лишь голубовато-белесые коленки. Только позже мне стало понятно, что это впечатление происходило от того, что в рабочее время у него не было на шее галстука, а вместо брюк он носил короткие штанишки цвета хаки, не той разновидности, что в те времена носили все, а более жесткие и отглаженные, наподобие шортов английских солдат и офицеров. Только сейчас, в процессе этого описания, мне приходит на ум, что после образования государства короткие штанишки почти полностью исчезли из наших мест. И в довершение портрета этого Ганди от науки следует отметить, что на ногах его в рабочее время были только сандалии, истрепавшиеся и преобразившиеся в тапочки с тех пор, как порвались ремешки вокруг щиколоток, и при каждом шаге шлепавшие по полу. Чаще всего он был занят переносом из одного шкафа в другой секции особого назначения и секции ядов, а также перестановкой склянок каждой из секций. Поскольку он недавно вернулся из бейрутского университета, где завершил изучение курса наук, и аптека была для него новым местом, я сперва предполагал, что он прекратит эту деятельность в тот момент, когда окончательно определит местоположение каждого лекарства. Но и по прошествии дней, недель и месяцев и, в сущности, все то время, что был аптекарем, он продолжал переносить снадобья с места на место с тем же сосредоточенно-глубокомысленным, боевито-решительным и сморщенно-презрительным выражением лица, с которым вышагивал вперед и назад по клетке своей лаборатории, задрав голову и сцепив на заду руки, державшие маленькую раскрытую книжку. Когда он не был занят выбором подходящих мест для лекарств, он искал в высях под потолком смысла фраз этой маленькой книжки, крепко схваченной пальцами его рук, сцепленных на заду.
От обоих занятий ему приходилось отрываться ради такого неизбежного беспокойства, как приготовление глазных капель для госпожи Луриа, постоянной его клиентки, все-таки оставшейся при моем посредничестве единственной, верной ему до конца дней этой аптеки.
— А что скажет молодое поколение? — дважды в неделю спрашивал он, не глядя на меня, ибо глаза его изучали склянки в новой секции ядов. — Кто спасет нас?
Иногда он менял формулировку и спрашивал: «Кто принесет в мир избавление?» А однажды спросил: «Кто спасет меня?»
Однажды он вдруг решил посмотреть на меня и спросить:
— А как поживает Гавриэль? Когда ты его видел в последний раз?
— Я его ни разу не видел, — сказал я.
Примерно за час до этого я втуне пытался воссоздать из слов госпожи Луриа некий образ Гавриэля в детстве и все еще не знал, что менее чем через месяц мне предстоит увидеть его, внезапно вернувшегося домой.
— Наверняка он уехал за границу раньше, чем ты родился, — сказал аптекарь. — Вот каково оно в наши дни: человек брата своего не видит.
— Он не мой брат, — сказал я ему. — И госпожа Луриа не моя мама. Она — хозяйка нашего дома.
Судя по всему, он не слышал моих слов, а если и слышал, то они не произвели на него никакого впечатления, поскольку он, изучив мое лицо, сказал:
— Да-да, сразу видно. Вы похожи друг на друга, как две капли воды, если не считать одежды. В детстве мы вместе изучали в хедере Пятикнижие, и это Пятикнижие, этот тяжелый наркотик его и погубил. Я это говорил твоей маме. «Госпожа Луриа, — сказал я ей, — сообщите мне адрес вашего сына Гавриэля. Я хочу написать ему письмо. Знаете, что погубило вашего сына? Пятикнижие! Да-да, это Пятикнижие отравило ему мозг!» Я пытался ей это объяснить, но она вскочила и убежала. Сказала, что у нее нет времени на глупости, и с тех пор боится ко мне заходить. Из-за того, что она забила себе голову всякой чепухой, там не осталось места для действительно важных вещей. Прости, что я говорю так о твоей маме, но ты не должен обижаться — в наши дни большинство матерей, а в сущности, и большинство людей такие и есть. Поэтому они производят впечатление людей, так озабоченных важными делами. Она, конечно, отказалась дать мне адрес твоего брата Гавриэля. Если бы ты знал адрес Гавриэля, я бы его у тебя попросил, но мне ясно, как белый день, что она тебе никогда не открывала этого секрета, так же как наверняка сумела скрыть от тебя всю эту историю, происходившую за несколько лет до того, как ты родился, когда Гавриэль еще был мальчиком и со своими голубями спускался лунными ночами в долину Кедрона.
Лунными ночами со своими голубями, которых у меня никогда не было, вовек не спускался я в долину Кедрона, но однажды я поднялся на Подзорную гору в ночь, когда полная тускло-золотистая луна всплыла из-за гор Моава в просторной, древней тиши, обволакивающей ночь иудейской пустыни высоким напряжением прошлого бытия, окружающей подножье Вселенной широко раскинувшимися плечами гор от вершины Нево до Тур Малка. А после этого я увидел сон. В этом повторявшемся сне луна поднималась из-за гор Моава и приближалась к Масличной горе, и все увеличивалась и лиловела, и высасывала сок мира, пока я не просыпался, перепуганный и взбудораженный сознанием, что вот-вот иссякнет душа выжатого мира. Это был ужас перед иным бытием, окружающим мир, словно великое, широкое море окружает кораблик, чей киль отважно рассекает лижущую корму пену. Первобытным величием сей грозной стихии пассажир корабля способен наслаждаться лишь тогда, когда его ноги чувствуют под собой твердую палубу и ему ясно, что корабль не собирается развалиться на части. Подобный ужас охватил меня лишь в тот раз, когда я ощутил, как призраки наполняют закрытую комнату, посреди ночи, в напавшей на меня дреме, из которой я был вырван бросающим в дрожь потусторонним зовом. И когда я рассказал об этом доктору Блюму на похоронах хозяйки нашего дома, тот поведал мне нечто, прочтенное некогда в некой маленькой книжке, чьи название и имя автора были им забыты. А именно: что дух умершего всегда наводит ужас на живых, кроме тех случаев, когда этот умерший был в земной своей жизни особенно тобою любим. Когда это произошло со мною, я не знал не только чей дух наводит на меня ужас, но и дух ли это кого-то определенного. Само ощущение, что существует нечто, наполняющее дом, оставаясь неуловимым чувствами пространства и времени, было для меня невыносимо страшным, как грозная луна в повторяющемся сне, снова вспомнившемся мне при первом упоминании о лунных ночах, в которые Гавриэль спускался со своими голубями в долину Кедрона.
— Да-да, — добавил доктор Блюм, надолго остановив взгляд на завернутом в саван теле хозяйки нашего дома, в смерти казавшемся гораздо более ссохшимся, чем было в жизни. — Только после смерти человека нам делается понятным, действительно ли мы любили его.
Мне стало вдруг нехорошо от сквозившей в его взгляде и голосе мысли, будто это ее дух приходил пугать меня в ту ночь. Этот поспешный его вывод был в корне неверен, ведь та страшная ночь предшествовала ее смертной ночи по крайней мере на семь недель. Однако в свете имевшегося опыта я не пытался указать ему на ошибку, а продолжал его слушать. Сейчас, когда ее душа окончательно оставила тело, доктор Блюм счел себя вправе поведать мне те детали касательно детства ее сына Гавриэля, которые она, по его мнению, намеренно скрыла от меня и которые, истины ради, обязан он был сообщить давным-давно, но воздерживался от этого из-за нее — не потому, что она того заслуживала, но потому, что он чувствовал себя связанным законами некой основополагающей порядочности в отношениях между людьми. Как раз в этом пункте, вопреки печальному опыту, я попытался указать ему на его ошибку и доказать, что хозяйка нашего дома вовсе не пыталась скрыть эту историю по той простой причине, что не была с ней знакома, а тому немногому из нее, что знала, совершенно не придавала значения и на мой вопрос о лунных ночах, в которые Гавриэль спускался со своими голубями в долину Кедрона, ответила недоумением и сказала:
— А? В долину Кедрона? Со своими голубями? Этот сорванец наверняка пытался продать их силоамским арабам! Ведь и правда, только сейчас, после стольких лет, раскрылась великая тайна: куда подевались наши голуби. А мне-то никогда и в голову не приходило подозревать его. Да-а, большим сумасбродом был он в детстве!
Из чего следует, что ей все это казалось ребячеством, не представляющим никакой важности и не заслуживающим большего, чем та снисходительная улыбка, которой она наградила его с расстояния тридцати лет.
— Ребячество, не представляющее никакой важности! — повторил аптекарь слова хозяйки дома, переданные ему мною с некоторым запозданием, и горькая улыбка расползлась по его губам. — Боже правый! Я всегда знал, что она забила себе голову всякой белибердой, но все те годы, что я готовил ей глазные капли, не ведал я, что она настолько слепа. Жаль, скажу я тебе, каждой капли старания, которую я на нее потратил за эти годы. Понимаешь, в чем моя беда? Беда моя в том, что я знаю, что разговаривать не с кем, что я извожу слова ради заросших ушей и несмотря ни на что продолжаю свои попытки объяснить!
Раздражение его нарастало и крепчало с каждой фразой, слетавшей с его уст, и когда процессия достигла кладбища, глаза его за стеклами пенсне уже туманились бессильным гневом на госпожу Луриа. Ведь пока она еще пребывала в своем доме, у него оставалась надежда на то, что если удастся ему, несмотря на все трудности, прорваться через один из наглухо заколоченных входов, то он наконец доберется до нее, но с того момента, как она, хорошенько все обдумав, исчезла навсегда, иссякла и надежда аптекаря до нее добраться. И если бы речам его даже удалось расчистить эти заросшие уши и настежь распахнуть все входы оставшегося пустым тела, хозяйка дома уже не виднелась за потухшими глазами и голос ее не слышался за завесами заросших ушей, и в то самое время, когда он брел рядом с ее покинутым домом, возвращающимся к камням и праху, из коих был взят, адрес ее был для него недоступней, чем адрес ее сына Гавриэля, утаенный от него, хоть детская тайна сына и осталась ей неведома, а к известным ей деталям этой истории отнеслась она как к озорству, с расстояния тридцати лет заслуживающему лишь снисходительной улыбки.
Что до меня, то я не знаю, заслуживают ли они снисходительной улыбки, поскольку дошли до меня из уст аптекаря, а не от нее, да еще и в то время, когда глаза его были затуманены бессильным гневом на ее исчезновение. Я не знаю не только чего они заслуживают, но даже и того, как их воспринимал он сам, по крайней мере однажды бывший им свидетелем. Но с тех пор как они сорвались с его уст, словно древние глиняные черепки, пробуждающие глухим стуком память об ином бытии, существующем за пределами приходящего с рождением забвения, я не мог уже больше видеть новолуния без того, чтобы не обновился во мне образ отрока Гавриэля, который по достижении тринадцати лет принял ярмо заповедей и потому спустился со своей голубкой в долину Кедрона, но не в новолуние, а в день полной луны.
Когда он лег в постель, темная комната наполнилась томлением, настежь распахнутое на восток окно начало светлеть от подоконника вверх, и крылья его голубки, порхавшей снаружи, били по лунным струнам, пока не упала она искрой с высоты и не опустилась на подоконник, став силуэтом на фоне лунного диска, всплывавшего снизу, чтобы послужить ей золотистым нимбом. Он встает на ее зов, одевается и выходит за нею на улицу, к луне, осыпающей свое червонное золото в туманы Моабитских гор и становящейся все круглее, все серебристее по мере подъема. Нога его не преткнулась о камень и голова не сорвалась в пропасть у основания стены, по гребню которой спешил он от Башни Давида к долине Иосафата над Геенной, над Цитаделью, над руслом Гихона, над потоком Кедроном, и никакое зло с ним не приключилось и не должно было настигнуть его, пока не пострадала душа его, связанная воедино с жизнью голубки и бьющаяся меж ее крыльев. Когда однажды камень из рогатки ранил ее крыло, он слег в постель и не поправился прежде, чем не зажило крыло.
Он знал, что с ее смертью иссякнет душа его, и потому только за голубку, летевшую перед ним, волновался на всем протяжении этого бега над древними пропастями, пока спускался у Цитадели, и миновал ее, и повернул ко дну русла и поднялся по Кедрону, и прошел между могилой Захарии и гробницей Авессалома, и достиг каменной площадки, на которую не поднимали железа[29]. Голубка опустилась на вершину скалы, повинуясь пульсирующей в ней незримой линии, тянущейся от потока Кедрона, через долину Иосафата, к точке, где восточный склон Подзорной горы встречается с западным откосом горы Масличной. Он же лег на живот, вытянув руки и ноги по линии, соединявшей голубку и луну. Древняя, просторная, благовонная и радушная тишина наполнилась в равнодушной лунной стуже дрожью лунных струн с ускоряющимся трепетом нарастающей жажды в мучительном влечении земли к земле. Пока не открылся канал сфирот[30] и поток благодати не хлынул по нему к дыханию луны, вдыхающей красноту холмов и выдыхающей лиловое серебро свое, при свете которого он поднялся и держа голубку свою, бьющуюся и клекочущую над жертвенником, простер руку свою и заколол ее. И овен не запутался в чаще рогами своими, и кровь ее хлынула и пролилась на жертвенник, не покрытый дровами для костра[31]. По углам жертвенника капля за каплей стекала синяя в лунном свете кровь, и огонь не объял трепещущее тело, дабы донести до ноздрей Бога благоухание, что будет угодно ему и станет во искупление души приношением души, иссякшей с жертвою и не простившей ему.
— Никогда себе не прощу, что не смог добиться от нее адреса Гавриэля, — сказал аптекарь, когда мы возвращались с похорон хозяйки нашего дома, и снял с носа пенсне, чтобы протереть его от испарений собственного гнева.
Как и в прошлом, во время учебы во Франции, так и сейчас, после того, как Гавриэль вернулся и исчез, мать никому не открывала его местонахождение, и потому не нашлось никого, кто бы знал, откуда вызвать его, когда настало время похорон. Без линз глаза аптекаря выглядели глубоко запавшими в глазницах и оттуда беспомощно взирающими на чуждый им мир.
— Теперь уж у меня не будет иного выбора, — сказал он, возвращая пенсне на его постоянное место, четко обозначенное красным, огибающим переносицу желобком, с тем же сосредоточенно-мыслящим, боевито-решительным и сморщенно-презрительным выражением лица, с которым переносил лекарства из секции в секцию, — иного выбора, как попытаться изучать Пятикнижие в университете. Кто знает, может, они там понимают законы жертвоприношений получше, чем наш ребе, который обучал нас в детстве Пятикнижию с комментариями Раши… Ведь я уже не мальчонка, и в моем возрасте настало время относиться к вещам серьезно и основательно.
Как раз в этом последнем пункте я с ним согласился. Однако должного душевного покоя в своих занятиях Пятикнижием на Подзорной горе[32] не обрел сей дипломированный аптекарь, который с тех пор, как снял свой длинный белый халат и для всего мира стало очевидным, что повыше выпуклых голубовато-белесых коленок у него все-таки имеются штаны, выглядел более или менее приличным человеком, ибо в те дни многие, и отнюдь не худшие, люди имели обыкновение носить короткие штанишки. Тот бессильный гнев, что охватил его впервые на похоронах домовладелицы и казался связанным, выражаясь спокойно и рассудительно, с известной переменой ее адреса, по всей видимости, должен был пройти с привыканием аптекаря к данной перемене, гнев этот не только не утих, но все усиливался по мере того, как росло количество прослушанных им на Подзорной горе лекций по Пятикнижию и обсуждений оных с педагогами и сокурсниками. На самом деле он уже не способен был выражать свои соображения вслух, и не только касательно скинии с ее принадлежностями, ковчега Завета и жертвоприношений, но и по всякому иному вопросу, не крича и не размахивая в пространстве руками, словно тонущий в пучине вод, вотще ищущий, за что бы уцепиться. Его голос, некогда бывший чистым, громким и благозвучным (по крайней мере для моего уха, по сей день чуткого к той мягкой мелодике, что характерна для давних уроженцев страны, начавших говорить на иврите еще в турецкие времена), охрип от постоянных криков и, словно струя в частично засоренной трубе, вырывался — иногда высокий и тонкий, иногда шепчущий с клокотанием и кудахтаньем, и одного этого голоса было уже достаточно, чтобы не только отпугнуть педагогов, которых аптекарь оскорблял на людях, но и резать уши всякому, кто не был заведомо глух. Даже я несколько раз ускользал от него на улице, притворяясь настолько озабоченным своими важными, не терпящими ни малейшего отлагательства делами, что не замечал встречных. Больше всего злило его в этом высшем учебном заведении, угрожая окончательно лишить голоса, то сходство, которое он, к несчастью, обнаружил между своим деятельным и сеющим знания в массах профессором и нашей почивающей в раю домовладелицей.
— Ужасающее сходство между ними, — говаривал он, — в один прекрасный день еще сведет меня с ума.
Подобно ей, профессор сей полагал, что все аспекты священства, скинии, ковчега Завета и различных жертвоприношений суть ребячества, которые с расстояния в три тысячи лет заслуживают лишь снисходительной улыбки. Но то, что простительно простой женщине безо всяких претензий, непростительно ему, увенчанному степенями и званиями и взявшемуся сеять знания и толковать Тору от имени беспристрастной науки. Из его слов я также понял, что по поводу беспристрастной науки между ним и профессором вспыхнул яростный спор. По его мнению, профессор пользовался недостаточно научными методами, и это мнение, которого он ничуть не старался скрыть от оппонента, ранило профессора Пятикнижия в самое сердце и привело его к принятию решения избавиться от студента-аптекаря во что бы то ни стало.
Какую форму приняло окончание аптекарем его занятий на Подзорной горе, я в то время не знал, ибо оно пришлось как раз на тот период, когда я его избегал, но из того, что он рассказал мне впоследствии, при нашей последней встрече в кафе «Атара», я понял, что эти двое вместо выпускного вечера предприняли совместное путешествие в биологическую лабораторию, куда прибыли, обнявшись и прилепившись друг к другу, под торжествующие клики всех студентов и ликующее ржание студенток. Сама биологическая лаборатория никак не была связана с изгнанием аптекаря из университета, решение о котором было принято еще раньше, чем они туда прибыли, и оказалась замешанной в эту историю исключительно благодаря аптекарю, воспользовавшемуся лабораторией лишь в качестве примера связи между наукой и Пятикнижием. Тот, кто собирается исследовать теорию жертвоприношений подлинно научными методами, обязан произвести многочисленные и предельно точные эксперименты, — постоянно заявлял он своему профессору, всем студентам и вообще каждому, кто готов был его слушать.
На одном из занятий он высказал мнение, что университет должен построить скинию и ковчег Завета со всеми принадлежностями и деталями, и там профессор со своими ассистентами и студентами послужит святому делу, принося жертвы в полном и буквальном соответствии со всеми законами, и только после множества точных экспериментов у нас будет право высказать хоть сколько-нибудь обоснованное мнение, обладающее научной ценностью, относительно силы священнодействия, описанного в Торе, вселить в нашу среду Бога Израиля, чтобы снова стать ему народом, и тогда он вновь откроется нам и миру в чудесах своих и дивных деяниях, в знамениях и во всем величии славы своей.
По мере произнесения сих слов хрипота его смягчалась и таяла, и чем более различал он на лице профессора признаки согласия со своими словами, тем увереннее возвращалась к его голосу былая приятная мелодика прежних дней. Профессор не только согласно кивал головою, но излучал такое победное ликование, словно добыл огромные трофеи. Он уже давно только и мечтал о подходящем случае, чтобы устранить аптекаря со своих занятий, и теперь, когда прекрасный момент наступал, окончательно решил его не упускать. Наслаждаясь элегантной и одновременно шутливой формой, в которой он собирался избавиться от этого божеского наказания, профессор поднялся и торжественно объявил, что у него нет ни малейших возражений против методов его коллег-биологов и, более того, он питает к ним глубокое уважение, смешанное с преклонением перед силой их дерзновенного духа. Только однажды он осмелился зайти в биологическую лабораторию, и, когда собственным глазами узрел, как препарируют и свежуют там жабу, на него напала такая слабость, что он не мог прийти в себя, пока не принял валериановых капель. Чудо еще, что в тот момент они не занимались жертвоприношениями, закланием вола и кроплением лаборатории кровью его, ибо тогда не помогли бы и валериановые капли. А теперь, поскольку учащийся, уважаемый доктор Блюм, изъявил желание приносить жертвы экспериментальным путем, а жертвы, как известно всякому, кто извлек полезный урок из его собственных лекций, приносятся из представителей животного мира, точнее — всего из пяти видов: из быков, из баранов, из коз, из горлиц и из голубей, а животный мир, как известно, всецело принадлежит, со всеми видами и подвидами, включая пять вышеупомянутых видов, к разделу биологии, где трудятся с достойной восхищения отвагой его друзья-биологи, то доктору Блюму следует перейти на биологический факультет немедленно и без лишних разговоров, прямо сейчас. И пусть доктор Блюм отныне и впредь не смеет показываться в этом зале.
Аптекарь, обычно быстро соображающий, сначала не понял, на что намекают сии слова, настолько был он взбудоражен и потрясен ошибочным впечатлением, полученным еще в то время, как сам держал речь: что вот наконец ему удалось прочистить уши профессора Пятикнижия, глухие не менее, чем уши домовладелицы, почивающей ныне в раю. Он даже с восторгом воспринял идею привлечения других факультетов к великому эксперименту. Только когда все учащиеся разразились смехом, он понял смысл своего положения на отделении Священного Писания, и тогда постиг его приступ гнева, равного которому не испытывал он даже на похоронах почивающей ныне в раю домовладелицы, и гнев его придал элегантному дебюту резкое завершение, хотя все, что касалось общественных увеселений, от него нимало не пострадало, обретя новый, неожиданный оттенок.
— Всем сказанным, — произнес аптекарь пронзительным фальцетом, срывавшимся на предвещавший недоброе храп. Было ясно, что еще немного — и самому ему понадобятся пресловутые валериановые капли, которые были упомянуты в педагогической проповеди, — вы только подтверждаете мое утверждение, что у вас нет ни малейшего представления о научных методах. Вы самолично признаетесь, что за всю жизнь только один-единственный раз зашли в лабораторию! Поэтому вам следует сделать единственно возможный логический вывод: это не я, а вы должны отправиться отсюда в биологическую лабораторию! Я… я — доктор химии. Я, слава Богу, уже знаю, что такое лаборатория. Не я, а вы отправитесь туда!
— Нет, не я, а вы отправитесь! — закричал в ответ профессор.
Так они и стояли один против другого и посылали друг друга в упомянутое место жестами вытянутых рук и мимикой выпученных глаз, и кто знает, сколько бы времени они простояли, приросшие к своим местам, предаваясь подобным церемониям, если бы аптекарь не решился привести свой намек в исполнение и не кинулся на оппонента, не обнял и не потащил за собой. Как уже говорилось, таким образом оба прибыли, обнявшись и прилепившись друг к другу, на выпускные торжества в биологическую лабораторию.
Выше также упоминалось, что подробности эти касательно обстоятельств окончания курса его обучения на факультете Священного Писания, что на Подзорной горе, были переданы мне из его собственных уст, через несколько лет после всего произошедшего, во время нашей последней встречи в кафе «Атара». Точности ради замечу, что то была не только наша последняя встреча в этом кафе, но также и первая, ибо прежде я никогда не видал его в каком-либо кафе. Как видно, он слишком был занят в то беспокойное время или переноской секции ядов и секции готовых форм из одного шкафа в другой, или яростными спорами с профессором и студентами о месте жертв мирных, очистительных, искупительных и всесожжения. Сперва я его не узнал, несмотря на то что сел за соседний столик, посмотрел в его сторону и приметил господина в сером костюме. Только когда к нему подошла официантка и он заказал стакан чаю и коржик, мягкая и приятная мелодика его голоса вдруг вызвала отзвук в моей памяти. Я снова повернулся к нему, узнав его по этой мелодике, и убедился, что он приятен и привлекателен не только на слух, но и на вид, и не из-за той колоссальной перемены, которую произвел во всем его облике светло-серый костюм, но главным образом из-за излучающего уверенность выражения лица. Его пенсне наконец обрело подобающее себе место в компании синего галстука, выглядывавшего из-под крахмального воротничка, выделявшегося своей белизной поверх светло-серого костюма, тщательно сшитого по мерке и придававшего ему, вместе с ростом и шириной плеч, облик, внушающий почтение и вселяющий доверие. По великолепию его костюма и излучаемому им довольству крепко стоящего на ногах человека сразу делалось ясно, что он достиг не только спокойствия и упорядоченности, которых тщетно искал в свое время в Торе, выходившей от Подзорной горы[33], но и завидного достатка. Он вел беседу по-французски, сдабривая ее арабскими выражениями и присказками, с присевшим рядом с ним человеком, лысым, тучным и, казалось, еще гораздо крепче стоявшим на ногах, источая еще большее довольство. По пышным усам, жестам и всему облику лысого толстяка я сделал вывод, что он один из арабов-христиан, торговцев квартала Нашашиби, и, как выяснилось, ошибся только относительно его адреса. Когда тот удалился, аптекарь поведал мне, что этот толстяк — один из знатных жителей Бейрута, известный своим богатством, и они здесь сообща ведут одно из тех дел, которых у толстяка масса по всему Ближнему Востоку. Когда-то они вместе учились в университете Бейрута, где и завязалась их дружба, которая только в последнее время, как выясняется, стала приносить плоды, ибо лишь недавно аптекарь наконец согласился на его многократно повторявшиеся предложения. Еще в годы учебы этот друг предложил ему участвовать в своем предприятии по производству и продаже лекарств, и теперь они работают вместе.
Я спросил его, учится ли он еще на факультете Священного Писания, и тут он беззлобно и в деталях рассказал вышеизложенную историю о том, как он тащил профессора Пятикнижия в биологическую лабораторию.
— На самом деле, — сказал он, — этот бедняга заслуживает лишь снисходительной улыбки. Извини, конечно, но я должен подойти к тому типу, который все время сидит там в углу и ждет меня. Он еще новичок в торговле гашишем и потому такой нервный и напряженный. Мы уже производим куда более совершенные синтетические наркотики, но палестинские клиенты их еще не знают и предпочитают гашиш.
Он встал, чтобы подойти к нервному новичку, и, протягивая мне на прощанье руку, вдруг надумал взглянуть на меня и спросить:
— А Гавриэль, как он поживает? Когда ты видел его в последний раз?
Шаги на Абиссинской улице
Начав брать книги в библиотеке Бней-Брит, я обнаружил, что библиотекарь, этот низенький косоглазый очкарик, тоже учился в годы детства с Гавриэлем Луриа в Старом городе. Я любил этого библиотекаря главным образом из-за ворот, которые он открывал мне четыре-пять раз на неделе. Тогда, в дни летних каникул, я был способен дочитать книгу до конца едва ли не за день, а когда для меня не находилось новой книги, я снова перечитывал полученного в подарок на день рождения «Дон Кихота» в переводе Бялика, и знание всех подробностей того, что встретит меня на следующей странице, не только не умаляло к ней интереса, но, напротив, прибавляло радостного трепета от предвкушения уготованного мне повторения прежнего удовольствия, ожидающего меня, как только я переверну страницу. То был ручеек предвкушения, струившийся по определенному, давно известному руслу среди валов страстного нетерпения, окатывавших меня при виде каждой книги, принесенной из библиотеки. Первые же волны настигали меня еще прежде, в сущности, в тот момент, когда я выходил из дворовых ворот, отправляясь менять книгу в библиотеке.
К библиотеке Бней-Брит я ходил по Абиссинской улице, петлявшей дважды, словно две волны, вскипевшие одна за другой, ухватившиеся одна за другую и внезапно окаменевшие в течении своем вдоль домовых оград, тех самых глухих каменных оград, полностью замыкающих таящуюся за ними жизнь, словно твердые обложки вернувшихся от переплетчика книг, обложки, стоящие одна подле другой, храня непроницаемое в своем единообразии выражение лица, обращенного ко внешнему миру, в то время как каждая из них прикрывает обособленный жизненный поток, единичный в оттенке и неповторимый в звучании, вкусе и извивах пути. Я страстно стремился попасть за ограду, так же как рвался раскрыть книжную обложку, томясь по чудесному и единственному в своем роде миру, спрятанному в нем за непроницаемым защитным покровом. Однако подобно тому как встречались книги, чей вид, названия или шрифт наводили на меня скуку еще до того, как я начинал их читать, и которые поэтому я спешил вернуть на книжную полку, были и ограды, мимо которых я проскакивал бегом, отводя от них взгляд, ибо сама мысль о возможности попасть в огражденный ими дом вызывала во мне содрогание. Как раз таким был самый первый, угловой дом, одной стороной выходивший на улицу Пророков, а другой — на Абиссинскую. Каменная ограда его была такой же, как и все прочие, но сам дом почему-то был покрыт листами жести, словно аккуратный гараж, на диво чистый и лишенный малейшего пятнышка масла или ржавчины, ибо никогда не выполнял своего прямого назначения, или как военный барак, лишившийся всех своих солдат и потому посещаемый время от времени серьезными людьми в черных костюмах, приносящими ему свои соболезнования. Из-за отвращения к жести как к материалу, ее виду, фактуре, а особенно — звуку, во всем его диапазоне, мне всегда неприятно любое жестяное изделие, будь то ведро для воды или умывальный таз, а уж тем более — целое здание, крытое жестяными листами, отчего и казавшееся мне не настоящим домом, но чучелом дома и вызывавшее чувство гадливости, вроде того, что однажды вызвало у меня прикосновение к лимону, который я намеревался понюхать. Вместо излучающей упругую и прочную легкость корки, скрывающей живую плодовую плоть и струящей успокоительный в своей остроте запах прохлады, которую я надеялся ощутить, мои пальцы внезапно коснулись мертвого целлулоида, из которого был сделан пустой игрушечный лимон. Рядом с этой оградой окаменела, выгнувшись параллельно двум уличным волнам, ограда абиссинского квартала с церковью под зеленым куполом, монастырем и жилыми домами. И за эту ограду меня в те дни тоже не тянуло проникнуть, хотя и по совершенно иной причине. Я чувствовал, что за нею струятся потоки коптской жизни, настолько чужой и далекой, что для того, чтобы проникнуть в нее, недостаточно ни взгляда снаружи, ни даже переодевания в рясу коптского священника. Чтобы действительно постичь сокрытое за ней, мне следует сменить кожу и стать настоящим эфиопом, а в то время это вовсе меня не прельщало, как не прельщало и погружение в книгу, действующие лица которой поднимаются на гору Килиманджаро, поскольку меня тянуло к ночам на южных островах. Чтение про Килиманджаро, как и проникновение в мир абиссинцев, я отложил на более позднее время, когда душа моя будет в состоянии, подходящем для этого дальнего плавания, но когда завершились южные ночи и книга приключений в горах Африки уже была в моих руках, мне стало известно о двух новобранцах коптского монашества нечто такое, что навсегда уничтожило во мне даже намек на желание проникать в мир всех коптских монахов, хотя знание это, как уже говорилось, касалось лишь этих двоих. Когда я поднимался вслед за библиотекарем по библиотечной лестнице, мимо нас прошли, возвышаясь над оградой, как две шеи черных жирафов, два молоденьких абиссинских монаха в цилиндрических своих клобуках, словно с фетровыми колоннами на головах. Они спорили между собой шепотом, но их высокие голоса носились в воздухе, звонкие и ясные, словно тонкие струны, рвущиеся в бурной перебранке. Их головы под клобуками были, как видно, полностью обриты, виски и затылки оставались такими же гладкими и блестящими, как и кожа лица, подобная полированному черному мрамору. Лица этих юных великанов выглядели на диво детскими, быть может, как раз из-за их высокого роста, но надо полагать, что они были уже взрослеющими молодцами лет семнадцати-восемнадцати.
— Ты, конечно, понял, — сказал мне библиотекарь, — что эти двое несчастных — скопцы, причем рукотворные, а не солнечные. Их, судя по всему, оскопили еще в детстве. Ты, верно, не знаешь, что значит «солнечный скопец»? Так вот, имеется в виду скопец от рождения, потому что солнце не видело его в подходящий момент.
Что-то в тоне голоса библиотекаря ласкало мой слух — его тембр вместе с манерой артикуляции, общей для него и аптекаря, для моих папы и мамы, а также для всех южан, уроженцев Иерусалима, начавших говорить на иврите с детства, пришедшегося на годы турецкого владычества в Палестине. Его мелодичность смягчала слова, даже когда содержание делало их колючими и, не будь этого смягчения, способными оцарапать. Но на сей раз мягкое покрытие не способно было сгладить шок от удара. То был болевой шок: казалось, что те двое все еще носят в своей крови неизбытую боль отсечения яичек, одновременно отсекшую их от дерева жизни, семя которого в них, чтобы приносить по роду его плод[34], и с тех пор, как осуждены были на пожизненное заключение, каждый в клетке своей отшельнической жизни, истребились вовсе с дерева жизни, того, чьи корни пронизывают все прежние поколения, а крона колышема ветрами, что пронесутся над всеми поколениями будущего. И, осужденные на отсечение по вертикали, от будущего к прошлому, непроницаемые для мелодии того потока биения волн, что переливаются из клетки в клетку, были они отсечены и от горизонтали жизни в настоящем, как две клетки в холодном и безразличном пространстве, бессмысленно высящие в пустыне.
Много лет спустя после внезапного исчезновения библиотекаря, оставившего за собой туман слухов о чем-то ужасном, приключившемся с ним и заставившем тайно бежать из страны, Гавриэль рассказал мне историю о кастрировании кабанов в деревне Карнак во французской провинции Бретань. Перед возвращением домой Гавриэль нанялся сельскохозяйственным рабочим к фермерше, занимаясь любой тяжелой работой в доме и в поле до тех пор, пока не встал вопрос о кастрировании кабанов. Несмотря на то что Гавриэль по естественным причинам терпеть не мог это создание и чем лучше узнавал его в крестьянском хозяйстве, тем сильнее становилось его отвращение, тем не менее заставить себя лишить его мужества он не мог. Старый сельскохозяйственный рабочий из местных поймал поросенка и продемонстрировал Гавриэлю, как это делают неким напоминающим садовые ножницы орудием, отделяющим мошонку. Гавриэль, которого от всего увиденного пробила дрожь, заявил, что этим он заниматься не будет. Если бы от него потребовалось заколоть кабана, прикончить его каким угодно способом, он бы ничуть не колебался, как не брезговал до сих пор резанием птиц и забоем скота по требованию старой хозяйки фермы, но кастрирование, даже той самой отвратительной и гадкой ему твари, почему-то вселяло в него содрогание перед зверством, которого он ни в коем случае не мог вынести — ни совершить его, ни наблюдать за ним.
Еще не придя в себя от слов библиотекаря, открывших мне глаза на ужас, сотворенный человеческой рукой над двумя проходившими перед нами абиссинскими юношами, я был потрясен их тонким и звонким, как серебряные колокольчики, смехом, самой возможностью и способностью этих неизлечимых скопцов радоваться и смеяться. Радость забурлила в их голосах в тот момент, когда они очутились у ворот абиссинской церкви с зеленым куполом и встретили направлявшегося к выходу священника с брызгами седины во вьющихся волосах. И когда тот бросил им несколько слов, двое разразились раскатами смеха, продолжавшимися и после того, как он расстался с ними, удаляясь в направлении улицы Пророков. Этот отнюдь не был скопцом, как о том свидетельствовали все признаки, начиная с бороды, завивавшейся филигранью серебряных нитей, и телосложения и кончая жадным взглядом, вспыхнувшим в его глазах при виде зигзагами носившейся на роликовых коньках девочки в плиссированной шотландской юбочке. Он сказал ей на иврите: «Привет папе» и, когда та, из шалости, сделала вокруг него быстрый и опасный круг на своих роликах, протянул руку, чтобы схватить ее, и крикнул на подхваченном от уличных мальчишек и потому так странно, фальшиво и неуместно звучащем в устах черного седобородого священника иврите:
— Ой-ей-ей тебе, если я тебя схватит! Увидишь, что я с тобой сделает!
Оба рассмеялись, и он провожал неприкрыто похотливым взглядом пляску юбочки поверх порхавших на роликах и выписывавших восьмерки на асфальте ножек, пока и ролики, и ножки, и пляшущая юбочка не исчезли за зелеными железными воротами девочкиного дома, теми самыми, в которые я мечтал проникнуть всегда: по дороге в библиотеку, и на обратном пути, и лежа в постели ясными летними ночами, когда из-за этих ворот доносились звуки рояля, таившегося в недрах дома, полностью скрытого высокой оградой, парили надо всей улицей Пророков и влетали в наши окна, распахнутые навстречу звездному небу. Иногда фортепьянная капель вливалась в арабские мелодии, доносившиеся со стороны Шхемских ворот и квартала Мусрара, и текла сквозь круглое, отверстое на восток окошко, и тогда летний воздух дрожал от нараставшего напряжения, ибо стаккато западных ритмов не смешивалось с восточными напевами, дабы создать сбалансированную благозвучную смесь, как это нередко случается с музыкой, впитывающей мотив чужой культуры и способной поглотить и переварить его, но, просачиваясь в чуждый ритм, приводило к образованию горючей смеси, готовой взорваться от малейшей искры. Первой жертвой ночного сражения за воздушное пространство улицы Пророков на участке от Абиссинского переулка до Итальянской больницы, разыгрывающегося между вальсами Шопена, вылетавшими из дома доктора Ландау, старого окулиста, и любовными песнями Фарида эль-Атраша, рвавшимися во всю мощь из новых радиоприемников, недавно установленных в арабских кофейнях на спуске квартала Мусрара, пала госпожа Джентила Луриа, наша домовладелица.
С первыми беглыми аккордами, падавшими, словно гладкие холодные бусины, в трепещущие арабески струн катроса, сопровождавшего голос арабского певца (о нем говорили, что он не араб, а египетский еврей), на госпожу Джентилу нападали доводившие ее до рвоты сильные головные боли, и она призывала на помощь сестру свою Пнину:
— Поспеши, смочи платок холодной водой! (Тот самый платок, пропитанный студеной водой, которым она, словно тюрбаном, обвязывала голову для облегчения болей.) И закрой окна, да скорее, скорее! Разве ты не слышишь, что польский филин докторши уже расклевывает рояль? Чтоб он сдох вместе со своей госпожой! Жив был бы мой муж, такого бы не случалось. Он сказал бы ему — городскому голове, Рагеб-бею Нашашиби, чтобы запретил этому барабанить ночью и нарушать покой всей улицы. Слыханное ли дело, чтобы целая улица должна была страдать только потому, что женушка доктора Ландау не смогла найти себе никакого другого любовника, кроме этого польского филина, ни на что не годного, кроме как колотить по клавишам рояля! Если бы он хотя бы играл приятные, греющие душу мелодии! Но ведь даже и на это он не годен. И не диво — будь он настоящим пианистом, он бы в ней не нуждался, в этой истеричной кошке, которой не довелось найти себе истинного мужчину. Все они были рухлядью, считавшей свои стоны и вздохи произведениями искусства.
Эту рухлядь, осколки разбитых сосудов, укрывавшиеся под крылышком госпожи Ландау еще до «польского филина», я не видел, но что до дара сего последнего в фортепьянной игре, то речи нашей домохозяйки, госпожи Джентилы, отражали не более чем часть внешней правды, касавшейся, по сути, не способностей его, но отношений с обществом, то есть его боязни публики. Эта боязнь была столь велика, что связывала ему руки, и из-под пальцев выходила натужная, скованная мелодия, к тому же искаженная ошибками, что и создало ему плохое имя. И напротив, в тиши своей комнаты он творил чудеса, особенно по ночам: то ли во сне, то ли наяву в проем открытого окна вдруг падала чистая нота, будто зажигалась звезда, сразу же заполняя пространство черного небосвода волнами незримой, трепещущей тоски, перехватывавшей дыхание с рождением второй ноты в светящейся точке второй звезды, и за нею, по диагонали, — звезда за звездой. И снова пустое пространство наполнялось ритмическими валами предчувствия новых световых точек, обрамляющих созвездие Близнецов. Но еще до его завершения рояль уже начинал звенеть и разбрызгивать тут и там, без очевидного порядка, нотные капли, застывающие в точки света, нанизанные на нити страстного, сжимающего сердце томления и создающие новые созвездия: Овна, а рядом с ним и Льва, и Тельца, и Девы, и Рыб. Лишь с угасанием мелодии ее место в сердце начинал захватывать ужас перед бесконечными просторами пустого, холодного, темного и безразличного пространства между бессмысленно висящими в пустоте звездами.
Из-за того что Пнина закрыла окно перед величайшей угрозой музицирования польского филина, на госпожу Джентилу напало удушье в тесной комнатке, и обмахивание смоченным в воде белым платком совершенно не помогало ей прийти в себя, пока окно оставалось закрытым, так же как раньше этот платок, обмотанный тюрбаном вокруг ее головы, не помогал ей от головной боли, пока окно оставалось открытым для звуков рояля.
— Нет, так это больше ни под каким видом продолжаться не может! Смотри-ка, Пнина, до чего я дошла, не могу жить с открытым окном и не могу жить с закрытым. Не сущий ли это ад, когда тебе плохо с открытым окном и плохо с закрытым, и все это случилось со мной только потому, что Проспер Иегуда преставился и некому защитить меня от измывательств польских филинов женушки доктора, которому давно уже следовало вышвырнуть ее вместе со всей ее рухлядью. Но ведь он-то этого не сделает, ведь он — святой, потому что, не будь он святым, он бы не сжалился над этой несчастной тварью и не взял бы ее в жены. Видишь, Пнина, все эти святые в своей великой милости дают в этом мире приют всякой сволочи и позволяют им завладеть целым миром. Да-да. Головная боль уже задела глазной нерв. У меня уже потемнело в глазах. Я уже вижу, что ничего мне не остается, как встать завтра и с утра отправиться в клинику доктора Ландау. Я и так уже должна была пойти к нему, чтобы он вынул мне волоски из глаз. А ты не забудь разбудить меня пораньше и сходить за номерком заранее, а то придется мне сидеть там в очереди целый день среди всего войска персидского и мидийского и вонючих арабов. Так, так, открой его настежь! Мне уже лучше.
И хотя во вновь открытое Пниной окно опять ворвалось фортепьянное стаккато польского филина, госпожа Джентила почувствовала значительное облегчение от самой мысли о завтрашнем походе в «Клинику для глаз», как было написано на воротах больницы доктора Ландау, находившейся тогда на улице Сент-Пол возле полицейского участка. «Все войско Персии и Медиана», как называла она персидских, бухарских и прочих восточных евреев, выходцев из стран, удостоившихся некогда сияния царства Артаксеркса, толпившееся у входа в больницу и теснившееся на ступенях и в зале ожидания, не могло лишить ее священного обряда еженедельного, по меньшей мере, посещения доктора Ландау, каковой она совершала, облачившись в лучшие свои одежды, хранимые исключительно для еще одного выхода — еженедельного визита в дом судьи Дана Гуткина.
Визит старого судьи
Неожиданный визит старого судьи к хозяйке нашего дома госпоже Джентиле Луриа вскоре после того, как она овдовела, внезапно связал меня с убийством, произошедшим в Старом городе на двадцать лет раньше, чем я появился на свет. Судья не знал, что в то самое время, когда он поднял тему давнего убийства, старинный кинжал покоился в ящике моего стола под книгами и тетрадями, и вполне возможно, что старик даже не подозревал о моем присутствии в уголке балкона. Кинжал этот, как уже говорилось, я нашел в подвале нашего дома, где скапливались и гнили лохмотья и ржавели обломки лет. Одна лишь старинная турецкая «шабрия» уцелела из всех разновидностей оружия, изукрашенных седел, ожерелий, серег и прочих драгоценностей, которые старому хозяину дома давали в залог арабы, приходившие к нему за денежными ссудами еще в годы турецкого владычества, когда Иегуда Проспер-бек находился в зените мощи и величия.
По смерти старика нога госпожи Джентилы перестала ступать в дома прежних друзей, наша домовладелица выходила лишь раз в неделю нанести визит судье Дану Гуткину, посодействовавшему ей уладить дело о наследстве старого бека к полному ее удовлетворению, как прежде содействовал самому старику наилучшим образом завершать дела и судебные тяжбы. Сей член Верховного суда, приятель ее недавно ушедшего в мир иной супруга, в ту пору весьма прославился, и главный источник престижа, коим он пользовался среди почтенных и именитых персон, как евреев, так и арабов, проистекал из его влияния на британскую администрацию. Он помнил не только о днях величия госпожи Джентилы, когда была она супругой консула, равного наместникам, пашам и правителям областей Оттоманской империи, но и о днях ее красы, когда она затылком ощущала обращенные на нее со всех сторон взгляды мужчин. И тем не менее в последнее время она стала возвращаться домой после визитов к судье разочарованной из-за того, что речи его начали плутать в мрачных закоулках. Вместо того чтобы снова предаться воспоминаниям о тех днях, когда была она избрана одна среди всех учениц преподносить цветы важным гостям учебного заведения имени Эвелины де Ротшильд, он начал возвращаться мыслями и речами к годам, предшествовавшим той блистательной эпохе, к теснинам бедности и ничтожества во тьме раннего детства дочери неимущего столяра с улицы Мидан в еврейском квартале Старого города, босой малышке в драных лохмотьях, выглядывавшей из чердачного окошка над лавкой. Ведь тогда все семейство ютилось в каморке над мастерской, пропитанной запахами столярного клея, терпентина и стружек. Все дни жизни своей отец Ентеле (ибо так звалась она, и таково было имя ее в Израиле — Ента, покуда не явился господин консул, Иегуда Проспер Луриа-бек, с визитом вежливости в школу для девочек имени Эвелины де Ротшильд, и она не была избрана поднести ему цветы от имени выпускного класса) провел в отвратительной нищете, он — лучший из столяров Иерусалима, изучавший свое ремесло в венценосной Вене и создавший арон га-кодеш[35] для синагоги «Общество Сиона» (под полом которой находился подземный ход, ведущий к горе Сион и захоронениям дома Давидова), а также и для синагоги «Нисан-бек», и для Стамбульской синагоги выстроил он превосходные аронот-кодеш. С верхней ступеньки деревянной лестницы, ведущей в жилую комнатушку, она смотрела вниз на отца, стоявшего посреди своей мастерской с подобострастно склоненной головой перед старостами синагоги и в робких выражениях униженно намекавшего им на несколько монет к субботе в счет платы за арон га-кодеш, работа над которым высасывала из него все соки в течение долгих месяцев, а заказчики бесконечно оттягивали и без того несправедливый расчет, ублажая его хитроумными толкованиями Торы и чудными мидрашами, призванными заменить собою выплату денег. В противовес сим столпам города богатые бухарцы, для которых он мастерил широкие, как колыбели к помолвке, комоды, по недостатку владения языком и Торой не умевшие подсластить речениями блаженной памяти наших мудрецов сокращение и задержку оплаты, встречали его гневными взорами и бранили за нетерпеливость и наглость притязаний. Из трясины голода и унижений бедный столяр был вызволен благодаря ревнителям веры, поджегшим его дом из-за креста русского монастыря, что на вершине Масличной горы. Время от времени настоятель монастыря заказывал ему различные столярные работы, но вырезывать ему кресты столяр не соглашался, пока «воды не дошли до души его»[36] и не остался он без последнего гроша на покупку субботних свечей. Сдавшись, наконец, он вырезывал большой крест масличного дерева ночами, ибо чувствовал себя не в своей тарелке, да и неприятно, когда бы увидели прохожие, что руки, строившие ковчег Завета, строгают крест. Как-то ночью, когда закончена была работа над крестом, малютка Ентель пробудилась ото сна и глянула сквозь маленькое круглое окошко на большой крест, распростершийся перед нею во всю длину и ширину на сверкающих в лунном свете гладких камнях мостовой и ползком движущийся к месту своего назначения в русском монастыре. Но то, чего боялся отец, настигло его, и гораздо быстрее, чем он подозревал. На расстоянии считанных шагов от мастерской группа евреев, в тот час возвращавшихся с полуночного бдения у Западной стены[37], столкнулась со столяром, несущим на спине своей крест, и уже на следующую ночь огонь был ниспослан на его дом. Среди ночи они бежали из Старого города в квартал «Владение семерых». Не сам столяр, а его жена решила отомстить поджигателям своего дома и отправить сыновей и дочерей своих учиться в миссионерскую школу. Он умолял ее этого не делать, и только после многочисленных прошений она немного уступила своему мужу-столяру и согласилась отправить детей учиться в школы вольнодумцев за стенами Старого города.
Хорошие времена запомнились Джентиле лишь начиная с того момента, как языки пламени стали лизать деревянные балки нижней лавки. Отец выхватил ее из стоявшей возле окошка кроватки, и понес на руках посреди пламени, и бежал с нею прочь от пожара и от Старого города, и мама послала ее в еврейско-английскую школу. Казалось ей, что и отцу, хоть и считавшему поначалу, что и он, и его домашние, подвергшись отлучению и бойкоту, приговорены к голодной смерти, немного полегчало, поскольку место аронот-кодеш заняли теперь лавки и парты для школ. Больше он, однако, не осмеливался показаться в стенах Старого города, и до конца дней нога столяра уже не ступала на камни его мостовых. Иногда случалось ему внезапно убегать из мастерской во внутреннюю кухонную каморку, ибо ему мерещилось, что по улице проходит староста синагоги, тот самый староста, что остался должен ему половину стоимости арон га-кодеш и, возможно, принимал участие в поджоге. Словно провинившийся мальчишка прятался он в каморке, мальчишка, стыдящийся того, что наделал, и стыдящийся жены своей и детей за то, что стыдится. И еще на все дни жизни его с той лунной ночи, когда нес он большой собственного изготовления крест масличного дерева на плечах своих, остался у него двойной след обоих его прегрешений. Раз в несколько дней во время работы кишки его опускались в мошонку, и тогда он падал на землю и корчился в ужасных болях, корчился и кричал, вопил и извивался, и жена спешила нагреть керамические плитки и плоские камни, всегда с этой целью хранившиеся у жаровни, чтобы приложить их к паху для утешения болей и возвращения кишок на место. И вот теперь судья Дан Гуткин задумал вернуть ее своими разговорами в пучину тех ужасных дней. В последний раз, когда она гостила в его доме, все мысли его вертелись вокруг мрачных переулков Старого города, и, как ни пыталась она увести его на великолепные широкие улицы, открывшиеся в его жизни с тех пор, как вернулся он из Оксфорда, увенчанный званием английского юриста, имеющего право адвокатуры и прокуратуры в судах Его Величества, и был назначен здесь судьею, и преуспел во всех своих начинаниях, и стал кавалером ордена Британской империи пятой степени, и возвысился, и достиг должности члена Верховного суда, и удостоился еще более высокого, чем прежний, знака отличия, став кавалером ордена Британской империи четвертой степени, перед которым сами британские офицеры спешили встать по стойке смирно, отдавая честь, он же, словно старый ослепший мул, норовил поворотить во мрак извилистых проулков своего детства в Старом городе.
— Помните, — сказал он ей, — когда вы жили на улице Мидан, мы жили в приюте, названном в честь Немецкого подворья «Дер дойчер платц»?
— О чем это вы? — вздрогнула она и с досадой ответила: — Вы хотите сказать, что я такая же старая, как вы?! Когда вы жили на Немецком подворье, я еще не появилась на свет божий, а маленькая девочка с улицы Мидан, которую вы помните, это моя сестра Пнина, старше меня на семь лет. Не забывайте, что вы старше меня по крайней мере лет на пятнадцать, и родилась я, когда вы уже учились в начальной йешиве, и вообще, не напоминайте мне, пожалуйста, о плесени поколений и о мерзости улочек Старого города! Что это я болтаю: пятнадцать? Вы старше меня по крайней мере на двадцать лет! Вы ведь были приятелем Иегуды Проспера, а коли так, то вы по крайней мере на двадцать лет меня старше.
— Только уже будучи в начальной йешиве, — ответил он, совсем не реагируя на разницу в их возрасте, увеличивавшуюся всякий раз, как она высказывала по этому вопросу свое мнение, — осмелился я, да и то не в дневное время, Боже упаси, а в сумерках, тишком, словно закоренелый преступник, пробраться на Караимский двор в конце переулка, на границе мусульманского квартала. Эти последователи Писания были столь гонимы и отвержены, что раввины отказались наставлять караима, пожелавшего стать евреем и обещавшего пожертвовать все свое состояние на йешивы. У любого гоя на свете — мусульманина, христианина или язычника — было законное право стать прозелитом, но только не у караима. В те времена их еще имели обыкновение называть «саддукеями»[38]. Там, на дворе, глубоко под землей, находилась их синагога, и, когда я начал спускаться по сумрачным и холодным ступеням в молельню, в тот самый тысячелетний молельный дом, где хранился самый древний в мире свиток Торы, прозванный «Микдашия», я чувствовал, что совершаю куда больший грех, чем в тот раз, когда заглянул в церковь Рождества. Я сбросил с ног башмаки и оставил их, по обычаю караимов, на верхней ступени, рядом с колодцем. У меня была большая дырка на пятке правого черного носка… помните, как мы называли дырку в носке, из которого торчала пятка, «картошкой»? С каждой ступенькой я чувствовал, спускаясь, как растут вокруг меня волны страха, и ощущал правой пяткой леденящие поцелуи гладкого голого камня. Я знал, что каждая новая ступенька низводит меня на новую ступень нечистоты, и вместе с тем знал, без того, чтобы это вызвало во мне изумление по поводу логического противоречия, что именно в греховных недрах ада, в которые я размеренно, ступень за ступенью, погружаюсь, кроется наша святая Тора, древняя и единственная в своем роде, свободная от любого толкования и ограды. И, очутившись в пугающей бездне, на полу синагоги, я знал, что лишь один Бог в силах спасти меня, и сердце мое воззвало к нему в молитве — не в одной из молитв, которые собраны в молитвеннике, а в песни ступеней:
Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи! Кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою[39].И эта немая молитва в сердце, ведь даже сжатые губы мои не шевелились, была услышана. Разом стал я возноситься все выше и выше сквозь все слои греха и атмосферы нечистоты и почувствовал, что вдыхаю прозрачный и чистый воздух горних вершин, свободный от страха и угроз, от тревоги и гнета, от всякой необходимости молиться какому угодно Богу. В тот миг, когда он ответил мне, я не почувствовал даже необходимости его благодарить, ибо Бог сделал свое дело, Бог может уйти. Откуда проник свет в караимскую синагогу? Ведь это же был погреб, гораздо глубже, чем девять локтей в землю. Тогда, стоя посреди нее, я об этом совсем не думал, и вот именно теперь, пятьдесят лет спустя, этот глупый вопрос начинает меня беспокоить, и вот дьявольское наваждение: как раз в те минуты, когда мне во время судебного заседания нужно сосредоточить все внимание на аргументах тяжущихся сторон по вопросу собственности на имущество богадельни, я никак не могу припомнить, чтобы там были хоть какие-то окна, а ведь они, без сомнения, были где-то там в потолке, за столбами, поддерживающими потолок… А, что скажете, Ентеле, откуда там взялся свет? Вы помните, как Али ибн Масрур пытался скрыться в этой караимской синагоге после знаменитого убийства на рынке Аль-Атарин? Не думаю, что он знал, куда бежит. Просто несся по кривым улочкам к еврейскому кварталу и, как загнанный зверь, попытался найти убежище в первой попавшейся по пути дыре. А может быть, очень даже знал, что подвал этот — синагога, и верил, что ее святость его защитит… Помните, мусульмане верили в еврейские чары и магические способности. Наверняка он считал, что посреди синагоги есть жертвенник, на котором режут жертвы и приносят Господу во всесожжении, и ему бы только добраться до жертвенника и схватиться за его углы — тогда он спасен! Что скажете, Ентеле? Почему вы уже собираетесь уходить? Посидите еще немного, вы ведь никуда не спешите!
— И с чего бы это мне продолжать тут сидеть? — сердито ответила она. — Истинно сказано: старый что малый. Как старый мерин норовит вернуться в свое стойло, так и вы возвращаетесь к детским глупостям и к отроческой чепухе, и ежели я тут еще посижу, то вы вернетесь к тем дням, когда ваша матушка изволила подтирать вам задик. А теперь — до свидания, счастливо оставаться!
И как раз когда раздражение от разглагольствований господина судьи дошло до того, что она уже взвешивала в уме, не лучше ли ей месяц-другой держаться от его дома подальше, пока тот не образумится, он сам стал наносить ей визиты, появляясь на балконе нашего дома в неожиданные часы, в дневной зной или в сумерки, то есть посреди рабочего дня, в перерывах между судебными заседаниями, или по дороге на службу и обратно, когда она вовсе не была готова принимать гостей вообще и высокопоставленных — в частности. В один из таких неожиданных визитов он, как говорилось, невольно и ненамеренно (ибо весьма сомнительно, чтобы глаза его различили, а если и различили глаза, то вряд ли обратил бы он внимание на чужого соседского мальчика, сидевшего на другом конце балкона и, казалось, погруженного в чтение книги «Дон Кихот Ламанчский» в переводе Бялика) вызвал у меня невероятное сердцебиение, связанное со страхом и стыдом, когда, прислушиваясь к его воспоминаниям, которыми он сдержанно-безмятежным голосом делился с Пниной (ибо младшая сестра ее Джентила заперлась в своей комнате, скрываясь от лица его), я обнаружил, что связан с убийством, произошедшим в Старом городе за двадцать лет до моего появления на свет Божий, благодаря кинжалу, который обнаружил в подвале и утащил.
Ужасная пучина, в которую он вверг меня, грозные валы которой преследовали меня еще долгое время наяву и во сне, разверзлась как раз посреди на диво ясного и спокойного дня. Джентила, как обычно под вечер, с далеким отсутствующим взором сидела у двери своей комнаты и перебирала рис в широкой и плоской медной миске, тихонько мурлыча английскую народную песенку времен своего обучения:
Три слепые мышки, глянь, как они бегут! За фермерской женою бегут из темноты, Что всем троим отрезала мясным ножом хвосты. Видал ли ты подобное, скажи, видал ли ты Такое, как три слепые мышки?Я уже начал погружаться в новую книгу, только что полученную от библиотекаря, как вдруг послышался шум мотора приближающейся со стороны Русского подворья и останавливающейся внизу, у ворот, машины судьи.
— Ой-вэй! — вырвался из уст Джентилы возглас ужаса.
Она оторвалась от работы и на миг застыла на месте перед лицом надвигающейся угрозы предстать пред высокопоставленным гостем в поношенной домашней одежде и с прядями седых волос, выбивающимися из-под платка, словно одна из этих ненавистных ей убогих богобоязненных женщин.
— Пнина, Пнина! Поспеши встретить судью! Здесь, на балконе, и не давай ему войти в дом. Скажи ему, что меня нет дома. Нет, нет! Скажи ему, что я плохо себя чувствую, что у меня головная боль. Боже правый, иди скорее! Пока она сдвинет свою толстую задницу, весь мир может вернуться в хаос!
Посреди хаоса, вызванного в душе Джентилы шумом судейской машины, она все же сохранила достаточную ясность ума, чтобы переменить команду «скажи ему, что меня нет дома» на «скажи ему, что я плохо себя чувствую», ввиду вероятной возможности того, что судья продлит свой визит на время, потребное ей для перемены платья и если и не окраски волос, то, по крайней мере, для сокрытия «позора» приличным образом, для косметики и всех тех изменений внешности, которые были связаны у нее с изменением душевного состояния, а посему затягивались сверх всякой меры. После того как Пнина сдвинула свою толстую задницу и установила посреди балкона железный столик о трех ножках, придвинув к нему ранее хранимое для одного лишь старого бека красное кресло, младшая сестра ее, запершаяся в своей комнате на замок и задвижку, все еще лежала на постели с закрытыми глазами, чтобы отойти от потрясения, успокоиться, проследить в полудреме за оборотом души в ее кружении, пока прекрасный лик гостеприимства достигнет границ плоти и сольется с нею, а также набраться сил, необходимых для перемены телесного одеяния. Если основополагающая чистота, связанная со стремлением к совершенству и цельности в ее душевной конституции, не позволявшая ей в будничной жизни смешивать разнородные вещи, внимание, необходимое для выбора должным образом пропеченного хлеба, разбавлять обсуждением квартплаты или увязывать поход в клинику доктора Ландау со сдачей пары домашних тапочек в починку арабскому сапожнику, занявшему место прямо напротив входа в клинику, или творить любую из тех тысяч помесей и гибридов, которыми мы поневоле грешим в бытовой спешке повседневности, — если эта основополагающая чистота находилась в прямой связи с замедленностью ее жизни, то она, естественно, могла достигнуть вожделенных совершенства и цельности для встречи гостя, только остановив течение времени и заморозив его. Однако солнце, стоявшее над Гаваоном среди неба и не спешившее к западу почти целый день по приказу Иисуса Навина[40], вовсе не собиралось стоять по приказу Джентилы. Не успела она закрыть за собою дверь и вытянуться на постели, арабский шофер почтенного судьи уже соскочил со своего сиденья, обежал машину кругом и поспешил открыть дверцу своему высокому и тонкому господину в темно-синем костюме, белом жестком воротничке и черном галстуке на шее и в черном лондонском котелке на голове, как заведено у господ британцев, рассеянных по просторам империи со всеми ее областями, колониями, доминионами, мандатами и провинциями, во имя поддержания повсюду законов Его Величества. Выражение его лица с квадратным, как у бульдога, пятачком на диво соответствовало его облачению и источало столь явную британскую холодность, что тот, кто не знаком был с его прошлым и ничего о нем не слыхал, никогда бы не вообразил, что владелец сей физиономии не только способен извлечь из своего скошенного по углам рта подлинный библейский стих, но и вообще целиком был зачат и рожден в Старом городе и в отрочестве учился в Хевронской йешиве. Но не следует ни из его долговязого обличил, ни из одеяния, прикрывавшего сие воплощение костлявости, делать поспешный вывод о том, что лишь благодаря им смог он возвыситься и достичь четвертой степени британского величия, ибо не подлежит никакому сомнению тот факт, что своим возвышением он также немало был обязан характеру своей судейской деятельности.
Действительно, в судебных процедурах, в ведении заседаний суда и в процессе обсуждений он педантично следил за выполнением всех мелочей и дотошно следовал каждому крошечному завитку в букве закона с суровым выражением лица, всегда остававшегося ледяным и непроницаемым, без тени улыбки, дрожи нетерпения или гримасы разочарования, за которые одна из сторон могла бы ухватиться в своих догадках о расположении судейского духа, если таковой вообще присутствовал в нем и в его заседаниях. Что до ледяной непроницаемости и до формальной официозности, с которыми он вел любой процесс, проявляя бесконечное терпение, то его приговор всегда оказывался неожиданным, причем нередко не самым суровым. Не раз обнаруживал он технический дефект в процедуре вызова свидетелей или в полицейском протоколе, а то и смягчающие вину обстоятельства, не замеченные адвокатами, что приводило к облегчению приговоров, выносимых убийцам-арабам, порешившим своего товарища зверскими ударами ножа за ерундовое мошенничество, за невозвращенный мизерный долг в десять грошей или за прелюбодеяние с их женами.
Сюрпризы не меньшие, чем эти, ожидали обе стороны и их защитников, когда он вдруг обрушивался со всей строгостью закона на хитроумные и запутанные торговые сделки, имевшие, в конечном итоге, отношение лишь к имущественному праву. После одного из таких суровых приговоров известный иерусалимский адвокат Хермон обратился к нему со словами трактата «Йевамот»[41]: «Оправдал тяжкий блуд — не оправдаешь легкое имущественное прегрешение?» И почтенный судья тихонько и не моргнув глазом ответил ему в том же талмудическом духе: «Когда бы я принадлежал к школе Гиллеля, то не стал бы учить по словам школы Шамая»[42].
Вершиной его невероятных сюрпризов стало знаменитое, всколыхнувшее весь ишув[43] и восстановившее против него общественных дельцов всех толков и флангов постановление, вынесенное по одному земельному делу в пользу арабских арендаторов, продолжавших занимать земли, купленные у их владельцев, эфенди, проживающих в Бейруте, Израильским национальным земельным фондом. В процессе заседания еврейский судья, к вящему разочарованию юристов из национальных институций, обнаружил и извлек из тайников турецкого земельного уложения маленький параграф, касающийся права давности на земли Мири и Мулк, на протяжении поколений остававшийся без внимания самих турецких мудрецов-законников, и в силу этого параграфа оправдал арабских обвиняемых. Среди прочих тяжких обвинений, выдвинутых против него после этого возмутительного приговора, по всему ишуву из уст в уста разлетелся слух, что сей реакционер на службе британских и арабских интересов, предавший свой народ ради имперского престижа, о котором и о подобных которому сказано: «разорители и опустошители твои уйдут от тебя»[44], и сам имеет обыкновение брать взятки не хуже любого британского или арабского чиновника и что в этом земельном процессе он лично отнюдь не отказывался от всех даров, подношений, гостинцев и пожертвований, которыми щедрой рукою осыпал его Земельный фонд. То есть — взятку-то он получает сполна и в лучшем виде, а ответную услугу не оказывает, следовательно, он беспринципен не только с точки зрения общественной и национальной морали, не только с точки зрения судебной этики, но даже и с точки зрения этики мошенников он испорчен, извращен и порочен поболее всех этих английских и арабских негодяев, сохраняющих, по крайней мере, порядочность в смысле «ты мне — я тебе» и «рука руку моет» и соблюдающих неписаные законы преступников. Когда юристы национальных институций стали искать способ оказать на него давление, припугнув, что привлекут его к суду за получение взятки, выяснилось, что, к их несчастью, он умудрился провести свое дело чисто, гладко и настолько безукоризненно, что не обнаружилось ни сучка, ни задоринки, за которые можно было против него уцепиться, и только за одно это достижение, как заявили самые острые и въедливые из них, был достоин своего ордена Британской империи четвертой степени. Нельзя, конечно, отрицать, что и евреи время от времени пользовались его неожиданно благоприятными для себя судебными решениями, но поскольку отцам общины не удалось обнаружить логику его безумия и они устали искать смысл и систему в его причудах, то решили дать ему понять, что не хотят «ни меда его, ни жала», и стали отказываться от передачи ему своих судебных дел, предпочитая ему любого арабского или английского судью из Верховного суда, даже не награжденного орденом четвертой степени.
Кавалер ордена Британской империи четвертой степени поднялся по лестнице дома своего старинного друга, носителя титула Оттоманской империи, всего несколько недель назад ушедшего в мир иной, и достиг площадки балкона в тот момент, когда иерусалимская вдова покойного заперлась в своей комнате, а сестра ее Пнина придвинула к железному столику о трех ножках, установленному посреди выложенной плиткой площадки, кресло красного бархата, ранее хранимое для Иегуды Проспер-бека. Как только он уселся лицом к заходящему солнцу, Пнина принялась хлопотать, подавая ему легкое питье и печенье, не забыла и его шофера, оставшегося внизу, у руля автомобиля, спустив и ему поднос с угощением, положив на него, между стаканчиком с питьем и печеньем, монетку в пять грошей, в те времена считавшуюся весьма солидным «бакшишем» для любого шофера. Однако арабский шофер Дана Гуткина, эсквайра, принял ее как ни в чем не бывало и как нечто само собой разумеющееся, безо всяких изъявлений благодарности и подобострастных поклонов, подобающих шоферам мелких господ, и выразил ей свою признательность легким наклоном головы и любезной улыбкой, как пристало важному шоферу, пользующемуся престижем своего высокопоставленного господина и платящему ему щепетильно соблюдаемыми правилами хорошего тона во всяком месте и во всякое время.
В ту минуту на меня нахлынуло невнятное, волнующе-приятное и чарующее изумление внезапного проникновения в чертог при виде судьи с массой седых волос, тщательно зачесанных назад по обе стороны прямого пробора, и с выражением квадратной твердости на костлявом лице, глубоко сосредоточенного на процессе вытягивания своих длинных членов в кресле старого бека, с воодушевлением восклицающего: «Безусловно, безусловно» и отирающего свою гладко выбритую блестящую голову большим красным платком от капелек пота, сверкающих в закатном свете пляшущими искрами. Образ старого бека, такой, каким я видел его в последний раз перед его кончиной, сидящим на этом балконе в этом самом красном кресле, с клетчатым шарфом, намотанным вокруг его шеи иерусалимской женой, и своим древним хриплым голосом в бессильной ярости бормочущим ей в ответ: «Учитель наш Моисей! Учитель наш Моисей!» — образ этот предстал передо мной одновременно с образом судьи, сидящего на том же балконе и в том же самом кресле. Это случилось без того, чтобы одна картина заслонила другую, стерла или смазала ее очертания, без страха и в благодатной щедрости того чудесного, изумительного чертога, в котором я внезапно очутился. Но чертог исчез так же внезапно, как я в нем очутился, и вместе с ним растаял образ бека. А я сказал себе: нет, это невозможно, чтобы в этом красном кресле одновременно нашлось место для них двоих, и для старика, и для судьи, а кроме того, ведь старик уже умер, его больше нет. Так или иначе, что-то странное и необычное произошло здесь со мной, раз я вижу в этом кресле судью Дана Гуткина, а не старого хозяина дома.
— Знаете, — сказал судья Пнине, присевшей подле него, после того как забрала поднос у шофера, — он был старше меня всего на десять лет и тем не менее принадлежал другой империи, Оттоманской империи.
Пнина вздохнула и высморкалась, громогласно и с помпой. Глаза ее при этом увлажнились.
— Нет-нет, — возразила она, — Иегуда Проспер, мир его праху, был старше вас на пятнадцать, а может быть, и на двадцать лет. Вы ведь были совсем молоденький, просто юноша, когда изволили оставить йешиву и обратились к нему с просьбой подыскать вам должность. Он тогда уже был женат на моей сестре несколько лет. Вы ведь мой сверстник, а может, старше меня года на два, на три. Вы не помните, как мы вместе прокрались на двор к караимам поглядеть на турецких полицейских, гнавшихся за Али ибн Масруром, чтобы арестовать его после убийства на рынке Аль-Атарин? Годами говорили об этом, но что там произошло, я совсем не помню, ничего, кроме турецких полицейских, хватающих этого араба на Караимском дворе. Не знаю, помните ли вы…
— Конечно я помню. Я прекрасно все помню, Перла[45]. Ведь тогда я впервые собственными глазами видел закон в действии, — сказал судья, продолжая смотреть прямо перед собой на заходящее солнце, придававшее пепельно-голубое сияние, наподобие голубых прожилок стали, пронизывающих слиток красной меди, белым, тщательно зачесанным назад волосам и замкнутому выражению лица, лишенного какой-либо связи не только с происходящим вокруг него, но даже со звуками голоса, выходящего из его собственного скошенного по углам львиного рта.
Когда я спустился по ступеням в отдел Древнего Египта в Лувре, через двадцать девять лет после этих событий, мне бросился в глаза лев полированного кремня, который разлегся с выражением замкнутой мощи, проистекающей из самой себя и циркулирующей по замкнутому кругу, и наполнял золотистым сиянием храмовый чертог. Хранители храма искусств в синей униформе, а также несколько туристов, замешкавшись, переходили с места на место в зоне свечения попавшегося на их пути сфинкса, абсолютно равнодушные к той лучащейся энергии, внутри которой они находились, не потому, что обладали столь высокой силой сопротивления, а лишь поскольку были слеплены из непроводящего материала, как маленькие и легкие деревянные брусочки, остающиеся без движения внутри мощного электромагнитного поля, в то время как огромные железные брусья, сокрушающие крепостные стены, стремительно тянутся к магниту. Я провел рукой по холодящей глади кремня и взглянул в лицо сфинкса, смотрящего прямо перед собой, древнее, безмятежное и замкнутое лицо, и мягкий взвешенный голос излился из холодного поцелуя полированного камня, потек по руке и дальше, пока не зазвучал в моих ушах, ибо он пел древнее предание, ничуть не смягчая свое твердокаменное выражение лица. Только когда я вышел из музея, по-прежнему охваченный невнятным изумлением и дрожью чарующего волнения, во мне вспыхнула искра узнавания: голос, звучавший в моих ушах, был голосом судьи Гуткина, каким я слышал его почти тридцать лет назад на балконе нашего дома. Назавтра я снова поспешил в музей и спустился по ступеням в зал египетского сфинкса, но голос больше не гудел в воздухе. Я положил руку на кремень его лица, и ответом мне был лишь холод гладкого камня. Ни в тот раз, ни во все последующие, когда я являлся пробудить его, никакой голос больше не слышался. Если бы рот этого льва был львиным, лев этот походил бы на судью.
Как и у сфинкса, так же и у судьи, обращенного к заходящему солнцу, голос пребывал вне всякой связи с замкнутым выражением лица и приятно удивлял крайним противоречием мягкого, взвешенного, размеренного и успокаивающего тембра своему холодному и непроницаемому родителю. Но, отплывая по волнам этого голоса, я ощутил, как на меня накатывают валы тревоги, словно при скольжении по канату, натянутому между двумя горными хребтами, когда любое мельчайшее нарушение равновесия или ритма грозит закончиться падением в разверстую внизу бездну. Этот голос отплыл на тридцать лет назад и поведал историю Али ибн Масрура, когда впервые в жизни глазам Дана Гуткина предстал закон в действии.
С зарею встал Махмуд-эфенди, знатный и почтенный сын Вифлеема (ибо вифлеемцем был сей муж), дабы в карете своей подняться в Иерусалим, ибо собирался купить в нем из тонкотканой шерсти, из ювелирных украшений да из благовонных снадобий даров новой своей и юной нареченной, подобно бесценной жемчужине всякую заботу и гнев из сердца удаляющей, голосом своим всякую беду утоляющей и всякого мудреца и разумника покоряющей, на стан ее приятно взирать и груди двум газелям под стать, щеки нежны и свежестью цвета насыщают глаз певца и поэта, лик ее светится сквозь темную ночь кудрей, и очи сверкают молний небесных скорей, как сказал великий Ибн Аль-Тумас о подобной ей:
Клянусь, до капли я отдам кровь сердца своего За четырех, что в ней одной, и все — для одного: За локонов ее ночную тьму, лба белоснежный шелк, За пальмы стройный стан и розы дивных щек.А младший из сыновей его от старшей жены, малыш Дауд, драгоценное чадо, умолял взять его с собою в Святой град, и внял ему Махмуд-эфенди, ибо любовью крепкой любил его.
И когда завершил Махмуд-эфенди дела свои на рынках иерусалимских и неспешно шествовал через сук Аль-Атарин, он же рынок Благовоний, возвращаясь к своей карете, ждущей его у Яффских ворот, и сын его следовал за ним по пятам, и задержался у входа в лавку златокузнеца, и покуда дивился он творениям рук мастера, выскочил откуда ни возьмись Али ибн Масрур, что слыл дотоле мужем честным, совестливым, боящимся Бога и удаляющимся от всякого зла, и кинулся на мужа вифлеемского, и ударами кинжала истребил из него душу его. Не успел еще отрок оторвать взора своего от рук ювелира, занятых работой по чистому золоту, как отец его единокровный уже лежал мертвый в крови, вытекающей на камни мостовой. Потом, на всем протяжении судебного процесса, слушания дела и допросов свидетелей сидевший подле матери среди прочих родственников убитого, единственный свидетель убийства из всего большого клана, отрок Дауд не сводил полных надежды глаз с судьи и неотрывно следовал за каждым его словом. Судья, чувствовавший взгляд, который не отводил от него мальчик, ласково вызвал его на свидетельское место, чтобы и он дал показания и поведал то, что было у него на сердце, и мальчик вскочил с проворством и великой радостью. Как только мальчик раскрыл рот и начал отвечать на вопросы судьи, тому стало ясно, вместе со всей публикой, наполнявшей зал, что мальчик воображает, будто судья в силах вернуть ему отца и будто весь разворачивающийся вокруг него судебный процесс — не что иное, как обряд, необходимый этому судье для применения его чар, своего рода священнодействие во имя исправления несправедливости и возвращения убиенного к жизни, процедура, в конце которой судья должен встать и провозгласить: «В зал вызывается Махмуд-эфенди, вифлеемский житель», и дверца за его спиной распахнется настежь, и из нее выйдет и войдет в зал, к радости всех собравшихся, отец его во всем своем величии. Он совсем не обращал внимания на убийцу и не обнаруживал ни малейшего стремления отомстить ему или желания добиться его наказания. И когда судья вернулся к своим обрядовым церемониям вокруг Али ибн Масрура, бесконечно откладывая магическое заклинание, необходимое для вызова отца, мальчик не выдержал ожидания и решил взять суд в свои руки, метнулся к дверце за спиной судьи, настежь распахнул ее и крикнул прерывающимся от слез голосом:
— Йа аби![46] Иди ко мне скорей! Иди ко мне скорей!
На следующий день поутру Али ибн Масрур был повешен на дворе Кишлы. Когда он испустил дух, смех прокатился по толпе зрителей из-за случившегося с ним легкого недоразумения: кушак его развязался, и шаровары сползли до колен, открыв на обозрение голое тело от пупка и ниже. В тот момент, когда он задохнулся и шея его переломилась под тяжестью повисшего на ней тела, уд его распрямился и изверг семя.
Пнина выпрямилась на стуле, смахнула с глаз слезы и вытерла свой лиловатый нос большим платком. Рядом с вытянутым судьей особенно заметными делались бусины глаз, кружок рта, округлость всех членов и форм, как у русской старушки, моющей окна в православной церкви, которая на склоне лет сподобилась предоставить в своем доме на Русском подворье убежище и поделиться куском хлеба со своим бывшим помещиком, дворянином, бежавшим от смертной угрозы, и как сама Россия-матушка сидела под вечер на завалинке у двери и вздыхала в ответ на молчание нищего аристократа. Так вот и Пнина тайком проливала слезу за слезой и пыталась спрятать их в гримасах улыбок в продолжение всего рассказа старого судьи о первом случае в его жизни, когда он собственными глазами наблюдал закон в действии и когда твердо решил заняться его изучением.
— Вы и не знаете, насколько Иегуда Проспер, мир его праху, да почиет он в раю, был добр и сколько добра творил он втайне, — сказала она судье, вернув платок в кармашек своего фартука, а тот бросил на нее испытующий взгляд, пытаясь выяснить, какова связь тайной доброты его покойного приятеля с телом повешенного, извергшего живое семя в тот самый миг, когда его покинула душа.
То был не удивленный взгляд, ибо давно уже перестали удивлять его какие-либо проявления человеческой натуры, но и не сердитый или оскорбленный взгляд человека, обнаружившего, что только что произнесенные им речи прошли мимо заросших ушей собеседника; это был взгляд того, кто высвободился из пут собственных мыслей, в которых пребывал долгое время, и озирает внешний мир, дабы постичь его связи в данный момент времени, и эта проверка или, быть может, проснувшееся в нем стремление исследовать связи внешнего мира на мгновение создало живую взаимосвязь между лицом судьи и исходящим из его рта голосом, отмеченную почти милой улыбкой, когда он обнаружил, чем отозвались его слова в душе слушательницы.
— После того, как ночью в Лифте[47] был убит отец сеньора Моиза и убийцы из Лифты завладели всеми его деньгами, Иегуда Проспер, светлая память праведнику, пожалел мальчика-сироту, забрал его в свой дом и сделался ему отцом, настоящим отцом, оставившим ему в наследство собственные деньги. И это только малая часть всего доброго, милостивого и милосердного, что совершал он втайне, без того, чтобы кто-нибудь в целом свете слыхал об этом хоть краем уха… Словно один из тридцати шести! Послушайте, что я вам скажу: верно, сам он был одним из тридцати шести![48]
Громкие и веселые раскаты смеха госпожи Джентилы, донесшиеся вдруг из запертой комнаты за спиною судьи и следовавшие один за другим в нарастающем темпе, все же смогли вызвать на его лице неожиданные морщинки веселости и почти радостную улыбку на устах. Сама идея о том, что Иегуда Проспер состоит в числе тридцати шести праведников, до такой степени рассмешила хозяйку дома, распростертую на постели в ожидании душевного состояния, подходящего для приема незваного гостя, а также — желания и сил, необходимых для приличествующей случаю перемены одеяния, и все время, проведенное в тайнике собственной комнаты, слышавшую слово в слово произносимое на балконе, воспринимая это будто поток, параллельный потоку многообразных ее чувств, и не отдавая ни одному из них предпочтения, сама эта идея настолько развеселила ее, что она заливисто рассмеялась, встала, открыла дверь и присоединилась к разговору как была, не потрудившись переодеться, ибо под наплывом подходящего настроения перестала обращать внимание на внешние церемонии. Действительно, ее редкие и преходящие приступы веселости в корне меняли ее естество, возвращая всем ее чертам юношеское кипение, способное затушевать признаки возраста более, нежели любые ухищрения нарядов, и увлечь за собою окружающих.
— И правда, Дан, скажу я вам, слыхали ль вы что-нибудь подобное? Счастье Шолом-Алейхему, что Пнина не записывает в книгу все жемчужины, сыплющиеся из ее рта. Вообразите, что все эти годы я по ошибке жила с одним из ламед-вовников! Я-то просила себе турецкого господина из имперской знати и местных благородных семейств, а нашла праведника, спрятавшегося под красной феской! Вот ведь какая неудачная сделка всей жизни! Что за досада, что за бестолковщина, что за разочарование!
— Это напоминает мне один чудесный мидраш, — сказал судья, и при этих словах веселость хозяйки растаяла и она помрачнела.
— Сделайте доброе дело — не начинайте рассказывать мне мидраши! — прервала она его. — Эти проклятые мидраши сгубили моего папу. Эти извилистые комментарии, высосанная из пальца казуистика, все эти ухищрения еврейских кривых мозгов, которые я ненавижу. Мой бедный папа, несмотря на все недоплаты, проволочки и вопиющие несправедливости, которые учиняли над ним эти святоши, до последнего своего дня жил с чувством, что не эти ханжи-паразиты, раввины, старосты и прочие торговцы святостью должны ему заплатить за то, что он всю свою жизнь положил на их аронот-кодеш, а наоборот — он у них в неоплатном долгу за то, что изволили пичкать его словами Торы, за каждый из этих сладких, как мед и нектар в сотах, мидрашей, которыми они обмазывали каждую учиненную над ним несправедливость, за великую честь, оказанную ему тем, что позволяли ему задаром делать для них аронот-кодеш. Так же как тайный ламед-вовник Иегуда Проспер-бек был падок на женщин, так мой папа был падок на мидраши. Это было его единственное наслаждение в жизни — слушать мидраши и делать аронот-кодеш.
Судья, испортивший ей настроение одним-единственным словом «мидраш», оброненным, словно капля чернил в блюдечко чистой воды, тут же похоронил в себе воспоминание о чудесном мидраше и вернулся к рассуждениям о Иегуде Проспере, но ввиду внезапного переворота в настроении хозяйки все его дальнейшие слова были для нее как капли, поднимающие со дна блюдца застарелые подозрения, очнувшиеся от спячки в укромном месте и начинающие бродить, наполняя блюдце мутью и бульканьем пузырей.
— Один из тридцати шести, — сказал судья, — не думаю, что сам Иегуда Проспер получил бы большое удовольствие от такого комплимента. Напротив — его восхищал учитель наш Моисей, тот самый Моисей, что в начале своего пути поразил египтянина, этого мелкого злодея, а в конце — самого фараона, главу всех злодеев, не скрытно, не тайно, но «рукою твердою и мышцей простертою и великими чудесами», открытыми всему миру. Человек, который громом и шумом и «трубным гласом весьма сильным» превратил толпу рабов и сборище черни в избранный народ.
— А я как раз думаю, что Пнина права. Кому как не ей знать, какие-такие добрые дела творил он с ней в тайне при жизни, а уж посмертно и того более, ведь отчего же ее доля вычтена из доли сеньора Моиза?
Капля горечи, замутившая блюдце и взбаламутившая его содержимое, окислила улыбку госпожи Джентилы и превратила ее в удрученную старуху. Подозрение, что Пнина тайком проникла в наследство старика и почерпнула оттуда для себя изрядную долю, пробудившееся от долгой спячки, вновь стало нарастать, постепенно превращаясь в кошмарную уверенность, что эта старая святоша получила-таки львиную долю наследства старого турка.
Вопреки горечи, охватившей хозяйку дома и отравившей ее улыбку, голос и речи, внезапно, впервые с того момента, как он уселся в красное кресло своего покойного приятеля, на лице судьи расцвела самая настоящая улыбка. Но при всем том улыбчивое выражение его лица оставалось в замкнутом круге человека, радующегося сам с собой собственной заветной шутке, не имеющей никакого отношения к окружающим.
— Да-да, вы правы. Пнина права. Праведник — основа мира[49]… возможно, Иегуда Проспер все же радуется комплименту. Когда мы наблюдали, как вешают ибн Масрура, Иегуда Проспер сказал о праведнике, что он — основа мира, но тогда я еще не понял его слов. После того как приговор был приведен в исполнение, служащий турецкого суда вынес движимое имущество повешенного на аукционную распродажу. Среди всех тряпок и лохмотьев, разложенных на мостовой, нашелся один-единственный ценный предмет, привлекший взгляды всей толпы, — тот самый кинжал, которым повешенный убил свою жертву, но никто не откликнулся на символическую начальную цену, которую глашатай дважды объявил своим громовым голосом, постепенно нарастающим и обрывающимся внезапно, как дробь шофара[50]. И что еще удивительнее — никто не протянул руку потрогать выставленную на продажу шабрию, чтобы проверить ее, как было принято в те времена.
Пронесся слух, что проклятье тяготеет над этой шабрией, ранее принадлежавшей самому убитому Махмуду-эфенди, который и продал ее своему будущему убийце, и что всех прежних владельцев этой проклятой шабрии, так же как и двух последних, смерть настигала внезапно и при странных и нехороших обстоятельствах. Мне помнится, как внезапно толпа разделилась надвое, освобождая проход для Иегуды-бека, который медленно и с великим достоинством вышагивал между двух стен молчаливо впившихся в него глаз в сторону глашатая, стоявшего по другую сторону и мышцей простертою протягивавшего ему кинжал[51]. Бакшиш, который он дал глашатаю, был больше объявленной начальной цены, и когда он стал возвращаться на свое место шагами царя, явившегося во всем своем великолепии, с шабрией, заткнутой за пояс, толпа зевак расступилась еще шире, издав глухой вздох, словно зрители в цирке в тот момент, когда укротитель кладет голову в пасть льва.
— Дошлый был купец, — сказала госпожа Джентила. — Хитрый как змей.
И снова глаза Пнины увлажнились и начали тайком ронять слезу за слезой, и все лицо ее сморщилось в какой-то странной, извиняющейся улыбке.
— Да, да, — вздохнула она, — он был сильный, железный человек… герой был — и слабее мухи.
В последний момент я быстро отпрянул, резко мотнув головой, и отскочил к крану на другой стороне двора. Гнет в груди, спертое дыхание и сухость в горле обрушились на меня мгновенно, вместе с осознанием того, что я должен немедленно вернуть шабрию на ее место на подвальном полу, между шарманкой и складной кроватью. Но пока я пил, мне стала ясна вся невозможность этого — ведь судья, и домовладелица, и сестра ее Пнина, все сидят посреди балкона, рядом с лестницей, ведущей в подвал, а ведь у меня нет права входить в него, кроме того времени, когда от меня требуется помочь хозяйке дома тащить складную кровать снизу вверх или наоборот. Мне ничего не остается делать, как отложить возвращение проклятого кинжала до полуночи, и хотя до тех пор оставалось еще много часов, я обогнул балкон и пробрался к себе через заднюю дверь, чтобы проверить, находится ли он по-прежнему на дне ящика стола. Каким бы невероятным и необоснованным по своей сути это ни показалось, тем не менее факт, что удушье, напавшее на меня при ясном осознании обязанности вернуть шабрию на место, не сопровождалось страхом перед тяготеющим над кинжалом проклятием и было вызвано озарением, что я должен вернуть пропажу владельцам. Это озарение проистекало из ощущения, что в тот момент, когда я поднял кинжал с сырого подвального пола и засунул его в тепло своего кармана, я ворвался в чужой мир, и при виде старика, объявляющего перед всем городом войну дьявольскому проклятию, это ощущение несоизмеримо усилилось и стало чувством греха, словно я незаконно вломился в Святая Святых.
Ночью я верну этот кинжал на место, а на следующий день спущусь к хозяйке дома и попрошу продать мне старинный кинжал, валяющийся, как никому не нужная рухлядь, как разбитый идол, на дне подвала, чтобы он стал моим по праву, при свете дня и по закону, явному для всех, как принято было у старика — ибо он действовал рукою сильной и мышцей простертой.
«Он был сильный, железный человек, герой был — и слабее мухи» — эти слова кругленькой Пнины всплыли в моей памяти, когда я достал маленький, длиной в гомед[52], кинжал со дна ящика, и его холодное прикосновение к моей ладони сопровождалось запахом сырого позеленевшего металла и внезапно поразило меня смутным изумлением, вроде того, что захлестнуло меня при виде судьи, сидевшего в кресле старика, но, тем не менее, отличавшееся от него, если можно так выразиться, оттенком света и голосов, бродивших в зачарованном чертоге.
Сейчас — в какой-то прозрачной зелени с голосами, резонирующими, словно в длинном коридоре, находящемся не в каком-либо строении, а в лесу, где проникшие сквозь ветви и пойманные в их сети лучи света расходятся во все стороны и окрашивают чертог изнутри во всевозможные оттенки зелени. Ощущение загадки этого смутного изумления не сопровождалось затруднением и неудобством, всегда связанными с поисками разгадки, наоборот, само удивление перед загадкой полнилось чудной прелестью, очень близкой и совершенно чужой и странной одновременно, как мелодия, доносящаяся издалека и пробуждающая забытые тонкие струны древних, давно ушедших страстей, как усики растений, оплетающих слова «сильный был, железный человек — и слабее мухи». С сознанием того, что его уже нет, а этот кинжал все еще существует, и параллельно с этим сознанием я пребывал в некой прозрачной уверенности, душистой, как порыв ветра весенним днем в Иудейских горах, чудесной в своей тонкой пряности, как игристое вино, что этот маленький кинжал, чья длина не превышает человеческого предплечья с кистью, этот обычный кусок железа, безмолвный, холодный, беспомощный и бесполезный, был не в силах положить конец ни жизни старика и его размышлениям об учителе нашем Моисее, ни жизни Махмуда-эфенди и его великой любви, как не под силу его ударам чем-либо повредить водам мощного потока и как никогда не сможет он положить конец тому лесу грез, в котором я блуждаю, со всем избытком его страстей, воспоминаний, надежд, привязанностей, томления и тоски, со всей благодатью картин и мелодий, подобных океану, который не истребят удары всех кинжалов и мечей и уколы всех копий на свете.
Снаружи раздался скрип красного кресла, когда судья поднялся, завершая свой визит и собираясь направиться к машине, ждавшей его у ворот, и этот глухой стон старого дерева сразу уничтожил зеленый чертог, растаявший вместе с дивными своими чувствами. Я возвратил кинжал на место на дне ящика, под тетрадями и учебниками, и подивился странным идеям, которые меня иногда захватывают. Ведь старик-то умер на собственной постели в глубокой старости, а этот кинжал, если это действительно тот кинжал, который старик купил тридцать лет назад на аукционной распродаже имущества повешенного ибн Масрура (да ведь и это завиральная идея: сама госпожа Джентила, его жена, засвидетельствовала о нем, что был он «дошлый купец, хитрый как змей» и нарочно распространил слухи о тяготеющем над кинжалом проклятии, чтобы купить его за бесценок и через некоторое время продать за изрядные деньги; к тому же за тридцать лет, прошедших с тех пор, в его подвале побывали десятки и сотни сабель, и шабрий, и прочего оружия, которое он получал в залог от своих арабских должников, и этот кинжал, случайно попавший мне в руки, наверняка один из самых последних), даже и тогда этот кинжал убил не Иегуду Проспер-бека, а вифлеемского господина, того самого, затерявшегося во времени Махмуда-эфенди, в чьих глазах туманился лишь образ его желанной возлюбленной на фоне млечных языков пара, ползущих над белесовато-голубыми озерами в оврагах рассветного пути из Вифлеема в Иудею навстречу граду Евусу[53], последнего его пути, по которому пошел он и не вернулся.
Меж двух заветов
Пока я писал эти строки, мне вспомнилось, как доктор Блюм, аптекарь, однажды рассказывал что-то о сыне вифлеемского эфенди, убитого в расцвете его любви, о Дауде ибн Махмуде. А может, и не о нем говорилось тогда, а об арабском шофере старого судьи, которого также звали Дауд ибн Махмуд и которому также предстояло быть убитым. Вместе с тем вероятно и то, что шофер Дауд ибн Махмуд и есть сын вифлеемского эфенди, убитого в расцвете любви.
Если бы я знал, где найти аптекаря моих детских лет, я бы отправился к нему, чтобы выяснить это, но с тех пор, как много лет назад я случайно встретил его в кафе «Атара», я больше уже ни разу не видал его до сего дня, когда и пишу эти строки. Не знаю, что выпало ему на долю в минувшие с той поры годы и жив ли он еще. По крайней мере, если говорить о возрасте, нет ни малейшей причины, чтобы он не был жив и не продолжал действовать с характерной для него подвижностью мысли. Ведь тогда, когда вернулся он из Бейрута и открыл аптеку, ему не минуло и сорока, а с тех пор до сего дня прошло не больше тридцати лет. Отсюда следует, что если он все еще жив, то не достиг даже границы семидесятилетия. Возможно, все эти годы, прошедшие со дня нашей последней встречи, он был вынужден, в силу своих занятий, заметать следы или даже тайно скрыться из страны, так же как равно не исключена и возможность того, что он обратился к другим занятиям, что все эти годы он пребывает среди нас и вращается в собственных сферах, не пересекающихся с моими, а посему, может статься, в один из дней возникнет передо мною внезапно на углу улицы, словно выходящее из темноты воспоминание. Я всегда чувствовал, встречаясь не только с людьми, но и с домами, деревьями, переулками, улицами, запахами и картинами, нечто присущее приходу воспоминаний. Как те, так и другие существуют и проживают свои жизни в течение всех долгих лет, когда находятся вне круга нашей жизни, в связи с чем считаются для нас мертвыми, будучи чужими, не принадлежащими нашему миру. Внезапно при соприкосновении их реальности с нашей они встают перед нами, как Лазарь, восставший из мертвых, чтобы доказать: их смерть была для нас не чем иным, как результатом сужения снопа света от фонаря, освещающего лишь часть бренного пути, по которому бредем мы посреди великого и широкого поля, целиком лежащего вовне, из-за завесы тьмы, отчуждающей его просторы от области нашего зрения даже тогда, когда бездны его разверсты внутри нас самих.
Его я с тех пор не видел, но вместо него прямо у моего подъезда из-под земли вырос другой цветок из цветника Гавриэлева отрочества — доктор Шошан[54]. Подойдя к двери, чтобы открыть ее при звуке обычного звонка, я был потрясен при виде человека, стоявшего у входа, словно воплощение смутного детского воспоминания: он стоял передо мной, держа в руке книгу, — тот, кто был в годы моего детства библиотекарем в библиотеке Бней-Брит. Вот уже тридцать лет не видал я маленького библиотекаря, рассыпавшего из раскосых китайских глаз искры сквозь толстые стекла очков, да и не много думал о нем все то время, что он находился вне поля моего зрения. Далекие годы моего детства, существующие ныне лишь во снах, изредка приходящих ко мне, или в посещающих меня мыслях, ожили во плоти при виде этого маленького очкарика, стоявшего в дверях, словно все эти годы постоянно существуют в реальности материального мира, но в ином месте, придающем им иной смысл. Человек — все тот же, но смысл его изменился, и не только из-за тридцати лет, между делом добавленных ему. Он не узнал меня, конечно, ведь в то время я был лишь одним из сотен, а может, и тысяч детей, приходивших к нему получать книги. Во времени, бегущем вперед, память бежит назад, и маленькие помнят старших, предшествовавших им, но большие не помнят младших, которые придут за ними.
Несмотря на добавленные ему между делом тридцать лет, он выглядел сейчас не только более ухоженным и отутюженным в своем костюме, но и более основательным и энергичным, и это несмотря на смертельную болезнь, поселившуюся в его организме в последние годы. Энергичность его облика сошла на нет, как только он начал говорить и остался с открытым от недостатка воздуха ртом, как рыба, бьющаяся на суше от отсутствия воды. Каждый новый поток речи начинался с новым притоком оптимизма от преодоления удушья и рассыпался в приступе кашля, завершавшегося в платке, который всегда был наготове, чтобы принять мокроту. Он пришел предложить мне заказ на перевод. Не просто перевод, но перевод книги, которую держал в руке, — истории жизни Кальвина, написанной в оригинале по-французски и переведенной на английский язык при поддержке Всемирного центра кальвинистских общин, рассеянных по всей земле. Ко мне он попал благодаря ошибке со своим собственным новым адресом. Месяц назад он, его жена, сын и их собака переселились в соседний с нашим дом, и поскольку два этих дома стоят один за другим и подъезды их очень похожи один на другой, он по ошибке вошел в наш. Войдя, он почувствовал какое-то отличие и, чтобы избавиться от сомнений, решил взглянуть на имена жильцов на почтовых ящиках и отыскать свое имя. Если он найдет свое имя — доктор Шошан, значит он не заблудился и попал в свой дом. Имени доктора Шошана он не нашел, но вместо него нашел мое. Когда это имя мелькнуло у него перед глазами, он вспомнил, что однажды ему попалась в руки книжка о дзенской мудрости, переведенная на иврит носителем того же имени, и если я действительно тот, кто перевел ту книгу на язык Евера, то нет ни малейшей причины, почему бы мне не перевести на иврит историю жизни Кальвина, гораздо более важного для всего мира и для еврейского мира в частности, чем Бодхидхарма, распространивший учение дзен на Востоке, тем более что вместе с духовной пользой, которую доставит мне перевод этой книги, я могу рассчитывать на хорошую оплату в материальном мире от Всемирного центра кальвинистских общин, коего он, доктор Шошан, является генеральным секретарем.
— Да-да, я тот, кто перевел книгу про дзен на иврит, — сказал я ему и собирался обрадовать его еще больше и рассказать, что я помню его с тех давних пор, когда он еще служил в библиотеке Бней-Брит, но тут его голос снова сел, дыхание прервалось, и он прикрыл рот платком.
Поэтому вместо воспоминаний я поспешил предложить ему выпить чего-нибудь горячего. Когда я готовил на кухне ему и себе по стакану чая, передо мной вдруг всплыл образ виденного со спины человека, энергичными шагами выходившего под вечер из лепрозория. Все небо к западу было оранжевым, словно живая мякоть апельсина, в которой терялся черный силуэт врача (ибо, совсем не задумываясь, я считал его врачом этого заведения, пока не услышал рассказа о нем), маленький, удаляющийся по дорожке вдоль каменной ограды к шоссе, поднимающемуся в сторону площади Саламе. Годами местом сбора нашего батальона резервистов служила база Стоун напротив лепрозория. В последнее время, после того как больных перевели оттуда в другой дом, не знаю, куда именно, и это место осталось пустовать до тех пор, пока не будет воздвигнуто на нем, как гласила о том деревянная табличка на воротах ограды, новое здание больницы «Врата справедливости», в высокой каменной ограде, по всему периметру окружавшей рощу, открылись проломы, и наш батальон стал собираться в роще, среди тех древних сосен, в тени которых на протяжении долгих лет прогуливались прокаженные. Но в тот вечер высокая ограда еще защищала дом прокаженных от любых посторонних веяний, и проломов в ней не было, а мы собирались на базе Стоун напротив. В тот вечер, как и при всех явках, повестках, обычных тренировочных сборах и репетициях срочной мобилизации, замкнутый и безразличный ко всему, я мечтал лишь о том, чтобы время, приковывающее меня к армейским неприятностям, пролетело как можно быстрее и я смог бы опять погрузиться в лучший из снов привычной летней спячки, где все мы пребываем в своих оковах и путах, — в сон о свободе.
Как и следовало, конечно, предполагать, и как всегда на всех сборах, время тянулось бесконечно посреди бессмысленной серости внешней активности. Но совсем неожиданно из этой протяженности времени выпало мгновение, в которое неизвестный человек вышел из ворот лепрозория. Это мгновение предстало передо мною видением оранжевых закатных небес, в которые было погружено все: и каменная ограда, и кроны деревьев за нею, и дорожка, и черная человеческая фигура в просторном, странном и чудесном покое, повисшем и застывшем, существующем самостоятельно и неизменно, вне бега времени, словно картина в музее, к которой в один прекрасный день можно возвратиться и найти ее такой же, какой она вышла из рук художника, и не опасаться, что с бегом мгновений в нарисованном на ней закатном пейзаже произошли перемены, может быть, солнце тем временем успело закатиться окончательно и небо почернело, или развалилась ограда и камни ее растащили, или человек, бредущий по дорожке, добрался до шоссе и исчез за углом. Странный, чудесным образом умиротворяющий и возвышающий душу вкус уверенности в том, что к этому оранжевому мгновению широко раскинувшегося заката, выключенного из бега времени, можно возвратиться, как к картине, висящей в музее, или в какое-то место, где ты уже однажды побывал, я продолжал ощущать и вернувшись на круг этого бега, когда маленькая черная фигурка скрылась за поворотом.
— Ты наверняка его знаешь, — сказал мне один из однополчан, стоявший рядом и, как видно, заметивший мой продолжительный взгляд в том направлении.
Когда я высказал предположение, что это один из врачей, он улыбнулся и сказал, что это не врач, а священник, и не просто священник, а еврейский христианский священник. Откуда ему это известно? А дело было так: некоторое время назад он прочел в газете объявление, в котором больница имени Хансона обращалась к читателям с просьбой пожертвовать книги для больных. Он собрал несколько книг из своей библиотеки, не являвшихся ни книгами по экономике, ни книгами по статистике, то есть те книги, в которых он не нуждался по работе, и принес их в больницу. Сестра, встретившая его, была шведской монашкой и не говорила на иврите, но при виде книг сообразила, в чем дело, и провела его к священнику, ответственному за душевное благополучие больных, сказав этому священнику несколько слов на их языке. Тот ответил ей и, просматривая полученные книги, обернулся к нему и стал, к его изумлению, благодарить его на чистейшем иврите. Пожертвованные им книги были в большинстве своем переводами романов — английских, американских, французских и русских, и среди них затесался также перевод книги про дзен, немедленно привлекший внимание этого священника, пекшегося о прокаженных в среде братьев наших — сынов Израиля — и говорившего на иврите лучше любого из них.
Полистав книжку и бросив несколько замечаний о сходстве верований Дальнего Востока и христианства, священник заметил изумление жертвователя и, не дожидаясь вопросов, поведал ему, что он еврей и уроженец Старого города. В детстве он учился в начальной йешиве реб Аврэмле, а потом в йешиве рава Кука[55] и остался таким же евреем, как и был, и единственной произошедшей в нем переменой было то, что он прозрел и ему открылась правда об истинном нашем мессии Йешуа из Назарета.
Мне Йешуа из Назарета представлялся человеком добросердечным и сострадательным ко всякому страждущему и болящему, желавшим блага каждому человеку и стремившимся спасти всех угнетенных и отверженных, униженных и оскорбленных, как о том написано в книге Нового Завета — единственном прочитанном мною источнике сведений о его жизни. Из написанного в этой книге я не почерпнул сколько-нибудь внятной картины его отношения к женщине и супружеской жизни, а крупицы высказываний, попадавшихся мне там, не всегда были мне по нраву, но тем не менее сердце мое прикипело любовью к этой большой душе, мятущейся и страждущей в своей великой любви и милосердии. В этой страстной любви и милосердии, в ненависти ко всяческим институциям и устоям, а в особенности к религиозным, с их чиновниками, самой своей сущностью умерщвляющими дух святости, продолжая соблюдать внешнюю форму слова Божьего, он виделся мне продолжателем древней традиции всех наших истинных пророков. Поскольку я не знаком со всеми разновидностями христианских церквей и писаниями их святых и основоположников, мне не было понятно, на чем основывают они свою связь с пророком Йешуа, тем более что всякая власть, а особенно религиозная власть на этом свете, казалась мне по сути своей противоречащей личности и смыслу жизни и смерти Йешуа. Об этом я собирался поговорить с доктором Шошаном, когда, стоя на кухне, наливал ему стакан чаю, испытывая чувство изумления перед всем происходящим и перед удивительными путями временных явлений — ведь в тот день, когда проходил тренировочный сбор, я не знал, что черный силуэт, погруженный в оранжевое, как живая мякоть апельсина, закатное небо, — силуэт библиотекаря из дней моего детства, который еще явится ко мне в один прекрасный день, благодаря ошибке в адресе собственного нового дома, не помня меня со времен своей службы в библиотеке и не зная, что силуэт его спины вписался в картину чудного мгновения моей жизни, выпадающего из потока времени.
Неся чай с кухни в комнату, я думал побеседовать с ним об этом, не только потому, что тема эта интересовала меня сама по себе с человеческой точки зрения (ведь человек по имени Йешуа интересовал меня именно как человек, так же, как интересовал меня и человек Моисей, и человек Будда, и человек Бодхидхарма, и человек Магомет, безотносительно к истинности принесенных ими в мир верований), но и потому, что полагал, что в силу своих знаний доктор Шошан будет полон горячего желания высказаться на эту тему. Но когда я вошел в комнату и уселся напротив него, наша беседа вошла в иное русло. Поскольку я начал со своих детских воспоминаний, он стал делиться со мною воспоминаниями собственного детства с живостью и со все возрастающим озорством, между приступами мучительного кашля и клокотания в груди. Непомерные переживания причиняли ему в детстве собственные пейсы, отказывавшиеся завиваться. Чем гордились в те дни мальчишки из хедера в Старом городе? Понимайте так: локонами своими, завивающимися во всем великолепии и прелести, и всякий, чьи пейсы извивисты более, достоин хвалы. У него же, как и ныне, волосы были прямые и желтые, как солома, и пейсы, спускавшиеся по прямой с обоих его висков, категорически отказывались виться, хотя он целый день, изучая Пятикнижие с комментариями Раши, завивал их пальцами с величайшим усердием. Позор прямых пейсов не оставлял его и тогда, когда он подрос и поступил в йешиву рава Кука. Начав учиться в йешиве, он узнал секрет (от кого, он уже точно не помнил, но возможно, что от Гавриэля Луриа, бывшего тогда его лучшим другом), что хмельной напиток, именуемый светлым пивом, способен завивать волосы. Каким же это образом? Кончики пальцев окунают в блюдце и, пока с них стекает пиво, завивают ими непокорные локоны. И хотя так он и делал три раза в день, утром, днем и вечером, но и пиво ему не помогло, за великие его грехи, и не смогло перевоспитать его белобрысые пейсы.
Излагая свои воспоминания, он посмеивался над всеми глупостями, которые огорчали его в детстве, и смех его, отблескивавший ребячливой шаловливостью и придававший детское выражение лицу стареющего человека (как на фотографии, где два снимка — мальчишки и старика — оказались снятыми на один кадр, один поверх другого, и в один момент она выглядит фотографией старика, превратившегося в мальчишку, а в следующий — снимком внезапно постаревшего мальчишки), этот его смех прерывало клокотание удушья с приступами кашля, захлебывавшееся в платке и стиравшее с изможденного, краснеющего и бледнеющего попеременно лица черты детства с его веселостью и озорством.
Он сам рассказал мне (а я знал об этом уже от статистика, пожертвовавшего книги для библиотеки), что два года назад в процессе тяжелой, сложной и опасной операции в Амстердаме ему удалили одно из легких, в котором развилась злокачественная опухоль. Теперь у него оставалось только одно легкое, и вот до него тоже добрался неизлечимый недуг. Так же как перед той операцией он знал, на что идет, так и теперь знал, что означают приступы удушья и кровохарканья, и тем не менее, как только ему легчало после этих приступов, улыбка возвращалась на его лицо, и он снова объяснял мне, что его состояние улучшается и что за две-три недели он окончательно излечится от «этой проклятой простуды», причем делал он это в искренней и полной вере, отчетливой не менее, чем знание, что дни его сочтены.
Но и когда ему легчало, его задыхающийся хриплый голос размягченно пришепетывал, словно пытаясь подсластить заветную тайну, и пальцы рук, возвращавших платок в карман, сжимали маленькую книжечку, которую требовалось перевести на иврит, словно пальцы оперной певицы, сцепленные будто бы в трепете мольбы вокруг свечи, освещающей ей путь во мрак темницы, в которую она безвинно отправляется, в то время как на самом деле старательное сцепление мышц рук и груди помогает ее горловым мышцам достичь верхних нот. Но в отличие от этой певицы его руки были сплетены неосознанно и безо всякого театрального умысла и если и помогали ему извлечь что-либо из сжатого горла, то это был голос, не способный вызвать своими звуками наслаждений. Уже и в лице его стали заметны признаки усталости, и он вернулся к вопросу о переводе. У меня не было тогда ни времени, ни желания переводить биографию Кальвина на иврит, и он не пытался открыто уговаривать или торопить меня. Он только передал мне книгу, чтобы я почитал ее в свободное время и высказал ему свое мнение после прочтения.
— У нас есть время, — сказал он мне, уходя, — и ничто нас не подгоняет.
Выйдя проводить доктора Шошана, я услышал, как мальчик, несущий под мышкой скрипку, шепчет своему товарищу по музыкальной академии:
— Видишь? Это миссионер.
Как мог я, мальчишка, бежавший по Абиссинской улице с книжкой в руке, чтобы обменять ее в библиотеке Бней-Брит, вообразить себе, что человек, казавшийся неотъемлемой частью библиотеки, так же, как запах старинного дерева ее полок и как ее читальный зал, что этот маленький очкастый библиотекарь, словно созданный быть библиотекарем, и не просто каким-то там библиотекарем, но библиотекарем именно этой единственной библиотеки, что этому самому человеку предстоит выглядеть прирожденным миссионером в глазах других мальчишек, другого поколения, с другой улицы, в другие дни нашего времени? Не было ни малейших оснований подозревать этого мальчика в том, что он получил дома какое-либо религиозное воспитание, ведь это был сын того самого статистика, рационалиста, для которого праздники и субботы наступали только для того, чтобы посадить жену и сыновей в машину и отправиться на прогулку. В этом он не отличался от всех детей этой улицы, учившихся с ним вместе в школе, где его мать была директрисой, потому весьма удивительно, от кого мог он научиться опасаться миссионера. Не знаю, понимал ли мальчик точный смысл слова, которое он сообщил товарищу, и в чем особенность называемого этим словом человека, но по его взгляду и тону голоса без всякого сомнения было ясно, что мальчик чувствовал: тот, кому душа дорога, пусть держится от миссионеров подальше.
Мальчик со скрипкой прошел мимо нас вместе со своим товарищем, и, к моему облегчению, доктор Шошан не обратил внимания ни на него, ни на его замечание, которое могло, как мне тогда казалось, задеть больного. Насколько я ошибался в этом своем чувстве, я убедился уже на следующий день, когда снова встретил доктора Шошана, выходя за калитку нашего дома, и он присоединился ко мне и стал в разговоре с заметным удовлетворением предаваться воспоминаниям обо всех тяжких поношениях и оскорблениях и всех великих испытаниях, которые он вынес и претерпел на своем веку во имя своего спасителя. На этот раз его речь не прерывали приступы кашля и удушья, и казалось, что он был прав, когда накануне объяснял мне, что состояние его улучшается и что он должен выздороветь от «этой проклятой простуды», хотя благоприятные перемены все еще не коснулись его голоса, остававшегося глухим, севшим и пришепетывающим. В своем сшитом по мерке и тщательно отутюженном костюме, осанистый и с бодрой походкой, он больше напоминал преуспевающего английского бизнесмена, служившего в молодости офицером в армии Его Величества, чем носителя веры, служившего в молодости в библиотеке Бней-Брит. Улучшение его физического состояния, ясная погода и хорошее настроение объединились, как видно, чтобы разомкнуть оковы забвения и вывести ему на обозрение образы воспоминаний, способных взбудоражить вспоминающего картинами прежних дней, в которых действует он сам, единственный и неповторимый, несущий в сердце своем пламя истинной веры, вопреки темной толпе, невежественной и жестокой, презирающей его, глумящейся над ним и готовой его растерзать. Ведь именно это и произошло с ним несколько лет назад, после того как он прочел объявление о большом митинге протеста против миссионеров, назначенном в центральной синагоге квартала Зихрон Моше. Он, конечно, знал, что, придя на этот митинг, уподобится Даниилу, входящему во львиный ров, но ожидающая его опасность не освобождала от исполнения долга, призывавшего защитить апостолов истинной веры, и ему ни на миг не приходило в голову уклониться от него. Как только узрели его собравшиеся в синагоге, так немедленно, не дав ему и пикнуть, начали плевать ему в лицо, оскорблять и поносить его имя и даже поднимать на него руки, норовя ударить для верности в обе щеки, как в правую, так и в левую, сбить с носа очки и разорвать пиджак. После того как очки были сбиты и растоптаны грубыми ногами вплоть до превращения линз в стеклянную пыль, он уже не видел ничего и никого и не мог пробраться к выходу, так что не найдись там один сердобольный христианин, который помог ему спастись от бесчинствующей толпы и выскочить на улицу, кто знает, каким был бы его конец… И кто же более всех прочих клял его и ругался над ним? Понимайте так: как раз реб Ицхок, в детстве учившийся вместе с ним в хедере реб Авремле, тот самый дурак набитый Ицик, который и в детстве был бестолковым, и с годами не поумнел, тот самый невежда и тупица, до сего дня не умеющий разобрать простейший лист Гемары[56]. Да и как можно требовать от человека, который в жизни не смог одолеть главы Пятикнижия с комментариями Раши и не понимает смысл слов в молитвеннике, чтобы тот открыл Гемару и разобрал в ней простейшую проблему?
— Но, в сущности, — продолжает доктор Шошан своим глухим слабым голосом, — нет ничего удивительного в том, что именно он проявил такой крайний воинственный фанатизм, ведь для того чтобы быть настоящим фанатиком, неважно чего — коммунизма, капитализма, буддизма, правого и левого крыла «Тружеников Сиона», психоанализа или Шулхан-аруха[57] — человек должен обладать изрядной долей тупости, если не сердечной, то хотя бы умственной.
Этот тупица и после того, как он вырвался из синагоги, продолжал плевать в его сторону и выкрикивать поношения. Там оказался доктор Морнинг-Роуз, американец и один из пастырей пресвитерианской общины, его добрый приятель еще со времен теологической семинарии, который собирался немедленно вызвать посла Соединенных Штатов, устроить страшный шум в Израиле и в Америке и отдать под суд реб Ицхока и прочих бесчинствовавших преступников, но он, доктор Шошан, умолил его этого не делать, оставить их в покое и обо всем позабыть.
Доктор Шошан украдкой бросил на меня взгляд сбоку, сквозь очки, чтобы проверить, какое впечатление произвела на меня эта история Даниила в современном львином рву, и я ответил изумленным взглядом этому человеку, носившему свой близкий конец в единственном оставшемся легком, хотя в душе удивлялся не жутким львам, растерзавшим его очки и даже наградившим его порцией пощечин, не самому Даниилу, обнаружившему в стае львов одного, учившегося с ним вместе в хедере, и еще одного с истинно христианским сердцем, но тому презрению, которое снискал у христианского миссионера реб Ицхок, еврейский страж города, тем, что был неспособен одолеть лист Гемары.
Презрение это не было исключительным достоянием невежественных праведников вроде реб Ицхока. Упомянув своего приятеля, доктора Морнинг-Роуза, собиравшегося вызвать ему на помощь правительство Соединенных Штатов, доктор Шошан добавил с оттенком снисходительности:
— Добросердечный человек, но невежда и неуч, каких свет не видывал. Не могу понять, как мог Американский пресвитерианский конгресс послать в Святую Землю человека, который в жизни не читал «Institutio Christianii Religioni» в оригинале и не понимает, в чем различие между святым Августином и Фомой Аквинским в вопросе предестинации и в чем величие вклада Кальвина в этот вопрос.
Как только из его уст вышло «величие вклада Кальвина в вопрос предестинации», его жена вышла из двери их дома — и вот она, жена крупная и в теле, каковое отнюдь не распределено сообразно прелести женской фигуры, а сосредоточено в тучности своей на чреслах и оттуда набухает и растет вверх, абсолютно обделяя собою ягодицы и ноги, в тощей костистости осужденные нести груз всей верхней плоти. Эта вопиющая несправедливость вызвала в моей памяти сцену из детских лет, когда поджарый арабский носильщик втаскивал на своей спине жирного и пухлого эфенди в глазную клинику Ландау. Как и тот иссохший носильщик, тонкие ноги госпожи Шошан на деле доказали силу и доблесть, достаточные, чтобы вынести ярмо взваленной на них высоко вознесшейся тучной несправедливости. Красноватое лицо ее в обрамлении желтых, потускневших волос оставалось спокойным и безразличным на протяжении разговора, произошедшего между нею и мужем на голландском языке и вызвавшего в нем сердитое кипение, вновь приведшее к клекоту надвигающегося удушья в охрипшем голосе. Лица обоих отливали краснотой, словно какие-то водоемы, залитые светом заходящего солнца, только водоем ее лица расстилался над бездной покоя, в то время как его представлял собою не что иное, как тонкую пленку, едва прикрывающую бушующие недра. В их речи, чье звучание, знакомое моему слуху, одновременно близкое и далекое, словно диалект идиша, который я, казалось, должен был понять, когда бы слова не перепутались между собой, все время всплывало имя Эртеля — крупнейшего еврейского богача. Поскольку я отродясь не видывал ни его самого, ни даже какой-либо его фотографии, мне неизвестно, как выглядит этот богач, но его имя, слетевшее с уст госпожи Шошан, снова вызвало в моей памяти спину человека, энергичными шагами выходящего из ворот больницы в вечер тренировочного сбора нашего подразделения, и случайный разговор с тем самым статистиком-экономистом, в котором он поведал мне, что удаляющийся вдоль ограды и поглощаемый оранжевым закатным небом силуэт принадлежит не кому иному, как еврейскому миссионеру. Когда силуэт исчез за углом и не осталось ничего, кроме высокой и длинной ограды, я сказал этому экономисту, что каменные ограды всегда пользовались моей любовью и жаль, что сейчас перестали строить подобные ограды вокруг домов. На это он ответил мне, что речь идет об экономическом явлении, обусловленном временем. В наше время постройка каменной стены стоит больших денег, и только настоящие богачи, готовые к тому же растрачивать свои деньги на вещи, не сулящие выгоды, идут на это, вроде, например, миллионера Эртеля. Каменная ограда окружала всю площадь эртелевского сада, вместе со спрятанными в нем бассейном, танцевальной площадкой, ажурной беседкой и прочими прелестями. Благодаря ее высоте и длине, большей, чем у той, что окружала больничную рощу, одна эта ограда стоила Эртелю несколько сот тысяч, согласно простым подсчетам на основе стоимости погонного метра каменной стены. Я, никогда не думавший о погонных метрах при виде каменной стены, не могу об этом судить, но полагаюсь на этого экономиста, в денежных вопросах знающего, что говорит.
Имя богача, слетевшее с уст жены, и вызвало гневные содрогания на лице доктора Шошана. Когда та отправилась дальше, он пробормотал голосом, дрожащим одновременно от старости, болезни и ярости: «Эртель, Эртель, Эртель». А слегка успокоившись, сказал мне, что сейчас, когда, как я вижу, его жена отправилась в гости к своей подруге, госпоже Эртель, ему уже нечего спешить домой, и теперь он свободен и может подвезти меня на своей машине куда мне будет угодно в городе, и готов даже выехать за пределы города, если у меня есть время и желание немного прогуляться. Упоминание короткой загородной прогулки стерло с его лица остатки сердитых подергиваний, и когда мы уселись в машину, а он стал ее заводить, то сказал мне со смешком, без малейшей горечи и каких-либо признаков гнева, что у его жены есть странная черта характера: она любит богатых людей. Любовь эта, как я понял из его слов, совершенно чиста, поскольку никогда не просила она и никогда не получала от своей богатой подруги никакой выгоды и втайне не вынашивала планов когда-либо в будущем ее получить. Ведь это — платоническая любовь, если так можно выразиться. И вот сейчас она должна была сидеть дома и ждать его возвращения к ежедневному уроку Торы, а на сегодняшний урок была намечена исключительно интересная тема — подход преподобного Иоанна Дамаскина, одного из отцов раннегреческой церкви, к проблеме предестинации. Великую кушию выдвинул рабби Йоханан из Дамесека: «Господь, что добр без меры, как же назначил он от рождения некоторым из людей обрести по смерти геенну?»[58] Но поскольку позвонила госпожа Эртель и пригласила ее на чашечку чаю, мысли его жены тотчас же перепутались, и муж вместе с Иоанном Дамаскиным и геенной, уготованной грешникам, были позабыты. Достаточно этой богатой подруге (или любой другой, лишь бы у нее было изрядное состояние) только разок ей свистнуть, чтобы жена его забросила весь мир и сломя голову бросилась к ней. Ведь что может противопоставить Иоанн Дамаскин, Луис Молина или даже сам Иоанн Кальвин силе платонической любви, вызываемой в ней Мамоной! Действительно, он уже давно перестал удивляться равнодушию жены к проблемам религии. Отец ее, то есть его тесть, блаженна память святого праведника, великий человек, один из столпов современной пресвитерианской церкви, Синай и корчующий горы[59], профессор казуистики и автор нескольких сочинений, вошедших в золотой фонд реформатской церкви Нидерландов, великий сей муж однажды предостерегал его в шутку против вредного влияния собственной дочери на его, Шошана, духовное развитие:
— Береги душу свою от дщери моей Паулы! — сказал он ему тогда. — Она способна изменить твою предестинацию.
И все посмеялись этой шутке. В сущности, она не совершает грехов, и можно даже сказать о ней, что соблюдает все возложенные на нее заповеди, но все это — с полнейшим равнодушием, настолько всеобъемлющим, что даже не пробуждает в ней еретических помыслов. Подруга ее детства Генриетта ван Акерн, напротив, была сердцем и душой фанатично предана религии. Сказать по правде, не люби он Генриетту, он не женился бы на Пауле. И доктор Шошан разразился тихим смехом, прерванным кашлем и клекотом удушья, закончившимися, конечно, платком и заставившими его выключить мотор в тот самый момент, когда он собирался дать полный ход.
Если бы я хоть на миг остановился и призадумался, то не принял бы предложения отправиться в его машине на короткую загородную прогулку. Ведь достаточно такому небольшому приступу кашля (а с ним случаются, как я уже знал, настоящие приступы удушья) настигнуть его посреди дороги, чтобы все тело его содрогнулось и слегка дернулся руль, в результате чего мы врежемся прямо в едущий навстречу громадный бензовоз. Почему именно бензовоз, не знаю, но в воображении я уже видел громадный бензовоз компании «Паз», пыхтя движущийся нам навстречу с мощностью всех своих двухсот лошадиных сил, и доктора Шошана, единым залпом кашля бросающего нас прямо на него, навстречу ужасному крушению, взрыву, огню и столпам дыма. Но вместо того чтобы поступить так, как диктовал здравый смысл, то есть вместо того чтобы извиниться и выйти из машины под убедительным предлогом, что вот прямо в этот самый момент я вспомнил, что забыл дома необходимую книгу, я продолжал сидеть на своем месте в каком-то безволии, потеряв чувство самосохранения и погрузившись в равнодушное подчинение воле слепого случая, и единственным, что меня хоть как-то волновало, было ожидание, сродни напряженному желанию зрителя увидеть, как закончится представление, в котором сам он не принимает участия.
Это оказался не приступ кашля, а несколько отхаркиваний, продолжавшихся недолго, и как только они прекратились, доктор Шошан снова завел машину, бормоча имя Генриетты.
— Генриетта, да… эта Генриетта, как я уже говорил…
И его приглушенный смех снова вспахал борозды вокруг запавшего рта и глаз, красневших сквозь очки, запотевшие от кашля и тем самым заставившие его снова выключить двигатель. Из другого кармана он извлек другой носовой платок, безупречно чистый и тщательно отглаженный, и, протирая стекла очков, поведал историю своих отношений с Генриеттой.
Историю о Генриетте он излагал так, словно находился выше всего, что в ней происходило, словно сам он в свое время не был в нее замешан и не он был тем человеком, что любил Генриетту. Генриетта была и остается, ведь и ныне она жива-здорова, равно как и ее отец, тот самый старый лев, которому наверняка уже исполнилось девяносто лет, если не более того, итак, Генриетта была единственной дщерью сего старого льва, породившего ее в преклонных годах, известного банкира Теодора ван Акерна. По завершении с отличием курса обучения доктор Шошан был назначен, по рекомендации своего профессора, пастырем конгрегации в Амерсфоорте, где имя его в кратчайшее время прогремело благодаря превосходным проповедям, кои произносил он в церкви каждое воскресенье. Нет ничего удивительного, что с точки зрения содержания этих проповедей, широты их размаха, глубины проникновения и вложенных в них познаний они превосходили все то, что дотоле слыхивали амерсфоортские уши, ведь, как известно, сей городок до его прибытия не мог похвастаться выдающимися пастырями.
— Но что вас, конечно, удивит, — сказал доктор Шошан, покраснев, — так это приятный слуху голос, который был у меня в те времена. Вы, естественно, и представить себе не можете, что у этого хриплого старикана, задыхающегося, кашляющего…
Быть может, мне следовало признаться ему, что я не только представляю себе, но даже помню его голос еще со времен, предшествовавших амерсфоортским проповедям. Но я ничего не сказал, а только кивнул, возможно потому, что чувствовал: память о приятном голосе библиотекаря из библиотеки Бней-Брит больше принадлежит миру моего детства, чем старику, сидящему рядом. И еще: я очень остро чувствовал в той ситуации, когда он стал вспоминать о Генриетте, что на самом деле ему не особенно важно, что за человек сидит с ним рядом, что он из себя представляет и какие такие мысли и мнения носятся в его мозгу.
Именно эти-то превосходные проповеди, которые он произносил своим благозвучным голосом, и удостоили его величайшей чести, которую сей городок способен был предоставить человеку, а именно — чести быть приглашенным на парадные трапезы по случаю всеобщих праздников и персональных торжеств старого льва, того Теодора ван Акерна, который на самом деле, в силу своего состояния и личности, властвовал над всем городком и его сателлитами от пригорода Суст до деревушки Спакенбург. Короче говоря, с первой же трапезы, на которой он впервые увидел дочь банкира Генриетту, сердце его было, как говорится, разбито любовью с первого взгляда, так же как и Генриетта прикипела к нему сердцем с первой же произнесенной им проповеди, то есть прежде, чем сам он узнал о ее существовании. Эту великую тайну, наполнившую его сердце величайшим в его жизни счастьем, Генриетта открыла ему спустя несколько месяцев, накануне судьбоносного дня, когда они порешили поведать о своей любви ее родителям и попросить благословения на брак. Старый лев и супруга его львица словно только и ждали того дня не менее, чем о нем помышляли влюбленные, и все должно было завершиться самым лучшим образом, когда бы не маленькое недоразумение, ошибочка, изначально заложенная в данном сватовстве. В силу иностранного произношения доктора Шошана родители не знали в точности, каково происхождение сего молодого служителя культа. Старик полагал, что тот прибыл из Германии, а точнее — из Пруссии, то есть является истинным берлинцем, в то время как мать пришла к выводу, что он француз, уроженец Парижа. Когда он сообщил им, что родился не в Париже и не в Берлине, но в самом Иерусалиме, неподалеку от того места, где происходила Тайная вечеря, и что он не принадлежит ни к прусскому, ни к французскому народу, но к народу Иисуса, все были словно громом поражены, старушка впала в столбняк, и сердце ее едва не остановилось. Возможно, что старик, абсолютно пренебрегавший мнением окружающего его и зависимого от него общества и обладавший сердцем безупречно отважным, в конце концов примирился бы с этим, но жена его ни под каким видом не готова была к такому чудовищному позору.
— Генриетта не будет женой еврея!
Так она постановила, и во вспыхнувших вслед за тем спорах молодой священник всякий раз, когда старушенция вонзала в него свои ненавидящие взгляды, чувствовал себя так, словно он сам, своими собственными руками вбивал гвозди в тело распинаемого Иисуса. Старик был погружен в непроходимое тяжелое молчание, старуха угрожала, что покончит с собой, ибо только через ее труп может осуществиться этот позорный брак, а глазки Генриетты непрерывно источали слезы. Генриетта была подобна нежному тепличному цветку, всю жизнь росла она и цвела под защитой тепла и семейной любви и всеми своими поступками стремилась доставить утешение и радость родителям. Невыносимо тяжелой была для нее мысль о том, что, последовав своей сердечной склонности, не только не принесет своей семье никакой отрады, но разрушит ее и, быть может, заставит мать собственной рукою истребить свою материнскую душу. Доктор Шошан, любивший ее по-настоящему и воистину желавший ей только добра, разрешил ее жизненную дилемму истинно христианским путем милосердия, жалости и любви — он попросту исчез из того городка и из жизни Генриетты, а последнее письмо к ней, в котором все объяснял, переслал ей при помощи ее лучшей подруги Паулы, которая спустя год вышла за него замуж, той самой жены его Паулы, которая только что отменила ежедневный урок Торы из-за желания своей богатой подруги пригласить ее на вечернюю чашечку чаю, и все из-за платонической любви к богатым людям.
Этой платонической любви, как он мне уже говорил, доктор Шошан давно перестал удивляться. Воистину, должным образом рассмотрев любовь, мы обнаружим, что она всегда является платонической в силу собственного естества и что к ней применимы слова, сказанные нашими блаженной памяти мудрецами о всякой заповеди Божьей: «Награда за любовь — любовь, и кара за любовь — любовь, и в этом мире всегда кара за любовь больше, нежели награда, и насколько велика кара любящего в этом мире, настолько же возрастет награда его в мире грядущем»[60]. Другое удивляет его в этой женщине, то есть в его жене. К его величайшему изумлению, жена его день ото дня делается все более и более похожей на мать Генриетты. Иногда, пробуждаясь посреди ночи от своего неглубокого сна и оглядываясь по сторонам, он обнаруживает лицо Паулы при свете горящего всю ночь ночника, и вот — в памяти его вызывает оно дни, проведенные в Армсфоорте, и дочку старого льва. В ночь после того как он увидел мое имя на собственном почтовом ящике, поскольку перепутал свой адрес — путаница, из которой и возникло наше знакомство, — лишь только забрался он в ту ночь в свою постель и приготовился к спокойному, более или менее, сну, поскольку ощущал некоторую приятную усталость, как взгляд его упал на спящую жену, и сердце его сильно забилось в странном трепете, можно даже сказать — в жутком страхе, нападающем на нас при виде потустороннего явления: то была не Паула… рядом с ним лежала мать Генриетты. Не говорите, что это не более чем ночное видение при свете ночника, он ведь может меня заверить, что и посреди бела дня лицо Паулы норовит делаться все более похожим на лицо жены старого льва, только при солнечном свете это сходство не так его пугает.
Да. Что интересно, так это что он не помнит имени той старухи. Имя ее мужа он помнит превосходно: Теодор, как звался и пророк ционизмуса[61]. И конечно же, имя дочери, Генриетты. Но вот имя этой старухи забылось, совершенно стерлось из памяти. Имя улетучилось, но не память о ней, и не раз он обнаруживал, что память о ней гораздо яснее, живее и четче, чем память о Генриетте. Он помнит каждую деталь не только ее лица, но и походки, и голоса. В пользу старой злодейки следует сказать, что у нее был приятный на слух голос, мягкий и вместе с тем ясный и полный нюансов. И тут ее сходство с Паулой заканчивается. О жене его можно сказать, что голос, голос Паулы, а лицо, лицо Генриеттиной мамаши[62]. Этим красивым, пленительным голосом она угрожала дочери, что покончит с собой. Да. А что до угроз старой злодейки, будто она покончит с собой, на него они не произвели никакого впечатления, но поскольку он на собственном опыте знал, как они угнетают душу, на которую нацелены, и от гнета этого невозможно избавиться увещеваниями и логическими доводами, он даже и не пытался успокоить Генриетту и доказать ей, что маменька никогда не лишит себя жизни и что угрозы эти суть только средство давления, террор самого низкого разряда. Ощущение душевного гнета и сердечной подавленности знакомы ему еще с тех дней, когда его собственная мать пользовалась таким террором против него, узнав, что он собирается изменить свое вероисповедание, поскольку глазам его открылся истинный Мессия, Царь Иудейский, ибо суждено ему было, видимо, истинной своею верою и любовью превращать матерей в террористок из того разряда, что шантажируют угрозой самоубийства. Серьезнее матери была его сестра, которая не допекала его разговорами, не угнетала предостережениями и не травила душу угрозами, а попросту запустила ему в голову раскаленным утюгом. Сестра его — националистка, ревизионистка из учеников Владимира Жаботинского. Она стояла и гладила свою коричневую форму, когда он пришел к ней домой, чтобы побеседовать на темы веры и религии, наводящие на нее такую скуку, потому что она атеистка, верящая только в национализм. Когда он развернул перед нею помыслы сердца своего и озарения веры, веры новой, наполняющей новое сердце, данное ему, лицо ее побледнело, и она застыла на месте с утюгом в руке, которым продолжала давить на коричневую рубашку, покуда не повалил от нее дым.
— Предатель! — вырвался крик из самых ее недр. — Ты предаешь свой народ!
И одновременно с тем она замахнулась утюгом, увенчанным горелыми лохмотьями рубашки, и метнула это орудие в его сторону. Чудо еще, что пылающий утюг, который должен был прикончить его на месте, а ее — превратить в убийцу, в него не попал. Увидев, до чего все это доходит, и поняв, что истинной своею верою может обратить сестру свою в убийцу, он покинул страну свою и спустился в Египет и принял там крещение в водах Нила.
Добравшись до своей купели, он уже весь купался в поту от соединенных усилий с трудом дававшегося ему разговора (хотя новые приступы удушья его не мучили) и вождения машины, в котором он не выказал повышенного умения. Разговор и вождение соединились в докторе Шошане во время нашей короткой прогулки за город, словно двое идущих по дороге неверными шагами, взявшись за руки: старик и младенец. Один с трудом шагал от старости и тяжкой болезни, а другой оступался и падал потому, что лишь недавно научился ходить и наука хождения еще не вошла в плоть и кровь его членов. В разговоре он находился в конце пути, а в вождении — лишь в начале, и поскольку все действия, связанные с вождением машины, были для него внове и члены его не были привычны к их правильному и своевременному выполнению, его машина двигалась по дороге к Эйн-Керему вне всякой связи с движением транспорта и пешеходов, останавливалась со зловещим скрипом и трогалась с места скоропалительными рывками, резкими и пугающими всех водителей спереди и сзади, справа и слева, а особенно прохожих. Дважды он своими дикими рывками едва не задавил насмерть сперва мальчика, а потом женщину, толкавшую впереди себя детскую коляску, и в обоих случаях останавливал машину, скрежеща тормозами и зубами и со вспышками ярости на этих двоих, своей преступной ходьбой едва не превративших его в убийцу. Ему совершенно не приходило в голову признаться, что с его неумелым вождением что-то не в порядке, быть может оттого, что мастерство в любой области было для него столь существенным, и так же, как неуч и невежда был в его глазах достоин осуждения более всякого другого, не существовало для него человека, более достойного хвалы, нежели знаток и хват — тот, кто хваток в своем знании и знающ в своей хватке. Долгое время это вызывало у меня изумление, и я дивился человеку, вся жизнь которого находилась под знаком веры, утраты веры его детства и его предков и принятия веры врагов его детства и врагов его предков и праотцев. И вот человек этот не только не поминал веру в своем разговоре, но и не демонстрировал ее в церкви, куда я сопровождал его в воскресенье, ровно через неделю после той смертельно опасной для меня и пешеходов поездки. В церкви он даже не пытался притворяться богобоязненным: не возводил горе благочестивые взоры и не смирял свои шаги в доме Господнем с трепетом и любовью, но крестился, кланялся и преклонял колена с энергичной поспешностью и сухой деловитостью, как человек, совершающий обыденные действия, необходимые ему в его целях, но уже не заботящие его, ибо он перестал обращать на них внимание, подобно тому, кто, например, собирается поехать на автобусе к месту своего назначения, и вот он спешит к кассе, протягивает деньги, получает билет и сдачу, становится в соответствующую очередь, протягивает билет для компостирования, и все это — без того, чтобы хоть на единый миг задуматься обо всех этих действиях, которые сами по себе лишены всякого значения и существуют только для того, чтобы позволить ему войти в автобус, едущий в нужном направлении. Так доктор Шошан в церкви вовремя крестился, вовремя преклонял колена и кланялся и как мог подпевал, когда вся конгрегация возвышала свой глас в пении псалма: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться; Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою…» и так далее[63]. Но в отличие от пассажира из притчи об автобусе, пришедшей мне на ум, закончив с почти сердитой деловитостью покупку этого билета, доктор Шошан не представал моему взору усаживающимся для духовного внутреннего странствия и отправляющимся к вершинам святости, как его единоверцы справа и слева, освященные святостью своего спасителя, кто — опустив голову и прикрыв глаза в христианском смирении, кто — безмолвно застыв по стойке смирно, свидетельствующей об озарении в армейском духе. Он же с бросающимся в глаза нетерпением вертел головой, всматриваясь в свое окружение, словно измеряя степень невежества и темноты, умещающихся в каждом из обставших его праздничных костюмов. И как в вождении, так и в разговоре, в тех немногих случаях, когда касался принципов своей веры, вроде Святой Троицы или преданности Христу Спасителю, он даже намеком ни разу не упомянул веру, внутреннее переживание или религиозный экстаз, но пользовался словно бы научным языком.
Собственно, однажды, и только однажды, доктор Шошан сказал мне нечто, потрясшее меня, как может потрясти дверь глухой каменной ограды, которая, едва приоткрывшись на миг, обнаруживает невообразимую бездну, которую, наверное, и можно назвать верой. Это было во время моего визита с целью вернуть ему биографию Кальвина. Извиняясь за то, что я не собираюсь переводить эту книгу на иврит, я услышал, как он заметил со слабой улыбкой:
— Да-да. В своем завещании я уже велел жене написать на моем надгробии следующие слова и больше ничего: «Здесь похоронен Исраэль Шошан, сын Ривки, до воскресения из мертвых». Я велел написать их на иврите, естественно… На иврите сказал Иисус, наш Мессия, перед смертью: «Эли, эли, лама шавактани?»[64] Вот и я, да… вот и мне…
Приступ удушья прервал его, и только когда ему полегчало после того, как сплюнул кровь в подставленную ему плевательницу, он закончил свою фразу:
— Вот и мне иврит был родным языком и будет моим языком, когда я восстану из мертвых.
Та, чья рука подала ему плевательницу, не поняла его слов, ибо совсем не говорила на иврите, но из жалости и доброжелательства улыбалась ему, когда он провозгласил, что продолжит говорить на иврите и после смерти и воскресения. Это была монашка из одной из северных стран, пришедшая ухаживать за ним, когда его состояние ухудшилось. Паулы я не видел, возможно потому, что именно в это время она была вызвана на чашечку чаю к своей подруге госпоже Эртель, но было очевидно, что ее отсутствие не замечено больным, поскольку монашка непрерывно находилась в действии, стараясь при этом, насколько возможно, затушевать свое присутствие и не обращать на себя внимания, чтобы не мешать ни больному, ни его посетителю: опорожняла плевательницу и возвращала ее, накрытую начищенной алюминиевой крышкой, смешивала в блюдечке и подносила ему всевозможные капли для уха-горла-носа, снова и снова поправляла подушки в изголовье, в зависимости от перемены его позы, вытирала пыль с мебели, придавая и комнате, и больному пристойный и, насколько возможно, удовлетворительный вид здоровья и культуры, скрывающий от глаз материал, в который облачается душа в вещественном мире — плоть и кровь, плоть и кровь доктора Шошана, облаченного, как принято, в пижаму и в чистый и безупречно отглаженный домашний халат.
Комната, в которой доктор Шошан плевался остатками своего единственного легкого, своими плотью и кровью, обратившимися в его врагов с того момента, как перестали служить ему сосудами, вмещающими жизнь, которые с их полным растворением в материальном мире изгонят его душу из этого мира всего через неделю, комната эта во всех своих деталях была современной, то есть современной была и сама комната, и мебель в ней, и ничто в этой комнате не угрожало мне тем, что произведет на меня специфическое впечатление или врежется в память. И действительно, ее детали были забыты мною начисто, как бессмысленные номера телефонов, не связанные с человеческими отношениями и не содержащие ничего, кроме произвола того, кто их установил согласно устройству телефонной сети. Изо всей комнаты я запомнил только одну картину, висевшую над его постелью, и две книги на столе, да и то более благодаря отразившемуся в них личному вкусу доктора Шошана и его занятиям на закате дней, нежели в силу того, что они выходили за рамки современности. На картине изображался еврей, сидящий за изучением Гемары, а на столе, рядом с Библией, единственным предметом, распространявшим христианский дух, веявший от маленького золотого крестика, напечатанного на ее черной обложке (ведь вся комната была начисто свободна от крестов, икон и священных христианских изображений, как и подобает самой строго педантичной протестантской комнате), рядом с этой Библией лежал большой том одного из трактатов Гемары виленского издания, кажется, это был трактат «Синедрион». Библия, конечно же включавшая и Новый Завет, была, можно сказать, его рабочим инструментом, в то время как Гемара служила тем, что в наши дни именуется хобби, которому он предавался во всякое время, остававшееся у него свободным от работы в церкви и за ее стенами, в больнице для прокаженных и во всяком ином месте, где он старался вербовать души для своей новой веры. Из его слов я понял, что люби он играть в бридж или покер или увлекись вдруг шахматной игрой, то не нуждался бы в Талмуде, но поскольку все эти игры наводили на него скуку не менее, чем разгадывание кроссвордов или чтение романов, то изучение листа Гемары занимало в его жизни то место, которое у других занимали все эти игры, развлекательные книги, театральные спектакли и кинофильмы. Наибольшее удовольствие извлекал он из чтения листа Гемары на тот же старинный распев, на который учил его в йешиве в юные годы, но поскольку в последние годы он опасается за свое горло, ему приходится учить свой ежедневный лист, если можно так выразиться, в сердце своем — уста его только движутся, и не слышно голоса его[65], но внутренним слухом он слышит внутренний мотив внутреннего голоса, звучащий так же, как в былые дни.
Но в то время как рабочий инструмент доктора Шошана был чистым и блестящим, инструмент его развлечений, Талмуд, источал запах плесени и был настолько древним, потрепанным, мятым и рваным, что, казалось, успел послужить не только ему в прежние времена, но и его деду, когда тот был еще юным йешиботником.
— Прекрасная картина, а!!! — прошептал доктор Шошан, заметив, что взгляд мой переходит с лежащей на его столе Гемары на изучающего Гемару еврея на картине, что висела над его головой, и сморщенное лицо его на миг оттаяло в улыбке совершеннейшего удовольствия от того изумления, которое непременно должно было охватить меня при виде его любимой картины.
Как и те короли на картинах определенного рода, всегда держащие в руках скипетры и вечно увенчанные коронами, поскольку иначе зритель может заподозрить, что они не подлинные короли или не исполняют свои королевские обязанности должным образом, еврей на этой картине изучал Гемару, будучи облачен в талес, увенчан субботним штраймлом[66] и весь окружен этаким сладостным романтическим ореолом, булькающим и пузырящимся наподобие икоты и отрыжек, поднимающихся из слегка переполненного всяческой благодатью желудка. Я не знаю имени этого художника, но репродукции его картин, изображающих в подобном стиле синагоги и еврейские свадьбы, знакомы мне по квартирам некоторых выходцев из Германии, а также иногда и из Восточной Европы. В этих квартирах они должным образом сливаются воедино с запахом тяжелых яств и служат верным зеркалом вкуса своих хозяев.
Если бы, например, доктор Шошан вынул из кармана своего халата большой леденец на палочке и начал его сосать с подчеркнутым наслаждением, признавшись, что нет в мире деликатеса более любимого им, чем эта липкая красноватая канитель, один вид которой вызывает во мне брезгливое чувство, то и это открытие не удивило бы меня больше, чем тот факт, что в искусстве живописи вкус еврейского священника подобен мещанским вкусам вышеупомянутых торговцев, и не потому, что я считаю, будто существует хоть какая-то связь между умственными способностями человека и его вкусом, и не потому, что изображение святого христианского великомученика с нимбом казалось бы мне более соответствующим его комнате, ведь совершенно ясно, что этот святой великомученик оказался бы выходцем если и не из той же самой мастерской, то, по крайней мере, из подобной ей. Мое изумление было вызвано тем, что все жизненные перипетии доктора Шошана, все повороты, все пережитые им переломы и его исключительная и бесстрашная революционность, все это не наложило ни малейшего отпечатка на его вкус, оставшийся таким же, как и во времена детства, когда он учился в начальной школе реб Аврэмле в Старом городе, и он тянулся душой и сердцем к хрустящей сласти, напоминающей на вид розовую вату и называющейся по-арабски «саар-аль-банат», то есть «девичьи волосы». Даже в выражении лица доктора Шошана, сквозь сухую сеть морщин, возникло что-то ребяческое, когда он обратил взгляд на картину и начал рассказывать мне о ее перемещениях от города Амерсфоорт до этой квартиры. Впервые взгляд его упал на нее, когда он приехал в Амерсфоорт на поезде и обдумывал про себя тезисы первой проповеди, которую ему предстояло произнести перед своей первой паствой. Когда поезд остановился и он встал со своего сиденья и протянул руку к полке, чтобы снять с нее чемодан, сквозь мутное вагонное стекло его глазам предстала эта самая картина, выставленная в витрине магазина подержанных вещей на углу улочки, начинающейся от ворот железнодорожной станции. Он совершенно забыл об этом на все время своего пребывания в Амерсфоорте, и только решив расстаться с Генриеттой и навсегда покинуть городок, вдруг вспомнил о картине и все время думал про нее по дороге на станцию, спрашивая себя: возможно ли, чтобы она до сих пор оставалась непроданной. Добравшись до станции, он повернул голову налево, в сторону той улочки, и снова, как впервые, увидел картину в витрине.
Он начал рассказывать мне еще что-то о владельце магазина подержанных вещей, но лицо его померкло, ребяческое выражение растаяло, оставив сухие морщины старости, углубившиеся и исказившиеся при звуке шагов Паулы, вошедшей в тот момент в комнату, и слова стихли, застыв у него в горле.
Я думал, что больше уже никогда не услышу о перемещениях этой картины. Ведь в бессильной ярости, напавшей на него с приходом жены, доктор Шошан почти не заметил моего ухода и не ответил на мое прощание, и у меня возникло смутное опасение при виде надвигающегося приступа удушья, что вот-вот, в эту самую ночь, душа его отлетит. Однако на следующий день со своего балкона, где он сидел в халате, доктор Шошан со спокойной улыбкой подал мне знак зайти к нему. Он точно и явственно помнил, на чем прервался накануне вечером, и с того самого места, то есть с магазина подержанных вещей, продолжал рассказывать мне о перемещениях картины. Владелец магазина, к его изумлению оказавшийся не евреем, а одним из верных прихожан, не пропустившим ни одной его проповеди, захотел избавить его от хлопот по перевозке картины и настоял на том, что она будет отправлена со страховкой и под его ответственность в любое место, куда повелит высокочтимый господин пастор.
Куда обращен был взор молодого высокочтимого господина пастыря армсфоортского стада, вынужденного покинуть невинную овечку Генриетту, а с нею заодно и весь вверенный ему мелкий скот прежде, чем исполнил он свое назначение и истек срок его службы? Взгляд его обращен был к французскому городу Нуайону, родине Жана Кальвина, дабы пребывать в нем до того времени, пока не отправятся посланцы по своим приходам, выпавшим им в удел, согласно новому распределению. Наставник его и учитель, которому в будущем предстояло стать ему тестем, отец Паулы, вот кто отправил его туда, уполномочив также внести свою скромную лепту в конференцию кальвинистов, проводимую в тот год в родном городе Кальвина. Скромный вклад в великое собрание, помимо участия в собеседованиях и права голоса, включал в себя также одну проповедь о комментарии Кальвина к Тайной вечере, и подготовка этой проповеди, можно сказать, высосала из него все соки. Сперва он думал, что проповедь у него готова, и единственное, чего ему не хватает, — это чуткого уха слушателя, но по мере приближения заветного дня ему все яснее становилось, насколько он не готов. Под конец ему даже пришлось пренебречь обсуждениями и заседаниями, чтобы доработать все то, что еще не было доработано. Накануне проповеди о Тайной вечере, вышагивая по комнате, от стола к окну и обратно, размышляя о последовательности вопросов, не связывавшихся должным образом, он увидел сквозь занавеску грузовик известной транспортной компании «Кальберсон», останавливающийся у подъезда гугенотской гостиницы, где он поселился.
Название компании, отпечатанное большими желтыми буквами на кузове грузовика, было отпечатано также и на спинах синих комбинезонов, и на козырьке форменной фуражки грузчика, несшего что-то от грузовика к подъезду гостиницы. Отчего-то отнюдь не поклажа в руках грузчика, казавшаяся не особенно тяжелой, а именно название транспортной компании, отпечатанное большими буквами[67] во всю ширину его спины, напомнило доктору Шошану распятого, несущего на спине собственный крест, и навело на странную мысль о том, что все-таки мало в наши дни людей, у которых на спине отпечатано четкими, бросающимися в глаза буквами наименование креста, несомого ими по жизни.
Если бы тот грузчик, несущий свой современный крест, отпечатанный у него на спине, вошел в его комнату, доктор Шошан развернул бы перед ним основные постулаты своей проповеди о комментарии Кальвина к Тайной вечере, которую должен был произнести на следующий день, и исходя из его реакции сделал бы вывод о том, может ли его проповедь быть принята всем сердцем. И это тоже было глупейшим соображением, поскольку речь шла не о популярной проповеди, а о профессиональной лекции на самом высшем уровне, предназначенной исключительно для глав конгрегаций, и сконцентрирована она была на тонких дефинициях между трансобстинацией, консобстинацией и виртуальностью, вытекающих из различных подходов к евхаристии, являющейся следствием Тайной вечери. Эти глупые мысли свидетельствуют только о рассеянности, весьма прискорбной накануне проповеди, но ему совершенно не угрожает их осуществление в реальности, ибо не к нему носят грузчики посылки, а не носят они к нему посылки потому, что на свете нет ни единого существа, которому пришло бы в голову эти посылки ему отправлять. Посему он закрыл ставни и продолжал вышагивать от стола к окну, теперь запертому от событий внешнего мира, сбивающих его с толку и распыляющих его мысли порывами смятенного духа, и от окна к столу. Благодаря этому его разрозненные размышления и рассеянные помышления снова начали сосредотачиваться вокруг заданной точки. Но когда его разбегавшиеся мысли стали вновь собираться вокруг точки, раздался стук в дверь и на пороге возник грузчик, несущий свой современный крест отпечатанным на спине, а в руке — иную ношу, а именно картину, которую духовный пастырь купил в магазине напротив железнодорожной станции при отъезде из городка Амерсфоорта, ту самую, что висит теперь над изголовьем его кровати. В тот момент, когда он вблизи увидел форму посылки в руках грузчика, он уже понял, что это его картина, и начал рыться в кармане брюк, чтобы вручить этому человеку что-нибудь на чай, как принято во Франции. И тут, приблизившись к нему и взглянув в его лицо, он почувствовал, что рассудок его мутится. Под козырьком фуражки этот грузчик носил физиономию друга его детства, лицо Гавриэля Луриа. И как только тот открыл рот и доктору Шошану стало ясно, что это не французский грузчик, носящий лицо Гавриэля Луриа, а Гавриэль Луриа, носящий униформу французского грузчика, он пережил приступ внезапного страха перед хрупкостью мира сего, покоящегося на иллюзии чувств. Страх его, однако, рассеялся с первой же улыбкой Гавриэля, и, постигнув цепочку событий, соединивших их в этой комнате, и погрузившись в беседу с Гавриэлем о Тайной вечере, его ужас совершенно испарился, словно его и не бывало. Но с тех пор, в разное время, его сердце вдруг сжимает нечто вроде эха того ужаса, когда, например, он пробуждается до утра и видит спящую рядом жену свою Паулу с лицом Генриеттиной матери.
Странные и весьма далекие от здравого смысла вещи рассказал ему тогда Гавриэль по поводу Тайной вечери. Что он говорил? Об этом он расскажет мне при новой встрече. Я обещал, что зайду навестить его на следующей неделе во вторник, однако в день, когда была назначена наша встреча, я был вызван на тренировочный сбор нашего батальона, в то время — дежурного батальона иерусалимской бригады. На склоне дня я сидел, прислонившись к ограде лепрозория, и смотрел на солнце, садящееся за кронами кипарисов и окутывающее дорожку, тянущуюся вдоль ограды, оранжевым ореолом, в котором терялся черный силуэт врача, вышедшего из ворот и направлявшегося к шоссе. Я вспоминал такой же миг заката в том же месте на предыдущих сборах, но на этот раз ничто не выбивалось из рутинного бега времени. Статистик, сидевший со мною рядом, спросил, помню ли я еврейско-христианского священника, вышедшего во время прошлых сборов из ворот ограды.
— Конечно, — ответил я, добавив, что, если бы не срочная повестка, сегодня я зашел бы его навестить.
Тот улыбнулся и сказал, что так или иначе я бы не зашел к нему сегодня, поскольку он умер в прошлую пятницу, как раз с наступлением субботы[68]. Об этом ему стало известно от госпожи Эртель, доброй подруги Паулы, вдовы доктора Шошана.
С Паулой, после того как она овдовела, я, собственно, разговаривал только однажды. Я спросил ее о месте погребения ее покойного мужа. Он был похоронен на протестантском кладбище на улице Долины Духов. Туда я отправился, чтобы посетить его могилу. Лишь начав двигаться по аллее надгробий с латинскими надписями, я вспомнил про обещание доктора Шошана продолжать разговаривать на иврите и после воскресения из мертвых и о его наказе жене написать на его надгробье на иврите: «Здесь похоронен Исраэль Шошан, сын Ривки, до воскресения из мертвых». Мне захотелось скорее собственными глазами взглянуть, как выглядит само по себе странное еврейское надгробие, еще более постороннее и одинокое со своими еврейскими буквами посреди окружающих его со всех сторон иностранных символов. Когда я подошел к его могиле, сердце мое упало от страха, что произошла ужасная ошибка. Я увидел его имя, высеченное на камне не еврейскими буквами, а латинскими, и не нашел там ни малейшего упоминания, даже по-английски, о воскресении из мертвых. С той же поспешностью, с которой я подходил к надгробию, я его и покинул. Я спешил сообщить Пауле об ошибке каменотеса, и только дойдя до кладбищенских ворот и остановившись перед уличной толпою, я осознал, что нет никакой нужды спешить, что у надписи на надгробии Исраэля Шошана, сына Ривки, достаточно времени, чтобы быть исправленной до воскресения из мертвых. И тем не менее с того момента как я остановился в воротах кладбища, на меня то и дело начинал давить внезапный гнет неисполненного долга, призывавшего меня связаться с Паулой по поводу ошибки, случившейся с надгробной надписью, обязанности, которую я, вместо того чтобы исполнить, откладывал со дня на день и с недели на неделю. Так все это продолжалось около двух или трех месяцев, пока Паула не пошла мне навстречу. Она шла мне навстречу не одна, а в сопровождении некоего мужчины, на руке которого повисла всей тяжестью верхнего региона своего тела и с которым вела беседу с такой сердечной оживленностью, какой я в ней до тех пор не замечал. В первом порыве я еще спешил ей навстречу, но вместе с тем во мне уже росло сомнение, не будет ли невежливым поднимать вопрос об ошибке с надгробием, являющимся для нее, как ни верти, личным и интимным вопросом, в присутствии этого мужчины. И сомнение, едва появившись, уже повлекло за собою дополнительное сомнение, относительно источника ошибки. Быть может, не каменотес ошибся, а она сама, и от взгляда, который она бросила на своего спутника, у меня пропало всякое сомнение. Этот взгляд убедил меня, что все, сделанное ею по части установления надгробья на могиле покойного мужа, было сделано ею совершенно сознательно и с тщательным наблюдением за каменотесом, чтобы тот не перепутал ее указаний.
Хрупкость мира сего, покоящегося на иллюзии чувств, лопающегося, как пузырь, и снова вырастающего из всех отражений своих ошибок и иллюзий, словно блуждающий огонек, стала мне очевидна, когда я собственными ушами услышал голос доктора Шошана месяца через три после его смерти, в считанные дни после того, как взгляд, брошенный его вдовою на ее спутника, освободил меня от гнета неисполненного долга сообщить ей об ошибке, не совершенной в надгробной надписи ее покойного мужа. Голос его, возникший словно из глубин моего детства, я услышал не во мраке ночи в запертой комнате, а в полдень посреди улицы. По пути домой я увидел сына статистика, того самого мальчика, несшего в руках скрипку и сказавшего приятелю: «Видишь? Это — миссионер». Он залез в отцовскую машину, чтобы показать тому же самому приятелю новое радио, установленное там недавно, и после того как он немного поиграл кнопками, раздался голос библиотекаря моего детства, провозгласившего с ясной и мягкой интонацией: «Голос доброй надежды из Монте-Карло несет благую весть о спасении» и начавшего ежедневный урок о понятии «раб Божий» в Библии. Радиостанция, несущая всему миру благую весть о спасении из Монте-Карло, из дома, примыкающего к казино с рулеткой, выбрала для повторной трансляции в тот день одну из первых проповедей на иврите миссионера, ушедшего в мир иной, и мальчик со скрипкой не узнал голос доктора Шошана, звучавший после его смерти так, как звучал при жизни, прежде чем неизлечимая болезнь поразила его легкие и горло. Мальчик вытаращил на меня глаза, полные искреннего изумления, когда я рассказал ему, что это — голос знакомого ему мертвого миссионера, жившего на нашей улице, которого я знал еще с тех далеких времен, когда сам был ребенком, а тот был библиотекарем. И кроме того во взгляде этого мальчика со скрипкой было нечто такое, что, одновременно с овладевшим мною чувством непрочности нашего мира-пузыря, укрепило меня, не в противовес, а в качестве дополнения к первому, в чувстве бытия, продолжающегося через все прежние пузыри, уже давно лопнувшие, и все отражения, что всё еще не возникли и так же обречены растаять в будущем, и все изменения в оттенках иллюзий блуждающих огоньков. Он взглянул на меня так, словно видел меня впервые в жизни, и из его взгляда выплыло воспоминание о том первом разе, когда я увидел Гавриэля Йонатана Луриа в великий и странный день моей жизни, в разгар лета 5696 года, 1936 по христианскому летосчислению, в день, когда глаза мои узрели вблизи, на другой стороне улицы, Царя над Царями Царей, Опору Троицы, Избранника Божьего, Льва Иудеи, Хайле Селассие, императора Абиссинии.
Встреча блудного сына
Поскольку, как уже говорилось, до того момента, пока я не увидал Гавриэля Луриа собственными глазами, я слыхал только о его большой физической силе от маленького библиотекаря, о его «восточных фантазиях» — от его матери и от аптекаря и о его языческой душе — от лавочника реб Ицхока, фигура его в моем воображении рисовалась похожей на турецкого торговца коврами, богатыря, чьи усы далеко выходили за границы рта, а блестящие глаза смотрели на мир из-под черной меховой папахи чужим и диким взором, наводящим ужас, особенно когда он снимал эту черную папаху и открывал миру гладко выбритую, как у старого бека, голову. О нем поговаривали, что был он в свое время танцующим дервишем и чудотворцем, и когда стучал в дверь связкой персидских ковров, небрежно, несмотря на огромную их тяжесть, переброшенную через плечо, многие домохозяйки спешили в страхе запереть перед ним свои двери, в то время как другие с радостью покупали у него не ковры, а добрые советы и чудесные рецепты, однако я не припоминаю, чтобы хоть одна из них купила у него даже один, самый крошечный коврик.
Поэтому, отведя глаза от эфиопского консульства и увидев Гавриэля Луриа, сидящего на плетеном стуле и наблюдающего за мною, наблюдающим за представлением, я так удивился его облику, в корне отличавшемуся от того, что я видел в своем воображении, от того богатыря, похожего на турецкого торговца коврами. В белой, круглой и твердой, украшенной черной лентой шляпе, той самой, что он именовал «панамой», в пиджаке из синей ткани с золотыми пуговицами, в белых, тщательно отглаженных брюках и с увенчанной круглым серебряным набалдашником тростью, он выглядел настоящим французским франтом, только что вышедшим из одного из фильмов Мориса Шевалье и рассевшимся на балконе нашего дома. Французский актер, вышедший из черно-белого фильма и явившийся сюда во всех трех измерениях и в натуральных цветах, принес с собою и запах — сложный, состоящий из его собственного запаха, запаха табака английских сигарет и запаха французского одеколона после бритья, именуемого «Мусташ», то бишь усы. Да, даже маленький черный квадратик усов посередине, между высокими, выдающимися из-за узости лица скулами и квадратным подбородком, был вроде кусочка смальты в этой мозаике элегантной парижской моды нового сезона для господ мужчин, поскольку спустя краткое время, когда мода изменилась там, отсюда исчезли и усы, и трость с круглым серебряным набалдашником, и белая панама.
На плетеном стуле сидело отнюдь не воплощение диких восточных фантазий, поднимающихся, клубясь, из недр странной души, переселившейся из дальних миров, с прародины языческих богов, а человек основательный, благодаря доброжелательности и сердечной гармонии, прекрасно чувствующий себя в фокусе мировой моды и носящий ее приметы с легким и уверенным в себе изяществом, удивившим не только меня, но даже и его собственную мать, чье удивление было даже большим, чем мое, но очень быстро превратилось из порыва радости в приступ безудержной ярости. Она поднималась по ступеням, ведущим с улицы на балкон, своими медленными и тяжелыми, не от грузности, но от душевной рассеянности, шагами (ведь тело ее и в старении оставалось легким и стройным), держа в руках буханку хлеба и пачку масла. Когда она увидела отглаженного господина, вольготно расположившегося в плетеном кресле, на лице ее промелькнуло выражение испуга, тень опасения, что незваный высокопоставленный гость увидит ее одетой небрежно, в том состоянии, в котором она пребывала с тех пор, как умер ее муж, старый бек. Но мгновенно ее лицо расцвело и глаза засветились радостью, пробившей скорлупу замкнутости и совершенно изменившей ее отсутствующий, непроницаемый облик, будто отражение той веселости, что в прежние дни пленила сердце консула. Она обнимала, целовала и ласкала гостя, словно он был не сорокалетним мужчиной, а четырехлетним мальчиком, называя его «Габи, Габинька, Габилюлю», ворковала ему так же, как в те дни, когда он был спеленутым младенцем у нее на руках.
— А я уж забыла, какой ты красивый, — сказала она ему. — Ты красив как итальянец.
На одном из приемов, которые устраивал в своем доме Иегуда Проспер-бек после того, как взял ее в жены, появились, среди прочих гостей, и два офицера с итальянского военного корабля, стоявшего в яффском порту, и с тех пор в сердце госпожи Луриа сложилось убеждение, что именно итальянцы — самые красивые мужчины на свете, хотя на том же самом приеме была представлена во всем своем уродстве и физиономия итальянского консула, а в последующие годы ей встречались еще многочисленные итальянцы, в том числе врач из Итальянской больницы и итальянский антиквар с нижнего конца улицы, один вид которых способен был разрушить подобное убеждение. Тем не менее убеждение это сложилось, ибо сложилось оно в сердце ее, и с тех пор приговор «красив как итальянец» выносился лишь тому, чей облик пробуждал в ее душе наплыв давно забытых порывов, либо в редкие минуты особенно сильного ностальгического чувства, способного перевесить даже самые тяжкие ее претензии к мужу, те претензии, которые покойный не смог смягчить даже самой своею смертью. В одну из таких редких счастливых минут она почтила память старика этим самобытным приговором, сказав как-то Гавриэлю: «Знаешь, папа был в молодости красив как итальянец».
Гавриэль отвечал на ее ласки чистосердечно и с большой теплотой, но по мере того как в ее радость начинала все явственнее вплетаться сентиментальная интонация, дававшая себя знать и в объятьях, и в разговорах, он все более замыкался в себе с нетерпением, превратившимся в досаду в тот самый момент, когда она дошла до заявления:
— А сейчас чего тебе налить, чаю или кофе?
И он ответил ей:
— Нет, не надо. Не делай ничего. Я сам себе сварю.
— Нет, ты не сваришь! Я тебе сварю! — с внезапной резкостью стала настаивать она, и ее мягкий и мелодичный голос сделался твердым. — Во-первых, ты наверняка смертельно устал с дороги. Ведь ты только что из Парижа.
Она вплотную приблизила свою голову к нему и подозрительно-встревоженным взглядом стала пристально изучать его лицо, словно ища признаков какого-то тяжкого недуга, существование которого он от нее скрывал.
— Ты страшно бледный! — вынесла она свое заключение. — А эти черные круги вокруг глаз! Скажи мне правду: тебя что-то мучает? А отчего же это у тебя такие красные глаза? Это наверняка от курения. Тебе нужно прочесть то, что пишут каждую неделю в «Медицинской страничке» «Сегодняшней почты» о курении: курение ведет ко всем на свете болезням, сердечным, глазным, заболеваниям пищеварительного тракта и печени, и ко всяческим злокачественным опухолям, оборони нас, Господи! Выбрось уже эту сигарету изо рта, мне от нее плохо сделалось! Не во всем подряд ты обязан идти по стопам отца. Он вечно курил и пил турецкий кофе, пил турецкий кофе и курил. Я все время умоляла его, чтобы перестал себя травить, но старик ведь никогда не был готов отказаться от своих удовольствий, готов был травить себя дымом и кофе, лишь бы не лишиться своих удовольствий, пока эти удовольствия не лишили его жизни. Когда б не курил и не пил он все время кофе, его бы не хватил удар, от которого он и умер. А ты… как это я могу позволить тебе приготовить самому чашку кофе, когда мне прекрасно ведомо: это будет такой крепкий кофе, что тебя от первого же глотка хватит инфаркт! Немедленно брось эту проклятую сигарету, а я тебе сделаю слабенького кофейку с молочком, который тебе не повредит.
Гавриэль закрыл глаза и некоторое время прижимал пальцы к векам, словно стремясь избавиться от тяжелой усталости, навалившейся на него с потоком болтовни, льющейся из уст матери, что задумала напоить его жидким, безвкусным кофе из соображений телесного здоровья, и, решившись в душе смириться с этой безвкусицей, попросил все же не навязывать ему тошнотворную полезную жижу:
— Только немножко молока, пожалуйста, — сказал он, все еще прижимая пальцы к закрытым векам. — Совсем немножко, и без пенки.
— Вот дурачок, — сказала она с мягкой улыбкой и с сентиментальностью, вновь засветившейся в ее взгляде. — Ведь пенка-то как раз и есть самое важное в молоке! Я каждое утро намазываю молочную пенку на хлеб. Это не только полезнее всех острых и крепких вещей, но и вкуснее!
Госпожа Луриа начала сосредотачивать свои помышления на наилучшем для здоровья человеческого организма образе питания еще до отъезда Гавриэля во Францию, что уже тогда сказалось на вкусе приготовлявшихся ею кушаний и напитков, но до полной расчистки здоровой магистрали и установления заграждений, начисто удаливших малейшие остатки вкуса из ее стряпни, она дошла лишь в период Гавриэлева отсутствия, в последний год жизни старика. До тех пор тот еще готов был сидеть на балконе в своем красном кресле и часами ждать, сетуя на то, что никогда не доводилось ему получить от нее обед вовремя, окончательной готовности риса, жареной курицы и салата, приправленных всевозможными специями в наилучшем сочетании и удовлетворявших самому изысканному вкусу. Однако здоровая пресность стала понемногу завладевать всеми блюдами, и в последний год своей жизни старик уже отказывался принимать из ее рук даже бутерброд и чашку кофе. Их теперь приносил ему из ближайшего ресторана сеньор Моиз, коего в собственную кухню госпожа Луриа не впускала.
В начале прекрасного прямого пути к здоровью было предано проклятию все жареное, ибо медицинские приложения тех дней убедительно доказали, что все жаренное на огне или на масле — враждебно желудку. Впоследствии к ненавистникам желудка, восстающим против него, чтобы его истребить[69], были причислены специи и пряности всех родов, и линия фронта протянулась до опасных солений. Стратеги здоровья, впрочем, соглашались, что «определенные дозы» соли необходимы для деятельности организма, однако все, превышающее эти «определенные дозы», с годами превращается во врага. Тяжелым камнем преткновения на пути госпожи Луриа были эти абсолютно недостаточно установленные в медицинском Писании «определенные дозы» соли, поискам которых посвящала она месяцы глубочайших исследований и многочисленных экспериментов. В последний год жизни старика, когда ее открытия привели к революционным сдвигам в представлениях о пище, «определенные дозы» соли перешли из области вкусовых ощущений в область аптекарских дозировок, и всякий, кто еще находился на низкой ступени развития, определяемой зависимостью от вкуса — дурного наследия прогнившей культуры, был неспособен получить удовольствие от любого из ее яств. Сам старик иногда отводил взгляд, чтобы его не стошнило при виде собственной жены, наслаждающейся курицей, сваренной в бульоне, очищенном от всего, что придает вкус. По смерти старика, еще перед тем как Гавриэль вернулся домой, благодаря прослушанной по радио лекции ей открылся новый враг здоровья там, где его трудно было себе представить, подобно пятой колонне ранее преспокойно гнездившийся в самом сердце крепости здоровья, а именно в сахарнице. Та лекция, которую она слышала по радио, касалась не вопросов здоровья, а скорее проблем философского свойства, и госпожа Луриа продолжала слушать ее не из-за ее содержания, а потому, что лекторский тон и манера его речи нравились ей на слух, ибо обычно она оказывалась под впечатлением тембра, а не содержания речей, и достаточно было чьему-либо голосу неприятно резануть ее чувствительное ухо, чтобы она нарочно заняла противоположную позицию, даже если дотоле думала так же, как его обладатель, и, только расставшись с ним, снова возвращалась к прежнему мнению. Тот лектор своим приятным голосом и в присущей ему милой манере вел на радио в определенное время цикл бесед о различных дальневосточных учениях и в тот вечер рассуждал о дзен-буддизме. Плывя по течению его голоса, она внезапно остановилась и начала с бьющимся сердцем прислушиваться к словам. Ей открылось, что эта философская система не есть лишь бесцельное сучение нитей мысли, ни к чему не обязывающее, ничего не прибавляющее и не убавляющее и подверженное изменению в зависимости от настроения, душевного состояния и сердечной склонности. Отнюдь нет — система эта, помимо прочего, стоит на страже здоровья человеческого тела и предостерегает его от кривых и неверных путей. Однако одновременно с радостным воодушевлением по поводу доставшегося ей невзначай важного открытия она почувствовала, что мир ее покачнулся от первой же заповеди учения о кошерной дзенской кухне, утверждающей, что врагом человеческим номер один является сахар, тот самый сахар, что доселе стоял в центре укреплений, сдерживающих натиск разнообразнейших специй и пряностей.
Неделю-другую она пребывала в недоумении, повиснув в пустоте, и душа ее раскачивалась в праще колебаний и сомнений, от абсолютного доверия к сахару и презрения ко всему учению дзен как к восточным фантазиям, далеким от всякого здравого смысла, до принятия этого учения как воссиявшей для мира из тайников Востока абсолютной истины и отчаяния, смешанного с тоской, от измены лучшего из союзников. Посреди хаоса и пустоты потемок на нее вдруг снизошел чудесный покой, когда сам собою, без всякой связи с истиной или ложью учения дзен, сверкнул перед ней правильный в своей простоте путь, стершийся было из ее памяти, ибо находился вне связи с данной проблемой. Закон для сахара тот же, что и для соли: будучи необходим для организма в «определенных дозах», он, следовательно, должен перейти из области вкуса в область аптекарских дозировок. Она была удивлена, как это столь ясный и простой практический вывод не приходил ей в голову прежде[70].
Еще до смерти старика, в то время, что он по-прежнему ждал в своем красном кресле, когда ему доведется отведать вкусных яств для гурманов, сама она вкушала свою пищу в одиночестве, поскольку кормление мужа не оставляло ей досуга на собственное питание, к тому же распорядок его визитов все равно не был установлен и никогда не совпадал с ее распорядком. А уж после его смерти ей и вовсе не случалось поесть в компании. Тем летом, до возвращения Гавриэля на родину, я видел ее за едой, и сердце мое сжималось под наплывом чего-то странного и потустороннего, словно порыв ветра из мира иного. Отрывая взгляд от книги, полученной от маленького библиотекаря с Абиссинской улицы, я видел с заднего двора верхнюю часть ее фигуры сквозь решетку окна, словно выраставшего из-под пола, так как ее комната, находившаяся за лестницей, была расположена ниже балкона, и стол был придвинут к самому подоконнику. Она сидела, склонившись и как будто целиком погрузившись в стоявшую перед нею тарелку, и во время жевания лицо ее было повернуто к решетке окна, растущего из пола, словно из подземной темницы, навстречу окружающему миру, но глаза, направленные на этот мир, на него не смотрели. Их взгляд словно проходил сквозь него далеко в иной, запредельный мир, в котором она пребывала, или он пребывал в ней, и поэтому то был, по сути дела, отстраненный и отрешенный взгляд грезящей наяву. За едой она словно бы предавалась одновременно двум действиям, не только различным, но и обычно воспринимаемым как взаимоисключающие, ибо одно из них было абсолютно плотским, а другое — абсолютно духовным. Все застольные правила, принятые в обществе, если и существовали для нее в далекие дни ее величия, исчезли, будто вовсе не бывали, в последние годы жизни старика, а уж после его смерти она обращала внимание на хорошие манеры ничуть не больше, чем заботилась бы о них кошка, поедающая вставными зубами куриное крылышко из бульона. И поскольку я до сих пор не видывал кошки со вставными зубами, то мне не доводилось слышать от жующей кошки такие звуки, которые вырывались из уст госпожи Луриа в час, когда подкрепляла она сердце свое. Вера в жевательную силу входила в число догматов ее религии здоровья, и посему она старательно исполняла сию заповедь и старательно пережевывала и вчистую перемалывала все попадавшее ей в рот. При этом каждое движение ее челюстей завершалось неким металлическим скрежетом. Время от времени, когда крошки забивались в пространство между вставным комплектом и пустыми деснами, она рукою высвобождала сей механизм изо рта и счищала досаждавшие ей крошки языком, одновременно разевая рот в отрыжке облегчения, ибо отрыжка и икота благотворно влияют на процесс пищеварения. По крайней мере единожды в продолжение каждой трапезы она отвлекалась от процесса жевания и начинала со всех сторон обнюхивать тарелку, хлеб или ложку в руке с пытливым выражением подозрения и опасения, ибо действительно отличалась исключительным обонянием и не раз выплескивала целую кастрюлю бульона, над которым трудилась, как у нее было заведено, часами, обнаружив в нем легчайший намек на запах отдаленных следов стирального мыла или нефти. Эти следы были настолько отдаленными, что никто в мире не мог бы их обнаружить, за исключением, быть может, ее сына Гавриэля. Подобные обычаи в еде, еще более обнажаемые и подчеркиваемые гримасами губ и щек, морганием, а также кусающими, сосущими, глотающими и лакающими звуками и скрежетом вставных зубов, придавали, как это ни удивительно, ее облику черты не грубости, но примитивной жизнедеятельности, к которой эпитет грубости подходит не более, чем к кошке, утоляющей свой голод. И в ней, как в той же кошке, изумление вызывала именно томная грация, прикрывающая обнаженную жизнедеятельность.
Одновременно с обнаженной, абсолютно телесной жизнедеятельностью и параллельно ей в принимающей пищу госпоже Луриа происходили абсолютно душевные и духовные процессы, отражавшиеся в материальном мире или, выходя из берегов, выплескивавшиеся в область физических действий. Когда она преодолевала препоны на нюхательном, отрыжечном и крошечноочистительном этапах и зубы ее принимались ритмично и исправно жевать, словно двигатели мерно плывущего корабля, госпожа Луриа отдавалась стихии своих дум и помыслов, подобно капитану, позволяющему себе предаться безмятежной дреме, выведя судно на морские просторы, за опасные пределы явных и скрытых от глаз прибрежных мелей.
А иногда ее охватывала радость, вызванная частыми и резкими переменами, происходившими в тончайших оттенках мерцания ее далеко унесшихся мыслей, и, возможно, эта радость была не более редкой, чем скорбь, но как скорбь, так и радость, сквозящая в выражении ее лица и темных глаз, сжимала мое сердце, словно порыв ветра из иных широт, хотя вид ее скорбной трапезы угнетал меня сильнее. Спустя многие годы после того, как тело ее вернулось в землю, из которой было взято[71], когда я однажды проходил мимо книжного магазина, мне бросилось в глаза заглавие одной из французских книг на витрине. Это был французский перевод сочинения Мигеля де Унамуно «Le sentiment tragique de la vie», то есть «Трагическое ощущение жизни», и при виде этого заглавия передо мной возник образ хозяйки нашего дома такой, какой я видел ее в окне во время еды. Ту книгу я не прочел и по сей день и не знаю, о чем она, но и сегодня я иногда ловлю себя на том, что повторяю про себя фразу: «Трагическое ощущение жизни», вспоминая скорбь в лице госпожи Луриа за трапезой, ту самую древнюю, примитивную, первичную скорбь, которая словно специально создана была для выражения трагической сущности земной жизни, где существование одного живого организма всегда обусловлено смертью и поеданием другого, живого и сущего, той древней скорби, которая, при всей своей первичности, вытекает не из самого земного бытия, абсолютно безразличного, но из иного, далекого и потустороннего мира. И как скорбь, так и радость, охватывавшая ее в круговороте застольных мыслей, всецело принадлежа к силам природы, проистекала все же из иного, далекого мира, в котором пребывала душа ее, в то время как рот, пережевывающий безвкусное куриное крылышко, сваренное без соли, обеспечивал существование ее тела в мире сем. И так, в процессе еды, она вдруг разражалась громким смехом. Иногда этот смех доносился будто из воспоминаний о забавных делах давно минувших дней, которые она вновь переживала со всей веселостью, а иногда казалось, что она приходит в восторг от шутки, которую шепчет ей на ухо некто, видимый ей одной. Но более всего несли с собой дуновение иного, потустороннего мира эти порывы смеха, рвавшиеся из нее, словно она натыкалась на невероятно смешные описания при чтении развернутой перед глазами где-то там, на краю небес, тайной, загадочной книги, доступной лишь ее взору.
В больших и малых перерывах между едой (ибо, как правило, ей приходилось прерываться, не добравшись до конца трапезы, накрывать тарелку с едой другой перевернутою тарелкой и вытягиваться на диване, чтобы перевести дух, прийти в себя после «волны жара», как она выражалась, накатывавшей на нее несколько раз на дню на протяжении всех долгих лет после того, как обыкновенное у женщин у нее прекратилось[72], или просто отдохнуть от утомительного питания), в перерывах этих, передохнув по мере необходимости, порой мурлыкала она одну из песенок своего детства, проведенного в еврейско-английской школе для девочек имени Эвелины де Ротшильд, а порой со все нарастающим ликованием пела и в полный голос, сохранявший удивительную прозрачность и звонкость.
Не раз я видел, как в те дни, когда на нее нападала такая безудержная радость жизни, она ела жареное мясо в сопровождении квашеных, соленых и перченых врагов своего здоровья и при этом отнюдь не казалась обескураженной сомнениями по поводу противоречия между теорией и практикой. Она, похоже, переставала заботиться о своей жизни именно в тот момент, когда обнаруживала в ней радость и вкус, в другое же время старательно оберегала свою жизнь, тщательно соблюдая со всей строгостью закона самые незначительные мелочи в тончайшей системе питания и охраняя себя от всего, что представляло опасность для земной жизни. И чем более эта жизнь была ей в тягость, чем постылее становилась для нее, тем больше она старалась и тем тщательнее все соблюдала в тоске и печали.
Напомнив блудному сыну, что пенка есть важнейшая часть молока, и отправившись готовить ему кофе по всем правилам здоровья, она стала напевать какую-то песенку. Когда она вернулась на балкон с готовым кофе, лицо ее все еще улыбалось, но тем не менее уготованная Гавриэлю встреча завершилась отнюдь не радостными кликами. Разговаривая с ним, госпожа Луриа впала в сентиментальность, очень быстро превратившуюся во вспышку ярости, подобной которой не случалось с нею со смерти старика. Щегольство сыновьего одеяния — вот что распалило ее гнев. Черная лента на белой «панаме», золотые пуговицы на синем пиджаке, тщательно отутюженная складка белых шерстяных брюк — то легкомысленное, кокетливое, открытое и беззаботное щегольство, которое только что растопило оболочку отстраненности в непроницаемо далеком выражении ее лица. На крайней стадии своей ярости она выглядела уже в точности так же, как при жизни старого бека, когда руки ее и распустившиеся кудри дико метались во все стороны, а глаза застила пелена истерики. Однако сейчас не на лысую голову, покрытую капельками пота, сверкающими искорками в свете заходящего солнца, обрушивались ее вопли, но на белую и легкую плетеную шляпу. Время словно бы остановилось для нее, и как стояла она тут и кричала год назад и два года назад, так и сейчас она стоит и кричит, и все отличия и перемены — плоды времени и приметы, свидетельствующие о его природе, произошли только в сидящем в красном плюшевом кресле, превратившемся из почтенного грузного господина, обломка Оттоманской империи, в этакого киноартиста, вышедшего из французского фильма. Даже упреки, претензии и обвинения, срывающиеся с ее уст, вопреки всем различиям и вариациям, повторялись, вертясь вокруг денежной оси, ибо от старика требовала она денег, а от сына требовала, чтобы он не транжирил посланные ему деньги на золотые пуговицы и серебряные набалдашники, одинаково бессмысленные и пустые. Помимо этих различий, вариаций и тому подобного, она припомнила сыну, так же как напоминала его отцу, все великие непрерывные жертвы, которые ежедневно приносила она ради него, за которые он удостаивал ее лишь равнодушия, преступного безразличия, а иногда даже полнейшего пренебрежения, презрения и «плевка в лицо». Разве не ради него одного, единственного своего сына, покинула она большую квартиру и перешла жить в подвал под лестницей, где она хоронит себя заживо меж сырых стен только ради того, чтобы посылать ему в Париж скромную квартплату, чтоб он там не сдох с голоду с тех пор, как старик прекратил его содержание. И все те великие и ужасные войны, которые она вела со стариком последние годы его жизни, разве ради себя воевала она и проливала желчь и кровью харкала за каждую выжатую из него пруту[73]? Ей самой ни в чем нет надобности. Ей довольно хлеба в горести и воды в нужде[74], и тем не менее не довелось ей достичь покоя и после смерти старика. Наоборот — она вдруг оказалась одинокой в битве со стаей слепней, с полчищами мерзких пиявок, со всей толпою его родственников, накинувшихся на нее, словно убийцы с ножами, чтобы вытрясти из нее все, даже этот дом, который тот ей завещал, а он, дорогой сыночек, не только не потрудился поспешить на помощь старой, больной и одинокой матери, бьющейся не на жизнь, а на смерть, но даже отправить ей ободряющее послание было ему недосуг, ведь он, конечно, был занят… игрой в карты и танцульками. А что он сделал с деньгами, которые она ему посылала? Видят глаза ее, что растранжирил их на «панамы», на золотые пуговицы, на серебряные палки. А что же в этом удивительного? Они ведь похожи со своим отцом-родителем как две капли воды, ведь он кость от кости и плоть от плоти этого старого турецкого распутника, этого погрязшего в разврате нечестивца, что под старость начал в деланном благочестии возводить свои похотливые глазки к небесам и говорить про учителя нашего Моисея! Все, что она экономила на себе и посылала ему, она, оставшаяся одинокой и больной вдовою в сыром погребе, он выложил в Париже на франтовство и фатовство, как какой-нибудь сутенер, и ей ничего больше не остается, как покончить с собой и раз и навсегда положить конец всем свои мучениям. Все равно ее единственного сыночка не волнует, хорошо ей или плохо, жива она или мертва, он косится только на ее деньги. Только тогда, когда она лишит себя жизни, ему станет ясно, что зря он ждал ее смерти, что все она уже отдала ему при жизни, все, что сэкономила на себе. Видят глаза ее, что не будь этой напрасной надежды выманить у нее наследство, которого вовсе и не бывало, он бы не соизволил затруднить себя возвращением к ней, ведь он кость от кости и плоть от плоти своего отца, и так же, как и отцу, любая уличная шлюха ему дороже матери.
По смерти мужа, а особенно после того, как старый судья завершил ведение дела о наследстве к ее полному удовлетворению, страх денег настолько овладел ею, что она совершенно прекратила посылать их сыну и жаловала его исключительно посылками, тщательно перевязанными целыми мотками бечевки, которые я носил на почту. Посылки те содержали теплое белье — шерстяные кальсоны и фуфайки с длинными рукавами, иногда еще носки и безрукавки.
— Я его хорошо знаю, — говаривала она мне. — Наверняка он там ходит на парижском холоде в коротких тонких трусах и вовек не зайдет в лавку купить себе шерстяные кальсоны.
Деньги она ему посылала до тех пор, пока у нее не было собственного имущества, и хотя то были маленькие суммы, которые ей удавалось сэкономить на собственных нуждах, ей в то время все же не приходило в голову удерживать что-либо у себя, ибо деньги сами по себе не имели в ее глазах никакого значения, и все те войны, которыми она портила жизнь своему мужу, насыщая его горечью[75], разражались лишь постольку, поскольку ей казалось, что причитающееся ей он отдает другим женщинам. Поелику тогда она воевала не из-за денег, а из принципа, можно сказать, что то были своего рода идеологические войны, свободные от всякой корысти. Лишь вступив во владение имуществом старика и впав в страшную тревогу за завтрашний день, она стала дрожать над каждой копейкой и подозревать каждого, а в особенности собственного сына, что тот собирается хитрыми уловками и мошенничеством отнять у нее деньги. Тем не менее, когда сын вернулся на родину, она готова была во время приступов радости, напевая песенки времен своего ученичества и в сердечном томлении вспоминая лучшие годы своей жизни с мужем, благословенна его память, что был «красив как итальянец и большой души человек», в эти минуты готова была госпожа Луриа отдать Гавриэлю все свои сбережения и даже уговаривала его «купить все необходимое, ведь денег, славу Богу, есть в достатке». Но Гавриэль никогда не пользовался подходящими минутами ее щедрости (обычно заканчивающимися тем, что она отправлялась на рынок и покупала ему еще две пары шерстяных носков и полдюжины шерстяных кальсон, которые так и оставались без употребления), хотя прекрасно знал, что сей факт не будет помянут ему добром в час гнева и что первая же искра ярости заново вызовет все ее подозрения в том, что он только и помышляет, как бы своими коварными кознями выманить у нее деньги.
Он также не отвечал ей ни слова в течение всего приступа материнского гнева по поводу золоченых пуговиц на синем пиджаке и трости с круглым серебряным набалдашником, но продолжал сидеть в красном кресле, курить, время от времени прихлебывая безвкусный кофе, который она ему подала, и терпеливо смотреть прямо перед собой. Я видел его и взрывающимся ей в ответ, но к его взрывам я еще вернусь в свое время и в своем месте. Не знаю, достаточно ли слово «терпеливо» передает впечатление, производимое выражением его лица. То было терпение нетерпимости, в котором присутствовало основанное на опыте принятие приговора, но это принятие приговора относилось исключительно к факту приступа ярости, неизбежного в вулканическом пейзаже их встреч, но не к содержанию речей, рвущихся из ее рта и брызжущих на него, подобно побочным продуктам кипения. Речей ее он не только не принимал, но и как будто закрывался от них ставнями, и, словно дождь, не проникающий внутрь дома, слышался лишь шум их затянувшихся потоков, барабанящих снаружи. Речи ее оставались вне его, и он оставался вне ее речей со своим усталым и отсутствующим взором, отстраненным, как и ее взор во время еды.
Когда великая буря стихала и она усаживалась подле него и заводила разговор мягким, как эхо ее мыслей о нем и о его судьбе, голосом, они были похожи друг на друга отсутствующим и рассеянным взглядом своих глаз. Они выглядели как двое сидящих друг против друга в вагоне, увозящем их далеко-далеко, куда глаза глядят. Однако же в отстраненности, которой они так походили друг на друга, заключено было и их несходство. Суть его отстраненности была иной, чем ее. Они сидели друг против друга и одновременно уносились вдаль, но в разных направлениях, в чуждые и несовместимые пейзажи. Она заговорила с ним о нем и начала со старого судьи. Когда Дан Гуткин отправился изучать в Англии юриспруденцию, он не был уже молодым человеком. Он был человеком в солидных годах. Он начал там свои занятия в том возрасте, когда обычно карьера уже сделана.
— Папа, благословенна память его…
Разговаривая с Гавриэлем о его отце, госпожа Луриа говорила «папа», а о собственном отце говорила «дедушка», всегда добавляя к этим словам определенный артикль. Выражением «твой отец» она пользовалась, когда дух ее был удручен и буен, и все претензии и упреки к покойному мужу всплывали в ней заново во всей их свежести и остроте, словно сидел он, живой и сущий, напротив нее. «Вы ведь похожи с твоим отцом, как две капли воды, ведь ты кость от кости его и плоть от плоти» — эта фраза предназначалась для сходства их дурных черт, в то время как зачины типа «ты так похож в этом на папу» или «в этом папа был похож на тебя» возвещали умиление всем тем прекрасным, что Гавриэль унаследовал от отца.
— Папа, благословенна память его, который был таким добрым, который был, в сущности, слишком добрым и разбрасывал свои деньги направо и налево на всевозможные благотворительные дела, это он, папа, убедил Дана Гуткина ехать, и он же помог ему деньгами и связями и рекомендательными письмами. При всем при том все, что он ему посылал, было ведь ничто по сравнению с тем, что он давал тебе все годы, когда ты был во Франции. Я еще помню, какой у него был вид, когда мы его провожали на пароход, папа и я. Он плыл в самом плохом отделении, где несчастные пассажиры не получали еду. Каждый из них во время плаванья питался своим, и он запасся жестянкой оливок и двумя пачками мацы и на этих оливках и маце добрался до Англии. Но ты бы посмотрел, как он оттуда вернулся! На самом деле еще до возвращения он был назначен здесь мировым судьей и в короткое время поднялся до Верховного суда и стал кавалером ордена пятой степени. Да что это я рассказываю тебе сказки прежних времен! Вот тебе твои ровесники — твои дружки, которые учились вместе с тобой. Вот, например, Ицик Блюм, который тебе в подметки не годится… Да и кто из всех дружков, которые учились вместе с тобой, годится тебе в подметки? Ведь все они просто ничто рядом с тобой. Ицик Блюм этот самый, сын этого гадкого и тупого побирушки, поехал себе в Бейрут учиться там в американском университете, вернулся доктором химии, открыл аптеку и превратился в важного человека. А посмотри, как вернулся ты, что был в детстве всегда словно царский сын по сравнению со всеми иерусалимскими нищими, доходягами и попрошайками? Отправился в путь как принц и там ни в чем не нуждался, пока не прекратил учебу. И вправду, спрашиваю я тебя: как ты там жил с тех пор, как папа перестал посылать тебе деньги? Как ты жил три года в большом, чужом и жестоком городе без гроша на развод? Меня дрожь пронимает, стоит мне подумать, как ты там очутился на улице. Надеюсь, что эта ужасная жизнь хоть не повредила твоему здоровью. Главное — береги свое здоровье, а все прочее: почетные титулы, важные должности, капиталы — все это и правда не имеет значения.
С течением дней, пока Гавриэль продолжал проводить свои утра в этом красном кресле за курением сигарет и питьем кофе, я постоянно слышал из уст его матери ту же самую песенку, начинавшуюся с аккорда сожаления о сокрытом в ее сыне величии, не вышедшем из своих тайников на свет божий, продолжавшуюся осуждением всех презренных ничтожеств, когтями и пинками пробивающихся к зловонным вершинам мнимой славы и внешнего почета, переходившую в гимн-славословие подлинным талантам, даденным Гавриэлю от рождения, и завершавшуюся кодой, в которой звучали принципы, необходимые для существования человека в материальном мире, то есть — правила сохранения телесного здоровья.
Исходя из тех же принципов, необходимых тому же человеку для существования в мире сем, она выражала иногда удовлетворение тем фактом, что Гавриэль в конце концов не завершил свое медицинское образование в Париже, то есть самой неудачей его карьеры, по поводу чего она, как правило, выражала свое сожаление. Просто чудо было сотворено ради нее, повторяла госпожа Луриа, что Гавриэль не врач, ведь если бы он был врачом, его жизнь подвергалась бы постоянной опасности со стороны родичей всех больных, которые по зрелом размышлении покидали сей мир. Безутешные члены семей стали бы возлагать на него ответственность за смерть этих больных, платили бы ему ненавистью и стремились бы ему отомстить. Уже однажды подобная история случилась с одним зубным врачом, доктором Мельманом, который по ошибке вырвал зуб, вокруг которого все было воспалено и гноилось. От той операции больной получил заражение крови и умер. Среди родственников больного пронесся слух… А были они не то из Персии, не то из Урфы, из тех, что не церемонятся, тех, что понаехали из-за гор Араратских и из-за гор Тьмы, из какой-то Богом забытой дыры между Персией и Медианом, и все они, всем кланом, собрались с ним расправиться и отомстить за кровь своего родича. Короче говоря, а что тут много говорить, пришлось этому доктору под покровом ночи спасать свою жизнь, бежать, стуча зубами, до самой Америки и не возвращаться сюда прежде, чем не прошло много лет, да и то лишь после того, как он сменил имя и стал зваться доктор Яркони. Много их, этих больных, что не выздоравливают от своих болезней и умирают от них. Есть такие, что запирают, несмотря на вмешательство врача, а большинство их умирает из-за вмешательства врача. И те и другие одинаково угрожают жизни врача даже тогда, когда приезжают не из-за гор Араратских, а из-за широкого моря-океана. Кроме глазного врача, доктора Ландау, она не знает ни единого врача, которому можно доверять. И даже самого доктора Ландау, который вылечил массу страшных болезней всего этого сброда от Инда до земли Куш, разве не подкараулил его какой-то араб во время последних событий и не воткнул ему кинжал в спину? А араб этот в свое время не ослеп только благодаря исключительным стараниям доктора Ландау. А если ты спрашиваешь, как такое возможно, то, видать, не знаешь, как сильно на арабов действует подстрекательство: достаточно арабскому шейху подняться в пятницу на кафедру в мечети и объяснить правоверным, что все их беды приходят к ним от евреев и провозгласить «иттабах аль-яхуд», то есть «убей еврея», чтобы все прямо из мечети кинулись на улицы убивать евреев, даже если их самих еврейские врачи вылечили от смертельных болезней.
Хорошо также, что не вздумал он изучать законы и не стал юристом, ведь и тот обычно приобретает ненависть клиентов. Никогда адвокат не понимает дела так, как хочется клиенту, и уже это — источник трений между ними. С этого момента клиент начинает подозревать своего адвоката в том, что тот сговорился с его врагами, а в конце, если ему случится проиграть дело, тут уж его ненависти предела нет. И вот, так же как госпожа Луриа обнаруживала в каждом продукте и в каждой приправе тайного врага здоровья, ее глазам открывались опасности, кроющиеся в каждой профессии, о которой она задумывалась. В конце концов она не нашла для человека ничего лучше, чем должность консула одной из дальних заморских стран, как та, что была у Иегуды Проспера, да почиет он в раю, который был при турках консулом Испании. Но даже и эта должность не совершенно лишена опасностей, и главная среди них — зависть. Почет и уважение, которые она приносит, вызывают зависть людскую. Она, будучи женою консула Испании в Иерусалиме во дни турецкого владычества, прекрасно знает, что значит человеку быть консулом и жене его быть консульшей, и пусть ей не рассказывают сказки. Ничего от него, от консула, не требуется, только бы приятно проводил время на приемах, торжествах и банкетах, и чем больше такой консул бегает с приема на прием и с одного торжества на другое, тем больше ему славы и почета. Что же, однако? Чтобы быть увенчанным таким званием, прежде всего должно быть большим богачом, человеком деловым и крепко стоящим на ногах в этом мире со всеми его скрытыми механизмами, человеком, сведущим в государственных порядках, то есть знающим, где, когда и кому дать подходящий бакшиш, одним словом — человеком, всеми уважаемым, приемлемым для властей и приятным всем тем, кто в верхах, каким и был старый турецкий распутник. А если ты скажешь, что старик был мечтателем, витавшим в мире восточных фантазий и стремившимся походить на Моисея, если ты так скажешь, следовательно, ты его не знал и не разбирался в его натуре. Этот старый лис был практичен, как никто другой, единственный в своем роде дока, умевший и упрямых переупрямить, и лукавых перелукавить. Все его восточные фантазии сидели у него в особом отделении, запертые на засов. Не они над ним властвовали, а он над ними, и не выпускал их из-под ареста кроме как под кровом собственного дома. Только перед нею давал он волю всем своим иллюзиям, словно какой-то прекраснодушный фантазер, стремящийся только вывести свой народ из рабства, подобно учителю нашему Моисею. Если бы Гавриэль был деловым человеком, как его отец, у нее бы гора с плеч свалилась. Только тогда была бы у нее опора и уверенность, что он найдет свой путь в жизни и во всем, к чему обратится, достигнет успеха. В первые недели по его возвращении, когда отстраненный и отсутствующий взгляд ее натыкался на Гавриэля, сидевшего в красном кресле, она отрывалась от своей еды и говорила ему:
— Если бы ты был деловым человеком, как твой отец, а не блаженным, как твой дедушка, я могла бы умереть спокойно.
В ее речи, в которых выговаривала она свою печаль и тревогу, вплетался оттенок раздражения на сына, что не сумел выбрать для себя из всей благодати наследия своих предков прекрасные качества, необходимые для благополучной и уютной жизни в мире сем. Ведь мог он, например, унаследовать от своего отца деловую хватку и умение навязать свою волю окружающим, и профессиональную хватку от ее отца, и прекрасно вооруженный тем и другим идти от победы к победе и плевать на весь мир! Но нет: Гавриэль Луриа — не тот человек, что принесет утешение своей старой и больной матери. Вместо этого Гавриэль со всей своей великой опрометчивостью загреб одной рукою пригоршню восточных фантазий своего отца, а другой рукою — блажи ее отца, всю беспомощность, из-за которой тот умер голым и босым, хоть и был лучшим на всем турецком Востоке краснодеревщиком, к которому ехали из Яффы, и из Бейрута, и даже из Дамаска, чтобы он чуть не даром сделал им мебель. Даже назначенную ему за работу ничтожную плату ему не платили, потому что сразу видели, с кем имеют дело. Отец ее попросту не принадлежал к миру сему, ведь он всегда пребывал в каком-то телячьем восторге от всяких сказок и воздушных замков, от всяких мидрашей и притч, которыми пичкали его синагогальные старосты и прочие бородатые и пейсатые мерзавцы вместо того чтобы заплатить ему за аронот-кодеш, которые он для них делал. И эту-то исключительную блажь, приносившую одни страдания и ему самому, и его жене, и особенно детям малым, ее единственный сын должен был унаследовать! Но сын ее, который, слава Богу, не находится в плену мидрашей и притч, в каких облаках витает он, сидя там, в красном кресле?
В том красном кресле Гавриэль проводил значительную часть своего дня и по утрам даже брился в нем, не вставая. В том же кресле я однажды видел и его отца, брившегося опасной бритвой незадолго до смерти. На самом деле это сеньор Моиз стоял над ним, слегка расставив свои длинные ноги и с выражением абсолютной поглощенности своим возвышенным и тонким занятием, не лишенным оттенка священнодействия. Внезапно старик что-то сердито пробормотал и велел ему немедленно принести большое зеркало с кухни, ибо он решительно вознамерился побриться самостоятельно. Лицо Моиза искривилось, словно он собирался разрыдаться от внезапного горя, и он остался стоять на месте с бритвою в вытянутой руке, потрясенный приказом старика. Уже долгие годы Иегуда Проспер не держал в своих дрожащих руках бритвы, и даже в те далекие дни, когда находился в полном расцвете физических сил и руки его были ему послушны и выполняли все тончайшие детали его переменчивых желаний, даже тогда предпочитал он вверять бритье своей бороды рукам цирюльника. Сеньору Моизу отнюдь не приходило в голову ослушаться своего господина, но ему было ясно, что в ту же минуту, когда он передаст ему тщательно отточенную при помощи кожаной ленты бритву, жизнь старика будет в опасности, ведь бритва в дрожащих руках может перерезать ему горло, если случится с ним как раз в этот момент стариковский спазм. Старик протянул трясущуюся руку за бритвой, и Моиз отпрянул. На миг мне показалось, что из-за любви и верности своему господину его оруженосец откажется исполнить приказ, и пока бессильная рука продолжала колыхаться в воздухе, лысый старик, погруженный в кресло и обернутый полотенцем перед тазиком с пенящейся мыльной водой, выглядел как младенец, чьи волосы еще не отросли, полный возмущения оттого, что стоящий над ним кормилец отказывается дать ему поиграть искрящимся лезвием ножа. Тончайшим, как отточенное лезвие бритвы, был миг перехода сеньора Моиза из состояния оруженосца, верующего в своего владыку и следующего его заповедям, не размышляя на их счет, в слугу, противящегося воле господина и распространяющего на него логику своей любви, но то был лишь переходный момент. Тот самый старик, который не мог преодолеть дрожь в руках и спазмы в горле, сумел совладать с твердой рукою сеньора Моиза, медленно и осторожно вложившей бритву в протянутую к нему ладонь. Всю свою жизнь старик продолжал бриться опасной бритвой только потому, что так и не смог приспособиться к станку, остававшемуся для него сложным, причудливым и опасным устройством, хоть ему и объясняли, что предназначен он для облегчения процесса бритья и избавления от опасностей опасной бритвы, а отнюдь не из-за формального консерватизма, которого в нем вовсе не было. Наоборот, он ведь всю жизнь старался, как говорят пропагандисты и прогрессисты, шагать в ногу со временем и был из первых выдающихся личностей Оттоманской империи, сменивших красную феску на черный лондонский котелок и кальян — на английскую сигарету. Гавриэль уже не знал, как и взяться за опасную бритву, но подобно отцу всегда брился сидя и в летние дни всегда делал это на балконе у железного столика о трех ножках. В отличие от старика Гавриэль брезговал бритьем у парикмахера, несмотря на то что любил стричься и, как мне кажется, ходил к парикмахеру, Хаиму Коэн-Цедеку, по крайней мере раз в месяц. Волос у него было в изобилии, несмотря на два глубоких мыса широчайшего лба (правый мыс был глубже, чем левый), и никаких признаков поредения не наблюдалось и к сорока годам, дававшим о себе знать лишь несколькими прядками седины, появившимися, по его словам, еще когда он был парнем лет двадцати с небольшим. Из-за густоты волос у него не было «дорожки», как именовал он пробор, и он зачесывал волосы назад расческой и щеткой, после того как обрызгивал и ту и другую водой, чтобы волосы не спутывались. То же самое стремление избежать спутанных волос по крайней мере раз в месяц толкало его в руки парикмахера. Он любил стричься очень коротко и постоянно напоминал парикмахеру, чтобы тот как можно короче выстригал волосы на затылке и на висках, на манер британских солдат.
— Я не хочу выглядеть философствующим художником, — сказал он парикмахеру, пытавшемуся убедить его отпустить бакенбарды, а в другой раз сказал ему:
— Не делайте из меня общественника, пишущего стихи. Ведь вы знаете, что мне нужна английская прическа.
Молодежи наших дней, в которые записываю я эти воспоминания, отращивающей волосы на английский манер — под «Битлз» и всех прочих, трудно, конечно, представить себе, что тридцать лет назад английская прическа была синонимом стрижки в строгом армейском духе. Однажды он долго не стригся по болезни и, подойдя к зеркалу и увидев свою беспорядочную шевелюру, раскинувшуюся во всех направлениях, наморщил лоб и сказал не то с тревогой, не то с торжеством:
— А теперь я наконец выгляжу, как сошедший с ума немецкий композитор.
Это выражение: «Я выгляжу как сошедший с ума немецкий композитор» он повторял во всех тех случаях, когда по небрежению или в спешке не следил за своей одеждой — за белизной рубашки или отглаженностью брючных складок. В сущности, он так старался не выглядеть безумным сочинителем мелодий, что появлялся, особенно в первые недели по возвращении домой, в образе французского бонвивана, который только тем и живет, что увивается за женщинами и гоняется за прочими радостями мира сего в их самой банальной форме, французского бонвивана самого назойливого типа — армейского, эдакий офицерик, проводящий отпуск в городе, переодевшись в штатское. Парикмахер, по опыту знавший, что Гавриэль не готов вверить свое лицо для бритья в чужие руки, не отчаивался и снова повторял каждый раз с деловым и озабоченным видом: «Стрижка или бритье?» Профессиональная гордость его была уязвлена упрямым отказом, поскольку он совершенно не понимал, отчего это Гавриэль, любивший ощущать прикосновение бритвы в руках парикмахера на затылке и за ушами, так избегал прикосновений той же бритвы в той же руке к коже своего лица. У него вообще была прекрасная смуглая кожа, легко загоравшая на солнце. Вместе с тем на лице она была очень чувствительна к любому прикосновению. Если бритва располагалась под непривычным ему углом, в этом месте возникало раздражение, и порой он сам невзначай вызывал у себя раздражение кожи, особенно в те минуты, когда бывал по какой-либо причине взволнован или рассержен. Эта повышенная раздражительность кожи лица давала о себе знать в отношениях, столь же далеких от его отношений с парикмахером, сколь далек восток от запада, а именно — в его отношениях с теми женщинами, с которыми он только спал, то есть совокуплялся с ними, не целуя и ни под каким видом не приближая к их коже кожу своего лица. Единственным, что напоминало в этих отношениях его отношения с парикмахером, была обида, ибо и они, подобно парикмахеру, расставались с Гавриэлем оскорбленными. В то же время были женщины, с первой же встречи возбуждавшие в Гавриэле стремление прижаться к ним лицом и поцеловать, но до этого мы еще не дошли, поскольку Гавриэль занят пока приготовлениями к бритью, а я лишь намеревался описать здесь черты сходства и различия между ним и его отцом во всем, что связано с проблемами бритья.
Во время подготовки к бритью, расставления всего необходимого на балконном столике и особенно в то время, которое требовалось для нагрева воды на примусе, Гавриэль заливался пением, как правило, сам не обращая внимания на то, что поет. Поэтому не раз бывал он внезапно потрясен и разозлен, когда из комнаты высовывалась материнская голова, обмотанная влажной белой тряпкой против головокружения, и взывала к нему:
— Может быть, ты уже прекратишь так громко петь! Почему ты начинаешь поднимать шум именно тогда, когда я чувствую, что моя голова разламывается от боли? Ты ведь голосом похож на своего отца. Это не голос, а львиный рык из леса. И скажи мне, пожалуйста, чем ты лучше этого польского филина госпожи Ландау? Почему вы с этим польским филином объединились, чтобы сжить меня со свету? Как только тот прекращает барабанить изо всех сил по проклятому роялю, этот начинает рычать как лев.
Гнев и горечь в ее голосе и словах и в нем вызывали гнев и горечь, мигом отбивавшие желание петь.
В первые дни по возвращении на родину он, нагревая по утрам на примусе воду для бритья, напевал по-французски народную детскую песенку: «По пути я встретил дочку жнеца, по пути я встретил дочку косаря» мягким баритоном, повышавшимся и крепнувшим с нарастанием темпа и время от времени норовившим удариться в пафос. Он сам никогда не замечал в своем голосе патетических оттенков и, когда ему на это указывали, бывал по-настоящему оскорблен, ведь он чурался всяких проявлений пафоса как в пении, так и в любой другой сфере. Напевая и поправляя фитиль в ожидании пара, который должен был начать подниматься из кастрюли с водой, он отстукивал пальцами ритм.
— Как это прекрасно, — сказал он, объяснив мне слова песенки. — Сколько ностальгического есть в этих простых словах: «По пути я встретил дочку жнеца! Да-да, встретил я дочку косаря».
Я же сначала не восхитился ни мотивом, ни словами. Мотив не вызвал во мне никакого отклика, а простые эти слова не говорили мне, в сущности, ничего, и меня заинтересовала только история, которую он рассказал о своем пребывании в той деревушке во французской провинции Бретань, где он услышал эту песню. Только годы спустя, когда внезапно эти звуки понеслись на радиоволнах из окна дома, рядом с которым я случайно проходил, сердце мое сжалось от налетевшей бури воспоминаний, и я понял, что такое «прилив ностальгии», о котором он говорил тогда. О каждой песне, которую он пел, Гавриэль говорил, что это — «прилив ностальгии». Проходя мимо старинных крестьянских домов между живых изгородей к деревянному мосту через речку, ведущему к тропинке в поле, он весь напрягался в ожидании возникновения девушки прямо из колосящейся нивы, из ветра Карнакского залива, несущего запах Атлантического океана, из речной воды, лижущей корни живых изгородей, из камней старинных домов, грезящих столетиями обо всех поколениях родившихся и умерших в деревянных кроватях под балдахинами с кисейными кружевами, из стволов гигантских дубов, оставшихся от леса, из развалин крепости на вершине холма, из ритма дыхания этой земли, и порывов ее ветров, и цветов ее закатов, отлившихся в мелодию этого народа и в слова этой песни: «По пути я встретил дочку жнеца». Он ждал, что девушка выйдет из полей и встретит его на дощатом деревянном мосту, и улыбнется ему глазами, и упадет в его объятия, и откроет ему свой источник, дабы он проник в его тайны.
Словно проникая в тайну, залезал он в свою старинную кровать в старинной комнате старинной фермы у подножия разрушенной крепости. Эта бретонская кровать, на наречии местных жителей называемая «закрытой кроватью», целиком сделана из дерева с орнаментальной резьбой, подобной кружевам. Когда ее подвижные двери закрыты, она выглядит как чрезмерно высокий и широкий комод с оконцами и глазками, вплетенными в резные орнаменты. Чтобы открыть ее, поднимаются на высокую приступку, тянущуюся по всему основанию и также украшенную перекрещивающимися клетками и переплетенными кружками, а когда ее отодвигают, выясняется, что это не что иное, как подвижный ларь, который можно отпереть и сложить в него белье. Взобравшись на этот ларь-постамент и разведя в стороны дверцы, человек обнаруживает перед собою кровать, открывающуюся ему со всеми своими подушками и перинами в недрах, огороженных со всех сторон высокими стенками, поддерживающими прикрывающий ее сверху балдахин, а войдя внутрь и затворив за собою двери, оказывается вдруг в замкнутом мире, в темноте, внутри которой мягко светятся клетки оконцев и кружки глазков. Дому-кровати, как и дому-ферме, было около четырехсот лет, и старая хозяйка утверждала про некоторые другие предметы, что и они достигли столь же выдающегося возраста. В отличие от них простыни и наволочки были еще совсем молодыми, не достигшими и семидесяти лет. Все это хозяйка-старушка рассказывала ему по-французски, ибо была женщиной просвещенной, но со служанкой, которая была еще старее, чем она сама, и со всеми работниками на ферме разговаривала она на местном наречии, на старобретонском языке. До великой войны (той, что у нас нынче называется Первой мировой, а все эти вещи Гавриэль слышал от нее примерно за год до возвращения в Иерусалим, то есть года за четыре до начала Второй мировой войны) ни один из сельскохозяйственных рабочих на ее ферме и на трех соседних, а деревня состояла всего из четырех хозяйств, не знал ни слова по-французски. Только когда началась война и они пошли на фронт вместе с французскими частями, то за четыре года службы в армии научились понимать этот чужой язык. С тех пор уже и девушки стали менять наряды: черные юбки, расшитые фартуки и кружевные чепцы — «на парижские платья, сшитые по вкусу грубой толпы». В первое же утро, когда он раскрыл глаза под балдахином своей доисторической кровати, хозяйка фермы, принесшая ему в постель завтрак на жестяном подносе, рассказала ему историю, произошедшую с красавицей Мадлен триста лет назад. Пока он жил в ее доме в качестве богатого студента из Парижа, приехавшего в район Карнака исследовать первобытные мегалиты[76], она собственноручно подавала ему завтрак, приготовленный старой служанкой, почитавшейся недостойной чести подношения крепкого ароматного кофе и горячих булочек, намазанных маслом и джемом, ученому гостю. Одна из ее прародительниц, родившаяся около трехсот лет назад в этой самой постели, звалась Красавицей Мадлен, ибо и впрямь была красавицей, восхищавшей взоры всех и каждого, прекрасной и полной радости жизни и жажды наслаждений мира сего. Она приятно проводила время и путалась с красивейшими из местных мужчин, но грехи эти таила в сердце своем и не сознавалась в них священнику на исповеди. И вот однажды Сатана явился ей в образе молодого аристократа-иностранца, приехавшего из Парижа, чтобы увидеть дольмены и менгиры — гигантские каменные глыбы, оставшиеся от тех, кто жил здесь много тысячелетий назад и поклонялся Солнцу, Луне и созвездиям. Красавица Мадлен была его проводницей и водила его к рядам столбов, каждый из которых был сделан из цельного кремня семиметровой высоты, и к дольменам, туда, где находится «Стол торговцев» — громадная каменная плита, на которой вытесаны различные плоды и колосья. И там, на этом «Столе торговцев», возлегла с ним и полюбила его всем сердцем. С тех пор Красавица Мадлен только и старалась, чтобы угодить ему, чужому этому французскому аристократу, который был, как нам известно, самим Сатаной, и насытить его наслаждениями, но тот, вместо того чтобы радоваться ей, день за днем, казалось, погружался во все большую тоску. Сердце ее разрывалось при виде этого, и она упала перед ним на колени и умоляла поведать, что она еще должна сделать для него, и взывала к нему, чтобы просил от нее чего хочет — и будет ему дано. «Когда б отведать мне от святого причастия, — ответствовал он, — спасена была бы жизнь моя». «И только? — воскликнула Красавица Мадлен, и поразилась, и возрадовалась премного. — Что может быть проще?» — «Когда б дала ты мне от хлеба святого вкусить и вина святого испить, спаслась бы душа моя тобою», — сказал ей Сатана. И поспешила она легкими своими стопами к церкви, и прокралась тайком в камору священника, что за завесою, и простерла руку свою к просфоре и к меху с вином, дабы доставить их возлюбленному сердца своего. И не думала Красавица Мадлен, и не чуяла, и на сердце свое не положила, что хлеб святой — плоть Христова, дарованная верующим в святости, дабы ею обрели спасение, и вино святое — кровь, данная священникам для освящения душ, как сказано: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов»[77].
— Ну и чем же она кончила? — спросил Гавриэль.
— Она умерла в этой самой постели, где лежит сударь, — ответила фермерша. — Я уж вам сказывала, что это дело случилось почти триста лет назад. Умерев, спустилась она в ад, и до сего дня мается душа ее муками голода и жажды. Священник нашей церкви всегда повторяет нам в своих проповедях рассказ о делах этой Красавицы Мадлен и о страшных муках голода и жажды, которыми душа ее мается в аду. Дело это известно по всей стране, и не только в нашей церкви, но и во всех церквах в округе проповедуют священники о том, что наделала Красавица Мадлен — и в церкви Локмайакра, и в церкви Киброна, и в церкви Гавирини, и даже в церкви города Ванн. Иногда дух ее шастает по этому дому — ищет она своего возлюбленного, чтоб насытил ее хлебом и напоил водою, иногда открывает шкафы, роется в ящиках и копается в корзинах, чтоб украсть чего съестного. Если слыхать среди ночи скрип отворяющейся двери или до ушей доносится шуршание из ящиков, то тому, кто спит в этой старой кровати, надобно только перекреститься и призвать Отца и Сына и Духа Святого, или Пресвятую Деву, чтобы прогнать дух Красавицы Мадлен.
— Только ли слышно ее или еще и видно? — спросил Гавриэль.
— Еще как видно! Вестимо, видно ее! — ответила фермерша. — Последний раз я ее видала всего дюжину лет назад. Стройная она и пригожая, и глаза ее серые большущие, и нос у ней прямой, и ноздри его тонкие и дрожат, и рот у ней пухлый и алый и махонький, и нижняя губка толстее верхней, и щечки у ней пышные, и волоса у ней черные, и кожа белая, а на голове венец кружевной в виде крыльев бабочки, и держится она прямо и горделиво и вся огнями переливается от Сатаны, что к ней пристал, да от голода и жажды, что жгут ее внутренности.
Забравшись ночью в свою кровать, Гавриэль все свои помыслы направил на Красавицу Мадлен, чтобы в полночь предстала она перед его глазами, и, закрыв за собою двери и улегшись на спину в темной ее кабине, начал ждать, что сейчас почувствует явление далекого и чужого мира, окружающего его со всех сторон. Но вместо чужого и далекого духа, явления которого он ждал, его объяла легкая нега и болезненное томление наполнило его открытые глаза слезами, когда увидел он дедушку, сидящего в своей мастерской и вырезывающего узоры из гранатов и колосьев на масличной доске, которой предстояло стать притолокой шкафа. Тяжелый запах дерева окутал его со всех сторон, запах стенок и балдахина древней бретонской кровати, внутри которой он лежал, и, вдыхая воздух чужой кровати, в которой пребывал в полном сознании, он одновременно совершенно отчетливо увидел, как резец в руке дедушки полукругом входит между жилками в плоть масличного дерева, и услышал писк расщепляемой древесины и хруст стружки под своими ногами, ногами шестилетнего мальчугана, пришедшего показать дедушке новые башмаки, которые ему только что купили — черные, лаковые, блестящие, приятно поскрипывающие при ходьбе. Дедушка отрывается от работы, вытирает руки фартуком. Берет его на руки и сажает к себе на колено. Дедушка поет ему песенку и покачивает в такт коленом. Дедушка поет: «Дедушка едет в дальние края, дедушка едет в дальние края». И правда, полгода или год спустя дедушка уехал в дальние края, и больше Гавриэль его не видел, потому что дедушка умер. Дедушка отирает фартуком опилки с новых башмаков Гавриэля и обещает, что и он сделает ему прекрасный подарок, но пройдет много недель, прежде чем подарок будет готов.
— Что ты мне купишь в подарок? — спрашивает Гавриэль.
— Я не куплю, — говорит дедушка, — я сделаю тебе подарок.
Дедушка мастерит ему ларчик масличного дерева в виде миниатюрного арон ѓакодеш, узорное навершие которого опирается на две резные колонны по обе стороны дверец, запирающихся настоящим ключиком, малюсеньким и сверкающим. Гавриэль держит ларчик обеими руками, поглаживает пальцами, ощупывая витую резьбу маленьких колонн, орнамент их капителей, рельефы гранатов и колосьев. Подносит ларчик к носу и вдыхает запах масличного дерева, смешанный с запахом еще не до конца просохшей и впитавшейся политуры. Подносит его ко рту и целует. Прижимает его к сердцу и начинает вдруг скакать и приплясывать от радости, что у него есть такой прекрасный, такой драгоценный ларчик.
Единственный на свете ларчик — в целом мире нет второго такого. Ларчик, который дедушка сделал специально для него. Три легких стука, разделенные вежливыми равными промежутками времени, заставили его приподняться в кровати и выпрыгнуть из нее, чтобы скорее броситься искать ларчик, исчезнувший из его жизни уже более тридцати лет назад. Он все никак не мог припомнить ни то, при каких обстоятельствах исчез ларчик из его поля зрения, ни когда перестал он видеть его среди своих вещей и думать о нем. Этот ларчик, который был ему дороже всех подарков, когда-либо полученных в жизни, совершенно пропал с его пути, и сколько он ни пытался сшивать обрывки выуженных из детских воспоминаний картин, ему так и не удалось найти ни малейшего намека на его судьбу. Он не мог понять, потерял ли он его или подарил кому-нибудь, сломал ли, играючи, или в один прекрасный день понял, что его украли, и не мог вспомнить, с каких пор ларчик прекратил попадаться ему на глаза и образ его перестал являться ему в мыслях.
— Не являлась ли Красавица Мадлен тревожить сударя во сне? — спросила фермерша, и ему показалось, что таинственная улыбка прячется в старческих морщинах вокруг ее рта.
— Нет, нет, к сожалению, не являлась, — ответил Гавриэль, не зная, отчего добавил он «к сожалению». Он не знал, сказал ли это из вежливости, содержащейся в самом обороте, или действительно сожалел о том.
— Конечно же Красавица Мадлен не посмела, да и не смогла явиться нынче, — сказала старушка. — Ведь нынче день святой Анны, а святая Анна ведь тоже родилась и умерла здесь, в этом месте, но не прямо в этой постели. Ведь умерла она за много лет до того, как был выстроен этот дом. Святая Анна верно уж показала сударю чего хорошего во сне.
— Очень хорошее, — сказал Гавриэль. — Красивый деревянный ларчик.
— Конечно-конечно, — подхватила старушка. — Это тот деревянный ларчик, с которого во всех уголках Бретани тачают ларцы для святых риз в каморах священников в церквах. Иосиф-плотник сделал его и послал в дар святой Анне, когда вернулась она из Назарета на родину, в Бретань.
Гавриэль пил крепкий утренний кофе, в первые дни, покуда не привык он к нему, вызывавший у него одновременно пугающую и приятную сердечную боль, и внимал хозяйке фермы, присевшей на ларь, что служил приступкой кровати, и рассказывавшей ему историю святой Анны Бретонской и ларчика работы Иосифа-плотника из Назарета. Анна, именуемая Сент-Анн д’Орэ, по имени того места, где она родилась, — патронесса Бретани и всех бретонцев без исключения. Была она принцессой, и супруг ее, что был из королевского дома, обращался с нею жестоко и ругался над нею. Бежала она от лица его до самой Святой Земли и поселилась в Назарете и родила в нем Марию — Пресвятую Деву. И когда достигла Мария возраста зрелости, поведала ей мама Анн обо всех мучениях своих превеликих и пытках и надругательствах от рук супруга своего, отца Марии, и упреждала ее, чтоб не шла замуж за человека не из евреев, ибо евреи суть мужи добрые к женам своим. И так сложилось, что Мария, дочь принца Бретонского, пошла за старого и бедного еврейского плотника из Назарета, святого Иосифа, что сокрыл от нее, как скрывал от всех жителей города, свою родословную, идущую от Царя Давида, и что усыновил с любовью и великой жалостью младенца Иисуса, рожденного юной женою его, Пречистой Девою, от Духа Святого. После того как узнала Анна, что Мария, дочь ее, и Иисус-младенец, сын дочери ее, нашли защиту верную под кровом Иосифа-плотника, вернулась, чтоб умереть на родине своей, в Бретани, и быть похороненной среди праотцев ее. Младенец Иисус, связанный душою с душою бабки его, обещал ей, что не забудет ее и придет к ней в далекую страну ее, когда вырастет и станет мужчиною, и так и сделал. Перед смертью еще довелось Анне узреть милое лицо внука ее Иисуса, что пришел в Бретонскую землю и принес в подарок бабке ларец деревянной работы зятя ее Иосифа-плотника, а в нем — локон из локонов Марии, дочери ее. Ларчик хранился все годы в церкви Святой Анны, и по образу его тачали во всех уездах лари для святых риз, что в каморах священников в церквах. И еще явил Христос милость к земле Бретонской, родине бабки его, и ударил по скале возле дома ее, и вышел из скалы источник святой, струящий воды свои до сего дня, тот источник, что зовется святым источником Сент-Анн ла-Фало, к которому совершают паломничество в великий день святой Анны. Большая честь привалила ему, важному и ученому гостю из Парижа, что в ночь на великий день открыла ему святая Анна во сне деревянный ларчик работы святого Иосифа, в котором хранится локон из локонов дочери ее, Пречистой Девы Марии, тот деревянный ларчик, о котором сказано: «постучи по дереву», ибо всяк, кто его коснется, излечится от болезней и убережется от дурного глаза и пагубной порчи и от всякой беды и напасти. Потому ему следует восславить и возблагодарить святую Анну за великую милость и совершить паломничество к святому источнику Сент-Анн ла-Фало, струящему свои воды неподалеку от его кровати, у подножия древней разрушенной крепости. И это большая удача и для него, и для нее, и для всех жителей деревни, ведь другим приходится тащиться с дальних окраин Бретани, чтобы добраться до святого источника. Если будет он всем сердцем молиться, то, быть может, явит ему святая Анна великую милость и соблаговолит прийти к нему снова во сне и открыть ему местонахождение святого ларца.
— Что значит «местонахождение»? — изумился Гавриэль. — Вы ведь самолично мне только что рассказали, что ларец хранился все эти годы в церкви Святой Анны!
— Да-да, сударь милый, — сказала фермерша. — Сказала «хранился все годы», да больше не хранится. Уж много лет, как исчез тот ларчик, и никто не знает его местонахождения.
Когда бы Посылающий сны открыл ему оконце во тьме и показал бы ему сон, возможно, святая Анна и использовала бы представившийся ей случай и вошла в его сон, чтобы открыть ему местонахождение святого ларчика, но никакой сон не освещал ему путь в ту ночь, а если все же и видел он сон, явился Управляющий Внешним Светом и заставил его забыть то, что виделось с закрытыми глазами при свете внутреннем, озаряющем путь спящих. С игрой солнечных зайчиков, световых кружков и арабесок, вспыхнувших в прорезях кроватных стенок, окружавших его со всех сторон, Гавриэль пробудился, и его окружили терпкий дух старого дерева и многоголосица щебета гнездящихся на старике-дубе за окном птиц. Вместе с ним пробудилась застарелая боль, развалившаяся у него в груди и вдруг глубоко вонзившая в его плоть острый коготь, выпущенный из тяжелой лапы[78]. Гавриэль сбросил с себя одеяло, перевернулся сперва на правый бок, потом на левый, подавил в зародыше стон, готовый вырваться наружу, и отодвинул завесу, чтобы проверить, не стоит ли уж хозяйка в дверях, прежде чем постучать свои три вежливых стука, возвещавшие завтрак. Если бы дедушка еще был в живых, быть может, Гавриэлю бы удалось как-то все исправить, но дедушка принадлежал миру призраков уже более тридцати лет, ведь он умер всего через несколько месяцев после того, как сделал в подарок внуку деревянный ларчик. Объяснив, как его запирать и отпирать маленьким сверкающим ключиком, дедушка взглянул на него глазами, мерцающими искорками великой и чудесной тайны, известной лишь ему одному и вот-вот готовой открыться его внуку.
— Иди, я тебе что-то покажу, — сказал он, указывая на каморку позади мастерской. — Только обещай мне, что никому не расскажешь!
Дедушка отодвинул заскорузлую от пыли и столярного клея занавеску, прикрывавшую каморку, и показал Гавриэлю две огромные балки, вытянувшиеся рядом во всю длину помещения, обработанные в виде двух колонн с капителями, вырезанными как венчики гранатов, по образцу маленьких колонн, поддерживающих навершие ларчика, который Гавриэль держал в руках. Дедушка тайно строил новый арон ѓакодеш для тех двух старост-негодяев, до сих пор не выплативших ему остаток долга за тот последний, который он сделал для них четверть века назад, когда были они еще старостами синагоги Ешуат-Яаков в Старом городе, для тех самых двух старост, замешанных, судя по всему, в поджоге его дома и лавки в Старом городе в ночь, когда он нес на спине большой крест в русскую церковь на склоне Масличной горы. Он уселся в каморке на одну из колонн и стал своей тяжелой, загрубевшей и мозолистой рукой с опухшими пальцами поглаживать резьбу на древесной плоти.
— Я знаю, ох как знаю, — сказал дедушка, словно перед ним стоял не его маленький внучек, а дочь, предъявлявшая к нему тяжелейшие претензии. — Знаю, что по вредности, по глупости своей и по мелочным своим ухваткам недалеко они ушли от русских попов, но мне это не важно, не для них делаю я арон ѓакодеш и не для толстосумов, строящих себе новую синагогу.
Он хотел сказать еще что-то, но осекся и не сказал. Гавриэль побежал домой и показал матери полученный подарок и на одном дыхании с перечислением всех прелестей ларчика наябедничал на дедушку и выдал ей все тайны, которые дедушка открыл ему, даже местонахождение балок-колонн в каморке позади мастерской. Когда дедушка сказал: «Только обещай мне, что никому не расскажешь», Гавриэль понял, что имеется в виду его мать и никто другой, ведь никого другого совершенно не волнует, что делает дедушка. И после всего, что он навлек на него своим доносом, дедушка не бранил, не отчитывал его, ни в чем не обвинял и не сердился на него даже молча, но продолжал ему улыбаться и любить, как любил всегда, и Гавриэль продолжал получать эту огромную любовь как нечто само собой разумеющееся, не считая нужным даже попросить у дедушки прощения. И когда же очнулся наконец дорогой внучек Гавриэль, чтобы просить его прощения? Через тридцать лет после его смерти, в медвежьем углу на западной оконечности Франции, когда открыл глаза и обнаружил, что лежит внутри закрытой бретонской кровати, и хотел рассмеяться, но давившая на грудь боль заглушила еще в глубине легких всякий порыв смеха, готовый вырваться наружу, та боль, что давила на грудь тем сильнее, чем яснее делались проходившие перед его глазами картины и чем явственнее проступали их детали. Лицо дедушки, бледнеющее при виде врывающейся в мастерскую матери, и рука его, начинающая так дрожать, что резец выпадает из нее и падает на верстак, его хрупкий высокий голос, умоляющий ее не поднимать такого ужасного шума, чтобы посторонние ничего не узнали, выражения лиц владельцев соседних лавок и прохожих, собравшихся поглазеть на представление.
— Выжившее из ума ничтожество, старый греховодник, раб хананейский! — кричала на него мама изо всех сил на радость зевакам, торчавшим у дверей мастерской. — Аронот кодеш собираешься ты строить бородатым и пейсатым мерзавцам, которые тебя и заработка лишили, и дом твой сожгли. Послушный раб! Иди, лижи задницу своим господам!
С тех пор дедушка уже неспособен был держать в руке резец, и поскольку дрожащие его руки не ладили с работой, вид рабочих инструментов начал удручать его и угнетал настолько, что в конце дней своих сидел он, греясь на солнышке, на мостовой перед закрытою на замок мастерской. Он сидел на тротуаре, тихо говорил сам с собою, прищурив один глаз и ковыряя мизинцем правой руки в правом ухе, и время от времени разражался смехом. Возможно вид старого столяра, сидящего у закрытой двери своей мастерской, тычущего мизинцем правой руки в правое ухо, бормочущего одними губами себе под нос и смеющегося без причины, притягивал к нему уличных мальчишек, толпившихся вокруг и пристававших к нему, будто носами чуя исчезновение сознания из души, вроде того, как трупные мухи издалека чуют исчезновение души из тела. По дороге к нему Гавриэль однажды увидел с другого конца улицы мальчишек, наскакивавших на дедушку, и тут же повернул назад и пошел другим путем, чтобы его, не дай бог, не заподозрили в какой-либо семейной связи с этим выжившим из ума стариканом. Отчетливая эта картина, в которой сам он, хорошенько умытый, причесанный мальчик, наряженный в синюю курточку с золотыми пуговицами и вышитым на верхнем кармашке гербом Парижа, полученную в подарок от папиного приятеля, французского консула, которую он собирался показать дедушке, резко разворачивается в сторону кинотеатра «Сион» и торопится убраться как можно дальше, пробираясь вдоль его фасада, в ужасе от того, что эти грубияны могут обнаружить, что старый плотник, сам с собой разговаривающий на улице, — не кто иной, как его дедушка, отчетливая эта картина, не только возвратившая в его глаза искрящееся сияние солнца на тонкой золотой сеточке пуговиц, но и вернувшая в ноздри запах новой ткани роскошной курточки, через тридцать лет заставила его, вылезая из кровати в маленькой деревушке на берегу Атлантического океана, названного местными жителями «Диким берегом», испытать такой удушающий и грызущий приступ боли, что он скорчился вдруг у основания кровати и стал биться головой о деревянный пол, оказавшийся слишком слабым, чтобы вынести новую и острую боль давнего малодушия, и начавший содрогаться и стонать. Раз, и другой, и третий — раздались три вежливо дозированных стука хозяйки фермы, принесшей ему утреннюю трапезу, и он поспешил усесться на ларь перед кроватью и отереть со лба пыль, произнеся, как обычно при пробуждении:
— Входите, пожалуйста, сударыня!
— Лицо у вас, сударь, не то что прежде, — сказала фермерша, и сердце Гавриэля упало при мысли о том, что эта старуха подглядывала сквозь замочную скважину и видела, как он корежится и бьется головой об пол. — Щеки у сударя розовые и глаза сверкают и светятся в восторге, как у того, кому было ночное видение. Не святая ли Анна то была во всем ее блеске?
— Нет-нет, — сказал Гавриэль, дивясь обманчивости выражения собственного лица и радуясь ей, спасшей его от копаний старухи в его сердечных язвах. — Нет, это был только старый, разбитый еврей, спятивший плотник.
— В точности то, что я и говорила! — с победным ликованием воскликнула фермерша. — Ведь то был святой Иосиф собственной персоной, вот кто вам явился, сударь, в видении. Да будет вам известно, что лишь немногие удостаиваются чести лицезреть пресветлый лик святого Иосифа, открывающийся только добросердечным, и явление его очищает сердце. И была уж история с волшебником Мерлином, что был муж добросердечный и праведный, как никто другой, посему неудивительно, что святой Иосиф явился ему во сне и открыл ему, где находится ларчик и что с ним происходило с тех пор, как исчез он из церкви Святой Анны. Если и есть чему удивляться, так это тому, что Мерлин был не кто иной, как брат Красавицы Мадлен, из любви к Сатане укравшей просфору из церкви, и что святой Иосиф явился ему во сне после того, как Мадлен попала в плен к Сатане. Волшебник Мерлин схоронил в сердце своем все, что святой Иосиф показал ему в видении, и не только никому не открыл ничегошеньки, но и сам не стал доставать ларчик из его тайника. Всех герцогов и баронов, королевских посланцев оставил ни с чем, ушел от людей и уединился в Броселианском лесу, раскинувшемся в те дни от крепостного холма и дальше, насколько глаз хватает, до реки Одетт, а нынче остались от него только эти одинокие древние дубы, которые вы видите за окном. Когда углубился волшебник Мерлин в чащу леса, открылась ему там Вивиан-лесовица, и он открылся ей, и взаимнооткрывшимся целокупно открылась им любовь. В великой тревоге, как бы не потерять ей волшебника Мерлина, начертила Вивиан вокруг него круг корнем дуба. Захоти он, без труда мог бы вырваться из того круга волшебник Мерлин, но был он ему рад, да только и мечтал, что оставаться внутри. И больше уже не вышел волшебник Мерлин из дубового леса, хотя король благой, милосердный, с Богом в сердце сидел на троне в земле Французской в те дни — король, известный в народе под именем Людовика Святого. Деяния Людовика Святого, верно, ученый господин знает, и не мне вас учить, но прекрасные деяния человека, а особенно короля, достойны того, чтоб мы о них рассказывали во всякое время, и уж тем более в такое подходящее, когда на вашем лице отблеск сияющего лика святого Иосифа, что явился вам в видении. А почему отличаю я от прочих добрых поступков добрые деяния короля? Потому что королю труднее, чем любому другому человеку на свете, совершать добрые деяния, ведь у него в руках больше, чем у всякого другого, возможностей воплощать свои дурные склонности. А этот король отдал все свое богатство, богатство своей страны и своего народа за святые реликвии Христа Спасителя. Доски креста, что нес Иисус на спине, венец терновый, что надели на его голову, да губка с уксусом, что поднесли к его устам, — все эти реликвии, хранящие искры Духа Святого, ибо касались тела Господня, служившего для Духа Святого сосудом, находились в руках венецианских менял, и благочестивый король выкупил их. А как попали эти святые реликвии, освященные прикосновением и прикосновением освящающие, в руки богатеев из Венеции? А дело было вот как: в те дни крестоносцы, отправлявшиеся в Святую Землю, прибыли заместо нее в страну Византию и вместо того, чтобы отвоевать Гроб Господень у мусульман, отбили Константинополь у своих братьев, византийских христиан, и стали в нем править. Когда же усилились враги их со всех сторон, стали они нуждаться в деньгах на ведение войн с врагами. Но не было в их руках денег на ведение войн, и потому обратились они к венецианским менялам с просьбой о большой ссуде. Венецианские менялы не соглашались предоставить им ссуду иначе, как под самый дорогой залог. А какие сокровища дороже всего во всякой христианской земле? Дело ясное — те святые реликвии, что хранились в большом соборе в Константинополе. Отдали крестоносцы святые реликвии в залог венецианским менялам, чтоб получить от них деньги и пустить те деньги на войну, а выкупить не смогли. Обратились крестоносцы в беде своей к королю французскому. Понял благочестивый король, что в руки ему идет великое деяние во славу Господа, и, чтобы не упустить его, тут же засучил рукава. Собрал все богатство Франции и отдал его венецианским менялам как выкуп за доски креста, венец терновый и губку с уксусом, а когда прибыли реликвии те в землю Французскую, вышел встречать их в рубище, босой и смиренный. Святую капеллу, что на острове Сен-Луи в сердце Парижа, выстроил он специально, чтоб поместить в ней святые реликвии. И все те годы волшебник Мерлин скрывался в магическом круге посреди Броселианского леса, и местонахождение ларца — и взаправду творения рук святого Иосифа, где и взаправду хранилась доподлинная прядь волос из волос Пречистой Девы Марии, осталось схороненным в сердце его, под замком языка его.
— Что значит «и взаправду»? — спросил Гавриэль, снова заметив улыбку, запрятанную в глубине морщинок, окружавших уголки ее рта и глаз. — А что, крест, за который Людовик Святой отдал все богатства своей страны, не вправду был крестом Иисуса?
— Только такой бестолковый король, — сказала фермерша, — каким был этот Луи, только благочестивый простак вроде него мог вообразить, что святую реликвию можно купить у византийских тиранов и венецианских купцов.
— Ну а ларец? — спросил Гавриэль. — Откуда вы знаете, что ларец…
— И взаправду дивлюсь я на вас, — сказала ему хозяйка фермы. — Как это вам, человеку просвещенному и рассудительному, в голову приходит приравнивать россказни правителей Византии и венецианских мошенников к истинным словам самого святого Иосифа, собственной персоной и в теле явившегося в видении и лицом к лицу разговаривавшего с правдивым человеком?
Этот его вопрос, как видно, продолжал не давать ей покоя, ибо в тот же вечер, прежде чем он отправился на ночную прогулку к столбам первобытных идолопоклонников и к побережью, она снова обратилась к нему и сказала:
— Вы, верно, вопросом своим намеревались проверить меня, знаю ли я правду и ложь.
Слова ее напомнили ему о древе познания, и по дороге от столбов к морю ему впервые с тех пор, как прочел он в детстве этот библейский стих под сводчатым потолком хедера в переулке Старого города, и через все те долгие годы, что обращался к нему мыслями в подходящие моменты, пришло в голову, что знание, изгнавшее Адама и Еву из райского сада, было знанием добра и зла, а не знанием правды и лжи. Если бы он стремился к знанию правды и лжи и не попался на знание условностей добра и зла, то не лишил бы себя рая собственными руками, уже покрывавшимися гусиной кожей на холоде вечернего ветра, дующего в полную мощь сквозь бескрайнюю тьму океана. Он засунул руки в карманы брюк, предварительно подняв воротник, чтобы защититься от сырой, рыбной прохлады, которой тянуло от моря. Это великое бескрайнее море и далекие звезды небесные, несшие ему в лицо стужу пустого темного пространства, были не менее ужасны в своем равнодушии, чем знание правды и лжи наукопоклонников, овладевших миром, чтобы научить его знанию безразличных законов слепых сил природы, существующих без сверхпричины и без сверхзадачи, без смысла и без значения, без чувств и без ценностей. Гигантские столбы, расположенные рядами вдоль линий восхода и захода солнца и требовавшие больших знаний и умения применять колоссальные силы от первобытных идолопоклонников, которые изготовили и установили их этими рассчитанными цепочками, так же, как и глыбы утесов в заливе, морские валы и звездная сфера, источали далекий равнодушный холод, они принадлежали к тому же безразличному механизму земли, моря и таращащих незрячие глаза звезд, бездумно кружащих в неволе своих замкнутых орбит в силу слепого повиновения слепым законам действия слепых сил, создавших себя в собственной слепоте.
Когда он собрался вернуться в деревню, к своей закрытой кровати, холодный ветер, дувший ему в лицо, донес до него нечто вроде обрывков теплых человечьих голосов, пришедших будто из вод залива и продолжавших гнаться за ним вместе с порывами ветра сквозь завесу морского гула, пока он не остановился и не вернулся и не увидел, что голоса эти — и вправду человеческие и что доносятся они и вправду из залива. В одной из рыбацких лодок, стоявших у причала, сидело несколько парней и девушек из деревни, запевших в тот момент знакомую, часто слышавшуюся на единственной деревенской улице народную, по всей видимости, песню, в которой пелось о судьбе несчастной девичьей любви.
На обратном пути его не оставляла мелодия припева и слова, которые он начал сам себе невзначай напевать: «Это записано на небесах, это записано на небесах, это записано на небесах…» И прилив чудесной радости захлестнул его, подхватил и вдруг вынес навстречу открытой всем взорам тайне, написанной священными буквами Луны и созвездий, и Большой Медведицы, и Ориона, и точками звезд во всю длину, ширину и глубину небосвода, подобно китайским стихам на древнем папирусном свитке. Историю о древнекитайском папирусном свитке Гавриэль так часто повторял мне в качестве примера собственного восприятия самых разнообразных проблем, в особенности проблемы научного знания, именовавшегося у него «знанием правды и лжи наукопоклонников, завладевших миром», что сейчас я уже и не знаю в точности, действительно ли все это происходило с ним в те годы, когда он еще изучал медицину в Сорбонне, или было лишь притчей, аллегорией, сочиненной им самим. Специалист в области химического анализа, эльзасский еврей, получил для проверки в лаборатории черные пятна на кусочке желтоватого материала и в назначенный день представил декану, пришедшему в лабораторию вместе с чистеньким китайским господином, все точнейшие химические формулы как самого материала, так и вещества, из которого состояли пятна, а также и возраста объекта, что было по тем временам новейшим научным достижением. В своей великой скромности он заявил, что знает буквально все, что можно знать об этих пятнах, но тут к нему подошел китайский господин, отвесил ему глубочайший и изысканнейший поклон, восславил глубину его познаний и широту разума, а затем принес тысячу извинений за тот странный казус, что эти самые черные пятна, имеющие честь быть изготовленными в точном соответствии со всеми формулами господина ученого доктора, могут быть помимо утраченного временем черного вещества, из которого они состоят, также истолкованы как знаки древнекитайского иероглифического письма, сочетание коих создает любовное стихотворение давних времен. Слова припева народной песни: «Это записано на небесах, это записано на небесах…», которые Гавриэль за время своего пребывания в этой маленькой бретонской деревушке Карнак слышал так часто и на которые совсем не обращал внимания, а если и вызывали они какое-то мимолетное соображение, то было оно изумлением перед заезженной фразой, порождением суеверий и первобытного слабоумия, которую по-прежнему с восторгом распевает молодежь, — простые эти слова вдруг ослепили его одновременно чудесным и пугающим светом, словно сорвав с его глаз темную повязку. Не метафора, не аллегория, не пустая фигура речи, но слова в их самом прямом значении — это записано на небесах светящимися буквами звезд! И даже мысль, превратившаяся в почти полную уверенность, что сколько бы он ни старался, ему вовек не удастся расшифровать ни одной мерцающей буквы одного светящегося слова из всех этих развернутых на всеобщее обозрение свитков, не способна была заслонить пугающего света, открывшегося ему с падением повязки. Любой учащийся в наши дни знает о составе и механизме светящегося шрифта небесных тел неизмеримо больше, чем самый ученый друид, производивший вычисления для установки гигантских столбов вдоль линий восходов и заходов солнца, но и последний из кельтов, чья босая нога тысячи лет назад попирала землю Западного побережья, не отделенная от нее никакими подметками, понимал то, что не мог понять господин ученый доктор, знавший все, что можно знать о черных пятнах, представлявших собой, честь имея вторгнуться в его физико-химические формулы, еще и запись стихов, и у этого кельта также были и собственные средства разбирать небесные записи.
Я спросил Гавриэля, помнит ли он содержание китайского стихотворения, которое продекламировал в лаборатории китайский господин. Он на миг задумался и сказал, что записал тогда эти слова в тетрадь, которая засунута на дно одного из чемоданов, до сих пор не открытого после его приезда домой. Когда дойдет очередь и до этого чемодана, он вытащит из него тетрадь и покажет мне китайское стихотворение. А пока, если душа моя просит чего-нибудь, что передавало бы какое-то подобие друидической атмосферы, по-прежнему царящей в роще древних дубов и подножия разрушенной крепости, он покажет мне одно стихотворение, которое сам перевел на иврит.
Этот стих Гавриэль перевел в комнате Леонтины — служанки, еще более старой, чем старая хозяйка фермы. Старушка, до сих пор почитавшаяся вполне пригодной, чтобы готовить ему завтрак, но недостаточно почтенной, чтобы подавать его в закрытую кровать, стала теперь его госпожою. Преображение Гавриэля из высокопоставленного гостя хозяйки фермы в прислужника ее прислужницы было скорым и резким, без какого-либо промежуточного этапа, и случилось в день, последовавший за той ночью, когда он почувствовал, как с его глаз упала темная повязка. Вызвало сию перемену письмо, которого фермерша ожидала не менее, чем Гавриэль, и которое пришло в тот самый день из Иерусалима от старого бека. Вместо обычного почтового чека в нем находилось последнее и окончательное извещение о том, что, поскольку Гавриэль упорствует в своем отказе продолжать изучение медицины, ради которого он был отправлен в Париж, его пособие прекращается. Гавриэль предполагал наняться к фермерше на любую работу в доме и в поле, чтобы из своего заработка рассчитаться с нею за долги и продолжать оставаться жильцом в ее доме, в комнате со старинной бретонской кроватью, но отнюдь не так полагала она. Как только ей стало вдруг ясно, что у Гавриэля нет и уже не прибудет по почте ни гроша, она побледнела, руки ее задрожали, морщинистое лицо стало подергиваться, рот то раскрывался, то захлопывался, словно у рыбы, бьющейся на суше, и на миг у Гавриэля перехватило дух от страха, что она вот-вот умрет на месте от разрыва сердца, по его вине и прямо перед его глазами.
— Мошенник! — минуту спустя вырвался из ее глотки яростный вопль. — Низкий мерзавец! Шарлатан! Скандал! Скандал!
Она была чуть ли не в столбняке от такого безобразия, от такого подлого обмана — бродяга, бедный, как церковная мышь, прикинулся богатым сынком и сподобился быть принятым в ее доме этаким принцем! Но его предложение продолжать как ни в чем не бывало спать в господской постели и после того, как он наймется к ней батраком, ужаснуло ее еще более, ибо она обнаружила, что помимо мошенничества он отличается еще и чудовищной дерзостью, нахальством, сотрясающим сами основы мироздания.
— Леонтин! — раздался ее боевой зов, и он бы вовек не поверил, когда бы не слышал собственными ушами, что такой громоподобный рев может вырваться из нутра сухонькой старушки, дрожавшей перед его глазами. — Леонтин! Сейчас же забери этого шарлатана на его место! Каждый — на свое место! Каждый — на свое место!
Эти крики были, понятное дело, излишни, поскольку старая служанка все это время стояла в дверях, дивясь редкостному развитию сюжета отношений между своей госпожою и высокопоставленным гостем. Крик старой фермерши, повторяющийся одновременно с решимостью и страхом: «Каждый — на свое место! Каждый — на свое место!», напомнил ему фразу: «Нет вещи, которой нет места»[79] и приоткрыл завесу над источником объявшего ее ужаса, значительно превышавшего страх быть жертвой мошеннических происков. То был страх неразберихи, кошмар хаоса, в котором снова потонет мироздание в тот момент, когда рухнут его устои, в тот момент, когда ничто уже не будет находиться на своем месте и, что еще чудовищнее — ничто не станет умещаться в подходящих формах, соответствующих природе явлений, и ни одна душа более не окажется в подходящем ей теле. Возможность того, что сельскохозяйственный рабочий на ее ферме будет, в сущности, не кем иным, как ученым господином из столицы, гостящим в ее доме, спящим в кровати ее праотцев и получающим из ее рук утреннюю трапезу, пугала ее не меньше, чем возможность того, что Рэкси, ее крохотный кучерявый щенок, который спит вечерами у нее на коленях, на самом деле не щенок, а только тело щенка, в которое нарядилась душа гадюки, или что Леонтин, в сущности, не кто иная, как Красавица Мадлен, облачившаяся в тело ее прислужницы. Гавриэль же, прожив месяц в комнате Леонтин, уже не знал в точности, кто все-таки такая эта его госпожа-служанка, и если бы хозяйка фермы рассказала ему (а с момента его падения она избегала с ним встреч и, когда случалось ей наткнуться на него во дворе, отвечала на его приветствие ледяным голосом и с физиономией, деланно изумленной наглостью этого чужака-оборванца, сердечно приветствующего ее, словно он ей друг-приятель, бывший компаньон или ровня), если бы она рассказала ему, что его госпожа-служанка Леонтин на самом деле не кто иная, как Красавица Мадлен, некогда влюбившаяся в Сатану в образе красавца-мужчины, он бы этому не удивился, как не удивился бы и сообщению, что она — воплощение Святой Анны.
Комната Леонтин, находившаяся не в самом доме, а в углу двора, возле задней калитки, не отличалась от комнаты хозяйки ни размерами, ни меблировкой. Эта комната тоже была очень большой, и вдоль стен ее были так же расставлены старинные кровати, старинные черные часы так же стояли в углу, движениями медного маятника медленно отсчитывая мгновения, мерно сменяющиеся в неподвижном воздухе, пропитанном древними ароматами, и так же, как и там, ночная тумбочка была приставлена к изголовью его кровати. Только в этой тумбочке и заключалось различие между двумя комнатами, что и открылось ему во всем великолепии, когда вечером, отворив ее дверцу, он, к своему изумлению, обнаружил ночной горшок. И так же, как не чаял он найти возле своей кровати ночной горшок, никогда не представлял себе, что столь великолепные ночные горшки вообще существуют на свете. В отличие от знакомых ему с детских лет эмалированных ночных горшков с черными железными глазками, смотрящими на мир из всех мест, где эмаль была отбита, этот был сделан из цельного белоснежного фарфора, украшенного венком алых, розовых и желтых роз и расцветавшего по кромке венком фиалок и зелени. Вся комната стала ему близкой и милой при виде сего скромного великолепия, хранящегося в ночной тумбочке, и когда он взял его за ручку и вынул из хранилища и поставил на стол, то захлестнуло его изобилие благодати, переполнявшей сей сосуд. Кто богат? Раби Йоси говорит: всякий, у кого есть нужник вблизи стола[80]. Новая боль, рожденная новым взглядом, разрушила древнее богатство тепла и уюта, оставшееся в далеком детстве рабби Абайе[81] и не понятое Гавриэлем в его собственные детские годы, когда он отправлялся по большой нужде в дедушкину уборную. Как видно, от избытка чувств, вызванного чудесным ларчиком, который дедушка сделал ему в подарок, ему вдруг приспичило, и дедушка повел его в находившийся с противоположной стороны здания нужник, через темный, пахнущий сыростью и мочой проход под сводчатым потолком.
— Я теперь уже знаю, где уборная, — сказал он дедушке. — Ты можешь вернуться в мастерскую.
Но дедушка остался стоять за дверью, и пока Гавриэль там какал, дедушка продолжал стоять рядом, напевая, чтобы его приободрить, словно он был младенцем, трусишкой, который боится остаться один во мраке нужника.
— Сказал ведь я тебе вернуться в мастерскую! Сказано тебе, что я не маленький и не боюсь остаться в нужнике один! — закричал он на дедушку в досаде, заставившей его в тот момент начисто забыть радость по поводу чудесного ларчика.
Тогда дедушка рассказал ему про Абайе, никогда не видевшего ни отца, ни матери, потому что родился сиротой. Когда мать зачала его, умер его отец, а сама она умерла родами. Воспитательница его была женщина разумная, добросердечная и жалостливая, и растила она для него ягненка, чтобы ходил с ним вместе в нужник и рассеивал страх. Когда Абайе вырос, он сказал, что входящий в нужник должен обратиться к ангелам-хранителям с молитвой, смиренно упрашивая их: «Храните меня, храните! Помогите мне, помогите! Поддержите меня, поддержите! Подождите меня, подождите, пока войду я и выйду, ибо так свойственно человекам».
— Но ведь он же был еще маленьким, когда ходил в уборную со своим ягненком, — сказал Гавриэль. — К тому же он был сиротой и поэтому чувствовал себя таким одиноким. Из-за того, что папа с мамой его покинули и умерли, он и боялся, что ангелы тоже его покинут. К тому же мы ведь уже знаем, что на свете нет ангелов, что это — суеверие. Воспитательница рассказывала ему, что добрые ангелы его все время охраняют и всюду ходят за ним, чтобы он не боялся ходить один. К тому же чего там бояться, в нужнике?
— Есть такой бес из нужника, — ответил дедушка. — Об этом написано в Гемаре. Звать его Бар-Ширикай Пандай. Этот бес рожден из львиной отваги, и тот, у кого острый глаз, может разглядеть его на голове льва и на носу львицы. Если человек сидит в нужнике и вдруг увидит перед собою этого беса, он должен сказать: «У льва на голове и у львицы на носу нашел я его, о грядку порея молотил я его и челюстью осла колотил я его». Тот, кто так скажет, станет героем под стать Самсону, растерзавшему собственными руками льва и челюстью ослиною убившему тысячу человек. Бес его испугается и удерет.
— А как выглядит этот бес? — спросил Гавриэль.
— У него облик козла, козлища, и не только Абайе его боялся, но и все мудрецы наши, блаженной памяти. Этот бес завидует ученым людям и является изводить их в нужнике. Равва не был сиротой, как Абайе, и тем не менее жена старательно охраняла его от всевозможной нечисти. Когда он отправлялся в нужник, она клала орех в медный кувшин и гремела им из-за двери, а когда он возглавил йешиву, она стала тревожиться за него еще больше — она сделала в двери нужника окошко, и все время, что он там сидел, ее рука лежала у него на голове.
Вид Раввы, тужащегося в то время, как просунутая сквозь окошко в двери нужника рука жены лежит у него на голове, так развеселил Гавриэля, что он начинал смеяться всякий раз, как вспоминал об этой воображаемой картине. Впервые услышав эту историю от дедушки, он так хохотал, что заразил своим хохотом и его. Дедушка смеялся и поднял его в воздух, смеясь, поцеловал в макушку, смеясь, стал плясать с ним в обнимку, как плясал прежде в синагоге со свитком Торы в руках. Дедушку это рассмешило, но не маму.
— Как зовут беса из нужника?
В своем ликовании Гавриэль не мог дотерпеть, пока мать его разгадает загадку, и радостно крикнул:
— Бар-Ширикай Пандай!
От этой загаданной сыном загадки с ее разгадкой заодно лицо госпожи Луриа побелело.
— Дедушка тебе опять забивает голову своими мидрашами!
Если у нее еще оставалось какое-то сомнение, то теперь явился бес из нужника и воочию продемонстрировал ей, что ее старый, выживший из ума отец окончательно решил утопить внука в выгребной яме суеверий и сумасшедших фантазий своих блажных дурацких мидрашей, после того как сумел разрушить жизнь детям.
— Ноги его больше не будет в этом доме! — воскликнула она в пророческом гневе, а Гавриэлю строжайше запретила навещать этого полоумного.
— Ты, конечно, можешь продолжать ходить к нему, да и он, ясное дело, придет сюда, когда ему захочется, ведь он твой дедушка и любит тебя, и человек он хороший, хотя и немного рассеянный от старости, — передумала она после минутного размышления, вспомнив, как видно, о психологической правде сентенции «запретный плод сладок». — Но не обращай внимания на россказни об ангелах и бесах и на прочие его глупые мидраши. Ты ведь мальчик умный и знаешь, что призраков и бесов нет ни в школе, ни в отхожем месте, ни в ночном горшке, ни в кухонном.
«Что-то таится в этом ночном горшке для ученого господина из Парижа» — словно говорила появившаяся на лице Леонтин улыбка, когда та, войдя, увидела Гавриэля, дивящегося на горшок, который он не выпускал из рук. И он тоже внезапно увидел ее в зеркале большого платяного шкафа напротив и смутился при виде этой улыбки. Мне он сказал, что смутился потому, что понял: вытащив ночной горшок из тумбочки, поставив на стол и разглядывая его, он невольно вторгся в личную жизнь Леонтин, которая по доброте душевной пустила его в свою комнату вместо амбара, где фермерша селила своих сезонных батраков. На всей ферме был всего-навсего один нужник — в господском доме, и морозными ночами старая служанка, которой было слишком далеко идти до главного здания и слишком холодно выходить за ограду в поле, конечно, нуждалась в ночных горшках. Большинство окрестных крестьян, не охваченное смятением столичных веяний, ходило до ветру в поле.
— Красивый горшок, — сказала Леонтин.
— Очень красивый, — сказал Гавриэль. — Никогда не видал такого красивого горшка.
— Он и вправду самый красивый из моих горшков, — продолжала Леонтин. — Я специально приготовила его для вас. Думаю: этот чувствительный господин, верно, будет опасаться ночных ветров.
Ветры дули там постоянно, и порой резкие океанические порывы сдували с Дикого Берега тех немногих парижских путешественников, которым доводилось туда заехать и которые даже при обычном бризе кутались и обматывались шарфами и бесчисленными платками.
— Я не боюсь ветров, — заявил Гавриэль. — Ни дневных, ни ночных[82].
Леонтин внимательно посмотрела на него и сказала:
— Это может быть добрым знаком.
Легкий ночной ветерок повеял между его голых ног, поверх спущенных штанов, когда он присел над такой близкой землей и поднял глаза на такие далекие звезды, и внезапно у него перехватило дыхание от ощущения, что за спиной его кто-то стоит. Неприятная дрожь в спине мгновенно превратилась в крушащие ребра тиски ужаса при появлении запаха столярного клея и голоса, напевавшего: «И очисти сердца наши, дабы правдой служить тебе! И очисти сердца наши, дабы правдой служить тебе!» То был ужас знания, что умерший тридцать лет назад дедушка стоит за его спиной. Присутствие покойника за спиной превратило весь осязаемый и плотный мир, простиравшийся от земли под его заднепроходным отверстием до звезд над его отверстыми глазами, в тонкую и ломкую паутину наваждения, натянутую на бесплотность духов, и ему самому не хватило духа, чтобы обернуться. А хватило ему духа лишь на то, чтобы тут же помчаться оттуда что есть духу, прихватив рукою сползающие и путающиеся в ногах штаны, к заветной калитке в ограде. Только добравшись до двора, застегнул он штаны при свете, падавшем из окошка Леонтин, перевел дух и накачал воды из старинной колонки, чтобы привести себя в порядок и остудить лицо и затылок. Прежде чем войти в комнату, он заглянул в окно. Так же, как в тот раз ему полегчало, когда выяснилось, что фермерша не видела его бьющимся головой об пол ее комнаты, так и сейчас ему полегчало, когда он увидел, что старая служанка крепко спит, лежа на спине, и если он сейчас войдет, она не поймет, что с ним произошло нечто столь же смехотворное. Вид себя самого, спасающегося бегством со спущенными штанами, веселил его даже больше, чем в детстве — вид Раввы, тужащегося, сидя под просунутой в дверное оконце рукою жены, но смеяться в полный голос он не посмел, опасаясь разбудить Леонтин, и потому сидел и смеялся сам с собою тем беззвучным смехом, которым в конце дней своих втайне от всех смеялся дедушка.
Леонтин рассмеялась, когда он, вернувшись под вечер с работы (в тот день он был отправлен в свинарник помогать кастрировать кабанов), спросил ее, верит ли она в бессмертие души, и вообще много смеялась, постоянно пребывая в хорошем настроении, которое временами выводило из себя ее госпожу. Хозяйка фермы ко всему относилась с повышенной серьезностью и оттого по любому поводу, начиная с протекавшей крыши и тарелок, имеющих обыкновение разбиваться, валясь из моющих рук, и кончая коровами, заболевавшими болезнями рта и копыт, то есть всего того, что по своей природе подвержено порче и обречено на гибель и истребление, ходила вечно с угнетенным и мученическим видом, сгибаясь под непосильной ношею разваливающегося мира. О своей служанке она всегда говорила: «Несерьезная она, эта Леонтин, легкомысленная», а в минуты гнева кричала на нее: «Убирайся отсюда, бессердечная тварь!» В то воскресенье, когда Гавриэль приехал из Парижа, и, в сущности, в течение всей первой недели, что он провел в ее доме, та непрерывно бурчала на Леонтин: «Экая бессердечная тварь! Бессердечная тварь! Какое безобразие! Боже правый, какое безобразие!» И все это из-за одного происшествия. В то воскресенье в церкви Святой Анны происходило поминовение местных уроженцев, павших в великой войне, «на поле чести», как сказал священник. Из-за Леонтин, как утверждала фермерша, обе старушки явились в церковь с некоторым опозданием и стали потихоньку пробираться на свои места возле деревенского доктора, стоявшего с непокрытой головой, в то время как его выходная шляпа — высокий черный цилиндр — покоилась на пустом сиденье сбоку. Когда священник закончил читать поминальную молитву и подал собранию знак садиться, фермерша, расчувствовавшаяся и взбудораженная как святостью действа, так и опозданием, произошедшим, как уже говорилось, по вине служанки, уселась прямо на цилиндр, который сплющился с шелковым стоном. Доктор побледнел и бросил на нее возмущенный взгляд, а она поспешила расправить шляпу и по возможности разгладить ее помятости, а затем протянула ее владельцу с выражением глубочайшего соболезнования на лице. Можно сказать, что если бы не Леонтин, то все сошло бы благополучно, но эта «бессердечная тварь» расхохоталась так громко, что все собрание уставилось на них, застыв словно в столбняке, а священник прервал свою проповедь и сказал:
— Я хотел бы напомнить почтеннейшим сударыням, что они находятся в святом месте и посреди молитвы за упокой душ воинов, павших на поле чести.
Хуже всего фермерше стало оттого, что священник сказал «сударыням», то есть, прибегнув ко множественному числу, превратил ее в участницу этого безобразия, в то время как смеялась одна Леонтин. Чтобы исправить несправедливость, она была вынуждена всю неделю ходить от дома к дому, опираясь на руку Леонтин, и объяснять всем и каждому, что не она, а лишь исключительно Леонтин смеялась в церкви.
Этот искренний и безудержный смех, как видно, и придавал Леонтин вид значительно более молодой, чем вид ее госпожи. Когда та рассказала Гавриэлю, что Леонтин старше ее на несколько лет, он не мог ей поверить и отнес эти ее слова к той разновидности преувеличений чужого возраста, которая была характерна для его матери, но Леонтин сама это подтвердила. Она была проворна в движениях и даже скора на ногу, несмотря на легкую хромоту. То была не настоящая хромота, но некоторое припадание на левую сторону, словно колено левой ноги было сковано. За работой Леонтин пела, и от нее Гавриэль научился местным народным песням: «По пути я встретил дочку жнеца, по пути я встретил дочку косаря» и «Это записано на небесах». Она смеялась и тогда, когда он довольно слабо попытался протестовать против завтрака, подаваемого ему в постель, и объяснить, что это не дело, чтобы она, назначенная по воле хозяйки ему в начальницы, дабы нагружать его любой работой в доме и в поле и держать в ежовых рукавицах, просыпалась утром прежде него, чтобы приготовить ему крепкий ароматный кофе и булочки, намазанные маслом и джемом. Она привела немало доводов и соображений: соображения здоровья — ради собственного здоровья ей необходимо вставать рано и делать двигательные упражнения, соображения удовольствия — для нее подлинное удовольствие встречать его запахом доброго крепкого кофе, и все доводы вместе и каждый в отдельности убедили его в том, что его святая обязанность — продолжать получать от нее завтрак в постель, и поскольку обязанность эта была ему так приятна, чувство вины его покинуло.
— Я знаю, что это смешной вопрос, — сказал Гавриэль. — Но все равно, скажи-ка мне, пожалуйста, веришь ли ты в бессмертие души?
— При чем тут вера? — ответила Леонтин. — Я вижу и знаю, что видят мои глаза.
Гавриэль не вполне ее понял.
— Так значит — не веришь? — спросил он.
— Конечно не верю, — сказала она. — Я-то думала, что ты уже заметил, что я еретичка и оттого патронесса вечно на меня так серчает. Для меня нет ничего, кроме того, что видят мои глаза и что я знаю.
Она снова залилась смехом, и Гавриэль начал понимать хозяйку фермы, иной раз просто выходившую из себя от смеха Леонтин. Смеясь, она указала на тумбочку, хранившую в своих недрах великолепный ночной горшок, и, когда смех утих, сказала:
— А я приготовила тебе ночной горшок, потому что думала, что ты чувствителен к ветрам.
Гавриэль рассердился и нетерпеливо попытался вернуть ее к прежней теме.
— Значит, глаза твои видят, что человек умер и похоронен, и ты знаешь, что это конец истории. Был, и нету!
Он вышел из комнаты в ночь, не дожидаясь нового безудержного взрыва хохота.
Он проснулся от запаха доброго крепкого кофе и увидел Леонтин, с сияющими глазами подающую ему завтрак в постель. Земля не разверзлась и с радостью готова была вынести рабыню, похитившую у своей госпожи честь подавать утреннюю трапезу высокому гостю, забывшему, что перестал быть гостем, просыпающимся в кровати хозяйки, и скатился до положения прислужника прислужницы.
— Ну нет, Леонтин! Нет и нет. Не ты должна меня обслуживать, а я тебя. Боже мой, что это происходит?!
Стрелки больших черных часов выкроили на циферблате прямой угол девяти часов. А ведь он должен вставать на работу в шесть утра.
— Ты забыла разбудить меня на работу! — воскликнул он и рывком сел в кровати.
— Не я забыла, а ты забыл, — сказала Леонтин. — Ты забыл, что сегодня воскресенье — день отдыха.
Тут он обратил внимание и на белые кружевные крылышки ее выходного платья, и на традиционный бретонский кружевной чепец на ее голове, похожий на маленькую очаровательную башенку, и на запах белых, розовых и красных гвоздик, которые она сорвала в саду и поставила в вазу на столе и во все банки на этажерках.
Запах гвоздики Гавриэль любил больше запахов всех других цветов, кроме жасмина.
— Мой сын Марсель любил гвоздику больше всех цветов, — сказала она. — А нынче, в этот час, в девять утра, исполнилось двадцать лет со дня его смерти. Он погиб в первом бою на Марне.
С улыбающимся, как обычно, лицом и с сияющими глазами она рассказала ему историю того дня. Поутру она стояла вон там, в углу комнаты, и поправляла часы, которые остановились в эту минуту. Когда она дотронулась до маятника, в глазах у нее потемнело, дыхание прервалось, и она услышала, как ее сын Марсель кричит: «Мама, мама, мне нечем дышать!», и увидела, как он исчезает под клубящейся земляной лавиной. Она увидела его умирающим с расстояния восьмиста километров и поняла, что теперь ей остается только ждать, когда его имя появится в очередном списке погибших, но имя его не появилось. Вместо этого неделю спустя он оказался в списке без вести пропавших, и только по прошествии нескольких недель, когда снаряды немецкого контрнаступления взрыли завалы прежнего наступления, был обнаружен труп юноши, заживо похороненного под грудой земли. Мужу она об этом не рассказала, потому что тогда он лежал больной и от этой болезни уже не оправился. А кроме того, муж ее был «чувствителен к духам» еще со дня смерти Лизетт, их старшей дочери, умершей в детстве от воспаления легких за пятнадцать лет до гибели Марселя. Однажды ночью, когда муж ее вышел по нужде под дуб, что за оградой, он увидел, что мертвая Лизетт стоит перед ним. С перепуга он убежал домой без штанов, что остались в поле. Милая малышка Лизетт была ей так дорога, что и она захотела ее увидеть. Обливаясь потом и дрожа от страха, Леонтин вышла посреди ночи в поле и стала кричать: «Лизетт! Лизетт! Иди ко мне, Лизетт, я хочу тебя увидеть, Лизетт, Лизетт!» Но Лизетт не пришла. Из ночи в ночь Леонтин в страхе и надежде выходила в поля и кричала «Лизетт, Лизетт», пока не стали говорить, что она сошла с ума от горя, но Лизетт не приходила. Она перестала ходить в полночь в поля и звать ее и перестала надеяться. Однажды летней ночью, сидя за вышиванием рубашки, она подняла глаза и через открытое окно увидела, что Лизетт стоит у калитки. Увидев Лизетт, она выронила из рук вышивание и бросилась к ней самым прямым, коротким и быстрым путем — через открытое окно.
— Мне уже лучше, мама, — сказала Лизетт. — Воспаление легких прошло, и теперь я могу играть на берегу реки.
— Когда я тебя снова увижу? — спросила Леонтин.
Но Лизетт уже исчезла, и Леонтин поняла, что та вернется к ней как только сможет. И действительно, она возвращалась еще дважды, пока не оделась новым телом явившегося в мир младенца, как говорят у нас в деревне: «Ребенок помер — ребенок родился». Душа умершего ребенка не задерживается надолго, как душа взрослого человека, которой приходится порхать по миру голышом целыми веками. И только вернувшись домой, Леонтин почувствовала боль в колене, потому что, когда она прыгнула из окна, колено ударилось и треснуло, и до сего дня она не может его согнуть. Душа Лизетт оделась новым телом младенца, родившегося через четыре месяца после ее смерти, ну а Марсель, который, когда погиб, был уже взрослым мужчиной двадцати одного года, все еще мешкает, вот уж двадцать лет после смерти, и радует сердце матери своими сказками и развлекает ее своими проделками, ведь он большой проказник, а иногда еще запевает одну из тех новых песен, что выучил в полку. Патронесса, которая ничего не видит и не слышит, кроме себя самой, коровьего мычания, куриного кудахтанья да набора всяких глупостей из воскресных проповедей этого пьяного дурака, отца Лагофика, всегда спрашивает:
— Ты не боишься всех этих своих духов? Если б, например, мой покойный муж (так она мне говорит) возник передо мною на кухне, я б на месте замерла со страху.
А я ей говорю, что если бы она и вправду любила мужа, то осилила бы страх и сама захотела бы его видеть. В чем ее несчастье? Несчастье-то ее в том, что она верит всем глупостям, которые городит отец Лагофик. Когда тот начинает в своей проповеди осыпать огнем и серой всякое колдовство и ведьм, что вызывают души мертвых, патронесса бледнеет, начинает трястись от страха и боится смотреть в мою сторону. А, вот и она — уже готова идти к мессе, только меня и ждет.
И действительно, в тот же миг послышался голос хозяйки:
— Леонтин, Леонтин! Если ты не пойдешь немедленно, мы опять опоздаем в церковь!
Гавриэль смотрел в окно на двух старушек, шедших рука об руку в церковь на воскресную мессу. Чем более удалялись они от дома и приближались к церкви, тем больше старился облик хозяйки и молодел облик Леонтин. Согбенная под гнетом старческого бессилия и тяжестью бед и хозяйственных забот, хозяйка фермы висла на руке стройной Леонтин, бодро шагавшей, невзирая на несгибаемое левое колено, и вопреки смертельному страху опоздать на молитву то и дело останавливалась и выговаривала своей служанке:
— Перестань нестись, как конь в конюшню! Ты ни капельки не считаешься с моим состоянием.
По дороге из церкви домой фермерша выглядела еще согбеннее, а Леонтин шагала еще бодрее и веселее. Входя в комнату, она принялась напевать песенку «Это записано на небесах, это записано на небесах» и, легким движением руки распустив под подбородком тесемки своего чепца, подкинула его кверху, словно выпуская огромную белую бабочку, взлетевшую к потолку и опустившуюся на красные гвоздики в середине стола.
«Зеленая у нее душа», — по-арабски произнес про себя Гавриэль. Лишь один раз в жизни слышал он это выражение, произнесенное по-арабски, когда мальчиком лет десяти прислушивался к разговору своего папы с судьей Даном Гуткиным. Отец, придвинувшись к приятелю, прошептал ему что-то на ухо, и оба громко расхохотались, а Дан Гуткин хлопнул себя обеими руками по коленям и со смехом воскликнул по-арабски:
— Иегуда Проспер-бек, зеленая у вас душа, вот как жив Господь, зеленая у вас душа!
Потом папа объяснил ему, что судья воспользовался арабским выражением, означающим душу молодую, как молодой и свежий сорняк ярко-зеленого цвета, полный соков жизни. Сейчас при виде руки, подкидывающей кверху белое кружево, Гавриэлю стало ясно, что возраст души Леонтин вовсе не соответствует возрасту ее тела и не зависит от него, принадлежа совершенно иному летосчислению, и, когда это тело прекратит свое существование, душа Леонтин покинет его такой же молодою, как и в тот день, когда впорхнула в него зеленым мотыльком.
— Я знала, знала, знала! — радостно воскликнула она. — Я знала, что сегодня мне предстоит приятная встреча!
И действительно, кого, как не Малыша Шарло, встретила она в церкви — Шарля Латрокера, лучшего друга детства Марселя. Они вместе ходили в школу, вместе отправились на великую войну и вместе участвовали в первом наступлении на Марне. Теперь Малыш Шарло стал важной персоной, ведь он заведует бретонским отделением знаменитой транспортной фирмы «Кальберсон» в Мансе, главном городе департамента Сарт, и в его распоряжении специальная машина, которая возит его каждый день из дома в контору и из конторы домой. Ей всегда хорошо от встреч с друзьями Марселя, а особенно приятно встречать Малыша Шарло, что так прекрасно рассказывает старые и новые истории о том, что случилось когда-то, и о том, что происходит нынче. Малыш Шарло снова возник на следующее утро вместе с запахом доброго крепкого кофе и горячих булочек с маслом и джемом.
— Сегодня, — сказала Леонтин Гавриэлю, — не ходи работать ни на двор, ни в поле, а отправляйся прямо на дом к Малышу Шарло, а он уж тебе скажет, что делать.
В ее глазах сверкали какие-то странные искорки, и именно они, более чем само по себе непонятное распоряжение, вызвали в нем подозрение, что она слегка повредилась в рассудке. Когда он попытался вернуть ее к действительности всяческими «что это значит» и «с чего это вдруг», она тут же прервала его своим «нечего тут спорить» и вышла из комнаты. Не от нее, а от Малыша Шарло он услышал несколько фраз, открывших ему глаза на сплетенную ею интригу: так как Леонтин знала, сколько зарабатывают батраки на ферме, она подсчитала, что Гавриэлю предстоит отрабатывать свой долг три месяца, а так как знала свою госпожу, то понимала, что та выставит его через эти три месяца без гроша в кармане. Поэтому она договорилась с Малышом Шарло, чтобы тот принял Гавриэля на работу в транспортную фирму. Из того, что он там заработает за месяц, он сможет выплатить остаток долга, и у него еще останется несколько десятков франков. Гавриэль хотел поблагодарить ее за доброту куда больше, чем за ту выгоду, которую сулил ему ее план, но она отмахнулась от него, и глаза ее снова засверкали странными искорками, от которых сердце его необъяснимо сжалось.
— Поспешай на работу! — сказала она. — Шарло уже стоит у себя в дверях и ждет машину, которая должна прибыть с минуты на минуту. Если ты сейчас же не побежишь, то не доберешься сегодня туда, куда должен добраться.
В тот день Гавриэль должен был добраться до северного Парижа, чтобы разгружать пришедший из-за границы товарный поезд.
— Если будете проворными и ловкими ребятами, — сказал Малыш Шарло, подмигнув Гавриэлю и другим грузчикам, забравшимся в огромный грузовик, направлявшийся в столицу, — то успеете еще и слегка поразвлечься в Париже. Но не таскайтесь ни на Пляс Пигаль, ни на Шанз Элизе. Там вас обдерут как липок, а ведь вы — не американские туристы. Я бы вам рекомендовал рю Сен-Дени, да пониже, возле собора Сент-Эсташ. Там большой выбор красивых девиц, да и цены приемлемые.
В конце того месяца с ним произошло небольшое недоразумение при доставке последней посылки: Гавриэль был послан в городок Нуайон к северо-востоку от столицы для доставки туда заграничных посылок, и недоразумение было следствием той двойной радости, которая охватила и его, и водителя грузовика. Ведь то была последняя посылка, работа была быстрой и легкой и вот-вот должна была закончиться, и тогда они понесутся во весь опор на улицу Сен-Дени, где внизу на них хлынут как из рога изобилия все эти проститутки, вожделенные все скопом и каждая в отдельности. И потому они на два голоса грянули песнь бретонского народа «Это записано на небесах, это записано на небесах» в тот момент, когда подъехали к воротам гостиницы, одному из постояльцев которой была адресована последняя посылка. Ворота растворились, и выглянули две головы, которые, как впоследствии выяснилось, принадлежали сторожу и курьеру гостиницы, изумленные всплеском жизнелюбия, поколебавшим застывший покой, неизменно царивший в сем упорядоченном месте. Еще прежде, чем растворились ворота, взгляд Гавриэля привлекла высокая каменная ограда, напомнившая ему о его детской любви к высоким каменным оградам в Иерусалиме, внутри которых заключены были заветные тайны. Здесь, однако, сердце его не тянулось к секретам чужой жизни, протекавшей за таинственной оградой, поскольку сама атмосфера отчужденности была ему неприятна из-за царившего в ней запаха старой ткани, пропитанной стиральным мылом и крахмалом чужого жизненного уклада, мелочного, холодного, глубоко погруженного в счета мира сего под чехлом ханжества и под защитой мессианского спасения в его гугенотской версии, ибо гостиница производила впечатление религиозного странноприимного дома, предназначенного для служителей культа. Когда Гавриэль с посылкой в руках вошел во внутренний двор, сестра-хозяйка сердито крикнула сторожу и курьеру: «Что это с вами? Каждый — на свое место!» в том же перепуганном тоне и в тех же словах, которые слетели с уст фермерши, когда та выкинула его из своего дома в дом служанки. Тут же взгляд ее наткнулся на чужого грузчика, который своим диким пением сбил с толку тех двоих, а теперь вот стоит со свертком в руках у парадного подъезда этакой последней соломинкой, что способна переломить ее спину.
— Эй, ты, бретонец! Через служебную дверь, через служебную дверь!
А когда он развернулся, вышел за дверь и вернулся со служебного входа, сестра-хозяйка снова выросла перед ним и продолжала:
— Так тебя воспитали в твоей стране, Бретани, чтобы носить доставку с главного входа?
Она сделала вывод о его происхождении из бретонской песни, которую он пел вместе с шофером, и приставшего к нему, как видно, бретонского акцента. Что до выражения «в твоей стране», то он уже давно обнаружил, что французы имеют обыкновение называть свою родную провинцию, а иногда даже и город «страной». Так, например, хозяйка прачечной, приехавшая из Бордо, говорила: «В моей стране, в Бордо».
Сестра-хозяйка уже сунула руку в карман фартука, собираясь вручить ему десять сантимов положенных чаевых, когда взгляд ее упал на адрес и она увидела, что это не доставка продуктов для гостиницы, а посылка, предназначенная для одного из жильцов.
— Комната номер девятнадцать, второй этаж справа, — сказала она, не удостоив его дополнительного взгляда, а когда он начал подниматься по лестнице, надумала добавить поучительную сентенцию, в которой тот остро нуждался, как ей стало очевидно из всего его прежнего поведения: — Да не стучи слишком сильно в дверь, да не забудь снять перед ним картуз. Да будет тебе известно, что это один из величайших пастырей, бесценный и великий человек, воистину выдающийся человек!
В дверь комнаты бесценного и великого человека Гавриэль вежливо стукнул три раза, так, как хозяйка фермы стучала в его дверь во времена его величия. В этом стуке не было ни наглой требовательной надменности, ни кроткой униженности, но некая умеренность в изъявлении почтения, не требующая от стучащего отказа от собственного достоинства. Гавриэлевы удары, как и ритм размеренных пауз между ними — все было таким же, но дверь была иной, и посему иным оказался и звук. Дверь его комнаты на ферме была тяжелой и старинной, и стук получался сухой и глухой, здесь же звучный тембр ударов сопровождался сочным резонансом, приятным на слух и сулившим законные чаевые, хотя и не в изобилии, ибо не в обычае порядочных служителей культа разбазаривать свои средства. Сие размышление о чаевых снова напомнило ему о том почтении, которое и вправду испытывала к нему в свое время фермерша. Будучи хозяйкой, она, конечно, не имела обыкновения получать чаевые, и когда он, по рассеянности и по привычке к парижским гостинцам, протянул их ей в свое первое утро, отказалась принять, но тем не менее продолжала ежеутренне стучать в его дверь с предельной вежливостью, настаивая на причитавшейся ему и ей чести, чтобы хозяйка дома собственноручно подавала ему завтрак в постель. Доколе он оставался в ее глазах богачом, она испытывала к нему глубокое уважение, даже не имея никакой выгоды от его денег, а когда он платил ей причитавшуюся плату за жилье, выражение ее лица вызывало у него в памяти стих «наделяющий смертного мудростью своею», потому что она выглядела так, будто получает от него не просто купюры, переходящие из рук в руки, но ломти, отрезанные от некоего свойства его души. Когда купюры эти попадали в ее руки, прежде чем спрятать их в одной ей известные тайники, она садилась на краешек дивана с поджатым ртом и потупленным в святом неведении взглядом и медленно перебирала их пальцами с томным шелестом благоговения. В те дни она переживала за его расточительность и стояла на страже, зорко следя, чтобы он не слишком баловал людей неумеренными чаевыми за их мелкие услуги, но более всего она предостерегала его от корыстолюбия Леонтин, ежедневно убиравшей его комнату и получавшей от него за это постоянные чаевые.
— Не обращайте внимания на ее сладкие улыбки, — говорила она ему. — Она только и следит, что за pourboir!
Само слово «pourboir», произнесенное по-французски, и его дословный перевод «для выпить», произнесенные отцом, всплыли в его памяти из далеких глубин детства, покачиваясь на колеблющихся волнах жара, излучаемого раскаленным обнаженным светом солнца, камнями домов и оград на улице, которую евреи называли «Ради Сиона», а христиане — «Сент-Пол», что тянется от Новых ворот вдоль квартала Мусрара. В черной снаружи и красной внутри карете, запряженной двумя булаными жеребцами, они объезжали стены Старого города и улицы Нового, демонстрируя их важному гостю, прибывшему с визитом в Иерусалим. Гость действительно был важным, ибо отец украсил себя всеми знаками отличия, как испанскими, так и оттоманскими, и кавас, то есть сеньор Моиз, облачился в мундир и держал в вытянутой руке жезл, которым стучал по мостовой и, идя впереди, расчищал для них дорогу в узких улочках Старого города. В карете отец объяснил гостю значение слова «бакшиш».
— Бакшиш, — сказал он, — персидское слово, означающее «дать» и имеющее в виду пурбуар.
— Что это — пурбуар? — спросил Гавриэль, встревая в разговор.
— Пурбуар, — сказал ему отец, — значит «для выпить», и так во Франции называют бакшиш.
В этот момент карета подъехала к глазной клинике, которую совсем недавно открыл на улице «Ради Сиона» молодой знаменитый врач, доктор Ландау. За стенками кареты слепила глаза белизна жарившихся на солнце стен, а вдоль них на камнях мостовой нищие арабы демонстрировали все свои язвы и увечья важным эфенди, приезжавшим в каретах, и кричали им: «Бакшиш! Бакшиш!» Они вышли из кареты между безногим, потащившимся к ним на заду и на руках, и тощим, словно засохшая ветка, подростком, размахивавшим костью, торчащей из его обрубленного предплечья. Гавриэлю стало нехорошо от вида всего этого порченого мяса и от распространяемой этой порчей вони, и он отвернул голову в сторону Подзорной горы. В тот момент, когда отец начал объяснять гостю законы всяческих бакшишей, тот, в забытьи, вызванном палящим зноем, мешавшим ему внимать речам своего гида, сделал неверный шаг и стал щедрой рукою раздавать полные пригоршни серебряных монет ближайшим калекам. Атака сих последних была немедленной и ошеломляющей. Неожиданно они оказались со всех сторон окружены обрубленными руками, отрезанными ногами, провалившимися носами, раздробленными физиономиями и зияющими ранами, рычащими на них в устрашающе нарастающем темпе: «Бакшиш, бакшиш!» Гавриэлю пришлось напрячь все свои силы, чтобы стряхнуть с себя кость, торчащую из обрубленной руки тощего парня, и на один миг наступило облегчение, когда гость взмахнул рукою и метнул в увечных с расстояния нескольких шагов новую пригоршню монет. Нищие кинулись подбирать монеты с мостовой и вырывать их друг у друга. Гавриэлю казалось, что вот-вот пинками и ударами забьют насмерть тощего однорукого парня, с проворством успевшего первым подхватить несколько монет. Но этот отвлекающий маневр не помешал главным силам наступавших сосредоточить свои усилия на создании непреодолимых преград на их пути, и им удалось добраться до входа в клинику и войти в нее только после того, как сеньор Моиз воспользовался своим жезлом каваса, начав прорубать им дорогу, и после того, как они получили неожиданную поддержку с воздуха, рассеявшую нападавших и давшую заветную передышку задыхавшемуся уже Гавриэлю. Подняв изумленные глаза, чтобы выяснить, откуда явился его спаситель, он увидел арабского возницу в красной феске, съезжавшей на левый глаз под острым боевым углом, вставшего на козлах, выпятив пузо вперед, и размахивавшего кнутом направо и налево, хлеща копошившихся у его ног увечных.
Когда они уже входили в дверь клиники доктора Ландау, мимо проехала карета, похожая на их собственную, а в ней — арабский эфенди и рядом с ним мальчик. Эфенди поднял руку в знак величайшего ахалан-васахалан[83] в честь Иегуды Проспер-бека, и отец Гавриэля ответил ему громоздившимися одно на другое поздравлениями и пожеланиями счастливой женитьбы и брака, полного счастья и удовольствий, и доброго здоровья, и сердечной радости.
— Ведь это Махмуд-эфенди из Вифлеема, — с улыбкой объяснил отец гостю, — который сейчас едет на рынок с Даудом, своим сыном от первой жены, покупать подарки Дунье, красотке, что станет, иншалла[84], его третьей женою.
— Дуня? — гость наморщил лоб и сказал с русским акцентом: — Да ведь это русское имя! Может, она — русская девушка? Может, ее родители приехали из России?
— Чистокровная арабская девушка, — сказал Иегуда Проспер-бек. — Из чистокровного и родовитого арабского семейства Масрур. И «дунья» — исконное арабское слово, означающее «мир», и уже сказал о ней Махмуд-эфенди, что отдаст весь мир за одну ее улыбку.
От входа в коридор глазной клиники Гавриэль увидел на фоне каменной ограды, мерцавшей пронзительной белизной на обнаженном свету, колеса принадлежавшего Махмуду-эфенди экипажа, поднимавшие сероватую пыль, оседавшую на толпившихся у входа увечных, вроде той, что возносится при восхождении между могилами на Масличной горе.
— Весь мир отдаст! — сказал гость, усмехнувшись. — Я уже знаком с преувеличенным арабским воображением из сказок «Тысячи и одной ночи»!
Иегуда Проспер-бек рассмеялся.
— Отдать вот этот мир, — сказал он, указывая на серые клубы пыли, — за улыбку любви — это вовсе не преувеличение. Это даже не щедрость добросердечного человека. Тот дурак, кто получит его в обмен на улыбку. Тот дурак, кто получит его даже абсолютно даром, как бакшиш, пурбуар.
— Бакшиш, пурбуар… здесь, в Леванте, все смешивают, — сказал судья, пришедший проститься с сыном Иегуды Проспер-бека, собиравшимся отплыть во Францию для изучения медицины.
Дан Гуткин был тогда самым молодым из членов Верховного суда, и его имя уже появилось в списке представленных к ордену Британской империи пятой степени, опубликованном в день рождения Его Величества.
— Только здесь, в Леванте, в разговорном арабском пользуются словом «бакшиш» для всех трех различных видов дачи: взятки, подаяния и платы за услуги. Не всякий уважающий себя и свой язык араб, будь он даже невеликим знатоком литературного языка, ограничит пользование словом «бакшиш» только для обозначения взятки. Подразумевая милостыню, он скажет «закаат», а плату за услуги назовет «решум аль-хидмат» — это и есть «пурбуар». Да, пурбуар, как я уже сказал…
И тут его лицо приняло то выражение мрачной подчеркнутой серьезности, которое в стенах суда предназначалось исключительно для оглашения приговора, а за пределами сих стен — исключительно для произнесения надменных и высокомерных сентенций.
— Пурбуар есть один из двух основных параметров в оценке культур различных стран и народов. Второй — это проституция. Да, проституция и пурбуар.
Правила чаевых, принятые в Париже, Гавриэль нарушил в тот же день, когда впервые ступил на камни парижских мостовых, хотя и знал их во всех мельчайших деталях со слов судьи, который, явившись проститься с ним, счел необходимым просветить его насчет всех церемоний пурбуара и законов проституции великого города. Он столкнулся с ними в большом общественном туалете на станции метро. Каждый входящий в кабинку обязан был уплатить за услуги, но, к его удивлению, к обслуживанию господ мужчин, справлявших свою нужду, был приставлен не служитель, призванный открывать для них дверцы кабинок и выдавать им бумагу на подтирку, но служительница в белом фартуке и белом чепце, вдобавок к обязанностям служителей места сего также чистившая ботинки возле больших зеркал в коридоре.
Выйдя из кабинки и увидев ее лицо, он был захлестнут потоком симпатии и сострадания: разрезом глаз и улыбкой она напоминала ему собственную мать в счастливые минуты, когда у той было хорошее настроение и уста мурлыкали песенки ее школьных лет. Мысль о том, что его мать может тоже в один прекрасный день начать мыть общественные туалеты и чистить обувь всех тех, кто туда забредет, на миг сжала его сердце, когда служительница обратилась к нему с вопросом, не угодно ли будет господину позволить ей почистить его ботинки. Когда он уселся на высокий и удобный стул и поставил ногу на специальную табуреточку, блистающую медными украшениями, его опасение стало рассеиваться по мере того, как он продолжал анализировать эту возможность. Его мать не пошла бы мыть общественные туалеты, даже оказавшись вдруг, в связи с какими угодно страшными несчастьями, без крыши над головой и без куска хлеба и даже если бы у нее осталась возможность зарабатывать деньги исключительно таким путем. На эту работу она бы отправила свою старшую сестру, шарообразную тетушку Пнину, да и не на одну только эту работу. Она вообще не пошла бы работать, даже на самую в ее глазах почтенную, скажем, руководить школой для девочек имени Эвелины де Ротшильд. А что, если бы не было тетушки Пнины? Но тогда можно быть уверенным, что госпожа Джентила Луриа нашла бы себе какую-нибудь другую Пнину.
— Я не создана мыть общественные туалеты, — прозвучал в его ушах голос матери.
— А эта женщина, которая самоотверженно, да-да, самоотверженно! чистит мои ботинки, она что, создана мыть общественные туалеты?! — услышал он собственный голос, отвечающий матери в присутствии служительницы, продолжавшей с улыбкой свою работу, для которой не была создана.
Более всего его тронула ее улыбка, с которой она отзывалась на обращения каждого, словно хозяйка, что рада подать пирожные собственной выпечки и порадовать дорогих гостей. Она производила впечатление одной из тех деликатных дщерей благородных семейств, выросших на столичных излишествах, которые под ударами жизненных невзгод вынуждены перебиваться самыми презренными заработками, поскольку не были обучены никаким практическим навыкам и профессиям, и продолжают в новом своем положении пользоваться прежними хорошими манерами, стараясь выглядеть довольными.
— Я иностранец, — сказал ей Гавриэль. — И только что попал в Париж из другой страны.
— Я тоже тут чужая, — отвечала она, подняв на него сияющий взгляд.
На вид ей было по меньшей мере лет пятьдесят, но при этом в ней сохранялось что-то от былой красоты и молодости.
— И я тоже недавно приехала сюда из моей страны.
— А я думал, что вы француженка, парижанка.
— Нет-нет, — рассмеялась она. — Я не француженка, да и не городская. Я-то, я бретонка, деревенская. Из маленькой деревушки в Бретани. Я родилась в Карнаке.
Эти слова почему-то еще больше растравили его сострадание, и когда она закончила чистку ботинок, он порылся в кармане и протянул ей полную горсть монет.
— Нет-нет! — воскликнула она и выбрала лишь причитавшиеся ей чаевые. — Все остальное немедленно спрячьте в карман!
И она начала объяснять давно известную систему начисления процентов.
— Но я хочу дать вам все, — сказал он, смущаясь еще больше.
— Не глупите, — успокоила она его. — Вы человек молодой, и эти деньги вам еще понадобятся, особенно в этом большом чужом городе. Деньги. Да, да — деньги могут дать вам главное — свободу!
— Конечно, это невыносимо… — начал он, чувствуя себя редкостным дураком, — это рабство… зависимость от туалетов…
— Вы ошибаетесь, молодой человек, — ответила она. — Никогда я еще не была такой свободной. Никогда мне еще не было так хорошо.
Ее улыбка, не покидавшая его по дороге в гостиницу, казалась ему компромиссом, смягчавшим болезненное противоречие между свободой, которая была ей дороже всего в этом мире, и зависимостью от общественного туалета, в котором ей лучше, чем было когда-либо в жизни. Видимо, тут замешано нечто глубоко религиозное в своей основе, подумал он и вспомнил рассказы о монашках, в религиозном просветлении занимающихся самой тяжелой, презренной и тошнотворной работой. Но и тут его ожидало потрясение. Снова придя к ней почистить ботинки, вовсе не нуждавшиеся в чистке, в День всех святых, он произнес нечто по поводу святых, благодаря которым даже антирелигиозно настроенные студенты пользуются днем, свободным от занятий.
— Со всеми этими святыми я не имела чести встречаться, — заметила она и, к его изумлению, добавила с простодушной улыбкой: — Но если они похожи чем-то на тех святых, с которыми я знакома, могу вас заверить, что они принесли в мир не свободу, а угнетение. Те святые, которых я знала, превратили мою жизнь в настоящий ад, из которого я вырвалась только благодаря одной женщине, считающейся у них ведьмой, языческой колдуньей.
Что это за святые, с которыми она знакома? Прекрасно знакомые ей святые — это не кто иные, как ее мать и муж. Святость ее матери прогремела не только в ее родной деревне, но и по всей епархии, по всем весям Дикого Берега и побережья залива Морбихан, и даже священник сказал о ней, после того как она пожертвовала сто тысяч на реставрацию старинной церкви, что она достойна быть причисленной к лику святых католической церкви. Большая часть земель в тех местах принадлежит ей, но дочери она отродясь не дала ни гроша на покупку конфетки у лавочника, и все это — из соображений святости. Из тех же соображений она воспитывала дочь на достоверных историях обо всех неисчислимых разновидностях адских мук, уготованных грешным душам в мире грядущем, и из тех же самых соображений святости сосватала ее единственному наследнику соседнего поместья. Муж ее свят не деяниями своими во имя своей веры, а теми деяниями, что не совершил во имя нее. Он истово верует в освобождение Бретани от французского ига. Дай ему волю, он изгнал бы французов с их языком и с их нравами из всей земли Бретонской и царил бы над нею «рукою крепкой и мышцей простертой и в славе великой» от Атлантического океана до града Нанта, как некогда Номино, великий герцог Бретонский, прославившийся на весь свет. Он бы пробудил и возбудил бретонцев, продал бы все наследственные земли и все прочее семейное достояние и купил на эти деньги ружья для освободительной войны, он бы организовал и вооружил на свои деньги целые полки бретонских рабочих и крестьян, захватил бы полицейский участок в деревне, а потом и префектуру, и весь департамент, и так далее, и так далее, пока не овладел бы всей страною и не покрыл бы себя вечной славою, только сперва следует захватить полицейский участок в деревне. И все эти славные деяния, свое жизненное предназначение, блеск своих подвигов и честь своего имени принес он в неизмеримой святости своей в жертву своей семье. Скорбью великою воскорбели его старые и больные отец и мать, прослышав, что задумал он продать все земли, а когда узнали они, что намерен он купить на вырученные деньги ружья, дабы взять штурмом полицейский участок, сделались они как громом пораженные и свет померк в их очах. Осуществи он пылающую в его сердце идею, он свел бы своих престарелых родителей в гроб, но он не тот амбициозный эгоист, что своими руками принесет собственную семью на алтарь честолюбия. Напротив — это свою жизнь, каждый миг безвозвратно и бесследно уходящей жизни своей он приносит в жертву на алтарь своей семьи, включающей после женитьбы и его жену, а в последнее время — особенно ее. Скорбь жизни своей, связанный по рукам и ногам на жертвеннике семейном, топил целый день в горьком зелье, а ночью произносил суд над женою[85], и не только произносил, но и вершил его, отвешивая ей в гневе порцию пощечин и крепких ударов, особенно с тех пор, как истощилась его мужская сила. Истины ради надо сказать, что и в молодости, когда они обвенчались, не отличался он силой чресл своих, но силой своей десницы ублажал он жену изрядно, а уж когда и вовсе оставили его мужские доблести, то и того пуще. И так между святостью матери и святостью мужа тянулась, угасая, ее жизнь, пока не возникла старая служанка Леонтин и не вызволила ее из рук обоих. Это Леонтин помогла ей бежать из дома, и, что еще важнее — это она освободила ее от страхов, привязывавших ее всю жизнь к матери и к мужу, это она раздула в ней силу духа, чтобы совершить поступок.
— А как ей это удалось? — спросил Гавриэль.
— Не знаю, — ответила чистильщица ботинок. — Есть у нее такая сила. Эта Леонтин в наших местах слывет ведьмой, этакой чародейкой и ведуньей.
После первого недоразумения Гавриэль старался давать ей чаевые в строго установленном размере. Так же поступил он и сейчас, но она подняла на него со своей табуретки сияющие глаза и, улыбнувшись, сказала:
— Сегодня я вам разрешаю дать мне сколько вашей душе угодно, ведь сегодня же День всех святых!
— А что до отношения Кальвина ко всем католическим святым… — произнес один из двух прошедших по коридору господ.
За дверью, в промежутке между двумя вежливыми ударами, послышались шаги пастыря, столь значительного в глазах сестры-хозяйки. Будь она католичкой, а не гугеноткой, она, безусловно, назвала бы этого пастыря не «бесценным, великим и выдающимся», но «святым» человеком. Вместе с приближавшимися к двери шагами Гавриэль, казалось, услышал какой-то напев, словно человек за дверью напевал себе под нос мелодию песни, но не Песни Восхождения и не святого христианского гимна, а почему-то именно песенки «В роще на Гиват Ха-Шлоша», полюбившейся Гавриэлю еще в годы учения в семинаре «Эзра». Похожее наваждение уже случалось с Гавриэлем в ту ночь, когда он вышел на побережье и до его слуха донеслись звуки пения из залива. Тогда ему показалось, что он слышит мелодию песни «Тут, в стране отцов желанной, все надежды станут явью», и лишь когда он приблизился к сидевшей в лодке компании, ему стало ясно, что они поют широко распространенную в Карнаке народную песню «Это записано на небесах…» Тогда он был объят смутным страхом, но сейчас, уже зная, что все это лишь иллюзия, проделка его собственной фантазии, он развеселился и внутренним взором уже видел себя рассказывающим матери о странной истории, произошедшей с ним во французском городке Нуайон, к северо-востоку от Парижа. Тогда он работал грузчиком в большой транспортной фирме «Кальберсон» и нес посылку одному гугенотскому пастору, проживавшему в гостинице для священников. Через дверь он слышал, как знаменитый пастор вышагивает туда и обратно по комнате и напевает нечто вроде тихой молитвы своему Господу. Когда он приблизился к двери, чтобы постучать, его слуха достигла мелодия этой тихой молитвы, и вот — это, оказывается, не молитва, а песенка, да не просто песенка, а припев песни «В роще на Гиват Ха-Шлоша». Священник бродил себе по комнате и мурлыкал под нос песенку:
Не тронь меня! Не покидай меня! Сердце мое пророчит страдания. В роще на Гиват Ха-Шлоша Там явилась — о, как хороша! Пальмы стройнее, лани нежнее — В роще на Гиват Ха-Шлоша…Мать посмотрит на него с состраданием, смешанным с негодованием, вздохнет и скажет:
— Ой, Габи, Габи, опять ты со своими восточными фантазиями! Скажи мне, пожалуйста, чем ты лучше своего отца, этого старого турецкого распутника! А чему же тут удивляться? Ведь ты кость от кости его и плоть от плоти!
Дверь отворилась, и священник протянул одну руку, чтобы взять посылку, а второю стал рыться в кармане, чтобы вытащить несколько монеток грузчику на чай. Когда пастор поднял голову, Гавриэль увидел под черной шляпой лицо маленького Срулика, Исраэля Шошана, своего старинного друга еще со времен начальной йешивы рава Кука и учительской семинарии под эгидой общества «Эзра».
Лицо маленького Срулика, внезапно выглянувшее из-под черной шляпы с тем же растерянно-боязливым и одновременно упрямым в своем бунте выражением, которое было присуще ему в последний год обучения в учительской семинарии, в период последних страданий безутешной любви к Орите, дочери судьи Дана Гуткина, вызвало у Гавриэля, вместе с шоком изумления, прилив веселья и нежности. На какой-то миг его радостный порыв был пресечен ужасом, объявшим маленького Срулика: сероватая бледность залила его ранее красные щеки и скулы, сильно выдающиеся по обе стороны от китайских раскосых глаз за стеклами больших очков. Он пошатнулся, налетел на стол и вцепился в его край одной рукою, в то время как другая, все еще сжимающая монеты, которые секунду назад он собирался дать на чай грузчику, словно прикрывала его глаза от представшего перед ним грозного видения.
Придя в себя, маленький Срулик промямлил что-то о современном человеке, несущем свой современный крест, крупными буквами отпечатанный у него на спине, а Гавриэль снова расхохотался и воскликнул:
— Срулик! Срулик! Брось все эти банальные глупости по поводу современных крестов в современном мире! Скажи мне, черт возьми, что это с тобой? Что ты тут делаешь?
— Что я тут делаю? — повторил маленький Срулик, поправив очки на носу и проведя рукою по щекам, снова вспыхнувшим своим обычным румянцем. — Я готовлю лекцию о Тайной вечере. У меня есть несколько собственных идей о смысле Тайной вечери, в которых, как мне кажется, есть нечто новое, они могут также способствовать пониманию спасения души Спасителем и во Спасителе…
Со все нарастающим воодушевлением он начал излагать тезисы своей лекции Гавриэлю, который прислонил посылку к кровати, уселся на стул, скрестил руки на груди и сказал себе: «Может, я и вправду умер?» Ужас, только что напавший при виде него на Срулика, был ужасом перед привидением, внезапно вырастающим на человеческом пути. Когда-то он что-то читал о способах, коими человек может проверить самого себя — действительно ли он еще жив, не вылетела ли случайно его душа из своего телесного дома. Наиболее верный и испытанный из всех этих способов, говорилось там, — это проверка тени: если тень окажется на месте, следовательно, существует тело, ее отбрасывающее. Тогда, читая все это в качестве забавного фольклорного развлечения, он и не предполагал, что вопрос сей когда-либо встанет перед ним. «Хорошенькое дельце, — подумал он и снова рассмеялся в какой-то безграничной самоуверенности. — Я ищу собственную тень. А может статься, что и маленький Срулик так же мертв, как и я, только сам того не знает?» Его веселость достигла предела, когда он осмотрелся и не обнаружил никакой ясной тени ни у себя, ни у Срулика. В сероватом свете, под вуалью вечного тумана, окутывающего северные городки и прячущего от них солнечный лик, его взгляду предстали лишь тончайшие оттенки мягких тонов и полутонов, перетекающие один в другой без каких-либо контуров и границ.
Приложения
От переводчика
По причинам, далеким от изощренного художественного умысла, роман «Лето на улице Пророков» — первый в шахаровской лирической эпопее «Чертог разбитых сосудов», публикуется в русском переводе вторым по счету, через два года после «Путешествия в Ур Халдейский». В послесловии к «Путешествию…» уже были вкратце изложены композиционные принципы всего цикла, рассмотрена связь авторского подхода к романной действительности с лурианской каббалой и рассказано о Давиде Шахаре. В любом случае, всякому, кто прочтет «Лето на улице Пророков» с интересом, имеет смысл незамедлительно приняться за вторую книгу, в которой он найдет как продолжение некоторых романных линий, так и их предысторию, а заодно сможет почерпнуть необходимую информацию из послесловия. В данном же издании, вместо того чтобы повторяться, я предпочел дополнить текст романа, помимо обычных примечаний, сокращенным переводом очень информативной статьи Михали Пелед-Гинзбург и Моше Рона «Иерусалим Шахара», позаимствованной из готовящейся к печати книги о творчестве писателя, а также небольшим мемуаром Амоца Коэна «Улица Пророков в начале века», бесхитростно и достоверно рисующим этот оживленный иерусалимский район на протяжении двух первых декад его существования. Таким образом, приложения к этой книге сконцентрированы на вопросах топографии, что диктуется самим ее заглавием. Планируя совместно с издательством продолжать работу над переводом и изданием романов «Чертога», я надеюсь и впредь дополнять их публикацию статьями иных аспектов творчества Шахара: сквозных тем его эпопеи, сюжета, стиля и пр.
Здесь, по традиции, должны были бы следовать сетования на особенности шахаровского иврита и трудности перевода его на русский язык. Вне всяких сомнений, для меня, как для каждого переводчика, важнее всего адекватно передать столь любимый мною в оригинале голос. Однако вместо того чтобы долго и жалостливо рассуждать на тему невозможности перевода и оплакивать неизбежные потери и компромиссы, я хотел бы выразить глубокую благодарность людям, которые оказали и продолжают оказывать мне неоценимую помощь в этом увлекательнейшем и безнадежнейшем труде: постоянному литературному редактору моих переводов, поэту Гали-Дане Зингер, другу-переводчику Петру Криксунову и вдове писателя, профессору Шуламит Шахар, за советами к которым я постоянно обращаюсь.
Некод Зингер 7. IX.2004, ИерусалимИерусалим Шахара
В то время как, представляя территорию любого города, карта изображает ее как некое схематичное единство, роман о том же городе способен исключить из поля своего зрения целые районы и сконцентрироваться на других. И так же как он создает человеческие фигуры, не числящиеся в городской переписи, он имеет право и на создание дополнений к реальному городу — зданий, улиц и целых кварталов, не означенных на обычной карте. Этот процесс выбора, включения и исключения, расширения, сжатия и соединения различен в разных текстах, даже если и имеет дело с тем же самым городом, и он, этот процесс, и определяет в конце концов облик города в конкретном произведении.
Определение Давида Шахара как писателя Иерусалима общепринято. Иерусалим — не только город, в котором он родился и провел большую часть жизни, но и сцена, на которой развертывается подавляющее большинство его сюжетов. Его крупнейшее произведение, серия романов «Чертог разбитых сосудов», на определенном этапе даже именовалось «Иерусалимские свитки». Но что такое, в сущности, Иерусалим Шахара? Этот вопрос далек от тривиальности. Ибо если любой город — это не попросту площадь, улицы, здания, жители, но сгусток понятий, плод сплетения различных дискурсов, иногда противоположных друг другу, облик города литературного тем более есть предмет весьма проблематичный.
Каким же образом изображение Иерусалима вписывается в поэтику Шахара в целом и в поэтику «Чертога» в частности? Существует ли специфическая связь изображения города с сюжетными и тематическими линиями произведения?
* * *
Заглавие первого романа «Чертога разбитых сосудов» ясно обозначает время и место событий: «Лето на улице Пророков». Если обозначение времени — лето — носит несколько расплывчатый характер, обозначая более чем одно лето, то улица Пророков «на участке между Абиссинским переулком и Итальянской больницей» представляет собой однозначный центр мира для всей серии романов. Это очень маленький и густонаселенный мир. Улица Пророков и несколько улиц и переулков, отходящих от нее — Абиссинский переулок (ныне — улица Эфиопии), улицы Бней-Брит, Рава Кука, Чанслор (ныне — Штрауса) и Блимуса — вот то сжатое пространство, в котором живут и действуют почти все персонажи «Чертога». Здесь находится дом повествователя, он же дом его главного героя Гавриэля Луриа, и в этом же пространстве живут и прочие центральные персонажи — судья Дан Гуткин с дочерьми Яэль и Оритой, доктор Ландау, библиотекарь Срулик Шошан и члены его семьи, начальник полицейского участка Уильям Гордон и другие. Здесь же расположены общественные заведения, где встречаются действующие лица: кафе «Гат», библиотека Бней-Брит, глазная клиника доктора Ландау и менее важные объекты, вроде кинематографа «Эдисон», лавки Красного Уха и его сына реб Ицхока, мастерской портного Антигеноса, полицейского участка улицы Сент-Пол и школы танцев Длинного Хаима и Одеда. Учительская семинария, где учились Гавриэль и Срулик, гимназия, где училась сестра Срулика Рина, а потом сам повествователь, его друг Арик Высоцкий и сын Берла Рабана, Таммуз, и школа имени Эвелины де Ротшильд, где в свое время воспитывались Джентила Луриа и Шоши Рабан, также расположены в этом пространстве.
Обыкновение повествователя определять пространственные точки в соотношении к другим подобным точкам только усиливает впечатление скученности по сравнению с реальным их расположением на карте. Так, говорится, что дом отца Срулика стоял в переулке, отходящем от улицы Пророков, и то же сказано о библиотеке Бней-Брит; местоположение кафе «Гат» обозначено его непосредственной близостью к улице Пророков, и так же — лавки Красного Уха, напротив которой находилась мастерская портного Антигеноса. Читатель, не очень хорошо осведомленный в топографии Иерусалима, может предположить, что абиссинское консульство находится на Абиссинской улице, и, поскольку о доме повествователя снова и снова говорится, что он расположен напротив абиссинского консульства, может создаться ошибочное впечатление, что и он стоит на Абиссинской улице. И когда про кинематограф «Эдисон» говорится, что он «возле нашего дома», в то время как он удален от Абиссинской улицы так же, как удален от нее в другом направлении дом повествователя (дом Луриа), то воображаемое пространство сжимается и то, что изначально является небольшой территорией, превращается в гораздо меньшую. Это впечатление усугубляют некоторые «неточности» повествователя. Похоже, что он испытывает в отношении этого района чувство повышенной плотности, близости и тесноты, которое передает и читателю. Все ответвляется от одной центральной улицы, и к ней все возвращается. Иногда к этой территории сюжетно присоединяется и географически прилегающее к ней Русское подворье.
Шахаровские романы представляют район, в котором сосредоточены события, промежуточной зоной: это и не Старый город, и не Новый, быстро распространяющийся к западу. Несмотря на близость к центру Западного Иерусалима — треугольнику улиц Яффо, Короля Георга и Бен-Иегуды, — улица Пророков описана у Шахара как пограничная зона, отделяющая еврейский нерелигиозный тыл от потенциально агрессивных миров арабов Мусрары и Шхемских ворот и еврейских ультраортодоксов Ста Врат. Старый город, населенный арабами и ультраортодоксами, наблюдается издалека. Что до новых еврейских районов, то создается впечатление, что «Чертог разбитых сосудов» почти полностью исключает их из сферы своего внимания: Рехавия и Тальпиот упоминаются лишь однажды, а другие важные кварталы вроде Бейт Ха-Керем, Кирьят Моше и Байт Ве-Ган не упоминаются вовсе.
Можно было бы сделать из этого вывод, что данное произведение описывает мир «старого ишува»[86]. Если подразумевать под понятием «старый ишув» семьи, жившие в Иерусалиме не одно поколение, то это не лишено справедливости, но если иметь в виду ультраортодоксальную общину, существующую в основном на пожертвования, то, конечно, не таков мир «Чертога». Ясно, что этот мир не конгруэнтен ни одной из категорий «старого» и «нового» ишувов. Его жители — уроженцы Эрец Исраэль, происходящие из традиционных еврейских семей внутри стен Старого города и за их пределами. Но в период романных событий ни один из них не ведет характерного ортодоксального образа жизни, но все же трудно отнести их к нерелигиозному, современному сионистско-социалистическому миру. Некоторые историки «старого ишува» утверждали, что многие из противопоставлений, которыми пользуются для определения двух лагерей — старого и нового, национального и этнического, инертного и творчески-созидательного, — следует воспринимать в контексте попыток «нового ишува» делегитимизовать соперников, а потому от них необходимо отказаться как от упрощения, вызванного идеологическими мотивами.
Но вернемся к сжатому пространству вокруг улицы Пророков. Действительно, некоторые персонажи «Чертога» связаны и с другими местами, но те не представляют собой противоположного полюса или альтернативы улице Пророков. Так, например, про Эльку и Этель, тетушек Срулика, намеком сказано, что они живут в квартале Шаарей Хесед (Врата Милосердия). Однако присутствие двух этих тетушек в мире романа определяется прежде всего их визитами к племяннику в библиотеку Бней-Брит, где они устраивают свои «five o’clock tea», в которых принимают участие также Гавриэль и мальчик-повествователь (судя по всему, в разные периоды). Берл Рабан, которого мы впервые встречаем на рабочем месте в клинике доктора Ландау[87], в последующих томах получает новые адреса: в романе «Нин-Галь» говорится, что дом, в котором он жил с женой, находился в «старом квартале Монтефиори», а в «Дне духов» у него есть комната на нижнем этаже дома вблизи Американской колонии. Но эти новые объекты как-то не «прилепляются» к его образу, и вся его история остается привязанной к улице Пророков.
Пространственная конфигурация, создавшаяся в «Чертоге», неприменима к некоторым романным жанрам: это не романы «разрыва», в которых герой попадает из мира отчего дома в чужой или запретный мир; это также не романы «социальных амбиций», в которых восхождение героя по общественной лестнице измеряется, среди прочего, его местом в пространстве; это также и не романы «воспитания», в которых герой отправляется в широкий мир или в столицу, и тогда подвергается испытанию его зрелость в понимании дома и этого широкого мира. Гавриэль действительно покидает Иерусалим, отправляется надолго во Францию и затем возвращается, но не происходит никакого заметного изменения в его жизненном укладе и мировоззрении после его длительного отсутствия, поэтому подлинное Bildung (формирование) в этом увидеть невозможно. Таким образом, кажется, что в «Чертоге разбитых сосудов» Шахар не сосредоточен на переменах в жизни своих героев, их успехах и поражениях или переменах в их самосознании и мировоззрении, но интересуется главным образом воссозданием общественного и культурного мира, в котором все эти персонажи живут, того мира, который, в сущности, в них и состоит и которому они, по большей части, сохраняют верность.
* * *
Район улицы Пророков, служащей центральной осью сюжета «Чертога разбитых сосудов», имел огромное значение в жизни Иерусалима первой половины двадцатого века. В конце девятнадцатого столетия, после постройки первых кварталов за стенами Старого города, улица Яффо — дорога, ведущая из Иерусалима в Яффу, — стала главной транспортной артерией, и по обе ее стороны возникали многочисленные торговые заведения. На улице Пророков, частично параллельной и расположенной к северу от нее, такого движения не происходило. В то же время, возможно ввиду своего расположения на небольшой продольной возвышенности, где воздух считался более чистым, улица Пророков сделалась популярным жилым районом, где проживали многие представители высшего городского общества. Там расположились многочисленные консульства, и, поскольку во второй половине девятнадцатого века иностранные дипломаты из Европы и Америки пользовались повышенными правами у османских властей, эти консульства вели себя почти как правительства в миниатюре. Консульская улица, как она тогда называлась, была не только социально престижной, но и обладала политическим влиянием. Название «улица Пророков» она получила в начале британского правления, скорее всего, ввиду близости могил Наби Окша (памятной стелы в честь одного из друзей пророка Мухаммеда) и Наби Кимр (где захоронено несколько мусульманских воинов, погибших в боях с крестоносцами). И действительно, вплоть до 1948 г. вокруг улицы Пророков не было еврейского большинства, в отличие от таких новых еврейских кварталов, выстроенных за пределами Старого города, как соседние Меа Шеарим (Сто Врат), Зихрон Моше, Бейт Исраэль или Бухарский квартал. Улица Пророков граничила с арабским кварталом. Христианское присутствие в этих местах выражалось не только в иностранных консульствах, но и в церквах, и в других институциях, вроде школ и больниц, основанных различными миссионерскими обществами (иногда эта улица именовалась также Больничной улицей). В то время как новые кварталы, в особенности еврейские, были весьма гомогенны (отдельные кварталы сефардов и ашкеназов, а внутри этих категорий — отдельные кварталы венгров, йеменцев, курдов, бухарцев и т. п.) и являлись по большей части замкнутыми сообществами, имевшими свои уставы и организации, население вокруг улицы Пророков было гетерогенным, и, несмотря на наличие многочисленных общественных учреждений, там не существовало организованного сообщества, то есть этот район не был «кварталом» в характерном для Иерусалима понимании.
Многие здания на улице Пророков, в особенности те, что были возведены различными заморскими инстанциями, выделялись особенным, нередко роскошным архитектурным решением, превращая эту улицу в одну из наиболее парадных улиц Иерусалима начала прошлого века. На углу улицы Колен Израилевых (улицы Сент-Пол времен британского мандата), ограничивающей район с юга, располагалась Итальянская больница, выстроенная в 1911–1917 гг., а напротив — здание, стилизованное под замок и прозванное «Маханаим» (Два стана) (выстроено в 1885 г. швейцарским банкиром Фрутигером, в более поздний период служило резиденцией губернатора лорда Плумера). С другой стороны улицы Пророков, возле Махане Иегуда, находилась Английская больница, основанная английскими миссионерами. Между этими двумя полюсами находится также большое здание эфиопского консульства (построено между 1925 и 1928 гг.); дом Пробста (построен в 1903 г. протестантской общиной для своего духовного лидера, пробста, на участке, где располагалась резиденция императора Вильгельма во время его визита в Иерусалим за пять лет до того, и там некоторое время проживал первый английский комендант Иерусалима, Сторс); абиссинская церковь (построена между 1874 и 1893 гг.) на Абиссинской улице, неподалеку от угла улицы Пророков; вилла Тавор (построена между 1882 и 1889 гг. архитектором Конрадом Шиком для самого себя); монастырь Святого Иосифа (1887); Немецкая больница (1894); евангелистская церковь и дом Паши, расположенный между улицами Пророков и яффо (построен греческими ортодоксами в конце XIX века, служил резиденцией паши — губернатора Иерусалима в период оттоманского владычества).
Вместе с тем в районе улице Пророков было и весьма солидное еврейское присутствие. Среди впечатляющих зданий и действовавших в них еврейских общественных институций можно упомянуть больницы «Бикур Холим» и имени Ротшильда, школу «Лемель» (на соседней улице Иешайагу), библиотеку Бней-Брит (на улице Бней-Брит) и гостиницу «Камниц» (наиболее современную и роскошную в Иерусалиме конца XIX века, между улицами Пророков и Яффо, возле Английской больницы). В целом этот район был центром новой культурной жизни города в первые десятилетия XX века. В своей автобиографии «Путь иерусалимского судьи» судья Гад Фрумкин называет Абиссинскую улицу «Латинским кварталом Иерусалима» из-за высочайшей концентрации учебных заведений, студентов и педагогов. Беглый взгляд на расположившиеся там (и надолго) школы дает картину гомогенности этой новой культуры: школа «Лемель», чьи учащиеся получали еврейское и общее образование на немецком языке; учительская семинария, готовившая школьных учителей в модернистическом духе; школа искусств «Бецалель»; школа для мальчиков «Тахкимони» — сефардское учебное заведение, прививавшее ученикам сионистский дух и язык иврит, религиозная ашкеназская школа «Маале».
Обращение к Гаду Фрумкину здесь не случайно. Он был единственным евреем — членом Верховного суда в период британского мандата и, несомненно, является прототипом судьи Дана Гуткина у Шахара. Фрумкин жил на Абиссинской улице, а позже — на улице Пророков, неподалеку от Итальянской больницы, но в 1924 г. уже покинул этот район, подобно многим представителям своего социального и интеллектуального круга, и перебрался западнее, в Рехавию. То же произошло и со многими организациями: «Бецалель» переехал на улицу Шмуэль Ха-Нагид; ивритская гимназия, основанная в 1909 г. в близлежащем квартале Зихрон Моше и действовавшая в 1915–1921 гг. в Бухарском квартале, переехала в Рехавию в 1927 г.; учительская семинария, открытая на Абиссинской улице, а затем действовавшая в разных помещениях в Зихрон Моше, переехала в Бейт Ха-Керем в 1928 г.; Национальная библиотека, размещавшаяся в 1920–1930 гг. в библиотеке Бней-Брит, переехала на Подзорную гору, так же как больница «Хадасса», располагавшаяся с 1918 г. в больнице имени Ротшильда. Надо заметить, что иностранные консульства, еще некоторое время остававшиеся на улице Пророков, утратили влияние с начала Первой мировой войны и уже не восстановили своего величия при англичанах. Этот массовый исход не произошел единовременно: школа для девочек имени Эвелины де Ротшильд действовала в здании «Маханаим» до 1948 г.; кинематограф «Эдисон» оставался крупнейшим зрительным залом Иерусалима и центром музыкальных и театральных представлений вплоть до открытия нового Народного дома в начале шестидесятых годов. Тем не менее можно утверждать, что большинство учреждений и людей, населявших район улицы Пророков и создавших ее репутацию, переселились с нее к середине тридцатых годов — ко времени главных событий эпопеи.
Культурное и социальное милье шахаровских романов, в котором действуют герои в середине тридцатых годов, гораздо больше соответствует атмосфере двадцатых. Концерты и приемы в домах Гуткина и Луриа, в частности, к середине тридцатых годов, уже происходили в Рехавии. Рехавия была не просто новой и более современной версией района улицы Пророков. Этот квартал хоть и стал самым популярным районом расселения еврейской интеллигенции в Иерусалиме и местом социального пересечения руководителей еврейского ишува с чиновниками британской администрации, но в нем никогда не существовало этнической, общинной и культурной гетерогенности, характерной для улицы Пророков периода ее блеска. Рехавия, в которой расположились национальные институции, а также, среди всего прочего, рабочие общежития, была еврейским нерелигиозным и сионистским кварталом.
Важно подчеркнуть, что в «Чертоге» нет тривиального переноса действительности двадцатых годов в тридцатые, ведь сюжет Шахара воссоздает не только историю отношений автора с Гавриэлем и со Сруликом, когда сам он был мальчиком лет десяти, то есть в середине тридцатых годов, но и события, происходившие с этими двумя в их юности, перед отъездом в Эрец Исраэль, то есть в двадцатые годы. Эти две эпохи иногда перемешиваются таким образом, что события, произошедшие после возвращения Гавриэля из Франции, могут восприниматься так, словно они произошли до его отъезда. Обращение к библиотеке Бней-Брит как к библиотеке, где выдаются на дом книги для детей, к кинематографу «Эдисон» и к Саду роз — явлениям тридцатых-сороковых годов, так же как и присутствие Дана Гуткина на улице Пророков в тридцатые годы, возможно, порождено намеренным желанием автора затушевать различие между собственным романным воплощением и героями старшего поколения. Подобное же впечатление создается относительно глазной клиники доктора Ландау. Подобно фигуре Гуткина-Фрумкина, трудно не связать шахаровского доктора Ландау с известным глазным врачом, доктором Альбертом Тихо, жившим и работавшим на улице Рава Кука до пятидесятых годов. Но интересен тот факт, что Шахар располагает клинику доктора Ландау на улице Сент-Пол, вблизи полицейского участка — в точном месте расположения клиники доктора Тихо, но только до ноября 1929 г., когда он подвергся там нападению араба. Это еще больше способствует стиранию хронологических границ между двадцатыми и тридцатыми годами. В целом можно сказать, что селективный анахронизм Шахара создает телескопический эффект во времени, аналогичный риторическим приемам для создания впечатления, что сцена, на которой происходят события, еще меньше, чем «в действительности». Достаточно периферийный образ английского художника Холмса отодвигает временную границу еще значительно дальше, если воспринимать его, хотя бы частично, как слепок с фигуры прерафаэлитского художника Уильяма Холмана Ханта, жившего в Палестине в 1854–1856, 1869–1872, 1875–1878 и в 1892 гг. Его иерусалимский дом находится на улице Пророков, а его любимая точка для рисования окрестных пейзажей располагалась на Вифлеемской дороге, вблизи монастыря Мар Элиас[88].
Таким образом, Шахар словно бы растягивает исторический момент, в который улица Пророков находится на пороге своего заката[89]. Это позволяет ему рассказать историю двух-трех поколений, не строя ее в форме исторической саги. Он располагает события романов в городском районе, который одновременно является и центральным, и периферийным, смешанным в социоэтническом плане и в то же время важнейшим по своему культурному статусу. И вместе с тем присутствует позднейшее знание о том, что этот мир не сохранится, что, в сущности, он уже находится в процессе заката. Это, конечно, не значит, что повествователь притворяется, что с тех пор ничего не изменилось, но отношение к переменам на улице Пророков возникает лишь в отрывках, где взрослый повествователь говорит о себе в настоящем, в момент писания книги. Так, например, он может заявить, что кафе «Гат» больше не существует, но когда он рассказывает о персонажах и событиях в кафе «Гат», он, в качестве повествователя, не заговаривает о том, что это место скоро исчезнет, и даже не намекает на то, что, в сущности, оно уже утратило свое былое великолепие. Таким образом, мы утверждаем, что эпопея не отражает исторический процесс изменений, а восстанавливает исчезнувший мир.
Этот исчезнувший мир, воссозданный в «Чертоге разбитых сосудов», напоминает то, что Мишель Фуко называл гетеротопией. Если утопия — это не существующее ни в одном месте идеальное пространство, в котором все общественные язвы исправлены, то гетеротопия — это реальное пространство, в котором физически присутствует подсознательное, маргинальное измерение существующего общества — все то, что не может найти себе места на его идеологической карте.
Полная оценка того, что привносит уникальный шахаровский взгляд на Иерусалим в создаваемую им картину города, возможна лишь в широком сравнительном контексте, что далеко выходит за границы данного исследования. Заметим только, что во всех значительных произведениях израильской литературы образ Иерусалима как некоего единства пребывает в постоянном движении маятника между тоской и отсутствием реальной сущности (или трауром по утраченной), с одной стороны, и отрицанием существующего города как присутствующей реальности — с другой, то есть между полюсом утопии и полюсом дистопии. В обобщающих размышлениях о Иерусалиме зачастую присутствует мотив наказания, в котором персонажи, самоидентифицируясь с городом, воспринимают его как внешнее проявление своего угнетенного внутреннего мира, что ведет к парадоксу: восприятие города как целого организма — чисто субъективный акт — подается как вечная и универсальная истина или как серия подобных аксиом.
В газетных интервью Шахар не отказывался от требования «занять ясную позицию» по отношению к Иерусалиму и так же имел обыкновение представлять свою личную позицию в формах обобщающих заявлений об утопической и дистопической сущности города. Однако в «Чертоге разбитых сосудов» мы не встретим афористических высказываний такого рода ни от лица повествователя, ни от лица его персонажей. Город, как мы уже показали, не представлен в качестве единства, и та определенная часть города, которая служит главной сценой происходящих в романах событий, не претендует на представление в миниатюре некоего единства такого рода ввиду собственной гетерогенности и инаковости, ввиду собственной гетеротопичности. Так же и персонажи эпопеи не служат примером какого-либо единого коллектива. Отсюда следует, что эти литературные персонажи лишены возможности представлять собственное субъективное отношение к определенной части города в качестве объективной истины, имеющей отношение к городу в целом. Таким образом, Иерусалим Шахара — не утопия и не дистопия, не синекдоха и не символ.
* * *
Иерусалим периода британского мандата был чем-то большим, чем провинциальный город, и чем-то меньшим, чем настоящий метрополис. За тридцать лет британского правления население города постоянно росло (с 50 000 в 1917 г. до 90 000 в 1931 г. и до 160 000 в 1947 г.). Удельный вес Старого города постоянно снижался с расселением новых жителей, в большинстве своем — новых репатриантов, а также многих старожилов в новых современных районах. Число евреев в Старом городе снизилось с 19 000 в 1900 г. до 2500 в 1947 г. После долгого перерыва Иерусалим вернул себе статус столичного города, и англичане вложили изрядные средства в улучшение его инфраструктуры — водопроводной сети, канализации, постройки новых дорог и т. п., но при этом сохранили его историческое лицо. Население оставалось весьма разнообразным в своих обычаях и внешнем обличье, о чем свидетельствуют все писавшие в те годы путевые заметки, и сами британские служащие добавили дополнительный оттенок в эту космополитическую смесь. Присутствие британских властей и значительный приток образованных евреев, особенно из Германии в первые годы нацистского режима, а также открытие в 1925 г. Еврейского университета на Подзорной горе — все это создавало в городе многоязычную культурную элиту. С открытием гостиницы «Царь Давид» в 1930 г. город мог похвастаться и настоящим «гранд-отелем», достойным выдающихся гостей со всего мира. Число кафе, ресторанов, кинозалов выросло весьма существенно. Иерусалимская элита вела активную общественную жизнь, включавшую в себя салоны на манер европейских столиц.
Однако, хоть Иерусалим и перестал уже быть убогим восточным городком на окраине разваливающейся империи, он не стал современным метрополисом в полном смысле. Иерусалим оставался в значительной степени городом прошлого — консервативным и традиционным. Похоже, что такой взгляд был распространен и в среде основного направления лейбористского сионизма, склонного воспринимать этот город как оплот консервативных и даже реакционных сил, в противоположность быстро развивающемуся Тель-Авиву, готовящемуся стать современной столицей сионистского движения.
Если предположить, что время и пространство в романах никогда не даются в простоте, в соответствии с наивно-миметической точкой зрения, то мы должны спросить себя, как воздействует гибрид времени и пространства — «хронотоп», в терминологии Бахтина, — созданный в «Чертоге», на содержание произведения? Рассмотрение нашей темы под таким углом зрения приводит к выводу, что шахаровские романы строятся на принципах смешанного хронотопа: в них есть черты провинциального романа (который Бахтин вкратце характеризует как одно из ответвлений идиллии XVIII века), в то время как другие черты сближают их как раз с городским романом (как он описывается многими теоретиками от Вальтера Беньямина до Франко Моретти). В этом смешении принципов двух различных миров и жанров, казалось бы несочетающихся, мотивы и ходы обоих оказываются подверженными взаимному влиянию. Так создается гибридная форма, которую мы бы назвали «урбанистической идиллией».
Идиллическое время есть время повседневности, круговое или же повторяющееся, отключенное от «сил исторического прогресса». Идиллическое место — то, в котором герои чувствуют себя дома. Соединение их в идиллическом хронотопе, на наш взгляд, явственно ощущается в книгах «Чертога», однако этот идиллический хронотоп подвержен влиянию элементов городского романа и одновременно видоизменяет их. Пространство романа о современном городе не является ни частным, домашним пространством, ни пространством публичным, уличным, но именно промежуточным пространством, к которому принадлежат такие места, как кафе, театры, магазины и т. п. Таковы объекты главного сюжета современного города — случайной встречи. Время сюжета такого городского романа прерывисто, оно измеряется упущенными возможностями или стечением удачных случайностей. Пространство открыто до бесконечности, но при этом в нем есть запретные или недостижимые места. Персонажи в нем находятся в непрерывном движении, в погоне за тем, чего еще не достигли во времени или в пространстве.
Центральность персонажей «Чертога» является не следствием их перемещений в пространстве, но, напротив, их постоянным местом и однозначной привязанностью к ограниченному пространству, которому придается особенное значение. Эти персонажи, по большей части, редко пересекают границы своего маленького мирка. Джентила Луриа ходит в лавку Красного Уха, в дом судьи Гуткина и в клинику доктора Ландау; Срулик перемещается между собственным домом, учительской семинарией и библиотекой Бней-Брит внутри крохотного пространства; Гавриэль, хоть и добирается в своих прогулках до Подзорной горы и захоронений Синедриона (таким образом уводя за собой и мальчика-повествователя), но вместе с тем, похоже, большую часть времени проводит дома или в кафе «Гат» на углу своей улицы. Даже исключительные события в жизни персонажей не происходят в отдалении от этого ограниченного пространства: когда Орита выходит замуж за доктора Ландау, она переходит в его дом в считанных метрах от дома своего отца, и когда Джентила Луриа похищается старым беком из школы, он поселяет ее в доме на той же самой улице. Гавриэль возвращается после долгого пребывания во Франции в родительский дом, и повествователь, возвращаясь из Парижа, стремится туда же[90]. Среди возвращающихся в Иерусалим после многолетнего отсутствия — также Срулик и Таммуз[91]. И все эти возвращения к отчему дому и к пространству детства являются также возвращением к подлинному «я» персонажей, словно бы вновь и вновь подтверждающих ценность этого маленького мирка — подлинного их дома и оплота.
Интересно, что наряду с причастностью человека к определенному месту и с ощущением дома, к которым прибавляется ностальгия повествователя по исчезнувшему миру, в книгах «Чертога» появляются несколько бездомных персонажей и сирот, чье присутствие выступает реалистическим противовесом тенденции к ностальгической идеализации. Вместе с тем следует подчеркнуть, что состояние бездомности у Шахара не является результатом перемен в мире старого дома, принадлежащем детству повествователя, или утраты дома. Бездомность и сиротство выступают здесь не в качестве знаков распада старого, устойчивого традиционного мира, как в мире провинциального романа, а также не в качестве признаков отчуждения, характерного для современного города. С исторической точки зрения они выглядят элементами, дополняющими реалистическое описание Иерусалима начала XX века — бедного города, во многом зависимого от внешних денежных пожертвований Противоречие между реализмом и идеальным/идиллическим изображением не конгруэнтно оппозициям между новым и старым, модернистским и традиционным, столицей и провинцией.
Соотнесение «Чертога разбитых сосудов» с романом современного города ощутимо более всего в тенденции представлять отношения между персонажами, развивающимися по большей части в местах, не принадлежащих ни к частному, ни к общественному пространству. Исключение составляет дом семейства Луриа. Кроме этого частного дома, характерные места для развертывания событий — это кафе, гостиницы, библиотека, клиника. Но в то время как во многих городских романах подобные объекты служат фоном для демонстрации анонимности и напряжения между доступным и недостижимым, между физической близостью и интеллектуальной или социальной недостижимостью, в «Чертоге» Шахара этот пространственный архетип имеет все признаки маленького городка: все знают друг друга и в библиотеке Бней-Брит, и в кафе «Гат» и «Кувшин». Они в то же время не являются эксклюзивными объектами, знакомство между посетителями не является следствием единства. Так, глазная клиника доктора Ландау сводит вместе жену старого бека с неимущими феллахами, а библиотека открыта не только для Ориты и Гавриэля, но и для персонажей вроде тетушек Срулика и даже для бездельников и побирушек. На какой-то момент создается впечатление, что существует противопоставление между двумя городскими кафе — «Гат» и «Кувшином». Кафе «Гат», по крайней мере по словам конкурирующей стороны, обслуживает высшее общество, «английских господ и арабских эфенди», в «Кувшине» бывают люди «рабочего крыла» сионизма. В «Гате» сидят красивые и молодые Орита и Гавриэль, в «Кувшине» — не столь красивые и не столь молодые Яэль и Берл. Владелец «Гата» — экзотический Йосеф Швили, величайший бармен Ближнего Востока, а «Кувшином» руководит прозаичный, простонародный Толстый Песах. Однако в мире романа его главные темы и сюжет не концентрируются вокруг этих различий, и те стираются или вовсе исчезают в дальнейшем: Берл пишет стихи именно в «Гате», а Гавриэль становится клиентом «Кувшина». Нельзя сделать из всего этого вывод, что роман избегает имущественно-социальных различий: бедность, которую переживали в детстве некоторые из персонажей (Джентила Луриа, Срулик, Одед), описана подробно, и социальная отверженность таких персонажей, как Роза или Длинный Хаим, является важной составляющей этих образов. Существует внятное социальное неравенство между разными персонажами, и только члены семейств Гуткин и Луриа приглашаются на приемы высшей английской администрации. Тем не менее различия социального статуса не становятся центральным объектом внимания в книгах «Чертога». Несмотря на подчеркнутое разнообразие характеров и гетерогенность человеческой составляющей, это отсутствие единства не связано ни с каким мучительным осознанием неравенства, с завистью или переживанием угнетенности или ненависти. Этот факт можно истолковать как свидетельство ностальгической идеализации. Но нам опять важно подчеркнуть, что если бытие шахаровских характеров практически свободно от чувства отчуждения, то это не потому, что мир, в котором они живут, изображается единообразным и конформистским. Объект авторской ностальгии — не традиционный мир, где каждый знает свое место[92], в противоположность массовому урбанистическому обществу с его отчуждением, но мир, принимающий многообразие и инаковость и позволяющий каждому искать собственный путь, каким бы идеосинкратичным он ни был.
Но вернемся к дому семейства Луриа — важнейшей сцене романной интеракции. Большинство действующих лиц в той или иной мере связаны с этим местом. Вместе с тем только две части этого дома удостоились специального внимания — балкон и подвал. В сущности, в тексте нет описания комнат, в которых живут повествователь и его семья или Гавриэль и его мать, и внутренность дома не упоминается вовсе. То же самое касается интерьеров других домов, например, дома Гуткина и дома Ландау. Большинство общественных контактов в доме Луриа происходит на балконе — в переходном пространстве между интерьером и экстерьером, между частной и общественной зонами. Но балкон является двузначным пространством и по другому параметру. Нам с самого начала сообщается, что семейство повествователя снимает дом у госпожи Луриа, оставившей себе только то, что в ее устах именовалось «лестничной клеткой». Но хотя по закону балкон и входит в ту территорию, которую снимает семья повествователя, и мы часто встречаем там его самого, читающего книгу, тот же балкон служит средоточием семейного уклада семьи Луриа: там сидит в красном бархатном кресле старый бек, там госпожа Луриа принимает пришедшего в гости судью Гуткина, и там же ежеутренне бреется Гавриэль. Это странное противоречие, может быть, объясняется частичной самоидентификацией повествователя с Гавриэлем Луриа и в других моментах. Итак, балкон — арена общественных пересечений, но также и пространство соединения и смешения сущностей, затушевывающее границы между зонами повествователя и Гавриэля. В противоположность балкону, подвал — место замкнутое, частное и спрятанное от посторонних взоров. Но и он служит местом пересечения персонажей, только — втайне.
Похоже, что у Шахара есть определенные формы сопричастности, преодолевающие чувство отчуждения, столь доминантное в романе современного города. Так, например, вопреки тому, чего можно было ожидать, один из наиболее знаменательных объектов его иерусалимского пейзажа — каменные ограды — не служит знаком непреодолимой преграды и отчуждения. Эти ограды, которым и повествователь, и Гавриэль так часто выражают свою симпатию, представляют старый Иерусалим в противовес новому. Живая красота розового иерусалимского камня противопоставляется мертвому уродству серого бетона. Главная притягательная сила этих оград проистекает не только из их красоты, но и из чувства, что они заключают в себе чужой таинственный мир. Эта чуждость не является настоящей преградой: повествователь развивает аналогию между оградой и переплетом книги, из которой следует, что тайны за оградой не запретны и что покоящийся там мир таков, что в него можно проникнуть.
Сопричастность иному может, конечно, нивелировать его инаковость, развеять всю атмосферу таинственности. В конце концов она способна создать впечатление, что многообразие и гетерогенность романного мира — не что иное, как поверхностная видимость. Шахар хоть и не демонстрирует большого интереса к эпистемологическому вопросу о возможности знания иного как иного, но в его творчестве чувствуется понимание потенциала агрессии, заложенного в солидарности с ближним. Так или иначе, когда речь идет об иерусалимском городском пространстве, инаковость и агрессивность сталкиваются на границе: военная граница — линия прекращения огня 1949 г., разделившая город, — тому яркий, но не единственный пример. Мы, однако, утверждаем, что граница для Шахара — это не преграда, за которой находится принципиально и окончательно запретный и недостижимый мир. Хотя события эпопеи занимают временной промежуток с начала двадцатых до конца восьмидесятых годов, мы не встретим ни повествователя, ни кого-либо из его героев стоящим за пограничной оградой с колючей проволокой и глядящим слезящимися глазами на ранее открытые для него места, вроде Масличной или Подзорной горы, оказавшиеся под контролем арабского легиона королевства Иордания. Точно так же мы не найдем в «Чертоге разбитых сосудов» (и это еще удивительнее в свете правых политических убеждений Шахара) выражения радости, когда доступ к этим местам снова открылся в результате победной Шестидневной войны. Иерусалим Шахара в принципе доступен всегда.
И вместе с тем граница является важнейшей составляющей сюжета «Чертога». Улица Пророков определяется как пограничный район, за которым располагаются агрессивные миры арабов и ультраортодоксов. Но то, что лежит за границей, не есть некая чужая инаковость, соблазнительная тем, что она одновременно столь близка и столь запретна и недостижима. Напротив, инаковость, лежащая за границей, представляет угрозу гетерогенному, многоликому миру, столь дорогому повествователю, именно в силу своей ревностной охраны коллективной самоидентификации, единства и однозначности.
Михаль Пелед-Гинзбург, Моше РонУлица Пророков в начале века
Памятен мне Иерусалим начала нынешнего века, выглядевший так: часть его, что за пределами стены, тянется от Яффских ворот до богадельни (ныне автовокзал), словно длинная, в две мили, лента, и с обеих сторон на нее нанизаны кварталы. Две главные улицы — улица Яффо и улица Пророков — проходят по середине почти что во всю ее длину, параллельные, как две лестничные балки, соединенные между собою несколькими короткими поперечными улицами и несколькими проходными дворами, наподобие лестничных ступеней. Близки эти улицы — за минуту проходит человек от одной из них до другой. И тем не менее весьма отличались они в те времена своими физиономиями. Улица Яффо была главной транспортной артерией города. Во все дневные часы, да и ранним вечером не прекращалось на ней движение пешеходов, шум колес пассажирских экипажей и грузовых повозок, поступь странствующих караванов, звон лошадиных бубенцов и верблюжьих колокольцев. На этой улице сконцентрировалась торговая жизнь. Ряды выходящих на улицу домов были заняты лавками и магазинами, а частично и мастерскими, над входами которых красовались разнообразные вывески.
А у улицы Пророков была совершенно иная физиономия. Повозка проезжала здесь лишь изредка. Не было здесь ни лавки, ни мастерской, ни ресторации. Стоит человек на углу улицы Пророков и смотрит на юг — видит шумную, оживленную улицу Яффо; а улица Пророков погружена в тишину. Единицы держат по ней путь, степенно, без спешки и без шума. Среди них выделяются люди почтенные — доктора, педагоги и различные общественные фигуры, когда зимою надевают они накидки — пелерины без рукавов, которые были знаком отличия просвещенных горожан. Среди домов по сторонам этой улицы есть такие, что служат общественными учреждениями, а есть и особняки местной знати. В противоположность будничной суете улицы Яффо, на улице Пророков царила почтенная и благородная тишина. Здесь были возведены здания больниц, учебных и культовых заведений христиан, и здесь же поселились врачи.
Давайте же пройдем по этой улице и последим за ее обликом и за ее жизнью в те дни, выйдя с западного конца, с того места, которое ныне называется площадью Давидки.
Первое в ряду медицинских учреждений на этой улице — Английская больница, занимающая большую площадь. Это учреждение в былые времена предоставляло медицинскую помощь и госпитализацию бесплатно или за символическую плату. Почти все ее клиенты были евреями, в особенности из бедного сословия. Евреи испытывали доверие (иногда доходившее до слепой веры) к профессиональным способностям врачей и персонала, но в сердце своем досадовали на них за их миссионерские устремления. Посетители этого заведения часто вынуждены были выслушивать чтение глав Нового Завета и даже проповеди христианских священников, толпясь возле служащего, выдававшего номерки на прием. Было широко распространено общенародное мнение, что нет специалистов, равных докторам этой больницы, и в час серьезной опасности все полагались на профессиональное мнение английского врача. Он также охотно соглашался на домашние визиты. Позвали — он тут же высвобождает время, садится на своего мула и является в дом больного, осматривает, объясняет на ломаном немецком языке, выписывает лекарство и с улыбкой удаляется.
От территории этого учреждения отходит налево боковая улица, ныне называемая улицей Пророка Исайи. На расстоянии нескольких десятков шагов стоит Народный Дом — здание в арабском стиле, одноэтажное, и в нем — большой зал, а по обеим его сторонам — маленькие комнатки. Здесь происходит культурная и общественная жизнь прогрессивных слоев — лекции просветителей, вечера писателей, торжественные встречи с выдающимися личностями и иностранными гостями. Доктор Шимони Меклер — первый специалист уха-горла-носа в Иерусалиме — старательно разъясняет публике целый раздел химии о кислороде и углекислоте, а К.Л. Сильман дополняет вечер юморесками и смешит публику. Завершилась лекция — собираются из публики активисты: рабочие, воспитанники учительской семинарии, учащиеся «Бецалеля» и просто молодежь в центре зала выстраиваются в круг и начинают пение, состоящее из вопросов и ответов:
Спрашивают: Мир вам, мир вам! Отвечают: И вам, евреи, мир! Спрашивают: Откуда вы, евреи? Откуда вы, евреи? Отвечают: Из Галилеи мы. Спрашивают: А что там в Галилее? А что там в Галилее? Отвечают: Там работают, ликуют и на радостях танцуют.И немедленно заводят танец, повторяя припев: «Там работают, ликуют» и т. д.
В перерыве публика разбредается по соседним комнатам. В одной из них стоит-гудит большой самовар[93], и добровольная дежурная наливает из него стаканы чаю. В другой комнате компания балуется шахматной игрою, а в следующей — сидит библиотекарь Ломер (его имя сегодня носит Рабочая библиотека) и под звуки доносящегося из зала шлягера тех времен «Бог отстроит Галилею» обменивает желающим книги.
А иногда один из учащихся школы отваживается сочинить пьесу, которую представляют в Народном доме, а бывает, что общество «Маккаби» готовит в Народном доме гимнастические показательные выступления на полу и на параллельных брусьях.
В считанных шагах оттуда стоит школа «Лемель» под эгидой общества «Эзра» — красивое и внушительное по тем временам здание. Здесь слушали мы на немецком языке лекции Йешайягу Переса по истории и географии, в которых особенно выделяется и распространяется всё, имеющее касательство к Германии, евреи которой были попечителями «Эзры». Здесь мы заучивали наизусть число жителей десятков немецких городов. Арифметика, природоведение, геометрия и гимнастика тоже преподавались здесь по-немецки, и мы научились исполнять даже несколько немецких песен под руководством Ц.Н. Идельсона. Однако лишь ивритские песни, такие, как «Идет Мессия» и «Дальше, Иордан, теки», заставляли сильнее биться наши сердца. Йосеф Йоэль Ривлин, только начинавший тогда свою педагогическую деятельность, вводил нас в мир ивритской литературы, в особенности — в сокровищницу поэзии Бялика. От него узнавали мы по книге Тавьева[94] о РИБАЛе и МИКАЛе, об Адаме Ѓa-Коѓене, о Фришмане, Ицхаке Эртере и других и учили отрывки из их сочинений наизусть.
На расстоянии нескольких десятков шагов стояло здание учительской семинарии под эгидой «Эзры». Молодые педагоги, заканчивающие курс обучения, иногда заходили в наш класс, практикуясь в педагогическом ремесле под руководством доктора А.И. Бравера. Были среди них такие, кто впоследствии достиг широкой известности, вроде Шпигельмана (он же — светлой памяти И. Яцив), покойного Иегуды Бурлы, ныне здравствующего профессора И. Рейхарта (специалиста по болезням растений) и других.
В атмосфере этой школы царило равнодушие к новым веяниям возрождающейся Земли Израиля. К деятельности Народного Дома относились они с негодованием. Однажды я услышал, как учитель в школе «Лемель» распекает ученика, провинившегося тем, что побывал в Народном Доме. В этом видели некий шаг навстречу бунту, навстречу утрате добропорядочности. Следует, однако, признать, что лишь в этом консервативном заведении учащиеся приобретали прочную базу общих познаний, и только семинар «Эзры» подготовил группу превосходных учителей, которые взрастили в стране и за ее пределами целое поколение в духе любви к языку иврит, к Земле Израиля и к еврейскому народу.
Вернемся же на улицу Пророков. Мы упираемся в международную англиканскую церковь, в которой ежевоскресно служат публичный молебен.
Несколькими шагами далее — пустырь, а на нем — фундамент госпиталя «Бикур Холим» («Посещение Больных»), которому предстоит перебраться сюда из Старого Города по окончании Первой мировой войны.
Сразу следом за ним — снова больница. Большое многоэтажное здание, над входом в которое — большая вывеска, а на ней — стих из Исайи (53:4): «Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни» на немецком и арабском языках. Это тоже миссионерское учреждение, но евреи в него не ходили, и лишь арабы, главным образом христиане, пользовались его услугами. Ныне это здание находится в ведении больницы «Бикур Холим», расположенной напротив. По другую сторону улицы, на некотором отдалении — миссионерская школа Святого Джозефа, окруженная высокой стеною с запертыми воротами, дабы огородить ее от любого внешнего влияния. Здесь монашки воспитывают барышень, и по окончании школы последние знают французский язык, а также немного арифметики, прочих наук и рукоделия. Здесь учится немало евреек, и выходя отсюда они говорят по-французски, но совершенно не знают ничего по части всего, что касается еврейства.
Отсюда вдоль улицы начинают тянуться обширные участки с отдельными особняками, а за ними по левой стороне начинается улица Бней-Брит, ведущая к основанному Иосефом Хазановичем Дому книг. Ежедневно приходит сюда Аарон Коэн, заслуженный библиотекарь сего заведения, отпирает своим тяжелым ключом его двери и позволяет нетерпеливо ожидающей группе читателей пройти в длинный читальный зал на верхнем этаже. Здесь установлен длинный стол, а на нем — газеты и ежемесячники, еврейские и иностранные, местные и заграничные. По сторонам этого стола установлены длинные лавки, и читатели рассаживаются и погружаются в газетные страницы. Среди них вы встретите любителей чтения, по большей части бездельников, убогих — таких, кому нечего надеть и нечего есть, насыщающих душу свою чтением, молодых иешиботников, пробравшихся из ортодоксальных кварталов в районе Ста Врат ради того, чтобы вкусить от печатного слова, учащихся семинарии, любителей литературы, давно ждавших появления нового выпуска «Шилоаха» и «Моледет» («Родины»), Не слышно ни звука, кроме шелеста газетных страниц.
Тем временем библиотекарь занят на нижнем этаже — перетаскивает лестницу от одного шкафа к другому, залезает на нее и роется в поисках книги, которую у него спрашивает посетитель, как правило, из учащихся начальных школ, проверяет книгу, предупреждает, чтобы ее не попортили, записывает, пока не заканчивается вся очередь, достает часы из жилетного кармана и объявляет о закрытии библиотеки, торопит последних читателей, которым трудно выпустить газеты из рук, вставляет ключ и запирает двери до следующего дня.
Оттуда отходит налево Абиссинская улица, а рядом — абиссинская церковь, чей большой купол бросается в глаза издалека. Чернокожие и одетые в темное монахи и монашки проходят по улице, не разжимая уст, и незаметно исчезают на территории церкви, нырнув в калитку.
Напротив церкви временно располагается ивритская учительская семинария. Здесь черпаем мы Тору из кладезя премудрости блестящих педагогов: руководитель сего заведения — благороднейшая и наиприятнейшая личность — рабби Давид Елин, и с ним — А.М. Лифшиц, И. Меюхас, рабби Косовский, доктор Хеврони, Шломо Шиллер, Х.А. Зута, доктор Хахам, Ц.Н. Идельсон. В голове нашей, однако, остается мало места для Торы: в улицах носится отзвук труб турецких военных отрядов, отправляющихся на полевые учения, да и мы, ученики, уже вызваны на первую армейскую проверку, а за нею — и на вторую, и вскоре нам предстоит внести свой вклад в Первую мировую войну, уже около года бушующую в мире. Над нами нависла угроза местного командующего Джемаля-паши, преследующего иностранных подданных и «москобим» — выходцев из России, и мы затаив дыхание ждем, когда минует его гнев.
Чуть далее — снова учебное заведение — талмуд-тора «Тахкемони», по сути своей являющаяся компромиссом между традиционным хедером и современной школой. Рядом с нею — жилище Элиэзера Бен-Иегуды. Но кто его видит и кто замечает? Сидит он, затворившись в своей квартире, за письменным столом и все свое время отдает своему детищу — словарю иврита.
Мы возвращаемся на улицу Пророков и продолжаем держать путь на восток. Сразу же возникает перед нами больница «Ротшильд», в ней служит главный врач, доктор Сегаль. На входных воротах выбито название заведения на иврите и по-турецки. Атмосфера здесь уютная и умеренная, здесь нет крайней религиозности, ощутимой в «Бикур Холим» и во «Вратах Справедливости». Поэтому здесь среди больных встречается немало светской и нерелигиозной публики.
С восточной стороны с этой больницей граничит училище для слепых. Вблизи него всегда слышны звуки музыкальных инструментов, в основном скрипок и труб, ибо слепые воспитанники много занимаются музыкой. Заглянув во двор, можно увидеть воспитанников и воспитанниц, занятых вязанием метел, щеток и прочей соломенной утвари, предназначенной для продажи в городе. Во главе этого заведения стоит беззаветно преданный своему делу педагог Мордехай Ледерер, неутомимый в любое время дня и ночи. Иногда он берет своих воспитанников на прогулку в Моцу и там проводит с ними время в тени олив.
И тут мы оказываемся на перекрестке. Направо отходит узкая улица, и сквозь нее виднеется в отдалении церковь на Русском Подворье. Вид куполов, венчающих эту церковь, притягивает взгляд и приглашает подойти и рассмотреть ее вблизи. На этой боковой улице я был однажды утром поражен первой и последней в моей жизни встречей с Джемалем-пашой. Он промчался мимо меня галопом, окруженный группой из пятнадцати вооруженных солдат на откормленных, холеных, играющих мышцами конях, и быстро скрылся на Русском Подворье. Подворье это тогда было очищено от своих хозяев — русских священников и работниц — и захвачено армией. Пока я размышляю об этом происшествии, передо мною всплывает образ Авессалома, сына Давидова, замышлявшего вырвать у отца бразды правления и заведшего у себя «колесницы и лошадей и пятьдесят скороходов» (2-я книга Царств, 15:1).
До сих пор улица Пророков идет почти по прямой, на одном уровне, без спусков и подъемов — прекрасные для ног топографические условия, и по ней можно прохаживаться, не напрягаясь и не утомляясь. По той же причине зимою дождевая вода скапливается здесь в лужах, покрывающих проезжую часть и затрудняющих движение. Проехала повозка по луже — колеса ее обдают брызгами полы одежд прохожих и украшают узорами грязи пелерины почтенных горожан. Иногда учитель, опоздавший и не успевший зайти в учительскую комнату, входит прямо в наш класс и, слушая урок в изложении одного из учеников, приподнимает полы своей пелерины, собирает с них засохшие куски грязи и кидает их в мусорное ведро.
От перекрестка улица Пророков начинает спускаться под значительным наклоном. На расстоянии нескольких десятков шагов по левую руку мы снова видим учреждение, расположенное в красивом здании посреди просторного двора. Это немецкая гимназия ордена Тамплиеров, поселившихся в Немецкой Колонии в Долине Духов. Сегодня в этом здании помещается одна из производственных школ системы «Орт». Через несколько минут пути оттуда мы подходим к перекрестку, где улица Пророков пересекается улицей Ста Врат (ныне — улица Колен Израилевых). Говорящие на идиш, которых в этом районе большинство, не трудятся полностью выговаривать название этой улицы «Меа́ шеари́м» и говорят «Мишо́рим»[95], с ударением на предпоследнем слоге. Арабские извозчики, ездящие со своими повозками по прямому маршруту от Яффских ворот до Ста Врат, выговаривают «муширим». Мушир по-арабски значит командир. И действительно, в квартале Ста Врат, особенно в его большой иешиве, имеются командиры, но не армейские, а командиры Торы, ибо этим именем прозываются знатоки, мудрецы и всяческие религиозные авторитеты.
На одном из углов этого перекрестка находится последняя в ряду медицинских учреждений улицы Пророков больница. Это Итальянская больница, обслуживавшая арабских пациентов из города и ближайших деревень. Сегодня это здание — собственность правительства Израиля, и в нем располагается часть Министерства просвещения. А на противоположном углу расположена школа общества Братского Единства, известная под именем Эвелины де Ротшильд, руководимая мисс Ландой, славящейся в Иерусалиме своим рвением в религиозном воспитании девиц. Большая часть воспитанниц — барышни из ортодоксальных семейств квартала Ста Врат и прочих религиозных кварталов, лежащих поблизости. Особое внимание уделяется здесь английскому языку и еврейскому законоучению. Однажды я видел в руках одной из воспитанниц молитвенник, где ивритский текст сопровождался английским переводом. Эта воспитанница просила свою старшую сестру, чтобы та во время чтения восемнадцати благословений подсказывала ей, где и когда «качаться», то есть сгибать колени и склонять голову.
И здесь улица Пророков в еврейской части заканчивается. Дальше она продолжается на чужой территории. Все больше открывается взгляду северная стена Старого Города с ее похожими на зубы выступами, вся окутанная атмосферой древних тайн. За нею открываются купола мечетей Храмовой Горы и Храм Гроба Господня, куполообразные крыши скученных жилых домов, лепящихся друг к другу — зачарованный сказочный город. Улица заканчивается у Шхемских ворот, кишащих многообразием людей, языков и одеяний, подобно живой, непрерывно изменяющейся мозаике — шумное окончание прекраснейшей из улиц Иерусалима тех дней.
Амоц Коэн 1971 г.Примечания
1
Восемь дней праздника Ханука приходятся на конец месяца кислев и начало месяца тевет (декабрь-январь). Новый год деревьев (Ту би-шват) — 15 число следующего месяца шват, обычно наиболее дождливого в году. (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)2
Намек на ст. 14 гл. 25 Притчей Соломоновых: «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками».
(обратно)3
Известна еще как гора Скопус.
(обратно)4
Реминисценция из главы 1 Книги Бытие: «И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их» (ст. 25).
(обратно)5
Предмет, неприкасаемый из отвращения — понятие, рассматриваемое в Талмуде, трактат «Шабат»; «предмет, которым перестают пользоваться из-за того, что он делается отвратительным, вроде старого горшка для нечистот».
(обратно)6
В православной традиции Первая книга Царств, гл. 7, ст. 17.
(обратно)7
Вторая книга Паралипоменон (Летопись), гл. 16, ст. 14.
(обратно)8
Талант — древняя мера веса, около 21 килограмма.
(обратно)9
Антиох IV Эпифан — царь Сирии, совершивший нашествие на Землю Израиля во II веке до н. э. и побежденный Маккавеями.
(обратно)10
Псалом 91, в православной традиции 90, ст. 12.
(обратно)11
Ивритское слово (монит) — такси — еще не вошло тогда в употребление.
(обратно)12
Парафраз из Книги Иеремии (гл. 13, ст. 23): «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои?»
(обратно)13
После Войны за независимость и вплоть до Шестидневной войны.
(обратно)14
В оригинале использован образ из ст. 21–22 гл. 30 Притчей Соломоновых: «От трех трясется земля, четырех не может она носить: раба, когда он делается царем…»
(обратно)15
Здесь обсуждаются события глав 4 и 7 Книги Исход.
(обратно)16
По достижении 13 лет, совершеннолетия, согласно еврейскому закону.
(обратно)17
Бред Иегуды Проспер-бека, очевидно, связан с эпизодом из гл. 20 Первой книги Царств. Давид прятался от гнева царя Саула, обрекшего его на смерть. На вопрос царя, почему тот не пришел к обеду, его сын Ионафан отвечал: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня» (ст. 28–29). А также с историей Иакова, заночевавшего в «страшном месте» на пути к его будущей невесте Рахили из гл. 28 Книги Бытие: «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце» (ст. 11). Тема захода солнца, одного из аспектов отношений света и тьмы, постоянно занимающих автора и его героев, прочно связана с фигурой Иегуды Проспер-бека, стоящего на пороге смерти.
(обратно)18
«Сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего» — образ из гл. 21 Книги Второзаконие (ст. 18).
(обратно)19
Мишна, трактат «Авот» («Отцы»), гл. 2, мишна 10.
(обратно)20
Бамия (Hibiscus esculentus) — растение из семейства мальвовых, плоды которого в вареном виде широко употребляются в пищу на Ближнем Востоке. У сорванных конусообразных плодов перед варкой полагается срезать несъедобные плодоножки.
(обратно)21
КИАХ — сокр. «Коль Исраэль Хаверим» — «Весь Израиль — товарищи».
(обратно)22
Нетурей-карта — «Стражи города», обособленная ультраортодоксальная иерусалимская община с чертами секты, бойкотирующая светское государство Израиль и считающая его существование одним из главных мистических источников всех бед еврейского народа.
(обратно)23
Элиэзер Бен-Иегуда (Перельман) (1858–1922) — пионер возрождения иврита как разговорного языка.
(обратно)24
В оригинале — непереводимая игра слов: «любая работа — чужая», построенная на том, что работа и богослужение обозначаются одним и тем же словом и идолопоклонство буквально называется «чужим богослужением», т. е. служением чужим божествам.
(обратно)25
Ср. со ст. 1 гл. 3 Книги Екклесиаста: «Всему свое время и время всякой вещи под небом».
(обратно)26
«Конец его — гибель» — формула из пророчества Валаама (Числа, гл. 24, ст. 20 и 24).
(обратно)27
Мидраш — иносказательное толкование библейских текстов и образов, часто — дополняющая неясный текст история аллегорического характера. Также — сборник подобных текстов.
(обратно)28
Ивритское «и стал» в приблизительной русской транскрипции напоминает крик «уайийи».
(обратно)29
Аллюзия на ст. 5 гл. 27 Книги Второзаконие: «И устрой там жертвенник Господу, Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них железа».
(обратно)30
Сфирот — ед.ч. сфира — число, центральная идея лурианской каббалы. Десять сфирот, предвечных «чисел», обозначают десять стадий эманации (потока благодати), образующих область манифестации Бога в его различных атрибутах.
(обратно)31
Ср. со сценой жертвоприношения Ицхака в гл. 22 Книги Бытие: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего» (начиная со ст. 9), «и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими» (ст. 13).
(обратно)32
Еврейский университет в Иерусалиме был открыт на горе Скопус (Подзорной) в 1925 г., где и сейчас размещается значительная часть его факультетов.
(обратно)33
Ср. в ст. 3 гл. 2 Книги пророка Исайи: «Ибо от Сиона выйдет Тора, и слово Господне — из Иерусалима».
(обратно)34
Ср. ст. 11–12 гл. 1 Книги Бытие: «И сказал Бог: да произрастит земля […] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И т. д.
(обратно)35
Арон ѓа-кодеш (ивр., мн. ч. аронот-кодеш) — ковчег Завета, содержавший скрижали Завета, описан в гл. 37 Книги Исход. По традиции так же называется синагогальный шкаф для хранения свитков Торы.
(обратно)36
Выражение, вошедшее в разговорный иврит из 69-го (в православной традиции — 68-го) псалма Давида: «Спаси меня, Боже: ибо воды дошли до души моей» (ст. 2).
(обратно)37
Западная стена — она же Стена Плача, единственная сохранившаяся деталь Второго Храма, место, имеющее для евреев особое духовное значение.
(обратно)38
Саддукеи — представители направления, в эпоху Второго Храма противостоявшего фарисеям — составителям Талмуда, основоположникам раввинистического иудаизма.
(обратно)39
Начало 130-го (в православной традиции 129-го) псалма, именуемого Шир ѓа-маалот — т. е. «Песнь ступеней», или «Песнь восхождения».
(обратно)40
Реминисценция из гл. 10 Книги Иисуса Навина: «И сказал [Иисус Навин] пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: „стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день“?» (ст. 12–13).
(обратно)41
«Йевамот» — трактат Мишны, посвященный законам левиратного брака и отказа от него.
(обратно)42
Гиллель и Шамай — крупнейшие авторитеты Мишны, отличавшиеся различным подходом к толкованию закона и создавшие две полемизирующие школы.
(обратно)43
Ишув — буквально «населенный пункт». Этим словом именовалось еврейское сообщество в Земле Израиля в разные периоды до создания государства («Старый ишув», «Новый ишув»),
(обратно)44
Исайя, гл. 49, ст. 17.
(обратно)45
Перла — идишское имя, имеющее то же значение, что и ивритское Пнина, — жемчужина.
(обратно)46
Йа аби — «О, папочка» или «Эй, папочка» — форма звательного падежа (араб.).
(обратно)47
Лифта — деревня у въезда в Иерусалим по Яффской дороге.
(обратно)48
Тридцать шесть скрытых праведников (ламед-вовники) — от буквенного обозначения числа 36 (ламед-вав).
(обратно)49
Праведник — Цадик — название одной из нижних сфирот, образующих природную сферу космического древа. Другое название этой сфиры — «Основа мира» — Йесод ѓа-олам.
(обратно)50
Шофар — ритуальный бараний рог, в который трубят в Дни Раскаянья. Дробь — шварим — один из трех стилей трубления.
(обратно)51
Здесь явная аллюзия на переход израильтян через Чермное море под руководством Моисея: «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше; воды же были им стеною по правую и по левую сторону» (Исход, гл. 14, ст. 22), особенно в сочетании с «мышцей простертою» (см., например: Исход, гл. 6, ст. 8 и др.), которой Господь вывел евреев из египетского рабства.
(обратно)52
Гомед — древняя мера длины, примерно равная локтю. Корень гмд выражает уменьшение, сокращение, сжатие.
(обратно)53
Евус — одно из древних названий Иерусалима.
(обратно)54
Автор обыгрывает значение слова шошан — лилия.
(обратно)55
Авраам Ицхак ѓа-Коѓен Кук — основатель религиозного движения, солидаризировавшегося с сионизмом и с идеей национального и государственного строительства в Эрец Исраэль.
(обратно)56
Гемара — поздняя часть Талмуда (от корня гмр — заканчивать), посвященная обсуждению более ранней Мишны.
(обратно)57
Шулхан-арух («Накрытый стол») — компендиум религиозных норм жизни, составленный в XVI в. рабби Йосефом Каро из Цфата и впервые изданный в Венеции в 1565 г. До сих пор является главным сводом повседневных законов в ортодоксальной еврейской среде.
(обратно)58
Тут в оригинале явственно слышится пародийная нота: урок христианской теологии назван уроком Торы; преп. Иоанн Дамаскин — рабби Йохананом из Дамесека; используется талмудический термин кушия — трудный вопрос, вызывающий дискуссию; построение этой кушии и даже ее мелодика полностью воспроизводят образцы из Гемары.
(обратно)59
«Синай и корчующий горы — кто из них прежде?» — фраза из трактата «Благословения». Выражение «корчующий горы» стало в талмудическом иврите метафорой великого знатока Торы. Употребление его в тексте романа вместе с Синаем носит остро пародийный характер.
(обратно)60
В трактате «Авот де рабби Натан», одном из т. н. «малых трактатов», сказано: «Сказал Бен Азай: Награда за исполнение заповеди — исполнение заповеди, и награда за грех — грех» (вариант 2, гл. 33-V).
(обратно)61
Теодор (Биньямин Зеев) Герцль (1860–1904). Автор пользуется латинско-немецкой формой слова «сионизм», неупотребимой в иврите.
(обратно)62
Аллюзия на ст. 22 гл. 27 Книги Бытия: «Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его, и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы».
(обратно)63
Псалом 22, в еврейской традиции — 23.
(обратно)64
«Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, гл. 27, ст. 46.)
(обратно)65
Аллюзия на ст. 13 гл. 1 Первой книги пророка Самуила (в русской традиции — Первая книга Царств): «И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною».
(обратно)66
Талес (талит) — молитвенное покрывало. Штраймл — округлая меховая шапка ашкеназских ортодоксов.
(обратно)67
В оригинале: «буквами освящения месяца». По традиции текст освящения нового месяца вывешивается на улицах и отпечатывается особенно крупными буквами, чтобы его можно было прочесть ночью при слабом свете молодого месяца.
(обратно)68
Новый день по еврейской традиции начинается с заходом солнца.
(обратно)69
Пародийная аллюзия на Пасхальную агаду, в которой говорится: «[…] в каждом из поколений восстают против нас, чтобы нас истребить». Пародийность ситуации усугубляется тем, что текст агады читают за накрытым для трапезы столом.
(обратно)70
Тут госпожа Луриа тоже применяет талмудический метод выведения законов на основе подобия уже существующим законам и пользуется соответствующей терминологией.
(обратно)71
Аллюзия на ст. 19 гл. 3 Книги Бытие: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…»
(обратно)72
См. гл. 18 Книги Бытие: «Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение [сына]?» (ст. 11–12).
(обратно)73
Прута — самая мелкая монета, бывшая в обращении в Эрец-Исраэль, равная 1/1000 лиры.
(обратно)74
Исайя, гл. 30, ст. 20.
(обратно)75
Ср. Плач Иеремии, гл. 3, ст. 15.
(обратно)76
Мегалиты — сооружения 2–3 тысячелетия до н. э. из громадных камней, вероятно, ритуального назначения. Их разновидности — дольмен (от бретонского tol [стол] + men [камень]) и менгир (men [камень] + hir [длинный]).
(обратно)77
Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 26–28.
(обратно)78
В оригинале буквально повторяется труднопереводимая форма (кара равац), используемая в Библии, в частности в ст. 9 гл 49 книги Бытия. «Преклонился он, лег, как лев и как львица: кто поднимет его?» (Благословение, данное Иаковом Иуде.)
(обратно)79
Трактат «Отцы», часть 4, мишна 3.
(обратно)80
Вавилонский Талмуд, трактат «Шаббат», лист 25–II.
(обратно)81
Рабби Абайе — один из мудрецов Талмуда, так же как и упоминающийся далее Равва.
(обратно)82
В оригинале обыгрываются два значения слова руах — ветер и дух. Эта двузначность часто присутствует в данном тексте, так же, как и в ивритской литературе вообще.
(обратно)83
Ахалан-васахалан — арабское приветствие и приглашение в гости.
(обратно)84
Если Господу будет угодно (араб.).
(обратно)85
Ср. напр.: Иеремия, гл. 39, ст. 5: «И взяли его и отвели к Навуходоносору […] в землю Емаф, где он произнес суд над ним», а также Иеремия, гл. 52, ст. 9 и т. п.
(обратно)86
Еврейская община Иерусалима, сложившаяся в досионистский период.
(обратно)87
В романе «Путешествие в Ур Халдейский».
(обратно)88
См. «Путешествие в Ур Халдейский», с. 91–94. В тексте допущена опечатка: «Маралиас».
(обратно)89
Обратите внимание на постоянные описания закатов в «Лете на улице Пророков» и в других книгах эпопеи.
(обратно)90
В романе «День духов».
(обратно)91
В романе «Сон в ночь Таммуза».
(обратно)92
Ср. с описанием психологической травмы хозяйки фермы в Карнаке из последней главы данного романа, с ее мантрой: «Каждый — на свое место!».
(обратно)93
В оригинале статьи используется русское слово «самовар», в скобках объясняющее его мейхам — ивритское новообразование, нечто вроде «водогрея».
(обратно)94
Исраэль Хаим Тавьев (1858–1920) — ивритский писатель, филолог и переводчик, живший в Риге, а с 1905 г. — в Вильно. Один из редакторов газеты «Га-Зман» («Время») и детской газеты «Га-Хавер» («Друг»), составитель наиболее популярных хрестоматий для детей. РИБАЛ — рабби Ицхак Бер Левинзон, ивритский писатель XIX в., жил в России; МИКАЛ — Миха Йосеф Коѓен Лебензон, ивритский поэт XIX в.
(обратно)95
Мишорим — равнины, плоскости.
(обратно)



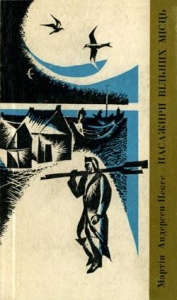




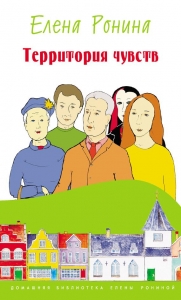
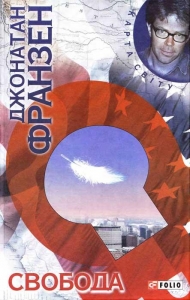
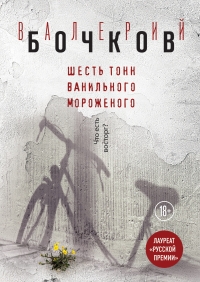
Комментарии к книге «Лето на улице Пророков», Давид Шахар
Всего 0 комментариев