Петр Хотяновский Грязная Сучка (сборник)
Книга издается в авторской редакции
Иллюстрации: Л. Лабадзе
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
© Хотяновский П., 2017
© Лабадзе Л., иллюстрации, 2016
© ООО «СУПЕР Издательство», 2017
* * *
Предисловие
Если вам доводилось наблюдать, как августовской ночью в небе сгорают тысячи метеоритов потока Леонидов, если с любопытством и страхом вы уходили мыслями в бесконечные глубины Вселенной в поисках истины нашего бытия и пытались понять непостижимое – эта книга для вас.
Автор ее, Петр Хотяновский, больше известный как драматург, написал в соавторстве с супругой Ингой Гаручава более тридцати пьес и киносценариев, поставленных в России, Ближнем и Дальнем зарубежье.
Нынешний сборник открывает новую грань таланта автора.
С первых же строк он погружает читателя в пространство, в котором самые фантасмагоричные сюжеты воспринимаются как реально возможные, а «время действия» по воле автора «сжимается» и «растягивается» в зависимости от движения сюжета.
Сегодня многие ученые физики и математики с достаточной достоверностью предполагают возможность существования N-мерного пространства за пределами нашего трехмерного мира. Автор сборника поместил героев своих сюжетов в пограничную область, – между реальным третьим и четвертым измерением, которое открыли для себя многие писатели, поэты, художники, композиторы и ученые. Некоторые из них уверены, что сюжеты и открытия приходят к ним из «пограничного пространства».
Знаки этого можно найти в картинах Иеронима Босха, в полотнах Сальвадора Дали, – фантастические фигуры вписаны в фотографически реальные пейзажи, а в «Настекшемся времени» зашифровано «время и пространство», из которого на полотна Марка Шагала попали летящие над местечком ангелы и люди. Там Маркес и Достоевский нашли героев своих романов, и оттуда же в сон химика Менделеева пришла его «периодическая таблица».
Ничем не ограниченная фантазия автора находит своих героев в мире, в котором совершенно естественно существует и Грязная Сучка, – женщина, прожившая девяносто семь лет, родившая и рассеявшая по всему свету восемьдесят восемь детей, что невольно вызывает ассоциацию с Библейской Сарой;
Заброшенная на пыльный чердак покалеченная Виолончель, творение великого мастера Гварнери, размышляет о несправедливости мира и мечтает о дне, когда к ней придет Музыкант, услышит звучащую в ней музыку, и она займет место в большом оркестре;
Внезапно умерший молодой одинокий Мужчина видит, как в прозектуре из его тела вырезают совершенно здоровые органы, оказавшиеся абсолютно совместимыми со всем человечеством, но несовместимыми с его представлениями о жизни, и он просит у них прощение;
В бесконечном потоке Времени затерялся Високосный Год: за 366 дней его полета вокруг Солнца, на Земле родилось людей больше, чем умерло, не случилось войн, на пустыню Сахара пролился дождь, и она зацвела. Люди, с точностью до секунды изучили события Великих войн и не заметили его заслуг в истории, но Год уже слышит шаги «Второго пришествия» и знает, – Его обретут;
Первый Звон, вылетевший из Большого колокола, путешествует по миру, пересекая границы прошлого и будущего. Звон становится свидетелем и участником невозможных, но вполне объяснимых событий, происходящих в искаженном пространственно-временном мире. Реинкарнация и перевоплощения, греховность и святость, многозвучность и неслышный Звон Утренней Тишины, существующие одновременно и разъятые, расчлененные до частиц Первоматерии, населяют открытый Звоном мир.
И этот Мир, и Звон Большого Колокола, и Звон Утренней Тишины станут видимы и слышны каждому, кто возьмет на себя труд прочесть этот сборник. При всей сложности повествования, для понимания требуется не столько интеллект читателя, сколько его, открытая миру душа.
Даже если вы не обладаете воображением Джонатана Свифта, доверьтесь автору, и он поведет вас за собой в такие миры, где вам ничего не будет страшно; где вы освободитесь от всего лишнего; где каждая клетка вашей сущности будет жить своей волшебной жизнью, а в уличном шуме вы будете слышать полифонию фуг Баха.
Нина Гоголишвили,писатель, доктор филологии, профессорГрязная Сучка
Все, что рождено нашим воображением – реальность.
Пабло ПикассоГрязную Сучку и Барак повышенной комфортности, в котором она через девяносто семь лет умерла, зачали в один день. Сначала зачали Барак: 1 августа, в 15 часов пополудни, – дата была выбрана с политическим подтекстом. Инструктор, присланный из района, произнес речь, в которой торжественно обещал, что ровно через девять месяцев – 1 мая следующего года, на этом месте будет стоять первый кирпичный дом будущего города. Под крики «ура!» и медные звуки духового оркестра в основание Барака заложили обмотанный красным кумачом кирпич зачатия. Инструктор «оплодотворил» его ведром цементного раствора и отправился в рабочую столовую отмечать это событие водкой.
В сумерках того же дня, без долгих речей и оркестра, изрядно выпивший Инструктор совершил еще один акт зачатия. Заманив в подсобку столовой молоденькую Повариху, он склонил ее к греху обещаниями выделить в будущем доме комнату. Словам Повариха не поверила, но с удовольствием отдалась, поскольку водка, молодость и общее веселье привели ее в приятное расположение духа. Инструктора Повариха больше никогда не увидела и про обещание забыла, но оно странным образом сбылось.
Ровно через девять месяцев, 1 мая, обещанный Барак был готов. В полдень, после торжественных речей и пения «Интернационала», секретарь райкома разрезал ножницами красную ленточку, и в ту же секунду раздался страшный крик – у стоящей в толпе Поварихи начались роды. Пока окружающие поняли, что происходит, ребенок, вместе с отошедшими водами, буквально выпал из лона матери прямо на пыльную землю.
Несколько пар рук, подхватив роженицу и ребенка, грязного от земли, прилипшей к мокрому тельцу, бегом понесли их в дом, едва не порвав пуповину, соединявшую ребенка с матерью. Пуповину перерезали теми же ножницами, что и красную ленточку на открытии Барака, узелок пуповины продезинфицировали остатками водки из недопитой кем-то бутылки, а когда обмывали измазанное землей тельце новорожденной девочки, кто-то ласково назвал ее Грязной Сучкой. Случайно оброненные при рождении слова не только прочно прилипли кличкой, но во многом определили все девяносто семь лет ее последующей жизни. Многие люди вообще не знали ее настоящего имени, но это не помешало ей стать самой знаменитой женщиной городка, ставшего к моменту ее смерти городом.
Ее ненавидели и обожали, издевались и преклонялись, сажали в тюрьму и президиумы больших собраний, о ней писали научные труды, делали прототипом женских романов и фантастических фильмов. Геронтологи изучали особенности ее долгожительства, а за удивительную способность к деторождению сравнивали с библейской Сарой, родившей в девяносто лет от Авраама – сына Исаака. За множество рожденных детей – первого мальчика она родила в 12 лет и после этого каждый год приносила в этот мир по одному, а то и по два ребенка – ее внесли в книгу рекордов Гиннеса, где сразу после имени, в скобках, латиницей написали – «Griaznaya Suchka».
В день восьмидесятипятилетия Грязной Сучки в городе произошли два заметных события: мэр города, вдохновленный огромным пожертвованием неизвестного мецената, открыл в местном парке копию памятника римской «Капитолийской волчицы», объяснив это желанием горожан стать побратимами Вечного города, и Грязная Сучка родила своего последнего ребенка – девочку. Случайный итальянец, оказавшийся на открытии скульптуры, обратил внимание на не полное соответствие римскому оригиналу: у волчицы вместо восьми сосков, было девять, и этот лишний сосок сосал один мальчик вместо двух – Ромула и Рема, как их создал неизвестный этрусский ваятель.
Скульптор-авангардист объяснял, что его композиция не имеет никакого отношения к «тому Риму»: она олицетворяет «Третий Рим», а «один мальчик» – это символ единовластия, без которого любой «Рим» рухнет. Пока горожане обсуждали достоинства скульптуры и обмывали ее водкой «на долгое стояние», восьмидесятипятилетняя роженица вылизывала глаза новорожденной и наполняла себя ее запахами. Как и десятки ее старших братьев и сестер, новорожденная девочка, не причинив боли, легко выскользнула из глубины утробного космоса в руки своей правнучатой племянницы. Ловко обрезав пуповину, обмыв и запеленав ребенка, она хотела приложить свою новорожденную прабабушку к груди матери, но Грязная Сучка, несмотря на глубокую ночь, пошла с новорожденной в парк к новой скульптуре, погладила бронзового мальчика по лицу и, прошептав что-то на ухо Волчице, поочередно приложила новорожденную девочку к восьми свободным медным соскам.
Ночной визит Грязной Сучки с новорожденным сыном к «Капитолийской волчице» породил множество слухов, сплетен, «достоверных» свидетельств и откровенного вранья. Но было и много правды, как это бывает, когда говорят о женщинах, ни разу не бывших замужем, но родивших много детей.
За 73 года практически непрерывной беременности, в которой случались и двойни, Грязная Сучка, по подсчетам экспертов Гиннеса, родила 88 детей, хотя и они не гарантировали количественную точность, о чем сообщили в сноске. Судя по последним слухам, во время ночного визита к памятнику Грязная Сучка называла бронзового мальчика Волчицы Выблядком – так в народе прозвали ее первенца, – а последняя девочка так сосала бронзовые соски Волчицы, что на них проступило молоко.
Мнения горожан по этому поводу разделились: одни уверяли, что Грязная Сучка – ведьма, что в восемьдесят пять лет можно родить только Антихриста, и что с этим надо кончать. Другие объявили ее Святой, ибо только святая могла родить столько детей и накормить ребенка молоком из медных сосков. Некоторые, ссылаясь на законы природы, уверяли, что Грязная Сучка сама давно не рожает, а выдает за своих детей своих детей и даже внуков с целью получения от правительства всяких льгот и пособий.
С первого дня появления в парке «Капитолийская волчица» стала культовой фигурой. Низкий постамент из красного гранита позволял любому желающему трогать ее рукой и загадывать желание: родители фотографировали своих чад верхом на Волчице, мечтая, чтоб дети выросли сильными; бизнесмены засовывали меж острых зубов монетки и просили Волчицу помочь разорвать конкурентов в клочья; девицы, желавшие выйти замуж, тайком натирали до блеска маленький член «бронзового мальчика», а бездетные матери, в надежде зачать ребенка, мучили медные соски Волчицы, и если долгожданная беременность случалась, женщины уверяли, что под их руками медные соски набухали от молока.
Одно было несомненной правдой: всех детей, от первого мальчика, рожденного в двенадцать лет, до последнего ребенка – восемьдесят восьмой девочки, Грязная Сучка родила сама.
Объяснение этому феномену пытались найти в особом строении детородных органов, но никаких отклонений от нормы не обнаружили. Более того, непрерывные роды совершенно не изнашивали ее организм и никак не нарушали функции отдельных органов. Один известный Ученый доказывал, что Грязная Сучка вообще не человек в обычном понимании этого слова, а «совершенный биологический объект» с гипертрофированной функцией деторождения.
В процессе изучения феномена Ученый неожиданно для себя оказался в постели «биологического объекта» и стал отцом ее очередного ребенка, после чего попал в сумасшедший дом, где всерьез уверял врачей, что Грязная Сучка – существо космического происхождения, специально заслана на Землю, чтобы родить многочисленное потомство и стать праматерью новых людей, которые подготовят человечество к вторжению инопланетян.
Первого будущего «пособника инопланетян» Грязная Сучка родила в двенадцать лет, ровно через год после смерти матери. Невинности ее лишил Опекун. Твердо уверенный, что девочки в этом возрасте «не залетают», он не осторожничал, не ведая, что за несколько дней до его первого «посещения» в девочке созрела детородная функция. Случилось это в школе – с указкой в руке она стояла у карты мира, когда неожиданно почувствовала, что по ногам течет что-то теплое, и белые гольфики наполняются кровью. Возмущенная учительница выгнала девочку в коридор, где сердобольная уборщица, поцеловав ее в макушку, объяснила, что теперь она может стать настоящей матерью.
Беременность девочки первым заметил Опекун. Не дожидаясь, когда это станет очевидно остальным, тайно, по поддельным документам нанялся матросом на торговое судно, и вскоре в городок пришло известие, что в дальних морях он ушел на дно вместе со всей командой.
Растление малолетней стало городской сенсацией. Милиция завела дело, но за отсутствием «растлителя» решили осудить саму малолетку – за «совращение растлителя». Для определения степени вины «растлителя» и «растлительницы» Дознаватель потребовал от Грязной Сучки «подробного чистосердечного признания», и она рассказала, как «это» случилось. С детской наивностью и в мельчайших деталях она описала свои ощущения, в которых не было ни тени стыда или пошлости, а только природная чистота, в которой и творится чудо зачатия. Она призналась, что Опекун был для нее как бы отцом, и его ласки были ей приятны, как приятно всем детям, когда их ласкают родители. Ни о чем «таком» она не думала, потому что ничего о «таком» еще не знала, а когда «такое» стал делать Опекун, ей это показалось игрой: она вместе с ним весело смеялась, пока не почувствовала во всем теле странную дрожь. Незнакомое тепло наполнило ее от кончиков пальцев на ногах до макушки, электрический разряд ударил в затылочную ямку, превратив мозг в светящийся шар. Она стала кричать от страха и счастья одновременно: ей одновременно хотелось, чтоб шар светился еще ярче и как можно быстрее погас, а когда шар вышел из нее, обессиленное тело бесконечно долго остывало, пока не превратилось в стеклянный сосуд, в котором она увидела много непонятных существ, плавающих в прозрачной жидкости. Они, как рыбки в аквариуме, бились головками в стекло, а когда сосуд под их ударами лопнул и жидкость пролилась, Сучка вместе с болью испытала огромное счастье, и на какое-то время потеряла сознание, напугав этим Опекуна, решившего, что его неумеренные ласки убили девочку.
Рассказывая все это, Грязная Сучка с улыбкой смотрела прямо в глаза Дознавателя, и он, как ни старался, не мог отвести от нее взгляда. Он хотел и не мог не слышать ее голос, в котором тонул его собственный голос и обращенные к ней вопросы. Мысли его путались, и чтоб унять невольную фантазию, физически наполнившую его плоть, Дознаватель ударил ее по лицу и выскочил из кабинета.
После долгих совещаний – что делать с малолетней роженицей – городское начальство решило «не выносить сор из избы», тем более, что Опекун-растлитель подался в бега, а беременность вошла в тот срок, когда аборт по закону запрещен и считается умышленным убийством.
Из школы Сучку выгнали, чтобы ее заметно выросший живот не смущал мысли юных одноклассниц. Избавленная от необходимости готовить уроки и ходить в школу, девочка стала готовиться к родам: распустила на нитки оставшиеся от матери вещи и целыми днями вязала приданое будущему сыну, нисколько не сомневаясь, что это будет мальчик. Наблюдать развитие беременности взялась Врач местной больницы. В ее практике это была первая ранородящая пациентка, и она с научной скрупулезностью выщупывала живот, измеряла его рост портновским сантиметром, вслушивалась в биение сердца плода через самшитовый стетоскоп, и все это вносила в дневник с надеждой сделать записи основой будущего научного труда. Зная точную дату зачатия, Врач вычислила возможный день родов и готовилась принять ребенка «кесаревым сечением», так как таз роженицы, по ее мнению, был слишком узким для физиологических родов. Она предупреждала Грязную Сучку о возможных осложнениях, но ее это не беспокоило. Сучка была уверена, что родить ей поможет Барак, который, как ей рассказала мать, был зачат с ней в один день и в один день с ней родился.
Зачатие и рождение Барака в один день с Грязной Сучкой можно считать вполне закономерным: в этот день, сожженный и разграбленный революционными массами Дворец богатого Мецената-промышленника, обрел новую жизнь, реинкарнировавшись из Дворца в Барак. Обгорелый остов Дворца, построенного приглашенным в Россию известным итальянским архитектором, новые власти приказали разобрать на кирпичи и построить из них, в соответствии с духом времени, двухэтажный Барак повышенной комфортности коммунального типа, с общей кухней и туалетом по концам коридоров для счастливого проживания трудящихся. Дворцовое прошлое Барака выдавали герб и фамилия владельца, – впечатанные клеймом в каждый уложенный в стены кирпич, они проступали укором из-под облупившейся штукатурки. Бывший владелец Дворца, предчувствуя грядущее разграбление, не только пометил каждый кирпич, но и пересчитал, сколько их уложено в стены Дворца: оказалось – 1 786 543 штуки.
Через много лет Потомки Мецената, одержимым идеей «вернуть все на круги своя» и воссоздать фамильный Дворец, разыскали растасканные по разным стройкам 1 786 541 кирпич. До полного комплекта не хватало двух. Один кирпич, несмотря на обещание большого вознаграждения любому, кто его найдет, был утерян безвозвратно. С другим кирпичом было все понятно. Он, в измененном виде, остался в семье, и потому не мог считаться потерянным и каким-либо образом исказить облик восстановленного дворца. «Изменение» кирпича произошло в тот день, когда Грязная Сучка родила своего первенца. Кирпич, в своем первозданном виде, был ее первой детской игрушкой. «Игрушка» была тяжелой, иногда больно щемила пальцы, но она любила ее больше тряпичных кукол. В играх он был ее «домом», а когда подросла и научилась читать, стала называть кирпич своим «паспортом», и на вопрос – «Как твоя фамилия?» – называла фамилию Мецената, впечатанную вместе с гербом в кирпич.
Все над ней смеялись, но это была правда, о которой никто не знал, но маленькая Сучка необъяснимо ощущала эту правду внутри себя: ее биологический отец, Инструктор, был прямым потомком Мецената. Рано увлекшись идеями всеобщего равенства, он ушел из семьи, сменил фамилию и тщательно скрывал это, преданно служа словом и делом революции, которая во все времена не ценила ничьей верности. Инструктор был разоблачен и расстрелян вскоре после того, как «зачал» Барак повышенной комфортности кирпичом из разоренного Дворца своих предков и в столовской подсобке зачал Грязную Сучку.
Роды у Сучки начались в тот момент, когда наблюдавшая за ней Врачиха пошла на кухню за чайником. От мгновенно навалившейся боли Сучка закричала и так сжала руками «паспорт-кирпич», что он развалился на множество мелких кусочков. В следующее мгновение боль ушла, и между ног Сучки зашевелился ребенок. Она взяла мокрый комочек в руки, обнюхала его, очистила от последа и вылизывала языком слипшиеся веки мальчика, пока он не заплакал.
Прибежавшие на крик соседи помогли Врачихе перерезать пуповину, обмыли ребенка и спеленатого приложили к груди, чтоб успокоить его биением материнского сердца. Врачиха не могла понять, как через узкий неразвитый таз девочки так легко мог выйти ребенок, а соседи вспомнили, что точно так, одним вскриком, мать Грязной Сучки выдавила ее из себя.
Пока Врачиха возилась с молодой матерью и младенцем, кирпич, раздавленный руками роженицы на мелкие обломки, сам собой «склеился» в 88 маленьких кирпичиков с гербовым клеймом и фамилией Мецената на каждом. За долгие годы, прожитые Грязной Сучкой, ни один «кирпичик» не потерялся. Она превратила их в талисманы и в вязаных мешочках вешала «оберегами» на шею каждому рожденному ребенку. Когда Грязная Сучка умерла, все 88 рожденных ею детей собрались проводить ее в последний путь. Многих она не видела долгие годы. Большинство рожденных Сучкой детей не были знакомы меж собой и никогда не встречались, – но у гроба безошибочно узнали друг друга по «оберегам» и запаху матери, которым она пометила всех своих детей, вылизывая их сразу после рождения.
Первого ребенка, рожденного двенадцатилетней Грязной Сучкой, молва сразу окрестила «Выблядком». Из соображений нравственности ей запретили гулять с малышом по улице, и хотя в городке был не один такой «выблядок», матерей их, в отличие от Сучки, не осуждали, поскольку нагуляны они были в возрасте, дозволенном законом для рождения незаконнорожденных детей.
Грязную Сучку это нисколько не смущало. Для прогулок с первенцем и своими будущими детьми она стала высаживать на пустыре вокруг Барака липовую аллею, которая так быстро разрослась, что к рождению пятого ребенка, случившемуся через четыре года после рождения «Выблядка», деревья давали такую приличную тень, что порядочные мамаши, забыв о «принципах», стали привозить в колясках своих малышей подышать сладким воздухом липоцвета.
Второго ребеночка Грязная Сучка родила ровно через десять месяцев и одиннадцать дней после первого. Отцом ребенка стал сосед, Мальчишка, всего на год старше нее. Сучка держала это в тайне, но Мальчишка расхвастался перед одноклассниками, и весь городок узнал, что ребенка заделал он. Это вызвало бурю возмущения, и милиция снова завела «Дело о растлении малолетней малолетнего». Родители Мальчика утверждали, что это клевета, что их сын еще слишком мал для отцовства, и чтоб уберечь от суда потребовали медицинского обследования на предмет выяснения его физиологических возможностей для зачатия ребенка: они были потрясены, прочтя в медицинском заключении – может.
Перекрестными допросами Дознаватель установил подробности соблазнения и зачатия. Испуганный Мальчишка валил все на Сучку, а она не отрицала, что шутки ради прыснула из соска струйкой молока в лицо Мальчишки и не отогнала, когда он, как сумасшедший, стал сосать ее грудь – ей это было приятно. Потом все случилась, как случилось, и она долго не могла оторвать его от себя. Сучка без стеснения выкладывала интимные подробности, не подозревая, какую роковую роль они сыграют в судьбе Дознавателя, засев в его мозгу будоражащими воображение деталями соития.
Несколько лет подряд, при каждой следующей беременности Сучки, Дознаватель заводил очередное «Дело», безуспешно пытаясь выведать и наказать педофила, но на все вопросы – «Кто отец?» – она отвечала детской улыбкой и молчала, пользуясь правом не давать против себя показаний. Во всех «Свидетельствах о рождении» в графе «отец» ставили прочерк. Но однажды молоденькая канцеляристка, измученная постоянными фантазиями о процессе деторождения, в графе «отец» в шутку написала – «Дух Святой». Тогда на это никто не обратил внимания, но через много лет некий ученый, изучавший биографию Грязной Сучки, отнесся к этой записи вполне серьезно. Он предложил отцам церкви использовать этот факт как новое подтверждение реальности непорочного зачатия. Церковники сочли это кощунством и предали Ученого анафеме, а светские власти, отвергавшие идею «непорочного зачатия» в принципе, к слухам отнеслись серьезно, и были «правы»: на первом же допросе Ученый признался, что мракобесные идеи распространял по заданию разведки Ватикана. Он был обвинен в подрыве основ государства, шпионаже, измене Родине и отправлен в сибирские лагеря на перевоспитание.
Следом за ним в лагеря на всякий случай сослали главную фигурантку «Дела о непорочном зачатии» – Грязную Сучку. Но все это случилось после того, как Дознаватель точно установил отцовство одного ребенка.
После рождения каждого следующего ребенка он вызывал Сучку под предлогом выяснения, кто ее в очередной раз обрюхатил. На самом деле, «отцы» мало интересовали его. Дознаватель испытывал необычное чувство возбуждения от рассказов Сучки «как это было». Возбуждение не столько элементарно физиологическое, хотя и оно имело место: необычайно возбуждалось жившее в мозгу Дознавателя его второе «Я». Оно в эти минуты как бы отделялось от самого Дознавателя и начинало жить ничем не ограниченными фантазиями, объектом которых была Грязная Сучка. В этих фантазиях второе «Я» Дознавателя, позволявшее себе все самое стыдное и запретное, достигало необычайной, надреальной остроты ощущений. В своих фантазиях Дознаватель дошел до того, что к собственной жене не мог подойти без скоромных мыслей о Сучке. Он понимал, – это болезнь, как раньше говорили, «бес вселился», и это надо лечить. Но как? Изгнанием бесов? Специалистов этого жанра в рясе самих давно извели и изгнали. Правда, остались ворожеи. Одну из них, старую цыганку, Дознаватель знал и не раз, по долгу службы, привлекал за тунеядство, но всегда отпускал, чувствуя в ней тайную силу и знание, которое она не растрачивала на улицах за копейки – «Позолоти ручку, красавица, всю правду скажу…». Она умела проникать глубоко в душу, когда к ней приходил человек «на грани». На той «грани», на которой она сама и все ее цыганское племя живет тысячи лет, сохраняя «тайное знание», врученное им у подножия Египетских пирамид и на вершинах Тибета. «Бес», вселившийся в Дознавателя, настойчиво убеждал его убить блудницу. Ему казалось, только так можно избавиться от оргий, которые она устраивала в его мозгах. Поначалу он гнал эту мысль, – невозможно убивать «малолетку» только за то, что она рожает детей от неизвестных мужчин и смущает его воображение. Но постепенно идея убийства перестала казаться Дознавателю абсурдной. Более того, он стал придумывать, каким именно способом лучше всего это сделать, и как построить идеальное алиби, чтоб не пострадать самому. Он стал выстраивать сценарии убийства, мысленно «прокручивать» их в поисках изъяна, пока не придумал «идеальное» убийство. Конечно, он не собирался этого делать, но когда Цыганка встретила его в тени липовой аллеи, высаженной Сучкой, постучала корявым пальцем по лбу и сказала: «Выкинь дурь из головы», – он твердо решил убить Сучку.
Грозовой августовской ночью, под громовые раскаты небесной колесницы Ильи Пророка, Дознаватель вошел в комнату Сучки, увидел ее обнаженную в свете сверкающих молний и сразу понял – она ждала его. Шелковый шнурок, приготовленный Дознавателем для удушения блудницы, выпал из его рук, и он покорно поддался ее ласкам и ответил на них всей страстью накопившихся в его мозгу фантазий. Ему хотелось делать это бесконечно долго, но Сучка, почувствовав, что в чреве ее уже завязалась новая жизнь, оттолкнула его от себя, и Дознаватель с ужасом понял, что стал отцом ее будущего ребенка. На следующий день Дознаватель составил протокол допроса «самого себя», в котором чистосердечно признался в содеянном, попросил прощения у жены, у коллег и повесился на шелковом шнуре, которым собирался задушить Сучку.
Через много лет родившийся от Дознавателя сын стал Прокурором, и случайно, в архиве, наткнулся на «чистосердечное признание» папаши, с подробным изложением обстоятельства его зачатия: грозовая ночь, в сверкании молний обнаженное тело девочки на полу; струйки молока из груди, бьющие в лицо отца; бесстыдные слова и позы, и вкус липкого пота, струившегося по впадине меж маленьких грудей. Реальность описания возбудила Прокурора, как некогда возбуждала его отца. Фантазия переместила его в Барак, где на месте отца он увидел себя, испытал его чувства и ужаснулся, поняв, что все происходившее в его воображении было мигом схождения Инь и Янь, давших начало ему. Испытывая необычайное чувство любопытства, он вглядывался в детали свершавшегося на его глазах таинства, в котором было его начало, закладывалась вся его будущая жизнь и даже смерть. При мысли, что записки отца могут прочесть посторонние люди, его охватил стыд, и на следующий день «Дело о самоубийстве Дознавателя и его чистосердечное признание» исчезло. Прокурор сжег «Дело» и развеял пепел не по неверному восточному ветру – известно, что он ходит кругами, может вернуть унесенный пепел назад и раскрыть тайну происхождения Прокурора, – а дождался южного ветра, который уносит с собой все собранные по пути осколки человеческих страданий: разбитую любовь; несбыточные мечты; стыдные тайны, вшептанные в ветер порочными людьми; последнюю, невысказанную волю умирающих и отринутые Богом мольбы самоубийц о прощении. Все это и много другого мусора, одинаково рожденного любовью и ненавистью людей, ветер уносит в южные широты и наполняет ими пески барханов, волнами бродящих по пустыне.
Шелковый шнурок, хранившийся в «вещдоках», Прокурор повесил себе на шею с надеждой, что, как всякая веревка висельника, шнурок, на котором повесился отец, принесет ему удачу. Покончив с «Делом», Прокурор, не попрощавшись с матерью, исчез из города – он не знал, как без стыда смотреть ей в глаза, невольно представляя засевшие в его мозгу «картины» ее любовных игр с папашей-Дознавателем.
Весть об исчезновении сына Грязной Сучке принесла частичка пепла, упавшая на землю раньше, чем ее унес южный ветер. Сучка растерла пепел между пальцами, понюхала и по запаху поняла, что еще один ее ребенок отправился искать свою судьбу в новых землях.
С разлетевшимися из отчего Барака в разные концы света детьми Грязная Сучка не теряла связь, их лица и имена хранились запахами в отдельно приспособленной для этого части мозга. И когда тоска по детям становилась невыносимой, Грязная Сучка поднималась на крышу Барака, и часами, раздувая ноздри, вынюхивала из ветров, дувших с разных концов света, запахи покинувших дом детей. Она мечтала обнять их, как каждый вечер обнимала живших с ней детей, и ощутить тепло их плоти. Ветры приносили много и других запахов: к сильным сегодняшним запахам примешивались прозрачные запахи прошлого и скрытые до поры запахи будущего, в которых однажды она разглядела последний день своей жизни, и была безмерно счастлива увидеть вокруг гроба всех до единого рожденных ею детей, внуков, правнуков и праправнуков. Видение будущего так обрадовало Сучку, что ей захотелось невозможного – умереть раньше назначенного срока, чтоб поскорее увидеть всех вместе, всех пересчитать, разом обнять, обнюхать и прикоснуться кончиком языка к каждому, как это делала она в момент их рождения. Но ход времени изменить нельзя – ей предстояло родить еще сорок шесть детей, из них пять в колонии для особо опасных преступников, куда ее посадили за пропаганду мракобесной идеи непорочного зачатия. Приговор рассмешил Сучку, и в знак доказательства вполне порочного происхождения всех своих детей, одного из пяти рожденных в заключении она зачала от Начальника колонии.
Связь охраны с заключенными была строго запрещена, но случалась, и смотрели на это сквозь пальцы. Слух о рожденном от Начальника ребенке дошел до Высшего Руководства, и его решили примерно наказать. На суде Начальник не отрицал факта соития и клялся, что все случилось помимо его воли: заключенную Сучку, выписанную из медчасти после родов, он вызвал к себе в кабинет, чтоб выяснить, кто из Охранников посмел нарушить Устав и обрюхатил заключенную. Но вместо ответа Сучка обнажила грудь, прыснула ему в лицо грудным молоком, и он, помимо воли, уступил ее желанию.
Начальника разжаловали, лишили боевых наград и отправили отбывать срок в спецлагерь для осужденных сотрудников Ведомства, а Сучке добавили срок, что совершенно не тревожило ее. К этому времени «малявы» разнесли слух о ее необычайных свойствах, и что срок она отбывает по обвинению в Непорочном зачатии, по всем женским тюрьмам и лагерям. Непонятным образом «малявы» перелетели океан, где в тюрьме одной из экзотических стран зародился ее культ: узнав о невероятном количестве рожденных Сучкой детей, заключенные женщины решили, что она является прямым потомком Праматери рода человеческого.
Лик ее, совершенно не похожий на настоящий, с нимбом над головой, в окружении множества детей с разным цветом кожи и разрезом глаз, нарисовала бессрочная каторжанка – художница-детоубийца, и назвала икону «Святая Роженица». Молва объявила икону чудотворной. Списки с лика, распространившиеся по разным странам, стали надеждой для бездетных женщин, бесплодных мужчины и девушек на выданье, а счастливые невесты несли к иконе Святой Роженицы дары с одной молитвенной просьбой: поделиться с ними детородной силой.
Не ведая всего этого, Сучка продолжала отбывать в колонии назначенное наказание, что не мешало ей рожать детей и сажать в «зоне» деревья. Неведомым образом деревья перелезали через колючую проволоку ограждения и росли там так быстро, что к тому времени, как Сучку по амнистии освободили, вокруг «зоны» вырос густой лес, скрывший от людских глаз кусок земли, обезображенный страданием и злобой.
Возвращение сучки в родной Барак стало стихийным праздником. Каким-то образом в город попала копия иконы «Святой Роженицы», написанная заключенной-детоубийцей, и люди узнали, что в далекой заокеанской стране Грязную Сучку причислили к лику святых. Икону «Святой Роженицы» и ходившие по рукам ее фотокопии, которые в вагонах поездов тайно продавали глухонемые торговцы порнографических открыток, изображавших «кокоток» начала прошлого века в кружевных панталончиках чуть выше колен, церковные и светские власти безрезультатно пытались изъять. Угрожая новым сроком, они требовали, чтоб Грязная Сучка объяснила людям, что никакой святости в ней нет, а бесчисленное количество детей – результат распутства. На угрозы власти Сучка не обратила никакого внимания – она ждала очередного ребенка, зачатого еще в лагере, что в глазах горожан придало будущему младенцу ореол мученичества, и в день его рождения вокруг Барака собралась огромная толпа с требованием показать младенца-мученика. Показывать ребенка Сучка отказалась. Ребенок родился в полнолуние, и это отобрало у него много сил. Людям она объяснила, что ребенок хоть и был зачат за колючей проволокой, на процесс это никак не повлияло, и он ничем не отличается от других ее детей. Пока она говорила с людьми, кто-то из соседей по Бараку, присутствовавших при родах, улучив момент, вынес из комнаты роженицы простыню, мокрую от отошедших вод и крови, разрезал ее на множество мелких кусочков и стал продавать как амулет, гарантирующий скорое зачатие даже безнадежно бесплодным женщинам.
Суета вокруг Сучки не могла не раздражать Власти. Не случись либеральных перемен, от которых у многих людей помутился разум, найти причину и снова упечь ее за решетку не составило бы труда, но удобные для этого законы отменили, новых придумать не успели, и для решения сложных вопросов вспомнили незаконные, но хорошо проверенные во все времен методы. За приличные деньги соседка Сучки согласилась подложить ей в сумочку пакетик чистейшего кокаина, который в момент обыска непонятным образом превратился в сахарную пудру. Соседку обвинили в подлоге, и через пару дней ее нашли в посаженной Сучкой липовой аллее с ножом в сердце. Другой раз Сучку «заказали» опытному «исполнителю», который умудрился с пяти шагов выпустить пять пуль мимо цели. Он попытался исправить ошибку контрольным выстрелом в висок Сучки, но пуля застряла в стволе. Стрелок пытался бежать, но улыбка Сучки лишила его сил: он был схвачен разъяренными горожанами и передан в руки полицейским, которые застрелили его при попытке к бегству. В городе прошел митинг протеста против насилия, возглавленный лидерами ультра либеральной оппозиции, объявивших о создании нового движения «Святость и Справедливость». На этом же митинге, не спрашивая согласия Грязной Сучки, ее единогласно избрали почетным председателем движения, от чего она сразу отказалась, сославшись на свое перманентно декретное состояние. В свою очередь Власти, не желая уступать всенародно любимую Сучку радикалам «Ультра СС», как их злонамеренно окрестили, по совокупности рожденных детей присвоили Сучке звание «Трижды матери героини».
Такое внимание людей не радовало Сучку. Она старалась жить обычной жизнью многодетной матери: рожала новых детей, кормила, обшивала, обстирывала, учила их языку растений и как с ними разговаривать, чтоб они лучше росли. У нее была удивительная способность – любое зернышко, саженец или луковки цветов, посаженные ее руками, быстро прорастали и никогда не погибали от морозов или засухи. Они шли в рост быстрее, чем это было заложено природой, а семена их, падая в землю, давали крепкие всходы, не требуя никакого ухода. В этом посаженные рукой Сучки растения были схожи с ее детьми. Едва став на ноги, они проявляли удивительную самостоятельность: старшие дети опекали младших, что помогло Сучке вырастить своих многочисленных детей без посторонней помощи. По достижении шестнадцати лет все дети, с благословления матери, а иногда и без него, уходили искать себя в большом мире.
К ежегодному появлению на свет новых детей Сучки люди давно привыкли, и когда случился перерыв в несколько месяцев, город воспринял это как дурной знак. Поползли слухи об участившихся случаях выкидышей; женщины, страдавшие от частых «залетов», вдруг перестали «залетать»; искусственное оплодотворение не давало желаемого результата; суррогатные матери ни за какие деньги не соглашались вынашивать чужих детей, и впервые за сто лет засуха уничтожила весь урожай зерновых. Конечно, все это было случайным совпадением, никак не связанным с Сучкой и паузой деторождения, но Совет молодых матерей отнесся к этим знакам серьезно и, заподозрив ее в манкировании своими обязанностями, предложил принудить Сучку к ежедневному соитию и поставить этот процесс под контроль – вплоть до следующей беременности.
Суета слухов, роившихся вокруг Сучки, никак не тревожила ее. Она точно знала, что родит еще двадцать девять положенных ей детей, и несколько месяцев перерыва её не беспокоили. Дети были в ней, и вечерами, сидя на скамейке в липовой аллее, она перебирала их как бусины четок, вглядывалась в их будущие лица, выбирала им имена и запахи, не пыталась узнать их будущее, чтоб случайным пожеланием не нарушить его. Истиной причиной переполоха, связанного с задержкой рождения следующего ребенка, был рыжий котенок, прятавшийся от неожиданно налетевшей грозы в парковой беседке, где Сучка уже третий день ожидала встречи с отцом своего следующего ребенка. Как и многих других, она никогда не видела его и не была с ним знакома, но точно знала, что флюиды, исходившие из ее созревшего для зачатия тела, найдут и приведут в беседку ЕЕ мужчину. Он был совсем недалеко от беседки, когда котенок, тихо мяукнув, стал тереться об ногу Сучки. Она взяла котенка на руки, погладила мягкую шерстку, ощутила его тепло, биение крошечного сердца внутри беззащитного тельца, и ее охватило такое чувство нежности, какого она не испытывала никогда, – особая нежность, какую многие люди испытывают к животным, находя в них утешение от семейных неурядиц, собственных комплексов и несовершенства мира. От чувств, нахлынувших на Сучку, поток исходивших из нее флюидов иссяк. Она забыла про мужчину, забыла, что следующий ребенка ждет своего рождения – она его обязательно родит, но позже. Сейчас ей нужен был этот котенок, и она не пыталась понять – почему: просто спрятала теплый комочек на груди и понесла его домой. Котенок оказался благородных кровей – заметно светлая, кофе с молоком шерстка тела, коричневая мордочка, коричневые лапы и кончик надломанного хвоста говорили о его Сиамском происхождении. Дети сразу полюбили его, назвали Симом и считали своим младшим братиком, поскольку часто видели, как Сучка кормит его грудным молоком: в первую же ночь он забрался в постель к Сучке, нашел дорогу к пахнущим молоком соскам, и она не стала его отгонять. Впоследствии выяснилось, что «братик» – вовсе не «братик», а весьма плодовитая «сестрица». Ее переименовали в Симу, и она дважды в год стала приносить Сиамских котят от породистого Сиамского кота, которого никто никогда в этом городе не видел. В этом Сима была похожа на Сучку, родившую большинство детей от «невидимых миру» мужчин. Всех рожденных котят Сима сама пристраивала в «хорошие руки» и, как того требует традиция, «за деньги». Делала она это просто: ухватив котенка за холку, Сима выносила его на улицу и не выпускала из зубов, пока покупатель не клал перед ней деньгу, которую она оставляла на тротуаре. Одного котенка из каждого окота Сима оставляла себе до следующего окота, после чего отпускала его самостоятельно искать счастья в большом мире.
Слухи о том, что Сучка выкармливает котенка грудным молоком, разнесли по городу глазастые соседки. Одна из них сумела сфотографировать и продать за приличную сумму желтой газетенке фотографию Сучки со спящим на ее груди котенком. Эта фотография стала причиной множества нелепейших слухов, мол, котенок вовсе не приблудный, и рождение его связано с генетической мутацией организма Сучки, что вполне вероятно, если иметь в виду безусловную исключительность свойств ее организма. Говорили, что нормальных детей она больше никогда не родит, а если родит, то это будут Сиамские близнецы, на что указывает родившийся у нее Сиамский котенок. Конечно, большинство горожан посчитало это «уткой», специально запущенной для умножения тиража газеты. Но факт оставался фактом – уже несколько «лунных месяцев» Сучку исправно посещали «эти дни», и когда, наконец, случилась долгожданная задержка, многие сочли это следствием климакса. Но вскоре беременность стала очевидна, и по странному совпадению шестьдесят шестого ребенка Сучка родила в год своего шестидесятишестилетия.
Какая-то благодарная женщина, зачавшая ребенка с помощью ладанки, сделанной из кусочка простыни, пропитанной кровью и родовыми водами Сучки, узнав о благой вести, заказала благодарственный фейерверк и была оштрафована за нарушение общественного порядка в ночное время. Сенсационная информация о рождении шестидесятишестилетней женщиной шестьдесят шестого ребенка попала на главные каналы телевидения, где приглашенные авторитеты науки, медицины, культуры и представители различных конфессий развернули жаркую дискуссию, порой доходившую до оскорблений и рукоприкладства, о принципиальной возможности или невозможности такого феномена. Были подняты документы сорокалетней давности, в которых некий Ученый, ставший впоследствии отцом одной из дочерей Сучки и окончивший свои дни в психушке, утверждал, что она не обычная женщина, а биологический детородный объект, засланный на землю с заданием родить как можно больше мутантов с набором хромосом, совместимым с хромосомами инопланетян. Как ни абсурдно было это предположение, сторонники такой гипотезы нашлись среди «нумерологов» и приверженцев секты Сатанистов. Возраст роженицы и количество рожденных ею детей составили комбинацию из четырех шестерок, что явно указывало на скорое пришествие «Эры Антихриста». Тот факт, что «число дьявола – 666», а не «6666», их не смутил: шестьдесят шестым ребенком стал не мальчик, а девочка, чем и объясняется лишняя шестерка.
Правда, ни в одном из древних манускриптов не упоминается возможность наступления «Эры Дьяволицы». Но, имея в виду, что среди некоторой части мужчин наметилась мода к смене пола, – с точки зрения современных представлений о свободе личности, каждый человек волен распоряжаться своими половыми органами, как ему вздумается, – это нарушило естественное соотношение количества женщин и мужчин в природе. Человечество заметно феминизировалось, что может служить объяснением появлению лишней шестерки в «числе Дьявола», знаком скорого наступления «Эры Дьяволицы» и, как следствие, грядущего «Конца Света», однажды случившегося в Библейские времена в городе Содом. Неожиданное подтверждение скорого наступления Конца Света пришло от астронома-любителя, сообщившего о ранее неизвестной комете, на невероятной скорости приближающейся к Земле. Ему удалось вычислить орбиту кометы и найти соответствие ее массы с массой накопленных человечеством грехов. По его расчетам выходило, что орбиты кометы и Земли катастрофически пересекутся в тот момент, когда масса накопленных грехов совпадет с массой кометы. Катастрофу можно оттянуть или даже избежать, уверял он, если законодательно принять срочные меры к искоренению грехов. Астроном предложил список наиболее тяжких грехов, который составил на основе Законов Святой Инквизиции.
Напуганные быстрым распространением секс-идей «меньшинств» и их пышными парадами, расцвеченными всеми цветами радуги, «натуралы» горячо подержали идею Астронома о введении Суда Инквизиции, и со своей стороны вышли с предложение о замене «Высшей меры» – «пожизненного» заключения – на очистительный огонь «аутодафе». Предлагая это, «натуралы» ссылались на опыт Содома и Гоморры, одним ударом уничтоженных Высшей Силой. «Натуралы» были уверены, что они, как потомки праведника Лота, будут спасены, забыв при этом, что их род берет начало от содомского греха, инцеста: дочери Лота, оставшись без мужчин, напоили отца и принудили его к соитию, что и дало начало новой ветви рода человеческого.
В споры, разгоревшиеся вокруг Сучки, включились и главные каналы телевидения. Ведущая популярного телешоу «Мы и Это», в котором зрители делились самыми интимными подробностями процесса соития с целью достижения максимально эффективного оргазма, пригласила в студию Сучку с детьми и предложила в прямом эфире провести экспресс-анализ ДНК, чтоб достоверно подтвердить или опровергнуть генетическую связь Сучки с ее многочисленными детьми.
Несмотря на большие деньги, обещанные телеведущей, известной на всю страну по имени Царица – так с латыни переводится ее паспортное имя – Регина, Грязная Сучка и ее дети от участия в телешоу наотрез отказались. Им не надо было погружаться в глубины генетических исследований, чтоб подтвердить родственную связь. Отказ Сучки не смутил Царицу. Амбициозная по характеру, она привыкла добиваться своей цели. Ей нужна была мировая сенсация. Ради этого она задумала в прямом эфире показать рождение шестьдесят седьмого ребенка у шестидесятисемилетней матери – Сучка уже носила его под сердцем, и Царица знала об этом. Установив в Бараке под видом ремонта скрытые камеры, она записывала все, что происходило в доме накануне родов. И когда из подслушанных разговоров выяснилось, что помимо Сучки на сносях была и кошка Сима, и они договорились родить в один день, – это была неслыханная удача. Царица представила, как на телеэкране в онлайн режиме будут выглядеть роды шестьдесят седьмого ребенка Грязной Сучки и шести котят Сиамской кошки – цифру «шесть» Сучка прошептала Симе на ухо, выщупав тяжелый живот кошки.
Царица договорилась, что роды будут показаны в режиме экстренного включения. Скандал ее не смущал. Наоборот, она его планировала, как это делают стареющие поп-звезды, выплескивая с экранов телевизора помои личной жизни единственно с целью напомнить обывателям о своих «фанерных» голосах. Истерички из «Общества защиты нравственности» обещали за деньги устроить Царице вселенский скандал и потребовать от властей закрытия передачи «Мы и Это», что, конечно, совершенно невозможно из-за огромных денег, которые «рекламодатели» платят за секунды участия в скандальных передачах для рекламы памперсов, прокладок, препаратов, повышающих потенцию и снижающих артериальное давление. Личный рейтинг Царицы мог достичь немыслимых высот. Ей уже виделись престижные премии, огромные гонорары и еще Бог знает какие блага, при мысли о которых захватывало дух. В день, когда по расчетам Сучки должны были случиться роды, Царица и вся ее группа наблюдали за приготовлениями: обе роженицы – Сучка и кошка Сима – лежат в одной постели. Старшая дочка Сучки, – из тех детей, которые еще жили при матери, – готовясь принять роды, разложила на столе выбеленный холст, протертые водкой ножницы для перерезания пуповины, а когда стала наполнять фаянсовый кувшин теплой водой для обмыва младенца, случилась катастрофа. Все расставленные в Бараке телекамеры отключились, и экраны мониторов в студии почернели. С Царицей случилась истерика, она орала на техников, требовала немедленно включить камеры, но все попытки техников устранить неисправность были тщетны. Когда камеры сами собой включились и мониторы засветились картинкой, было поздно. Спеленатый выбеленными холстами ребенок лежал на груди счастливой роженицы, а рядом с ней Сима вылизывала слепых котят. В этой исключительно мирной картинке не было ничего необычного, и ради такой «сенсации» каналы не стали «экстренными включениями» прерывать передачи, как это было договорено.
Причину неожиданного отключения установить не удалось. Более того, исчезли и все ранее сделанные в доме Сучки записи, на которых отчетливо было видно, как перед самыми родами лицо Сучки вдруг помолодело, она стала похожа на двенадцатилетнюю девочку и, глядя прямо в камеру, подмигнула Царице. Эта картинка исчезла не только из записи, она исчезла из памяти всех, кто находился в студии, всех, кроме Царицы: помолодевшее лицо Сучки, улыбка и подмигивающий глаз, навсегда застрявшие в мозгах Царицы, привели ее с тяжелым безумием в психушку. Она бесконечно повторяла одну и ту же фразу: «Это все она, Грязная Сучка, Грязная Сучка…». Беззвучно шевеля губами, Царица повторяла эту фразу даже во сне. Вывести ее из этого состояние не смогли ни экстрасенсы, ни сильно действующие препараты, ни инсулиновая кома, ни даже электрошок. Врачи психушки поняли: облегчить ее страдания можно только крайним средством – лоботомией. Метод крайне болезненный, но единственно эффективный: больному вскрывают череп, рассекают нервные связи между левым и правым полушариями мозга, после чего человек перестает существовать как «личность», и даже крайне агрессивные психопаты превращаются в тихих, лишенных эмоций слюнявых идиотов. С Царицей этого не произошло. Она не только сохранна «личность», но их, «личностей», в ней стало две. И эти две «личности» стали одновременно жить в Царице каждый своей отдельной жизнью.
Такое состояние больной врачи пытались объяснить раздвоением «Я» личности, но вскоре поняли, что имеют дело с совершенно уникальным случаем полного разделения личности на два отдельных личностных «Я», одновременно существующих в одном физическом теле. Врачи дали им свои имена: личность «Я-1» и личность «Я-2». Обнаружились и индивидуальные особенности: личность «Я-1» пользовалась возможностями правого полушария мозга; в беседах с врачами вполне адекватно оценивала собственное состояние и реальные события, происходившие справа от нее. Личность «Я-2» жила левой половиной мозга, где неизгладимо зафиксировалась причина безумия Царицы – помолодевшее перед родами лицо Грязной Сучки, ее улыбка и подмигивающий глаз.
Одновременность существования была очевидна. К примеру, «Я-1», пользуясь правым полушарием мозга, могло беседовать с врачами о проблемах постмодернизма в живописи начала ХХ века; в то же время мимика лица и моторика жестов отражали бесконечный конфликт «Я-2» с Грязной Сучкой. Временами «Я-1» и «Я-2» менялись местами: «Я-2» билось в истерике, ругая последними словами Грязную Сучку, а в это время «Я-1» выходило на лицо с брезгливо-ироничной улыбкой. Так продолжалось до тех пор, пока кошка Сима из тревожных видений левого полушария не обрела реальность. Это случилось тихим летним утром. Сима с Котенком в зубах пробралась в сад психушки, нашла вздремнувшую на скамейке Царицу, положила ей на колени Котенка и, не дожидаясь вознаграждения, скрылась в кустах.
Проснулась Регина от острого ощущения боли и нежности – два чувства, с которыми в раннем детстве к ней пришло первое осознание себя: боль от обожженных о раскаленную печь ладоней, и нежность материнских объятий и слов, в которых было столько страха и боли за ребенка, что слезы ее собственной детской боли сразу высохли. Едва повзрослев, Регина поняла, что ее боль мало интересует окружающих, а нежность принимают за слабость и стараются побольней ударить. С этими глубоко спрятанными чувствами она прожила всю жизнь, сделала карьеру, стала тем, кем стала и, как истинная царица, научилась управлять людьми, не видя людей.
Котенка Регина узнала сразу – он жил вместе с Грязной Сучкой и мамой Симой в пространстве «Я-1» левой половины мозга, но от него не исходило никакой тревоги. Он погрузил ее в давно забытое состояние покоя, когда все мысли уходят из тебя, а плоть, не связанная чувствами, распадается на мельчайшие частички и сливается с окружающим миром. Регина сильней прижала Котенка к груди и больше ни на минуту не расставалась с ним. Врачам она объяснила, что Котенок пришел к ней из левого полушария, где он прежде жил с Грязной Сучкой и своей матерью, сиамской кошкой Симой. Врачи, как это часто практикуют с психбольными, не стали разубеждать Царицу. Несмотря на очевидный абсурд ее мыслей, чтоб не потерять доверие, делали вид, что верят каждому ее слову, тем более, что больная с появлением Котенка стала заметно спокойней. Более того, наметились признаки сближения «Я-1» и «Я-2». Временами настолько явные, что казалось – болезнь ушла, «личность» восстановила свое изначальное «Я», что совершенно невозможно, если не предположить невероятное: между рассеченными скальпелем полушариями восстановилась нервная связь.
Конечно, этого не произошло и не могло произойти: томографическое обследование подтвердило – связь между полушариями полностью разрушена, но чем объяснить неожиданные знаки ремиссии? По уверениям Царицы, облегчение принес Котенок. Он одновременно и одинаково ласково вылизывал шершавым языком «Я-1» и «Я-2», сразу обоим позволял чесать себя за ушком и совершенно одинаково обоим мурлыкал. Градус нервного конфликта между двумя «Я» снизился, но возникла некоторая ревность: «Я-2» считал, что имеет на Котенка больше прав, поскольку тот пришел из пространства его половины мозга. В свою очередь, «Я-1», воспринимавший мир правой половиной мозга, считал Котенка частью физической реальности, к которой «Я-1» относил и себя. В какой-то момент оба «Я» поняли, что в этой ситуации лучше всего «жить втроем», как это часто случается с людьми, и не мешать друг другу проявлять любовь к Котенку. Днем, в реальной жизни, Котенком занимался «Я-1», а ложась спать Регина клала котенка на лоб, и он по дорожке сна перебирался к «Я-2» в пространство левой половины мозга.
После долгих обсуждений консилиум врачей пришел к выводу, что при всей абсурдности фантазий Царицы, она не опасна для общества и может быть отпущена из клиники.
Встречать Царицу у ворот психушки собралась целая толпа репортеров желтых газет, папарацци и завистников-коллег с телевидения, желавших лицемерно повздыхать и пословоблудить сплетнями, глядя на слюнявую идиотку, какой надеялись увидеть ее после лоботомии. Среди них был и бывший муж Регины, отец умершего во младенчестве ее единственного ребенка. В отсутствии других родственников, он оформил на себя опекунство и намеревался отвезти Регину домой, где в ожидании возможных безумств приготовил комнату с железной дверью, решетками на окнах и матрасами на полу. Человеком он был добрым и, как это часто встречается среди добрых людей, никчемным. О нем ходил слух, якобы, знакомясь с имярек, он представился: «Муж Регины». А на вопрос, чем занимается днем, пошутил: «Ношу рога». Надо сказать, что рога у него были, и весьма ветвистые. Носил он их с легкостью и даже с некоторой гордостью. Как герой одного старого анекдота, узнавший о любовных похождениях красавицы-жены, сказал: «Лучше есть торт в хорошей компании, чем каждый день жевать дерьмо в одиночку». Да, в компании, с которой муж Царицы ел «свой кусочек торта», были весьма именитые люди, и стать новым «отростком на рогах» считалось очень престижным, при этом деньги были совсем не главным.
Главным было ШОУ. Ради него Царица не скрывала свои романы, наоборот, делала их предметом обсуждений и осуждений. Она считала, что своим примером раскрепощает в неуверенных людях энергию любви, спасает их от стрессов и комплексов сексуальной несостоятельности. Делала она это так успешно, что в какой-то момент «раскрепостился» и ее муж, удивив всех скандальным разводом и женитьбой на очень некрасивой женщине, которую поколачивал и третировал ревностью, вспомнив о капле кавказской крови, доставшейся ему от прабабушки.
Передача «Мы и Это» была хорошо рассчитанной провокацией и пользовалась большим успехом, но однажды, Царица нарушила все возможные границы, пригласив на передачу «Мы и Это» Настоятельницу женского монастыря. Анонс передачи стал причиной сенсационного скандала, иерархи церкви обещали предать анафеме Регину, если она сумеет дьявольскими уловками смутить целомудрие Настоятельницы и заманить ее в студию. Какая-то букмекерская контора стала принимать ставки «один к десяти» на «придет – не придет». Настоятельница никак не реагировала на шумиху, возникшую вокруг приглашения на телешоу, что подливало масло в огонь сенсации. Многие считали, что все это продуманный маркетинговый ход телевизионных менеджеров с целью повысить стоимость минуты рекламного времени, и были неправы. Царица действительно пригласила Настоятельницу на передачу, и та ответила одним словом: «Буду». Короткий и неожиданно быстрый ответ насторожил Царицу. Она была уверенна, что Настоятельница откажется, и подстраховалась, пригласив на передачу молодую женщину, сбежавшую из монастыря перед самым постригом из-за домогательств старой монашки, желавшей делать с ней «Это». В последний момент журналистское чутье подсказало – Настоятельница придет. Через подставных лиц Царица поставила на «придет» большую сумму денег, и выиграла. Настоятельница пришла на передачу в полном облачении, с посохом в руках, и заняла место в кресле почетных гостей. Зрители в студии замерли. Стало так тихо, как бывает морозными крещенскими ночами, когда звезды опускаются на крыши домов и повисают на ветвях деревьев. Регине стоило большого труда улыбнуться и попросить зрителей аплодисментами поприветствовать Настоятельницу. В студии раздался один неуверенный хлопок, и стало еще тише. Казалось, еще секунда, и передача будет сорвана. Собрав все силы, Регина обратилась к Настоятельнице с просьбой благословить передачу. Настоятельница подошла к Регине, коснулась указательным пальцем ее груди, сказала: «Благословляю тебя на постриг монашеский», – и вышла из студии.
К такому «благословению» Регина не была готова. Первый раз за годы работы ведущей она растерялась. Надо было что-то говорить, неважно – что, плакать, смеяться или кричать, только не молчать; надо было нарушить напряженную тишину студии, снять «эффект Настоятельницы», перевести внимание миллионов зрителей на себя. Но как? Она знала – сейчас режиссер держит ее лицо на экране крупным планом и, глядя в объектив камеры, она спросила у миллионов зрителей: «Вы верите, – сделала недвусмысленную паузу, – что меня, Царицу «Этого», – распушила десятью пальцами длинные, красиво подвитые волосы, – постригут в монашки?». В зале послышались смешки, потом аплодисменты и хохот. Передача была спасена, но точка на груди, куда Настоятельница приложила палец, горела так, что Царица, с трудом дождавшись конца передачи, сорвала с себя платье и до боли расчесала красное пятно, навсегда оставшееся меткой на ее теле. Попытки свести его мазями, настоем чудодейственного корня мандрагоры и энергетикой экстрасенсов не дали результата. Пятно жило своей жизнью. Временами оно бледнело, становилось почти невидимым, но неизменно возвращалось, когда жизненные обстоятельства требовали нелегких решений. Все проведенное в психушке время пятно не тревожило ее, но стоило врачам объявить, что лечение успешно завершено и заботу о ней берет на себя опекун – ее бывший муж, – пятно покраснело и стало невыносимо чесаться. Это был знак, и Царица его поняла.
В день выписки из психушки, миновав кордоны журналистской братии и фанатов «Этого», с Котенком в руках она перелезла через ограду, ушла в город, и никем не замеченная добралась до Барака Грязной Сучки. Барак и парк вокруг, насаженный Сучкой и ее многочисленными детьми, приобрел через посредников кто-то из «новых». Ходили слухи, что на месте Барака будет построен большой торговый комплекс с гостиницами, казино и борделями, замаскированными под массажные кабинеты с массажистками из экзотических стран. Городу с почти миллионным населением остро не хватало такого комплекса, но неизвестный приобретатель не спешил затевать большую стройку, и Грязная Сучка с детьми, кошкой Симой и котятами остались единственными обитателями Барака. Иногда в пустых комнатах поселялись Бомжи: Сучка относилась к этому спокойно, даже подкармливала, но непривыкшие к доброму отношению Бомжи принимали это как оскорбление, пьяно буянили в тайной надежде, что Сучке это надоест и она прогонит их. Но Сучка прощала Бомжам все, даже поджог Барака, единственной жертвой которого стал сам поджигатель. После этого случая Бомжи обходили Барак стороной, и, напившись, ругали Сучку, называли ее ведьмой и уверяли, что поджог устроила она сама, чтоб выгнать бездомных на улицу.
Регину Барак встретил пустотой комнат и тишиной, в которой выстрелами звучали хлопающие на сквозняке двери. По коридору беззвучно ползали еще слепые новорожденные котята. В этот утренний час никого из обитателей Барака не было: старшие дети были в школе, а младшие гуляли с матерью в парке. В поисках комнаты Сучки Регина поочередно открывала двери нежилых комнат, замусоренных покалеченными вещами прежних жителей и неистребимым запахом коммуналок, в которых полнолунными ночами бродят тени прошлых обитателей в поисках случившихся здесь счастливых минут, которых, может, никогда и не было, но кажется, что в прошлом счастье было, и его надо найти.
Комнату Сучки Регина нашла в торце длинного коридора. Она узнала ее с первого взгляда: три окна – в левое, восточное, солнце входило утром; в центральное, южное – днем, а вечером закатные лучи «простреливали» комнату насквозь. Вещи в комнате были расставлены точно так, как в комнате, хранившейся в левом полушарии мозга Регины. Единственной «лишней» вещью была свежая газета с фотографией старой женщины с оплывшей от счастья слюнявой улыбкой идиотки, а под ней статья, в которой досужий писака сообщал, что после нескольких лет лечения и операции по рассечению мозга буйнопомешанная Царица, бывшая звезда телеэкрана, превратилась в «овощ», и теперь будет вести телепередачу «Овощи и Это». На фотографии была не Царица, а совсем другая женщина, и в глубинах правого полушарии остро кольнуло: «Это не я… сволочи… подам в суд…». Мысль пришла из прошлой жизни и, прожив меньше секунды, ушла, не оставив в памяти следа. Регина села на стул в середине комнаты, подставила лицо лучам солнца из западного окна, закрыла глаза и почувствовала, как на нее накатывают волны тревоги; тревоги неосознанного предчувствия события, которого желаешь и страшишься одновременно. Она пыталась понять, откуда именно исходит тревога, и вдруг поняла, что она гнездится в пространстве меду двумя «Я», и пространство это стремительно сокращается. Реальная комната, которую она видела правой половины мозга, стала совмещаться с картинкой комнаты, запечатленной в левой его половине. Тревога по мере совмещения нарастала, а когда реальная картина комнаты полностью совпала с воображаемой комнатой из левой половины, «Я-1» и «Я-2» слились в единое «Я», и Регина потеряла сознание. Она пришла в себя от жарких лучей солнца, бивших ей в лицо из южного окна. В одно мгновение она вспомнила всю себя: боль детского ожога и счастье материнской ласки; хаос девичьих мыслей и психопатию раннего сексуального самосознания, рождавшую в девочке мысли о суициде; первый мужчина – она знала, что имя ее означает «Царица», и подбирала мужчину, способного по-царски открыть в ней женщину, и с которым не противно будет прожить долгую женскую жизнь. Вспомнила умершего ребенка, которого не любила вспоминать; вспомнила всех мужчин и сколько их было, хотя никогда не считала; вспомнила свое телешоу «Мы и Это» и подмигивающее лицо Грязной Сучки; до бесконечности растянутый миг сумасшествия; вспомнила психушку и скрип скальпеля, рассекавшего мозг на две половины; вспомнила «Я-1» и «Я-2» и кошку Симу, подарившую ей котенка. Потом появилось лицо Грязной Сучки, оно вышло из сна и без всякой границы перешло в реальность солнечного дня как продолжение какого-то давнего разговора или спора, который сейчас, в данную минуту, должен был разрешиться.
Мысли эти прервал приход Грязной Сучки. Регина путаными словами начала было объяснять, почему она здесь, но Сучка остановила ее, сказав, что ближе к полуночи она должна разрешиться от бремени семьдесят шестым ребенком, девочкой, и попросила Регину принять младенца. Такого опыта у Регины не было, но она согласилась, вспомнила, что в одной из программ «Мы и Это» молодая женщина под телевизионными камерами делилась с миллионами зрителей опытом родовых потуг и объясняла, что надо делать, если ребенок идет ножками. Имя – Регина, Сучка дала будущему ребенку сразу после зачатия. В том, что родится девочка, она не сомневалась, и имя это выбрала, зная, что имена часто влияют на судьбу ребенка. Она надеялась, что полученная с генами частица благородной крови породнит, а, может, и выведет дочку на один из существующих или восстановленных царских престолов, тем более, что множество «новых», купивших титулы за деньги, полагали, что большие деньги, добытые войнами и разбоям – таких примеров в истории миллион – часто давали начало именитым царским родам. Эти амбиции появились у Сучки совсем недавно и, с учетом ее возраста, вполне могли означать начало склеротических процессов, но во всем остальном она была крепка памятью.
Роды случились с обычной легкостью. Ровно в полночь, на последнем ударе курантов на башне городской администрации – часы были трофейными и прежде украшали собор проигравшей в войне страны – девочка, аккуратно прижав ручки к голове, начала выныривать из тайны вод материнского лона в океан человеческой жизни, под звезды, определившие ее судьбу задолго до зачатия. Закусив до крови губы, Сучка молча напряглась и осторожно, чтоб не навредить ребенку, стала выдавливать его из себя. В этот момент Регине стало казаться, что рожает вовсе не Сучка, а она, Регина, рожает своего второго ребенка, вышедшего из нее задолго до срока и нарушившего что-то у нее внутри, после чего она уже никогда не могла зачать. И Регина стала кричать болью своего не рожденного ребенка, и крик ее вошел болью в уши девочки, которая еще только шла в этот мир, где можно праведно жить, только если умеешь чувствовать боль других. Регина перестала кричать, когда роды случились, и ребенок, набрав в легкие воздух будущей жизни, вытолкнул его из себя криком, полетевшим к звездам за благословлением.
Едва Регина обрезала пуповину, Сучка взяла младенца на руки, обнюхала, глубоко и навсегда втянула в себя его первые запахи и вылизала горячим языком глаза девочки, открыв их для любви, для счастья, для болезней, для пороков, для буйства и смирения, с которыми изжившая себя жизнь покидает тело.
Крик Регины и первый крик младенца долетели до стен монастыря, до кельи, где давно и тяжело болела ослепшая Настоятельница. Глаза ее переместились в пальцы и ладони, способные не только различать предметы, но «видеть», что скрыто под их поверхностью. Для «новых глаз» тела людей стали прозрачными, «видимым» стало их прошлое и будущее, грядущие радости и страдания, и последний день жизни – Настоятельница старалась не открывать их людям, а сохраняла в себе, от чего болезни ее только множились.
Только что родившегося младенца Грязной Сучки Настоятельница мысленно благословила и велела послушнице привести к ней Регину, как только она доберется до ворот монастыря. Регина ушла от Грязной Сучки, не дожидаясь рассвета. Прощание было коротким – обе знали, что больше никогда не встретятся, и знание это позволяло не засорять пустыми словами тишину образовавшейся между ними вечности. К монастырю Регина подошла на рассвете, перед ранней заутреней. Настоятельница, не сказав ни слова, повела в церковь, поставила рядом с собой на колени, и Регина, никогда не знавшая ни одной молитвы, стала молиться своими словами, легко уходившими из нее в утренний космос, еще не замусоренный пустыми просьбами суетных людей.
Постриг Регина приняла раньше истечения срока послушничества – так захотела Настоятельница. Облаченная в белую рубаху, в сопровождении монахинь она на коленях приползла к алтарю, трижды подняла брошенные на пол ножницы для пострига и трижды подала их священнику в знак твердости своего решения. Большой нательный крест, черная ряса, черный плат и клобук на голове завершили, ставший городской сенсацией, ритуал пострига Регины. Кто-то из бывших коллег сумел тайно снять и показать в «Новостях» весь процесс «обращения» Царицы телеэфира в монашку Феодосию. Тут же нашлись насмешники, пустившие слух, что «постриг» и превращение Регины в сестру Феодосию – не более как притворство, имеющее целью снять передачу «Они и Это» непосредственно в кельях и с участием целомудренных монашек. Сенсации хватило на пару смешков и, покинувшую мирскую жизнь Регину-Царицу-Феодосию, навсегда забыли все, кроме Грязной Сучки.
Сразу после ухода Регины в монастырь Сучка – ей еще предстояло родить 12 детей и прожить 26 лет – написала завещание, в котором просила настоятельницу Феодосию отпеть ее после кончины в монастырской церкви. В том, что Феодосия станет восприемницей нынешней Настоятельницы, Сучка не сомневалась. Умирая, Настоятельница посвятила Феодосию в тайны «видения» прошлого и будущего людей, отдала ей свои слепые глаза и вместе с ними все, что увидела ими за долгую жизнь. В слепых глазах Настоятельницы Феодосия нашла и себя в психушке. Увидела, как врачи вскрыли ее черепную коробку, увидела, как скальпель почти без крови рассек связь между левым и правым полушариями, и момент рождения «Я-1» и «Я-2». Среди множества иных лиц и событий Феодосия увидела Грязную Сучку и ее последнего ребенка, единственного, рожденного по любви. Этого ребенка Сучка зачала от мужчины, который много лет назад, прежде чем войти в нее, целую неделю шептал ей в уши слова любви, и только потом, когда она наполнилась ими так, что ей стало трудно дышать, он одарил ее миллионом возможных детей. Одного из них Сучка сумела сохранить в себе на будущее, и через много лет зачала им последнего, 88 ребенка со словами любви, оставшимися в ее ушах на всю жизнь. Последнего ребенка Сучки в народе назвали Волчонком – по слухам, она кормила его молоком из бронзовых сосков установленной в парке скульптуры «Капитолийской волчицы».
В завещании Сучка просила Феодосию не только отпеть ее, но и помочь собрать на похороны разбросанных по свету детей. Большую часть она сама могла найти по запаху и предупредить о скорой кончине – все должно было произойти в день шестнадцатилетия Волчонка, но некоторые дети оказались за «краем света», откуда не доходили запахи, и найти их могла только Феодосия. Для мысленного взора ее «слепых глаз» не существовало недоступных мест ни на земле, ни за ее пределами.
В последние годы жизни Сучки, после рождения Волчонка, ее стали забывать. Невероятная способность деторождения давно перестала быть сенсацией. Многочисленные исследователи, не найдя общего понимания природы этого феномена, предпочли предать Сучку забвению – как не было; а если кто из молодых заново поднимал тему, иронически улыбались и предлагали проверить возможности «феномена» в ее постели. Даже навсегда бездетные женщины перестали приходить к Сучке за советом и покупать у знахарей амулеты, освященные ее детородными соками. Новые времена принесли моду на «женщин-инкубаторов», готовых за деньги «высиживать» потомство не только бездетным, но и вполне здоровым женщинам, не желавшим отвлекаться от светской жизни и утомлять себя вынашиванием детей и болезненными родами. Одна такая «инкубаторша» пыталась зарегистрировать бренд «Грязная Сучка», утверждая, что она одна из дочерей Грязной Сучки, и детям, выращенным в ее матке, гарантированы плодовитость, здоровье и долгожительство.
В день кончины Сучки все случилось так, как она того хотела. Ее запах, в котором отчетливо слышались нотки скорой смерти, обошел на семи ветрах земной шар, и вместе с «внутренним взором» Феодосии собрал в родном Бараке все ее многочисленное потомство: детей, внуков, правнуков и праправнуков. Встреча получилась радостной. Многие дети не были знакомы, но легко узнавали друг друга по материнскому запаху и висящим на шее амулетам-кирпичикам в маленьких вязаных мешочках. Сучка была счастлива – ни один из ее детей, внуков и правнуков не погиб от болезней, несчастных случаев, никто не погиб на войне, и, что самое главное, никто из них ни у кого не отнял жизнь, даже в зародыше. Но больше всего Сучка обрадовалась, узнав, что одна из ее правнучек ждет ребенка, ее праправнучку, и готова родить его в любую минуту. На утреннюю прогулку последнего дня жизни Сучку сопровождала огромная толпа близких. Вместе с ними она обходила деревья, о чем-то шепталась с цветами на клумбах, держала за руку беременную правнучку и ругалась с кошкой Симой, потащившей на прогулку еще слепых котят – их могли не заметить и задавить. Со стороны казалось, что Сучке еще жить да жить, но сердце ее уже не работало. Оно остановилось накануне вечером, когда все 88 ее детей собрались в родном Бараке. Последние часы и минуты жизни Сучки отмеряло не сердце, а заменившие его песочные часы. Дети слышали шорох падающих песчинок, понимали, что это значит, но вида не подавали, – последние часы с матерью они хотели провести в радости, а слезы печали сами упадут вместе с последней песчинкой из песочных часов. Но прежде чем это случилось, Сучке была дарована оследняя радость – принять роды у своей правнучки. Случилось это в самом конце прогулки. Они уже подошли к Бараку, когда ребенок – это была девочка – выпала из своей матери и испачкалась землей, как некогда выпала и испачкалась сама Сучка. Роженицу и ребенка, чуть не порвав пуповину, бегом понесли в Барак, где Сучка ножницами перерезала пуповину, со смехом назвала новорожденную Маленькой Грязной Сучкой, вылизала ей глаза, последним вдохом взяла в себя ее запах и выдохнула его из себя вместе с собственной смертью.
О кончине Грязной Сучки настоятельница Феодосия узнала во время вечерней службы. Она успела услышать последние удары ее сердца, увидела, как на месте сердца появились песочные часы, и по количеству песчинок в колбе поняла – до следующей вечерней службы Сучка не доживет. Всю ночь и весь следующий день Феодосия, не вставая с колен, молилась под шорох времени, вытекавшего из песочных часов, а когда упала последняя песчинка, зажгла поминальную свечу и пошла в Барак исполнить волю усопшей.
Обмытая и обряженная в простое белое платье, Грязная Сучка лежала на той самой кровати, на которой ее, двенадцатилетнюю девчушку, изнасиловал Опекун; на которой родила всех своих детей; на которой прошла вся ее жизнь; куда приходили все ее мужчины; куда во сне приходили все ее дети и рассказывали про свою жизнь, о которой она почти ничего не знала. Ночами сюда приходили ее мечты, в которых было столько покоя, что они больше походили на смерть, которая казалась совсем не страшной и даже желанной. Теперь приходившее во снах желание Сучки умереть, исполнилось, и она лежала счастливая в окружении всех рожденных ею детей, счастливая от того, что ей не пришлось хоронить никого из своих детей, счастливая от исходивших от близких чувств скорби и такой сильной любви, что душа, которая давно должна была покинуть тело, никак не могла из него уйти и сделать Сучку по-настоящему мертвой, что сразу заметила Феодосия, но продолжала отпевать Сучку, силой молитвы открывая ей дорогу в иной мир. И когда это случилось, Сучка раздвоилась. Ее мертвое тело осталась лежать на кровати, а невесомая Сущность, легко освободившись от плоти, взлетела и увидела себя на вершине живой пирамиды, составленной из двух тысяч семисот тридцати шести детей, внуков и правнуков своего потомства. Сучка увидела, как к ней по этой пирамиде поднялся седовласый старик, в котором она легко узнала своего первенца – Выблядка. Он легко взял ее невесомую Сущность на руки и запустил в небо, как в детстве запускал бумажных птичек.
Полет Сучки был легким и радостным. Рядом летела ее душа. Сучка протянула руки, чтоб взять ее в ладони, вернуть на минутку в себя и в последний раз ощутить свое земное тело, но, увидев, что душа устала от земной жизни, устала быть закрытой, устала не впускать в себя никого, чтоб не погибнуть раньше назначенного срока, Сучка отпустила ее, и душа улетела в Туманность Душ, где смогла скинуть с себя грубую оболочку земной жизни и, не опасаясь ничего, открыть себя себе подобным.
Сучку похоронили на лужайке посаженного ею парка. Гроб без речей опустили в могилу. По христианскому обычаю все, пришедшие проводить Сучку в последний путь, бросили в могилу по три горсти земли, от чего над могилой вырос высокий холм, на котором посадили восемьдесят восемь деревьев. Как и все деревья, посаженные Сучкой в парке, деревья над ее могилой росли необычайно быстро. Их корни плотно обвили гроб, проникли в него и понесли по своим сосудам вместе с соками земли рассыпавшийся на миллионы клеточек прах Грязной Сучки, от корней к листьям, откуда под лучами солнца клетки испарились, и подхваченные солнечным ветром унеслись за край Вселенной давать жизнь новым планетам.
Эпилог
История Барака повышенной комфортности завершилась вскоре после смерти Грязной Сучки – его разобрали. Одновременно с Бараком разобрали еще десяток жилых и хозяйственных построек, сложенных кирпичами из разграбленного и сожженного Дворца Мецената. Все кирпичи, помеченные клеймом с гербом и фамилией Мецената, свезли на место бывшей усадьбы, чтоб восстановить по сохранившимся чертежам Дворец в его первозданном виде. Удалось разыскать и реставрировать почти всю мебель, картины и скульптуры. Среди них была маленькая бронзовая копия «Капитолийской волчицы» с девятью сосками и одним волчонком. Специально нанятые люди нашли и много другой разворованной в свое время утвари, сохранившейся в домах, музеях, запасниках, в частных коллекциях и в лавках антикваров. Но, что самое удивительное, нашлись, без единой трещинки, все двести сорок предметов большого парадного сервиза, сработанного в Екатерининскую эпоху крепостными фарфоровых дел мастерами.
Перед началом восстановительных работ все кирпичи трижды пересчитали и выяснили, что из 1 786 543 кирпичей – по сохранившимся архивным записям было известно, что ровно столько ушло на строительство Дворца – двух кирпичей не хватает. С одним кирпичом было все ясно – расколотый на 88 маленьких кирпичиков, он висел оберегами на шеях детей Сучки, был знаком принадлежности к роду Мецената, и по общей договоренности должен был передаваться по наследству старшему ребенку в семье, с обязательным требованием делать все, чтоб нового разграбления Дворца не произошло. О втором кирпиче не было никаких сведений. Архитекторов это никак не беспокоило – один потерянный кирпич не может исказить облик восстановленного Дворца. Но его будущий хозяин, первенец Грязной Сучки по кличке Выблядок, заказавший скульптуру «Капитолийской волчицы» с девятью сосками, выкупивший Барак повышенной комфортности, парк, насаженный Грязной Сучкой, разыскавший и вернувший разграбленному Дворцу все принадлежавшие ему вещи, отказался начинать строительные работы, пока не будет найден последний кирпич, помеченный клеймом с фамильным гербом.
Выблядок поместил объявление о пропавшем кирпиче с подробным его описанием в газетах и Интернете с обещанием солидного вознаграждения любому, кто его найдет. Одна оппозиционная телекомпания посвятила поискам кирпича целую передачу – «Причуды новых». Естественно, вскоре кирпич принесли, и не один. За неделю скопилось столько фальшивых кирпичей, что строители предложили Выблядку построить из них конюшню, но он отказался: ложь и обман, замешанные в глину и навсегда закрепленные обжигом, как всякий обман могли нарушить здоровье и лошадей и всех, кто с этим обманом соприкоснется. Выблядок лично проверял каждый кирпич на соответствие: фальшивые пахли фальшью, а потерянный кирпич должен был нести фамильный запах, и он, Выблядок, первый внук партийного Инструктора, прямой наследник Мецената, сам ставший богатым меценатом, построивший заново Дворец, получил этот запах по наследству от своей матери, Грязной Сучки, зачатой пьяным Инструктором в подсобке столовой. Фальшивые кирпичи Выблядок приказал истолочь, сбросить их в ствол заброшенной шахты и залить раствором цемента, чтоб ни одна зараженная ложью пылинка, унесенная случайным ветром, не навредила людям. Архитектор уверял, что один потерянный кирпич никак не нарушит изначального равновесия конструкции Дворца, но Выблядок восстанавливал не просто дом предков, он восстанавливал истинную справедливость и хотел сделать это так, чтоб никто и никогда не мог сказать, что в восстановленной справедливости не хватает хоть и одного, но подлинного кирпича. Проблема потерянного кирпича была решена на семейном совете: договорились оставить в стене у парадного входа нишу объемом в один кирпич и заложить ее, когда кирпич найдется. Дворец возвели очень быстро. Восстановили его внутреннее убранство, парк с прудами и экзотическими рыбами. На открытие было приглашено множество гостей, и в тот момент, когда Выблядок готов был перерезать красную ленточку, натянутую между створками кованых ворот, к нему подошел кто-то из гостей и заменил инкрустированные ножницы из толедской стали на простые парикмахерские ножницы, которыми миллион лет назад была перерезана пуповина Грязной Сучки и красная ленточка в день открытия Барака повышенной комфортности. Среди гостей, собравшихся в парадном зале за столом, сервированным фарфором работы крепостных мастеров, была и настоятельница Феодосия, единственный человек, кто точно знал, что потерянный кирпич, обмотанный красным кумачом и залитый цементом, остался лежать в земле под фундаментом разобранного Барака. Открыть эту тайну Выблядку Феодосия не могла. Слепыми глазами настоятельницы она видела его смерть, которая наступит в тот момент, когда потерянный кирпич займет свое место в стене Дворца.
Эпилог эпилога.
Умер Выблядок в положенный судьбой срок. Вечером, накануне смерти, Выблядок, заходя в дом, как всегда погладил рукой пустую нишу потерянного кирпича, а утром, когда его не стало, ниша в стене оказалась плотно запечатана последним кирпичом. Кто его туда положил, так и осталось тайной.
«…Нет ничего, что меньше подавалось бы слову и одновременно больше нуждалось бы в том, чтобы людям открывали на это глаза, чем какие-то вещи, существование которых нельзя ни доказать, ни счесть вероятными»
Записки Иозефа Кнехта.Герман Гессе, «Игра в бисер»Звон Большого Колокола
Во всеми забытом монастырском Колоколе жил Звон. В Колокол так давно не звонили, что он стал забывать мощный голос своего Звона. Веревка, подвязанная к железному «языку», истлела, и птицы растащили ее по ниточкам на подстилки в гнезда, свитые под куполом колокольни. Временами Колоколу казалось, что он вообще потерял голос, но это было не так: легкие касания крыльев случайно залетевших бабочек, или брошенная порывом ветра ветка будили Колокол, и он начинал тихо звенеть. Лучше всего он звучал, когда до него докатывались волны весеннего грома – бронзовое тело Колокола начинало дрожать и басовито гудеть в тон грому.
В эти редкие минуты Колокол и Звон как бы возвращались к жизни и радовались, что избежали участи своих собратьев, сброшенных с колоколен вчерашними прихожанами в порыве охватившего их безумия.
Колокол и Звон родились в один день, как рождаются один за другим близнецы. Сначала на свет появился Колокол: облепленного формовочной глиной как рубашкой-последом, его вытянула из лона литейной ямы шестерка дюжих коней, впряженная в толстые, перекинутые через блоки, канаты. Литейных дел мастер очистил от шлака кусочек металла, постучал по нему костяшками пальцев, приложил ухо к еще теплому телу Колокола и уловил в слабой вибрации мощный голос его будущего Звона.
Колокол отлили специально для женского монастыря. Обитель эта хоть и была отдаленной, почиталась святой из-за чудотворной мироточивой иконы Богоматери. В будни и праздники сотни людей, наполняя храм, молились, исповедовались, венчались, крестили детей и лечили неизлечимое целебным миро чудотворной иконы.
Монахини мечтали, чтобы Звон нового Колокола доносил их молитвы до людей, живущих далеко за краем видимой с монастырской колокольни земли. Ради мощи и благозвучия Звона они не пожалели чистой самородной меди, самородного олова и серебра высокой пробы. Но главное, в кипящий металл будущего Колокола монахини тайно бросили частицу мощей Святого Великомученика, привезенную из Иерусалима.
Тело готового Колокола отполировали до медного блеска, подняли на колокольню, окропили святой водой, и под молитвенное песнопение ударили тяжелым железным «языком».
Первый Звон, вылетевший из Колокола, оглушил прихожан. Он звучал бесконечно долго, заполнив пространство вокруг так, что невозможно было понять, откуда он доносится. Вибрирующими волнами эхо Звон уходил и возвращался вновь, вызывая у прихожан восторг, слезы и чувство молитвенного откровения. С каждым новым ударом вибрация нарастала. В такт ей гулко вибрировали земля и воздух. Звон проник в живую ткань растений, животных и людей: вибрация нарушила межклеточные связи, плоть как бы распалась и люди, на секунду обретя бестелесность, с неизъяснимым страхом и восторгом увидели внутри себя свою изначально чистую Душу.
В первый же день служения нового Колокола, Звон, как о том мечтали монахини, услышали люди, живущие гораздо дальше видимой с колокольни границы горизонта.
Звон залетел так далеко, что едва успел вернуться на ослабевшем эхо назад в Колокол.
Вид открывшихся земель, обильных лесами, простором степей и вод, поразил его. Мир оказался огромным, и Звон захотел увидеть его целиком, долететь до последних его границ. Он стал умолять «язык» бить в Колокол сильней, но даже самый сильный удар не позволял Звону набрать достаточно сил, чтоб заглянуть за край земли. Однажды, увлекшись полетом, обессилевший и почти потерявший голос, Звон долетел до колокольни дальнего монастыря. Там как раз начиналась вечерняя служба. С первых же ударов Звон почувствовал, что звук незнакомых колоколов не заглушил его собственный ослабевший голос; наоборот, он наполнил его новой силой, и Звон смог полететь дальше.
С этого дня жизнь Звона изменилась. Теперь, не боясь потерять голос, он спокойно совершал дальние путешествия. Перелетая от колокола к колоколу, он останавливался и набирал силы не только в звонницах церквей, но и в случайных, самого разного назначения колоколах и колокольчиках. Звон научился сжимать свой мощный звук настолько, что однажды уместился в маленьком медном звоночке, подвешенном на шее коровы. С этим колокольчиком он долго путешествовал по горам Тибета, пока не добрался до звучных колоколов отдаленного Буддийского дацана. Храм этот был построен на вершине высокой горы. Стены его, сложенные из полупрозрачных блоков и крытые прозрачной черепицей, были ближе к небу, чем крыши любого храма, построенного людьми на земле. Летописи не сохранили ни имен строителей, ни времени постройки, но существовала легенда, по которой дацан построили ласточки специально для людей, искавших истину просветления в молитвах и уединенном погружении в нирвану близкого общения с Богом. Острыми крыльями ласточки вырезали куски неба, укладывали их на вершине горы и скрепляли клейкой слюной как стенки своих гнезд.
Монахи верили и в эту легенду и в то, что их дацан – это Духовная Цепь, на которой Земля подвешена к Небу. Если перестать молиться и звонить в колокола, цепь порвется, Земля улетит в бесконечную пустоту Космоса и наступит Конец Света.
В этом дацане Звон задержался надолго. Его приютил в себе большой храмовый Колокол, с которым он сдружился с первого звона. В свободное от служб время Звон рассказывал буддийскому Колоколу о своих путешествиях, о многообразии колоколов – от самого маленького, подвешенного мастером-чудаком к шее бабочки Махаона, до самого большого, ни разу не звонившего колокола, рухнувшего от собственной тяжести с колокольни на землю. Буддистский Колокол был старше своего нового друга на две с лишним тысячи лет. Прежде чем стать Колоколом, металл, из которого его отлили, прошел несколько реинкарнаций: был Мечом воина, Кубком виночерпия, Шандалом в храме, Браслетом на ногах танцовщицы ритуальных танцев и Плугом крестьянина, а его звон, прежде чем воплотиться в Буддистский Колокол, был Голосом в Хоре Космической Тишины, куда попадают все звуки, когда-либо прозвучавшие на Земле: слова песен, первый крик новорожденного, последний рык раненого зверя, и даже шуршание листьев, потревоженных предрассветным вздохом ветра.
Буддистский Колокол был уверен, что на Земле есть места, где в Звенящей Тишине Утра можно услышать Голоса Космического хора, но где эти места – он не знал.
– Какое счастье, – подумал Звон, – что меня выбрали из Хора Космической Тишины и реинкарнировали звоном в монастырский Колокол, а не писком в полевую мышь. Слушая меня, люди молитвенно обращают свои самые сокровенные мысли Богу, прося утоления печалей и прощение грехов.
Теперь у Звона появилась новая цель. Путешествуя по миру от колокола к колоколу, он надеялся найти место, где Звон Утренней Тишины можно услышать в голосах Космического Хора. Большинство колоколов считали это красивой легендой, резонно замечая, что Звон и Тишина не могут существовать одновременно.
Другие верили в Звенящую Тишину и свое будущее в Космическом Хоре. Среди тех, кто верил, был старый колокол в портовом храме на берегу океана. Судьба этого колокола была крайне необычной, он хоть и не обладал мудростью Буддийского колокола, но многое знал и многому был свидетель. Своему новому другу, Звону, он поведал, что изначально предназначался не для служения в церкви. Он был отлит корабельной Рындой-колоколом специально для многопушечного фрегата «Св. Варфоломей», и ей, Рынде, была доверена честь своим звоном оповестить мировой океан о спуске на воду нового корабля. Тот день Рында запомнила до мельчайших деталей: увитые цветными лентами палубы и паруса; букеты цветов в жерлах пушек по обоим бортам; печально-веселые женщины на берегу – пускать их на борт в день спуска корабля на воду считалось дурной приметой. Рында помнила огромную бутыль мадеры, разбитую об нос фрегата, и вкус вина – порыв ветра донес до нее несколько капель. Служить Рындой на таком корабле было счастьем. Много лет в баталиях и просто морских разбоях, фрегат повергал противников в ужас мощью орудий, ловкостью канониров и хитростью безжалостных капитанов.
Судовой журнал содержал подробнейшие описания бесчисленных побед, названия потопленных судов, число погибших матросов и списки трофеев. Служители музея, в котором хранился судовой журнал, клялись на Библии, что по ночам из судового журнала слышны стоны и мольбы о пощаде загубленных фрегатом душ. Список побед мог быть и большим, если б не семнадцатилетняя Мулатка, изменившая судьбу фрегата и всей его команды: Капитан похитил ее из родительского дома, когда Мулатка примеряла свадебное платье и, в тайне от суеверных матросов, пронес на борт фрегата, завернув ее в рулон парусной бязи. С этой минуты фрегат был обречен.
Беда случилась ночью в той части океана, где на тысячи миль окрест, не боясь наскочить на мель или острые рифы, штурвал можно было доверить даже самому неопытному рулевому. Роза Ветров в этих широтах была абсолютно симметричной: ветер, нарушая все законы физики, дул во всех направлениях сразу и с одинаковой силой, так что матросам не надо было лазать по реям, переставляя паруса в поисках нужного ветра.
В этих местах случалось и другое, крайне редкое явление – Танец Звезд. Моряки, которым случилось наблюдать Танец Звезд, частенько сходили с ума, кончали жизнь самоубийством или погибали в кораблекрушениях. Немногие оставшиеся в живых старались не вспоминать танец небесных светил, а если и вспоминали, то только в состоянии сильнейшего подпития: пританцовывая и бормоча мало понятные слова, они постепенно впадали в пьяный транс, так что отделить правду от вымысла было совершенно невозможно.
Что происходило в небе той ночью, когда фрегат налетел на рифы, точно знал только молодой Рулевой. Капитан поставил его к штурвалу, приказал держать курс на самую яркую звезду созвездия Южный Крест – Акрукс, а сам погрузился в объятия юной Мулатки.
Стоя у штурвала грозного, многопушечного фрегата, Рулевой, гордый доверием Капитана, ни на секунду не отрывал глаз от путеводной звезды, и первые движения Звездного Танца заметил сразу: сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, все звезды, заполнившие небосклон, стали вращаться вокруг самой яркой звезды – Акрукс.
Она как бы стала центром воронки, к которой устремились звезды. Небо быстро пустело, и только Акрукс, вобравший в себя все звезды, остался единственной ярко сияющей звездой на почерневшем небосклоне. В какой-то момент Рулевой с ужасом понял, что тяжелый многопушечный фрегат со всей командой, трофеями и юной Мулаткой в объятиях Капитана, неведомая сила вырвала из вод океана. Штурвал, бешено вращаясь, направил судно в небо. Рулевой бросился к Рынде, пытаясь звоном разбудить матросов и Капитана, но судовой колокол не издал ни звука: в его натертых до зеркального блеска медных боках отражался безумный танец звезд. Глядя в пустеющее небо, Рулевой жарко молился:
Господи, услышь молитву мою.
И вопль мой да придет к Тебе.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй…
В следующее мгновение звезда Акрукс взорвалась, выбросив в небо фейерверком мириады светил. Рулевой попытался в миллионах звезд, вновь заполнивших небо, отыскать путеводную и выправить курс, но вырванный из воды корабль не слушался руля. Все это походило на страшный сон. Чтоб избавиться от кошмара, Рулевой бился головой об мачту, кусал до крови руки, кричал от боли, но сон не уходил. Неожиданно чувство страха исчезло, ему стало легко и радостно. Рулевой стал смеяться, петь и кружиться по пустой палубе, повторяя движения звезд. Ему захотелось прыгнуть за борт и полететь летучей рыбой рядом с кораблем, но Капитан строго приказал держать курс на звезду Акрукс, пока его не выпустит из жарких объятий Мулатка. Наконец, фрегат мягко опустился в воду. Штурвал в руках Рулевого снова стал послушным, созвездие Южный Крест заняло свое место на небосводе, но это уже не могло спасти фрегат от крушения. За секунды полета неведомая сила перенесла фрегат в другой конец океана, и полные ветром паруса выбросили корабль на острые рифы. В пробоины хлынула вода, фрегат накренился, испуганные матросы, выскочив из кубриков, метались по палубе, не понимая, что произошло, откуда взялись рифы, но все стало ясно, когда на палубе появился Капитан с обнаженной Мулаткой на руках. Женщина на корабле?! Это было так неожиданно, что матросы на секунду забыли о катастрофе. Мулатка смеялась, ветер трепал ее длинные черные волосы. Вырвавшись из рук Капитана, она подбежала к Рулевому, приникла к нему обнаженным телом и губами, словно благодаря за посаженный на рифы корабль. На матросов нашло оцепенение. Они со страхом смотрели на непонятно откуда взявшуюся на боевом корабле голую Мулатку, палубу которого никогда не оскверняла нога женщины.
– Ведьма, – прошептал кто-то из матросов, а, может, не прошептал, а только подумал, но подумал так громко, что его услышали все.
– Ведьма! – разом выдохнули сто глоток, и сто пар рук бросились отрывать Мулатку от Рулевого, чтоб выбросить ее за борт, и только привычка подчиняться голосу Капитана остановила их. Прежде чем матросы покинули тонущий корабль, Капитан попросил у команды прощения и приказал привязать его и хохочущую Мулатку к грот-мачте.
Отплыв на безопасное расстояние, матросы наблюдали, как фрегат, наводивший на четырех океанах ужас своей мощью, медленно погружается вместе с Капитаном и хохочущей Мулаткой в воду.
Рулевой, единственный оставшийся в живых после кораблекрушения, в последний момент успел снять с реи уходящего под воду фрегата кора бельный колокол. Он уверял, что грот-мачта с привязанным к ней Капитаном и Мулаткой, были глубоко под водой, но ее громкий хохот продолжал носиться над волнами, пока не запутался в нитях звездного света, утащивших хохот к центру Вселенной.
Спас Рулевого случайно оказавшийся в тех широтах торговый парусник. Матросы услышали тревожный звон Рынды, и после долгих поисков нашли лодку и потерявшего сознание Рулевого, обнимавшего обеими руками звенящий колокол.
После чудесного спасения Рулевой и Рында, доставленные в ближайший портовый город, не расставались ни на один день. Рында нашла свое место на колокольне собора, а Рулевой поселился на паперти и стал собирать щедрые пожертвования горожан, хотя не обладал ни одним необходимым для побирушек физическим или умственным изъяном, за исключением одного – он всем молча улыбался: взрослым, детям, бродячим собакам и голубям, которые без всякого страха садились ему на голову и плечи, цепляясь острыми коготками, висели у него на спине и груди, коротко вспархивая, когда взмахом руки он рассыпал вокруг себя корм. Горожанам он сразу понравился: без всякой злобы или раздражения, но с иронической снисходительностью, которую всякий здоровый человек испытывает по отношению к убогим, стали называть его – наш Юродивый.
Служки церкви поначалу пытались выселить Юродивого с паперти – им надоело убирать помет круживших вокруг него стай птиц и собак, – но за него вступились хозяева соседствовавших с храмом лавок и харчевен, чей доход значительно вырос с появлением на паперти Юродивого: посмотреть на его улыбку приходили не только верующие, но и далекие от церкви люди.
Вскоре и священники церкви поняли, что иметь на паперти «своего» юродивого не только выгодно, но и престижно.
Прихожане уверяли, что его улыбка, обладая неким магнетизмом, притягивает, проникает в душу и, помимо воли, делает их улыбчивыми. Даже в моменты глубокой печали улыбка не сходила с их лиц: чтоб не нарушать чувства скорби, она пряталась в какой-нибудь невидимой для окружающих клеточке в ожидании случая вновь наполнить собой лицо.
Шляпа Юродивого на паперти никогда не пустовала, но самый большой доход приносили лоскутки материи, которые уходящие в плавание матросы срезали с его одежды – считалось, что сделанные из них талисманы надежно оберегают от всех возможных неприятностей на море. Юродивый улыбался и не протестовал, но самое удивительное, что все отрезанные лоскуты нарастали на его одежде заново, затягивая прорехи, как живая кожа затягивает раны.
Собранные за день деньги Юродивый тратил на корм для птиц и собак, а то, что оставалось, каждый вечер выбрасывал с корабельного причала в море и с улыбкой наблюдал, как мальчишки ныряют за монетками. Среди мальчишек был один особенно ловкий – он умел нырять глубже других, и ему доставалась большая часть «улова». Но однажды, как это бывает с мальчишками, он увлекся, нырнул глубже обычного и не вынырнул. Одни мальчишки говорили, что он утонул, другие уверяли, что видели, как его утащила акула. Но была и совсем неправдоподобная версия – мальчик превратился в рыбу, и теперь спокойно собирает монетки со дна моря. В эту версию мало кто верил, пока жена рыбака не обнаружила в свежем улове рыбу с брюхом, набитым монетами. Многие считали, что тайну гибели мальчишки знает Юродивый – недаром же он бросал монеты в море, – но Юродивый на все вопросы отвечал тихой улыбкой. За долгие годы сидения на паперти он не произнес ни одного слова. Правда, ходили слухи, что по ночам на колокольне он о чем-то перешептывается с Рындой. Подтвердить это никто не мог, но раз в год, – в день, когда фрегат налетел на рифы и затонул вместе с Капитаном и Мулаткой, – Юродивый нарушал обет молчания. Ночью он метался по паперти в каком-то странном танце, кричал: «Ведьма утопила, ведьма, ведьма!». Умолял небо не забирать к себе фрегат, а звезду Акрукс не взрываться. Это был единственный день в году, когда Юродивый не улыбался: голуби и бродячие собаки оставались голодными, прихожане не осмеливались приближаться и бросать в шляпу монетки, а звонари на колокольне, как ни старались, не могли выбить из Рынды даже тихого звяка.
Удивительную историю Рулевого-Юродивого, видевшего «Танец звезд» и управлявшего летящим по небу фрегатом, матросы заходящих в порт кораблей разнесли во все концы света. Некоторые судоводители специально меняли курс своих кораблей, чтоб посмотреть на улыбку Юродивого и отрезать кусочки одежды для чудодейственных амулетов.
Среди почитателей Юродивого особо выделялся некий Бакалавр, выпускник известного университета, посвятивший свою жизнь накоплению знаний в областях, не имеющих никакого отношения к материальным накоплениям. Его влекло все неизведанное и необычное, что сильно огорчало отца Бакалавра – богатого негоцианта, мечтавшего передать свое дело единственному сыну.
Плавая на торговых судах своего отца, Бакалавр побывал в Амазонии, где с большим интересом изучал архитектуру термитников и принципы иерархического построения муравьиного сообщества. Местным аборигенам такое никчемное занятие показалось подозрительным, и он едва не стал жертвой племени людоедов – охотников за черепами. В Африке его внимание привлек прайд львов. Поселившись рядом, он, к удивлению вождя воинственного племени масаи, сумел так подружиться и приручить вожака львиной стаи, что позволял себе, как это делают дрессировщики в цирке, засовывать голову в его пасть. В какой-то момент ревнивым львицам надоело терпеть такое неуважение к вожаку, и одна из них, не выдержав нервного напряжения течки, набросилась на Бакалавра как раз в тот момент, когда голова его была глубоко в пасти зверя. К счастью, вожак, вовремя почувствовавший запах бунта, страшным ударом лапы спас друга от неминуемой гибели, но грозный рык, покалечив «улитку», навсегда застрял в левом ухе Бакалавра, и в редкие моменты нервного напряжения его крик звучал, как рык льва.
Будучи истинным естествоиспытателем, обладая критическим складом ума, Бакалавр не спешил включиться в хор восторженных голосов почитателей Юродивого.
Поселившись в доме напротив собора, он день за днем, с раннего утра и до позднего вечера, – когда рядом с Юродивым не было прихожан, любопытных провинциалов или охотников за кусочками одежды для амулетов, – изучал феномен улыбки Юродивого с помощью ритуальных слюдяных очков, выменянных им за бутылку рома у спившегося жреца племени майя, скрывавшегося от преследований католических миссионеров в дебрях амазонских джунглей.
Жрец уверял, что с их помощью правители майя входили в контакт с высшими силами; проникали в бесконечные глубины космоса; исчисляли на столетия вперед календарь движения светил; строили пирамиды и астрологические прогнозы будущего земной цивилизации; изучали с их помощью три сущности человека – внутреннюю, внешнюю и ауру. Все это жрец рассказал Бакалавру, не отрываясь от горлышка, а когда из бутылки выпала последняя капля рома, жрец умер, не успев научить Баклавра пользоваться очками. К счастью, в момент смерти жреца очки были на носу у Бакалавра, и через них он увидел, как все три сущности жреца исчезли, а бледный комочек души медленно воспарил к небу.
Наблюдая за Юродивым через слюдяные очки, Бакалавр не нашел во внутренних и внешних сущностях особых отличий от обычных людей, но аура Юродивого была совершенно уникальной: ярко голубая, она окружала его со всех сторон и, сливаясь без всякой границы с небом, уходила в глубины Космоса.
Это было настолько невероятно, что Бакалавр для усиления ритуальных очков купил телескопическую трубу, тщетно пытаясь с ее помощью найти границу между аурой Юродивого и голубым свечением Космоса. Большего успеха он достиг, изучая ауру людей – ему удалось установить, что двух одинаковых аур не бывает. Даже у однояйцовых близнецов они отличаются по цвету и форме.
Бакалавр не спешил поделиться своим открытием. Он продолжал собирать факты и установил, что Улыбка Юродивого оказывает сильное воздействие непосредственно на ауру людей и способна изменять ее.
У некоторых людей, особенно носителей черной ауры, после встречи с Улыбкой Юродивого аура светлела и заставляла, против воли, совершать добрые поступки, что вызывало в людях неосознанное чувство беспокойства и растерянности. Конечно, это было насилие, но исходило оно от Улыбки, имевшей прямую связь с Космосом, воле которого сопротивляться невозможно. Улыбка не сходила с лица Юродивого даже во сне, дабы случайно не обделить своим благотворным влиянием случайных ночных прохожих или подвыпивших матросов, потерявших дорогу на свои шхуны после свидания с портовыми шлюхами.
Постепенно Бакалавр пришел к мысли, что проявления чудесных способностей Юродивого дают основание думать о его возможной святости. Мысль эта может показаться кощунственной, если не вспомнить многих известных с библейских времен блаженных и юродивых, причисленных к лику святых, чьими именами часто называли храмы.
Окончательно Бакалавр убедился в святости Юродивого после того, как с помощью телескопа и слюдяных очков случайно подслушал ночной разговор Юродивого с Рындой на колокольне.
Оба тосковали по лихим годам, отданным морским просторам, штормам и надутым ветром парусам. Они вспоминали полет к звездам, хохот Мулатки, долгий дрейф лодки в океане, и непонятно откуда появившееся на носу лодки светлое облачко, и голос из него – «Все будет хорошо», и пришедшее следом спасение. Из их разговоров он узнал, что в Рынде временно поселился Звон монастырского колокола из далекой северной страны, залетевший сюда в поисках Звона Утренней Тишины.
Все увиденное и услышанное Бакалавр тщательно записывал в дневник, который лег в основу книги «Необычайные свойства улыбки Юродивого и ее благотворное влияние на ауру людей, как доказательство его святости».
Несмотря на то, что Иерархи не отрицали некоторых фактов чудесного воздействия Улыбки на прихожан, церковная цензура запретила печатать книгу, посчитав кощунством намеки на возможно прижизненное причисление Юродивого к лику святых. Впрочем, в силу естественных причин, это препятствие было вскорости устранено. Юродивый умер.
Процесс перехода Юродивого в «мир иной» Бакалавр зафиксировал с абсолютной точностью: из подслушанного предсмертного разговора Юродивого с Рындой он узнал, когда и как это случится.
Слюдяные очки и телескопическая труба открыли ему тайну последнего земного сна Юродивого на ступенях паперти, в окружении мирно спящих собак. Они не выли, как это делают обычно, почуяв запах смерти даже не очень близких людей. Объяснить это можно было только одним – то, что произошло с Юродивым, еще не стало смертью в обычном ее понимании, и хотя внешние признаки были очевидны, запаха не было. Это стало для Бакалавра еще одним подтверждением возможной святости Юродивого, поскольку большинство известных случаев смерти людей, причисленных впоследствии к лику святых, происходило при полном отсутствии знаков тления.
Смерть начала проникать в тело Юродивого в тот момент, когда первый луч солнца, отразившись от цветного стеклышка, вставленного в глаз мозаичного панно архангела Гавриила над входом в собор, осветил розовым лучом улыбку на его лице. Бакалавр увидел, как в розовом свете постепенно истаяли внутренняя и внешняя сущности Юродивого, а ярко-голубой цвет ауры посветлел и растворился в первых лучах солнца. Глаза Юродивого широко раскрылись, и изо рта с последним выдохом вылетело маленькое белое «облачко», как это бывает в морозные дни, но «облачко» не растаяло, а медленно поплыло вверх – это была его душа. Юродивый проводил ее долгой улыбкой, которая в этот момент раздвоилась: мертвая улыбка навсегда застыла маской на лице покойника, а живая улыбка сошла с лица Юродивого и поселилась на ступенях собора. И только тогда собаки встрепенулись, подняли морды к небу и завыли.
Весть о смерти Юродивого мгновенно облетела город, но ни прихожане храма, ни просто жители города, ни портовые лавочники, искавшие с утра его улыбку в надежде на удачный день, ни нищие, кормившиеся из его подаяний, никто даже из любопытства не пришел посмотреть на покойника, лицемерно объясняя это желанием запомнить Юродивого с живой улыбкой на лице. И только один человек сказал правду: «Наконец мы избавились от него».
Трудно сказать, что именно имел в виду этот человек, но в глубине души все жители городка испытали какое-то облегчение, как это нередко случается со многими людьми после смерти близкого и даже любимого родственника, прожившего рядом с ними очень долгую жизнь. И дело здесь вовсе не в черствости, а в достаточно искреннем убеждении, что «там», где нет болезней и бытовых проблем, им будет лучше.
Бакалавр хотел внести тело новопреставленного в храм для отпевания, но священники отказались отслужить панихиду по той причине, что не были уверен в его истинном вероисповедании. К улыбающемуся покойнику, распростертому на ступенях собора, не захотели подойти даже те, кого от гибели в море спасли талисманы, отрезанные с одежды Юродивого. Верность ему сохранили только собаки, голуби и один мальчишка-ныряльщик: он помог Бакалавру завернуть покойника в парусину и отнести к причалу, чтоб похоронить его по морскому обычаю в водах океана, как Рулевого грозного фрегата, а не как нищего с паперти. Странная получилась процессия: под погребальный звон Рынды, Бакалавр и мальчишка-ныряльщик несли на плечах покойника. Следом, с жутким воем, шла свора городских собак, а над ними вились сотни голубей. Они безостановочно садились на покойника и взлетали, так что со стороны казалось, будто покойник летит по воздуху. Со страхом и любопытством горожане из окон и с крыш своих домов наблюдали за странной процессией, а когда тело Юродивого ушло на дно океана, на поверхность, вместе со столбом погребальной воды, вылетел громкий хохот. Горожане в страхе захлопнули окна, но это не помогло. Раздробленный на миллионы мельчайших частичек столб воды, наполненный хохотом Мулатки, воем собак и звоном Рынды, ветер понес по городским улицам, проник через окна и печные трубы в дома, где за плотно закрытыми ставнями пытались укрыться напуганные горожане. Но погребальная влага, насыщенная звуками скорби, стекала со стен их жилищ, затекала в плотно заткнутые уши, и только когда полная луна погрузилась за морской горизонт, все стихло, и горожане смогли уснуть.
В то, что случилось чудо, и живая Улыбка заняла место Юродивого на ступенях собора, многие считали дьявольским наваждением и требовали изгнать ее с паперти собора. Священники устраивали очистительные молебны, кропили паперть святой водой, пытались уничтожить ее раствором извести, как уничтожали тела умерших от бубонной чумы, но Улыбка становилась от этого только светлее, и служители церкви вынуждены были объявить присутствие Улыбки на паперти не дьявольскими происками, а волей Божьей.
В зависимости от времени суток и погоды она улыбалась или со ступеней паперти, или со стен собора, а в дождливую погоду Улыбка улыбалась прихожанам из ниши над входом в храм. Некоторые скептики утверждали, что Улыбки Юродивого не существует вообще, а то, что называют «улыбкой», ни что иное, как игра воображения и светотеней. Но никто при этом не мог объяснить, почему каждый год в день смерти Юродивого на паперти собираются все собаки округи, слетаются стаи голубей, а Рында на колокольне звонит сама собой, хотя не терпящие никакой мистики священники обматывали колокол тряпками, вымоченными в святой воде, а железный «язык» накрепко привязывали к столбу.
Такое непослушание колокола раздражало священников и, как они считали, подавало плохой пример пастве. Наиболее строгие служители церкви уверяли, что в звучании колокола недостаточно святости, а в обертонах звона можно расслышать подстрекательство к бунту, что вполне объяснимо его происхождением. Изначально колокол был отлит не для служения в церкви, а корабельной Рындой, и много лет своим звоном призывал матросов к разбою и насилию на морях. Чудесное спасение Рулевого-Юродивого и Рынды тоже подвергли сомнению: Бог не мог спасти служителей дьявола, каковыми являются все разбойники, а боевой фрегат, на котором они служили, только прикрывался защитником интересов империи, а на самом деле наводил ужас пиратскими нападениями на честных негоциантов. Конечно, среди жертв фрегата были и враги империи, что позволяло капитану требовать от Его Величества наград и субсидий, но главным делом фрегата оставался разбой. В доказательство приводили хранящийся в музее судовой журнал, из которого по ночам, как уверяют сторожа, до сих пор доносятся стоны загубленных душ, а страницы, сколько их не суши, всегда полны слез несчастных. В общем, желание убрать Рынду с соборной колокольни не вызывало возражений среди иерархов. Кое-кто даже сожалел об ушедших в историю временах инквизиции. Одного слова Главного инквизитора было бы достаточно, чтоб Рынду отправили на переплавку, дьявольский судовой журнал – на костер, а улыбку безбожника-юродивого, застрявшую в стенах собора, подвергать пыткам до тех пор, пока она не исчезнет. Настоятель такие мысли осторожно осуждал, напоминая, сколь много вреда вере принесли костры инквизиции, хотя полностью отрицать их очистительный эффект было бы несправедливо.
Вопрос осложнялся еще и тем, что в свое время в Ватикан было послано письмо с жизнеописанием Юродивого и просьбой рассмотреть вопрос о его канонизации. Канцелярия Понтифика отнеслась к просьбе благосклонно, но попросила более подробно описать обстоятельства чудесного спасения Юродивого и Рынды: танец звезд, превращение мальчика-ныряльщика в рыбу; представить в рисунках прижизненную и поселившуюся на паперти посмертную улыбку Юродивого, и прочее. Собрать необходимые доказательства было поручено Бакалавру, автору трактата о необычных свойствах улыбки Юродивого. За короткий срок ему удалось дополнительно собрать множество несомненных свидетельств святости Юродивого.
Оказалось, что все матросы, носившие на шее амулеты, сделанные из кусочков одежды Юродивого, чудесным образом спасались после самых страшных кораблекрушений.
Поразительное чудо исцеления засвидетельствовал врач, к которому в момент операции со стены явилась улыбка Юродивого: ампутированную после укуса акулы ногу рыбака врач против своей воли пришил заново, и нога сразу срослась, не оставив ни малейшего следа перенесенной операции. Более того, с этим рыбаком было связано еще одно чудо – стоило ему ступить пришитой ногой на причал и забросить в море удочку, как акулы в страхе уплывали за горизонт. Узнав об этом, мэр города, дабы обезопасить купальщиков, назначил рыбаку содержание, обязав его каждый день удить рыбу.
Странное превращение случились и с монетами, извлеченными из брюха рыбы. Их невозможно было отлепить одну от другой, а попытки отбить молотком хоть одну монетку привели к тому, что от частых ударов молотка слипшийся комок металла постепенно приобрел форму головы, в которой явственно проступили черты погибшего мальчишки-ныряльщика.
Свидетелями еще одного факта чудотворной силы Юродивого стали почти все жители города, пришедшие в церковь на венчание сына богатого купца. Дело в том, что Жених, с момента своего рождения и до дня свадьбы, непонятно по какой причине непрерывно плакал. Ни врачи с их оборачиваниями в мокрые простыни, кровопусканием и очистительными клизмами; ни снадобья знахарок; ни горячие молитвы и пожертвования на церковь ни на секунду не смогли остановить нескончаемый потока слез. Но стоило рыдающему жениху взойти на паперть и встретиться взглядом с улыбкой Юродивого, как рыдания прекратились, и слезы мгновенно высохли.
Свадебный кортеж, священники и толпа любопытных горожан буквально онемели от свершившегося на их глазах чуда. Звонарь на колокольне перестал бить в колокола, и площадь погрузилась в такую тишину, какой не было в этих местах с момента сотворения мира. Некоторые свидетели этого события уверяли, что тонкая струйка песка, вытекавшая из больших песочных часов, установленных на площади, перестала течь и застыла в воздухе, что могло означать только одно: время между последней высохшей на щеках Жениха слезинкой и его громким смехом, огласившим площадь, на мгновение остановилось.
Подхватив Невесту на руки, он с хохотом вбежал в церковь, и с этого момента никто не видел его плачущим. Даже на похоронах родителей он не пролил ни единой слезинки и шел за гробом приплясывающей походкой, словно оркестр играл не траурный марш, а ирландскую джигу.
Описания Бакалавра изобиловали огромным количеством мелких, но значимых подтверждений святости, связанных с кораблекрушением, танцем звезд, полетом фрегата и чудесного спасения, о которых ему стало известно из подслушанных на колокольне тайнах ночных бесед Рынды и Юродивого, что само по себе было чудом. Более того, он уверял, что значительная часть святых деяний Юродивого не могла бы случиться без непосредственного участия Рынды, сыгравшей ключевую роль в чудесном спасении на море. Только чудом можно объяснить тот факт, что Рында, зажатая крепкими объятиями потерявшего сознание Рулевого, продолжала звонить сама собой, взывая о помощи, даже когда спасение уже пришло, и их обоих подняли на борт парусника.
Этот факт он считал бесспорным доказательством причастности Рынды к святым деяниям Юродивого, и на этом основании предлагал канонизировать их обоих. Среди прочего, Бакалавр нарисовал на листе бумаги проект их совместного памятника: чуть наклоненная, устремленная в небо бронзовая фигура Юродивого левой ногой опирается на спину собаки, на голове сидит раскинувший крылья голубь, а в правой, вытянутой вверх руке Юродивый держит Рынду, сконструированную таким образом, что даже самый слабый морской бриз или солнечный ветер рождали непрерывный звон. Большинству жителей города проект памятника понравился, и было решено объявить сбор пожертвований, но такая активность Бакалавра раздражала Епископа. Он стал всячески затягивать отправку документов в Ватикан под предлогом необходимости еще раз и со всей тщательностью обсудить все факты чудесных деяний, среди которых могут оказаться и лжечудеса, вполне объяснимые случайным стечением обстоятельств, тем более, что речь идет о не имеющем в истории канонизации прецеденте двойного возведения в ранг святых – Юродивого и корабельной Рынды. Затевать сбор средств на памятник Епископ тоже считал преждевременным. Ему казалось, что фигура напоминает небезызвестного Бога торговли Гермеса, чья репутация далеко не безукоризненна: Гермес воспитал своего божественного наследника, сына, вором, поскольку справедливо считал, что всякая торговля в большей или меньшей степени построена на воровстве и обмане. На самом деле в аргументах Епископа была большая доля лукавства.
Истинная причина заключалась в том, что он сам, не имея к этому никаких способностей, тайно мечтал о канонизации. С помощью денег и нескольких фанатично преданных ему монашек из женского монастыря, ему удавалось успешно совершать «изгнание бесов» из обуреваемых страстями молодых послушниц. Говорили, что за деньги он «воскресил из мертвых» какого-то бродягу, специально для этого случая опоенного «до смерти» настоем из дурных трав. Купленные свидетели распространяли слухи о «чудесных деяниях», которые он, облаченный в рубище нищенствующего монаха, якобы «совершил» во время паломничества на Святую Землю. В остальном Епископ был честным и ревностным блюстителем чистоты веры. Строго соблюдая все положенные его сану ограничения, – особенно обет безбрачия, – он не оставлял без наказания попытки отдельных священников нарушить его. Нетерпимость его в этом вопросе привела к самоубийству монаха, уличенного в мужеложстве. Случай получил огласку, дошел до Ватикана и был обсужден Конгрегацией чистоты веры, которая подтвердила необходимость осуждения, но доведение до самоубийства посчитала грехом, поскольку самоубийство для христианина грех больший, чем грех мужеложства, рожденный слабостью, и при должном покаянии заслуживающий прощения.
О желании Епископа быть причисленным после смерти к лику святых и его маленьких хитростях прихожане знали и относились к этому по-доброму, как к причуде. Из всех его попыток обрести святость правдой было одно: долгими часами, стоя на коленях на колокольне, он вслушивался в тишину ночного неба в надежде услышать Голоса, которые откроют ему Истину, как это случилось с Жанной д’Арк.
Епископ понимал, что конкурировать с Юродивым ему будет сложно, и не спешил с отправкой документов в Ватикан. Что касается непокорной Рынды, было решено тайно расколоть ее и отправить на переплавку. Исполнить приказ Епископа взялся Звонарь. Ночью, чтоб не потревожить сон горожан предсмертным звоном Рынды, Звонарь обмотал ее мокрыми тряпками и со всего маху ударил колокол тяжелым кузнечным молотом. В следующую секунду случилось то, чего Звонарь никак не мог предвидеть – Рында зазвенела таким мощным звоном, каким не звенела никогда. Громкий и бесконечно долгий звон как бы повис в воздухе. Напуганные необычно громким звоном жители города и окрестных деревень сбежались на Соборную площадь. Люди не могли понять, что произошло, а когда поднялись на колокольню, обнаружили обезумевшего Звонаря: бедняга не знал, что Рында приютила в себе Звон большого колокола из женского монастыря далекой северной страны. В минуту опасности они слили свои голоса в единый мощный звон, мгновенно помутивший рассудок Звонаря, и он, заткнув ладонями уши, выбросился с колокольни.
С этого дня Рында перестала звонить. Никакими стараниями, молитвами и даже небольшим крестным ходом, устроенным новым Звонарем вокруг колокольни, не удалось уговорить Рынду вернуться к служению церковным колоколом. Размеренная жизнь городка, протекавшая под звон колокола между утренней и вечерней службами, разладилась.
Внешне все осталось на своих местах: лавки исправно торговали, ремесленники трудились, в порт заходили суда, армия и полиция поддерживали порядок, но все жители городка испытывали непонятное внутреннее беспокойство, как это бывает перед сильной грозой или землетрясением. Людям стало трудно дышать. Некоторые обращались к врачам, но и они, просыпавшиеся ночами от непонятных страхов, ничем не могли помочь. Правда, кое-кто из них, забыв о клятве Гиппократа, стал зарабатывать немалые деньги, прописывая испуганным горожанам совершенно бесполезные, но очень дорогие смеси из сушеной желчи Амурских тигров, толченого рога носорогов и экзотических трав.
Причину удалось открыть Бакалавру: воздух, которым дышали люди, опустел. Населявшее его множество невидимых глазу живых существ исчезло вместе с мельчайшими частицами минералов, стекавших с гор с утренней прохладой. Без них воздух умер. Мертвый воздух сквозняком входил и выходил из легких, не производя необходимой для жизни работы. Бакалавр увидел это через слюдяные очки и сразу понял: воздух города умирал без живительной вибрации колокольного звона, и это может привести к самым тяжелым последствиям. Рында, служившая церковным колоколом, перестала звонить, а новый колокол, заказанный за океаном, застрял вместе с клипером в каком-то порту после страшного, изломавшего мачты шторма.
Единственное место в городе, где воздух продолжал быть живым, это лавка китайца Лао Джинджао, вход в которую закрывала постоянно звенящая занавеска, сотканная из сотен мелких колокольчиков, подвешенных на шелковых нитях.
Первые признаки неизвестной болезни ощутили портовые шлюхи: их переполненные грехом тела не могли очиститься молитвой и исповедью без открывающего душу для покаяния колокольного звона. Вся скопившаяся в них грязь греха вместе со страстью перетекала в тела ни в чем не повинных матросов. Кожа их покрывалась разбросанными по всему телу угловатыми знаками, отмыть которые не удавалось даже волшебным настоем корня мандрагоры, но едва судно оказывалось в открытом море, знаки сразу исчезали. Бакалавр, изучивший странные знаки, пришел к выводу, что это не что иное, как буквы арамейского алфавита, составляющие слово «шовава», означающее – озорник.
Слух о том, что проблемы с дыхание напрямую связаны с нежеланием Рынды звонить после неудавшейся попытки отправить ее на переплавку, мгновенно распространились по городу и возмутили народ. Страсти накалились, когда на колокольню, спутав ее с минаретом, поднялся дервиш с зашедшего в порт арабского судна, и разбудил жителей города песней муэдзина, призывающей правоверных на утреннюю молитву. Взбешенные горожане толпой ворвались в апартаменты Епископа, обвинили его в кознях против Рынды и желании обманным путем обрести святость, чем он вызвал гнев небес и поставил под удар целый город.
Бакалавру, обладавшему определенным авторитетом, с трудом удалось успокоить толпу, готовую окунуть Епископа в деготь и обвалять в перьях, как еретика. Он объяснил, что оживить воздух и заново наполнить его невидимыми глазу существами и минералами возможно, если все жители города повесят на шею маленькие колокольчики, и будут так ходить до прибытия и освящения нового церковного колокола. Большинство людей поверило Бакалавру, хотя нашлись скептики, утверждавшие, что слух о спасительных колокольчиках распространил хитрый китаец Лао Джинджао – специально, чтоб распродать залежавшуюся партию колокольчиков. Их мало кто слушал, – все жители города, от мала до велика, повесили на шею колокольчики и вскоре почувствовали, что воздух в городе стал заметно лучше и не застаивается твердыми пузырьками в легких.
Чтоб ускорить процесс оздоровления воздуха, мэрия издала указ вешать колокольчики на шею домашним животным и бродячим псам, справедливо рассудив, что они тоже дышат воздухом и должны внести свою лепту в его оживление. Звон звучал повсюду. Постепенно микроскопические, невидимые глазу существа и частички минералов наполнили воздух и повисли в нем неслышными каплями моросящего дождя.
В ночной тишине звон становился особенно слышным из окон супружеских спален, разглашая альковные секреты, что стало предметом скабрезных шуток и сплетен: городские балагуры ввели моду вместо утреннего вопроса – «Как спалось?», спрашивать – «Как звонилось?». Но воздух ожил. Вместе с ним ожили горожане. Они так привыкли к мелодичному звону колокольчиков, что продолжали носить их и после освящения нового церковного колокола.
Влияние Бакалавра на умы граждан было столь велико, что в знак благодарности за возвращение воздуху живительной силы они составили целую депутацию и обратились к нему с петицией – принять пост мэра города, или, на худой конец, занять на паперти место Юродивого с хорошим пожизненным содержанием. За доверие Бакалавр поблагодарил, но от поста отказался – у него были другие планы.
Бакалавр решил отправиться на поиски места в океане, окруженного множеством совершенно фантастических слухов и легенд: там бесследно исчезали корабли; команда по непонятной причине в панике покидала судно в полном составе, даже не воспользовавшись спасательными шлюпками. Одна из легенд особо заинтересовала Бакалавра. Говорили, что известное торговое судно, исчезнувшее вместе с товарами из Китая и Индии, «всплыло» на тропе Великого шелкового пути, среди песчаных бархан пустыни Кара-Кум. Известно, что на месте пустыни когда-то было море, которое глубинными каналами могло соединяться с океаном, из которого исчезло торговое судно. Впоследствии море внезапно высохло, и судно, полное экзотических товаров, оказалось на песчаной мели. Было и другое, весьма прозаическое объяснение этого феномена: среди барханов пустыни возвышается вовсе не торговое судно, а груженый восточными товарами караван верблюдов, засыпанный и уничтоженный сильной песчаной бурей. Проверить, какая из версий верна, было невозможно. Останки торгового судна и верблюдов ушли глубоко в песок, а на месте их гибели остался только странной формы высокий бархан с разбросанными по бокам тюками шелка, коврами, изделиями из слоновой кости, восточными пряностями и экзотическими фруктами. Что действительно было фантастичным – нетленность всего этого добра. Яркие шелковые ткани и узоры шерстяных ковров не потускнели под солнцем пустыни, а экзотические фрукты на поверхности барханов выглядели только что сорванными с дерева. Погонщики проходящих мимо караванов, дабы задобрить богов торгового дела, бросали в этом месте монетки, но никто не смел прикасаться к брошенным товарам.
Для поиска места исчезновения кораблей Бакалавр попросил отца прислать ему только что спущенный на воду быстроходный клипер, заранее предупредив, что Рында для клипера уже есть.
После известного скандала Епископ с радостью согласился отдать Рынду Бакалавру, не испросив за нее никакой платы, с одной лишь просьбой – уговорить Рынду не приходить к нему во сне полнолунными ночами и не будить звоном.
Как и многие жители города, Епископ был уверен, что Юродивый перед смертью научил Бакалавра не только говорить с Рындой, но открыл ему секрет общения с Царствием Небесным, доступный только Блаженным. Не дав никаких обещаний, Бакалавр забрал у Епископа Рынду, сказав, что Рында совершенно свободна в своих поступках, а если звон тревожит ночами его совесть, значит, тому есть причина, и спасение надо искать в жарких молитвах, как это делают благочестивые прихожане.
Бакалавр действительно научился говорить с Рындой и поселившимся в ней Звоном. Он прикладывал к колоколу ладони, и по дрожи металла сначала стал различать их голоса, потом – слова. Вскоре, даже не прикладывая ладони к колоколу, он тонким слухом улавливал малейшие обращенные к нему колебания и отвечал на них обычными человеческими словами, которые, как известно, тоже создают в воздухе колебания. Рында и Звон оказались прекрасными собеседниками.
Они умели слушать и слышать. В отличие от некоторых людей, они не старались высказывать поспешное мнение только для того, чтоб перебить чужую мысль, прежде чем собеседники поймут убогость их собственных мыслей.
О мире они знали гораздо больше Бакалавра, но к знанию своему, как и к себе, относились с грустной иронией, понимая свое несовершенство.
К решению Бакалавра отправиться на поиски места в океане, где бесследно исчезают корабли, Рында и поселившийся в ней Звон отнеслась с восторгом. Фрегат, на котором она служила, пару раз оказывался рядом с гиблым местом в океане, и Рында до сих пор помнила необъяснимое ощущение тревоги от мелких и необычайно частых колебаний, наполнявших воздух и ее медное тело. Чувство было схожее с колебанием колокола после удара железного «языка», только в тысячи раз чаще и без всякого звука. Рынде тогда казалось – еще секунда, медь не выдержит и развалится на микроскопические частицы. Звону идея нового путешествия тоже понравилась: он надеялся на просторах океана найти место, где можно услышать Хор голосов Звона Утренней тишины. Целыми днями до боли в глазах Бакалавр через подзорную трубу вглядывался в подернутый дымкой морской горизонт, чтоб не пропустить появление клипера. Однажды ему показалось, что он видит на горизонте парус, но белая точка быстро выросла в огромную черную тучу, закрывшую полнеба. Сверкающий молниями столб смерча вышел из моря, выбросил на берег огромные волны, прошелся по улицам города, сорвал крыши с домов, сломал деревья и повис над колокольней, где Епископ жаркой молитвой пытался отвести беду. Город от разрушения спас поселившийся в Рынде Звон: в землях, где он раньше служил, смерчи разрушали залпами пушек и звоном церковных колоколов. Был случай, когда из смерча, разрушенного звоном набата, вместе с обломками разрушенных домов и покореженным железом выпала живая корова, и, едва став на ноги, сразу начала пастись. В другой раз под грудами мусора из рассыпавшегося смерча нашли мужчину с непонятным цветом кожи и глазами, забитыми саранчой. Его сочли мертвым, и там же, в поле, похоронили, а через семь дней пастухи заметили, что земля над могилой шевелится, а овцы, громко блея, кружат над могилой и ковыряют ее копытами, как привыкли делать это зимой, выкапывая из-под мерзлой земли жухлую траву.
Пастухи в ужасе разбежались, но одна давно вдовая женщина непонятно почему решила, что смерч принес ее мужа, погибшего на чужбине. Разрыв могилу, она вынула из земли едва дышавшего мужчину, подняла его, как ребенка на руки, отнесла в заранее натопленную баню и заперлась с ним на целую неделю. Жители соседних домов слышали доносившееся из бани громкое пение, крики и жуткий смех, от которых кожа покрывалась пузырьками страха и чесалась так, что даже примочки из целебной мочи новорожденных младенцев не могли унять зуд. Домашние животные, мелкие грызуны и жучки-короеды в страхе разбежались и расползлись, кто куда, и только бабочки-капустницы укрыли крышу бани белым шевелящимся одеялом, чтоб случайный недобрый взгляд не раскрыл секрет любви, воскрешающий покойников. Кто-то поспешил продать дом и уехать, испугавшись слухов, что «воскрешение» не иначе как дело рук Дьявола, которому Вдова продала душу. Оставшиеся жители решили спалить баню, но Вдова и «воскресший» муж неожиданно исчезли.
Как они вышли из бани, двери которой были подперты толстыми бревнами, и куда ушли, никто не знал, но вскоре распространился слух, что в округе появился ясновидящий с выеденными саранчой глазами. Он предсказал многие беды людям, умопомрачение странам, поругание веры и гибель церковных колоколов.
Когда водяной столб смерча приблизился к дому Бакалавра, Звон колокола и Рынды сложились в один мощный звон, и случилось чудо: смерч словно наткнулся на стену. Покружив на одном месте, он ушел в море, и на глазах Бакалавра, наблюдавшего за движением смерча в телескопическую трубу, рассыпался, выбросив в море тело несчастного Епископа.
На следующий день, как это обычно бывало после больших штормов, все население города вышло с плетеными корзинами на берег в поисках «даров моря». Среди множества выброшенных волнами на песок моллюсков, снулых рыб и обломков давних кораблекрушений, Повар портового кабачка нашел в песчаной луже живую Рыбу совершенно необычного вида: большая, немного вытянутая голова, жабры, напоминающие формой уши, глубоко посаженные глаза и пухлые губы, прикрывавшие рот, полный белых, совершенно человеческих зубов. Вынутая из воды, она хватала ртом воздух, растягивая губы улыбкой беззвучного смеха. Пока Повар размышлял, как поступить с Рыбой, непонятно откуда появившаяся большекрылая морская Птица попыталась вырвать Рыбу из рук Повара.
Растерявшийся поначалу Повар хотел выбросить Рыбу, но потом рассудил, что необычную Рыбу можно пустить в аквариум и за деньги показывать посетителям, пока не найдется гурман, готовый выложить за нее кругленькую сумму.
Схватив палку, Повар пытался отогнать наглую Птицу, но та с громким криком, очень похожим на смех, – чем особенно напугала Повара, – кружила над его головой, и непонятно чем кончилась бы эта схватка, не подоспей на помощь люди.
Расчет повара оказался верным. Посетители валом валили посмотреть на необычную Рыбу. Прошел слух, что необычная Рыба – это утонувший мальчик-ныряльщик, и родители подали на Повара в суд с требованием вернуть им сына, ставшего рыбой. Для решения вопроса была собрана специальная комиссия, которая должна была установить сходство Рыбы с утонувшим мальчиком, но за день до решения комиссии море выбросило на берег – никто не мог понять, как это случилось, когда на море был абсолютный штиль – тело утонувшего мальчика. Оно выглядело так, словно мальчик только что утонул, и его стали откачивать, но когда поняли, что это тот самый мальчик-ныряльщик, утонувший несколько лет назад, в страхе разбежались. После этого случая Рыба в аквариуме стала хиреть: посетители закармливали ее кусочками мяса, мальками рыб, мухами и белыми трупными червями – наживкой особо привлекательной для обычных рыб. Но Рыба ничего не ела и с каждым днем заметно слабела, а когда подвыпившие забулдыги стучали костяшками пальцев по аквариуму, привлекая ее внимание, Рыба упиралась мордой в стекло и улыбалась так, что людям становилось страшно, и на нее перестали обращать внимание. Скорее всего, Рыба окончила бы свои дни на сковороде в кипящем оливковом масле, приправленном бальзамическим уксусом, каперсами, чесноком, шафраном, лимонной цедрой и множеством других специй из секретных рецептов Повара, не заинтересуйся Бакалавр слухами о необычной Рыбе. Едва бросив на нее взгляд, он увидел на ее боку написанное мелкими черными чешуйками знакомое арамейское слово – «шовава» – шутник, и тут же, не торгуясь, выкупил Рыбу.
Когда с аквариумом в руках Бакалавр переступил порог дома, Рында громко и радостно загудела: в улыбающейся Рыбе она узнала Капитана своего фрегата, а Рыба-Капитан сразу узнала свою Рынду. Приникнув к стеклу аквариума, Рыба быстро зашевелила губами, а Рында, привыкшая читать по губам приказы Капитана, неслышные в грохоте морских волн, поняла, что после гибели фрегата Капитан был реинкарнирован в Рыбу, а утонувшая вместе с ним Мулатка превратилась в морскую Птицу, и с тех пор преследует его, носясь с громким хохотом над океаном.
С этого дня жизнь в доме Бакалавра изменилась – любопытные мальчишки, заглядывавшие в окна, разнесли по городу слух, будто Бакалавр совсем сошел с ума: громко разговаривает с Рыбой, Рындой и каким-то Звоном, которого в комнате нет, но иногда его можно услышать, и, что самое странное, поит Рыбу Ямайским ромом, вливая его в рыбий рот через трубочку, после чего подносит к аквариуму карту морей и отмечает на ней места, в которые тыкает пьяным носом Рыба. Значение точек на карте вызвало много споров и предположений, но смысл их угадал старый матрос-побирушка, умиравший последние пятьдесят лет от пьянства и дурных болезней на улице между портовым кабачком и борделем. В разгар споров он за бутылку рома обещал открыть секрет точек. Ему никто не поверил, но ром купили. Побирушка, не отрываясь от горлышка, выпил всю бутылку, влез на стол и совершенно трезвым голосом объявил на весь кабак: «В этих точках на дне моря лежат затонувшие корабли с несметными сокровищами». Сказав это, он упал на пол и сразу умер. Поверил в это только хитрый китаец Лао Джинджао. Он пообещал снарядить экспедицию на поиск затонувших сокровищ и щедрое вознаграждение тому, кто сумеет выкрасть карту. Такие смельчаки нашлись: не столько из-за денег, сколько из жажды приключений, двое юнцов из приличных семей забрались в дом Бакалавра и попытались украсть карту, но по непонятной причине оба выбросились из окна второго этажа. Высота была совсем небольшая – на теле не нашли никаких переломов или царапин, и их можно было еще спасти, если б толпа любопытствующих не раздавила тяжелыми башмаками еще живых ушных улиток, вытекших с кровью из ушей.
По городу пополз слух, будто Бакалавр, не желая расставаться с картой, выбросил мальчишек из окна. На самом деле воришки сами выпрыгнули из окна, напуганные неожиданно громким звоном Рынды в тот момент, когда карта оказалась в их руках. Родители воришек пытались подать на Бакалавра в суд, но нашлось слишком много свидетелей того, что в момент смерти несчастных Бакалавр пил кофе в кофейне и играл с соседями по столику в кости. Чтоб избежать кривотолков, Бакалавр подарил карту морскому музею города, подтвердив, что точками действительно отмечены места, где затонули корабли с богатым грузом, но сокровища его не интересуют, и если б мальчишки или хитрый китаец попросили у него карту, он бы ее отдал.
К мировому океану у Бакалавра был совсем другой интерес: он мечтал отыскать место, где исчезают корабли, и можно услышать Звон Утренней Тишины. Рыба вызвалась привести клипер в нужную точку, если Бакалавр поклянется вернуть ее в море.
Этим планам чуть не помешал Прелат, специально посланный конгрегацией для наведения порядка в епархии, зараженной ересью, рожденной фантазиями прошлого Епископа, «улыбкой» непонятно откуда взявшегося Юродивого и трактатом некоего Бакалавра о мистическом влиянии «улыбки» на ауру горожан. Особенно возмущало Прелата предложение канонизировать не только выжившего из ума Юродивого, но и медную Рынду, с которой, по утверждению Бакалавра, молчальник-Юродивый ночами разговаривал. «Улыбку», которая продолжала жить на паперти и после смерти Юродивого, Прелат объявил «улыбкой дьявола», твердо решив извести ее окроплением святой водой и битьем специальными кожаными плетьми, с помощью которых он успешно изгонял бесов из одержимых.
Прелат так спешил исполнить приказ конгрегации, что потребовал от капитана изменить курс и провести судно в порт кратчайшим путем, что стало причиной несчастья: когда черная полоска берега уже обозначилась на горизонте, на море опустился непонятно откуда появившийся густой туман, скрывший от матросов все ориентиры. Течение подхватило ослепшее судно и выбросило его на скалы. Парусник сразу пошел ко дну, едва успев спустить на воду спасательную шлюпку с несколькими матросами и Прелатом, которого, как виновника катастрофы, сразу хотели утопить. Но неожиданно раздавшийся в тумане громкий хохот привел всех в оцепенение, так что рыбакам случайно спасшей их шхуны вначале показалось, что они поражены какой-то неведомой болезнью, превратившей их в недвижные, немые статуи с живыми плачущими глазами.
На берегу спасенных встречал весь город. Прелата, в сопровождении толпы прихожан, служки на специальных носилках понесли в церковь, чтоб отслужить благодарственный молебен «за спасение на водах». Но едва процессия взошла на паперть, как Прелат соскочил с носилок, вошел в храм и сразу начал читать проповедь о многоликости дьявола, избравшего для своих козней некрепкие в вере души прихожан, поверивших в чудесные свойства «улыбки» Юродивого и оздоровляющий воздух звон колокольчиков, до сих пор висящих на шее у некоторых прихожан.
Спасенных матросов портовые шлюхи отвели в свои кельи и, пользуясь древнейшими из известных способов оживления мужчин, целую неделю снимали с них оцепенение, возвращая жизненно важные органы в естественное состояние. Лечение, вероятно, продлилось бы и дольше, если б не огромное количество мух, слетевшихся к борделю на запах мускуса и рома: мухи набились во все щели, облепили глаза, при каждом вдохе и выдохе влетали и вылетали изо рта, как пчелы в улей, а ром в стаканах превращали в живую жужжащую массу.
В день, назначенный Прелатом для очищения стен и паперти собора от «улыбки», а души прихожан – от скверны ереси, собралось людей больше, чем обычно бывало на воскресных богослужениях. С церковными знаменами, хоругвями, статуями святых на носилках, кувшинами, полными святой воды, и кожаными плетьми для изгнания бесов, толпа с песнопениями двинулась шествием вокруг храма. Но едва они подошли к месту, где больше всего любил сидеть и улыбаться Юродивый, огромная свора собак, сбежавшаяся со всей округи, закрыла своими телами ступени паперти, а на их спины вперемешку уселись голуби и крикливые чайки.
Появление людей с плетками никак не напугало их. Собаки, оскалив зубы, угрожающе рычали и бросались на каждого, кто осмеливался приблизиться к ним, а птицы, низко носясь над толпой, больно били крыльями по глазам.
Увидев нерешительность верующих, Прелат, с епископским посохом и крестом в руках, смело пошел на собак. Люди в страхе замерли – казалось, собаки вот-вот разорвут его, но свора неожиданно расступилась, и Прелату открылась Улыбка Юродивого. Прелат замер. Вначале ему показалось, что Улыбка сотворена умелой рукой художника, сделавшего ее похожей на улыбки многих изображений святых на стенах храмов, но через мгновение он понял – Улыбка живая, и она, помимо воли входит в него. От глаз Улыбка постепенно сошла на лицо, разгладила мышцы, напряженные многолетними суровыми проповедями, потом раскрыла в улыбке плотно сжатые губы. Прелат почувствовал, как Улыбка необъяснимой радостью вошла в его сердце и куда-то рядом, в место, которое он никогда раньше не ощущал, а сейчас со страхом прозрения заглянул туда и открыл в себе безмерную глубину себя самого.
Прелат опустился на колени, и на глазах изумленных прихожан лег на Улыбку, раскинув руки. Собаки, окружившие его плотным кольцом, легли рядом, а спины их белым покрывалом укрыли голуби и чайки. Прихожане, не говоря ни слова и не смея пошевелиться, заворожено наблюдали за необычным зрелищем, а насмерть испуганный звонарь влез на колокольню и стал беспорядочно звонить в колокола. Прихожане, решив, что на Прелата сошла благодать религиозного экстаза, стали медленно расходиться, оставив его лежать в окружении собак. Постепенно разбрелись и они. Рядом с Прелатом осталась только одна Рыжая Собака: она вылизывала его лицо горячим языком до тех пор, пока Прелат не открыл глаза и не улыбнулся улыбкой, очень похожей на улыбку Юродивого. Только тогда Рыжая Собака позволила служкам поднять Прелата и отнести его в храм.
В отличие от остальных собак своры, в облике которых можно было обнаружить разной глубины связь с «благородными» предками, Рыжая Собака была беспородной, без малейших признаков «благородства», и в этом смысле она была совершенно чистопородной беспородной.
Рыжая сохранила в себе неразбавленные гены Первособаки с тех времен, когда пород не было вообще, и все собаки были одинаковыми. Разнопородные собаки появились гораздо позже, как наказание за содомию, разрушившую чистые гены первородной беспородности.
Бакалавр приметил Рыжую Собаку еще во времена Юродивого, который не делал никакого различия между собаками, когда бросал им куски мяса, купленные на подаяние. Он никогда не приближал Рыжую к себе, не гладил по брюху и не чесал за ухом, как делал это с другими собаками, но только Рыжей Собаке Юродивый смотрел в глаза.
Бакалавр интуитивно чувствовал необычную природу Рыжей и даже пытался приручить ее, но всякий раз, когда он протягивал ей кусочек лакомства или хотел погладить, Рыжая, не принимая даров, отходила в сторону и смотрела на него «говорящими» взглядом, смыл которого Бакалавр понял декабрьской ночью, наблюдая в телескопическую трубу самую яркую звезду небосклона в созвездии Большого Пса – Сириус. Случилось это на рассвете, когда после долгих ночных наблюдений Бакалавр, как это часто бывало, засыпал и видел сны, неотличимые от реальности, поскольку спал только один левый глаз, а правый, прижатый к телескопической трубе, бодрствовал и не закрывался никогда, чтоб не пропустить ни одно из событий изменчивого Космоса.
Той ночью Бакалавру привиделась Рыжая Собака и какой-то облаченный в хитон бесконечно усталый мужчина с деревянным посохом в руках. Оба вышли из созвездия Большого Пса и долго шли по световому лучу, пока не проникли через телескопическую трубу в дом Бакалавра. Рыжая отряхнулась, как это делают собаки, выходя из воды, разбросала вокруг себя облако светящейся пыли и легла у ног Бакалавра. Мужчина схватил со стола кувшин и прямо из горлышка стал жадно пить воду, остатки вылил из кувшина себе на голову и разбил его об стену. Вода тонкими струйками стекала с длинных волос на хитон, смывая пыль, похожую на мельчайшие сверкающие кристаллы.
Все происходящее казалось раздвоенным сном, в котором видения левого и правого глаза неразделимо смешались, образовав в сознании Бакалавра новую реальность, лишенную границ и времени – пространство, в котором все возможно. Мужчину в хитоне он раньше никогда не видел, но сразу узнал в нем Агасфера. Вечный скиталец, отбывающий срок неприкаянности, мог оказаться где угодно и в ком угодно, как напоминание о каре за несоблюдение заповедных норм гостеприимства.
Бакалавр пытался открыть левый глаз, разрушить видение – в какой-то момент ему показалось, что глаза нет вообще, но он был – зрачок метался из одного уголка глаза в другой, не в силах преодолеть тяжесть век. Тогда Бакалавр поставил ногу на мокрый пол – в детстве он страдал лунатизмом, и мать будила его постеленными у кровати мокрыми тряпками, – но пролитая Агасфером вода моментально высохла. Собака положила лапы на плечи Бакалавра, посмотрел ему в глаза долгим немигающим взглядом, как смотрела в глаза Юродивого, и Бакалавру открылся секрет всего собачьего рода: собаки ведут свою родословную не от прирученного первобытной женщиной волка, как это принято считать, а от «первособаки», пришедшей на Землю одновременно с «перволюдьми», которые, по утверждению некоторых философов-мистиков, пришли на Землю с одной из планет – Сириуса, куда, по их мнению, возвращаются и души всех умерших.
Пробуждение пришло, когда проникший сквозь деревянные ставни тонкий луч утреннего солнца, наполненный сверкающими частичками космической пыли, принесенной Агасфером и Рыжей Собакой, коснулся век Бакалавра. Он оглядел комнату, в которой, казалось, ничего не изменилось: Рыба-Капитан, слегка накрененная на левый бок – вечером она с Бакалавром пила ром – недвижно парила в воде аквариума; Рында, привязанная к корабельному канату, беззвучно свисала с потолка, но в углу под стеной лежали черепки глиняного кувшина, разбитого Агасфером.
Бакалавр попробовал соединить черепки – они мгновенно склеились, и он ощутил в руках тяжесть наполненного водой кувшина. Получалось, что сон продолжался наяву, но не целиком, а застрял осколком в какой-то части сознания, как болезнь, которую не всегда ощущаешь, но всегда носишь в себе. Осколок сна Бакалавр попробовал извлечь из сознания, вылив воду из кувшина на голову, как это сделал в его сне Агасфер – вода была вполне реальной. Капли ее, попавшие на стенки аквариума, разбудили Рыбу, и она, расплескивая воду, испуганно заметалась в тесном стеклянном пространстве.
На следующий день после лежания на паперти Прелат не вышел к воскресной мессе. Прихожанам объяснили, что святой отец простудился после долгой молитвы на холодных плитах, но это было не так: он не мог выйти на амвон и призвать силы небесные наслать кары на еретиков с улыбкой Юродивого, непонятным образом отпечатавшейся на его лице.
Целую неделю, отказываясь от еды и питья, он, стоя на коленях в маленькой келье, неустанно молился и истязал себя кожаной плетью в надежде, что боль избавит его от застывшей на лице улыбки. Он даже пытался «зашить» улыбку суровой ниткой, как это делают монахи-молчальники, давшие обет молчания, но стальные иглы гнулись и не могли проткнуть мягкую плоть губ. От отчаяния он готов был наложить на себя руки и умолял подсыпать ему яд в воду, но перепуганные служки, по совету китайца Лао Джинджао, напоили Прелата успокоительным настоем из желчного пузыря тибетского медведя, и погрузили его в долгий сон, длившийся до сорокового дня по смерти унесенного смерчем Епископа.
Проснувшись, Прелат первым делом посмотрел в зеркало: улыбка была на месте, но она перестала беспокоить его. Поднявшись на амвон, Прелат неожиданно для паствы с улыбкой объявил, что Епископ не был унесен смерчем вместе с сорванными крышами, сломанными деревьями и прочим мусором, а был Вознесен Силой Небесной к престолу Всевышнего. Епископ хоть и грешил, пытаясь неправедно обрести святость, но был человеком добрым, людям зла не делал, а то, что случилось с Рындой, можно объяснить его желанием изгнать Дьявола из непокорного колокола.
Внезапная перемена, случившаяся с Прелатом, сначала обеспокоила прихожан – прошел слух, что его покусала бешеная собака, когда он лежал в беспамятстве на паперти, – но вскоре они поняли: пораженные бешенством люди не улыбаются.
Постепенно горожане привыкли к улыбке, не сходившей с его лица ни на минуту, и к долгому сидению Прелата теплыми вечерами на паперти ровно на том месте, где любил сидеть Юродивый. Привыкли к Прелату собаки и голуби, которых он, как и Юродивый, стал подкармливать, покупая мясо и зерно на свои деньги, а если их не хватало, брал из храмовой кассы, вызывая неудовольствие приходского Казначея, сообщавшего обо все причудах Прелата в конгрегацию.
Особенно Казначея раздражала дружба Прелата с Бакалавром, которого он считал безбожником, нарушившим патриархальную жизнь не только городка, но смутившего еретическими идеями даже Епископа, позволившего напечатать кощунственный трактат о необычайных свойства улыбки Юродивого и благотворном влиянии ее на ауру людей, как доказательство его святости. Через доверенных людей Казначей пытался взбунтовать прихожан и предать книгу сожжению, но горожане отказались разводить костер из книг, хорошо помня, что именно Бакалавр спас воздух города от смерти, вернув в него живительную силу микробов и минералов.
Все свободное время Прелат проводил в долгих беседах с Бакалавром, который научил его по движению губ понимать Рыбу-Капитана, научил различать слова в тонких вибрациях медной Рынды и неслышном звоне живущего в ней Звона. Они открыла ему новое измерение жизни, в которой реинкарнация – это бесконечная цепочка различных воплощений, ведущая к совершенству бессмертия. Прелату открылась многосложность мира, в котором лично он ничего не значил, но был частью его, и весь этот огромный сложный мир мог стать совершенно иным без лично его маленькой частички, которая задумана специально для какой-то большой работы, которую ему, как и каждому рожденному человеку, еще предстояло совершить.
Служение в храме стало тяготить его. Суетная сущность прихожан с аурой, почти лишенной небесного цвета, их ничтожные помыслы и молитвы, где главными словом было «дай» и «помилуй», не вызывали сочувствия и желания отпускать грехи.
Проповеди его с каждым днем становились короче. В них было больше молчания, чем слов: их заменила улыбка, которой он пытался улучшить цвет ауры прихожан, как это делал Юродивый, после смерти которого аура прихожан заметно истоньшала и потемнела от накопившихся не отпущенных грехов: о них старались не вспоминать и не каяться на исповеди, отчего вино и хлеб причастия не превращались в их телах в очистительную Кровь и Плоть Спасителя.
Прелат понимал, – в этом есть и его вина: суровое выражение лица пастыря должно постоянно напоминать людям о грехе, внушать страх наказания, а его улыбка почти лишила прихожан страха. Не боясь гнева улыбчивого пастыря, они стали пропускать даже торжественные мессы, а одна распутная прихожанка, решив на спор с подружками смутить целомудренного Прелата, обнажилась перед ним в исповедальне и стала требовать отпустить грехи каждой части ее замученного прелюбодеянием тела в отдельности.
С улыбкой, в которой не было ни капли смущения, Прелат отпустил грехи, совершенные не только каждой частью ее тела в отдельности, но все грехи вообще, включая еще не совершенные, и греховные помыслы, которые жили в ней всегда. В следующую секунду прихожанка вспомнила и увидела все свои грехи разом: они явились ей пестрой ярмарочной толпой, в которой мелькали знакомые лица тяжелых грехов и почти забытые мелкие. Длинной вереницей они исходили из нее и сразу куда-то исчезали. С особым интересом она вглядывалась в будущие грехи, и какие-то из них ей захотелось совершить прямо сейчас, сразу, но будущие грехи и даже мысль о них были уже отпущены и потому ей недоступны. Последним вышел из нее маленький детский грешок – из ревности она укусила мать за грудь, когда та кормила младшую сестренку, но едва этот смешной грешок исчез вместе с остальными, прихожанка почувствовала, что тело ее, лишенное грехов, перестало быть ее телом, оно стало почти невесомым и прозрачным. Прихожанку охватил страх, она стала умолять Прелата вернуть ей хотя бы будущие несовершенные грехи, – тело может быть безгрешным только после смерти, а она жива и хотела жить еще долго и грешить, – но вернуть отпущенные грехи оказалось невозможно. Они исчезли, растворились в благодати Прощения. Потрясенная Прихожанка с трудом вышла из исповедальни. Ноги едва удерживали на земле ее невесомое, лишенное грехов тело. Подружки, ждавшие у храма ее веселых рассказов о грехопадении Прелата, едва увидев ее, бросились врассыпную, интуитивно почувствовав в ней пугающую перемену. Паперть и улица мгновенно опустели. Случайные прохожие разбегались от нее, как от прокаженной. Лавки и портовые кофейни закрылись, а стоявшие у причала суда срочно снялись с якорей и ушли в открытое море, как это бывает при приближении шторма. Она шла по городу, наполненному страхом и тишиной, нарушаемой стуком захлопывающихся деревянных ставен. Двери собственного дома тоже оказались запертыми: ни родители, ни муж, ни дети не захотели признать в лишенном грехов существе близкого человека. Только пьяный матрос, три дня пролежавший у дверей кабака, неожиданно проснулся, когда она проходила мимо, и стал кричать вслед: «Безгрешная! Безгрешная!». Он шел за ней, стараясь коснуться одежд Безгрешной, но Рыжая Собака, провожавшая ее от самого собора, не подпустила пьяницу. К вечеру она добралась до ворот женского монастыря, построенного на скале над морем. Весть о появившейся в городе женщине, полностью лишенной грехов, и страхе, охватившем горожан, проник и за стены обители. Настоятельница долго разглядывала Безгрешную сквозь глазок в дубовой двери, прежде чем согласилась принять несчастную женщину при условии, что всю оставшуюся жизнь она проведет затворницей в келье, с лицом, закрытым черным платком, чтоб не смущать своей безгрешностью монахинь. Ей отвели дальнюю келью, в которой она вскорости умерла. Как это случилось, и сколько времени она пролежала, прежде чем ее нашли, сказать не мог никто. Тело ее, лишенное грехов, не было тронуто тленом – казалось, она заснула, но стоило прикоснуться к ней рукой, плоть рассыпалась в прах, который легко подхватил сквозняк, закрутил его маленьким смерчем, унес через узкое оконце в сторону моря, где просыпал прах Безгрешной в волны начинавшегося шторма.
На рассвете третьего дня, когда штормовые волны улеглись, а горожане, как обычно, в поисках даров моря бродили по кромке воды, на горизонте показался парусник. Он так стремительно приближался, что люди на берегу запаниковали: кое-кто в страхе взобрался на прибрежные скалы и оттуда наблюдал за невиданным прежде судном со странным названием – «Ацтек». Узкий корпус с длинным острым носом, четыре необычно высоких мачты, оснащенные множеством прямых и косых парусов, делали его похожим на многокрылую птицу.
Появление судна не было неожиданностью для Бакалавра. В тот день, когда прах Безгрешной сквозняк унес в море, Рыба-Капитан металась в аквариуме от стенки к стенке, а потом, прильнув губами к стеклу, нашептала Рынде и Бакалавру, что судно, на котором они должны отправиться в плавание, скоро причалит к их берегу, и надо срочно собираться в дорогу, пока морское течение не изменило направление, должное привести их на место в океане, где бесследно исчезают корабли, и в Звенящей Тишине Утра можно услышать Голоса Космического Хора.
Слух о скором отъезде Бакалавра быстро распространился по городу. К нему привыкли, и большинство жителей при каждом удобном случае выказывали ему особое почтение, в котором было больше лицемерия, чем простой благодарности: как – никак, он сумел оживить воздух города; но именно эта непонятная сила Бакалавра пугала обывателей.
На прощальной проповеди в храме прихожане старательно демонстрировали свою печаль: кое-кто пришел с подарками и тайной радостью, что теперь город разом избавится и от Бакалавра, и от Рыбы-Капитана, которую все считали «дьявольским отродьем», и от Рынды – ее уже повесили на рее клипера рядом с капитанским мостиком, и она сразу начала отбивать «склянки» утренних и ночных вахт, мешая свой голо с с басовитым голосом жившего в ней Звона. Рыба-капитан, памятуя о своем печальном опыте, особо предупреждала Бакалавра, чтоб кто-нибудь из матросов, усердно наполнявших себя перед долгим плаванием ромом и женскими ласками, не протащил на судно портовую шлюху.
В день, назначенный к отплытию клипера, случилось несчастье: умер Прелат – на паперти, где он кормил голубей, которых этим утром было особенно много. Привыкшие к причудам Прелата прихожане не обратили внимания, что сотни голубей не дерутся, как обычно, за каждое зернышко, а облепили его со всех сторон так, что невозможно было его разглядеть и понять, жив он или мертв. Звонарь, разогнавший голубей, чтоб напомнить Прелату про утреннюю службу, почувствовав неладное, стал звать на помощь, но было поздно – Прелат был мертв, и все старания китайца Лао Джинджао оживить его чудодейственными снадобьями оказались напрасны.
Понять причину внезапной смерти по внешним признакам было невозможно: спокойное лицо, улыбка, открытые глаза, еще подернутые влагой жизни, – все указывало на вмешательство иных сил, и по толпе, окружившей покойника, прошел шепот, что это месть несчастной женщины, тело которой Прелат, впав в сатанинскую ересь, разрушил прижизненным отпущением всех грехов. От этой мысли людям стало страшно: не отпустил ли он на исповеди и им грехов больше, чем необходимо каждому человеку иметь для нормальной жизни. Чтоб обезопасить себя, многие стали тут же, на площади, прелюбодействовать в мыслях и сердце своем, что тоже считается грехом, достойным исповеди, а кое-кто поспешил для надежности в портовый бордель и стал наполнять себя греховной любовью с жаром, удивившим даже опытных шлюх.
Весть о внезапной смерти Прелата Бакалавру принесли голуби. Огромная стая облепила его, цепляясь когтями и усиленно махая крыльями. Они, казалось, приподняли Бакалавра над палубой, где он вместе с матросами ставил паруса, готовя клипер к отплытию в час, с точностью до минуты назначенный Рыбой-Капитаном, о чем Бакалавр сразу забыл и, несмотря на угрозу упустить морское течение, которое должно было привести судно в нужное в океане место, побежал на соборную площадь, где вокруг мертвого Прелата собралась толпа прихожан – зрелище чужой смерти часто вызывает больше любопытства и тайной радости: ты еще здесь, а имярек уже там. Растолкав толпу любопытствующих, Бакалавр опустился на колени, прикоснулся пальцами к мертвому лицу друга. Смерть еще не успела изгнать из тела и стереть пугающую всех Улыбку. Глядя на друга через слюдяные очки, он понял: Прелат еще не совсем мертв. Борясь со смертью, он сумел сохранить внутри себя кусочек жизни, и Бакалавр почувствовал, как ее тепло вместе с Улыбкой с остывающего лица перетекает в него, чтоб совершить вместе с Рыбой-Капитаном и Рындой морское путешествие и найти место, где он, Прелат, может услышать и свой голос в Хоре Утренней Тишины. Когда из тела вышло маленькое прозрачное облачко души и вместе с последней каплей тепла ушло в жаркое полуденное небо, по людям, собравшимся на площади, пробежала холодная дрожь, и они стали расходиться по домам, растапливать камины и кутаться в теплую шерсть в надежде согреть внутри себя опустевшее пространство Улыбки.
К моменту отплытия клипера причал был пуст, если не считать Рыжую Собаку, голубей и портовых шлюх, которые пришли проводить моряков не как случайных любовников, а как своих мужей, которых у них никогда не было. Когда по сигналу Рынды якоря уже были подняты и матросы стали затаскивать сходни, Рыжая Собака вскочила на борт, поднялась на капитанский мостик и легла у ног рулевого, а стая голубей, заполнив мачты, реи и всю оснастку клипера, отправилась в плавание, чтоб заселить не открытые еще людьми острова.
Первый месяц плавания Капитан клипера, который слыл опытным «морским волком», по требованию Бакалавра точно выполнял команды Рыбы-Капитана, которые она подавала из аквариума, поставленного на капитанском мостике рядом с огромным рулевым колесом. По мнению Капитана, искать в океане место, где исчезают корабли и слышен Звон Утренней Тишины, бессмысленно и опасно. Другое дело «корабли-призраки», о них он знал не понаслышке. Он сам в годы пиратской молодости без всякой мистики отправил в «призрачное» плавание по морям несколько кораблей с матросами, повешенными на реях. Капитан и сейчас был готов пуститься на авантюру, будь на судне пушки и лихая команда, но ни того, ни другого не было, и он, хоть и в ранге капитана, плыл как простой матрос, подчиняясь командам Рыбы. Язык ее, язык моря, Капитан быстро научился понимать, и долгими часами слушал рассказы Рыбы о недоступных людям морских глубинах, об их устройстве и огромных сокровищах затонувших кораблей, которые можно поднять со дна моря с помощью дельфинов, если обучить их делать это так же, как обучают соколов вылавливать в недоступных высотах неба охотничью добычу и приносить хозяину.
В знак дружбы Рыба предложила поднять со дна моря несколько золотых монет, если Капитан выпустит ее в море, когда клипер окажется над затонувшим богатым галеоном. Несмотря на частую смену курса, плавание протекало очень спокойно, чему способствовали голуби: стоило клиперу попасть в штиль, голуби взлетали, взмахами крыльев наполняли паруса ветром и выводили его из зоны штиля.
За несколько первых месяцев плавания клипер не встретил на своем пути ни одного корабля, хотя курс его пересекал известные морские пути, и если б не звездное небо над головой, по которому астролябией сверяли курс, можно было подумать, что они плавают в каком-то никому неизвестном море, где нет никаких земель, а только одна бесконечная вода, как это было в начале всех начал, когда над пустыней вод витал один Святой Дух.
Первыми землю почувствовали голуби. Разом взлетев, они понеслись к южному краю горизонта раньше, чем марсовый матрос разбудил команду криком: – Земля! Земля! – В телескопическую трубу Бакалавр увидел довольно большой остров в тот момент, когда стая голубей исчезла в густой листве деревьев острова, не отмеченного даже на самых древних картах, по которым плавали, заселяя землю, внуки Ноя на кораблях, построенных из обломков Ковчега, собранных на склонах горы Арарат. Пользуясь правом первооткрывателей, Бакалавр и Капитан решили назвать его – «Голубиный», но быстро поняли, что это не просто затерявшийся в море и никем не замеченный кусок земли, а плавучий остров, из тех, что непонятно откуда внезапно возникают под килем кораблей там, где их никогда не было, и так же внезапно исчезают, унося в море свои жертвы. Капитан пытался приблизиться к острову – паруса, раздутые сильным ветром, гнали клипер к острову на полной скорости, но приблизиться к нему не могли. Внезапно ветер стих, паруса, привыкшие к помощи ветра голубиных крыльев, не найдя его, обвисли. Волны моря сгладил мертвый штиль, но клипер не остановился, а продолжал, судя по звездам, двигаться вместе с застывшим морем к югу.
«То, что мы ищем, совсем рядом», – беззвучно губами шептала Рыба. Так продолжалось несколько дней, пока клипер не оказался в широтах незаходящего солнца, где не только матросы, но Рыба-Капитан и даже астролябия, не найдя звездные ориентиры в слепящем глаза небе, потеряли чувство пространства, и только струйка песка, вытекающая из стеклянной колбы часов, продолжала отмерять ни к чему не привязанное время.
Погода изменилась на следующий день после появления в расплавленном жарой небе чёрной Морской птицы: похожая на саму смерть, она носилась между обвисшими парусами, пугая матросов диким хохотом, а когда палуба опустела, Морская птица присела на край аквариума и кончиком крыла стала гладить Рыбу-Капитана. Кто-то из матросов выстрелил в птицу, но пуля попала в аквариум, расколов его на миллион стеклянных осколков, хлынувших с потоком воды в спасительное для Рыбы-Капитана море. Но Птица оказалась быстрее: подхватив острыми когтями Рыбу-Капитана, она исчезла со своей добычей так же быстро, как и появилась, оставив в воздухе жуткий, долго не смолкавший хохот.
Это случилось в день, когда солнце на пять минут скрылось за горизонтом, и в посеревшем небе появились звезды. Капитан настроил астролябию, определил место клипера в океане, и по требованию команды принял решение с первым же ветром уйти из гиблых мест как можно дальше, пока черная Морская птица или какое-нибудь иное морское чудовище не утащит их на дно. Бакалавр знал – страхи матросов не напрасны. Долгое плавание по морям научило некоторых из них чувствовать и внутренним взором видеть невидимую другим опасность, которую через слюдяные очки ясно увидел Бакалавр: на зеркальной поверхности воды проступили лица его недавно умерших близких и лица, умерших давно – их он знал только по портретам на стенах, – и множество совершенно незнакомых лиц предков, живших далеко за седьмым коленом. Бакалавру неудержимо захотелось прыгнуть в воду, поплыть среди знакомых и незнакомых лиц за горизонт и найти там лицо, давшее начало всему роду. Он уже сделал шаг к трапу, когда при полном безветрии ощутил дрожь моря, пробежавшую через весь клипер от киля до кончиков мачт, по парусам, реям и подвешенной к ним Рынде. Дрожь передалась матросам – их затрясло так, словно они все разом заболели лихорадкой; задрожал воздух, а от поверхности моря поднялся густой, наполненный сверкающими капельками воды, туман, поглотивший судно. Потерявшиеся в нем матросы стали перекликаться, и в их голосах звучал не страх, а странное хмельное веселье. Рядом с голосами матросов в тумане стали слышны другие голоса и звуки: смех первородного греха, первый крик новорожденного, последний выдох уходящей из тела земной жизни, шелест отлетающих к небу душ, звуки труб и струн, треск поваленных бурей деревьев, грохот извержений и хруст челюстей червяка-древоточца, прогрызшего километровый тоннель в случайно попавшем на парусник письменном столе давно умершего короля. В тумане, одновременно и каждый в отдельности, слышался еще миллион разных звуков и голосов, среди которых звучали голоса Рынды и Звона. Слитые в единый хор, они вошли в Бакалавра и матросов чувством Невыносимого Счастья, наполнили каждую клеточку, заменив собой плоть так, что сами тела перестали быть нужны и исчезли. В последний миг угасающего сознания Бакалавр успел подумать: – Я слышу Звон Утренней Тишины.
Рында и живший в ней Звон колокола тоже услышали Звон Утренней Тишины и вобрали его в себя. Плоть металла тверже живой клеточной ткани, и Невыносимое Счастье голосов небесного хора вошло в металл, стало его частью, чтоб передаваться генетической памятью в нескончаемой череде реинкарнаций.
Пространство внутри тумана, не имея возможность измерить себя, потеряло смысл. Время остановилось и застыло тонкой струйкой песка между верхней и нижней колбой песочных часов.
Когда туман рассеялся, на всем паруснике не осталось ни одного человека, исчезло все живое: исчез из клетки длиннохвостый попугай Ара, исчезли корабельные крысы, исчез из глубин письменного стола червяк-древоточец, и только Рыжая Собака сидела на своем обычном месте, на капитанском мостике. Она была существом иных миров и, как Агасфер, несла на себе бремя вечного скитания.
После исчезновения команды клипер превратился в истинный «корабль-призрак». В отличие от «кораблей-призраков», рожденных алчностью пиратских разбоев, не способных сколько-нибудь долго продержаться на поверхности моря без управления и погибающих при первой же буре, клипер-призрак обходился без команды. Паруса исправно «ставил» и надувал ветер, незримый лоцман прокладывал курс, Рында своим звоном наводила ужас на встречные суда, а их капитаны, увидев в подзорные трубы пустые палубы и Рыжую Собаку на мостике вместо капитана, спешили уйти подальше.
Невозможно сказать, сколько времени длилось плавание «клипера-призрака». Он «выпал» из времени в тот момент, когда с его палубы исчезли матросы, а струйка песка в песочных часах повисла между колбами.
Завершилось плавание «призрака» в том же месте, откуда началось. Ветры и морские течения привели судно в ту часть океана, где незаходящее солнце ходит по кругу, и все повторилось: море при полном безветрии задрожало, дрожь передалась клиперу, пробежала от киля до кончиков мачт, по парусам и реям. Поднявшийся от поверхности воды густой туман окутал клипер. В абсолютной тишине стало слышно, как в песчаные часы вернулось время, и с шорохом потекли песчинки. Стали слышны голоса матросов и множество других голосов и звуков, в которых можно было различить и хруст челюстей червяка-древоточца в глубинах письменного стола. Сильный порыв ветра разогнал туман, на палубе появились матросы, и по команде Капитана бросились ставить измученные безвременьем и штилем паруса. Жизнь на клипер вернулась как пробуждение после глубокого сна. Команда, не заметив «потерянного времени», продолжила заниматься недоделанными «вчера» делами, и только Бакалавр, посмотрев на хронометр через слюдяные очки, понял, что в «безвременье» они потеряли шестьдесят шесть лет, шесть месяцев, шесть дней, шесть часов и шесть минут, но команду клипера это не состарило ни на одну секунду.
Как и было обещано накануне провала во «временную дыру», капитан направил клипер к родным берегам. Все благоприятствовало плаванию: ни Роза ветров, ни течение морских рек, ни движение небесных светил не изменились, а когда на макушку грот-мачты сел баклан, стало понятно, что земля не далеко, и конец долгого плавания близок.
С поднятыми парусами украшенный флагами клипер быстро приближался к берегу, но у входа в бухту он неожиданно сбавил ход и с парусами, полными дневным бризом, остановился, словно его прочно заякорили. Вначале капитану показалось, что за время плавания фарватер изменился, и морские течения намыли мель, но опущенный лот показал, что глубина гораздо больше необходимой. Установить причину взялся молодой матрос, – прыгнув в море, он пронырнул под килем, и в ту же секунду клипер, набирая скорость, поплыл к берегу: в радостной суматохе только Бакалавр заметил, что вынырнул матрос глубоким стариком и через секунду мертвым ушел на дно.
Команда клипера, повиснув на реях и снастях, в бинокли и подзорные трубы разглядывала множество новых построек в городе, удивлялась, как быстро они выросли, а собравшиеся на берегу люди гадали, откуда в их порту появилось необычное судно со старинной оснасткой парусов. А когда разглядели на его бортах название – «Ацтек», по толпе пробежала дрожь испуганного шепота: судно с таким названием, построенное богатым негоциантом специально для чудаковатого сына, прозванного Бакалавром, несколько десятилетий назад отплыло из их порта на поиски мест в океане, где пропадают корабли. Все были убеждены, что «Ацтек» нашел это место и исчез в нем вместе с командой, как исчезали все попавшие туда суда. С тех пор «Ацтек» стал легендой города и его гордостью. В честь него назвали улицу, учебное заведение для мальчиков – будущих матросов; выпустили почтовую марку с изображением клипера; в сувенирных лавках торговали маленькими копиями парусника и даже хотели выпустить в оборот золотую монету «Один Ацтек» – эту идею особенно поддерживали девицы из борделя «Большой Ацтек», справедливо полагая, что в скором времени большая часть золотых монет окажется в их кошельках.
Поначалу все решили, что это случайное совпадение, и к их легендарному «Ацтеку» судно не имеет никакого отношения, но подсознательное беспокойство ощутили все, и этому была причина – за целую неделю до появления «Ацтека» рыбаки не выловили в бухте ни одной, даже самой маленькой рыбешки, и это был дурной знак. Пряча за шутками беспокойство, горожане встречали приплывших матросов, не предполагая, что встречают своих кровных родственников, и интересовались, откуда приплыло экзотическое судно, а матросы, не найдя в толпе близких, не могли представить, что на причале собрались их внуки, правнуки и даже праправнуки.
Но одна встреча все же состоялась. С громким криком: «Эмилио, Эмилио! Я здесь, я дождалась тебя!», – сумасшедшая девяностолетняя старуха, прозванная горожанами «Невеста», набросилась с объятиями и поцелуями на молодого матроса, узнав в нем своего жениха, которого честно ждала все эти годы. Когда пришла весть о гибели клипера, она не поверила и не стала оплакивать жениха: чтоб никого не тревожить и не потерять веру в его возвращение, она тихо сошла с ума и многие годы жила в порту под навесом, сидя в колченогом кресле с обломками бронзы и потертой позолоты.
В ожидании суженного она целыми днями вязала вещи для «их малыша» – по гаданию цыганки, он должен родиться в день возвращения жениха, и если кончалась шерсть, она тянула нить для вязания из пауков-крабов, которых специально для этого подкармливала мухами. Для моряков она стала своего рода талисманом: перед уходом в море они приводили к сумасшедшей Старухе своих жен и невест в надежде, что на время разлуки к ним перейдет частица ее безумной верности. В молодости Старуха была очень хороша собой, и сейчас лицо ее, огражденное сумасшествием от обычных житейских невзгод, сохранило черты былой красоты.
Под хохот друзей и окружившей их толпы, Эмилио, содрогнувшись от ужаса и отвращения, пытался оторвать от себя старуху, но стоило ей дотянутся до его губ – Эмилио узнал ее. Узнал в неожиданно помолодевшем лице безумной старухи свою невесту, вспомнил день отплытия, вспомнил слезы на ее лице и обещание дождаться, узнал вросшее в распухшие суставы обручальное кольцо, которое он надел ей на палец и, помимо своей воли, под изумленными взглядами заполнивших площадь людей, Эмилио ответил ей поцелуем со всей страстью долгой разлуки. Потом старуха по очереди обошла всех матросов, назвала их по именам, поздравила со счастливым возвращением и стала знакомить матросов с глубокими стариками, которые были их детьми, знакомить с постаревшими внуками и правнуками, которые не хотели в этих молодых мужчинах признавать своих давно умерших предков, а когда поверили в это, стали быстро расходиться по домам, запирать двери, чтоб не впустить оживших покойников в свои дома.
Площадь в порту и улицы города мгновенно опустели. Закрылись магазины и кабаки. Закрылись портовые бордели, в которые так рвались соскучившиеся по женской ласке матросы. И лишь одна проститутка со странным именем Зминэ из жалости и любопытства решилась пустить к себе в постель всех оживших покойников и совершила с ними грех прелюбодеяния, в котором позже покаялась, рассказав исповеднику, что с ожившими покойниками все совершалось, как обычно, если не считать того, что за долгое плавание в них накопилось столько сил, что они сумели утомить даже ее искушенное тело, а несколько из них умерли прямо в ее постели, что иногда случалось и с обычными клиентами по причине необычайно жарких объятий Зминэ. Впоследствии Зминэ стала очень богатой проституткой, поскольку многие клиенты приходили с желанием и надеждой приобщиться через ее тело к тайне небытия.
Отринутые родным городом и близкими, матросы бродили по пустым улицам, не понимая, что произошло, пока Бакалавр не объяснил им, что легенды о «кораблях-призраках», исчезновение кораблей вместе с командой и сводящие с ума голоса в тумане, – правда, и что они попали в ту часть океана, где все это произошло с ними, и они выпали из времени на шестьдесят шесть лет, шесть месяцев, шесть дней, шесть часов и шесть минут, и что всем им сейчас по сто лет, и будет лучше, если они согласятся жить в стороне от города, в поселке, который он готов для них построить, поскольку старый нотариус, у которого отец Бакалавра оставил завещание на сына, не вдаваясь в тонкости жизни и смерти, оформил наследство на Бакалавра, сделав его очень богатым человеком. Матросы отказались, и тогда Бакалавр подарил им клипер, дал денег, чтоб они могли сами найти приют на понравившемся им берегу. Три дня и три ночи матросы, как пираты, захватившие город, грабили лавки и дома, особенно свои дома, в которых жили их внуки и правнуки. Они опустошили портовые склады, набив трюмы клипера провиантом, а за день до отплытия силой заставили Падре соединить в церкви узами брака моряка Эмилио с сумасшедшей старухой. Невеста чувствовала себя такой счастливой, что, глядя на нее, Эмилио на мгновение вспомнил чувство Невыносимого Счастья, которое он испытал в тумане, и погрузился вместе со всеми в свадебный разгул.
Под бой барабанов, звуки флейт и труб музыкантов бродячего цирка, матросы подняли на руки жениха и невесту, одетую в купленное у цыган ворованное подвенечное платье из белых кружев и страусиных перьев, и пронесли молодоженов через весь город в лучшую гостиницу. Напуганные постояльцы, едва увидев свадебную процессию, разбежались, а матросы, уложив молодых на огромную кровать с балдахином, уселись под окнами и пьяными голосами пели любовные серенады, пока жених лишал свою невесту девственности, которую она берегла все эти годы, чтоб подарить ее супругу с безмерной женской страстью, накопленной долгим ожиданием. В эту ночь она успела все: зачать ребенка, почувствовать в своем теле новую жизнь, вместе с мужем ощутить Невыносимое Счастье и умереть утром следующего дня в мертвых объятиях Эмилио, постаревшего в один миг на шестьдесят шесть лет в ту минуту, когда клипер, на глазах горожан, при поднятых парусах, хорошем ветре и ясном небе, не доплыв до горизонта на полном ходу ушел под воду.
Бакалавр, из окна своего дома, построенного на скале над морем, в телескопическую трубу отчетливо видел, что ни одна шлюпка не была спущена на воду. Когда флажок на грот-мачте скрылся в волнах, Рында погребальным звоном проводила клипер на вечную подводную стоянку, а Рыжая Собака завыла и не успокоилась до тех пор, пока Бакалавр не лег рядом с ней на пол и, глядя в глаза первособаки, не улыбнулся улыбкой, похожей на улыбку Юродивого, которая в первые дни возвращения в родной дом спасала его от фанатичных горожан, считавших Бакалавра ожившим покойником и упырем, способным наслать на город голод, мор и засуху.
Избавиться от Бакалавра горожане решили известным со времен инквизиции способом – похоронить упыря в стороне от жилья в глубокой могиле, засыпать известью и полить водой, взятой из колодца в полночь, в полнолуние. К толпе, окружившей дом, Бакалавр вышел в слюдяных очках и сразу понял ее намерения. Силу улыбки, только похожей на улыбку Юродивого, он знал – стоит улыбнуться, и люди от страха отступят, но затаят бессильную злобу, которая начнет отравлять воздух города, воду в источниках и вино в бочках, одинаково веселящее на свадьбах и поминках. Напитанные злобой испарения поднимутся к облакам и прольются на землю отравленным дождем, от которого погибнет урожай. Но хуже всего, что отравленным станет молоко в груди кормящих матерей, и дети начнут болеть болезнями, которые врачи, сами зараженные злобой и раздражением, не смогут лечить. И тогда Бакалавр решил остановить их способом, не раз останавливавшим большие войны, способом, заставлявшим забывать о кровной вражде, о родителях, братьях, сестрах, друзьях и родной земле: Бакалавр предложил им деньги и обещал, в случае ненасильственной смерти, завещать городу свое состояние. Он объяснил, что ему фактически больше ста лет, и Время в любую минуту может вернуть ему потерянные шестьдесят шесть лет, шесть месяцев, шесть дней, шесть часов, шесть минут и секунд, и он сразу умрет немного запоздалой, но естественной человеческой смертью, которую не надо дополнительно убивать известью и заливать полнолунной колодезной водой. А когда это случится, все станут богатыми. Толпа, поколебавшись, отступила, оставив во дворе и вокруг дома огромное количество грязных мыслей и слов, от которых сразу пожухли трава и цветы, и Бакалавру пришлось выпустить из курятника сотни безразличных ко всему кур, которые мгновенно склевали всю нечисть и побежали следом за толпой доклевывать оброненную по дороге злобу, чтобы ее, смытую дождем, не впитали корни и без того крепко сидящих в земле сорняков.
С этого дня жизнь в городе заметно изменилась. Забросив привычные дела, люди часами спорили в кофейнях, кем считать вернувшихся из плавания на «корабле-призраке» родственников – ожившими покойниками или живыми людьми, пораженными неведомой болезнью, от которой в конечном итоге и погибли. При полном отсутствии внешних признаков потусторонности, большинство считало их ожившими покойниками – так было легче оправдать проявленное по отношению к предкам негостеприимство. Особенно на этом настаивал – по понятным коммерческим соображениям – гробовых дел мастер и торговец ритуальными услугами. Он требовал от мэрии выделить новое место для кладбища и немедленно совершить захоронение оживших покойников с соблюдением всех ритуалов. Тот факт, что покойники отсутствуют, он считал несущественным и уверял, что они, покойники, по памятникам без труда найдут свои могилы и упокоят в пустых гробах измученные скитанием в потерянном времени и изъеденные голодными морскими гадами, тела. Протестовала только проститутка Зминэ, она точно знала, что моряки с «клипера-призрака» были живыми: она вобрала в себя жар их истосковавшихся по женской ласке тел, и ей было плевать, сколько им лет на самом деле. Они были такими же сильными в любви мужиками, как столетний старик, раз в неделю спускавшийся из горной деревушки к Зминэ, после которого она сутки не подпускала к себе мужчин, чтоб чужие грубые губы не стерли нежность губ его беззубого рта, от которого грудь ее оживала молоком, и она плакала от счастья, вспоминая губы умершего во младенчестве сына.
Церковь тоже не могла дать определенного ответа – перед отплытием моряки пожертвовали деньги на строительство часовни в честь покровителя всех моряков, святого Фоки Синопского, чего никак не могли сделать покойники. По этой причине символические похороны моряков с «клипера-призрака» решено было отложить до смерти Бакалавра, который, как утверждала Зминэ, был совершенно здоров: ходили достоверные слухи, что она пыталась влезть к нему в постель. Но когда Зминэ вошла в дом, Бакалавр смотрел через слюдяные очки на закатные облака, пил вино и разговаривал с Рындой, а увидев Зминэ, улыбнулся, усадил за стол, наполнил бокал, и с первым глотком она почувствовала, что комната и Бакалавр медленно растворятся в воздухе. В последний момент она успела прижать улыбающееся лицо Бакалавра к своим огромным грудям и ощутить Невыносимое Счастье. Очнулась она в своей комнатке в борделе, где заперлась и целую неделю не подпускала к себе клиентов, пока улыбка Бакалавра на ее груди не истаяла до конца.
Потерянное время начало догонять Бакалавра в день весеннего равноденствия. Утром он услышал внутри себя какой-то шорох, похожий на шорох песчинок в песочных часах, но часы стояли на своем обычном месте, и верхняя колба была пуста, так что шорох, который слышался изнутри, не мог быть шорохом, проникшим в него из часов на столе. Песка в колбе было ровно на один час естественного времени. Бакалавр перевернул часы, и песок мгновенно перетек из верхней колбы в нижнюю так, что он не успел заметить, как это произошло.
Прежде чем еще раз перевернуть часы, Бакалавр надел слюдяные очки и увидел, как струйка песка мгновенно перетекла из одной колбы в другую. Бакалавр понял, что внутри него шуршало потерянное время, которое вернулось, вошло в каждую клетку тела и стало догонять естественное время его жизни.
C помощью хронометра Бакалавру удалось рассчитать, что за секунду естественного времени через песочные часы его тела протекает один день, и если потеряно было шестьдесят шесть лет, шесть месяцев и шесть дней, то догнать предстояло 24372 дня, на что в естественном времени уйдет 24372 секунды или семь дней, так что жить осталось совсем немного, и надо было успеть закончить книгу «Путешествие Бакалавра в Потерянном Времени», и сделать последние распоряжения. За первые сутки Бакалавр постарел на десять лет и не заметил в себе особых изменений, поскольку зеркала он предусмотрительно снял. Организм старел очень быстро, но плавно, без скачков и болезней – естественных спутников старения. На второй день он поставил последнюю точку в рукописи и завещал ее библиотеке местного университета с просьбой издать рукопись после его смерти. Весь третий и четвертый день он провел в беседах с Рындой и жившим в ней Звоном. По просьбе Рынды он завещал ее готовому к спуску на воду новому судну. Звон попросил оставить ему на память Улыбку и обещал Бакалавру донести ее до Колокола в далекой северной стране и передавать ее со звоном прихожанам, не отличавшимся улыбчивостью. На пятый день Бакалавр, постаревший еще на пятьдесят пропущенных лет, пошел на ослабевших ногах с Рыжей Собакой в горы, куда часто забирался в детстве, чтоб в последний раз полюбоваться городом, дальними горизонтами моря и помечтать о будущем, которого у него уже не осталось, но, как всякому умирающему человеку, очень хотелось заглянуть за порог жизни, хоть минутку погреться на солнце первой без него весны и ощутить дурманящий запах цветущего во дворе миндаля.
К вечеру Бакалавр и Рыжая Собака добрались до знакомого с детства дуба на вершине горы. Годы нисколько не изменили его: в шелесте листвы и сейчас слышались слова, из которых Бакалавр когда-то складывал стихи или просто разговаривал с деревом. Сегодня говорить не хотелось – только слушать. Привалившись спиной к стволу, он вслушивался в шорох листьев и шелест выпадающих из них слов; разглядывал возникавшие вспышками картины прошлого и вспоминал обрывки неизвестно когда виденных снов, в которых не хотелось искать смысл, а только смотреть и слушать, как это делают новорожденные дети, наполняя свое сознание знаками будущей жизни.
Погруженный в воспоминания, Бакалавр не сразу увидел подошедшего Мальчика. Бакалавру показалось, что он похож на него, маленького, но не живого, а на миниатюрный портрет, который мать Бакалавра заказала еще до его рождения и носила в медальоне на груди в надежде, что это поможет ей выносить и родить живого сына после пяти мертворожденных девочек. Бакалавр не стал спрашивать Мальчика про родителей. Остров, на котором они оба родились, не такой большой, и в каком-то колене у них, наверно, есть общий предок. Познакомься Бакалавр с Мальчиком раньше, обязательно отписал бы ему часть наследства или сделал дорогой подарок, но сейчас в его карманах не было ничего, кроме случайно застрявшей золотой монеты, к которой Мальчик не прикоснулся: он ждал другого подарка, и Бакалавр отдал ему слюдяные очки. Не сказав ни слова благодарности, Мальчик надел очки, огляделся и, громко смеясь, побежал вниз по склону, не обращая внимания на раскаты грома, на молнию, в один миг спалившую за его спиной дуб и Бакалавра.
В последние секунды жизни Бакалавр успел увидеть не только всю свою прожитую жизнь, но и будущую жизнь Мальчика, добывшего с помощью слюдяных очков много славы, много позора, военных побед, поражений, любви, богатства, нищеты, предательства, ненависти; которого потом отлили в бронзе и поставили стоять в дурацкой шляпе на площади перед собором в качестве назидания потомкам – крепить славу государства и собственную славу пролитием непонятно за что чужой крови и гордиться этим; и отмечать шумными шествиями, и класть к подножью памятника цветы, и отмывать по праздникам бронзового идола от помета голубей, прилетавших специально для этого с острова в середине океана, не обозначенного ни на одной карте мира. Последней мыслью Бакалавра было: «Мальчик глупо прожил жизнь. Он не испытал Невыносимого Счастья и не услышал Звон Утренней Тишины».
Рыжая собака лизала постаревшее в одно мгновенье на шестьдесят шесть лет, шесть месяцев, шесть дней и шесть часов мертвое лицо Бакалавра, пока следующий удар молнии не отправил и ее в пространство Вечной Жизни и Вечного Скитания.
Дуб горел всю ночь. Разбрасывая искры, поджигая сухую траву и смолистые кусты можжевельника, ветер гнал огонь вниз по склону. Люди в панике покидали свои жилища, со страхом наблюдая, как пожар, подобно потоку раскаленной лавы, несется к городу, но, дойдя до дома Бакалавра – он первый был на пути огня – неожиданно погас. Дуб еще догорал, когда Мальчик разнес по городу слух, что пожар – дело рук Бакалавра: неожиданно постарев, он впал в слабоумие, поджег дуб и хотел спалить весь город, но удар молнии испепелил его самого.
Весть о смерти Бакалавра обрадовала горожан. Сначала они поделили имущество, оставленное городу по завещанию, потом разграбили дом, а когда выносить стало нечего, сняли окна и двери, разобрали по кирпичику стены и долго бегали по двору, ловя обезумевших от страха кур. Кто-то хотел выполнить единственную просьбу Бакалавра – повесить Рынду на рею строящегося на стапелях корабля, но местный Падре потребовал уничтожить Рынду, чтоб она никого не смущала разговорами о Танце Звезд и Звоне Утренней Тишины. Рынду выкинули во двор, и несколькими ударами тяжелого молота раскололи ее. С последним ударом из Рынды вылетел Звон Колокола из далекой северной страны. Покружив над городом, он вошел в звоночек, висящий над входом в портовый кабак. Ему, несущему в себе звон благородного сплава и голос частицы тела Святого Великомученика, обидно было звякать ржавой железкой, отмечая приход и уход посетителей, но это помогло ему дожить до того дня, когда в кабак вошли матросы с приплывшего накануне в порт корабля, потребовали водки, напились и устроили драку, ругая друг друга на языке, на котором молились монашки, и по заказу которых когда-то был отлит его Колокол.
В тот же день, во время вечерних склянок, Звон переселился в корабельную рынду и узнал от нее, что корабль с грузом колониальных товаров держит курс в далекую северную страну, в порт, от которого Звон легко мог добраться до женского монастыря и Колокола, давшего ему жизнь.
Возвращение к родным берегам было не очень долгим, но крайне скучным. Рында, приютившая Звон, была неразговорчивой, звук склянок, которые она отбивала несколько раз в сутки, был тусклым, что понятно – ее, как и сотни других, отлили на заводе уставшие от жизни мастера из сплава, не содержавшего ни грана чистых благородных металлов, но пропитанного болезнями и нищетой. Рынду не интересовали рассказы Звона, а непонятные нотки, помимо воли появившиеся в ее звучании, раздражали. Звон это чувствовал. Перед наступлением часа склянок он сжимался в комочек и забивался в металлическую дужку на куполе рынды, где веревка крепления почти полностью заглушала его голос. И только когда птицы принесли на своих крыльях воздух родных берегов, Звон, зазвучав полным голосом, заглушил рынду и перелетел к колоколу в церкви маленькой прибрежной деревушки, где священник служил Рождественскую службу, исповедовал прихожан после долгого поста, отпускал им грехи, и те, едва выйдя из церкви, снова начинали грешить чревоугодием, пьянством и блудом, наполняя воздух острыми запахами жизни и благовеста, от которых Звон захмелел и ощутил Невыносимое Счастье от звуков знакомой речи.
Церковный колокол был рад неожиданному гостю, уговаривал остаться в нем подольше и, прежде чем вернуться к месту служения в свой Колокол, выяснить, остались ли на месте его Колокол и Женский монастырь. За долгие годы отсутствия Звона в этой части света произошли большие изменения: церкви и монастыри стали разрушать, древние книги и намоленные иконы, сотни лет хранившие в себе голоса радости и скорби верующих, предают огню; колокола, даже самые простые, отправляют на переплавку, а на благородные колокола, отлитые из самородной меди, олова и серебра, объявили охоту, и щедро платят за поругание, не думая о каре Господней и проклятии потомкам до седьмого колена.
Морозными ночами, когда небо опускалось почти до земли, Звон бродил между звезд, стараясь с высоты Космоса увидеть Женский монастырь и услышать голос своего Колокола в Хоре Голосов Утренней Тишины. Но голоса Хора не долетали до маленькой деревенской церкви, и тогда, рискуя исчезнуть навсегда, Звон, в Пасхальную неделю, когда земля наполняется скорбными и радостными звонами колоколов, отправился искать свой Колокол и Женский монастырь. Ориентируясь по звездам и запахам родных краев, принесенных попутными ветрами, он перелетал от колокольни к колокольне, которых осталось так мало, что приходилось набираться сил без разбора у всего, что хоть чуть-чуть звенело: в полевых колокольчиках; в звоне разбитой посуды; в бубенцах, пришитых к одеждам бродячих артистов; и в звоне назойливых комаров, пока однажды, на рассвете, он не услышал Звон Утренней Тишины, который помог ему добраться до своего Монастыря в тот момент, когда какие-то люди безуспешно пытались перерубить толстую цепь большого Колокола и сбросить его с колокольни на землю, где уже лежали расколотые ударами молота небольшие колокола, а по монастырскому подворью с мольбой и проклятиями бегали монашки, отбиваясь от пьяных насильников, среди которых были вчерашние законопослушные прихожане, молитвенно преклонявшие колени перед чудотворной мироточивой иконой Богоматери, которую теперь искали и не могли найти, чтоб сжечь ее в огне костра с другими иконами.
Звону показалось, что он опять попал во Временную Дыру, переполненную всем, что уже произошло, и должно случиться в будущем; попал в пространство без конца и начала, пронизанное лишенными смысла, но пугающе реальными недосмотренными снами бестелесных сущностей, из которых невозможно вырваться, убежать – ноги липнут к пустоте. Чтоб разрушить видение, Звон вобрал в себя все когда-либо услышанные звуки мира, ударил ими Колокол и вышел из него Звоном гораздо мощнее того Звона, с которым родился, но не улетел, как тогда, познавать мир за краем горизонта, а обрушился всей мощью своего голоса на головы насильников, и они упали на землю, чтобы уже никогда не подняться. В живых не осталась и Настоятельница. Пряча на груди чудотворную икону Божьей Матери, она, мокрая от мироточивых слез скорби, укрылась в келье, где и приняла смерть под рухнувшими от пожара стенами монастыря.
После пожара, разрушений, гибели монашек и звонаря, Колокол замолчал на долгие годы. Прихожане, напуганные новой властью, забыли дорогу к храму, и она скоро заросла лесом и быстрым плющом, скрывшим от жадных людских глаз колокольню и Колокол, отлитый из сплава первородной меди, олова, серебра и частички мощей Святого Великомученика.
Новое время принесло людям вместо веры в бессмертие души веру в пустые слова; звон колоколов заменили разрушающим ушные улитки звуками трубной меди и барабанным боем, под который легко было шагать строем в пустоту безверия, забыв о таинстве причастия и очищающей душу исповеди, которые остались в тревожных снах осколками забытой свободы. Лишенные жизни звуки нового времени, не долетев до колокольни, глохли в густой листве окружающего леса и осыпались бесплодной пылью на землю, привыкшую, как мать, принимать в себя все ею же рожденное, чтоб очистить и, в свой срок, заново зачав, выпустить в мир новую жизнь.
За долгие годы одиночества и молчания медное тело Колокола покрылось толстым слоем пыли и птичьего помета, в котором завелись миллионы разных насекомых, зацвели принесенные ветром семена одуванчиков, от нектара которых пьянели пчелы, нарушая тишину бессмысленным жужжанием.
Колокол и Звон научились различать звуки поселившихся на их теле насекомых и слышать шум соков, текущих в жилах трав. Мир насекомых был устроен так же, как мир людей за границей окружившего колокольню леса – борьба за жизнь, за территории, за власть, за право судить и миловать, за право продолжать свой род и за право не думать о чужих правах. В тишине этого мира Колокол и Звон мечтали, чтоб из далекого Тибета в их страну прилетели ласточки-строители, вырезали острыми крыльями из неба прозрачные блоки, уложили их в стены сгоревшего храма и соединили его с Космосом невидимой цепью, по которой придет Звонарь, погладит теплыми руками отлитую по фризу Колокола надпись: «Тебе, Господи, обращаем молитвы свои», раскачает тяжелый чугунный язык, выбьет Звон и отправит его нести в мир весть, что святая обитель жива, чудотворная мироточивая икона Божьей Матери ждет своего обретения, а Настоятельница, спасшая икону от поругания, лежит под рухнувшими стенами кельи, исполненная не землей, а слезами мироточения, и от того нетленная.
Долгими ночами, когда тишина Космоса соединялась с тишиной Земли, Колоколу казалось, что Звон внутри него умер и разлагается, как мертвый плод в чреве матери, разрушая его металлическое тело. В такие минуты страх наполнял Колокол. Он жалел, что не умер, как умерли колокола, сброшенные обезумевшими прихожанами с колокольни и отправленные на переплавку. Его мечтой стала реинкарнация – воплотиться во что-нибудь очень простое, например, в гвоздь, который забьют в конюшне под потолком, суетливые воробьи совьют вокруг гнездо, и все забудут о нем до конца времен. Но стоило случайной бабочке задеть крылом медное тело, Колокол чутким ухом улавливал в тихом голосе Звона его прошлый мощный звук, и мысли о смерти оставляли его. Снова хотелось жить и служить, слушать шепот тайных молитв и просьб, подхватывать их Звоном и нести Тому, кто слышит всех, и когда-нибудь услышит и его, Колокола, просьбу, и вернет монастырю его изначальную жизнь.
Отрезанные от внешнего мира густым лесом, Колокол и Звон долгое время не знали, что звуки мира изменились и стали похожими на звуки, долетавшие до монастыря в их прошлой жизни.
Первыми вестниками скорых перемен стали голуби, прилет которых стал причиной бури – Звон сразу признал в них прикормленных Юродивым голубей с соборной площади приморского городка. Сотни пар крыльев смешали застоявшийся под кирпичными сводами колокольни воздух, из которого сложился ураган, поваливший деревья и открывший дорогу к развалинам монастыря.
Порывы ветра раскачали Колокол, с тяжелым ударом «языка» выбили из Колокола громкий Звон и сорвали с него наросшую за долгие годы корку помета: семь дней и семь ночей, не смолкая ни на минуту, Звон летал над землями за пределами видимого с колокольни горизонта, оповещая всех, что Колокол жив, что Чудотворная икона Божьей матери не погибла в огне пожара, а спасена из-под развалин кельи и продолжает целебно мироточить.
Весть о новом обретении чудотворной иконы Божьей Матери и пропитанных миро нетленных мощах Настоятельницы дошла до людей, среди которых были внуки и правнуки разрушителей монашьей обители, и они, испытав чувство вины, не сговариваясь, с кирпичами в руках потянулись длинной вереницей к разрушенному храму, и стали укладывать их в обгоревшие стены; белить и ставить новый крест, который никак не могли поднять на купол, пока не появился никому не знакомый человек с поразившей всех Улыбкой. Он легко поднял крест на купол, вставил его в приготовленное гнездо, и в ту же секунду из Колокола вылетел мощный Звон. Он звучал бесконечно долго, заполнив пространство вокруг так, что невозможно было понять, откуда он доносится… Вибрирующими волнами эхо Звон уходил и возвращался вновь, вызывая, как когда-то в предках нынешних прихожан, восторг, слезы и чувство молитвенного откровения. Вибрирующие волны Звона вошли в их плоть, раздвинули межклеточные связи, и люди, ощутив бестелесность вечности, увидели внутри себя изначально чистую Душу и впустили в нее Непереносимое Счастье – вместе с Улыбкой человека, лица которого никто не запомнил.
С этого дня в обитель вернулась ее прежняя жизнь, а вместе с ней – и ее прежняя слава. Мироточивая икона Богоматери нашла свое прежнее место на случайно сохранившейся после пожара части стены. Нетленные мощи настоятельницы-великомученицы обрели чудотворную силу исцеления страждущих от болезней.
Звучный Звон Колокола, как в прежние времена, собирал прихожан на ежедневные и праздничные моления. Иногда, никем незамеченные, в толпе прихожан появлялись Бакалавр с улыбкой, похожей на улыбку Юродивого, Старик с посохом и Рыжая Собака. Глядя на них, Звон мечтал, чтоб реинкарнация никогда не случилась с его Колоколом, а сам он как можно дольше звучал людям в храме, а не в Хоре Утренней Тишины.
Прости, пожалуйста
Я умер. Произошло это не так давно. Только не спрашивайте, как. Как-то сразу и без предупреждения. Присел в тени платанов на парковую скамейку покормить голубей остатками семечек, и все… Миг легкого головокружения, и вот уже я Там. Даже не сразу понял. Словно на мгновение погрузился в сон… Весь окружающий мир остался на месте. Или почти на месте. А я уже Там. Оказавшиеся рядом случайные люди тоже не сразу поняли, что я уже Там. Кто-то сказал – пьяный. Кто-то сказал – спит, и слегка толкнул в плечо, видимо, желая разбудить. И тогда прижизненное равновесие мое нарушилось, и тело мягко повалилось на бок…
Ну, потом началась рутина, как это обычно бывает. Стали кричать, звать, звонить. Обшаривать карманы в поисках документов… Сколько раз близкие советовали держать при себе документы. Не слушался, не носил. А вот понадобились, и поди докажи, кто ты. Самое смешное, что жизнь моя к тому моменту сложилась таким образом, что ни через день, ни через месяц, ни даже через год никто не спросил бы, а куда, собственно, делся имярек. Так что шансы на опознание были практически нулевые. А сам себя назвать я, увы, уже не мог. Поначалу это обстоятельство меня огорчило. Даже ощутил какое-то подобие слез на глазах. Смешно, не правда ли, – плачущий покойник! Но это, видимо, оттого, что глаза еще не успели совсем остыть, или, как говорят в таких случаях, – остекленеть. В уголках глаз скопилась остаточная влага, которая и показалась мне слезами. Но через минуту я понял, что в моем положении есть изумительная тайна. Я отправляюсь в неведомое, далекое и, говорят, бесконечное путешествие – инкогнито. Без проводов. Без суеты. Без фальшивых печалей и огорчительной необходимости неблизких мне людей вести себя элементарно по-человечески: проводить покойника в последний путь, бросить горсть земли на крышку гроба, торопливо пробормотать – мир праху, и потом долго вспоминать и думать о себе, как хорошо, по-доброму, по-христиански они поступили со мной, никому не нужным и одиноким, помянув вслед глотком вина.
В морг я пошел из чистого любопытства. Мог бы и не идти. Вспомнил сверкающие нержавейкой, чистотой и холодом стеллажи с покойниками из зарубежных фильмов и подумал: вдруг и меня, то есть, то, что от меня осталась, тоже уложили в сверкающий белизной пенал холодильника. Размечтался! В нашей части света ровно ничего не изменилось. Пьяный санитар, пьяный дежурный прозектор, грязь, холод… В общем, какие претензии? То, что туда привезли, было не больше я, чем пустая коробка из-под сигарет. Меня успели раздеть и повесить на ногу бирку, где вместо фамилии было написано: «неизвестный».
Прозектор помял мой бывший живот, оттянув пальцами веки, заглянул в глаза, в рот, прощупал железы подмышками и в паху, внимательно осмотрел мой член.
– Господи, какой стыд, – подумал я, и сразу рассмеялся. Какой может быть стыд у пустой коробки из-под сигарет.
– Хороший экземпляр. Теплый еще, – одобрительно похлопав меня по щекам, сказал прозектор.
– Крепкий пацан, – согласился санитар. – И не старый. Потрошить будем?
– Резать! – сказал прозектор.
– Не надоело? Полосни ножом по брюху, зашью по-быстрому, и домой.
– Аккуратно, очень аккуратно будем резать, – пьяно улыбнулся мне прозектор, – и не здесь.
Тело перенесли в соседнюю комнату, похожую на операционную. Положили на стол, покрытый пленкой поверх белой простыни, зажгли яркий хирургический свет. Прозектор надел перчатки, сделал длинный вертикальный разрез от солнечного сплетения до лобка, и через весь живот – поперечный. Господи, как красиво устроен человек внутри! Каждый орган в своем пространстве, как отдельное существо, со своей жизнью, радостями и болезнями… Никогда их не чувствовал. Еще совсем недавно они работали на меня, давали жизнь, не беспокоили и ничего не требовали взамен. Ну, разве что желудок, да и тот не только для себя, а для всех. В раскрытом животе органы выглядели совсем живыми, и мне их стало бесконечно жалко. Как им теперь без меня? Руки прозектора вошли в полость, осторожно ощупали печень, почки, прошлись пальцами по желудку и кишечнику. Потом секатор вскрыл грудную клетку, и прозектор взял в руки мое сердце… Странная штука – время. Утром пьешь кофе, смотришь телевизор и не представляешь, что всего через несколько часов увидишь собственное сердце в руках пьяного прозектора. Я с любопытством разглядывал его, пытаясь понять, как этот красно-коричневый мускул умудряется вмещать столько человеческих чувств! Одна любовь чего стоит! А ненависть?! Нежность, тоска, ночные страхи, предчувствия неизвестно чего… А еще надо шестьдесят раз в минуту сократиться, разгоняя кровь по жилам. Понятно, почему иногда сердце разрывается, не выдержав наших безумств. Но мое-то сердце не разорвалось. За всю жизнь оно ни разу даже не кольнуло меня, хотя причин для этого было предостаточно.
– Все органы, как новенькие, – похвалил меня прозектор. – Интересно, от чего ты умер?
Мне тоже интересно, от чего я умер, если то, что со мной случилось, называется – смерть. Никогда ничем не болел, и вдруг… А если это что-то другое, и я вовсе не умер? Может, это летаргический сон? Эй, коновал, может, попробуешь оживить меня или разбудить? Сам говорил, все органы, как новенькие!
Рука с острым скальпелем задержалась над раскрытой полостью, как бы выбирая, с чего начать. Губы прозектора сложились гримасой секундного сожаления, а в мозгу, совершенно неожиданно для людей его профессии, мелькнула мысль, за которую я ему очень благодарен: – Прости, парень. Тебе сильно не повезло…
Надо же, извинился перед покойником! При жизни я редко слышал извинения, разве что по пустякам. Хотя сам по любому поводу только и делал, что извинялся, – «простите, пожалуйста». В одной глупой конторе, где довелось служить, мне даже кличку приклеили – «прости, пожалуйста».
Я их простил. И всех других простил, кто считал меня человеком «не от мира сего» и неудачником. Да, везение и удача во всех делах обходили меня стороной. Может, оттого, что слишком часто извинялся? Определенно, тут есть какая-то связь… Скажите, вам часто встречались успешные люди – не хамы? Мне – нет. Стоит человеку подняться на полступеньки выше по службе или почувствовать вашу зависимость даже в самом простом деле, – справку, к примеру, получить, – как самое последнее ничтожество тут же начинает самоутверждаться хамством. Так что если вы еще живы, не лежите на столе в прозектуре и у вас есть амбиции, – хамите, и успех в делах будет обеспечен… Только никогда не произносите – «прости, пожалуйста»!
Санитар подавал инструменты, прозектор торопил его, говоря, что надо спешить, времени мало. Интересно, о каком «времени» говорит прозектор? Лично мое «время» уже кончилось. Теперь оно называется «вечность», а «вечности» не может быть «много» или «мало». И вдруг я понял! Говоря «время», он имел в виду совсем не меня, а время биологической жизни моих органов! Они еще живы! Если все делать быстро, они могут пригодиться, могут кого-то спасти, продлить жизнь. Я ДОНОР! Я донор. Донор…
Но простите, пожалуйста, если вы такие здоровые, мои дорогие органы, если вы можете спасти чью-то жизнь, почему вы все вместе не спасли меня, мою жизнь?! Может, моя жизнь вам показалась не такой важной, не такой ценной, как жизнь тех, в кого вас пересадят? Может, я вас чем-нибудь обидел? Если – да, почему молчали? Ни боли, ни жалоб, ни даже малейшего укола. Дежавю… Такое со мной уже было. Тихо, без жалоб, слез и скандалов ушла из моей жизни жена. Оказывается, ее раздражало, что я дважды в день, утром и вечером, моюсь в душе. А иногда и ночью, если она допускала меня к себе. Ночное мытье ее особенно раздражало: – Ты так спешишь смыть с себя мой запах…
На самом деле все было еще проще. Она меня стеснялась. Стеснялась моей неприспособленности к жизни, неумения делать «настоящую карьеру», неумения много пить и быть «душой компании». При этом она меня очень любила! Да, так бывает. Женщины устроены парадоксальней нас, мужчин. Она любила меня ревнивой эгоистичной жалостью, как часто матери любят больных детей. Но постепенно стеснение вытеснило любовь, и она ушла, не думая, что будет со мной.
Сейчас, глядя, как еще живые органы постепенно уходят из моего тела, я понял причину своей смерти. Они, как и жена, стали стесняться меня. Сильные и здоровые, они хотели жить совсем другой жизнью. Сердцу не хватало адреналина и радостного возбуждения. Легкие мечтали наполняться звенящим от мороза воздухом альпийских шале. Печень готова была в хмельном застолье перерабатывать литры водки, а либидо требовало женщин больше, чем я предлагал…
Утром, на парковой скамейке, совершенно здоровые органы взбунтовались и отключили меня от себя. Наверно они, как и жена, знали, что не пропадут без меня. Что в специализированных клиниках по всему миру за каждым из них стоит огромная очередь, и они смогут выбрать новых хозяев по своему вкусу и генетической совместимости. Ну и ладно. Простите, пожалуйста.
… Через час все, что когда-то было частью меня, аккуратно запакованное в стерильные полиэтиленовые пакеты, лежало в корыте со льдом. Сердце, легкие, печень, почки, два моих глаза и даже семенники. Каким-то особым, похожим на шприц инструментом из меня выкачали костный мозг. Слава Богу, подумал я, головной мозг еще не научились имплантировать. Не то чтобы стыдно, если кто-то чужой узнает про меня больше, чем мне бы хотелось. Просто мои мысли – это моя тайна. Пусть хоть они останутся со мной.
За всей процедурой изъятия органов я наблюдал совершенно спокойно, но когда прозектор начал срезать со спины, груди и бедер тонкие полоски кожи, мне стало больно… Тонкая кожа рвалась в его руках. С кожей и у меня часто бывали проблемы. Чуть заденешь, сразу царапина, синяк. Ерунда, скажете вы, покойник не может чувствовать боль, и будете правы. Но душа-то не умирает вместе с нами. Она бессмертна. Следовательно, и боль ее, в каком бы мире душа не находилась, – бессмертна. Я бы даже сказал, что именно боль делает наши души бессмертными. И если чья-то душа не чувствует боли, то она вовсе и не душа, а просто часть тела, такая же бренная, как и все остальные.
Когда во мне не осталось ни одного живого, годного в дело органа, санитар с прозектором переложили все, что осталось от моего тела, в пластиковый мешок.
– Спасибо тебе, «неизвестный», что отдал страждущим свои здоровые органы, – пошутил санитар, задергивая змейку мешка.
Мне понравилась интонация, с которой он это сказал, – без злобы, без раздражения, как шекспировский могильщик – «Бедный Йорик»!
Вскоре появились и покупатели. Внимательно осмотрев каждый орган, они заглянули в мешок, удостоверились, что органы извлечены из этого достаточно молодого тела, и начался торг.
Если не знать, что речь шла о частях моего тела, можно было подумать, что торг происходит у лотка субпродуктов в мясных рядах на рынке. Обе стороны знали, что «товар» скоропортящийся, быстро теряющий цену, а потому торговались быстро и уступчиво. В прессе мне приходилось читать, что трансплантаты стоят больших денег, но здесь, в морге, работало правило «первой руки», и их сторговали по обидно низкой цене. Впрочем, прошло совсем немного времени, и части некогда моего тела «ушли с молотка» за совершенно безумные деньги. Я даже испытал некоторое чувство гордости: не зря прожита жизнь! Жаль, жена этого не узнает. Она часто кричала: «Чего стоят твои мозги, если они не способны заработать приличные деньги!». Да, за мозги мне платили совсем немного. Меньше, чем за бицепсы охранников, вообще лишенные извилин. Да что – я, в историю загляните. Мозги во все времена ценились не очень. Великий мозг почти всегда приносил великое страдание. От него не то что знатное, даже Божественное происхождение не уберегло…
В лаборатории, где сделали множество анализов, мои органы вызвали настоящий переполох. По мере появления результатов различных тестов выяснилось, что они обладают почти абсолютной совместимостью. Это было настолько невероятно, что, несмотря на неизбежную потерю драгоценного времени, все анализы перепроверили, и только после этого внесли во всемирную компьютерную базу данных реципиентов.
В считанные минуты предложения на приобретение трансплантатов по любой цене стали поступать из разных стран и даже с других континентов.
Парадокс! Молодой, образованный, абсолютно здоровый мужчина, с интеллектом выше среднего, без вредных привычек, почти никому не нужный при жизни, сейчас, разобранный на части, стал нужен тысячам мужчин и женщин по всему миру! Простите, пожалуйста, но, при всем желании меня не хватит на всех.
Знаменитая немецкая клиника, не ожидая согласия, сразу послала за моими семенниками специально оборудованный самолет. Оказалось, что они абсолютно совместимы с организмом вождя африканского племени Лемба, который лежит в их клинике. Вождь того самого племени, гены которого, по утверждению ученых, напрямую связаны с генами Евы, Праматери всего человечества! Но самое фантастическое – во всемирной базе данных тысяч больных, ожидающих трансплантации, не нашлось ни одного случая несовместимости с моими органами!
Впрочем, вру. Один случай все же был. Несовместимым с моими органами оказался я сам. К счастью, отторжение внутри меня происходило постепенно, и я успел пожить. Генетика тут ни при чем. Сам во всем виноват. Жил фантазиями, а надо было, хоть иногда, жить простыми человеческими страстями и уступать плоти. Я же чувствовал, слышал ее просьбы, а иногда и бунт, особенно в предутренние часы, когда идиотские принципы терзали каждую клетку моих страждущих органов. Лицемер! Я отказывал им в праве на свои радости: на блуд, чревоугодие, пьянство, на сауны, на звенящий от мороза воздух зимних Альп и аромат мангровых зарослей. Я не понимал, что жизнь плоти короткая, а у плотских удовольствий – еще короче. Так в чем их вина? Праматерь, и та искусилась!
Простите, пожалуйста, дорогие мои органы, я не держу на вас зла. Вы поступили верно, что кинули меня на парковой скамейке в тени платанов. Я не умел вами пользоваться. Не замечал, не ценил вас. Лишь приблизительно знал, где вы находитесь. Но сейчас я за вас спокоен. На вас такой спрос. Вам подберут тела, совместимые не только с генами, но и со страстями. Вы проживете с новыми хозяевами долгую и счастливую жизнь. Только не думайте, что я навсегда уйду из вас. Нет, я останусь, и буду жить в вас так, как этого будет желать плоть ваших новых хозяев. Я уже знаком с ними, и они мне понравились.
МОЕ СЕРДЦЕ будет биться в груди молодой женщины, и я впущу в него столько любви, сколько ей будет нужно для счастья.
МОИ ЛЕГКИЕ будут дышать чистым воздухом гор в груди излечившегося туберкулезника.
МОЯ ПЕЧЕНЬ позволит новому хозяину пить много вина и есть в свое удовольствие жирное мясо.
МОЯ КОЖА вернет красоту девушки, лицо которой изуродовали кислотой зависти.
МОИ СЕМЕННИКИ будут без устали наполнять наслаждением тело вождя африканского племени Лемба.
МОИ ГЛАЗА дадут свет глазам слепого, и через них я увижу мир таким, каким не видел его никогда раньше.
Все не так уж и плохо.
А если что не так – ПРОСТИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Потерянный Год
Всеми забытый Год лежал в жухлой придорожной траве. Когда-то, на бесконечном пути из Прошлого в Будущее, Время обронило его и, не заметив пропажи, пошло дальше.
Ничего удивительного, таких Годов у Времени было бесконечное множество. Было время, когда Время вообще не измеряло себя годами, и было право – глупо подсчитывать Бесконечность, это вам любой математик скажет. И если потом Время стало дробить себя на Годы и присваивать каждому Году Номер-Имя, то сделало это исключительно ради людей, чтоб внести в их бессмысленную, с точки зрения Бесконечного Времени, жизнь, хоть какой-нибудь порядок.
Потерянный Год, получивший при рождении Имя-Номер, честно и до последней секунды прожил весь отпущенный ему срок, сделав триста шестьдесят пять плюс один лишний оборот вокруг Солнца. Да, ему повезло родиться Високосным, но теперь, лежа в придорожной пыли, он с грустью думал, что эта «исключительность» не помогла ему оставить интересный людям след в истории. В их представлении он был скучным Годом.
За все триста шестьдесят пять плюс один отпущенный ему день не случилось ни одной войны; не было наводнений и землетрясений; пандемия инфлюэнции не унесла ни одной человеческой жизни; в пустыне Сахара выпал дождь, и она покрылась зеленым ковром трав, что случается не каждое столетие; обильный урожай вселил надежду на лучшее будущее людям, и даже самые ненасытные звери насытились.
Но особенно Потерянный Год гордился тем, что люди, прожившие его, чаще радовались рождению детей, чем оплакивали потерю близких. – Одного этого вполне достаточно, – печально думал он, лежа в траве, – чтоб его часто вспоминали и приводили в пример другим, менее заслуживающим внимания Годам.
Он никак не мог понять, почему люди, поколение за поколением, с мазохистским упорством ковыряются в событиях самых страшных лет своей истории и называют их «героическими» единственно с целью доказать, что бессмысленно растраченные миллионы жизней на самом деле способствовали прогрессу.
Целые армии летописцев, историков, археологов и архивистов изучают годы безумств. Разбирают дни на часы, часы раскладывают на минуты и секунды, чтоб случайно не упустить мельчайших подробностей несчастий, которые сами же и обрушили на себя.
Откройте любой учебник истории, там таких «героических» лет предостаточно. Их помнят. Ими гордятся, ставят памятники! И не дай Бог, какой-нибудь нерадивый школяр забудет, сколько тысяч несчастных погибли при Фермопилах или Ватерлоо – сразу получит линейкой по пальцам.
А Год, подаривший людям триста шестьдесят пять (плюс один) счастливый день, Время, спеша в Будущее, потеряло по дороге. И люди забыли его.
Лежа в придорожной пыли и видя, как мимо проносятся его более удачливые собратья, Потерянный Год не очень завидовал им: «Зато в мое Время не случилось подлости…», – утешал себя он. Единственное, что его беспокоило, это нечестные историки. По неграмотности или, того хуже, из корысти они частенько смещают и сталкивают лбами события разных лет.
И уж совсем Потерянный год огорчился, когда какой-то нечистый пером писака возвел напраслину, приписав ему войну, случившуюся совсем в другой год.
Поначалу, оказавшись в центре очень громкой дискуссии, он испытал некое чувство тщеславия – наконец о нем хоть как-то вспомнили! Но когда оппонент назвал причиной начала военных действий его високосное происхождению и случившееся при нем полное солнечное затмение, Потерянный Год испытал ужас.
Возникла путаница, в результате чего историки двух соседних стран прямо на кафедре стали доказывать истину кулачными аргументами… Могли и пушки заговорить, не найдись вовремя пожелтевший пергамент, на котором добросовестный монах описал события с такой точностью, что все обвинения с Потерянного Года были сняты.
Полное затмение действительно случилось на двести двадцать третьем дне полета Потерянного Года вокруг солнца, и стало для него полной неожиданностью. Первыми затмение почувствовали и забеспокоились птицы, обитавшие в кустах вдоль дороги. С тревожными криками они сначала взлетели тесной стайкой в небо и неожиданно исчезли. Где-то, совсем не ко времени, коротко взвыл и замолк одинокий волк. Мелкие зверушки, суетливо прошуршав по траве, спрятались в норах. А трудяги-муравьи, побросав ношу, поспешили в середине дня к муравейнику. Потерянный Год с изумлением наблюдал, как его друг, Главный Привратник Муравейника, наглухо запечатал свежим комком навоза вход в муравейник. Небо посерело. Все звуки исчезли. Даже тончайший звон, без которого не бывает тишины, пропал куда-то.
– Неужели, – подумал Год, – зверье напугала тень легкого облачка, набежавшая на полуденное солнце?
Но когда тень сгустилась, а чистый диск солнца стал обретать форму полумесяца, в генетической памяти Потерянного Года всплыли затмения и связанные с ними события, случившиеся во времена его предков. Он с любопытством наблюдал, как Луна медленно «съедает» Солнце, и когда Земля погрузилась в тишину полного затмения, из которой исчез даже тонкий звон, без которого не бывает тишины, Потерянный Год услышал два слова…
В одно мгновенье они заполнили все пространство земной атмосферы. Вошли по бесчисленным звериным норам, муравьиным ходам и трещинам, промытым водами, в тело земли. Достигли раскаленного железного ядра, самого его центра, и вернулись назад угасающим эхом в полуденный мрак затмения.
Когда стих последний звук произнесенных слов, черный диск Луны соскользнул с пылающего Солнца. В тишину уходящего затмения вернулся тонкий звон, свет, а с ним и все звуки летнего дня. Небо снова наполнилось шелестом крыльев птиц и насекомых, на землю вернулось всякое зверье, муравьи нашли брошенные ноши и потащили их в норы, а люди, не расслышав пришедшие из космоса слова, побросали закопченные стеклышки, через которые наблюдали редкое зрелище, и вернулись, как ни в чем не бывало, к каждодневным заботам.
Люди не поняли или не захотели понять, что Провидение специально поместило Луну между Землей и Солнцем, чтоб они, в абсолютной тишине затмения, могли хорошо услышать обращенные к ним слова. Но тогда люди не услышали их, или услышали и не обратили на них внимания. За короткую жизнь через их уши проходят миллионы пустых слов. Впустил-выпустил, впустил-выпустил… Но те два слова не были пустыми. Они не могли бесследно проскочить через их дырявые уши.
А может, ничего этого не было? Может, голос ему только послышался? В тишине такое случается. Ведь на самом деле тишина – вовсе не тишина. Если мы чего-то не слышим, это не значит, что ничего нет. Настоящая тишина просто набита звуками. И самые важные звуки приходят именно из тишины. Особенно если это абсолютная тишина полного солнечного затмения. Думаете, Моцарт сам придумывал музыку? Ерунда! Он просто умел выслушать из тишины звуки своих симфоний. Будь это не так, он бы назвал «Волшебную флейту» не «волшебной», а «Моя флейта»! И «Божественная комедия» Данте – вовсе не его. Он это хорошо знал, и как порядочный человек назвал имя истинного автора – «Божественная».
Нет, два слова были. И слышал их не только он, Потерянный Год. Их слышала и Муравьиная Матка. В пик солнечного затмения, не приостановив ни на секунду бесконечный процесс откладывания муравьиных яиц, она не только все прекрасно расслышала и поняла, но и стала вшептывать эти два слова каждому из миллиона будущих муравьев, исходивших ежесекундно из ее тела. А раз так, то слова эти вовсе не потеряны. Трудяги-муравьи разнесут их по всему свету, передадут из уст в уста всем зверям и птицам. Даже самое ничтожное насекомое услышит их.
– И когда это случится, – утешала Муравьиная Матка Потерянный Год, – люди вспомнят час, вспомнят день и год. Вспомнят полное солнечное затмение, абсолютную тишину и два прозвучавших в ней слова.
А пока этого не случилось, Имя-Номер Потерянного Года иногда вспоминали астрономы.
Изучив и зафиксировав все фазы полного солнечного затмения Потерянного Года, они обнаружили удивительную особенность: со времен древнего Египта все известные людям полные солнечные затмения, особенно совпавшие с Високосным годом, связаны с аномальными, а порой и катастрофическими природными и историческими событиями. Голодомор, нашествие саранчи, средневековая чума, выкосившая пол-Европы, и все девять казней Господних связаны с сошествием на землю тьмы затмений. Во всей их печальной истории только затмение Потерянного Года не принесло на землю несчастий.
Это было настолько удивительно, что какой-то астроном, сошедший с ума от еженощного созерцания бесконечных глубин космоса, выступил в прессе с предложением назвать этот год «Годом Полного Благоденствия». Общественность предложение не поддержала, но астрономы, съехавшиеся со всех концов мира, посвятили этому феномену специальную научную дискуссию. Наиболее дотошные звездочеты пытались найти ответ в особом расположении зодиакальных знаков. Кто-то предположил, что наша Галактика вошла в особую космическую зону, в которой все известные закономерности меняют свой знак на обратный, как это время от времени случается с полюсами Земли.
А один весьма известный ученый пытался доказать, что аномальное затишье природы связано с успехами некой высшей масонской ложи, сумевшей расшифровать тайные знаки Каббалы, и тем самым повлиять на земные процессы.
По его утверждению, необдуманное вмешательство масонов в ближайшее время обернется страшными катаклизмами, так как Природа, по их милости, в одночасье израсходовала весь запас благоденствия на многие годы вперед!
Узнав о дискуссии астрономов, Потерянный Год только улыбнулся их наивности. Откуда им было знать, что благоденствие его года было связано с Событием, которое не могло произойти в грохоте войн, землетрясений и извержений вулканов.
Смысл События заключался всего в двух словах, пришедших из таких глубин мироздания, о существовании которых астрономы даже не предполагали. Они пришли из Абсолютной Пустоты… Там от начала времен не было ничего. Даже частичек космической пыли, из которых впоследствии сложились целые миры. Абсолютная пустота устроена таким образом, что туда, что ни попади, попросту исчезает.
Даже Время и Пространство теряют в Пустоте всякий смысл – по той простой причине, что там нечего измерять. Впрочем, никто никогда не слышал, что Время может куда-нибудь исчезнуть. Исчезнуть может только то, что имеет начало, а у Времени, как известно, его нет. Значит, и конца быть не может. И Пустота – не совсем пустота, если оттуда пришли два слова…
Услышав их, Потерянный Год сразу понял, что люди потеряли его не навсегда. Они могут долго не вспоминать его Номер-Имя, но потерять или вовсе вычеркнуть его из истории – невозможно! Свое время люди могут терять сколько угодно, если им так нравится, но правда заключается в том, что не люди теряют время, а время теряет людей. Только единицам удается избежать этой печальной участи. Да и то – на время… Время слишком огромно, чтобы в нем могло хоть что-нибудь быть «всегда». Кроме, конечно, самого Времени. В этом смысле Время похоже на Пустоту. Может, поэтому они и существуют раздельно. У Пустоты нет необходимости измерять себя Временем, а Время, чтоб не потерять себя в Пустоте, не нарушает ее границ.
– Главное, – думал Год, – что должно было случиться, случилось в его время! Теперь нужно набраться терпения и ждать, пока люди узнают то, что знает он.
И тогда… Тщеславные мысли начинали роиться в нем, теснили одна другую. Он додумался даже до того, что его станут называть Главным Годом Новой Человеческой Истории. Почему нет?! Если то, что он услышал из Пустоты, уже случилось, люди, узнав об этом, должны будут провести через него новую границу своей истории. Это изменит всю принятую временную нумерологию…!
Ну и что?! В мире существует несколько календарей, привязанных к разным временным границам. Номер-Имя одного и того же Времени в разных календарях отличаются друг от друга лишь по той причине, что привязаны они к разным событиям. От этого в умах возникает путаница. Люди одного поколения, оторванные друг от друга разницей «календарного времени» на сотни и тысячи лет, обречены плохо понимать друг друга. Те, у кого на календаре Номер-Имя года на тысячи лет больше, считают себя умнее и мудрее на том основании, что они старше. Другие, у кого Номер-Имя помоложе, считают своих оппонентов старыми маразматиками. А сколько из-за этого случилось войн?
– Новая граница времени, привязанная к общему для всех людей событию, – мечтал Потерянный Год, – пройдет через меня и все расставит на свои места – так, как это уже случилось с муравьями, птицами и прочим зверьем, обитавшим в этих краях. До его появления здесь они понятия не имели о «времени». Жили, как придется, – от восхода до заката.
Завершив положенные ему по календарю триста шестьдесят пять (плюс один) лишний день, Год не ушел в заслуженное Прошлое. Раздробив свое время на части, он поселил его в животных и растениях, в земле и воде. Поселил в ветрах и стал следить, чтоб они точно в срок доставляли полные дождевой влаги тучи к иссохшим землям. Поселил частички времени в сцепленные зубьями колесиках, заставил их крутиться и отмечать себя стрелками.
А когда Потерянный Год попал на уходящий за горизонт океанский пляж, усыпанный чистейшим белым песком, он оживил миллиарды мертвых песчинок кусочками времени, надоумил людей наполнить ими стеклянные колбы, и оживший песок свободно потек через тонкое отверстие, отмеряя его, времени, бесконечность.
Год так увлекся этой работой, что перестал обижаться на людей, забывших его. – Люди, всего лишь люди, – грустно вздыхал он. – Не ведают, что творят. Не знают, куда идут. Из всей бесконечности времени они выбрали один миг, назвали его – День, и живут им. Радуются только своим радостям, и голосов ничьих не слышат, кроме собственного. Даже в Храм не с покаянной молитвой приходят, не со словом «Прости», а со словом «Дай! Мне Дай! Сейчас, сразу и много! А зачем много, если сами же превращают долгую жизнь души в миг плоти! В песчинку в стеклянной колбе Вселенских часов, не знающих ни много, ни мало…А может, это страх перед Пустотой, боязнь пропасть в ней навсегда? Вот и спешат все успеть в один день…
С того дня, как на бесконечном пути из Прошлого в Будущее Время обронило Потерянный Год, прошло много лет. Сколько еще пройдет лет, прежде чем люди о нем вспомнят, Год не знал, но в предрассветные минуты каждого нового дня он произносил два слова, услышанных им в абсолютной тишине солнечного затмения.
Он верил, что настанет день, когда люди услышат слова, которые уже знают все населяющие землю звери и птицы, все насекомые и все растения.
Услышат, и поймут их смысл.
ОН ВЕРНУЛСЯ…
Мечты в чердачной пыли
Старая, давно забытая людьми Виолончель тихо доживала свои дни в чердачной пыли. Зимой она сырела и мерзла от холода. Летом ее корежила душная жара, исходившая от жестяной крыши. Две свитые из жил струны не выдержали и лопнули. Оставшиеся две, накрученные тонкими серебряными нитями, из последних сил держались на перекошенной деке. Иногда, натянутые холодом или расслабленные теплом, серебряные струны тихо и жалостливо звенели. И тогда кусочки звуков проваливались в запятые прорезей и тонули в тонкой пыли, скопившейся в утробе Виолончели. Строго говоря, она была еще жива. Попади инструмент в руки хорошему мастеру, клей свел бы края трещин, лак вернул бы лоск, наканифоленные колки натянули бы новые струны, и старая Виолончель еще могла бы выйти на сцену и найти свое место в большом оркестре. Но мастер приходил к инструменту только в тревожных рассветных снах, а новая, незнакомая музыка, в которой почему-то не было звуков виолончели, иногда слышалась снизу, сквозь потолок. «Время виолончелей прошло, – печально думал старый инструмент. – Конечно, мы слишком громоздкие и тяжелые. Для нас надо писать специальную музыку, вернее, не писать, а уметь слышать и записывать звуки, которые для виолончелей посылает НЕБО». Похоже, эти звуки вышли из моды, но старый инструмент продолжал тихими ночами вслушиваться в голоса сверху и на всякий случай запоминал их. Память, несмотря на болезни и почтенный возраст, у Виолончели была отменная. Она до сих пор помнила все сыгранные на ней концерты, сонаты, пьесы. Все гаммы и звуки настройки, без которых она почему-то особенно скучала. И даже случайную фальшь, от которой так дрожали струны и все ее тело, тоже помнила. Мысленно Виолончель часто повторяла всю скопившуюся в ней музыку, но звучать без двух струн, с нутром, набитым чердачной пылью, она не могла.
Старая Виолончель помнила и всех своих музыкантов. Помнила, как звучат их пальцы. Может, не все это знают, но если в пальцах музыканта нет музыки, то и инструмент, даже самый хороший, звучит не сложней барабана.
У хороших инструментов жизнь долгая, гораздо дольше жизни даже самого гениального музыканта. В этом смысле старой Виолончели повезло. За свою долгую жизнь она поменяла много хороших музыкантов. Она с радостью ловила звук, исходивший из их пальцев, и начинала звучать даже раньше, чем струны прижимались к грифу…
Но однажды случилась беда. Не с инструментом – с миром. Сначала люди перестали слышать и понимать друг друга. Потом, перестали слушать и слышать музыку неба, потому что ее забили громкие звуки барабанов…
Однажды вечером молодой Музыкант, которого многие называли гениальным, и с которым Виолончель часто солировала на больших сценах, прижался мокрой щекой к грифу и прошептал: «Прости, я должен оставить тебя. Меня позвали в оркестр, где виолончели никому не нужны, там играют на других инструментах… Меня научат играть на инструменте, который называется винтовка. Скучный инструмент. На нем играют всего одним пальцем, и звучит он всегда на одной ноте…».
Ночь напролет Музыкант и Виолончель, вслушиваясь в небо, играли музыку, которая в ту ночь была особенно прекрасной… Утром Музыкант уложил инструмент в футляр и прошептал: «Может быть, я вернусь. Береги себя, Виолончель. – Беречь себя? Как? Я всего лишь инструмент, – чувствуя недоброе, задрожала она струнами. – Я не могу беречь саму себя. Инструмент должен беречь Музыкант. Это его дело! И чем лучше инструмент, тем больше заботы он требует, чтобы не потерять голос. Мы, инструменты, звучим не для себя. Вместе с музыкантами мы превращаем «Голоса сверху» в Музыку, волнуем человеческие чувства, без которых жизнь невозможна…».
Молодой Музыкант, которого называли гением, с войны не вернулся. В голодные годы забытую всеми Виолончель случайные люди отнесли на барахолку и за копейки продали человеку, у которого в пальцах не было никакой музыки. Новый хозяин занимался наукой, а вечерами любил музицировать и печалиться об упущенной, как ему казалось, карьере музыканта. Его жена ненавидела Виолончель. А когда в дом приходили гости, она старалась завести патефон раньше, чем муж начинал играть на виолончели «Элегию» Маснэ. Это было тяжелое для инструмента время. Но сейчас, умирающей в чердачной пыли Виолончели, те дни казались не такими уж плохими.
Для инструмента все кончилось страшно и неожиданно праздничным весенним днем. Подвыпивший с гостями хозяин достал Виолончель из футляра, обнял ее ногами и начал играть «Элегию». Развеселившаяся после выпитого вина жена завела патефон и пустилась с кем-то из гостей в пляс. Обиженный муж назвал ее дурой и сломал пластинку. Жена в ответ пнула ногой Виолончель так, что в теле несчастного инструмента образовалось множество трещин… Этого удара больное сердце меломана не выдержало. Через несколько дней его похоронили, а покалеченный инструмент забросили на чердак и забыли на долгие годы.
Я был совсем мальчиком, когда первый раз увидел на чердаке израненную Виолончель. Тогда она не привлекла моего внимания. Среди выброшенного барахла я находил куда более интересные мальчишескому воображению вещи. Долгие годы потом, добавляя на чердак очередную порцию рухляди, я иногда подходил к инструменту, дергал пальцами оставшиеся в живых две виолончельные струны. Удивительно, но изуродованный трещинами инструмент наполнял пространство чердака тонким, долго не затихающим звуком.
Раз за разом я дергал струны больного инструмента, и мне начинало казаться, что Виолончель жалуется на что-то, пытается объяснить, что не виновата в том давнем семейном скандале…
Я ей верил и пытался успокоить обещаниями отнести ее к мастеру. Но чуткий слух Виолончели улавливал фальшь в моем голосе, и ее покореженное тело печально дрожало под моими пальцами, которые родились совсем без музыки.
… Виолончель до сих пор лежит в чердачной пыли рядом с колченогим стулом. Но надежды она не теряет. Долгими ночами, вслушиваясь и запоминая музыку Неба, она тихо шепчет: «Такой инструмент, как я, не может пропасть. Это слишком несправедливо. Когда-нибудь сюда придет Музыкант. Он тронет струны чуткими, полными музыки пальцами, и услышит всю скопившуюся во мне музыку. Тогда он заглянет внутрь и разглядит запрятанную глубоко во мне маленькую серебряную табличку, на которой написано спасительное имя мастера, давшего мне жизнь, – ГВАРНЕРИ».




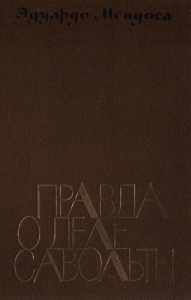
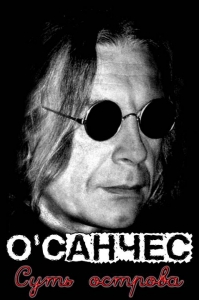




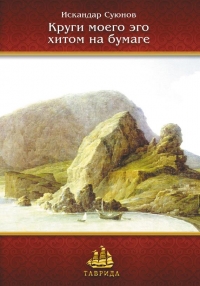

Комментарии к книге «Грязная Сучка», Петр Хотяновский
Всего 0 комментариев